Текст печатается по изданию:
Терпигорев С. Н. (С. Атава). Потревоженные тени. — М.; Л.; Гослитиздат, 1959.
Вступительная статья и примечания Ю. Л. БОЛДЫРЕВА
Художник М. К. ШЕВЦОВ
ВОСТРЕБОВАННОЕ ПРОШЛОЕ
1
Есть одна историческая загадка. Заключается она вот в чем.
После разгрома декабристов и проведенного по их делу следствия в 1826 году был опубликован высочайший приговор. В этой первой официальной исторической версии того, что произошло (за полгода перед тем был выпущен манифест по поводу событий на Сенатской площади, но он составлялся наспех, власти сами еще плохо представляли себе, с чем и с кем они имели дело, и в этом манифесте отображена скорее физиологически бессознательная реакция, а не какое-либо осмысленное отношение), было много лжи и полуправды, опровержением которых занялись декабристы, а впоследствии А. И. Герцен. Но были в той версии — не могли не быть — и сведения достоверные, конечно, соответственно истолкованные.
Одно из этих достоверных сведений такое: участники декабристских организаций стремились к уничтожению крепостного права. Николай I и его окружение бестрепетно опубликовали это, будучи твердо уверены, что подобное стремление декабристов вызовет возмущение общественного мнения тогдашней России против заговорщиков, что в свою очередь придаст обоснование жесткому приговору. В общем, так оно и произошло. Личное сочувствие осужденным никоим образом не поколебало господствующей убежденности в том, что существующий строй жизни, основанный на владении людей людьми, крепостными душами, справедлив и не должен быть нарушен в этой своей основе.
Прошло около тридцати лет. Вопрос о крепостном нраве в эти годы ставился и рассматривался только в секретных правительственных комитетах и комиссиях, редко собиравшихся, а потом и вовсе сходивших на нет. В подцензурной печати (а иной в николаевской России просто-напросто не было) хоть каким-нибудь боком или ребром поднимать этот вопрос было запрещено — и указание это соблюдалось беспрекословно. Его как бы не было — этого вопроса. Крепостное право — существовало, но никакому обсуждению не подлежало.
Том не менее, когда на исходе 50-х годов новый царь Александр II предписал рескриптом виленскому генерал-губернатору Назимову задуматься над этим вопросом и над его скорейшим решением, когда стало ясно, что отмена крепостного права не за горами, вдруг обнаружилось, что в среде правящего класса и образованного общества она, эта будущая отмена, никакого возмущения не вызывает, что с необходимостью ее почти все согласны, что принципиальных, непоколебимых противников этой отмены не так уж много, они не так уж сильны, и голоса их тонут в хоре сторонников крестьянского освобождения. Как, когда, где, в каких диспутах и баталиях случилась эта перемена общественного мнения? В каких глубинах она совершилась? Ведь на поверхности не происходило ничего.
Даже ставшие впоследствии известными факты бурных обсуждений проблем крепостничества и всего с ним связанного в кружках Станкевича и Петрашевского, в петербургском кругу Белинского и московском кругу Хомякова, в елагинском салоне и аксаковском доме полностью не разрешают этой загадки. Так же как ничего в ней не меняет и то, что в массе своей сторонники отмены крепостного права были не против личного освобождения крестьян, но заговорили совсем иначе, когда речь зашла наделении этих крестьян землей. Мы еще вернемся к этой проблеме.
2
Самая необходимая жизненная перемена, а в особенности такая огромная, какую внесли в российскую действительность крестьянская реформа 1861 года и связанные с нею судебная, городовая, земская, военная и другие реформы, порождает массу разочарований и большое количество разочарованных людей. Во-первых, из прекрасного далека все иначе виделось: казалось, что жизнь останется такой же, только станет лучше и пригляднее. Во-вторых, мало кто думал заранее о последствиях реформ, — а эти последствия зачастую оказывались неудобными, порой драматическими. У большей части русского дворянства, привыкшего к даровому труду крепостного крестьянина, вследствие этого обленившегося физически и умственно, оказавшегося неспособным не только к хваткому буржуазному предпринимательству, но даже просто к более или менее расчетливому хозяйствованию, к примитивному экономическому расчету, эти разочарования возникли довольно быстро и оказались весьма жестокими. Одна из лучших русских книг, отобразивших этот процесс, принадлежит перу того же С. Н. Терпигорева и называется очень выразительно — «Оскудение».
Естественно, что по ходу этого процесса, описанного в русской литературе живо и разнообразно М. Е. Салтыковым-Щедриным, А. И. Эртелем, П. Н. Боборыкиным, а позднее А. П. Чеховым и другими писателями его круга, вскоре начались жалобы, сетования и в конечном счете воздыхания по старому доброму времени, когда ничто еще но двигалось с места, не требовало от помещика и чиновника никаких скоропалительных и нетрадиционных действий, пребывало в сладостном полусне. Так же естественно, что жалобы эти и воздыхания, поначалу примитивно эгоистические и в таком виде имеющие мало надежд на успех и на сочувствие правительства и общества, стали принимать иной вид, обросли идеологическими, статистическими, юридическими, психологическими, философскими и иными формулировками. Мемуары, публицистические статьи, экономические исследования, романы и политические трактаты, вспоминающие, описывающие и доказывающие, как хорошо, как духовно здорово, как материально устойчиво было то, все далее и далее уходящее время крепостных порядков, полились густым потоком.
Крепостническая «литература жалобы» нещадно спекулировала на том, что в результате освобождения крестьян и последовавшего за ним социального расслоения деревни ухудшился жизненный уровень немалой части крестьянства, у иных вплоть до обнищания, что зачастую деревенская масса попадала во власть кулаков и кабатчиков, купцов и спекулянтов. Она, эта литература, упорно отстаивала тезис, что при прежних порядках лучше было не только помещику, но и мужику, и государству.
Демократическая литература не могла не ответить этой «литературе жалобы». Одним из таких ответов и явилась книга С. Н. Терпигорева «Потревоженные тени», сначала в виде отдельных очерков и рассказов напечатанная в основном в журнале «Исторический вестник», а также в журналах «Русское богатство» и «Новь».
3
Сергей Николаевич Терпигорев родился в 1841 году в семье тамбовских столбовых дворян, чей род восходил к XVI веку, ко временам Ивана Грозного, однако в веке XIX семья принадлежала к тому, что и в жизни и в литературе называлось «захудалыми родами». Средней руки помещики, родители будущего писателя были не совсем бедны и вовсе не богаты. Читатель терпигоревских произведений, в особенности цикла «Потревоженные тени», может хорошо представить себе материальную обстановку, в которой протекали детство и отрочество Терппгорева.
Важнее, одпако, была нравственная атмосфера семьи, те добросердечие и понимание, та гуманность, которая пронизывала отношения родителей и детей, родителей и их многочисленных родственников, родителей и дворовых людей, а также остальных крестьян, принадлежащих отцу и матери подрастающего мальчика. Гуманность естественная, ненарочитая, в основе которой лежали, с одной стороны, врожденная доброта, а с другой, благоприобретенное сознание людского равенства, ненормальности, а следовательно, и непрочности существующего порядка, при котором человек владеет человеком. Конечно, никто этих убеждений перед мальчиком не демонстрировал и не развивал, просто ими, этими убеждениями, было пропитано поведение старших, их поступки, их, как уже было сказано, отношение к окружающим. Так что и к мальчику, отроку, юноше Сереже Терпигореву эти убеждения переходили не в виде четко изложенных и заученных заповедей, а как бы естественно переливались в него, в его поступки и слова: именно так, а не иначе было принято в доме, именно так надо было вести себя, а по-другому — нехорошо, неудобно, стыдно, безнравственно. Эта домашняя этическая академия сформировала многие определяющие черты в личности и творчестве писателя.
И еще в этом доме, в отличие от многих помещичьих домов захолустной Тамбовской губернии, были книги, выписывались газеты и журналы, «которые тогда, кажется, один отец во всем уезде и получал». Все это читалось, хотя бы и мимолетно, обсуждалось. Таким образом, мир ребенка не ограничивался домовыми и усадебными впечатлениями, но расширялся в пространстве и во времени. Пространства расширяла литература, времена — история. И хотя домашнее обучение, — к детям приглашали учителей и гувернеров, об этом можно прочитать и в «Потревоженных тенях», — было довольно неупорядоченным, а чтение бессистемным (читалось то, что было в отцовских шкафах), какие-то плоды оно давало. По крайней мере вырабатывался, определялся круг интересов.
Каков он был, можно увидеть по позднейшим воспоминаниям писателя: «Я перечитал все, что тогда было: Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоедова, перечитал в журналах даже новейших в то время писателей... По истории перечитал Лоренца, Карамзина, Полевого, Устрялова и массу других сочинений...» Этот определившийся в детстве интерес к русской литературе и истории сказался и позднее, когда Терпигорев уже учился в тамбовской гимназии: «Читали мы не вздор какой-нибудь, а все серьезные вещи: историю Соловьева, Белинского... Тургенева, Костомарова, Гончарова, только что появившегося тогда Добролюбова».
Гуманность в родительском доме оттеняла то, что видел, не мог не видеть, как бы ни старались взрослые кое-что скрыть от ребенка, будущий писатель вокруг, в домах многочисленной родни, в поведении соседей-помещиков, узнавал из рассказов дворни. Он многое увидел, услышал, запомнил и понял в несчастной и униженной жизни бесправного «крепостного быдла», этой «крещеной скотинки», на всю жизнь проникся сочувствием к русскому крестьянину и позднее писал, что «для меня вне вопроса о мужике и земле не существует никаких вопросов».
4
«Вопрос о мужике», о защите русского мужика от поползновений вчерашних крепостников прежде всего вставал перед уже известным писателем С. П. Терпигоревым (знали его и по псевдониму Сергей Атава — портрет, написанный художником П. П. Соколовым, так и называется «Портрет писателя Сергея Атавы»), когда он начал писать и публиковать очерки и рассказы, впоследствии объединенные в единую книгу под названием «Потревоженные тени». Все они были основаны на собственных воспоминаниях о поре крепостничества, на детских и отроческих впечатлениях автора.
В атом был большой резон. От первых критических откликов на произведения Терпигорева (и те, что составляют настоящий том, и в особенности те, что составили два тома «Оскудения») до немногочисленных нынешних литературоведческих работ о писателе (А. П. Могилянский, Н. И. Соколов) тянется традиция сближать его творчество с творчеством М. Е. Салтыкова-Щедрина, находить влияние гневной щедринской антикрепостнической сатиры па страницы, вылившиеся из-под терпигоревского пора. В этом нет натяжки. Сам Терпигорев возражал только, когда иные современные ему критики и мемуаристы договаривались до того, что якобы Салтыков в тех случаях, когда терпигоревские произведения печатались на страницах «Отечественных записок», вписывал в них иные пассажи и даже целые страницы. Но за разговорами о влиянии Щедрина на Терпигорева забывается немаловажное обстоятельство: построение терпигоревских рассказов, их «мемуарная» форма были во многом определены внутренней и внешней полемичностью по отношению к появившимся в это время многочисленным мемуарам, запискам, воспевавшим уют и тепло дворянских гнезд, идиллию отношений помещиков и крестьян, безмятежность и счастье крепостных мужичков, благоденствовавших под отеческой барской рукой. И печатались частенько такие записки как раз в том самом «Историческом вестнике», куда Терпигорев отдал большую часть своих «Потревоженных теней». Так что он намеренно строил свои рассказы как воспоминания о том времени, о своем милом детстве, только в них он воскрешал те детали и события прошлого, о которых авторы каких-нибудь «Рассказов старой бабушки» забыли или хотели бы забыть. Он как бы давал бой на чужой, захваченной и обжитой противником территории.
Терпигорев не хуже тех, кто стоял на защите дворянских интересов, знал, как тяжело и непросто живется российскому крестьянину в пореформенной действительности, он ее, эту действительность, не идеализировал, как не идеализировал и самих крестьян, понимая, что многим из них непривычна свобода, ответственность за себя. Он любил и цитировал некрасовские строки из «Кому на Руси жить хорошо»:
Порвалась цепь великая.
Порвалась — расскочилася:
Одним концом по барину,
Другим по мужику!..
Но он знал и другое, был уверен в том, что в этой непривычной поначалу свободе для российского крестьянина есть будущее, что он сладит с самим собой и своей жизнью рано или поздно — лишь бы не мешали да не загоняли снова на старую или новую цепь. Для него главным было то, что эта великая цепь разорвалась, что мужик перестал быть собственностью другого человека, пусть даже доброго и гуманного.
«...Я помню также, — писал Терпигорев, — что эти все рассматриванья знаменских мужиков со стороны их довольства и богатства, все рассуждения об этом их довольство и богатстве на меня, ребенка еще, все-таки производили какое-то странное впечатление; мне невольно приходило в голову сравнение с таким же рассматриванием коров в стаде, когда их прогоняли мимо нас домой с поля и рассуждали об относительной сытости их, о количество даваемого ими удоя... Было что-то странное, эгоистическое, материальное, безучастное в этих рассуждениях, и это детской, чуткой душой сейчас чувствовалось, слышалось. О людях не говорят так теперь. О них так можно было говорить только тогда — тогда, когда они были собственностью. Так, что бы мне ни говорили о том времени, но теперь так не говорят о людях, потому что теперь их так нельзя рассматривать...»
И еще, конечно, в рассказах Терпигорева о прошлом времени просматривается не то что зависимость, а общность с демократической публицистикой и очеркистикой тех лет, с произведениями Глеба Успенского, В. Слепцова, А. Левитова, С. Максимова, П. Якушкина и иных, менее известных авторов журнальных статей и очерков о русской жизни.
Все они вместе с Некрасовым понимали, что «на место сетей крепостных люди придумали много иных», но верили, что «распутать их легче народу», и вместе с тем же Некрасовым могли воскликнуть: «Я видел красный день: в России нет раба!»
5
Не разница между голодом и сытостью, а пропасть между рабским и свободным состоянием человека волновала и интересовала Терпигорева как писателя, как гуманиста, хотя он не мог не понимать, что между всем этим существуют и экономические, и психологические связи. Но он знал и то, что сытость раба и сытость свободного гражданина — вещи совсем не одинаковые, даже принципиально разные: свободный накормил себя сам, рабу дали наесться.
Так что не случайно уже незадолго до смерти, определяя состав своего первого (и единственного пока) собрания сочинений и сводя в единый том произведения, образовавшие «Потревоженные тени», писатель во главу его поставил рассказ «В раю». Хотя он не был первым по времени написания. Важнее для автора было то, что этот рассказ рисовал крепостническую «идиллию» — ту благодать, в которой, если ему повезло с его владельцами, мог оказаться крепостной человек, показывал, так сказать, «заботу» помещика о своем крестьянине.
В Знаменском — имении Григория Михайловича и Варвары Николаевны Дукмасовых, родственников матери Терпигорева, — не просто богато, но порядок, ухоженность, благообразие. И не только в усадьбе, но и на селе: у мужиков стоят непочатые скирды с третьегоднишним хлебом. Дворня — обычно самая забитая и неимущая часть крепостного люда, ибо живет на господских хлебах и в господском доме — здесь тоже не обделена: «у них у всех были собственные избы, свой скот, коровы, свиньи, овцы, у некоторых даже лошади», им дадено и по клочку земли под огороды. Мужики на селе настолько богаты, что могут предложить помещику за выкуп своей семьи на волю по восемь-десять тысяч рублей.
«Все в Знаменском носило на себе печать прочности и прочной обеспеченной сытости. Это не было случайностью, это было дело целого строя, порядка, который достиг в Знаменском своей высшей степени, которой он когда-нибудь и где-нибудь достигал и мог достигнуть.
— Да, — говорили все, — у Дукмасовых такое житье людям, какого уж, кажется, нигде нет. Как в раю живут...
И по-тогдашнему это был рай...»
Вот только в раю этом разлит дух жестокой неволи. Даже за большие деньги не может купить себе мужик свободы. Довольство его и сама жизнь целиком в помещичьих руках и завтра же могут быть порушены по капризу владельца. Любой человек из семьи, в особенности, молодой, завтра же может быть взят в дворню, навсегда оторван от родни. Тут же, на барских глазах, гнет еще тяжелее. «Беда, если бы «тетенька» заметила, что какой-нибудь лакей или горничная смеются, перекидываются словами». А уж уличенная в интересе барина к ней (то есть не в своей вине) горничная обречена на ссылку в дальний хутор, на принудительное замужество, на сгубленную молодость и жизнь.
Оказывается, что хорошее отношение к людям действительно сродни заботливому отношению к скоту, к инвентарю, к орудию труда. Ослепшую дворовую девку Дашку барыня жалеет не как человека, а как изъездившегося рабочего коня: «первая вышивательница была». Но как новые кони будут пущены в нужную тяжелую работу, так и новые девки будут взяты из деревни и посажены за отнимающее зрение вышивание нового пеньюара:
« — Ну, а сколько же, тетенька, времени вышивали его?
Два года, мой друг... Двенадцать девок два года вышивали его... Три из них ослепли».
Дурной барин отослал бы этих ослепших девок обратно в крестьянскую семью: пусть содержат до смерти, — добрая Знаменская барыня устроила для своих «слепеньких» нечто вроде богадельни. Но молодость отнята, но жизнь выпита ради барской прихоти, не очень-то, как выясняется, и необходимой: «На Поленьку (дочь Дукмасовых. — Ю. Б.) и на ее жениха этот разговор не произвел никакого, казалось, впечатления. Они были счастливы, и счастье их было так полно. Они, может быть, однако, были бы не менее счастливы и без этого пеньюара...»
6
А что же происходило там, где «рая» не было и не предвиделось? Где случались «многие случаи тогдашней жизни, не составлявшие по тому времени ничего особенного, мимо которых проходили все, не задумываясь над ними»? Ведь «рай» был делом редкостным, необычайным — недаром и в уезде, и в губернии все помещики так дивятся порядкам, заведенным в Знаменском. Редкостным он, кстати, бывал не только потому, что среди помещиков нечасто встречались добрые и гуманные люди, но и потому, что даже такие люди сами не вмешивались в свое крепостное хозяйство, а отдавали его под начало управителям, бурмистрам, старостам, которые извлекали из крестьянина не только помещичью, но еще и свою собственную пользу, а о гуманности не помышляли. К тому же «добрые» помещики, воспитанные среди крепостных порядков, не замечали, не понимали своей собственной жестокости: «Тогда, при крепостном порядке, суд был скорый, и этим судом не особенно стеснялись...»
«Я отлично помню, — вспоминал Терпигорев, — эти тенистые сады с липовыми и кленовыми аллеями, террасы, обсаженные сиренью, на которых при свете ламп за самоваром читались «Рыбаки» и «Дворянское гнездо» и т. д. (писатель называет произведения Григоровича и Тургенева, особенно известных в то время книгами о русском крестьянине, о его уме, сметливости, хозяйственности, самостоятельности. — Ю. Б.) и с которых пришедшему за распоряжением на завтрашний день старосте тут же отдавались приказания (что поделаешь с нашим народом!) «взяскать» с Егорки или Марфушки... И я не могу сказать, что это все уживалось в силу двоедушия, лицемерия и тому подобного. Нет, это было все просто продукт сытого желудка и спокойной, уверенной мысли о сытом завтрашнем дне. Люди вырастали при такой обстановке, что с чистой совестью верили в свое призвание управлять этим «нашим народом», точно так же, как и в то, что этот народ без их опеки непременно пропадет».
Большинство рассказов, вошедших в «Потревоженные тени», как раз и повествует о «многих случаях тогдашней жизни», не о тех, что выходили из ряду вон, а о тех, что составляли канву обычной действительности, не казались и не были чем-то особенным и ни в ком, кроме редких людей вроде отца будущего писателя, осуждения не вызывали.
Причем Терпигорев намеренно и принципиально рассказывает только о том, чему свидетель в жизни был, что видел собственными глазами. Больше того, он старательно исключал, избегал нажима, педалирования, ставки на жалостность и сентиментальность. Он писал об этом в воспоминаниях: «...из всех моих написанных рассказов, очерков и повестей нет ни одного, который был бы хотя немного рассчитан на эффектные места в нем, на громкие фразы. Я написал много слабых, растянутых, не отделанных и даже недоделанных вещей, но в них нет ни одной даже попытки на ходульность, на битьё фразами, их треском и блеском. В этом, впрочем, мне не отказывали и, надеюсь, и дальше не будут от называть и мои критики» Стремясь к жизненной правде в ее полноте и объемности, писатель избегал также нарочитых умалчиваний о фактах и деталях, «невыгодных» с первого взгляда для его идей, и подчеркиваний того, что, наоборот, для этих идей было бы выигрышно.
Эта спокойная, неаффектированная честность писателя как-то по особенному окрашивает его рассказы и внушает читателю доверие к его повествованиям даже тогда, когда описанное в них может показаться невозможным, небывалым. А таким невозможным и небывалым теперь, когда мы далеко ушли от той эпохи и ничто в нашей жизни не схоже с ее реалиями, когда та эпоха, как и всякое прошлое, подернулась патиной и как бы очистилась в нашем сознании от многих своих мерзостей, когда можно ничтоже сумняшеся заявить, что «несжатая полоса», о которой писал Некрасов, была едва ли не единственной на всю тогдашнюю Россию, и, оплакав ее, случайно встретившуюся ему, поэт едва ли не оболгал ту Россию, на самом-то деле благоденствовавшую и довольную, — таким может показаться многое, рассказанное Терпигоревым. И история с покупкой крестьянских детей, отрываемых от семьи и отправляемых на пустующие помещичьи земли, где жизнь и детей и взрослых мало чем отличается от каторги, а в чем-то даже и страшнее (на каторге не практикуют насильственные браки и разводы) — рассказ «Проданные дети». И повествование о крепостных девушках, закованных в цепи и колодки за то, что они отказались лечь в постель к барину, старому сладострастнику — рассказ «Емольяновские узницы». И описание псовой охоты на дьякона Ивана (не крепостного, заметим, человека), не угодившего хозяину поместья тем, что «глупости говорил», и сбежавшего от несправедливого наказания — рассказ «Первая охота». И история о том, как из талантливого художника по прихоти барина выбили душу, превратив его в жалкого раба и пропойцу — рассказ «Две жизни поконченная и призванная».
Показывая в другой своей книге — «Оскудение» — грустные картины помещичьего разорения в послореформенное время, рисуя дворянскую неприспособленность к самостоятельному труду, Терпигорев делал вывод: «Всему виной крепостное право...» То же самое он мог бы сказать (да, по сути дела, и сказал) и по поводу тех ужасов, которые выведены на страницах «Потревоженных теней». Ужасы эти порождались самим господствующим строем, порядком — и ничего тут но могли поделать ни книжная гуманистическая пропаганда, ни религиозная проповедь («Возлюби ближнего своего, как самого себя»), ни государственная власть, время от времени наказующая самые страшные злоупотреблении помещиков, опасные для них же самих.
«В сущности, она была просто идиотка — ничего более, или уж по крайней мере, почти идиотка, — пишет Терпигорев в рассказе «Иуда» о некоей Раисе Павловне. Но она была помещица, и у нее была власть. Она была, как я уже сказал, с большими средствами, и если бы она захотела сделать зло, — ну просто почему-нибудь пришло бы ей это в голову, — она могла бы ого сделать, по-тогдашнему, даже и но одним только своим крепостным, но и всякому маленькому человеку...»
В ответ па укоры родственницы в том, что Клавдия Васильевна — персонаж трех рассказов Терпигорева — продает в солдаты отца одной из своих горничных и это жестоко, та отвечает: «Ах, боже мой! Это почему же я не могу? Не госпожа разве я своим людям?.. Я семерых уж продала и сдала уж... Я и еще продам. Нынче такая цена... Когда же это еще такая цена будет?..» (Кстати заметим, что фонвизинский «Недоросль» известен был уже лет семьдесят, но, как видим, знаменитые реплики госпожи Простаковой не устарели: Клавдия Васильевна почти дословно повторяет их — ибо ничего не изменилось в жизненном строе.)
«Что-то ужасное было в ней, — пишет далее рассказчик, — страшно становилось уже не за людей ее, а за самих себя, которые были у нее в гостях...»
7
Добавим к сказанному автором, что при взгляде на Клавдию Васильевну, чей характер, взгляды на жизнь, поступки показаны и исследованы, как уже говорилось, в трех рассказах — «Тетенька Клавдия Васильевна», «Илья Игнатьевич, богатый человек», «Проданные дети», — становится страшно не только за себя, но и за нее. Так последовательно и неудержимо власть над людьми — и над крепостными, и над племянником, которого она вроде бы любит, и над помещиками в округе, которые то и дело оказываются у нее в долгу, — вытравляет из нее все человеческое, доброе, милосердное. Она действительно становится смертельно опасна для всех, кто с ней соприкасается. Да и для самой себя — в жажде власти и сиюминутной наживы она неспособна остановиться перед тем, чтобы срубить сук, на котором сидит: например, извести своего вернейшего помощника в нечистых и кляузных делишках Илью Игнатьевича, довести любимого племянника своими «безобразиями» до тяжелой душевной болезни, превратившей его в «полуидиота».
Терпигорев показывает, что ее «безобразный и исковерканный» характер развился, обезобразился и исковеркался именно на почве крепостного права. И здесь следует сказать еще об одной важной теме «Потревоженных теней»: о том, что страдают от этого порядка не только крепостные крестьяне, не только барщинные, оброчные и дворовые люди, — страдает вся жизнь, построенная на крепостнической основе, на этом порочном фундаменте.
Крестьяне в этой книге — лица страдательные и за небольшим исключением (рассказ «Две жизни — поконченная и призванная») не выступают в качестве основных персонажей. Героями рассказов являются как раз их владельцы, основным фоном служит усадебный быт, обыденная жизнь представителей господствующего сословия, благоденствию и многообразному расцвету которого и должен был способствовать российский крепостнический уклад.
И неожиданно оказывается, что основное содержание этого быта, этой жизни скука. «Страшная была скука. От скуки удивительные слагались характеры и удивительные выходили люди...»
Да, конечно, мы знаем и помним, что из помещичьего сословия, или, как говорили в XIX веке, из образованного слоя, вышли многие писатели и ученые, военачальники и государственные деятели, мыслители и борцы с тем же крепостным правом. Но в массе своей — это хорошо показано передовыми русскими писателями XIX вока, и в их числе Терпигоревым, — сословие это бездействовало и тунеядствовало, плохо освоив даже главное свое занятие: сельское хозяйство, управление им и его экономику, агрономию и т. п.
Конезаводство, псовая охота, карточные игры, обыкновенное и забубенное пьянство, благородные и скандальные романы с женщинами своего круга, актрисами, цыганками, шашни с дворовыми девушками, устройство крепостных театров и оркестров, аферы, сплетни — не дело, а полубезделье, игрушки, забавы, происходящие от «низменности тогдашних интересов», от стремления куда-то себя деть, убить время — вот основные занятия этой массы. Все это не избывало скуку, а словно бы наращивало ее, сгущало, доводило до жуткой, жгучей тоски, которая в свою очередь изливалась в дикие поступки и предприятия, в «странную логику» поведения, в ту же жестокость, проявляемую и к крепостным людям, и к своим близким, в невероятнейшие капризы, для утоления которых не жалели ни денег, ни людей.
Достаточно внимательно вглядеться в портреты помещиков, нарисованные Терпигоревым, в эти «потревоженные тени», в их поведение и поступки, чтобы увидеть, как калечило крепостное право не только крестьян, но и их господ. О «тетеньке Клавдии Васильевне» уже говорилось. Но вот дядя рассказчика — Петр Васильевич Скурлятов, который фигурирует также в трех рассказах цикла. Богач, красавец, офицер «самого блестящего гвардейского кавалерийского полка», он образован, начитан: «Большая библиотека, преимущественно французских книг... Он выписывал также все почти тогдашние газеты и журналы». Но какая сухая, эгоистичная, жестокая, немилосердная душа живет в этом человеке, привыкшем к тому, чтобы ему все и всегда беспрекословно подчинялись, чтобы желания его исполнялись как по мановению волшебной палочки. «В доме порядок и чистота были удивительные. Удивительная была в нем и тишина... Но он достиг этого дорогой ценой. Я помню, при нем лакей раз уронил ложку, так он только взглянул на него, и уж тот мертвенно побледнел». Что ж удивляться смертельному испугу лакея, если в этом именин насмерть запарывают семидесятилетнего повара за какую-то кухонную оплошность, так же поступают с кучером и выездным лакеем, совсем не виноватыми в том, что возок с любовницей барина провалился в реку и она слегка простудилась (она и потребовала провезти ее по ослабевшему льду), ту же самую любовницу, больную, грубо выбрасывают из дому, ибо она опостылела барину, рвут собаками служителя церкви, губят жизнь и талант крепостного живописца... Сколько зла принесено в жизнь этим человеком, добра же он не смог сделать даже себе: недостойно, можно сказать, позорно кончает он жизнь — манифест об освобождении крестьян испугал ого, «все опасался, что его убьют, из кабинета почти не выходил», заболел от этого страха и умер. Воистину оборотная сторона жестокости — трусость.
Как исковерканы крепостным правом, бездельем, поневоле «сытым желудком» судьбы многих персонажей рассказов «Бабушка Аграфена Ниловна», «Вице-королева Неаполитанская», «Маша — Марфа»!
Но что говорить о Скурлятове, о Клавдии Васильевне, о сластолюбце Емельянинове из рассказа «Праздник Венеры», если дворянские скука и безделье даже такого умного, начитанного, доброго барина, как отец писателя («Они все его любят», — говорит гувернантка Бибер о ого крестьянах), доводят до смешных и недостойных придирок к своим дворовым (рассказ «Первая охота»).
Крепостные порядки, конечно же, сказываются и на характерах, на личности крестьян, особенно дворовых людей, более остальных приближенных к барам, превращая их то в безжалостных исполнителей помещичьей воли, каков, например, управляющий скурлятовским имением Прудки Максим Ефимов, то в трусливых и наглых холопов, соглядатаев и наушников, издевающихся над своими собратьями, губящих других людей даже не ради собственной выгоды, а ради милостивого барского взгляда, ради извращенного желания упиться страданием такого же униженного и оскорбленного, как они сами. Это о таких писал Некрасов: «Люди холопского звания — сущие псы иногда: чем тяжелей наказания, тем им милей господа».
Эта зараза приниженности, холопства и угодничества переползает и на лично свободных, но бедных или слабохарактерных людей, поскольку экономическая и нравственная атмосфера в стране вся пропитана миазмами крепостничества. И складываются такие характеры, как чиновник Василий Прокофьевич Лысогорский (рассказ «Иуда»), как бедная помещица Анна Ивановна Мутовкина (рассказ «Проданные дети»), как откупившийся на волю крепостной, ныне хозяин постоялого двора Илья Игнатьевич, в которых смесь забитости и тиранства, страсти к наживе и страха перед власть имущими задавила естественное, нормальное отношение к жизни, к людям и к себе самим. «Знать, таково было время и такова среда, — делал Терпигоров справедливый вывод, — что воспитывала в себе и свободных, но маленьких людей такими же бесправными и испуганными, как и рабов настоящих...»
Книга Терпигорева была не просто напоминанием об отдельных жестокостях отдельных помещиков, она несла в себе, по точному выражению одного из исследователей терпигоревского творчества Н. И. Соколова, «общее осуждение крепостного порядка», страстное желание, чтобы ничто подобное никогда не вернулось на русскую землю.
8
Как рефрен, время от времени на страницах «Потревоженных теней» раздаются возгласы вроде: «Этого разговора и этой сцены я никогда не забуду, — эти лица и теперь, через тридцать пять лет, у меня перед глазами, я вижу их, как будто бы это вчера только все было, и слышу их разговор...»; «Ужасные я помню подробности!..», «Читатель может себе представить, как все это ложилось на мою детскую душу и какие понятия укладывались в голове обо всем окружающем, так же как и что это за окружающее было!..» Пока, наконец, говоря о своей памятливости, писатель не испускает тяжелый вздох: «Но как бы драгоценны эти качества ни были и как бы ни годилось мне это все теперь, было бы гораздо все-таки лучше, если бы память моя была свободна от всего этого. Характер всех этих воспоминаний, обусловленный тогдашним временем и тогдашними нравами, очень уж тяжел и носить в себе всю жизнь эту отраву нельзя безнаказанно...»
Каково же было тем, кто эти «ужасные подробности» выносил на себе, на своей «шкуре», хранил в своей израненной душе! «Я видел робость и даже отчаяние крепостных, видел их ужас, когда им грозило какое-нибудь невероятное, холодно придуманное наказание». Но видел и запомнил писатель не только робость, отчаяние и ужас, видел и запомнил нравственное порицание («Отольются ему эти сиротские слезки — ведь у Дмнтрия-то кучера пять человек детей осталось...») и готовность к мести, накапливающиеся в душах крепостных. Пособница тетеньки Клавдии Васильевиы Мутовкина, скупавшая для нее по соседним имениям крестьян, отрывавшая их от семей, от родных мест, говорит однажды: «Ох, уж не забуду я этого раза, набралась я страха. Сколько уж раз я их возила, а такого раза еще не бывало... И все раз от разу хуже и хуже становится с этим делом... Прежде народ совсем другой был, а теперь лица-то у всех зверские какие».
Народный гнев накапливался. Иные, как отец Терппгорева, это понимали («Эта пора уж прошла, когда можно было так жить»), иные, как Мутовкина, чувствовали лишь «неудобство», страх. Здесь-то, пожалуй, и заложено разрешение той загадки, о которой говорилось в начале. «У меня, как в раю, все равны» (то есть всем тягостно и ужасно), — говорила Клавдия Васильевиа. Этому крепостному «раю» во всех его вариантах — и худших, и лучших — наступал конец.
Крестьянская реформа 1861 года спасла русское дворянство от закипавшего народного гнева. Свобода, пусть куцая, и земля, пусть урезанная, дали иные возможности для выхода крестьянской силы и энергии. «Теперь на своих ногах — от самого зависит человеком стать...» — говорит крепостной терпигоревского отца Филипп.
Однако память о крепостном право, о его тяготах и ужасах, подхлестываемая к тому же неоднократными и небезуспешными попытками дворянского класса сохранить власть над крестьянином, память гневная и взрывоопасная, жила долго. В 10-х годах XX века поэт-крестьянин Пимен Карпов писал консервативному писателю и публицисту В. В. Розанову: «Вы... сознательно замалчиваете великую трагедию русского землероба — его зауниженность... его беспомощность, и сознательно зло клевещете на русский народ... Припомните крепостное право: кого засекали розгами до смерти, кого травили насмерть собаками, кого сжигали на горячих плитах (я знаю такой случай: мой прадед крепостной был сожжен помещиком на раскаленной плите)...»
Эту силу непрошедшего народного гнева всегда чувствовали Некрасов, Салтыков, Глеб Успенский. В такой степени Терпигорев ее не ощущал. Тут и была причина того охлаждения и расхождения между ним и кругом «Отечественных записок», которые наступили после цареубийства 1881 года.
* * *
Не соглашаясь с революционными демократами в конечных выводах, Терпигорев тем не менее видел действительность и дореформенную и послереформенную — трезво и писал ее правдиво. Вот почему ценность его литературного наследия непреходяща и по сей день. Вот почему его интересно читать и перечитывать. К тому знанию о российской жизни прошлого века, которое дают нам книги великих писателей — Гоголя, Тургенева, Гончарова, Толстого, Лескова, Писемского, — произведения Терпигорева добавляют весомую часть.
Они были очень нужны, когда писались и печатались. Об этом хорошо в свое время сказал Н. С. Лесков: «Весь этот мир отошедших ныне дворян и «хор подавленных и трепетных людей» как бы встает и воздымает руки, чтобы, увидя их, люди встрепенулись и вспомнили, что такое было в том ужасном прошлом, в котором иные научают нас теперь искать идеалов для будущего».
Они нужны и сейчас. Любая попытка понять ход русской жизни, душу русского человека и мир русского народа невозможна без русской литературы, в том числе и без книг Сергея Николаевича Терпигорева.
«Потревоженные тени» — лишь часть его творческого наследия. В шеститомное собрание его сочинений, подготовленное им перед смертью (он скончался в 1895 г.), кроме этого цикла и уже упоминавшегося «Оскудения» (то и другое заняло три тома), вошли рассказы, очерки, пьесы и воспоминания, житейские и литературные. Лучшее из этих шести томов еще послужит и новому времени, и новому читателю.
Юрий Болдырев
ПОТРЕВОЖЕННЫЕ ТЕНИ
В РАЮ
I
Как стал я себя помнить, каждый год мы ездили в Знаменское, к «тетеньке» Варваре Николаевне Дукмасовой. То есть нам-то она приходилась бабушкой, а отцу с матушкой — тетенькой, и потому все звали ее «тетенькой», и даже сама она не любила, чтобы ее называли иначе.
— Уж ты, мать моя, заспешила, нарожала детей, и пожить-то как следует не успела, — говорила она матушке, как-то уныло поглядывая на нас, — первая меня в бабки произвела: отличилась...
Но тем не менее, однако, она нас любила, особенно меня — потому, может быть, что я был ее крестник. Или еще, может быть, потому, что я представлялся ей вышедшим в дукмасовскую родню.
— Этот будет совсем Миша-брат: и глаза его, и лоб, и потом вот этот вихор... — говорила она, рассматривая меня.
Она почему-то была необыкновенно высокого мнения о дукмасовском роде — роде своего мужа — и потому благоволила и ко мне.
Но я уж привык выслушивать такие рассуждения: дядя Петр Васильевич Скурлятов находил, что я весь в скурлятовскую родню; тетушка Марья Дмитриевна Чемезова — что я весь в Чемезовых вышел... и потому я только поглядывал на них и никак не мог понять, что это за достоинства такие они во мне всё открывают?.. И почему это хорошо быть похожим на Дукмасовых, Скурлятовых или Чемезовых, а не на свой род, фамилию которого я носил? Чем он хуже их? Чем они лучше? Но это меня не особенно занимало.
Эти поездки в Знаменское и к другим дальним, то есть на далеком от нас расстоянии жившим, родственникам составляли в своем роде целые события, о которых начинали говорить еще с весны и готовились долго, всё обдумывали, соображали, взвешивали — к кому первому ехать, к кому по дороге «туда» заезжать и к кому «оттуда», когда поедем назад, у кого сколько пробыть, кому что сказать и как у кого себя вести? Вспоминая теперь эти поездки, я не знаю, что такое, собственно, они представляли — акт дипломатической вежливости, посольство чрезвычайное или навещание дорогих родственников, нежно любимых. Я скорее думаю — первое, потому что чувств этих нежных и родственных, вообще говоря, было мало...
Предпринимались эти поездки обыкновенно летом, в начале лета, когда еще ни уборки, ни фруктовых и плодовых заготовок нет, так в последних числах мая, самое позднее — в первых числах июня.
К этому времени дипломатическая сторона поездки бывала уж совершенно выяснена, — соображались и разбирались вопросы второстепенные: об удобствах поездки, как и когда, в какой день выехать, какие вещи с собой брать, и проч., и проч. Эти второстепенные вопросы, представляющиеся теперь пустяками, не были, во-первых, в то время такими, и потому к ним относились иначе: совсем другие были понятия, другой строй жизни, потому что другой совсем был быт.
Дня за три до того, как трогаться в путь, карету, давным-давно уж осмотренную своими домашними слесарями и каретниками, выдвигали из каретного сарая, и она, в чехле, стояла на конюшенном дворе для чего-то снаружи до того самого дня, когда ее будут нагружать и запрягать. Сундуки и важа[1] из нее и с нее давно уже принесены в дом, и стоят они в девичьей, в детских, и в них постепенно, мало-помалу, не спеша, всё укладывают.
— Ну, детское, сударыня, все уложено, — говорит, приходя к матушке, нянька наша Устинья Ивановна.
— Все?
— Все, сударыня.
И они, проверяя, не забыли ли что, обе начинают перечислять наименования предметов, сколько чего взято с собою, уложено, сколько рубашечек, кальсончиков, платочков, и проч., и проч. Выходят недоразумения при этом.
— Ах, Устиньюшка, я тебя не понимаю совсем, — с непритворным, искренним удивлением говорит матушка, — кальсончиков ты берешь шесть! Мальчик — ну, разве может ему этого хватить? Ведь это девочке — можно, довольно...
— Сударыня, да ведь и прошлый раз шесть же пар брали, — обиженным тоном говорит нянька.
— Да ведь, я думаю, он растет!.. Он всюду уже теперь ходит, разве удержишь его: он и рыбу удить пойдет, и верхом ездить будет, и так, в лесу, в саду бегать будет, пачкаться. Не понимаю, как это ты только не понимаешь этого, — резонно и глубокообдуманно возражает ей матушка и приказывает взять еще кальсончиков.
В особом сундуке и в двух баульчиках с вышитыми бисером крышками уложены вещи гувернантки нашей, Анны Карловны. Она тоже всего набрала с собой: и белья, и всяких вещиц для рукоделья, до наших книжек и тетрадок включительно. Мы не будем, конечно, ни дорогой, ни в гостях у родственников учиться, но на всякий случай — а может... Мы это знаем всё отлично, даже глубоко убеждены, что этого не случится; но берут это всё и не для этого, а для того, чтобы это все было под рукой и чтобы, в случае чего, можно было сказать: «А вот, если будете шалить, вас посадят заниматься с Анной Карловной», — вот для чего. Но это нас так же мало пугало, как чучело на огороде воробьев.
А потом матушкины вещи, ее сбор... Во время нашего пребывания у родственников — у одних должна быть свадьба, у других именины, там торжественно празднуется рождение. И ко всему этому берутся особые, приличные случаю, платья, все принадлежности... А вещи няньки Устиньи Ивановны, вещи горничной Матреши, которая тоже едет с нами, потому что кто же будет ходить за матушкой, кто же будет в чужом месте следить за всеми ее вещами?
В день отправления, с утра, карета, все еще в чехле, запрягается в одну лошадь и таким образом доставляется к дому, к крыльцу. Тут ей новый осмотр... Осматривает отец, осматривает старик Осип Матвеевич, дворецкий и камердинер еще деда-покойника, осматривает ее даже садовник Михей — он был когда-то форейтором[2] и тоже в этом понимает. Наконец мы, дети, на минутку заглядываем в нее: нам отворяют дверцы, и мы смотрим на знакомую нам ее синюю обивку с бесчисленными басонами[3], висящими в ней, подушками, зеркальцами, нюхаем, как духи какие, юфтевый[4] запах, который присущ ей и которого мы уж давно не слыхали — с самого прошлого года, как ездили в ней в то же самое время.
Наконец, пораньше в этот день, нарочно, часов в одиннадцать, подают завтрак, а карету между тем запрягают: привели с конюшни к крыльцу больших матушкиных каретных вороных лошадей, уж совсем в хомутах, в шлеях, с ними пришла целая толпа конюхов, одни лошадей держат, другие их запрягают, оправляют, охорашивают. Кучер Ермил все еще в поддевке, пока запрягают, он сам обыкновенно с серьезным видом ходит и все осматривает: он оденется, так же как и форейтор Ефим («Ефимка»), потом, где-нибудь за углом, когда все будет готово и им уж вот-вот садиться — одному на козлы, а другому в седло.
И до чего все это свежо у меня в памяти! Как сейчас я вижу, смотрим мы на все это из окон, выбегаем вместе с вышедшими на крыльцо большими, озабоченно распоряжающимися, осторожно и бережно выносящими и укладывающими в карету узелки, картонки, свертки...
Наконец карета уложена, запряжена, кучер Ермил сидит, совсем оправленный и подоткнутый, на козлах, «Ефимка»-форейтор на седле, Никифор, наш выездной человек, готов тоже. Мы уже позавтракали.
— Ну что же, сядем? Перед отъездом надо помолиться богу, да и пора в путь уже, — говорит матушка, как бы мысль эта ей только сейчас пришла в голову, одетая тоже, как и все, совсем уже по-дорожному.
Садятся все, молча сидят с полминуты, начинают потом креститься, встают. Слышатся поцелуи, говорят: «С богом», «В путь добрый» и проч. Матушка делает в последний — не сотый ли — раз замечание относительно огня, то есть осторожного обращения с огнем. Остающаяся в доме за старшую по женскому хозяйству и вообще по женской части Евпраксеюшка говорит: «Будем осторожны, избави господи. Что такое, как же это можно? Будьте покойны, сударыня-барыня, смотреть будем еще пуще обыкновенного». Отец нас целует, крестит, как бы мимоходом, но серьезно говорит: «Не шалите же, не дурачьтесь; Анна Карловна, вы смотрите, пожалуйста, за ними». С матушкой он говорит, напоминая ей намеками про вопросы высшей политики, как с кем встретиться, кому не забыть что сказать, кому о чем ничего не говорить, и проч., и проч. Все переговорено, все подтверждено — пора же наконец садиться в карету и ехать... Выходим на крыльцо, начинается усаживание, кончается оно. В тарантасе, запряженном парой, позади кареты, уже сидят нянька Устинья Ивановна с Матрешей: они забрались туда сейчас же, как увидели нас, выходящих на крыльцо. Теперь все ждут только, когда отойдет от дверец кареты отец, договаривающий еще о чем-то с матушкой, и когда выездной наш лакей Никифор, стоящий тут же, крикнет Ермилу-кучеру: «Пошел!» и сам, с удивительной для всех нас ловкостью, вскочит на козлы, когда карета, как корабль какой-нибудь, медленно отчалит и тронется в дальний путь... Наконец отец отходит от окна кареты и как бы передает этим нас в ведение Ермила, Никифора и прочих. Раздается: «Пошел!» Карета всколыхнулась на своих ремнях и рессорах и поплыла. Как в панораме проходят перед нами, куда-то двигаясь, флигеля, конюшни, людские; потянулся длинный вал, что идет вокруг всего нашего сада. Мы смотрим в этот сад, сквозь строй стволов берез, липок, кленов. Там виднеются дорожки, знакомые места, и как-то вдруг станет скучно — не скучно, а тоскливо станет на душе... В карете все сидят с постными лицами и молча...
Но это недолго протянется: только исчезнут из вида усадьба и знакомые близкие места, начнутся у нас разговоры: новые предметы, попадающиеся навстречу, начнут привлекать любопытство, прелесть поездки-путешествия проявится во всей своей привлекательности...
II
Дукмасовское Знаменское было большое имение, отлично по-тогдашнему устроенное. Обширная усадьба отличалась прочностью, «капитальностью», как говорили тогда, всех построек. Действительно, всюду виднелись огромные, толстые бревна, крыши везде были железные, все строения на каменных фундаментах, на дворе порядок и чистота; сейчас видно было, что тут живет действительно хозяин. Такое же впечатление простора и прочности производил и дом — обширный, с высокими, большими комнатами, наполненный прочной мебелью, чинно стоявшей вдоль стен; все было солидно, массивно в доме; даже половики, которые в обыкновенные, не парадные дни лежали вдоль всех комнат и коридора, поражали широтой и добротностью холста. По этим половикам неслышными шагами бегали бесчисленные молоденькие горничные, девчонки-подростки, и скромно выступали степенные, приближенные к тетеньке женщины, заведовавшие кружевницами, коверщицами, вышивальщицами, и проч., и проч. По ним же, по этим половикам, торопливой и тоже неслышной походкой спешно проходили лакеи и рысцой пробегали казачки, принося то и дело господам трубки и длинненькие, сложенные вдвое полосочки бумаги для закуривания — спички тогда только что входили в употребление, да и то были вонючие, с серой, и назывались «серничками»; все поэтому закуривали или от бумажки, или от уголька, или, в солнечные дни, от зажигательного стекла. Беготни прислуге было много, но происходила она, если так можно выразиться, в порядке, благоустроенно и чинно. Беда, если бы «тетенька» заметила, что какой-нибудь лакей или горничная смеются, перекидываются словами.
Одной стороной дом выходил на обширный двор, содержавшийся в удивительном порядке, посредине которого, в виде беседки со шпицем и вырезанным из железа флюгером-лошадкой, был устроен колодец, а другой стороной дом примыкал к саду, старинному, громадному, с бесконечными, казалось нам, березовыми, липовыми, кленовыми и дубовыми дорожками, с кругами, с куртинами, наполненными яблонями, вишнями, кустами орешника, черной, красной и белой смородины, крыжовника и проч. В саду были устроены просторные акациевые беседки, где вершины деревьев были так связаны, что образовывали купол. Это нам, детям, казалось верхом садового искусства.
— Отчего у нас в саду этого нет? — спрашивали мы гувернантку Анну Карловну.
— Это очень трудно сделать.
Мы и думали, что это очень трудно сделать, и потому дивились.
Сад примыкал к реке, довольно широкой и, как нам говорили, очень глубокой. Вода в ней была чистая, прозрачная, не то что в нашем пруде, и водились в этой реке не одни лишь караси, как в нашем пруде, но и другая всякая рыба: окуни, ерши, лещи и раки. Нянька наша и сопровождавшие иногда нас «ихние» горничные девушки и женщины рассказывали нам даже про сомов, огромных, головатых, которые водились в глубоких омутах этой реки и которые проглатывали не только уток, но хватали за ноги даже детей, когда те купались и неосторожно доплывали до глубоких мест...
За рекой, по той стороне, было видно гумно с ригой, какими-то сараями, овинами, амбарами и таким количеством скирдов хлеба, которого, собранного в одном месте, больше мы не видывали. Это были бесконечно длинные ряды скирдов, начиная от совершенно темного цвета прошлогодних, третьегоднишних, четверогоднишних — чем старше, тем темнее, и до урожая нынешнего года, золотых в сравнении с ними. Когда мы бывали в Знаменском не в начале лета, а в конце, мы видали эту роскошную картину невиданного нами обилия...
— Дедушка богат, — говорила нянька, и все мы дивились, слушая ее, этому видимому его богатству...
По другую же сторону реки, вдали, синел лес, принадлежавший тоже дедушке. В нашей степной стороне леса не было ни у кого — ни у нас, ни у соседей, и потому и лес нас занимал, и мы расспрашивали тоже про него.
— Земляники там что, ягод всяких, орехов, грибов, — рассказывали нам.
Мы однажды, в какую-то поездку нашу, ездили в лес, то есть ездили все и нас взяли с собою, и я помню первое впечатление леса — таинственное и страшное, которое показалось нам еще более таким от поднявшейся вдруг, когда мы там были, бури с грозой и дождем. В вершинах деревьев стоял гул, как голоса какие раздавались там... Мне всю ночь потом снился этот лес, гроза в нем и ливень...
Дедушка с бабушкой (тетенькой) были богаты и мужиками. Кроме того, что мужиков было много у них, они были еще и самые богатые в уезде.
— Таких мужиков, как дукмасовские, где же вы еще встретите? — говорили про них все. — Исправные, богатые, не воры, не разбойники. Григорий Михайлович умел их поставить и держит их в руках...
Я помню, слушая эти разговоры про знаменских мужиков, я думал все: «Как же это он, дедушка, сделал это? Все хозяева, у всех есть мужики, а сделал он один; никто не сумел этого сделать, а он сумел...» Я помню, с каким вдумчивым вниманием, под впечатлением этих рассуждений, я рассматривал каждый раз длинные ряды мужицких изб в Знаменском, пытливо смотрел на лица попадавшихся нам навстречу мужиков...
И, как бы в ответ на мои мысли, матушка иногда, глядя в окно кареты на мужицкие избы в Знаменском, на их дворы и гумна, говорила:
— Анна Карловна, хлеба-то что у мужиков — смотрите-ка, и ведь все старый еще, третьегоднишний.
Я слышал эти разговоры о богатстве знаменских мужиков и дома, когда мы возвращались из Знаменского.
— Григорий Михайлович умный человек, — соглашался отец, слушая эти рассказы, — он понимает это дело...
Я помню рассказ об этих же мужиках, как какой-то Сидор Егоров предлагал дедушке выкуп за себя с семьей восемь тысяч, а Макар Семенов десять тысяч, и дедушка все-таки не взял, не согласился их отпустить на волю.
— Что ж тут такого, и не удивительно, — рассуждали все, соглашаясь, — при его состоянии можно все себе позволять. Другой, бедный человек на его месте, разумеется, взял бы десять тысяч за одну семью большие деньги, а ему что? Богачей он всех выпустит из деревни — она уж не та у него будет. Он из самолюбия этого не делает. Вот, дескать, какие у меня есть мужики.
— Это, то есть, как же выкуп? — спрашивал я при этом, слушая их рассказы-рассуждения.
— Очень просто, — отвечали мне, — мужик внесет деньги, а ему дадут вольную.
— И он уедет тогда?
— Куда угодно, сделай одолжение...
Помню я, когда мы гостили в Знаменском, поездки по праздникам в церковь к обедне и при этом мужиков Знаменских и баб, одетых по-праздничному. Мы подъезжаем, а большая каменная знаменская церковь уж полна народом; народ стоит на паперти, вокруг церкви, ограды, перед отворенными настежь церковными дверями. И вся эта масса, одетая по-праздничному, молящегося народа кланяется нам, а дедушка с бабушкой, мы и другие родственники и гости, приехавшие с нами, проходим в церковь, и нам все там тоже кланяются, дают дорогу, теснятся.
— Вот этот, — слышу я позади себя или возле кто-нибудь говорит, когда мы займем свои места и станем, чтобы помолиться, — вот этот вот, вон с седой бородой мужик, видите, это самый первый богач... Десять тысяч за себя это он Григорию Михайловичу выкупу давал, — он и двадцать может дать...
И действительно, они, знаменские мужики, поражали непривычный взгляд видом своего довольства. Едут — лошади у них так и блестят, шерсть лоснистая, медные бляхи у шлей горят на солнце, а сами жирные лошади едва бегут, да и то как-то лениво, сонно, точно они пообедали сейчас, хотят спать, а их запрягли.
Но я помню также, что эти все рассматриванья Знаменских мужиков со стороны их довольства и богатства, все рассуждения об этом их довольстве и богатстве на меня, ребенка еще, все-таки производили какое-то странное впечатление; мне невольно приходило в голову сравнение с таким же рассматриванием коров в стаде, когда их прогоняли мимо нас домой с поля и рассуждали об относительной сытости их, о количестве даваемого ими удоя... Было что-то странное, эгоистическое, материальное, безучастное в этих рассуждениях, и это детской, чуткой душой сейчас чувствовалось, слышалось. О людях не говорят так теперь. О них так можно было говорить только тогда — тогда, когда они были собственностью. Там, что бы мне ни говорили о том времени, но теперь так не говорят о людях, потому что теперь их так нельзя рассматривать...
В таком же блестящем виде представлялись и дворовые в Знаменском, которые жили отдельно от мужиков, целыми поселками, сейчас за усадьбою господской, на берегу пруда, У них у всех были собственные избы, свой скот, коровы, свиньи, овцы, у некоторых даже лошади. Я помню завистливые взгляды и такие же завистливые разговоры и рассуждения родственников и соседей и по поводу их.
Да, у иного помещика и мужики так не живут, как дворовые здесь. Какие же это дворовые? У них у каждого есть все свое.
Я помню завистливый испуг даже одной нашей родственницы, которая раньше не бывала в Знаменском и, приехав, увидала или узнала от кого, что коровы, овцы и свиньи дворовых ходят и пасутся отдельным стадом от крестьянского. Она никак все не могла свыкнуться с мыслью о таком благополучии этих дворовых и все расспрашивала:
— А где же это стадо ходит? Почему же отдельно от крестьянского?
— Потому что крестьянское стадо ходит по крестьянской земле, — отвечали ей, — а это по господской. У дворовых же ведь нет земли...
Но тут, к вящему ужасу ее, оказалось, что у дворовых есть и земля: им дано было по нескольку, по осьминнику[5] на семью, что-то вроде этого, для посевов конопли, картофеля, капусты, овощей и проч. Бедная родственница после этого замолчала даже, только поднимала плечи и все улыбалась. Но что это была за улыбка! В ней все было, даже чувство жалости к «дяденьке» — дедушка ей приходился дядей, — что его так обирают и грабят дворовые.
Дворня в Знаменском была многочисленная, я не знаю, не помню теперь, сколько было всех дворовых, но что-то очень много. Целые флигеля отдельно были заняты коверщицами, которые ткали попоны для лошадей, ковры; были потом флигеля, в которых работали кружевницы, вышивальщицы по батисту и тонкому полотну, которые вышивали не только воротнички и рукавчики, но целые пеньюары и платья. Ниже об этом будет сказано подробнее... Наконец, было множество женщин: жен кучеров, конюхов, поваров, садовников, ткачей, лакеев, которые были при девичьей, в доме, при флигелях для приезжих родственников и гостей, ходили в ключах, то есть при кладовых, леднике, подвале, выходе, ходили за птицей: за гусями, утками, курами, индейками; коровницы, скотницы, которые ходили доить коров, поить телят, сбивали масло, и проч., и проч.
Но больше всего бросалось в глаза и дразнило зависть — внешний вид дворни, особенно конюхов и кучеров: все в красных рубашках, в синих, тонкого сукна, чуйках[6], в поддевках и полушубках зимой.
— Выводит, каналья, лошадь — она блестит, и рожа у него у самого с жиру блестит, — говорили, я помню, про конюхов.
— А кучер-то! Ведь он, ракалья, кроме тройки знать ничего не хочет. Какая у него забота — никакой! О чем ему думать?
И действительно, в Знаменском и тщательно вычищенные и отлично кормленные лошади блестели, и блестели также и те, кто ходил за ними и правил ими, тоже отлично одетые и хорошо кормленные...
Все в Знаменском носило на себе печать прочности и прочной, обеспеченной сытости. Это не было случайностью, это было дело целого строя, порядка, который достиг в Знаменском своей высшей степени, которой он когда-нибудь и где-нибудь достигал и мог достигнуть.
— Да, — говорили все, — у Дукмасовых такое житье людям, какого уж, кажется, нигде нет. Как в раю живут...
И по-тогдашнему это был рай...
III
Владельцы этого «рая», дедушка Григорий Михайлович и бабушка Варвара Николаевна, были люди замечательные.
Дедушка был высок ростом, худощав, сухого сложения; коротко, под гребенку, острижен; сед, с красным лицом, на котором торчал маленький, сухенький носик; все лицо бритое и оттого жесткое — я такого жесткого лица не знал другого. Когда он нас целовал, то подставлял свою щеку, и я помню, какая она была сухая, черствая, с жесткими морщинами. Но самое замечательное в нем были его глаза — совсем светло-светло-серые, притом мутные и какие-то точно остановившиеся, застывшие: он ими почти не моргал. Это, впрочем, может быть, было от того, что он, как говорили, «страдал глазами»: в молодости он много кутил, по рассказам, и это оттого. Дедушка почти постоянно носил большой шелковый зеленый зонт над глазами, который он в редких случаях, и то на самое короткое время, снимал. От этого зонта вид у него был даже какой-то страшный, и когда мы были совсем еще маленькие, мы прямо боялись его.
— Какой-то он страшный, — говорили мы. — Мама, он сердитый?
— Вздор какой! Дедушка-то? Вы не вздумайте еще это в Знаменском рассказывать...
Говорил он мало, и то отрывочно, замечаниями по поводу того, что ему рассказывали, или того, что он слышал, что при нем говорили. Скажет, бывало, свое мнение или замечание в двух-трех словах, и опять замолчит, и неизвестно, — не видать его глаз под зонтом, — что: спит, дремлет или слушает? От этого рассказчик, особенно с непривычки, не зная, слушает ли его дедушка, время от времени останавливается, поглядывая на других, как бы спрашивая их: «Продолжать мне, или он заснул?» Присутствующие тогда кивали ему успокоительно головой, дескать, продолжайте — это у него привычка такая, или сам дедушка, пожевав сухими, узкими губами, говорил: «Ну-с… я слушаю...» Рассказчик продолжал, ставил в разговоре вопросы, делал даже почти прямо обращение к дедушке — он все молчал. Наконец тот опять начинал останавливаться, оглядываться, и дедушка тогда, пожевав, опять повторял: «Ну-с… я слушаю...»
Иногда для чего-то мы сидели тут же и слушали, слушали без конца эти скучнейшие, длиннейшие разговоры и не знали, когда это нас отпустят побегать в сад или играть в другие комнаты. Но матушка нас удерживала, показывала глазами, пожимала плечами, дескать, «нельзя, сидите — что это за глупости...» Я очень часто, особенно когда был поменьше, начинал наконец клевать носом, а сестра Соня — так та прямо прислонялась к спинке дивана или кресла и засыпала, пока матушка или кто-нибудь из родственников не заметят этого и не разбудят ее. Тогда уж, во избежание скандала дальше и чтобы также не заметил этого дедушка, матушка тихонько, на цыпочках, чтобы не помешать разговору, вставала, подзывала нас пальцем к себе и уводила. Дорогой она, разумеется, делала нам наставления, как это нехорошо мы делаем, что это невежливо, что дедушка, если увидит, может обидеться и что поэтому другой раз она нас с собою в Знаменское не возьмет.
Но мы были рады, что нас наконец отпускали и мы опять можем и бегать и играть. Ее угрозы, что она нас с собою сюда другой раз не возьмет, мы не боялись, понимая, что это она так только говорит.
Дедушка всегда почти держал в левой руке короткий, не длиннее аршина[7], черешневый чубук с глиняной на конце трубкой, которую раскуривал иногда до того, что табак горел в ней, как уголь, красным огнем и искры так и падали из нее. Тогда он большим пальцем правой руки прижимал огонь. От этого у него палец этот был в нижней своей части всегда темно-коричневый, обожженный. Дедушка, как и все тогда, курил жуков табак[8], в синих четвертках, и весь пропах им. Я как сейчас помню этот слащавый, «медовый», как называли тогда, запах, и он по-своему был хорош.
Только перед обедом и потом по вечерам дедушка приходил в гостиную и вот так сидел и слушал разговор, а то все время, если был дома, сидел у себя в кабинете, где что-то считал и разбирал какие-то бумаги. Туда к нему приходили и, остановившись у притолки дверей, говорили с ним: приказчик, бурмистр, конюший и проч. С ними дедушка говорил точно такими же отрывочными замечаниями и никогда не возвышая голоса. Так же почтительно и у этой же притолки стояли и купцы, приезжавшие к нему покупать рожь, овес, пшеницу, лошадей. У него был очень хороший конский завод, славившийся в свое время.
Дедушка никогда ничего не читал. В доме, кажется, не было совсем книг. В кабинете у него на желтом, карельской березы, письменном столе лежали только лет за двадцать, один на другом, календари да какая-то большая толстая книга, содержание и заглавие которой я не знаю; только не библия и не евангелие. По стенам висели мушкетоны[9], ружья с кремнями, турецкие пистолеты, кривые, почти дугой, ятаганы, черкесские шашки и целая коллекция старинных, прадедовских, времен Елисаветы и Екатерины, шпаг и сабель — огромные, с раздвинутыми, как рога оленя, рукоятками и совершенно заржавевшими лезвиями. Между ними висел в рамке новенький, чистый, не закоптелый литографированный портрет князя Орлова-Чесменского[10] на беговых дрожках, в халате, со звездой и в собольей шапке, проезжающего шагом своего знаменитого Барса, родоначальника всех рысаков. Этот портрет тогда у всех был заводчиков лошадиных, а у кого тогда в нашей стороне не было заводов конских?..
Дедушка вставал всегда рано, и зимой и летом в четыре часа, и в халате, с трубкой выходил в зал, где к этому времени на развернутом ломберном столе[11], покрытом белой скатертью, поставленном посередине комнаты, был приготовлен чай, кипел самовар, на блюдечке лежали ломтики лимона, и степенного вида женщина Евпраксеюшка, доверенная и приближенная в доме, стояла возле стола, готовая наливать в стакан дедушке чай. Он показывался в дверях, и она снимала салфеточку с чайника — на самовар его никогда не ставили — и наливала. Дедушка подходил к столу, отхлебывал глоток-другой и начинал ходить взад и вперед по белому, чистому холщовому половику, разостланному вдоль всех парадных комнат. В это же время являлась с метелочками и гусиными крыльями горничная и начинала подметать полы и стирать пыль. Дедушка ходил так по комнатам долго, с час. Она не мешала ему.
Однажды как-то, еще накануне испросив позволение на другой день как можно раньше встать и отправиться с нашим человеком Никифором удить рыбу на реку, я, совеем уж одетый, готовый, вышел в парадные комнаты и наткнулся на странную тогда для меня сцену. Дедушка, этот суровый человек, стоял в гостиной и держал за подбородок молоденькую какую-то горничную. Потом дедушка потрепал ее по щеке и хотел было взять ее за талию, как вдруг в это время заметили — он или она — меня, и все сразу переменилось: дедушка пошел, медленно зашагав, шлепая туфлями, а молоденькая горничная принялась крылышком подметать пол...
Но дедушка, должно быть что-то подумав, захотел отвести мне глаза, схитрить. Возвращаясь из зала опять, он сделал вид, что только сейчас меня увидал, и, даже ласковее обыкновенного, нагнулся ко мне, подставил свою щеку и высказал удивление, куда это я так рано встал и собрался.
— Ну, выпей хоть стакан чаю-то со мною, — проговорил он.
Я повиновался, и Евпраксеюшка налила и мне.
Но ни слова больше — как будто ничего не было и я ничего не видал. Я никому не сказал об этом в то время, боясь, как бы не перестали мне дозволять рано вставать и ходить удить рыбу...
Впоследствии уже я узнал, что случай, виденный мною, не был исключительным и дедушка, когда захочет, бывал и веселый и ласковый и умел шутить...
Бабушка («тетенька») Варвара Николаевна, напротив, была от природы нрава необыкновенно вспыльчивого, горячего и необыкновенно подвижная. Лицом же, сложением и вообще всем корпусом она походила на императрицу Анну Иоанновну на полтинниках и рублевиках. Такая же полнота в груди, в плечах и такой же, как бы отуманенный сладкой задумчивостью, взор. Росту она была среднего, блондинка, с переходом в рыжую, глаза голубые с поволокой, выражение которых часто менялось, смотря по тому, что она говорила. Если она, например, описывала чью-нибудь красоту, то, для наглядности, придавала своим глазам упомянутое выше выражение сладкой, приятной задумчивости и слегка как-то трепетала при этом ресницами. Если, напротив, рассказывала о чьем-нибудь коварстве, как кто-нибудь хотел ее надуть, обмануть или выведать чрез нее что-нибудь, она глаза щурила и одним из них, ближайшим к слушателю, подмигивала, дескать: «ах, уж оставьте, нас тоже не проведешь...» Когда же бабушка была чем-нибудь огорчена, слушала что-нибудь неприятное, узнавала нехорошее известие, она складывала губы, как-то стягивая их в пучочек; выражение же лица было совсем убитое, в это время она также часто вздыхала. Но особенная она совсем была, когда, так сказать, развертывалась. Много гостей — она довольна, в духе, видит, что все хорошо, в порядке, все удивляются ее хозяйству, обилию всего у нее, — тогда, кроме глаз с поволокой и трепетания ресниц, она еще и произносила некоторые слова в нос, «по-французски». Это было уже верх блаженства, и здесь она иногда проговаривалась, а злые языки потом пускали в ход ее обмолвки, которые и облетали весь уезд и проникали даже далее, за пределы его, достигая всех ее родственников и знакомых.
Вообще, надо правду сказать, воспитания она большого не получила. Оно было у нее домашнее, того времени, и притом мелкопоместной среды. Бабушка была взята дедушкой за красоту, совсем без приданого, из бедного рода дворян Мутовкиных, живших в своем маленьком именьице, недалеко от Знаменского. Дедушка увидал как-то однажды ее в церкви, во время обедни, был поражен ее красотою и, никому не сказав об этом ни слова, поехал к бедным Мутовкиным, никак не ожидавшим к себе визита богатого и гордого (дедушка был очень горд) соседа, и сделал тут же или на другой день предложение. Через месяц была их свадьба... Бабушка очень любила рассказывать об этом, причем глаза ее покрывались поволокой.
— Григорий Михайлович тогда ведь очень красив был, — рассказывала она, — глаза эти... (При этом слушатели закусывали губы, делали серьезные и внимательные лица, чтобы не улыбнуться.) Тогда глаза эти, — продолжала бабушка, — были у него еще навыкате, строгие этакие, и я первое время его боялась...
Бабушка начинала иногда об этом рассказывать и при дедушке; тогда он откашливался слегка, и если она уж очень при этом расходилась, то и останавливал ее. Бабушка вздыхала и замолкала, и это портило потом всегда ее расположение духа...
Как я уже сказал, бабушка была проникнута необыкновенным уважением к происхождению дедушки и считала род Дукмасовых, кажется, самым аристократическим у нас родом. Уже принадлежав в течение тридцати с лишком лет к нему, через свое замужество с дедушкой, она все не могла утратить этого уважения своего. Вступив в род, со временем это чувство уважения в ней обратилось, кажется, в личное самолюбие, как принадлежащей теперь к этому роду. Никто так не был чувствителен к малейшим и самым отдаленнейшим намекам на какой-нибудь неблаговидный случай в дукмасовском прошедшем, как она. Сейчас же она начинала защищать, хотя и делала это не всегда удачно, и бывали случаи, что было бы гораздо лучше, если бы она промолчала и показала вид, что это ей все равно...
Говоря строго, бабушка не была авторитетом и дома, и если все справедливо удивлялись ее хозяйству, порядку, заведенному ею, ее удивительным коверщицам, кружевницам и вышивальщицам, то самое ее, взятую как личность, высоко никто не ценил, чему много способствовали вот те ее «обмолвки», о которых было говорено выше. За глаза о ней без улыбки почти никто не говорил.
И помимо даже того, что будет рассказано дальше, я не думаю, чтобы она была с добрым сердцем; мне кажется, она, кроме своей недалекости, была еще и холодная, бессердечная женщина. Преобладающей чертой у ней, во всяком случае, было бахвальство, самолюбивое, честолюбивое. Похваляя ее, удивляясь ее хозяйству, восторгаясь им, льстя, одним словом, ей, можно было у ней многого добиться. По крайней мере, многие с успехом достигали таким образом своих целей: бабушка расщедривалась и отдавала или делала льстецу то, чего бы она иначе не сделала и не отдала.
Детей у бабушки с дедушкой было немного — всего двое: дочь Поленька, Пелагея Григорьевна, воспитывавшаяся где-то в Москве в институте, откуда ее привозили на лето, «воздушная», необыкновенно наивная девушка, похожая в одно время и на мать и на отца. Она с нами обращалась как с детьми, покровительственно, а вообще нас не любила. Почему-то нам было запрещено называть ее «тетенькой», кажется потому, что это название старит девушку, а ей было еще всего восемнадцать лет. Нам было велено, и мы звали ее Поленькой.
А затем был сын Коля, Николай Григорьевич. Этот воспитывался в Петербурге, в лицее, и также приезжал к родителям на лето. Но я хорошо помню его уже чиновником. Он служил где-то каким-то секретарем, и я, услыхав первый раз этот его чин или звание, все думал, я помню, какие же это секреты он знает? И ждал от него, не станет ли он нам показывать эти свои секреты-фокусы?.. Уже впоследствии я понял, какая злая ирония на чиновников заключается в этом слове...
Этого мы звали дядей — нам было позволено, и это ему самому, кажется, нравилось. «Дядя Коля» был болезненного вида, с старчески изношенным лицом, молодой человек. Он постоянно чем-то страдал и принимал какие-то лекарства; был необыкновенно вежлив и почтителен с матерью и отцом; почтительно целовал у них после обеда, ужина и чая руки, а равно когда здоровался утром и прощался вечером. Нам это видеть в таком большом сыне было особенно еще странно потому, что мы отроду не целовали руки у отца: он не позволял этого и вообще никому не давал целовать руки.
«Дядя Коля» был, кроме того, еще камер-юнкером и в деревню, куда он приезжал в отпуск, привозил с собою мундир камер-юнкерский. Бабушка с дедушкой иногда, когда собиралось много гостей, приказывали ему надевать его, и он выходил в гостиную в чулках, башмаках и в расшитом золотом мундире. Все на него смотрели, он ходил так с полчаса, потом его отправляли переодеться.
— Теперь вот только ключ ему[12], — когда он уходил, говорил дедушка, — и совсем он будет на ногах.
Я слышал это несколько раз уже, почти даже всякий раз, как заставляли его переодеваться в камер-юнкерский мундир, и однажды спросил матушку: про какой такой ключ все говорит дедушка?
— А это который дядя Коля должен получить.
— Какой же он?
— Золотой.
— На что же он?
— Чтобы носить.
— Где? — спросил я.
— Вот где.
И матушка, шутя, дала мне шлепка, от которого я, засмеявшись, весело подпрыгнул... Но я тогда все-таки не понял ничего; зато теперь каждый раз, когда я вижу такой ключ, я вспоминаю и дядю Колю и этот тогда разговор...
Но бабушка, однако ж, как ни странно это было, не любила его: она гораздо больше любила дочь, Поленьку. И причина этого была, кажется, единственно в том, что «дядя Коля» был весь, лицом и фигурой, в ее, мутовкинскую, а не дукмасовскую родню; до того, как я сказал, она была проникнута уважением к дукмасовскому роду... «
И казалось даже, чем больше он ухаживал за ней, тем он противнее ей становился, и ее это начинало иногда даже прямо раздражать.
А за глаза, конечно только при близких, она даже это неприятное чувство к нему высказывала.
— Не лежит, мой друг, — говорила она матушке, — сердце у меня к нему.
— Э, тетенька, полноте, что вы говорите, — возражала ей матушка.
— Нет, не говори, мой друг... Не лежит... Ну, не лежит... не лежит...
Однажды при мне во время такого разговора с матушкой она назвала сына, «дядю Колю», «гнилым».
— И весь он гнилой, — сказала она.
Я не понимал тогда этого слова и с удивлением посмотрел на нее, а потом на матушку.
— Ну, ступай, иди к Анне Карловне, играй с сестрой, — сказала тогда мне матушка, вероятно из опасения, как бы я, по обыкновению своему, не стал ее расспрашивать, что такое означает это слово «гнилой»...
Уже потом, гораздо позже, когда «дядя Коля» был и обер-секретарем и имел ключ, а я жил в Петербурге, студентом университета, и часто видался с больным дядей, вечно лечившимся, я понял роковой смысл этого ее слова...
Вот из этих четырех лиц — дедушки, бабушки, их сына и дочери — состояло все семейство владельцев Знаменского «рая».
IV
Несмотря, однако, на все то, что я сказал, — да я тогда не понимал и половины всего того, что видел, — нам, детям, поездка к бабушке и дедушке, в этот их «рай», в Знаменское, представлялась всякий раз крайне интересным, любопытным, заманчивым и желанным. Что, собственно, нам нравилось там, я теперь с точностью определить не могу. Нравилось, вероятнее всего, простор, ширина размаха во всем, обилие и относительная свобода от надзора за нами Анны Карловны. В Знаменском она как-то стушевывалась, — бабушка не любила ее и назвала ее, как вообще гувернанток, «наемницею» — и мы очень часто были вверяемы там многочисленным степенным, надежным и достойным доверии приближенным Евнраксеюшкам, Авдотьюшкам, Аксиньюшкам и проч., с которыми, вместе с нянькой нашей Устиньей Ивановной, мы и совершали прогулки по саду, проводя в этом целые дни, слушали рассказы этих женщин про бабушкино и дедушкино богатство, про обилие всего в Знаменском и иногда слушали случайно и разговоры их с нашей нянькой и между собой, часто совсем другого характера, но, тем не менее, очень иногда любопытные и оставлявшие по себе на нас сильное впечатление... Анна Карловна, зная нелюбовь к себе бабушки, устранялась, уединялась, стушевывалась, как я говорю, и от этого мы жили другой жизнью, а кто же более детей любит разнообразие?
Во время этих бесед знаменских Авдотьюшек и Аксиньюшек с нашей нянькой, а также и из разговоров и споров одной с другими мы узнавали, говорю я, иногда преинтересные вещи, которых у нас не было дома и которых существования мы поэтому и не подозревали даже.
Услышим мы, бывало, что-нибудь подобное и начинаем спрашивать об этом их или нашу няньку, и они тогда только догадаются, что им об этом, быть может, да и наверно даже, не следовало при нас говорить. Но они так любили «отводить душу» в разговорах, что попадали таким образом впросак то и дело. Проговорятся, спохватятся, но уже поздно, и они и наша нянька нам говорят:
— А вы об этом смотрите бабушке и дедушке или маменьке не проговоритесь.
— Да, — подтверждает и наша нянька, — а то за это достанется нам.
Но я, при всей своей живости, был в этом отношении выдрессирован — никогда не проговаривался, а сестра Соня, вообще молчаливая, и подавно.
Но однажды, в один из таких вот наших приездов в Знаменское, мы с сестрой услыхали сперва, а потом увидали нечто такое, что на нас произвело до того сильное впечатление, что мы долго и после всё задумывались и толковали об этом.
Помню, в этот раз приезд наш был особенно богат новыми и неожиданными сильными впечатлениями.
Приехали мы в Знаменское, по обыкновению, прямо к обеду, то есть часа в три. В доме мы нашли какую-то странную и подозрительную тишину, как бывает это, когда кто-нибудь болен в доме, господа в ссоре и проч, в этом роде...
Это было тем более странно, что мы ожидали встретить совсем обратное: Поленька была просватана за местного помещика, их ближайшего соседа, тоже человека очень богатого, и готовились к свадьбе, которая скоро должна была быть, чуть ли даже не в пребывание наше в Знаменском.
Матушка даже спросила кого-то из лакеев, принимавших наши пальто в передней:
— Что, у вас всё благополучно?
— Всё, слава богу-с.
— Здоровы, все?
— Слава богу-с.
— Все в доме?
— В доме-с.
Странным было уже то, что никто — ни дедушка, ни бабушка, ни Поленька, как бывало обыкновенно, не встречали нас в передней еще и даже никто не выглядывал из дверей зала. Мы вошли среди этой странной тишины. Наконец показался дедушка в своем зеленом зонте над глазами и с трубкой в левой руке. Матушка расцеловалась с ним, потом он нам поочередно подставлял свою щеку, и мы ощутили всю ее черствость и жесткость вместе с запахом табаку, который был присущ дедушке и без которого мы не могли даже вообразить его себе.
— А тетенька? — спросила его матушка.
Дедушка пожевал губами, слегка поднял плечо и проговорил не то с грустью, не то с иронией:
— Там... у себя...
— А Поленька?
— Там же, — тем же голосом ответил дедушка.
Матушка поняла, что что-нибудь, должно быть, произошло, случилось, и не стала его дальше расспрашивать и осведомилась об его лишь здоровье.
— Какое уж мое здоровье! — загадочно проговорил дедушка. — Это ведь только Варваре Николаевне, тетеньке твоей, в голову приходит... — и, не договорив фразы, сказал: — Уйми ты ее, урезонь хоть ты ее...
Не было никакого сомнения в том, что у них что-то произошло и дедушка тут теперь страдательное лицо, без вины виноват. Он даже был как-то сконфужен, чувствовал себя неловко, видимо был в состоянии, непривычном для него; не видели никогда и мы его таким.
— Ну, Анна Карловна, идите с ними... в комнату, которую вам там покажут, — сказала матушка.
Мы пошли, а она еще осталась с дедушкой. Дорогой навстречу нам попалась Поленька, спешившая навстречу к матушке, и нам показалось, когда она расцеловалась с нами, что глаза у нее как будто слегка заплаканы.
Мы переоделись с дороги, умылись и, совсем уже готовые, все еще оставались в своей комнате, не зная, идти ли нам и вообще что нам делать. Даже Анна Карловна, эта опытная, знающая все, как и в каком случае ей вести себя, и она была, видимо, в недоумении, что ей делать? Я было спросил подававшую нам умываться горничную, что такое с бабушкой, но и та ответила, что ничего-с, а Анна Карловна заметила мне по-немецки, что никогда не следует прислугу расспрашивать...
Наконец к нам пришла матушка; о чем-то у окна полушепотом она поговорила с Анной Карловной, причем мы могли заметить только, что немало и матушка удивлена и чувствует себя в неловком положении: она несколько раз поводила плечами, с удивлением поднимая их, и вздыхала. Тем не менее, однако ж, она осмотрела нас, в порядке ли мы, и повела нас с собою к бабушке.
Бабушку мы застали в спальне. Она, совсем одетая, лежала у себя, на огромной своей кровати красного дерева с высоким изголовьем, на котором были изображены амуры, стрелы и проч., и была видимо подавлена, убита каким-то горем. Глаза у нее тоже были заплаканы. Возле нее у кровати стояли Авдотьюшка и Аксиньюшка, ее любимые доверенные женщины, с унылыми, постными лицами и держали — одна мокрую повязку для головы, очевидно приготовленную для убитой горем или больной бабушки или ею только что снятую; а другая — чайную чашку с чем-то лекарственным. Шторы на окнах были спущены. В комнате пахло мятными каплями и еще другими какими-то. Тут же, у изголовья, в кресле сидела и Поленька. Мы подошли к бабушке, поцеловали у нее руку, потом поцеловались с ней в губы. Она казалась совсем слабой, и голосом говорила она слабым, то и дело вздыхая, причем во вздохе ее слышалось подавленное рыдание. Видимо, она только что начала успокаиваться.
— Вот бабушка-то ваша какая... — начала она и опять чуть было не расплакалась, — дожила до чего...
Но и Поленька и матушка поспешили сейчас же ее успокоить.
Бабушка проговорила еще несколько фраз, сделала какое-то замечание вроде того, как мы за год выросли и проч., и когда запасы ее внимания к нам и ласковых слов иссякли, матушка сказала нам, чтобы мы пошли гулять с Анной Карловной в сад пока, до обеда, и чтобы далеко не уходили.
Обедать бабушка в зал не вышла, и мы в этот день обедали только с дедушкой и с Поленькой. Матушка, желая внести все-таки сколько-нибудь более веселого настроения и отвлечь и дедушку от его дум, усиленно старалась рассказывать про то, как мы ехали, какая жара в поле и т. п. Но, при всем старании ее, из этого все-таки ничего не выходило. Дедушка сидел молчаливый, время от времени вздыхал, а Поленька хоть и улыбалась сочувственно матушке, но это она делала только для виду, а ее эти рассказы нисколько не интересовали, как и никого они не могли интересовать. Вообще настроение было самое натянутое, и обед прошел до крайности скучно.
Мы так рады были, когда наконец все встали из-за стола и, поблагодарив за обед дедушку, который отправился к себе в кабинет, по обыкновению, отдохнуть после обеда, — вышли через гостиную на большой балкон, выходивший в сад.
Но мы все-таки еще не понимали, в чем тут дело, что такое случилось, почему совершенно, по-видимому, здоровая бабушка лежит у себя в спальне на кровати с заплаканными глазами, окруженная приближенными и достойными женщинами с лекарственными пузырьками, а дедушка ходит сконфуженный, совсем потерянный и просит матушку: «образумь хоть ты ее», — очевидно, бабушку.
Я никак не мог даже догадаться, несмотря на всю мою наблюдательность и, можно сказать, опытность в понимании по намекам, по полусловам, по сметке, одним словом; дети точно так же быстро развивались и тогда, но вот только в другом направлении...
И весь этот день и вечер я никак не мог узнать настоящей, действительной причины. Спрашивать об этом Анну Карловну, с которой мы ходили после обеда гулять, было совершенно бесполезно, она все равно бы не сказала, да она и сама знала разве только, в чем дело, а самых подробностей, всей сути-то не могла еще знать: ни с матушкой, ни с нянькой она не имела еще случая один на один говорить.
Так нас и уложили в этот вечер спать в совершенном неведении всего, что тут происходило в доме.
Но на другой день мы с сестрой узнали все...
Как я уже сказал выше, по причине нелюбви бабушки к гувернантке нашей Анне Карловне эта последняя не только стушевывалась в Знаменском, но как-то даже уединялась под разными какими-нибудь предлогами, когда мы приезжали в этот «рай». Нас поэтому гулять в сад отпускали всегда с нянькой нашей и вот с этими степенными и приближенными Знаменскими женщинами. Так было и на этот раз: Анна Карловна наутро оказалась больной: у ней разболелись зубы, она подвязала себе щеку, и мы пошли гулять в сад с нянькой нашей в сопровождении «Анфисушек», «Авдотьюшек» и т. п. Мы с сестрой начали бегать, собирать палочки, цветы, наши надзирательницы затянули свою песню — бесконечные разговоры о новостях. Я навострил уши; побегал несколько и начал отставать, держаться ближе к ним. Наконец мы, погулявши несколько, добрались до беседки и там все уселись. Я скоблил какую-то палочку перочинным ножом, сестра делала букетики из набранных цветов; нянька с приближенными женщинами говорила.
— Не догадывалась... не догадывалась, милая моя, — говорила нашей няньке одна из женщин, — до вчерашнего дня, до самого вчерашнего дня не догадывалась... А вчера вот и налетела... И случилась беда нежданно-негаданно совсем. И никогда она раньше шести-семи часов не вставала, а тут вот ей как кто сказал словно, встала, сама, никому не говоря ни слова, накинула пеньюар, ножки в туфельки, вышла, глядит, а они в гостиной... барин-то Верку-девку обнял, да так (женщина показала, как) взял ее за подбородок, по щечке и ласкает... Барыня постояла-постояла в дверях, силы-моченьки-то у ней не хватило, она вдруг вскрикнула слабым, странным голосом да шлеп об земь, в дурноте: припадок с ней сделался...
«Гм!.. вот что, — подумал я, — да я же это давно, еще в прошлом году видел...»
А женщина продолжала:
— Ну, сейчас народ сбежался: Евпраксеюшка из зала, где барину чай наливала, Стешка, горничная барынина, Лушка-девчонка... Барин-то хочет к барыне подойти, взять ее за руку, а она этак (женщина показала, как) ручкой-то от него... показывает, дескать, не подходи ко мне, не прикасайся, потому одним глазком-то видит она, один глазок-то закрыт у ней, а другой только этак вполовину — она и видит все... «Несите, говорит, меня в спальню, спирту мне подайте». Принесли мы ее в спальню, положили на кровать, понюхала она это спирту и говорит: «А подлая эта где, разлучница-то моя, злодейка? Подайте мне ее...» Кинулись мы за Веркой, а ее и след простыл, и где она — никто но знает. Ну, первое дело, думаем, давиться на чердак кинулась — мы туда — нет, осмотрели со свечой весь чердак — нет. Куда, думаем? На реку топиться пошла? Туда мы за ней. А она уж стоит на самом берегу и того гляди вот-вот в воду сейчас бросится. А на этом месте вода глубоченная, омут тут возле, бросится — как ключ ко дну пойдет. Ей и боязно, видно, стало, девка-то она этакая смирная да робкая, ну и не решается, стоит, а не решается все... «Что ты, мол, дура! — как закричим мы на нее. — Души тебе своей не жаль[13], страшного суда божьего не боишься?» Подошли мы к ней, а она вся вот как (женщина показала, как) трясьмя-трясется, как в, лихорадке... и глаза такие у ней стали — смотрит на нас, а как бы словно ничего не видит ими... Ну, взяли мы ее, повели... приводим. «Ты, говорим, как к барыне войдешь — в ножки сейчас ей...» Барыня как увидала ее, опять сейчас в дурноту... Только полежала этак немного, видит одним глазком — Верка стоит у кровати перед ней на коленях, приподнялась она немножко, да ее этак... этак... наотмашь (женщина показала опять, как) ручкой два раза по щеке: «Барыней захотела быть?.. Да?.. Подайте сейчас сюда ножницы, косу ей отрезать, полголовы ей остричь...» Принесли сейчас ножницы — косу прочь. «Стригите голову ей!» Стригут ей голову, а барыня-то сдержать не могут, значит, гнева, нет-нет да и ручкой ее опять этак... этак... «Сослать ее, говорит, сегодня же в дальний хутор, выдать ее там за самого последнего что ни на есть пастуха-дурака-старика, за свиньями чтобы там ходила». Нарядили сейчас же подводу, посадили ее, и собраться не дали — марш в Семеновскую пустошь, на хутор...
«А дедушка-To что ж?» — хотел было я воскликнуть, но как-то удержался. Нянька предупредила, точно догадавшись, и спросила:
— Ну, а барин?
— Ничего... Ни слова... И виду не показал... Услыхал — Верка плачет, голосит, воет, спросил только: «Что, какое наказание барыня ей положила?» — и ничего больше... А тут уж вот и вы приехали, — заключила рассказчица...
— Это какая же Верка-девка? — спросила наша нянька. — Дашки-вышивальщицы слепой сестра?
— Та самая. Она... Он ей, барин-то, с прошлого года ни покоя, ни прохода не давал. Утром придет она комнаты убирать, барин ходит, моцион делает, а я наливаю чай, хоть и не вижу там, что у них, а все понимаю, слышу... догадываюсь... А как сказать-то барыне об этом?
— Да, как можно, — согласилась нянька.
— В том-то и дело... Выйдет такая история, что тут потом? Всякому ведь, матушка, тоже себя жаль, всякий за себя опасается...
Они поговорили еще сколько-то; разговор на эту тему, видимо, у них иссякал. Вдруг нянька спросила:
— Ну, а что, в нонешнем-то году слепеньких у вас прибавилось?
— Три, — ответила ей женщина. — Две-то совсем ослепли, а одна-то видит еще, только вечером, при свечах, уж не может работать. Барыня ее так-то уж жалеет, так-то уж жалеет... Первая вышивательница была.
— Даша? — спросила нянька.
— Даша, Верки этой самой сестра. И, заметьте вы, способность какая у обеих сестер: Дашка была первая в свое время вышивательница, и эта также.
— Даша-то ведь уж ничего не видит? — опять спросила нянька.
— Нет, вот как месяц не поработала, отдохнули глаза, стала видеть немножко; «только вижу я, говорит, все как бы через сетку какую, или так, как бы через реденькую кисею... или через ситечко...»
— Всех-то их теперь сколько, слепеньких-то? — проговорила нянька.
— Всех-то? Да всех теперь... семь всех, — ответила ей женщина, — Дашка, Катюшка, Аксютка... — начала она перечислять.
В это время разговор их прервали; кто-то пришел за нами из дома звать нас к завтраку, они замолчали; мы все вместе и пошли.
— Ну, я теперь узнал все, я знаю, в чем дело теперь, — сказал я сестре, идя с ней на несколько шагов впереди.
— В чем?
— Бабушка поймала дедушку, увидала, как он Верку-девку какую-то обнимал и целовал.
Сестра подняла на меня глаза и смотрела.
— Только, я не знаю, я это все в прошлом году еще сам своими глазами видел, — сказал я.
— Ты?! — проговорила сестра.
— Да, я... Я встал рано, чтоб отправиться удить, вышел в гостиную и вижу: дедушка стоит, одной рукой зонт свой поправляет, а другой горничную за подбородок держит и ласкает ее.
Сестра сомнительно покачала головой, дескать, не верится что-то, не похоже это на него, не может быть...
Тогда я ей рассказал со всеми подробностями, как это я видел в то время, и потом передал ей разговор няньки с женщинами, их рассказ о том, как это было теперь, как бабушка его поймала, и проч., и проч.
Сестра слушала все это, по обыкновению, молча, только изредка взглядывала на меня в самых патетических местах.
— За что же ее? Ведь дедушка виноват, — наконец проговорила она.
— Да, но все-таки и она... Зачем не сказала бабушке, — объяснил я ей, сам хорошенько еще не понимая ни ее, ни дедушкиной вины.
Сестра пожала плечами, ничего не понимая.
— Только ты об этом не говори никому, — предупредил я ее. — Я в прошлом году никому тоже не сказал. И потом, еще вот что: они о каких-то слепеньких после всё говорили. У них семь слепеньких вышивальщиц есть. В нынешнем году три еще ослепли...
Но мы между тем подошли к дому, разговор этот надо было прекратить, и вопрос о «слепеньких» так и остался на время пока не выясненным для меня, да я и не думал, что это особенно что-нибудь интересное... Самое главное — я уж узнал причину ссоры дедушки с бабушкой и этого натянутого и непонятного настроения у них в доме...
V
Мало-помалу, однако ж, все приходило в порядок, в свою обычную колею. Не вдруг, но понемножку. К завтраку бабушка не выходила, и мы завтракали без нее, с дедушкой и Поленькой, но она, так же как и матушка, видимо была уж спокойнее. Поленька даже смеялась, а дедушка что-то заметил по какому-то поводу и высказал, по обыкновению, свое мнение. Но к обеду бабушка уже вышла. Когда мы пришли к обеду опять из сада, мы увидали ее уже в гостиной, хотя она все еще была в своей утренней широкой блузе и в руках держала пузырек с каким-то спиртом, который время от времени и нюхала. Дедушка был тут же, в гостиной, но как бы избегал говорить с бабушкой, а сидел и слушал, как рассказывала ему что-то матушка. Поленька сидела в каком-то странном, тревожном настроении и все улыбалась. Оказалось, что сейчас получено было письмо от ее жениха, что он вернулся из Москвы, куда ездил за какими-то покупками к свадьбе, за подарками Поленьке, и сегодня вечером будет здесь. Одним словом, мы застали картину если и не совсем обычную в знаменском доме, то уж, во всяком случае, видно было, что дело пошло на лад, острый период слез окончился, кризис миновал.
Но меня занимала моя дума. Я, придя в гостиную, сел в уголок, слушал их рассказы, разговор, смотрел на их лица, всматривался в них, в их выражение, в их улыбки и думал: «Ну, здесь это все кончилось или скоро кончится, все опять помирятся, и все сегодня же, вероятно, пойдет по-прежнему, да уж и пошло, — а что и где теперь эта «Верка-девка»? Едет она теперь или уж приехала на хутор?.. Будут ее замуж выдавать за дурака-пастуха-старика, будет плакать она... пожалуй, еще вздумает опять там утопиться... все будут смеяться над ней...»
Вдруг неслышными шагами по половику вошел в гостиную лакей и, остановившись у двери, доложил:
— Евгений Васильевич приехали.
Это был жених Поленькин. Он, очевидно, сюрпризом приехал, написав нарочно, что будет вечером, а приехал к обеду. Поленька вскочила, всплеснула руками и, не говоря ни слова, юркнула в другую дверь — она была одета по-домашнему, не для встречи жениха. Бабушка тоже забыла свое унылое и убитое настроение и, подбирая платье, сказала матушке: «Прими его, встреть, мой друг!» — и поспешила тоже вслед за Поленькой. Матушка с дедушкой пошли в залу. Но мне не хотелось встать и даже взглянуть на него. Я так и остался, как сидел...
Обед, разумеется, оттянулся часа на полтора — надо было прибавить кушанья; стол перекрыли вновь; надо было расставить другой сервиз — хрусталь. Во всем доме поднялась та шепотливая и шмыгающая суета, которая обыкновенно бывает всегда в этаких случаях. Бабушка, одетая в какое-то необыкновенное платье (она одевалась всегда ужасно безвкусно), вошла совершенно в покинутую было ею роль хозяйки и смотрела орлом — любимое ее выражение. (По ее словам, и дедушка, когда был женихом, в первое время и потом тоже смотрел «орлом».) Поленька, с какими-то коробочками и футлярами в руках, то ластилась и притворно надувалась, когда говорила с женихом, то перебегала от одного к другому, показывая привезенные женихом подарки. Даже и мне поднесла и показала.
— Хорошо, — кисло сказал я.
— Тебе не нравится?
— Нет, ничего.
— Ты ничего не понимаешь!
И она полетела к другому.
А у меня в голове все сидела эта несчастная «Верка». Все здесь опять изменилось, снова как ничего и не было, все опять по-прежнему, все на своем месте, и все остались как были, тут же... одной ее нет... была — и нет ее...
И дедушка ходил совсем как ни в чем не бывало, поправлял свой зонт, останавливался, раскуривал докрасна свою трубку, потом придавливал пальцем пепел в ней и произносил свое мнение.
Жених был, казалось, на седьмом небе и все говорил, когда Поленька куда-нибудь упархивала из гостиной: «А какой она еще ребенок!..»
Матушка радовалась их счастью.
Обед прошел как-то усиленно оживленно. Не говоря уже о Поленьке и ее женихе, которые, сидя рядом, всё взглядывали друг на друга и молча жали друг другу руки, отчего делалось даже как-то неловко, но и дедушка и матушка разговаривали как по заказу. Только начинает ослабевать разговор, кто-нибудь сейчас новую тему придумает. Таким разговорчивым я никогда еще не видывал дедушку. Бабушка, в своем удивительном платье, тоже старалась быть веселой, но все-таки иногда вспоминала, вероятно, о своем горе-обиде и на минуту вдруг делалась как бы почувствовавшей изнеможение. Но она сейчас же овладевала собою, вновь входила в настоящий тон, как только матушка, заметив опасность, грозившую общему радостному настроению, взглядывала на нее и делала ей глазами какой-то неодобрительный знак.
После обеда, с общего решения, дедушку отправили в кабинет отдыхать. Он начал было храбриться, говорить, что если он не будет спать, все равно, это его нисколько не утомит, и проч. Но все восстали — и матушка, и Поленька, и ее жених. Даже бабушка вдруг, к удивлению всех, сказала:
— Ну, уж идите, идите (она иногда говорила ему «вы»). Нечего тут храбриться-то да молодиться...
Это вышло очень мило... Все кинулись к дедушке со словами:
— Ну, уж теперь извольте отправляться: бабушка велела...
Дедушка повиновался и, очень довольный, пошел, а все обратились затем к бабушке и с чувством, хотя и без слов, благодарили ее за то, что она первая заговорила с дедушкой и таким образом положила начало концу их ссоры.
Все мы вышли после этого на террасу, где стоял большой круглый стол и куда бабушка приказала подать послеобеденный чай, так как было известно, что жених любит после обеда чай.
Доброе и счастливое настроение продолжалось и здесь; жених рассказывал о своей поездке, про Москву, как он там хлопотал, разъезжал по магазинам, и проч., и проч. Вдруг бабушка вспомнила, что она еще не показывала матушке приготовленное ею дома Поленькино приданое белье... Это была ее слабость и в то же время ее гордость. Она не похвасталась этим до сих пор только потому, что, вследствие случившегося печального недоразумения ее с дедушкой, ей было уж не до того. Теперь, оправившись и несколько позабыв свое горе, она, разумеется, не могла удержаться, чтобы не показать сегодня же своего шедевра — предмет общего удивления и зависти целого уезда, даже всей губернии, потому что вышиванье гладью ни у кого не было доведено до такой высокой степени совершенства. Она послала за главной надсмотрщицей за кружевницами, Маланьюшкой, и когда та пришла, бабушка не поленилась сама встать и вместе с нею пойти отпереть шкафы и комоды, где висело и лежало это приданое белье. Скоро на террасу стали выносить горничные бесчисленное количество вышитых батистовых сорочек для Поленьки, юбок, воротничков, рукавчиков, чепчиков, и проч., и проч. Доверенные женщины Аринушка и Лукерьюшка брали все это поочередно от стоявших на террасе и державших в трепетных руках горничных и преподносили всем. Бабушка со скромным, но исполненным неописуемой гордости видом, происшедшим от сознания своего недосягаемого превосходства над всеми хоэяйками-помещицами, давала объяснения.
— Вот этот, мой друг, чепчик, — говорила она матушке, — вышивали две девки ровно полгода... ты посмотри...
— Удивительно... удивительно... — повторяла матушка.
— А вот эту рубашку подвенечную — ты посмотри — две девки вышивали год и три месяца.
— Удивительно.
Поленька приятно улыбалась; жених, видевший, конечно, уже это приданое, и, может быть, не раз, показывал вид, что тоже изумлен, поражен. А может, он и в самом деле был в восторге от этого...
Осмотр продолжался долго... Было пересмотрено огромное количество белья, и все вышитого, расшитого. Наконец бабушка, обращаясь к Маланьюшке, надзирательнице за вышивальщицами, сказала:
— Ну, теперь, как уложишь это все опять на свое место, тогда принеси... понимаешь?
Маланьюшка, женщина степенного вида, с необыкновенной, таинственной важностью шепотком отвечала ей:
— Понимаю-с... слушаю-с...
— А это что такое, тетенька, вы велели принести? — очень хорошо зная что, но как бы не догадываясь, спросила матушка.
— Ты сейчас, мой милый друг, увидишь, — отвечала бабушка.
Но все знали, что это такое, потому что и матушка, и Поленька, и жених, и даже сама бабушка поглядели друг на друга, приятно и довольно улыбаясь.
В дверях из гостиной на террасу показались сперва сама Маланьюшка-надзирательница, высоко поднимая и держа на уровне с головой что-то белое в руках, и этому белому, широкому и длинному не было еще видно конца, а там были уж видны из дверей головы горничных, с полуиспуганным выражением на лицах поддерживавших это же белое и дальше. Все встали, и послышались те короткие, отрывочные, невольные одобрения, как в театре: «браво, браво, браво», когда зрители не могут удержаться от восторга, но боятся высказать или выразить его громко, чтобы не прервать вызвавшего их восторг действия...
— Вот... — проговорила бабушка.
Это нечто было удивительное! Это был пеньюар, весь вышитый гладью: дырочки, фестончики, городки, кружочки, цветочки — живого места, что называется, на нем не было — все вышито!..
Эффект был произведен чрезвычайный. Когда наконец удивления, восхищения и восторги всех уже были выражены и бабушка приняла от всех дань одобрения, подобающую ей, матушка наконец спросила ее:
— Ну, а сколько же, тетенька, времени вышивали его?
— Два года, мой друг... Двенадцать девок два года вышивали его... Три из них ослепли...
Все выразили сожаление по этому случаю. А бабушка, вздохнув, добавила:
— И самая моя любимая, лучшая — Дашка... Такой у меня уж не будет другой, — с грустью закончила она.
— Лушка, сударыня, тоже хорошо будет вышивать, — заметила от себя ей, как бы в утешение, надзирательница.
Бабушка только с грустью улыбнулась.
— Что та безответная-то только была... — опять сказала надзирательница и вдруг остановилась.
Горничные, державшие пеньюар, стояли, и точно это до них нисколько, ни малейше не касалось... Точно эти слепые были не из их же рядов, не из них же набраны...
А бабушка, под впечатлением грустной утраты своей, продолжала:
— Я сказала ей еще тогда: «Ну, Дашка, говорю, кончишь этот пеньюар — сама себе выбирай из всей дворни жениха: какого выберешь, за того и выдам тебя...» И я знала даже, кого бы она выбрала...
— И где же она, там теперь? Во флигеле, с другими? — спросила, я услыхал, матушка.
— Там-с, сударыня, — отвечала надзирательница, — с прочими слепыми... ей только все отдельно приказано поставить от других: и кровать, и сундук, и все...
На Поленьку и на ее жениха этот разговор не произвел никакого, казалось, впечатления. Они были счастливы, и счастье их было так полно. Она, может быть, однако, была бы не менее счастлива и без этого пеньюара...
— Эти слепенькие где же живут у вас? — спросил я надзирательницу.
В маленьком флигельке-с, что в сад одной стороной выходит... Им там чудесно... Они там как в раю живут, — ответила надзирательница.
Матушка посмотрела на меня и ничего не сказала.
VI
Утром на следующий день я ждал — дождаться не мог, когда кончится это чаепитие на террасе и нас с нянькой, в сопровождении «Аксиньюшки» и «Евпраксеюшки», отпустят гулять в сад; немка-гувернантка была по-прежнему больна зубами или только сказывалась больной.
— Соня, ты слышала ведь вчера про этих слепеньких, — нам надо сегодня их посмотреть. Вот несчастные-то! — говорил я сестре.
— Да, — сказала она и, по обыкновению, посмотрела на меня.
— Я знаю и где они живут — в этом маленьком желтеньком флигеле. Мы, как пойдем гулять, попросимся в эту сторону. А то всё в одно и то же место ходим — надоело. И увидим их. Они, говорят, всё на травке, перед флигельком своим, сидят. Выйдут и сидят на солнышке — ничего не видят. Так ты и попросись же, — учил я ее. — Я буду просить, и ты проси, чтобы мы в эту сторону сада пошли. Только ты не говори, зачем. А то нянька, пожалуй, не согласится.
— Хорошо.
— Скажут, что нам нельзя туда. Ты понимаешь?
— Понимаю.
Она была чрезвычайно кроткая, тихая, но необыкновенно понятливая и сердечная девочка. Только ее надо было понимать. Кто не знал ее и не понимал ее, думал, что она ко всему равнодушна, что ей ни до чего дела нет, что она ничему не бывает рада и ей никого не жалко. Но я ее понимал отлично, и она меня тоже.
Когда наконец матушка сказала: «Ну, идите, если хотите, гулять в сад: только няньку позовите», — я сейчас же побежал и все устроил. Кроме няньки с нами, по обыкновению, пошли «Аксиньюшка» и «Евпраксеюшка».
Как было условлено, я начал проситься идти гулять в ту часть сада, к которой примыкали задним фасадом флигеля, и в том числе и маленький желтенький флигелек. Нянька, ничего не подозревая, согласилась, и мы прямо, выйдя с балкона, повернули за угол. Помню, я все боялся, как бы матушка или другие, стоявшие на террасе, заметив это, не спросили бы нас, куда мы это повернули, вместо того чтобы идти прямо. Но нас никто не спросил, вероятно и не заметили даже, куда мы направились, и мы совершенно спокойно продолжали идти. До желтенького флигелька было довольно далеко, но он уже был виден. В саду перед нами действительно был довольно большой лужок, но на нем никто не сидел. Мы шли по дорожке, обсаженной редкими березками, и нам все было видно. Флигеля, счетом пять или шесть, занятые коверщицами, кружевницами, вышивальщицами, были от нас вправо, а на конце их самый последний — желтенький, который нас интересовал. Но вот мы наконец поравнялись с ним, я осмотрел все пространство впереди — нигде никого, ни души. Окна во флигеле закрыты, беленькие шторки спущены, дверь на крылечке в сад затворена.
— И поют они так-то хорошо, так-то хорошо, — услыхал я, позади меня говорили с нашей нянькой «Авдотьюшка» и «Евпраксеюшка», — так-то жалостно, так за душу тебя и берет...
Я насторожился.
— Вон там, за бугорочком, они теперь и сидят, — продолжала говорить женщина. — Утром самоварчик поставят, чайку попьют и пойдут на бугорочек. Лушка-то видит чуть-чуть, да вот и Дашка теперь тоже стала хоть сколько-нибудь видеть, — они возьмутся все за руки, дружка с дружкой, и идут. Прежде они тут вот, бывало, всё сиживали, ну, гости как-то и увидали раз, начали расспрашивать: отчего, как и что, барыне и неприятно стало, она и не велела им на глазах-то тут сидеть, а чтобы, если хотят, уходили вон туда, с глаз долой, за бугорок...
Мы шли по дорожке прямо к бугорку, который был в стороне, вправо от дорожки, шагах в тридцати. Теперь все дело было в том, чтобы мы их сразу как-нибудь увидели, и тогда уж отступать будет поздно.
— Дашка-то с барышней Полиной Григорьевной, маленькая когда была, играла и выучилась читать-писать, книжек много читала, охотница была читать. Теперь она им и рассказывает все, на манер как бы сказок, только это все правда, написано все это в книжках, — рассказывала женщина, — им это теперь и как бы вместо занятия, работать-то не могут, окромя что чулки вязать, — и слушают ее. Слушают-слушают, ну, скажут, девушки, а теперь давайте петь. И запоют... страсть как жалобно. Все равно как страннички, сказывают, поют... вот которые богу молиться ходят, рассказывают — так же точно поют...
Они помолчали немного. Мы подходили к бугорку.
— Что ж, как разобрать если, — опять заговорили женщины, — это им и к лучшему, может быть спасутся, душеньки свои спасут, в царствие небесное угодят...
Вдруг и сразу мы увидали их всех на траве, шагах в пяти от бугорка, сидят прямо на солнце, на открытом месте; на головах и на шее беленькие полотняные платочки, серенькие, домашнего тканья, платьица; некоторые вязали чулки, другие так сидели и тихо разговаривали. Мы все невольно остановились. Но уходить было уже поздно. Нянька наша что-то было заговорила, но я ее перебил:
— Это слепенькие? Это про которых вчера, когда приданое показывали, Маланьюшка говорила? Я слышал, она матушке рассказывала, — заговорил я. — Няня, пойдем посмотрим их.
Нянька и женщины что-то начали было шептаться между собою.
— Мы не скажем; пойдемте, мы никому не скажем! Соня, слышишь, никому не говори, — хлопотал и устраивал я.
Нянька пассивно повиновалась. Мы своротили с дорожки и пошли к ним по траве. Я впереди, за мною сестра, а позади нас нянька и женщины.
Слепенькие услыхали шуршание травы, почуяли наше приближение и начали во все стороны оглядываться — не видали, откуда мы к ним приближаемся. Я помню, это так на меня подействовало, что я невольно замедлил шаги и остановился, не доходя до них.
— Они не видят, смотри, они оглядываются во все стороны; они нас ищут, не видят, — говорила мне сестра.
Я стоял в каком-то оцепенении и смотрел на них. Наконец одна какая-то вгляделась в нас и, должно быть, увидала, потому что начала что-то говорить другим, и те усиленно завертели головами во все стороны, отыскивая нас... Наконец мы все подошли к ним. Они хотели встать, но я начал говорить, чтобы они сидели.
— Ничего, что ж такое, встанут, не развалятся от этого, — заговорила одна из сопровождавших нас женщин.
Девушки между тем все встали и, слыша голоса, по слуху смотрели на нас своими мертвыми, то есть открытыми, но незрячими глазами...
Вот молодые господа к вам пришли, посмотреть на вас захотели, — опять заговорила женщина. — Катерину Васильевну знаете? Ну, так вот это детки ее, к бабушке приехали...
Одну из них я узнал — это была та самая знаменитая вышивальщица Даша, которую я столько раз и прежде видел в доме и о которой так тужила теперь бабушка, потеряв в ней лучшую свою вышивальщицу.
— Вы ничего не видите? — робко спросил я ее.
— Так, немножко вижу... Так, как бы сквозь ситечко или кисейку реденькую. — ответила она. — А прежде совсем не видела...
Мне показалось, что глаза у нее заплаканы.
— Вы плакали, — сказал я, — или это у вас так... болят? — проговорил я.
Она всхлипнула и утерла глаза. Она плакала... Позади себя, я услыхал, шепотком говорила няньке одна из женщин:
— Верка-то, что с барином... которую вчера сослали, сестра ведь ей приходится, вот и плачет...
— Ну, пойдемте, пойдемте, — вдруг заторопила нас нянька. — Пойдемте же, а то увидят нас, беда тут будет, пойдемте. Прощайте, девушки.
Я помню, на меня все это так подействовало, что нянька должна была меня взять за рукав моей рубашки и потянуть с места, чтобы я шел. Сестра Соня стояла тоже в таком же состоянии и не двигалась. Нянька и ее потащила за рукав.
Смотрите же не рассказывайте, не говорите, как придете, а то беда еще такая из этого выйдет, всем достанется, и гулять вас пускать не будут, — все повторяла дорогой, когда шли назад, нянька.
Женщины, сопровождавшие нас, поддакивали ей в этом. Но нам было не до рассказов...
«Рай» в Знаменском кончился для бабушки года за два до объявления воли. Тогда выбрали нового предводителя[14], он приехал к бабушке с дедушкой и попросил, чтобы ему показали слепых вышивальщиц. Бабушка было не хотела ему их показывать, но он сказал, что это необходимо, и ему их показали. Он видел их. А через несколько дней после того, как он уехал, бабушка распустила всех своих вышивальщиц, и в том числе и «слепеньких»: их возвратили родным... Другие совсем времена тогда подходили...
БАБУШКА АГРАФЕНА НИЛОВНА
I
Из всех наших родных бабушка Аграфена Ниловна жила на самом дальнем от нас расстоянии. Она была выдана замуж еще почти девочкой за Алексея Михайловича Репелова, помещика не нашей губернии, но соседнего с нами уезда. До имения их Большой Бор от нас было, по крайней мере, верст сто или сто двадцать. К тому времени, к которому относится этот рассказ, бабушка была давно уже вдовою. У нее было свое приданое, прекрасное имение Покровка, тоже с усадьбой и совсем устроенное, в нашей стороне, где мы все жили, но она, хотя и бывала всегда очень рада всем своим родным, когда они приезжали к ней, и говорила, что их очень любит, что ей очень досадно, что она так далеко живет от них, однако ж в свое приданое имение — Покровку, к нам, в нашу сторону, не переезжала, а оставалась в Большом Бору.
Обстоятельство это, то есть вот что бабушка Аграфена Ниловна не переехала тотчас по кончине мужа в нашу сторону, в свое приданое имение — Покровку, и не переезжала и после, родственники все осуждали, объясняя его тем, что у бабушки не было настоящих к ним ни к кому родственных чувств.
Единственное смягчающее ее вину в данном случае обстоятельство они усматривали в том лишь, что бабушка Аграфена Ниловна была выдана замуж очень рано, когда ей только что минуло пятнадцать лет, все время была окружена мужниными родственниками, подружилась с ними, свыклась, сжилась и, следовательно, настоящих родственных к нам чувств в ней не могло развиться; она их все перенесла на мужнину родню.
Верно ли было такое объяснение, я не знаю, но слышал его, помню, очень часто, почти всякий раз, как бабушка бывала у нас или у других родственников и уезжала к себе, в Большой Бор, не соглашаясь, несмотря на упрашивания, остаться и прогостить еще несколько дней.
— Как волка ни корми, а он все, видно, в свой лес глядит, — скажет, бывало, кто-нибудь, проводив ее.
И я несколько раз слыхал при этом почти всегда повторявшуюся остроту-поправку: «Не в лес, а в бор», намекая этим на имение ее мужа, где она жила, — Большой Бор: «Нет в ней этих настоящих родственных чувств. Ведь это как слышится, чувствуется в ней...»
Я, собственно, этого не мог про нее сказать, потому что она меня и вообще всех у нас в доме любила, а про матушку говорили, что она у нее любимица, что она единственная из всех родных, которую Аграфена Ниловна по-настоящему, по-родственному, как следует, любит.
Вообще я не знаю даже хорошо, чего они от нее требовали. Везде, у всех родных, куда она приезжала и где я ее точно так же видал, она была всегда одинаково спокойна, с достоинством, любезна, со всеми приветливо ровна, внося с собою светлое, спокойное настроение в дом, в который приезжала. Что-то необыкновенно теплое, ясное сейчас же заводилось в этом доме, и всеми сознавалось, что это она внесла с собою.
— А у нас Аграфена Ниловна, — говорили при встрече приехавшим гостям, и говорили это прежде всего.
— Да-а? — обрадовавшись, отвечали гости, и видно было по лицам их, что известие это очень по сердцу им, и они спешили к ней, зная, что там, где она, возле нее, и тепло и ясно.
Нам, детям, казалось, что с приездом бабушки Аграфены Ниловны, или, как называли мы ее по причине ее высокого роста, «большой бабушки», казалось, что и самовар шипел и свистал веселее, и чай вкуснее, и свечи горели ярче, и все становились добрее и ласковее друг с другом. Совсем особенная, радостная поднималась в доме суета, когда она приезжала или когда получалось известие, что она скоро будет. Суета всегда поднималась, когда приезжало много гостей или ждали, что они приедут; но суета при приезде бабушки была особенная, светлая, в которой каждый принимал участие и в которой не было недовольных, а, напротив, все, один перед другим, добровольно и по собственному почину, делали то-то, говорили, как бы не забыть того-то, и т. д., и т. д.
Все это показывало по-видимому, что бабушку Аграфену Ниловну никак нельзя было упрекать в добрых чувствах, которые она привозила к нам с собою из своего Большого Бора в нашу сторону, а, напротив, что эти добрые ее чувства были даже необыкновенны и все их ощущали, все им радовались, отдыхали на них. А между тем ее упрекали, и именно в отсутствии этих чувств.
Некоторые намеки, однако ж, я понимал, и именно намеки, не объяснения, на то, чего им от нее хотелось и чего она не делала, не догадывалась или не хотела делать и что, собственно, они называли в ней недостатком родственных чувств.
Бабушка Аграфена Ниловна не была похожа ни на кого из наших родственников. Она была, как я говорю, очень добрая и, приезжая, вносила с собою в дом свет, мир и теплоту, радостные всё чувства; но все в то же время сознавали и понимали, чувствовали даже это, что и теплота и свет ее разливаются на всех одинаково, что она никого этим не наделяет больше, чем другого, и не обделяет... Мне хочется это объяснить, как я понимал это тогда, как мне это представлялось в то время. Теперь я, может быть, употребил бы для этого другие слова, другие выражения, но это уж не будет соответствовать моему намерению. Мне хочется показать и ее и отношения к ней такими, какими я их тогда понимал...
Действительно, трудно было сказать, кто ей был больше рад в доме — господа, родственники ее, к которым она приехала, или их домочадцы и их окружающая прислуга. Она со всеми была приветлива, всех согревала своей теплотой, для всех находила доброе, ласковое слово, а их, этих слов, тогда вообще мало было...
По-настоящему следовало бы сказать, что она была человеком в полном и хорошем смысле слова, что она любила всех людей потому, что они люди. Она не могла делать между ними выбора — одному помочь, потому что он ей родственником приходится, а другому отказать потому только, что родственником он ей не приходится. Вот это-то все, сознавая, понимая и даже чувствуя в ее отношениях, и, называли отсутствием у нее настоящих родственных чувств.
А потом было другое еще. При низменности тогдашних интересов, при тогдашних нечистоплотных привычках и стремлениях, при тогдашней, одним словом, разнузданности, все чувствовали себя, несмотря на вносимую ею с собою теплоту, стесненными: должны были в этих своих привычках и разнузданности сдерживаться, чего им не приходилось делать в присутствии других всех родственников. И она, приветливая, величаво-кроткая, стесняла их, хотя ничего от них не требовала, ни в чем никого никогда не упрекала. Но теплота и свет — сами по себе страшные силы...
И еще: бабушка слушала всегда с каким-то странным выражением, ближе всего похожим на участливое сожаление к самому рассказчику, все сообщаемые ей новости, слухи, анекдоты о прочих родственниках и соседях. У нее это выражение было доброе, но иногда до того грустное, что рассказчик, очевидно хотевший своим сообщением доставить ей удовольствие, невольно при этом смущался, терялся и замолкал, а бабушка, вздохнув, говорила:
— Да, жалкий, несчастный.
— Позвольте-с, почему же? — иногда позволял себе сделать ей возражение рассказчик.
— Не понимает, что это нехорошо, — вот почему. Бели бы он получил лучше воспитание и образование, он бы понимал, а теперь не понимает.
— Позвольте, как же не получил? Он воспитывался, и проч., и проч., — продолжал возражать рассказчик.
Но бабушка уже молчала, дальше ничего не отвечала или говорила:
— Ну, господь с ним...
И затем уж никто не мог заставить ее высказаться дальше.
Вот в этом-то сожалении ее, неопределенном до того, что нельзя было почти разобрать, к кому оно относится — к предмету рассказа или к самому рассказчику, — и усматривалось тоже обидное для родственников с ее стороны отношение.
— Она точно выше всех, точно все достойны с ее стороны только одного сожаления: недосягаемая какая! — говорили они про нее и при этом добавляли: — Ее мужа родня, что ли, выше? Что брат-то его профессор? Или, может, что они по зимам в Петербург всё ездят?..
И эта родня ее мужа в самом деле была совсем особая, отличная от всех наших родственников и вообще от всех помещиков — соседей в нашей стороне. И по виду они были особенные, не такие, как наши. Наши все были усатые, съезжались, ели и пили неумеренно и как-то постоянно и зря, если можно так сказать. Разговор у них был только о лошадях — они все почти были коннозаводчики — да об охоте, о волках, лисицах, зайцах, у кого какие собаки, чьи лучше, резвее, чьи хуже, слабосильнее, не так злобны. Там же, в той стороне, или в том кругу, который — мы видали — собирался в Большом Бору у бабушки, было все иное, не похожее на этих. Бросалась в глаза их чинность, изысканность в обращении и в словах, даже костюмы были иные, совсем иного фасона и покроя: ни этих бекеш, ни венгерок, ни беличьих или барашковых полушубчиков, крытых серым или синим сукном с опушкой, в которых ходили у нас, в нашей стороне, и дома ездили в гости запросто, — ничего этого там не было.
Однажды я как-то по этому случаю заметил матушке:
— Какая разница, — сказал я.
— А тебе нравится это?
— Нравится. Да, так...
— Что так?
— Так лучше. Так мне больше нравится...
И разговоры мы слышали, бывая там, совсем другие тоже. Рассказывалось про Петербург, про заграницу, где многие из них были, про театр, про книги.
И замечали мы, что и бабушка в этом кругу, у себя, делалась совсем иною, совсем не такою, какою мы видели ее в нашей стороне, когда она приезжала к нам. Она была в этом своем кругу еще светлее, еще веселее, добродушнее; она становилась, казалось, моложе даже.
Я замечал эту перемену в ней, сравнивал, вспоминал какою я видел ее в нашей стороне и какою она была теперь, припоминал отзывы о ней, то есть вот об этом недостатке у нее родственных к нам, то есть к нашим родственникам в нашей стороне, чувств, — ясно замечал, видел даже, что у нее сердце действительно лежало больше к своему кругу, к родственникам ее мужа, которые наезжали к ней, собирались у нее, и с какими-то радостными чувствами разделял с ней ее симпатии к этим людям, таким простым, свежим и чистым, начиная с одежды их и кончая их мнениями, отзывами и вообще разговорами.
II
В это время вот, к которому относится настоящий рассказ, то есть в начале, в самых первых пятидесятых годах, как раз когда только что была объявлена Крымская война, у нас проявился, в нашей стороне, один общий какой-то родственник, приходившийся нам, собственно, двоюродным дядей — «дядя Яша». Он был отставной улан, и как уж он не попал на войну, то есть не был выбран в ополчение[15], куда выбирали всех отставных бывших военных, — я не знаю. Все почти тогда ушли на войну, а он, смутно и неизвестно где-то проживавший все время, вдруг тут-то как раз и проявился.
Дядя Яша был сын нашего двоюродного дедушки Дмитрия Ивановича Скурлятова, известного в свое время конского заводчика и вместе с тем страшного крепостника, о деяниях которого и до сих пор еще живы воспоминания. Дядя Яша почему-то был опальный у своего отца, не бывал у него, не получал от него содержания, и, будучи хотя и сам буйного и строптивого характера, притом же он пил, рассказывал про своего отца ужасные вещи, давал ему эпитеты, клички, так что родственники, к которым он приезжал или у которых он жил, — он жил иногда по месяцам, — останавливали его, говорили, что это неприлично ему так выражаться про отца своего, каков бы он ни был. Дядя Яша стихал на некоторое время, как-то пошло подсмеиваясь над трусостью останавливавших его родственников, не переносивших такого, по их словам, кощунства, но после опять принимался за свое. Нас, детей, так совсем не пускали туда, где жил дядя Яша, а если он приезжал неожиданно к кому-нибудь из наших родственников или знакомых, где и мы в то время находились, то гувернантки наши так уж и знали, что им надо с нами уходить в сад гулять или, если был дождь и вообще ненастная погода, то садиться и заниматься с нами, диктовать, читать, переводить, — словом, лишь бы иметь какой-нибудь предлог сказать дяде Яше, что видеть нас сегодня нельзя. А там поскорее и совсем уезжали. Дядя Яша, несмотря даже на распущенность вообще всех родственников и соседей в нашей стороне, все-таки бременил даже и их. Его хотели помирить с отцом и на некоторое время даже и помирили. Другой дедушка, брат отца дяди Яши, привез его в дом к родителям, заставил их даже поцеловаться и как-то сделал так, что без всяких слов и объяснений все пошло, как бы и не было никогда у них никакой ссоры, а дядя Яша просто вернулся домой после долгой разлуки. Эту мировую, я помню, тогда все ставили в пример, как образец уменья Михаила Ивановича Скурлятова мирить. Но это продолжалось, однако, недолго. При строптивом и деспотическом характере их обоих — и отца и сына — они, конечно, не могли долго ужиться вместе, тем более что у сына не было никакого дела, отец не доверял ему или, не полагаясь на него, не давал ему ни за чем смотреть, ничем распоряжаться. Ссора у них вышла, кажется, из-за лошадей, которых они оба считали себя знатоками — дедушка Дмитрий Иванович, как известный коннозаводчик, а дядя Яша, как лихой кавалерист и притом бывший ремонтер. Они поссорились на конюшне, и эта их ссора на глазах у всей дворни, говорят, была ужасна. Дедушка хотел было приказать его связать, чтобы тут же, на конюшне, за непочтение, по правам родительским, наказать, а дядя Яша выхватил пистолет, который всегда носил при себе заряженным, и с страшными ругательствами на отца объявил, что застрелит первого, кто подступит к нему, и это ему все равно, если этот первый будет сам его отец. Дедушка тоже не хотел уступить и приказывал конюхам, под угрозой своего гнева, — а они знали, что такое его гнев, — взять дядю Яшу и вязать его. Один из них, перекрестившись, и подступил было к нему, но дядя Яша, без дальних слов, выпалил в него, и конюх, раненный в живот, упал, обливаясь кровью. Другие сейчас же разбежались. Отец и сын остались вдвоем с глазу на глаз...
— Ну, подступайся ко мне, бери, вяжи меня! — кричал дядя Яша. — Кровопийца, хочешь моей еще напиться крови. Мало ты ее пил, мало погубил людей! Ну что же — подступайся!..
Дедушка прибег к обыкновенному в то время средству — проклял его. Но дядя Яша нашелся и тут: он тоже, в свою очередь, проклял дедушку. Между тем изо всех дверей манежа — сцена происходила в конюшенном манеже — выглядывал на них собравшийся перепуганный народ. Наконец дедушка, шатаясь, пошел первый к выходу — отступил. Дядя Яша напутствовал его страшными ругательствами, причем проклинал и всю родню отца своего, всех, кто были уже в гробах давно и кости чьи сгнили и истлели уж...
Это событие взволновало тогда, я помню, весь уезд, приезжал предводитель к дедушке, губернатор присылал к нему каких-то чиновников, приезжал жандармский полковник, «голубой», как их называли тогда помещики в разговорах между собою; было, кажется, следствие, но, должно быть, не гласное, а домашнее какое-нибудь, потому что никакого суда ни над дедушкой, ни над дядей Яшей не было, и все кончилось тем, что дядя Яша с этих пор стал разъезжать по родственникам на своей тройке лошадей, в своем тарантасе с своим крепостным кучером, которого получил от дедушки и которого отвратительно бил, куда ни приезжал только, да стал он же, дядя Яша, получать через третье лицо, через другого дедушку, по пятидесяти рублей в месяц содержания от своего отца. Этих денег все хотя и находили, что для дяди Яши мало, однако же спрашивали себя: на что они ему? — не могли ответить на это, так как куда бы дядя Яша ни приезжал, везде и кучер его и лошади были на хозяйском иждивении, а сам он, по-видимому, на себя ничего не тратил, так как одет был невообразимо грязно и сально: весь блестел, лоснился, небритый, нестриженый, с грязными пальцами и ногтями. Только один и был у него, по-видимому, расход — это на турецкий табак, который он курил, поминутно набивая себе маленькую коротенькую трубочку и вытряхивая из нее, где попало и на что попало, пепел.
Где дядя Яша поселялся, в этой комнате заводился до такой степени противный запах, что туда никто войти не мог, не затаивая дыхания, а убирать эту свою комнату или проветривать ее он ни под каким видом не позволял.
— Это какой-то персиянин, — говорили про него, — те такие неопрятные только.
У нас в доме, наверху, на мезонине, жили одно время молодые лисята, принадлежавшие не помню кому-то из соседей, и их почему-то долго от нас не брали. Они, как известно, ужасно нехорошо пахнут, и этот запах оттуда проникал и в дом, вниз, в наши жилые комнаты. Однажды «тетя Липа», тетушка Олимпиада Васильевна, грубо некогда обиженная дядей Яшей, приехала к нам и, почувствовав в передней противный этот запах, без всяких дальних объяснений повернула было назад, чтобы садиться опять в экипаж и ехать обратно, в полной уверенности, что это у нас сидит дядя Яша и дурной этот запах происходит от него. Только уверения матушки и всех нас, поспешивших за ней на крыльцо, что это произошло не от пребывающего у нас дяди Яши, а от неопрятных зверьков, удержало ее; но и тут она все-таки взяла с матушки честное слово, что это так и есть на самом деле и вовсе не желание наше как-нибудь помирить ее, хотя бы путем невинного обмана, с неприятным ей родственником. Вот это был что за человек!..
И в то же время это был замечательной красоты мужчина. К этому времени, к которому относится рассказ, ему было лет тридцать с чем-нибудь — тридцать два, тридцать три. Нечесаный, небритый, засаленный, грязный, почти в лохмотьях, он все же, когда злоба не искажала его лица, заставлял невольно всех любоваться на себя. Ко всему этому надо прибавить, что и по сложению и по силе, которой он обладал, это был атлет. Он с размаху, кулаком в лоб, убивал на охоте волка, рвал сыромятную баранью шкуру, и проч., и проч.
III
В Большом Бору у бабушки Аграфены Ниловны, как я уже сказал, была прекрасная и обширная усадьба, перешедшая к ее мужу от отца и построенная, кажется, еще его дедом или прадедом. Сад в Большом Бору считался, по величине и обширности, а также и толщине и вышине своих кленов, лип и дубов, едва ли не первым во всей губернии. По крайней мере, нигде в окружности не было ничего подобного даже ему. Кроме двух прудов, к одной стороне сада подходила речка, быстрая, ясная, с водой до такой степени ясной и чистой, что все камешки на дне ее были видны, а вода в ней была такая холодная от множества ключей, что только в самое жаркое время, и то в середине лета, можно было с удовольствием купаться в ней.
За садом, по ту сторону речки, было обширное гумно, наполненное скирдами, бесконечными ометами соломы и какими-то сараями для сена, мякины и т. п.
Но сама бабушка не была хозяйкой, то есть, собственно, не любила она хозяйства. Она любила сад, любила читать, любила общество, но хозяйство не составляло для нее ни предмета забот, ни любви и увлечения, как у многих других. Она все управление имением и хозяйством предоставила бывшему камердинеру своего покойного мужа, известному своей преданностью и честностью, старику Василию Меркуловичу. Это управление было по-своему замечательное. Во-первых, Василий Меркулович не имел никакого права вмешиваться в дела мужиков на деревне: они женились, делились, ставили от себя рекрутов в случаях набора, все по своему собственному постановлению, равно как и ходили на барщину, предводимые ими же выбранным старостой. Потом, Василий Меркулович не имел — равно как и никто не имел — права бить и наказывать. В этом случае бабушка была до такой степени последовательна, что кучер ее, седой тоже старик «Никандра», не смел бить и лошадей и даже не имел никогда кнута при себе.
— Ах, ужас какой, — говорила бабушка, когда при ней замечал кто-нибудь про лошадь: «Вот бы ее хорошенько, небось перестала бы...» — Точно нельзя так ее заставить бежать.
— Да не идет!
— Значит, не может.
— Какой не может, — не хочет.
— Пожалуйста, и не доказывайте этого мне.
Что это за хозяйство было и что это было за управление, я не могу сказать, потому что в то время я ничего не понимал в этом деле. Помню только насмешки над этим ее управлением, разумеется не в глаза ей, всех почти родственников в нашей стороне.
— Разве это управление, разве это называется хозяйством? Она это делает потому, что у нее нет детей, а кому это все достанется после смерти ее — до тех ей дела нет, — говорили они.
Но бабушка тем не менее, однако ж, не только не имела никаких долгов, но, напротив, у нее было много денег, она была свободна в средствах и жила широко, на большую ногу. Я помню этот ее дом в Большом Бору, помню, как там собирались, съезжались соседи ее и родственники покойного ее мужа. Там было самое полное радушие, гостеприимство, обилие всего. Стало быть, и при этом хозяйстве и при этом управлении ей всего хватало все-таки.
Бабушка была бездетна, как я уже сказал, то есть у нее были дети — двое, — но они умерли еще маленькими, и я их не видел, потому что они умерли, кажется, когда меня и самого еще на свете не было. Но детей она любила бесконечно, и они ее любили; где бы она ни была, у кого бы она ни гостила во время своих весенних поездок по родным в нашей стороне, она была всегда окружена детьми. Но это была совсем особая с ее стороны любовь к ним. Она не дарила им никаких сладостей, игрушек, напротив, она только говорила с ними, но говорила особенно как-то, так, как, я помню, никто не говорил.
— Люблю я их, глупые они такие, — бывало, рассмеявшись, скажет она и вздохнет.
— Да, и утешения от них много, — тоже со вздохом ответит кто-нибудь ей. — и горя тоже немало с ним.
Помню, говорили, что когда умерли ее собственные дети и потом вскоре умер у нее и муж, она взяла к себе на воспитание чью-то девочку, кого-то из дворовых, и вскоре к ней страшно привязалась. И девочка, говорят, была прелесть какая, умненькая, хорошенькая. Но на пятом, на седьмом году с ней сделалась какая-то обыкновенная детская болезнь — круп, скарлатина или что-то в этом роде, — и она умерла на руках у бабушки, которая, говорят, была в таком отчаянии, что с полгода или больше не могла забыть ее и после уже не брала к себе на воспитание никого.
— Нет, — говорила она, — не дал мне бог своих детей, отнял и чужого, которого я взяла: видно, мне не следует их брать. Мне подальше от них надо быть...
Но это она говорила так, а на самом деле, как я сказал, она, когда приезжала, была постоянно окружена детьми.
Так продолжалось довольно долго. Но вдруг однажды кто-то из родственников из нашей стороны, возвратись от нее, привез известие, что у бабушки опять явилась питомка, сирота какого-то дальнего и бедного родственника ее мужа, девочка лет четырнадцати или пятнадцати, и замечательной притом красоты.
Это время я уж помню и помню даже разговор по поводу этого.
— Да, и опять-таки из мужниной родни. Точно она не могла взять какую из своей родни. Вот хоть бы такую-то или такую-то, — перечисляли они при этом, — нет, да что тут говорить...
Весной следующего года мы увидали все эту девочку. Бабушка навещать родных «нашей стороны» приехала вместе с ней. К первым она приехала, по обыкновению, к нам, как к жившим ближе всех к ней и притом по дороге ко всем остальным. Она всегда так делала, приедет к нам первым, погостит у нас, затем поедет дальше и, когда всех объедет, на возвратном пути, отправляясь домой уже, опять к нам заедет, «отдохнуть», как она говорила, и прогостит у нас еще дня два или три.
— А вот я вам привезла и мою Лидочку, — указывая на свою питомку и улыбаясь своей тихой и ясной улыбкой, говорила она, — вы не стесняйтесь с ней, возитесь, бегайте, играйте: это ничего, что она кажется такой большой: она такая же глупая, как и вы. И ты, Лидочка, можешь тут не стесняться. Ну, отправляйтесь, показывайте ей все...
Мы приняли эту Лидочку с радостью, и она нам сразу же понравилась. Она, действительно, была сравнительно с нами большою совсем почти. Я как сейчас гляжу на нее. То серьезная и сосредоточенная, почти нелюдимая, рассеянная в своей задумчивой сосредоточенности, а то вдруг разыграется так, что ей и удержу нет, кажется. Возится c нами, пристает, хохочет.
А бабушка глядит и только улыбается на нее и на нас.
— Ну что ж, не правда разве — совсем ведь глупая такая же, как и вы, — скажет только.
Но это видно было, что она любит ее безгранично, привязалась к ней душою, и она стала за это время все для нее.
Так прожила она у нас с этой питомкой своей, по обыкновению, дня три или четыре и поехала дальше к следующим родственникам.
Я помню, как нам не хотелось расставаться с ней и мы упрашивали, чтобы нам оставили Лидочку.
Но бабушка, улыбаясь и покачивая отрицательно головой, говорила, что этого нельзя сделать, а вот когда она назад домой поедет и заедет к нам по пути «отдохнуть», мы опять будем несколько дней вместе с Лидочкой. «А потом вы ко мне приедете...»
Гувернантки у Лидочки не было. Оказалось, как мы узнали это, бабушка сама с ней занимается. По-французски и по-английски Лидочка говорила не хуже нисколько нас, у которых были и гувернантки и прежде бонны.
— Как же бабушка с тобой занимается?
— А очень просто: читает, говорит, диктует.
— И когда же она с тобой занимается?
— Зимой, осенью.
— А летом?
— Летом она только говорит со мной по-французски и по-английски, чтобы я не забыла.
— А уж ты летом совсем не учишься?
— Совсем.
— И давно ты уж перестала учиться?
— Давно. Как трава показалась и стало тепло, можно в одном платье выходить.
— Ты любишь бабушку?
— Очень.
— Она тебя в прошлом году к себе взяла?
— В прошлом году, осенью.
— Как твой папа умер?
— Да...
— А он отчего умер?
— Он пил...
— У тебя, Лидочка, ведь нет ни братьев, ни сестер?
— Нет.
И всегда она отвечала так коротко, отрывочно, сжато, точно и определенно.
Бабушка одевала ее просто, очень даже просто, но на ней все сидело ловко, сшито было все отлично.
В ее отношениях к бабушке бросалась в глаза прежде всего какая-то равность с ней. Она говорила с ней, рассказывала ей, спрашивала ее как равная с равной, хотя это нисколько не стесняло бабушку называть ее иногда глупой.
— Ну, какая же ты глупая, как же ты этого не понимаешь?
— Теперь вот понимаю, — отвечала Лидочка, смотрела на нее и улыбалась.
А бабушка уж едва-едва удерживалась, чтобы ее не обнять, не расцеловать.
И это всем было понятно, потому что это было всем сейчас же видно.
А то она серьезно, и совсем как большая, подойдет к бабушке и поправит на ней что-нибудь — поправит и отойдет, не говоря ни слова, точно как равная с равной и даже как какая-то попечительница ее, которая за ней, за бабушкой, смотрит и наблюдает, а не бабушка ее попечительница.
Потом она была у бабушки еще и для такого дела:
— Лидочка, я забуду и ты забудешь — запиши-ка лучше.
— Что такое?
Бабушка говорила, что записать, а Лидочка вынимала из кармана книжечку в красном сафьянном переплете и карандашиком записывала в ней, что говорила ей бабушка.
— Это секретарь мой, — улыбаясь на нее, говорила бабушка.
— Лидочка, покажи книжечку, — просили мы.
— На, посмотри, только не читай. Никогда не следует читать чужих писем.
И все это она говорила как опытная, совсем уж большая, которая все испытала уже и все знает, что можно и что нет.
Она была очень красивая: черные глаза, большая, тяжелая черная коса, хотя и короткая еще, здоровые, красные, как кровь, губы, которые она, совсем еще с детской привычкой, облизывала.
— Лидочка! — скажет ей бабушка и покачает при этом головой.
А она улыбнется или вовсе расхохочется:
— Бабушка, да они сохнут у меня.
— Они всегда у тебя будут сохнуть, если ты их лизать будешь.
— Вот как к детям передаются привычки, — говорила при этом бабушка, — ее мать, которую она едва ли даже и помнит, все облизывала губы.
Такою эта Лидочка нам представилась в этом году, когда бабушка в первый раз к нам приехала, и такой же точно, только еще больше полюбили, подружились с ней, мы нашли ее и через месяц, когда, объехав всех родных, бабушка завернула на обратном пути «отдохнуть» к нам.
Бабушка с Лидочкой уехали, и когда начали после этого приезжать к нам родственники, эта Лидочка не сходила у них с языка.
— Ну, Аграфена Ниловна успокоилась теперь, кажется: нашла себе наследницу.
— Непонятно только, зачем она ее всюду с собою таскает? Это вызов с ее стороны...
— Она, погодите, задаст еще ей...
— Аграфена Ниловна, вот вы увидите, не только Большой Бор, а и, свое здешнее имение ей же отдаст.
И все в этом роде. И опять начинались бесконечные пересуды и доказательства того, что настоящих родственных чувств у бабушки ни к кому из своих родных нет.
Осенью мы, по обыкновению, с матушкой отправились на неделю к бабушке в Большой Бор, но тоже, по обыкновению, прожили там не одну неделю, а целых две, если не больше. Опять мы целыми днями проводили время с Лидочкой, бегали, она нас всюду водила, где мы прежде и не были, угощала нас, объясняла нам, чего мы не понимали или не знали в их отличном от нашего домашнем быту.
Короче, Лидочка сделалась таким нашим другом, что когда потом пришлось нам при отъезде расставаться, мы расплакались все, и в том числе и сама Лидочка. Я как сейчас гляжу на нее: стоит, смотрит; большие-большие сделала глаза и все старается сморгнуть с ресниц слезы, а они у нее всё набегают и капают ей на щеки, крупные, большие...
Мы так и расстались, повторяя все и ей и бабушке, чтобы они раньше приезжали на будущий год к нам и дольше у нас прогостили...
IV
В эту зиму у нас по какому-то случаю собралось много родственников, — кажется, это был день именин отца, — жили, угощались несколько дней, и так как никаких развлечений, кроме карт, еды и тому подобного, не было, то не играющие дамы и мужчины посвящали досуги длинных зимних вечеров обсуждению чужих дел, оценивая достоинства и недостатки в отсутствующих, — одним словом, занимались обычными своими делами. В один из таких вечеров кто-то из родственников, так, как бы между прочим, заметил, что вот хорошо бы женить дядю Яшу на бабушкиной Лидочке. У дяди Яши, как ни противен он был, однако же, особенно между родственницами, были и защитники и покровительницы, которые ухитрялись видеть в нем какую-то угнетенную невинность, жертву чуть не общей к нему несправедливости, и проч., и проч.
— В самом деле, я совсем не понимаю, отчего ему на ней и не жениться?
Другие возражали, что на это никогда и ни в каком случае не согласится бабушка, что об этом и думать нечего.
— Почему это?
— Ну как почему?
— То-то: почему? — настаивала одна родственница, особенно ненавидевшая и всегда злословившая про бабушку. — Прежде всего, кто это такая эта Лидочка? Какая-то Петрова, а Яков Дмитриевич все-таки хорошей фамилии.
— Все равно об этом и речи не может быть, бабушка ни за что не согласится за него выдать ее.
— А может, ее согласия никто и не спросит?.. Увидит эта Лидочка Якова Дмитриевича как следует, в приличном виде, — разве не может он этого сделать? — и влюбится в него.
— В Якова Дмитриевича-то?
— Да, и очень даже легко.
Это все говорилось при нас с сестрой, мы слушали это, удивлялись, и нам было как-то даже страшно за Лидочку. А родственница рассуждала об этом как о совершенно возможном факте, причем все удивлялась, что это другие находят в этом странного. И какая может быть речь о том, чтобы, если Яков Дмитриевич, этот родовитый барин, сделает честь, предложит руку какой-то бездомной Петровой, чтобы она не согласилась за него выйти? О согласии бабушки на это она уже совсем умалчивала или отзывалась как-то иронически и зло.
Этот разговор, я помню, произвел и не на нас одних, детей, но и на многих взрослых странное, загадочное, подозрительное какое-то впечатление, если можно так выразиться, которое усугубилось еще тем, что всем хорошо было известно, что эта родственница и умна, и зла, и так спроста говорить не станет. Во всяком случае, значит, такой план у кого-то явился и зреет, находя одобрение...
Но тут же все сейчас находили этот план несостоятельным, было ясно до очевидности, что осуществить его никогда им не удастся, потому что невозможно было даже представить себе, чтобы бабушка согласилась на этот брак, да и сама Лидочка, эта симпатичная, умненькая девочка, — весной ей еще только исполнится пятнадцать и пойдет шестнадцатый, — чтобы она сама могла влюбиться в него.
— Разумеется, ведь это все из-за денег, — говорили по отъезде родственницы, пустившей в обращение этот план, — в предположении, что Аграфена Ниловна все свое состояние отдаст ей после своей смерти.
— Да, и это — это, конечно, главное, — и зло вместе с тем против Аграфены Ниловны.
— Ах, какая злоба! И за что? Ведь она все равно не наследница ее. Умри Аграфена Ниловна завтра — она все равно ничего из се наследства не получит.
Из всех этих разговоров хотя и становилась ясной нелепость этого плана, уверенность в невозможности его осуществления, но, тем не менее, все-таки являлось и неприятное чувство — как это так мог у кого-то подобный план явиться?.. До того он не уживался с симпатичным и ясным представлением об образе бабушки Аграфены Ниловны. Самое появление этого плана было уже как бы каким-то посягательством на представление о ней, об этом ясном ее образе.
А между тем и после этого раза разговоры о дяде Яше в совместимости с бабушкой и с Лидочкой не прекращались. Нет-нет да кто-нибудь опять и заговорит. Несмотря, говорю я, на нелепость этой комбинации, на видимую и очевидную ее неосуществимость, они, эти разговоры, продолжались и даже стали как-то обыкновенными...
В феврале, на масленицу, опять у нас съехалось много народу, много и родственников и родственниц, и в числе привезенных ими новостей было и неожиданное совсем известие о перемене, случившейся в характере и образе жизни дяди Яши. Про него рассказывали, что он сделался неузнаваем совсем. Обрился, остригся, вымылся и теперь стал как следует человеком. Прибавлялось: «Какой молодчина, и хоть грубоватая его красота — похож на цыгана, — но все-таки красив очень».
Это известие как бы указывало на то, что план, о котором было говорено выше, не только не покинут, как неосуществимый, но что делаются нужные приготовления для приведения его в исполнение. Во всяком случае, в известии этом можно было усмотреть нечто происходящее неспроста, не случайное что-нибудь, не новая какая-нибудь беспричинная выходка с его стороны.
Так к этому все и относились. Но уверенность в невозможности осуществления этого плана все-таки была велика у всех, и все говорили, что этому перерождению дяди Яши бабушка Аграфена Ниловна так легко не поверит.
— Этим ее не проведешь, нет! — говорили все и соглашались, что это ни к чему не поведет.
— Какого агнца хочет разыграть!..
— Да, может, он вовсе и не хочет? Может, он ничего и не знает вовсе об этом плане? Ему, может, просто надоело это юродство его, это свинское состояние, в котором он живет вот уже скоро два года?
Но, повторяю, несмотря на все такие разговоры, таилось какое-то у всех зловещее предчувствие, что план этот если и не осуществится, то, по крайней мере, все-таки будут сделаны кем-то — неизвестно кем — попытки к приведению его в осуществление...
Во время поста слухи об обновленном и преобразовавшемся даже совсем дяде Яше начали ходить все чаще и чаще. То тот приедет из родственников или соседей, то другой, и привезет известие, что Якова Дмитриевича, дядю Яшу, видели, там-то или там-то, и он неузнаваем просто.
Но известия о нем самом стояли как-то точно особняком от плана о его женитьбе на Лидочке. Он сам точно не знал ничего об этом, и казалось, что он тут ни при чем, даже как будто страдательное лицо во всех сплетнях и рассказах. Никто с ним об этом не говорил, и сам он никому ни одним намеком не давал понять, что причастен к плану. Напротив, рассказывали, что он собирается уезжать опять в тот же полк, из которого три года тому назад вышел, и жалеет только об одном, что пропустил Кампанию, так как война уже кончилась к этому времени и шли переговоры о мире. Многие из ополченцев-помещицов под разными предлогами уже возвратились или, по крайней мере, под разными предлогами приезжали на время по каким-то служебным своим делам и бывали у себя и у своих родных и знакомых в деревнях.
А между тем уж приближалась весна, везде показывались проталинки, дороги испортились, ждали скоро полой воды, — время обычного приезда к нам, в нашу сторону, бабушки Аграфены Ниловны, приезжавшей, как сказано, всегда к нам весною, подходило...
V
Не знаю я, писала ли обо всех этих сплетнях и слухах матушка к бабушке Аграфене Ниловне, с которой она была в постоянной и более или менее частой переписке, но бабушка, когда в этом мае, отправляясь в свой родственный объезд, заехала, по обыкновению, прежде всего к нам, то в тот же вечер за чайным столом, я помню, шел разговор о предположенной женитьбе дяди Яши.
Бабушка слушала все это с своей ясной обычной улыбкой, дескать, бог с ними, ну что ж, что они такие дурные и злые люди — их все-таки надо не ненавидеть, а прощать. Господь их суди — не мы...
— Лидочка, а ты бы пошла за него? — спрашивали мы ее, когда мы отправились с нею гулять в сад.
— За дядю Яшу-то?
И она, усмехнувшись, качала головой.
— Ты знаешь, он, говорят, теперь франтом.
— Ну что за глупости такие!
— Так ни за что?
— Конечно.
— А если бабушка тебе велит? — продолжали мы ее испытывать.
Но Лидочка только воскликнула с удивлением и вместе уверенно:
— Бабушка?!.
Как-то перед завтраком или чаем, на террасе, выходившей у нас в сад и обросшей кустами сирени, которая в это время цвела, мы с сестрой и с Лидочкой наделали себе из этих цветов венков и в этом уборе встречали приходивших к столу больших. Все смеялись, с нами шутили. На Лидочке был огромный густой венок, и казался он у нее на головке совсем как шапка. Белый, с зелеными листьями, он удивительно шел к ее смуглому лицу и ее большим черным глазам. Она была в нем поразительно хороша. У нас в это время был кто-то из посторонних, не родных, а просто соседей, и, увидав ее в этом уборе, остановился и невольно высказал свое удивление ее красоте или тому, как идет к ней этот венок.
— Завидная невеста, — заметил он.
Бабушка с любовью и ясной, радостной, почти восторженной улыбкой смотрела на нее и тоже, как и все, любовалась ею.
— Бабушка, — вдруг сорвалось у меня, — она ни за что — я спрашивал ее — не пойдет за дядю Яшу.
Все рассмеялись этой выходке и, шутя, опять заговорили об этом нелепом слухе, кем-то распущенном.
— Господь с ними, я очень рада этой перемене в нем, — сказала бабушка, — но уж Лидочку мою я вовсе не думаю за него выдать.
Лидочка, стоявшая возле нее, приласкалась к ней и хотела, кажется, поцеловать ее, но плохо скрепленный венок ее при этом рассыпался и упал у нее с головы.
— Ну, вот я больше и не невеста, — подбирая цветы, со смехом говорила Лидочка. — Довольно с меня, побыла невестой — и довольно.
Все посмеялись этому, поговорили еще что-то немного о дяде Яше и об этом слухе, и разговор перешел на другое.
Бабушка и в этот раз пробыла, по обыкновению, дня три, и мы проводили ее, получив, как всегда, обещание заехать еще раз, на возвратном пути, «отдохнуть» к нам после этой поездки.
— Лидочка, смотри же не соглашайся, не выходи за него замуж, — прощаясь с ней, просили и напоминали ей мы с сестрой.
— Глупости какие, с ума я, что ли, сошла?
— Ты знаешь, — для большей вескости своих доводов добавил я, — ведь он проклятый. Его тогда на конюшне дедушка проклял ведь...
Бабушка с Лидочкой рассмеялись.
Во время этих поездок у бабушки всегда был один и тот же маршрут, так что всегда можно было знать приблизительно — днем раньше, днем позже, — где она в данный момент находится.
Помнится, матушка около этого же времени собиралась поехать тоже с нами в небольшую родственную поездку, и они пригоняли с бабушкой число так, чтобы им встретиться и гостить вместе. Но этот проект, которому мы были так рады, почему-то расстроился, к огорчению нашему, и мы не поехали с матушкой никуда, а остались дома.
Прошло по отъезде бабушки уже недели две. Мы имели сведения о ней за это время: они обе с Лидочкой здоровы и продолжают свой объезд благополучно. Недели через две с половиной, или много через три, они, по расчету, будут обратно у нас. В данный момент они должны были находиться, по соображениям, как раз у той нашей родственницу, покровительницы дяди Яши, которая первая распустила слух о плане. Хотя бабушка и знала очень хорошо, что родственница эта ее ненавистница, но она, тем не менее, все-таки заезжала, по удивительной доброте и снисходительности своей, и к ней и просыпала тоже и у нее день или два в гостях.
Вдруг прошел слух, странный, из третьих рук, подробностей никаких не сообщалось, что с бабушкой во время поездки что-то такое случилось. Привез это известие какой-то дворовый, который слышал об этом от управляющего соседнего помещика, а тот тоже слышал это от кого-то. Тем не менее, однако ж, этого дворового, привезшего слух, позвали, расспрашивали и, не добившись от него ничего определенного и верного, послали с письмом к тому соседу, от управляющего которого дворовый что-то такое о неблагополучии с бабушкой во время ее пути слышал.
Вечером привезли ответ...
Все думали у нас первое время, что с бабушкой случилась какая-нибудь болезнь, что она у кого-нибудь из родственников лежит больная. Женщина она была полная, уже не молодая, и заболеть могла очень легко. Но теперь получилось странное известие об исчезновении у бабушки, во время пребывания ее у этой родственницы, Лидочки, и что подозревают в похищении ее дядю Яшу... Правда, сосед при этом писал, что подробностей этого он не знает никаких и что не может ручаться за то, что слух этот даже верен с действительностью, так как человек, от которого его управляющий слышал, ненадежный, болтун и сплетник, и очень может быть, что все это еще не более как его глупая выдумка.
Но матушка, конечно, не остановилась перед этими успокоительными его рассуждениями и в ночь собралась и поехала отыскивать бабушку. Ночь была темная-претемная, карета тронулась с фонарями, с провожатыми, верховыми людьми, которые должны были ехать впереди осматривать и освещать дорогу. С матушкой поехали только наш выездной лакей Никифор и ее приближенная женщина, Пелагеюшка. Я как ни просился, чтобы и меня взяли с собою, но не взяли, разумеется, и, я помню, мы с сестрой так и остались в томительном ожидании и неведении того, что там такое случилось с бабушкой и Лидочкой.
— Ну, а если она согласится и выйдет за него замуж? — рассуждали мы.
— Нет, она не выйдет за него, не согласится, — говорила сестра.
— Так ты думаешь, он ее увез, а потом назад привезет?
— Да если она не согласна?
Мы оставались одни с нашей гувернанткой Анной Карловной, ничего с нами по этому поводу не говорившей и которая на все наши вопросы, обращенные к ней по этому поводу, отвечала, что нам об этом вовсе не нужно знать и что это вообще не наше дело.
— Вот маменька приедет, расскажет, и вы всё узнаете.
Но мы слышали рассуждения по этому поводу оставшихся нянек и других женщин-дворовых, которые были у нас в доме.
— Ох, — говорили они, — погубит он ее, коршун он кровавый, погубит он ее, голубку.
— На то и бьет... Так, по согласию, не удалось, он иным манером думает теперь добиться своего... Что ж, дескать, теперь делать? Поневоле теперь ее выдадут... Кто ж ее, опозоренную, теперь замуж за себя возьмет...
Мы слушали это и потом спрашивали:
— Что ж он может с ней сделать?
— Ох, — отвечали женщины, — злой человек все может сделать. Вы маленькие еще, но понимаете этого.
— Но если она не согласна будет выйти за него?
— Поэтому-то он ее и увез.
— Бить он ее будет?
— Да уж там всего от этакого человека натерпится, всего, примет...
Отца не было дома, он был в городе по делам, и ничего этого не знал, если не слышал чего об этом в городе. Его, ждали только на третий еще день, но матушка, уезжая, сказала, что она, как увидится с бабушкой, сейчас же пришлет с нарочным письмо, на случай, если отец раньше вернется. По всем вероятностям, это письмо от нее могло быть не раньше, как к вечеру или к ночи на другой день; так как та наша родственница, у которой, по расчету, должна была быть в это время бабушка, жила от нас верстах в пятидесяти, следовательно, покуда матушка приедет, да повидается с бабушкой, да напишет письмо, да посланный приедет с ним, — пройдет не менее суток.
В этот вечер, по отъезде ее, мы просидели особенно долго, хотя Анна Карловна неоднократно принималась настаивать на том, чтобы мы укладывались спать. Но она и сама, любопытная, все хотевшая знать и проникнуть во все, была заинтересована происшествием с бабушкой не менее других и тоже и сама была рада поговорить с няньками и женщинами, высказывавшими свои предположения за и против.
Мы улеглись уже поздно, далеко за полночь, а я еще долго не мог заснуть, думал все об этом.
VI
Утро следующего дня я никогда не забуду. Я проснулся от суматохи, поднявшейся у нас в доме, которая всегда бывала в случаях неожиданного приезда, внезапной болезни кого-нибудь. Было еще рано. В соседних с моей комнатах, слышались шаги, голоса. Вскоре я узнал, что это приехала к нам бабушка Аграфена Ниловна с Лидочкой, которая больна, чуть ли не в бреду, и ее уложили у матушки в спальне и теперь послали за докторами во все концы.
Бабушка разъехалась с матушкой. Ночью, для верности, матушкин кучер, должно быть, поехал хоть более дальней, но покойной и лучшей дорогой; бабушка же — кратчайшей. Теперь она была в спальне при Лидочке, и, говорили, ее узнать нельзя совсем, до того она за это время изменилась.
Чтобы не тревожить никого — ни бабушку, ни Лидочку, а может, чтобы и сохранить нас в неведении относительно всего совершившегося, Анна Карловна нас не выпускала из детских комнат, и нам туда принесли самовар и наливали чай.
Но Анна Карловна, сама любопытная и сама сгоравшая нетерпением все узнать поскорее, ушла, не сообразив, что мы без нее все равно всё узнаем от женщины, наливавшей нам чай, и других, беспрестанно к ней приходивших за чем-нибудь.
— Где же ее, Лидочку-то, нашли? — спрашивали мы.
— У попа, в селе, верст за двадцать увез.
— И что же, он женился на ней?
— Нет. Отбили ее у него. Мужики отбили. Окружили его, долго бились с ним и отбили ее... Видят, скачет благим матом тарантас тройкой, а в нем он сидит с ней, и она благим матом кричит, просит о помощи. А барсуковский-то управляющий верхом был, узнал его, а может, слышал, что зимой-то болтали, сейчас это кинулся, лошадь у него лихая, черкесская, догнал их и остановил тройку, а тут и мужики с поля верхами подскакали. Народ в поле весь был на пахоте: сохи распрягли, повскакали на лошадей, догнали, окружили и начали с ним биться. Долго бились с ним. Два раза он стрелял в них, однако, бог милостив, ни в кого не попал, не, ранил. Наконец одолели его, связали и повезли к становому[16] в их стан, а ее к попу доставили...
— Ну и что ж? — с замиранием сердца спрашивали мы.
— Ну да что ж? Известно, что ж. Разве этакой зверь пощадил ее... Ведь это зверь, дяденька-то ваш. Мало они разве с дедушкой-то человеческой крови попили на своем веку, мало разве еще ее выпьют?..
— Бил он ее? — наивно расспрашивали мы.
— Да бить-то он ее, может быть, и не бил, так только держал. Связывал, говорят, он ее с кучером. На руках-то у нее, вот на этих местах, следы от веревок, вот как руки вздулись...
— Ну, а что ж потом, к попу когда ее привезли?
— Ну что ж, известно, поп принял ее. Бабушку-то Аграфену Ниловну, хоть и не в нашей стороне она живет, а кто ж ее не знает? Сказала она, Лидочка-то, кто она такая, откуда ее увезли, — бабушке поп и дал сейчас знать. Поп-то, говорят, боялся, как бы к нему за ней опять дяденька Яков Дмитриевич не вернулся: все село поп собрал. Народу к нему, говорят, страх что набралось. Бабы голосить в голоса начали... Страсть, говорят, что такое было... А уж как «бабушка-то приехала за ней да как увидала ее, с ней дурно сделалось, так перед крыльцом поповским наземь упала. Тут народ ее окружил, — бабушку-то все любят, — кто и не знает ее по наслыху, и то любит, потому где же другая еще такая госпожа есть?.. А платье-то на ней, на Лидочке-то, все вот так, в полосы, изорвано. Это она ему не давалась, билась, так он с кучером изорвал ого на ней.
— Стало быть, били же они ее? — опять спрашивал я, желая убедиться в этом высшем, по-моему, оскорблении, какое только мог ей нанести дядя Яша.
— Да может, и били, соглашались женщины, — известно уж, если на этакое дело пошли, церемониться не станут... Знал ведь он, дяденька-то, что добром разве она за него, за зверя этакого, пошла бы? Разве бабушка-то отдала бы за него ее?..
И потом узнали мы еще, что бабушку, из любви к ней совсем посторонних и чужих людей, провожали от этого самого села вплоть до нашей усадьбы десять человек верховых с дубинками — всё боялись, как бы вновь не проявился и не встретился бы им дядя Яша.
— И бабушка как одарила их. И там, в селе, тоже. Попу дала пятьсот рублей, пятьсот рублей в церковь пожертвовала, тысячу рублей народу раздала, чтобы молились о выздоровлении и спасении Лидочки... И этим, вот что провожали ее, тоже денег не жалеючи дала, полной рукой.
А к Лидочке или, по крайней мере, к бабушке, как мы ни просились, нас не пускали все-таки.
— Нельзя.
— Да почему?
— Потому что бабушка устала с дороги, и не так здорова, и к ней нельзя.
— Да вы узнайте, спросите ее.
К обеду, то есть к нашему, деревенскому, раннему, в два часа, неожиданно вернулась и матушка.
Она никак не могла вернуться к этому времени, и вернулась. Все были удивлены, но вскоре это объяснилось.
Матушка, не доезжая верст десяти до усадьбы родственницы, к которой ехала в предположении застать там бабушку Аграфену Ниловну, встретила нашего доктора, за которым бабушка послала еще от попа. Доктор все рассказал матушке, со всеми подробностями, ему известными, но, как тоже оказалось впоследствии, совсем в другой окраске, потому что ему рассказывала все это наша родственница, у которой все это случилось. Главное было все не так. Ему рассказали, что Лидочка сама условилась бежать с дядей Яшей, но потом раздумала уже дорогой и дала знать, чтоб бабушка за ней заехала к сельскому священнику, который ее приютил, так как сама она не смеет после всего этого показаться к ней на глаза, зная ее строгий и крутой нрав (это бабушки-то!). Но это всё мы узнали уже впоследствии, когда первая суматоха уже прошла и все хотя несколько опомнились. Матушка же, не зная, как все было на самом деле, принялась успокаивать и утешать бабушку на первых порах в этом именно смысле, то есть как рассказали доктору, а он передал ей. Ничего не зная об этой лжи в рассказе, бабушка, говорят, зарыдала еще пуще от такой клеветы на Лидочку, самое ее любимое и дорогое существо в жизни.
— Нет, неправда, это неправда, это клевещут на нее, — рыдая, говорила бабушка. — Она чиста, как голубь. Им мало, что он ее погубил, — им хочется еще очернить память ее, но этого им не удастся!.. Нет, не удастся, — повторяла она.
Видевшие эту сцену, говорят, не могли смотреть на нее без ужаса. Бабушка была совсем как помешанная, седые волосы ее растрепались и висели по плечам и по лицу, глаза у нее горели, и от волнения она не могла ни на минуту присесть, а все ходила или останавливалась и, как безумная, уставившись в одну точку, молча смотрела, не зная на что, ничего не понимая и не сознавая, не слыша и не видя.
Она не была такой даже в первый момент, когда приехала к нам. Это был, очевидно, с ней второй приступ горя и отчаяния, вызванный известиями еще о клевете на ее милое детище.
Эта кроткая, тихая, спокойная, ясная женщина была теперь неузнаваема.
— Вот, значит, и не к своему детищу, а как можно при вязаться, — рассказывая нам эти подробности, говорили женщины и няньки.
— Своих детей имела — оттого: представляет теперь, что это ее родная дочка и с нею это сделали. — отвечали им на их соображения другие бывшие тут женщины.
Доктор, приехавший с матушкой, осмотрев Лидочку, нашел, что у нее горячка и ей необходим абсолютный покой, притом чтобы ей ничего не напоминало о том, что с ней было, и потому, если она и придет в себя и будет расспрашивать или начнет говорить об этом, — ей отвечать просто и прямо самым полным отрицанием факта, удивляться и доказывать ей, что этого ничего с нею в действительности не было, а все это ей пригрезилось во сне во время горячечного жара.
Доктора бабушка, разумеется, оставила у себя, не пустила его ехать, куда он собирался. К вечеру приехал из города вместе с отцом другой доктор, и они оба вместе опять ходили к больной и нашли у нее все то же, то есть горячку, и оба были согласны, что ей, главнейше, необходим покой и чтобы ей так растолковывали ее воспоминании, как приказал первый доктор.
Матушка пришла к нам вся заплаканная; с красными глазами и совершенно подавленная всем случившимся. От нее мы, между прочим, узнали, что бабушка с Лидочкой остается у нас вплоть до ее выздоровления и будет жить в матушкиной спальне и в наших детских, а нас переведут наверх, чтобы не беспокоить больную и бабушку. По-детски мы были рады и тому, что бабушка с Лидочкой надолго остаются у нас, — матушка сказала, что недель на пять, — и были рады этой возне с нашим новосельем на мезонине.
Матушка это проделала в тот же день, то есть в тот же день нас перевела наверх, а бабушкины вещи перенесли в наши детские и ей самой устроили все в ближайшей, смежной с спальней, комнате. Она все время почти не выходила от Лидочки, не доверяя никому ни прикладывать компрессы, ни давать лекарства, вообще ухаживать за ней.
На другой день бабушка отпустила в Большой Бор свою карету с кучером и лакеем, а дня через четыре оттуда приехали возы с бабушкиными вещами и мебелью, которые она велела прислать оттуда.
Мы эти вещи бабушкины выходили смотреть, смотрели и узнавали давно знакомые нам ее вещи, которые к нам привезли теперь.
И вот началась у нас в доме новая совсем жизнь.
Все было, разумеется, приспособлено и пригнано так, чтобы было согласно с привычками и обыденной жизнью бабушки у себя дома, в Большой Бору. Переменили время обеда, время завтрака, время вечернего чая, время ухода ко сну. Если она ухаживала за Лидочкой, то матушка за ней ухаживала, кажется, еще больше. Она бросила все, казалось, хозяйство, распоряжения по дому, даже с нами виделась реже, — была неразлучна с бабушкой.
Придет к нам в детские на минутку, заглянет в классную, где мы сидели и учились, и сейчас же опять уйдет к бабушке. А то иные дни и вовсе к нам не приходила, мы виделись с ней только за завтраком или за обедом.
Доктор все еще жил у нас, бабушка его не отпускала до минования какого-то самого опасного кризиса, которого все ждали с страшным нетерпением и замиранием, зная очень хорошо, что неблагополучный исход Лидочкиной болезни будет для бабушки, как она ни приготовлена уж, новым ударом, которого ей, семидесятилетней почти старухе, никаким образом не перенести.
Между тем прошло более недели. Во все это время мы ни разу еще не видали не только Лидочки, но даже и бабушки: все, и обед, и завтрак, и чай, ей подавали в ее комнату, то есть одну из наших бывших детских, а именно в ту, где я жил и которая называлась моей.
Наконец однажды матушка, придя к нам в классную, объявила, что сегодня к обеду бабушка выйдет в столовую.
— Только вы, пожалуйста, не удивляйтесь на нее и вообще не особенно много смотрите на нее. Она стала совсем седая, белая даже, за это время и страшно похудела, половины ее не осталось. Точно так же не только не заговаривайте с ней о Лидочке, но вообще даже ни о чем, что бы могло навести ее на мысль обо всем этом... происшествии. Боже вас сохрани назвать по имени, упомянуть даже только этого негодяя...
Она не сказала, кого именно она подразумевает под этим именем; но мы и без этого все отлично понимали, кого...
Я помню, с каким нетерпением и замиранием сердца ждали мы часа обеда, чтобы идти в столовую, где мы увидим бабушку.
Наконец час этот настал.
Бабушку мы увидали, и, я помню, несмотря на предуведомление, я чуть-чуть не ахнул — до того она изменилась. Из высокой, довольно полной, видной и красивой еще, несмотря на лета, женщины мы увидали седую, совсем белую, с потемневшим, осунувшимся лицом, страшно похудевшую, как будто даже сгорбившуюся старуху, которая шла под руку с матушкой и, казалось, нуждалась в ее поддержке. Потом матушка передала ее отцу, и тот уже довел ее до стола и усадил.
В это время мы к ней подошли. Она, против обыкновения, без улыбки, очень серьезно взяла сперва сестру Соню обеими руками за голову и поцеловала, а потом меня.
И ни слова...
За обедом разговор шел о чем-то совсем постороннем. Сидевший тут с нами доктор наш, который все еще не уезжал в ожидании кризиса, рассказывал что-то из городской жизни, и вовсе для нее, да и ни для кого не интересное.
Как ни строго матушка наказывала нам не смотреть упорно на бабушку, но я все-таки не мог удержаться и то и дело взглядывал на нее.
— Что ты все смотришь по сторонам? Смотри лучше в тарелку, а то погляди-ка, как ты отделал свою салфетку, — сказал мне отец.
Я не заметил, что я всю ее закапал соусом, все смотря на бабушку.
После обеда ее точно так же отвели к себе отдыхать.
Через три дня ждали кризиса. Чем ближе подходило это время, тем все напряженнее становилось общее настроение, все серьезнее и серьезнее делались лица, улыбки совсем с них исчезли. Бабушка, несколько дней выходившая к обеду, накануне этого рокового третьего дня не вышла. За обедом мы узнали, что вечером у нас сегодня будет всенощная[17] и молебен. Это было накануне какого-то праздника или просто воскресения. Мы услыхали это, когда отец отдавал кому-то из лакеев приказание, чтобы сходил и предупредил об этом священника.
У нас редко служили в доме, и это было, очевидно, по какому-нибудь особенному случаю.
— Скажи отцу Ивану, что и я и Аграфена Ниловна просим его прийти никак не позже осьми часов, — говорил отец лакею.
Мы переглядывались, не понимая хорошо, в чем дело, но догадывались, конечно, что это по случаю Лидочкиной болезни.
— Это и ей хорошо, это ее успокоит, подкрепит се силы, — сказал доктор.
— Аграфену Ниловну? Конечно, — согласился отец. — Ах, что она выносит!..
Вечером в восемь часов нас позвали в зал. Все двери были затворены, чтобы до Лидочки не доходило пение и запах ладана, которым будут кадить.
Начавшиеся сумерки наполняли и без того наш темный старый зал какой-то полутьмой. В углу, у большого образа Покрова, горели две восковые свечи. На столике, накрытом белой скатертью или салфеткой, лежали священные книги (у нас в доме были свои) и облачения вместе с крестом, привезенные с собою священником.
Когда нас позвали, все уже собрались. У стенки стояла бабушка, а рядом с нею отец и матушка. Священник о чем-то заговаривал с бабушкой и все повторял ей: «Очень хорошо-с, хорошо-с...»
Мы стали у другой стенки с гувернанткой нашей, лютеранкой Анной Карловной, которая, за неимением своего пастора и своей лютеранской церкви, совсем у нас обрусела и ездила каждое воскресенье к обедне[18] и, боюсь сказать наверно, кажется и говела, или, по крайней мере, исповедовалась, у нашего священника.
Началась служба, и с первых же, раздавшихся в тишине, молитвенных слов бабушка опустилась на колени и начала горячо молиться, кладя долгие земные поклоны. Перекрестится крупным крестом и поклонится в землю и долго-долго не подымает головы. Мы не видели ее никогда так молящуюся. Бывая у нее, в Большом Бору, мы несколько раз ездили с ней в церковь ее к обедне, стояли всю службу, видели, как она молилась, но так молящуюся мы не видели ее никогда.
Мы стояли довольно далеко от неё, через весь зал, у противоположной стены, и не могли видеть и за расстоянием и за полутьмой, бывшей в зале, плачет ли она, но белый платок у нее был в левой руке, и она его не покидала. Мы с сестрой, разумеется, не столько молились, как смотрели на нее, так что Анна Карловна несколько раз говорила нам:
— Не смотрите, лучше молитесь богу, чтобы завтра стало лучше Лидочке.
И мы принимались молиться, просили бога, чтобы он помог Лидочке, и потом опять смотрели на бабушку.
С нами вместе — входили один по одному из дверей в переднюю — набралось в зал много народу из дворовых, а из дверей в гостиную вошли в зал женщины разного звания, жившие у нас в доме, и все, несомненно, молились и за себя и за Лидочку, чтоб ей завтра стало лучше.
Кончилась служба, все начали подходить к кресту, сперва бабушка, потом отец, матушка, мы и т. д.
Когда священник разоблачился и остался в рясе, к нему подошли бабушка и отец и стали его о чем-то просить.
— Да как же быть, помилуйте, Аграфена Ниловна, как же это, разве это можно забыть? Завтра же я и помяну за обедней и потом молебен отслужу в церкви, — говорил священник.
Священника оставили пить чай, зал осветили, и все приняло обыкновенный вид. Только оставшийся в комнатах запах ладана напоминал, что сейчас здесь была всенощная. Бабушка по окончании службы, переговорив с священником, сейчас же ушла к себе или к Лидочке, и мы ее уже не видали ни за чаем, ни во весь остальной вечер.
Доктора во время чая расспрашивали, в котором, по его мнению, часу должен наступить кризис. Он отказывался дать точный ответ на это, ссылаясь на то, что так точно определить невозможно, приблизительно через столько-то суток по начале болезни.
— Она когда заболела? — спросил он. — Ведь никто не знает, в котором часу? — сказал он.
— Нет.
— Ну так как же я скажу?
— Да надо считать с того часа, как он схватил ее и потащил к себе в экипаж.
— Это часов в семь было?
— Нет, в восемь. Они все гуляли в саду, за ней пришла горничная и сказала ей, что ее зовет Аграфена Ниловна и что она у калитки садовой ее дожидается, которая выходит за угол. Она только подошла, видит, что ни Аграфены Ниловны и никого тут нет, и хотела уж назад идти, как вдруг он кинулся, схватил ее, вскочил с ней в тарантас, который тут же стоял за углом, и лошади поскакали... Это часов в восемь было, уж стемнело почти... С ней сразу, должно быть, и сделался припадок... Надо с того времени и считать начало болезни...
— Но, однако ж, утром, на рассвете, когда ее отбили у него мужики, она кричала, звала о помощи. Барсуковский управляющий, который ее отбивал у него, прямо говорит, что она в памяти была; плакала, рыдала, но в памяти все-таки была...
— И у отца Павла — он сам мне рассказывал, — заметил священник, — когда ее к нему доставили, она тоже была в памяти...
Когда в этот вечер мы прощались с матушкой, чтоб идти спать, она сказала нам:
— Ну, идите, ложитесь. Помолитесь хорошенько, чтобы Лидочке завтра было лучше. Завтра большой для нее день. От завтрашнего дня все зависит...
И мы, я помню, горячо молились...
VII
Когда я проснулся на другой день, все уже встали: очевидно, утомленный впечатлениями вчерашнего вечера, я крепче обыкновенного заснул и проспал, а меня забыли разбудить.
— Что Лидочке? — спросил я няньку, пришедшую меня будить, когда я уже сам проснулся.
— Да ничего пока, — как-то нерешительно сказала она.
— Не лучше?
— Нет, ни-ни...
Когда я пришел в столовую пить чай, там уже все отпили и никого не было. Нянька наливала и мне чай.
— А где же все?
— Да уж все разошлись.
— А мама?
— Они там...
— У Лидочки?
— Да где же больше.
— А Соня где?
— Они в саду, должно быть, с своей нянькой.
— А где же Анна Карловна?
— Анне Карловне некогда... Они там... с маменькой и бабушкой: помогает им.
Нянька, очевидно, говорила и чего-то не договаривала. В доме всем было уж не до нас. Поэтому и я проспал, никто меня не будил, и все куда-то разошлись.
Нянька отвела меня, когда я напился чаю, в сад, туда, где была и сестра с своей нянькой, передала меня ей, а сама, что-то переговорив вполголоса с сестриной нянькой, сейчас же ушла в дом.
— Ей хуже, должно быть, — сказал я сестре.
— Что ж поделаешь, видно так уж богу угодно, — ответила ее нянька, — не умолили господа.
— Значит, ей хуже! — воскликнул я.
— Бред начался...
— Стало быть, она умрет?
Нянька ничего не отвечала, только вздохнула.
И у меня вдруг подступили к горлу, сдавили его слезы, нижняя губа нервно задрожала, и слезы ручьями потекли из глаз, как текут из глаз они только у детей. На меня глядя, и сестра заплакала.
Нянька принялась нас утешать, говорила, что еще ничего не известно, что все бог, что, может быть, ей станет лучше.
В это время ударили в колокол, и начался благовест к «достойной»[19].
— Лучше помолитесь, чтобы ей бог помог, — сказала нянька и начала креститься.
И мы стали с сестрой на колени тут же, под солнцем, на траве, в куртине, где сидели, и начали молиться на кресты церкви, которые виднелись вместе с вершиной колокольни и горели на солнце...
Глядя на нас, и нянька начала вместе с нами молиться...
Это было недалеко от дома, и из окна было видно нас.
Бабушка, подошедшая в это время за чем-то к окну, увидала нас, поняла, в чем дело, и, говорят, разрыдалась чуть не до обморока...
Когда мы в двенадцать часов пришли в дом к завтраку, вышедшая к нам матушка, вся в слезах, горячо поцеловала нас обоих в голову, долго смотрела нам в глаза и потом гладила рукой по волосам.
— Лидочке хуже?
— Хуже... — отвечала коротко матушка.
На глаза ей опять набежали слезы. Мы тоже опять расплакались с сестрой.
Ужасный, томительный был этот день. Нас то уводили в сад, то приводили зачем-то опять в дом. Чувствовалась какая-то пустота, все ходили с постными лицами, ходили даже и в отдаленных комнатах на цыпочках, точно и отсюда она могла слышать.
Повар на кухне рубил котлетки, и в открытые в доме окна доносился резкий стук ножей.
— Подите, скажите ему, чтобы потише... Пускай закроет окна в кухне, чтобы не было слышно, а то точно барабан какой-то, — сказала матушка кому-то из прислуги.
Выходя в сад с балкона, сестра Соня заметила мне:
— Сирени-то уж ни одной нет в цвету — вся отцвела. А помнишь, Лидочка-то была какая в венке?..
Сирень, действительно, стояла с голыми, сухими прутиками на концах веток, где еще недавно были всё белые и сизые цветы.
На третий день, на рассвете, Лидочка скончалась. Нас, как мы только встали, с утра увели в сад и для чего-то не пускали оттуда в дом и не велели говорить ничего о Лидочкиной кончине.
— Но отчего же нельзя нам в дом? — спрашивали мы, догадавшись о роковой причине.
— Нельзя...
— Да отчего? Верно, Лидочка умерла?
Нам говорили противное, но до того как-то нерешительно и до того рассеянно, что мы уж почти не сомневались, что это так и есть.
Нам и завтрак принесли в сад, на подносе, и мы ели, сидя на ковре, разостланном прямо на траве.
Очевидно, и лакею было запрещено нам говорить, потому что когда я его спросил, он мне ответил как-то скороговоркой и точно он знал, что я его спрошу:
— Никак нет-с.
Я не знаю, для чего это делалось, потому что, придя в дом к обеду, мы все равно узнали всю горькую правду.
В доме были уже попы, из церкви привезли большие серебряные подсвечники, которые обыкновенно стоят перед местными образами. Все женщины и горничные ходили в черных коленкоровых платочках на плечах, а у некоторых они были обшиты уже и белым.
Про бабушку говорили, что она ничего, перенесла потерю сравнительно легко, так, как не ожидали, только она как-то точно одеревенела... Не плачет, а сидит все и молчит. Посидит-посидит, пойдет опять к столу, на котором лежит совсем уже убранная, одетая так, как ей ложиться в гроб, Лидочка; постоит перед ней, возьмет ее за руку, потом опять уйдет. Доктор, которому теперь нечего уж было делать, под каким-то предлогом сам не уезжал, а все советовал матушке успокоиться.
— Я ничего, а вот боюсь за Аграфену Ниловну, — отвечала матушка.
— Да, она опасна, — сказал доктор.
— А что? — спросила матушка.
— Она очень мне не понравилась сегодня. Я сейчас к ней нарочно заходил.
— Боже мой, неужели еще и вторая будет жертва! — воскликнула матушка.
Но доктор принялся ее успокаивать, говорил, что ведь опасного еще ничего нет.
— Она только нехороша, мне она не понравилась...
Куда-то посылали нарочных и в этот и на другой день ждали какого-то разрешения, посылали одного за другим в город, забывая то то, то другое. Наконец какое-то необходимое в этих случаях разрешение от кого-то было получено, и вот на другой день Лидочку, положенную в гроб, повезли в бабушкино имение Большой Бор, а в карете за ней поехали бабушка с матушкой и с доктором, которого попросили, как он ни отказывался, ехать проводить до дому бабушку.
Мы ничего, впрочем, этого не видали; нас не пустили проститься ни с Лидочкой, которая, говорят, хотя исхудала, но лежала в гробу как живая, ни с бабушкой, которая стала замечательно и удивительно тиха и, кто что ей ни говорил, всех беспрекословно слушалась, точно как бы сознавая, что она поглупела и стала вдруг непонятнее всех.
— Как малый ребенок совсем стала, — говорили про нее, — Что ни скажи ей, только: «А? Что? Да?» И сейчас же все исполнит.
Так ее усадили в карету, так и повезли ее. Она только просила, чтобы было побольше провожатых.
— А то я боюсь.
— Да чего же вы боитесь?
— Так, боюсь...
И провожатых с ними отправили много, человек пятнадцать, и все верхами.
Мы видели только, как подавали к крыльцу карету и потом толпу людей, собравшихся для проводов у крыльца. Нам не позволяли даже смотреть в окна почему-то, и то, что мы видели, нам удалось видеть украдкой, на минутку, когда Анна Карловна отлучилась.
Матушка, возвратившись от бабушки из Большого Бора (она возвратилась через неделю с лишком), рассказывала, что довезли они Лидочку хорошо, совершенно благополучно, без всяких приключений, что, когда они привезли ее в Большой Бор, навстречу к ним вышло духовенство богатой тамошней церкви, все в черных траурных ризах, что Лидочку похоронили в тот же день у самой паперти, рядом с могилой дедушки, и могила ее теперь вся обложена цветами, и сделана пока временная деревянная оградка, но что потом будет настоящая чугунная, что бабушка каждое утро ходит к ней туда на могилку. «И стала такая легкая, просто не поспеешь за ней. Уж я и то ее все просила потише, — рассказывала матушка, — и потом, вечером, тоже, как только солнце сядет — прощаться к ней ходит...»
— И, — добавляла матушка, — что такая за перемена с ней случилась — этого и понять невозможно. Совсем другой человек. Ни этого ее спокойного, веселого, ясного взгляда, ни улыбки, как прежде было: все только спешит куда-то и все без всякой цели перекладывает с места на место, перетирает, завертывает.
— Да все для чего это?
— Так.
— И как будто опомнится на минутку, а потом опять за свое.
Недели через три матушка опять к ней ездила к сороковому по Лидочке дню. Бабушка, по ее словам, была такая же все, только еще больше все суетится и еще больше исхудала.
Бабушку мы больше не видали уж. Она умерла ровно через год, день в день с Лидочкой.
Дядю Яшу судили, но каким-то особым дворянским судом, через какое-то депутатское собрание. Рассказывали, что он на этом суде говорил ужасные мерзости про всех, уверял, что не она была его жертвой, а он, что она уговорила его бежать с ней и проч. и он увез ее и связывал будто бы для того, чтобы она не сделала чего над собою. Так она боялась будто бы жестокого с ней обращения бабушки...
Суд этот кончился для него ничем, хотя все называли его негодяем и очень многие из родных больше его к себе не пускали уж.
ТЕТЕНЬКА КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
I
Все родственники жили у нас по одной стороне, то есть, выезжая из дому, надо было забирать все влево, так как в левой от нас стороне они жили; в правой стороне жила только одна тетушка Клавдия Васильевна.
Но тем не менее, по причине, которая ниже будет объяснена, тетушку Клавдию Васильевну, или тетю Клёдю, как мы, дети, все ее звали, родственники, однако ж, не забывали и ездили довольно часто к ней в Дубки — ее имение, если она не проживала у кого-нибудь из них «в нашей стороне». Она, как это тоже будет видно и объяснено ниже, очень любила гостить в нашей стороне, но иногда по месяцу и более жила у себя в Дубках, и тогда нужно было уж ехать к ней туда.
Ездили туда и мы с матушкой, то есть матушка, я, сестра Соня и гувернантка наша Анна Карловна. У тетеньки Клавдии Васильевны мы оставались недолго, дня два — много три, и обыкновенно возвращались домой с нею, то есть привозили ее с собою, и она гостила у нас, а потом ехала к другим родственникам и т. д., кружась в нашей стороне уж всю остальную зиму.
Тетенька Клавдия Васильевна была двоюродная сестра матери. Это имение Дубки, куда мы ездили, было не ее собственно, а ее брата Василия Васильевича, а ко времени этого рассказа принадлежало сыну его — Андрюше, которого тетенька Клавдия Васильевна воспитывала, так как его мать умерла еще раньше отца и он был теперь круглый сирота. Андрюше в это время было лет девять. У него была гувернантка, а потом были и гувернеры.
Дубки было большое имение. Я теперь не могу сказать наверно, сколько в нем было душ и десятин земли, но дядя Василий Васильевич считался богатым. В Дубках была большая усадьба, хотя никогда не содержавшаяся в порядке, но впоследствии, во время управления тетеньки Клавдии Васильевны, и совсем даже стала запущенной, обветшала и многие постройки представляли развалины. Это, однако, не значило, что тетенька запустила так же и имение, то есть его доходность. Напротив, она составила Андрюше капитал, которого не было у его отца и, может быть, не было бы и вовсе, если бы управление имением попало не к тете Клёде, а к кому-нибудь другому.
У самой тетеньки лично ей принадлежащего имения не было, так как она при разделе с братом свою часть ему уступила и он выплатил ей за нее деньгами. У тетеньки был поэтому только капитал. Впоследствии она и его отдала Андрюше, то есть он достался ему после ее смерти.
Тетенька Клавдия Васильевна была девица. Она была небольшого, ниже среднего, роста, худенькая, гладко причесанная, с маленьким, не стареющимся лицом, на котором были смеющиеся глазки и вечная улыбка на губах. Как бы тетенька ни была огорчена чем-нибудь или раздражена кем-нибудь, она постоянно все равно улыбалась, а глазки у нее смеялись. Лицо же у нее и в шестьдесят лет было такое же, каким оно было и в шестнадцать лет, как утверждали знавшие ее и в то время; седых же волос у нее и совсем не было. У тетеньки Клавдии Васильевны было много женихов в молодости и даже потом, когда она была в средних годах. Один из них, какой-то офицер, имел даже поединок из-за тетеньки с своим соперником — местным помещиком, искавшим тоже ее руки; но тетенька всем им отказывала, предпочитая оставаться в девицах.
Не знаю почему, но при ней довольно часто заводили речь о ее женихах. Это делалось, кажется, из одного желания угодить ей, так как ей это доставляло удовольствие. А тетенька, зная, что всем известно, что у нее было много женихов и что не они от нее отказывались, а она сама им отказывала, при этом всегда говорила:
— Никто меня, бесприданницу, и такую злющую и скупущую, не захотел замуж за себя взять, — намекая в то же время этим на доходившие до нее слухи, что ее так называют родственники ее, берущие у нее деньги взаймы за проценты.
— Ну, кто же это тебя. Клавденька, так называет, глупости какие, — скажет ей, бывало, кто-нибудь из них, присутствующих здесь.
— Все...
И смотрит, улыбается...
— Бог знает что, Клавденька!..
— Нет, почему же?..
И она пойдет рассказывать, какая она действительно и «скупущая» и «злющая», причем будет приводить те самые примеры, которые кто-то из родственников, разговаривая о ней за глаза, приводил в доказательство. А он, этот родственник, сидит тут и слушает. Он должен ей, он видит, что она знает, ей передали его разговоры о ней, а она не только, по-видимому, не злится на него, но совершенно согласна с ним, что действительно она и «злющая» и «скупущая».
Эти разговоры обыкновенно кончались или ее иносказательными рассказами о том, как какой-то человек, который сам себя считал благородным и которого все считали тоже таким, взяв деньги взаймы, не только не отдал их в срок, но даже не озаботился о процентах, даже не счел нужным приехать или известить письменно, что лично извиниться не может, просит подождать, что приедет и привезет тогда-то, — или эти разговоры и рассказы она кончала тем, что кто-нибудь из родственников, не нуждающийся в деньгах или нуждавшийся и занимавший их у нее, но уже отдавший, круто и резко перебивал ее какими-нибудь посторонними рассказами или вопросами, обращенными ко всем вообще. Тогда тетенька, обыкновенно улыбаясь и смеясь глазками, утихала, замолкала и только поглядывала на тех, в ком рассчитывала встретить сочувствие хотя бы потому, что они ей были должны и не успели еще отдать, — следовательно, зависели от нее...
Она очень любила проценты, ужасно любила, когда у нее занимали деньги, — тогда еще не было такой безнадежной у всех нужды в деньгах, как это стало впоследствии, и потому все, более или менее аккуратно, отдавали ей их, — и оттого она всем почти, за редкими уже исключениями, давала взаймы, но долг ей все-таки считался из самых неприятных, и все от него старались отделаться как можно скорее. Пока срок не наступил еще, она о долге такого-то ей никому обыкновенно не рассказывала, но если срок наступал уже и расписка или заёмное письмо не были переписаны или проценты уплачены, она начинала всем — и своим и чужим — рассказывать об этом со своими рассуждениями о честности и благородстве и о том, как она, злющая и скупущая, вот всех, однако, выручает.
В таких случаях она обыкновенно поселялась у своего неисправного родственника, — кроткая, улыбающаяся, но зорко следящая за каждой получкой в хозяйстве должника, выведывая у прислуги, чего не могла дознаться и проследить сама. Это сиденье ее родственники называли «экзекуцией», и чем она становилась слаще и угодливее, по-видимому, к ним, тем невыносимее было их положение. Она в это время вмешивалась во все с своими добрыми советами и своими участиями, доказывая намеками и примерами в своих рассказах, что душевный покой для них дороже какого-нибудь гривенника на четверть ржи или овса, который родственники-должники старались выторговать у приехавшего к ним покупателя, не соглашаясь отдать ему рожь или овес за его цену.
Все это приводило к тому, что в конце концов, лишь бы избавиться от ее долга и чтоб только она уехала, рожь или овес отдавались по чем попало, долг она свой получала и уезжала на «экзекуцию» к другому родственнику, срок долга которого наступал или уже наступил и от него не было получено ни уплаты, ни процентов, ни письма с просьбой обождать до такого-то срока, когда он продаст то-то и то-то и заплатит ей.
II
Замечательно также было и любопытство ее. Бывало, приедет от кого-нибудь посланный с письмом или привезет известие так, на словах, — она не успокоится, пока не узнает доподлинно, в чем дело, или, зная, что она страдает, не дадут ей прочесть самой письмо. Прочтет или узнает; скажут ей, что посланный привез на словах, и успокоится, повеселеет. Прямо ей спросить не хочется, не решается, а успокоиться без этого не может, пока ей не станет все ясно и известно. Отец так даже не пускал ее никогда в кабинет к себе, а когда он, бывало, уезжал куда-нибудь в то время, когда она у нас «гостила», или просто даже только уходил — в сад, на конюшню, даже наверх, в мезонин, — то все равно — кабинет на ключ.
Сидим, бывало, все в гостиной или в столовой, вдруг отец вспомнит что-нибудь и кликнет лакея.
— Тебе, мой друг, что? — глядя на него своими улыбающимися глазками, спросит тетя Клёдя. — Принести что-нибудь? Сиди, я принесу тебе.
— Ты не знаешь, не найдешь.
Но она вдруг, к общему удивлению, скажет, где такая-то вещь, которая понадобилась отцу, лежит у него в кабинете.
Изумительно это было!
— Да когда же ты это успела увидать?
— А помнишь, намедни ты занимался, читал или писал там, а я проходила... И видела... Погоди, я сейчас тебе, принесу...
Но отец обыкновенно останавливал ее, говорил, чтобы она не беспокоилась, и мы кто-нибудь — сестра или я — бежали в кабинет за нужной ему вещью.
Когда ей хотелось что-нибудь непременно и наверно узнать, и ей почему-нибудь, — не желали, не знали, иногда даже просто не догадываясь, что это ее так интересует, что это ей далеко не все равно, — не говорили, и она долго все не могла узнать, — она ходила сама не своя, растерянная, чуть не больная.
— Что с тобой, Клавденька?
— Так, ничего.
— Нет, серьезно, ты какая-то такая.
Она посмотрит своими смеющимися глазками, улыбнется и вдруг скажет:
— А вот ты третьего дня письмо от Борисова получил, он не пишет тебе, продал он пшеницу и почем?
— Он совсем не об этом пишет. Он о лошадях пишет, спрашивает, не продам ли я ему.
— Ты не хочешь сказать мне правду. Может, это у вас секрет, и он просил тебя, чтобы ты не говорил мне?
— Да никакого секрета тут нет. Просто, я тебе говорю, он о другом совсем мне пишет.
Стоит, смотрит и улыбается глазами, и видно, что она не только не верит нисколько, но, напротив, глубоко убеждена, что от нее скрывают именно вследствие какого-то заговора против нее.
— Ну, не веришь, изволь, я тебе покажу сейчас его письмо, если только оно цело у меня. Я, кажется, разорвал и бросил его.
И она пойдет, бывало, вместе с ним в кабинет и ждет, пока он поищет ей письмо, помогает, указывает: поищи там-то, посмотри тут-то, что такое вот это — не оно ли и есть? и если нет его — оно изорвано и брошено в плетушку, и она увидит клочки его там, — то не успокоится, пока не соберет их из плетушки, не сложит и не прочтет, а кстати сложит уж и прочтет и другие письма, которые изорваны и также лежат там.
— Ну что, прочла, успокоилась?
— Теперь успокоилась...
Любопытство у тетеньки было так велико, что превозмогло даже ее скупость. У нее в каждом доме были шпионы, подкупленные люди из прислуги, которые ей и доставляли все сведения, какие ей были нужны, приносили для прочтения письма; разумеется, не понимая сами иногда хорошо разговора, путали, передавая ей его содержание, иногда, вследствие ее настояний, нарочно выдумывали и говорили ей, чего никогда даже и не было, и она потом ходила от этого как мученая: сказано, передано ей было одно, а между тем она видела и выходило даже на самом деле совсем другое. А пока это все выясняется и объясняется, она мучается, страдает.
Но иногда ее любопытство и наушничание ей прислуги, подкупы ее бывали причиной ужасных, отвратительных сцен. Выведенные из терпения, раздраженные ее приставаниями и намеками, да еще особенно когда бывали ей должны, а денег на уплату еще не было, господа начинали допытываться, откуда идут эти ее подозрения в сокрытии от нее чего-то, и узнавали виновного, который доставлял ей эти неверные сведения. Тогда, при крепостном порядке, суд был скорый, и этим судом не особенно стеснялись...
Но ужаснее всего было то растлевающее влияние ее, которое она вносила в свое общение с детьми тех, у которых она гостила и которые были должны ей. Она, не терпевшая всю свою жизнь детей, вдруг начинала чувствовать какую-то особенную слабость или нежность к кому-нибудь из них: дарила разные безделушки, сладости, призывала к себе, под предлогом, что она будет слушать, как какой-нибудь Коля или какая-нибудь Оля будут читать, а она будет им рассказывать и объяснять. Ничего не подозревая, — что, кажется, естественнее этого? — сперва не обращали на это никакого внимания, даже радовались, что она нашла себе наконец ребенка по сердцу и целыми днями сидит с ним. Но вдруг все объяснялось. Она выведывала от него все, подкупала его, чтобы он ей все рассказывал: кто был в такой-то период времени без нее, кто и о чем говорил, и проч., и проч.; учила брать со стола из кабинета или из другой комнаты письма и приносить их ей для прочтений. Когда же это открывалось, ребенка наказывали, удаляли его, разумеется, от нее, а ее упрекали и выговаривали ей за это. Но она начинала от всего отговариваться и отрекаться, уверяя, что ничего этого не было никогда, что ребенок это все выдумал, что на нее взводят, по обыкновению, все напрасно, и даже начинала плакать.
— На меня все можно выдумать. На другого нельзя, а на меня все можно.
— Да разве это выдумка?
— Конечно, выдумка.
— Ты не подкупала его приносить тебе письма?
— Нет.
— Клавденька!
— Он сам принес и говорит: «Тетя, прочтите, что тут написано?» Ну, я и прочла.
— Да зачем ему-то нужно было это?
— А мне зачем?
— Если это тебя интересовало почему-нибудь, то ты бы лучше сама спросила, тебе бы сказали, но не учила бы ребенка тихонько брать и приносить тебе.
— Я не учила.
— Сам он принес?
— Сам.
И после этого она к попавшему в немилость ребенку моментально делалась такой же холодной и равнодушной, как и ко всем остальным, как была холодна прежде и к нему. Но если он представлялся ей таким, что; когда пройдет гроза и все забудется, — может еще годиться ей наперед в будущем для этих же целей, она мимоходом, когда не видали этого и не замечали, ободряла его, обещала вскоре опять что-нибудь подарить или привезти конфект...
Под конец все уж это знали и береглись ее пуще всего: как, бывало, она приезжала куда, так первою заботою было изолировать от нее детей, для чего строго-настрого наказывалось гувернанткам следить за ними, чтобы она не входила ни в какие сношения с детьми и чтобы они ничего ей не рассказывали. А если придет и начнет сама расспрашивать их, то им велено было, чтобы они ей отвечали, что ничего знать не знают, ведать не ведают.
Но все-таки, при всем этом, все с нею мирились и она всюду ездила, потому что у нее всегда были с собой наготове деньги, которые можно занять.
III
Как было сказано выше, после дяди Василия Васильевича остался сын Андрюша, находившийся теперь на попечении у тети Клёди. Первое время она не нанимала ему гувернантки, и он, разъезжая с нею по родным, учился вместе с их детьми: приедет она с ним к нам — он учится с нами вместо у наших гувернанток; от нас поедет к Емельяновым — учится у них, с их детьми, у их гувернанток, и так целый год. Она это делала, без сомнения, столько же из скупости, сколько, первое, по крайней мере, время, в предположении, что через него, находящегося постоянно в обществе с детьми тех, у кого они гостили, будет разузнавать все и выслеживать.
Так вначале это и было, но потом все, совершенно, конечно, неожиданно для нее, изменилась. Она приезжала обыкновенно с Андрюшей и его нянькой и со своей горничной Марфушей, высокой, худой и сухой девушкой с длинными красными пальцами и крупным рябым лицом, ходившей от своего высокого роста несколько как бы согнувшись. Андрюша вначале, как стал я его помнить, — почти мой ровесник — на год старше меня. — был мальчик очень живой и веселый, но потом, годам к девяти, к десяти, ко времени, к которому относится этот рассказ, он изменился вдруг и затем все более и более делался странный какой-то, задумчивый, нервный и иногда, без всякой видимой причины, грубый и раздражительный.
К этому времени он был, несомненно, развитой мальчик, но развившийся как-то не так, как мы все — его сверстники, а по-взрослому: и занимало и интересовало его больше всего то, что рассказывали и о чем говорили взрослые, а вовсе не мы, с нашими новостями и нашими радостями и планами. К этому же времени и все, опасавшиеся его как тетенькиного шпиона, перестали не только опасаться, но даже полюбили его и думали уж не о том, что он ей донесет что-нибудь, а как бы сгладить его резкое с ней обращение, смягчить его, примирить с ней, если можно так сказать. Тогда у него была уже и гувернантка своя, хотя она все равно продолжала всюду возить его с собою. Он был постоянно в раздраженном состоянии относительно своей тетки. Она это несомненно, разумеется, замечала, но не понимала, что ли, отчего это происходит, или думала, что она это победит в нем, только, при нас по крайней мере, на раздражение его всегда отвечала той же улыбкой и смотрела на него теми же своими все смеющимися глазками. А это его, кажется, еще пуще раздражало. И он, кроткий, вежливый, даже застенчивый и робкий с чужими, с нею бывал дерзок и груб, так что никто бы не поверил, если бы кому рассказывали про это и они сами не видали, не бывали этому свидетелями.
— Она это его сделала таким, — мы слышали, говорили все.
— Конечно, она. Она во всем виновата. Разве он не видит, не понимает всего?
— Он уж ей отплатит за все. Подождите, вот он вырастет, увидите. Ему теперь который год? Девять? Ну вот, погодите еще пять-шесть лет, увидите, что у него за обращение будет с ней.
— Она, она, конечно, во всем виновата. И мальчик очень способный, — ведь это сейчас же видно, — очень развитой, — говорили все, — с ним надо очень умеючи и очень осторожно обращаться. Вы думаете, разве он не видит, не понимает и, ее положения и своего, в которое она его ставит? Все он, конечно, понимает...
Мы всё это слышали, были на его, понятно, стороне, не понимая только тогда, в какое же такое она его положение ставит и чем нехорошо, собственно, ее положение, то есть именно что в нем — в этом ее положении — такого, что бы оправдывало его дерзость к ней и его грубое и всегда враждебное к ней отношение; чем она могла так раздражить, так вооружить его против себя?
Особенно, я помню, меня поражало всегда, когда она что-нибудь говорит, рассказывает о ком-нибудь, вот как я говорил, иносказательно, в назидание кому-нибудь из присутствующих, чем-либо задевших ее или против кого она имела что-нибудь, а он сидит тут же, вместе с нами, и уж нисколько не занятый нами, не интересуясь нами совершенно, слушает ее, глаза-то у него злые-злые тогда, и все это, несомненно, у него против нее, а вовсе не против обидевшего ее или того, про кого она рассказывает. А она видит все это, видит его взгляд и, как ни в чем не бывало, улыбается и на него так же, как и на всех, и так же у нее и на него смеются глаза. А он, сам не свой, побледнеет даже иногда, потом глубоко-глубоко вздохнет и тихо уйдет.
Но так — во всем он ей уступал. Она, например, скажет, чтоб он шел учиться, — он встанет и безропотно, безоговорочно пойдет. Скажет, чтоб он не ходил гулять, — сыро после дождя или так почему-нибудь, — он и не пойдет. Скажет, что завтра надо ехать от нас, и как ему ни хорошо всегда было у нас, он никогда не станет просить ее остаться. Она показывала даже над ним свою власть, оставляя его за что-нибудь без последнего блюда или не пуская гулять, когда все гуляли, заставляла учиться, когда все уж кончили и играли, — он все, это переносил совершенно безропотно, без всяких возражений ей и никогда не оправдываясь перед ней, хотя бы и был совершенно прав, точно он это делал по собственному побуждению, — не она это сделать ему приказывала, а сам он этого захотел и сам так делает. И не было в этом даже желания досадить ей этой своей покорностью: «ты вот, дескать, думала, что я не буду исполнять этого или буду просить прощения, — так вот, нет же, не будет тебе этого, не доставлю этого тебе удовольствия...» Нет, не это совсем было, а что-то выше этого и потому, пожалуй, еще более для нее оскорбительное, какое-то игнорирование ее, почти брезгливое нежелание связываться с ней, объясняться, в уверенности, что все отлично и без этого понимают, что ей не следовало бы так с ним поступать и что все симпатии все-таки на его стороне... Теперь я могу, конечно, гораздо точнее и определеннее выразить и формулировать это, чем тогда, но и тогда мы уже понимали, что это были какие-то особые его к ней отношения, совсем не такие и ничего похожего даже не имеющие с отношениями всех нас к своим родным, и они производили на нас неотразимое и глубокое впечатление. А старшие, потом при нас говоря о них — этих отношениях — и разбирая их, отзывались об Андрюше и с сочувствием и с опасением за него, что она ожесточит его и бог знает что за характер сделается у него. А так вообще со всеми без нее он был, напротив, очень добрый мальчик, отзывчивый, впечатлительный, вдумчивый и жалостливый. Как всегда это бывает с детьми, у которых в характере есть какая-нибудь непонятная, но вместе с тем серьезная черта, к Андрюше мы все, а я в особенности, относились с уважением и, по безмолвному какому-то соглашению, считали его между собою авторитетом. Я был, как это бывает часто у детей, совершенно в зависимости от него, покорен ему, влюблен в него и считал его своим идеалом. Я постоянно советовался с ним, спрашивал во всем его мнения, и как он сказал, я так уже рабски и делал, поступал, как бы я сам пришел к этому своим умом. И он, разумеется, понимал это, но только не показывал и вида.
Но я и теперь, зная уже по опыту, что из условий, самых, казалось бы, невозможных и неблагоприятных, могут вырабатываться, напротив, характеры и необыкновенно честные и прямые, отзывчивые и великодушные, — все-таки понять не могу, как мог при тех условиях выработаться и сложиться этот мальчик?..
И отец, и матушка, и все у нас Андрюшу любили и относились к нему с каким-то особенным вниманием, как, впрочем, и везде, и это вовсе происходило не потому, что он был сирота и племянник родственницы, которой все прощали потому только, что были ей все должны, а за его личные достоинства и за удивительную, грустную, задумчивую симпатичность его. Он был и по наружности тоже очень симпатичен — высокий не по годам, худощавый, необыкновенно сдержанный и весь изящный — в манерах, в голосе, во взгляде больших, серых, задумчивых и умных глаз, которые невольно привлекали к себе. Вот только когда он слушал рассказы и рассуждения о ком-нибудь тети Клёди и злое чувство зарождалось и разгоралось у него во взгляде, он вызывал невольное к себе участливое сострадание, как к больному, хотя и было неприятно видеть и замечать это в нем, все-таки еще совсем ребенке. Это намекало на что-то, что было вне его природы, вне его всего, что еще более заставляло сочувственно относиться к нему и жалеть его. Казалось, это был протест его природы против безобразного и исковерканного характера его тетки, которой он, в силу обстоятельств, был подчинен и все безобразия которой он должен был пока терпеливо переносить...
IV
Крымская война была в полном разгаре. И у нас в доме и везде, куда мы ни приезжали, все только и было речи, что об известиях о войсках. Газеты, какие тогда были, читались с жадностью, и приносимые ими известия были предметом толков, ожиданий, надежд и досадных, будивших еще больше чувства, разочарований... Получались письма от родственников, у кого такие были, с места военных действий, и с ними ездили друг к другу и их также читали, делая из них и на основании их выводы о войне, о том, как вообще идут наши дела.
У нас там, на войне, также было несколько человек родственников, и мы получали от них время от времени письма, которые и читались, перечитывались бесконечное число раз — всегда, когда кто-нибудь приезжал к нам из родных или соседей. Мы, дети, слушали их, зная уж чуть не наизусть многие места, почему-нибудь обратившие на себя наше внимание. Но больше всего интересовали нас журналы с рисунками — «Художественный листок» Тимма[20], в котором помещались портреты всех чем-нибудь отличившихся на войне — все равно, солдат, офицеров, генералов; помещались целые виды сражений, переходов через реки, лазаретов, батарей, а также и портреты знаменитых неприятелей — начальников французских, турецких и английских войск. Мы их рассматривали и запоминали фамилии Непира, Бурбаки, Мак-Магона, Сент-Арно, Пелисье, рядом с нашими: князем Меншиковым, Остен-Сакеном, Баклановым, Щеголевым, матросом Кошкой[21] и проч. Листок этот выходил как-то часто, не помню уж теперь, еженедельно или ежемесячно, но я живо помню то нетерпение, с каким мы ожидали его, и тот интерес, с которым мы рассматривали нумера, когда они наконец получались с почты. И не мы одни, дети, — все их рассматривали с увлечением, делая каждый свои замечания и оценку действующих лиц по их портретам. Живо, как сейчас, проходит перед моими глазами эта длинная галерея лиц...
Но вот скоро разнеслась новая весть — ополчение собирают! И эта весть всколыхнула весь край, доступный нашему ведению. Весь интерес всех сосредоточился на этой вести. Одни были озабочены выборами, другие избранием в офицеры, начальники ополчения, и все — набором ратников — рекрутов-ополченцев. То и дело приезжали и уезжали соседи, куда-то спеша, озабоченные, возбужденные. И казалась нам странною при этом их радость, их бодрый вид и нетерпение. Все говорили до этого и рассказывали про такие ужасы войны, а теперь вдруг все обрадовались идти туда и только боялись одного — не быть избранными.
— Ведь это что такое — батальонным командиром если? — ведь это пять тысяч в карман. Это безгрешно, не обижая нисколько людей, а то и все восемь... — громко, нисколько никого не стесняясь, говорили кругом нас.
Мы слушали и понимали, что, вероятно, это что-нибудь хорошее и в самом деле и это так и должно быть.
Потом все куда-то — в губернский город — уехали, и на неделю или на две все опустело, затихло. Вернулись с известиями, что такие-то и такие-то выбраны и назначены.
И вот в это-то горячее и спешное время, под шумок так сказать, сперва совсем непонятные для нас, детей, начались слухи о какой-то купле и продаже ратников.
— Павел Николаевич трех продал по девятисот рублей.
— Что ж делать, сами судите, по этакой цене...
— Николай Иванович намедни был и говорил, что ему предлагал мещанин за одного тысячу двести, но они не сошлись: Николай Иванович хотел полторы тысячи.
И так далее, и так далее. Началась усиленная продажа людей, каким-то таинственным для нас путем, мещанам, — людей, преимущественно уж почти стариков, и об этом почти об одном только и была речь.
— Что это значит? В чем тут дело? — допытывался я.
— Продают людей внаймы, — отвечали мне, — в охотники продают. Надо мещанину идти в ополчение, он не хочет, ну и покупает вместо себя, ставит охотника.
— Он у кого же покупает?
— У помещика.
— Он почему же называется охотником?
— Потому, что он вместо мещанина идет. Охотник идет по охоте...
Темно это было что-то для детского понятия, и, я помню, никак я не мог удовольствоваться этим объяснением, которое мне кто-то давал.
Это мерзость, это вопиющая мерзость, — отвечал отец, когда наконец он возвратился откуда-то и я обратился к нему с расспросами и объяснениями.
— Как же они это делают?
— Как все делается...
— Стало быть, это можно?
— Нет, этого нельзя, и это делается обманным манером...
Я и из его объяснений тоже ничего не понял. Я понимал теперь, что этого не следует делать, он этого не будет делать, и даже однажды, когда к нам приехал мещанин и доложили, что он приехал покупать «охотника», отец даже не вышел к нему, а велел сказать, чтобы он убирался прочь, — и это было за обедом, при нас, при всех, — но в чем тут дело — это представлялось все-таки совсем непонятным.
В голове образовался от этой толкотни, от массы сведений и новых все известий, от напора новых мыслей и представлений, вызванных войною и обстоятельствами, которыми она сопровождалась, и к тому же для нас, удаленных от нее, — такой сумбур в понятиях, так не вязался он со всем тем, что мы видели вокруг себя раньше, со всей той жизнью, которой жили до сих пор, что не детской голове было со всем этим освоиться и разобраться во всем этом
— За веру, царя и отечество! славная надпись.
— Да, вернемся ли — неизвестно...
— Жалованье ротному пустое, но доход...
— Да нет-с, позвольте, начальник уездного ополчения сколько получает? Ведь у него, все равно что у полкового командира, все офицеры будут обедать... Не может же он им редьку с квасом подавать? Что ж, ему свои тратить? Доход со своего имения?.. Это даже странно слышать. Это всегда так было и всегда так будет. Тут ничего безнравственного нет. Это совершенно даже законно! Мало ли чего в законе нет! В законе не сказано, чтобы откупщик[22] платил, а между тем он всем платит, и ничего тут беззаконного нет!..
А в другой группе слышался другой спор.
— В топоры пойдем! Не дают солдату развернуться.
— Еще Суворов сказал: пуля дура, штык молодец...
— Меткая стрельба важна в цепи. Для этого существует стрелковая рота, а в сражении все дело в натиске. Быстрота и натиск.
— Наша ошибка вся в том только и заключается, что у нас...
Но голос помещика, нашедшего общую причину наших неудач, заглушает и покрывает другой уж голос:
— А вот про интендантство и комиссионерство я не спорю — это будет другое дело совсем, а я бы их всех...
— Солдат наш все вынесет, в мире нет такого солдата! Наполеон, когда его спросили, да не теперешний, а настоящий, и тот сказал...
Разобраться в этой массе сведений и положений не было никакой возможности, что, однако, нисколько не мешало задумываться нам, детям, над противоречиями, которые мы слышали при этом. Точно так же, как и все, и я слышал то и дело такие разговоры, старался понять их и понимал только то, что они — эти разговоры — всем очень близки к сердцу и к карману, и они спорили совершенно откровенно. Но я бы и половины их не понял тогда и, конечно, не запомнил бы, если бы не случилось одно обстоятельство, которое нам, детям, тогда все осветило, и мы всё поняли и оттого и запомнили все эти разговоры.
В начальники нашего уездного ополчения попал двоюродный брат матушки, дядя Алексей Иванович С — тов, или дядя Алеша, как мы его звали. Это был человек лет сорока, когда-то имевший хорошее и даже большое состояние, но спустивший его на службе, весь в долгах и любивший очень выпить. Мы его не помнили иначе как выпившим. Всегда с трубкой, в расстегнутом отставном военном мундире, с болтающимся у борта георгиевским крестом, вечно спорящим и вечно всех бранящим. Почему-то в уезде его побаивались и считали человеком, который всем в глаза скажет правду, никого не побоится. Теперь, когда наступило военное время, и только и речи было, что о войне и об ополчении, и его выбрали в начальники уездного ополчения, он стал снова авторитетом. Отец не любил его, и он бывал у нас редко, но, отправляясь в скором времени в поход, он приехал к нам проститься и застал у нас тетю Клёдю, которой он был должен и которая уж давно считала его самым неисправным своим должником, а теперь, с его отъездом и с возможностью для него быть там, на войне, убитым, и вовсе считала свои деньги пропавшими. Какой уж у них разговор был раньше, мы не знали, но когда за нами пришли и позвали нас в диванную пить чай, мы застали тетю Клёдю и дядю Алешу в сильном возбуждении, и дядя Алеша, что-то ей доказывая, ссылался на отца.
— Ну, докажи ей, пожалуйста, — обратился он к отцу, что уж по крайней мере у меня будет семь-восемь тысяч доходу, и я ей вышлю с дороги деньги через месяц же.
— Нет, ты уж меня извини, Алексей Иванович, я этих мерзостей ваших не знаю, и я никогда не служил к тому же, — отвечал ему отец. Встал и хотел уйти. Дядя его остановил.
— Каких мерзостей?
— А вот этих... доходов, как вы их называете.
— Какие же это мерзости?
— По-моему, мерзости, а ты можешь и не считать их мерзостями.
— Это доход!
— А по-моему, совсем другое.
— Что же, по-твоему?
Отец остановился и, смотря на него, сказал:
— Да какое тебе дело до того, как я понимаю.
— Нет, я хочу знать.
Вышла сцена, после которой дядя Алеша уехал, шумно протестуя, что ему нанесено оскорбление, после которого он не может оставаться в доме и никогда не будет бывать у нас.
В этот же вечер за ужином мы слышали остаток или конец разговора по этому поводу между отцом и присутствовавшей при сцене за чаем тетей Клёдей.
— Хороши эти патриоты: едут, как говорят, проливать кровь за отечество, а сами прежде всего только и думают, только и говорят о том, сколько кто из них будет иметь возможности воровать при этом. Это называется доходами! Воровство называется доходами у них! — говорил отец, ни к кому, по-видимому, прямо не обращаясь.
И вдруг, к общему удивлению нашему, обыкновенно молчащая в присутствии отца, тетя Клёдя с нервной дрожью в голосе возразила ему:
— А это лучше разве, что он увезет теперь тысячу рублей сиротских денег? Я ему из Андрюшиных дала.
— Я вас никогда не просил ни давать ему моих денег, ни заставлять его воровать для того, чтобы вам возвратить их! — услыхал я, еще более для меня и для всех неожиданно, голос Андрюши, сидевшего рядом со мною. Когда я оглянулся на него, он буквально весь трясся.
Тетя Клёдя сидела бледная, старалась улыбнуться, смотря своими смеющимися глазками на Андрюшу, но улыбка не выходила у нее на лице. Все замолчали и смотрели кто на нее, кто на Андрюшу.
— Андрюша, мой друг, — сказал тогда отец, — ты ошибаешься, мой милый: тетя не требует, чтобы он для нее воровал, — это я сказал, что деньги, на которые он рассчитывает, воровские будут.
Андрюша, прищурившись, смотрел на него и точно не понимал, что он ему сказал, — это видно было по нем.
— Ты напрасно, я говорю, обидел тетю; ты не понял меня, — повторил ему отец.
Но с Андрюшей точно что сделалось — он вопросительно посматривал на всех, то на того, то на другого; наконец опустил голову и задумался. Но это все было так странно, так необычно, что все, тоже молча, продолжали смотреть на него, как бы боясь пробудить его. Некоторые, в том числе отец, делали тете Клёде знаки глазами, чтобы она тоже не тревожила его, оставила так. К нему подошел было лакей с каким-то блюдом, но Андрюша не поднял на него головы, и матушка махнула лакею рукой, чтобы он не дожидался Андрюши и подавал дальше. Так кончился ужин, и мы встали из-за стола. Андрюша, когда задвигали стульями, тоже поднялся, машинально подошел, чтобы благодарить, к матушке, к отцу, со всеми простился и пошел к себе в комнату, где он спал. Я зачем-то замешкался, остался еще в зале, где уж убирали со стола, и слышал разговор отца с матушкой и тетей Клёдей.
— Ты будь с ним осторожней, пожалуйста, — говорил отец тетушке, — ты видишь, до чего он нервный, с ним бог знает что может случиться.
— Дерзкий мальчишка. Я его завтра на целый день посажу учиться, — отвечала она.
— Напрасно...
— Для него же я все стараюсь, а он...
— Ах, Клавденька, — возразила ей матушка, — да разве он может теперь это понимать...
Меня послали спать, и я не слыхал конца их разговора. Я был очень обеспокоен тем, что такое сделалось с моим другом?
На другой день тетя Клёдя совершенно неожиданно вдруг объявила, что она едет: начала укладываться, собралась, ей запрягли лошадей, и она уехала к себе в Дубки.
Но у меня с этой поры, точно завет, оставленный мне моим другом, не выходили из головы разговоры ополченцев, которые всё продолжали бывать у нас, приезжали по своим делам, приезжали прощаться. Они вели всё те же разговоры, но я уж их слушал не так, как прежде, а осмысленно теперь, и когда у них заходила речь о будущих их доходах и вместе «о делах», то есть о сражениях, и они все, как бывшие военные, вспоминали при этом случаи из бывшей ранее этого венгерской кампании[23], я все старался объяснить себе, как же это так они собираются и сражаться, — следовательно, рискуют умирать, — и в то же время собираются воровать, то есть обворовывать солдат?
Однажды после долгого такого их разговора и потом долгих моих размышлений о нем я решился только спросить отца.
— Это ты все не теперь, а со временем поймешь, — ответил он мне, но при этом как-то странно посмотрел и добавил: — А почему это тебя интересует?
— Так, как же это так?
— Это тебя Андрюша навел на это?
— И Андрюша и сам я.
— Он странный, но он очень хороший мальчик, — закончил отец и оставил меня.
V
Прошло недели две. Наступило время отправления ополченцев. Однажды вечером вдруг к нам приехала одна наша родственница, двоюродная или троюродная сестра матушки. Она вскоре по приезде, после первых же обменов приветствий, объятий, целований, ушла с матушкой в ее спальню, и они о чем-то там долго говорили, она плакала, туда приходил отец, и мы вечером же узнали, что матушка с ней на другой день отправляются к тете Клёде в Дубки по делу. Я стал проситься, чтобы и меня взяли с собою. Матушка согласилась, тем более что это был как бы ответный визит Андрюше с моей стороны. Утром после завтрака запрягли нашу карету, и мы вчетвером — матушка, эта родственница, ее двоюродная или троюродная сестра, муж которой тоже попал в ополченцы, я и матушкина горничная — уселись и поехали, по обыкновению налегке, с тем чтобы через день или через два вернуться домой. Я был в восторге, что увижусь с моим другом Андрюшей.
Когда мы сели в карету и она тронулась, родственница прослезилась и начала целовать матушку, называя ее спасительницей своей и своего мужа. Я тут же сразу все узнал — в чем дело, зачем матушка ехала с ней к тете Клёде. Из их разговора, некоторые места которого, чтобы не понимала всего горничная, они вели по-французски, я узнал, что мы ехали, действительно, по денежному делу упрашивать тетю Клёдю, чтобы она отсрочила уплату долга мужу нашей родственницы, так как она подала на него ко взысканию и имение у него продадут в то время, когда он будет в походе с ополченцами. Я узнал даже и сумму долга ее мужа тете Клёде — десять тысяч и, кроме того, проценты. Долг этот был уже старый, тетя Клёдя давно уже домогалась получить его, но все довольствовалась тем, что тот ей прибавлял расписок, а теперь, когда он уходил в поход и ему предстояло, может быть, и умереть, она решила продать заблаговременно за долги его имение. До ухода ополченцев оставалось что-то около месяца, так как еще не все рекруты у всех были сданы, и это дело шло ускоренным порядком, с ним торопились, и разъезжали по помещикам для этого какие-то чиновники, кроме становых и исправников. А тетя Клёдя в эту сумятицу-то вздумала приставать с своими долгами и довела до того, что имение в недалеком будущем назначено было в продажу, если он не внесет тетеньке всех денег. Всю длинную, скучную дорогу до Дубков родственница рассказывала об этом с разными подробностями и при этом несколько раз принималась плакать. Матушка утешала, конечно, ее, обнадеживая, что, быть может, все обойдется еще хорошо, что она надеется уговорить тетю Клёдю, чтобы она отсрочила. Родственница слушала ее, моргала мокрыми от слез ресницами, потом принималась опять ее обнимать, опять плакала и опять рассказывала, рассказывала без конца.
Наконец мы въехали в огромную, полуразвалившуюся дубковскую усадьбу, карета подкатила к крыльцу, но нас никто не вышел встречать.
— Неужели дома никого нет? Узнай-ка, — сказала матушка, прежде чем выходить из кареты, нашему выездному человеку Никифору, успевшему тем временем уже спрыгнуть с козел кареты и хотевшему отворить нам дверцы.
Но тетенька была дома. Там только была по какому-то случаю суматоха в тот момент, когда мы приехали, и потому нашего приезда никто из людей не заметил.
— Здорова Клавдия Васильевна? — спросила матушка наконец выбежавшего к нам навстречу из дома лакея.
— Здорова-с. Клавдия Васильевна здоровы...
— А Андрюша?
— С ними припадок сделался с утра и до сих пор-с ещё. За доктором послали...
В дверях зала нас встретила, как ни в чем не бывало, тетя Клёдя, такая же улыбающаяся, гладко причесанная, худенькая, с маленьким личиком, с смеющимися глазами на нем. Она поздоровалась, поцеловалась с матушкой, потом также поцеловалась с приехавшей с нами родственницей, со мной, и мы пошли все в залу. Там, у окна, стоял какой-то мещанин в синей чуйке.
— Что с Андрюшей? — спросила ее матушка и оглянулась на этого мещанина. Тот ей неловко поклонился, потом встряхнул волосами и взялся за подстриженную свою бородку. — Что с Андрюшей? — повторила матушка. — Он болен, говорят, припадок с ним?
— Да, знаешь, с ним эти нервы опять, — отвечала по-французски тетя Клёдя и хотела казаться спокойной, но по лицу ее я увидал, что она чем-то страшно потрясена и возбуждена и что это на лице у нее не улыбка, а какие-то судорожные корчи.
— Да отчего это с ним? — продолжала матушка.
— Так... без всего... вдруг... Тут приехали мещане покупать охотников, ну, знаешь, эти все сцены... Марфушка я за это ее сошлю непременно — узнала, что я ее отца продала в охотники, кинулась просить к Андрюше, научила его, чтобы он мне наговорил дерзостей, ну, с ним и сделался припадок...
— Ах, Клавденька, и что тебе за охота! Ну, какая тебе нужда пачкаться с этим? Это очень, говорят, нехорошо, осуждают всех, кто это делает, — сказала ей матушка.
— Да?.. А я все-таки так хочу, потому что я имею право на это и мне дела нет, кто как на это смотрит, — корча рот свой в улыбку, отвечала ей тетя Клёдя.
— И что ж, ты послала за доктором? Где он, Андрюша?
— Погоди немного. К нему нельзя еще. Он только начал приходить в себя, он еще слаб.
— Давно это с ним?
— Первый раз с ним сделалось часов в одиннадцать утром, а потом, второй раз, часу в четвертом... Я уж послала за доктором.
В дверях угольной — мы прошли тем временем в гостиную и стояли посреди комнаты, разговаривая с тетей Клёдей, — показалась какая-то дворовая женщина из старых горничных, и тетенька легко крикнула на нее, чтобы она уходила, не подслушивала.
— Да может, она за делом? Может, от Андрюши? — сказала матушка.
— Никакого дела. Все подслушивать им надо... Я знаю и эта зачем. Вон в зале стоит еще мещанин, так она хочет узнать все, ее ли мужа я ему продаю? Так вот возьму же назло ей и продам сейчас, — нервно потирая своп худенькие маленькие ручки, говорила тетя Клёдя и усиливалась улыбнуться.
— Клавденька, что ты! Господь с тобою, что ты сегодня такая? Успокойся. Ты взволнована так сегодня, — говорила ей матушка.
Родственница, приехавшая с нами, смотрела на нее с каким-то испугом, ожидая и своей участи тоже.
— Со мной так поступают, — отвечала тетя Клёдя, — назло делают, и я буду так делать... Садитесь, пожалуйста. Ну, а ты что, мой друг? — обратилась она ко мне вдруг. — Приехал тоже навестить свою злющую и скупущую тетку? Да?
И она взяла меня своими маленькими, короткими ручками за голову и поцеловала в темя.
Я ничего ей не ответил.
— Твой друг-то вот заболел, — продолжала она про Андрюшу.
— А мне можно к нему? — спросил я.
— Нет, погоди немного. Я очень рада, что ты привезла его с собою, — обратилась она к матушке, — с ним Андрюша скорее успокоится. Они так дружны...
В зале, осторожно ступая тяжелыми сапогами, ходил — было слышно — мещанин и время от времени слегка покашливал.
— И ты сколько же уж продала? Разве ты не могла другого какого продать — непременно Марфушиного отца, — спросила матушка.
— Ах, боже мой! Это почему же я не могу? Не госпожа разве я своим людям?.. Я семерых уж продала и сдала уж... Я и еще продам. Нынче такая цена... Когда же это еще такая цена будет?.. — отвечала тетя Клёдя.
Мещанин в зале опять заходил, покашливая.
— Я сейчас, на минуточку, — услыхав и обратив наконец внимание на эти шаги и покашливания его, сказала она, распустила улыбку, окинула нас своими смеющимися глазками и встала, чтобы пойти в зал, — я сейчас, велю ему погодить, посидеть в передней пока.
Она ушла, и мы все трое переглянулись. Что-то ужасное было в ней, страшно становилось уже не за людей ее, не за нее даже, а за самих себя, которые были у нее в гостях...
Матушка взглянула на родственницу, которая, боясь к тому же еще за свое дело, за успех его, сидела теперь совсем как потерянная, взяла ее за руку и тихонько ей сказала:
— Ничего... устроим как-нибудь. Пускай она успокоится, она теперь раздражена очень, и все обойдется благополучно.
Та крепко схватила ее руку и, уж не будучи в состоянии говорить, только переводила глаза с матушки на образ, висевший в углу в гостиной, и обратно.
— Ничего, ничего, бог даст, — повторяла матушка.
Переговорив с мещанином, тетя Клёдя опять вернулась к нам, и как будто успокоенная.
— А что ж я и не спрошу вас — вы обедали? — обратилась она к матушке.
— Мы закусывали... почти обедали, перед тем как ехать к тебе. Ты не беспокойся только, пожалуйста, Клавденька, — отвечала матушка.
— То-то, скажите лучше. Ведь все есть. А то будете потом говорить: «Вот злющая-то да скупущая-то нас как приняла, не накормила даже».
— Ну что ты, Клавденька!..
— А вы? — обратилась она к приехавшей с нами родственнице.
Та растерялась до того, что еле выговорила:
— И я... благодарю вас.
Тетя Клёдя, несомненно, догадывалась — я даже это мог видеть, — зачем и она приехала и матушка с ней, и, кажется, наслаждалась этим, торжествовала, что вот она получает удовлетворение, ей можно будет еще поиздеваться над кем. Но она томила ее и не спрашивала о цели ее приезда. Она даже начала ее мистифицировать:
— Ну вот, спасибо, я уже никак не ожидала, что меня вспомните, приедете. Я у вас по месяцам на экзекуции жила, — она знала, что проживание ее у задолжавших ей родственников они называют экзекуцией, — а вы, кажется, первый еще раз у меня?
Родственница смотрела на нее ни жива ни мертва, а матушка, глядя на тетю Клёдю, с упреком покачивала головой. Но она была неумолима и продолжала мучить ее своей утонченной любезностью, смешанной с иронией: справилась, не тревожит ли ее, что ее муж выбран в ополчение и теперь уходит на войну, здоровы ли ее дети, даже похвалила их, сказав, что они очень милые.
— Вот я к вам, — начала было родственница, приняв, кажется, эти расспросы ее за что-то искреннее и находя этот момент удобным, чтобы переговорить с ней о цели своего к ней приезда, — вот я к вам, Клавдия Васильевна, с покорнейшей просьбой приехала... так добры...
— Что такое? Я добрая? — вслушиваясь, с удивлением сказала тетя Клёдя. — Я — злющая и скупущая, а вы что такое? — добрая?
— Клавдия Васильевна... я приехала просить вас, умолять — отсрочьте нам на год еще! Муж мой продаст лес, и как только устроится это, сладится, мы вам внесем сполна...
— Да? Это ваш муж говорит? Да...
— Клавденька, — сказала матушка, — они действительно продают лес, и я знаю покупателя, но им надо справиться, надо подождать немного еще.
Тетя Клёдя смотрела с улыбкой на матушку, точно она хотела сейчас встать и расцеловать ее.
— Ты им отсрочь, ну хоть на полгода еще. Они отдадут тебе, я ручаюсь тебе в этом, — сказала матушка.
Но тетя Клёдя вдруг, как бы прислушиваясь к чему-то, насторожила уши, помолчала и, вставая и намереваясь выйти из комнаты, сказала:
— Сейчас.
Мы опять остались одни.
— Напрасно вы начали теперь. Надо было подождать, это надо было вечером уже об этом с ней поговорить.
— Ах, боже мой, вы не знаете моего положения, я с ума скоро сойду, — отвечала ей родственница, и опять глаза у нее наполнились слезами.
Матушка принялась ее утешать, говорила, что на все бог и надо надеяться, что она ее упросит, что она даст отсрочку.
Родственница крепко жала руки матери, смотрела на образ, потом опять на нее, утирала слезы и нервно всхлипывала. Послышались шаги возвращавшейся тети Клёди.
Она вошла улыбающаяся, даже радостная, сияющая, как нам показалось. Думая, вероятно, что это происходит оттого, что Андрюше лучше, что она была у него и убедилась в этом, матушка спросила ее:
— Ну что, Клавденька, лучше ему?
— Я не была у него. У него Агафья-ключница сидит, его нельзя тревожить, ему надо дать успокоиться... — Затем села опять в кресло и добавила: — Марфушку, эту подлую, наконец увезли сейчас в Ивановскую пустошь[24].
— Клавденька! Что ты делаешь? Ну, за что? Она же ведь тебя за отца просила! — воскликнула матушка.
Но тетя Клёдя, ничего не отвечая ей на это, переменила разговор и начала рассказывать, что дождик, ливший сегодня целый день, перестает к вечеру и погода хочет, кажется, разгуляться.
Чтобы не раздражать ее еще более, не перечить ей, все тоже начали говорить о погоде, жалуясь на дожди и наступающее холодное время
— У тебя, знаешь, Клавденька, и сыро здесь и холодно, — сказала ей матушка, — ты бы велела протопить...
Матушка сделала движение плечами от проникающего ее холода и сырости.
— Надо бы, ты находишь? Хорошо, я велю, только уж на ночь, погодя немного.
В доме, то есть в гостиной, где мы сидели, давно уже горели свечи. В угольную, смежную с гостиной, подали самовар, и там тоже зажгли две свечи. Мы все перешли туда. Когда мы там расположились вокруг чайного стола, к тетеньке из темного, неосвещенного зала, потом через гостиную, тихонько, ступая на цыпочках, пришел лакей и сказал, что в переднюю пришли староста с бурмистром и привели мужиков.
— Сейчас, — ответила ему тетя Клёдя, — я сейчас выйду к ним.
Тетя Клёдя налила нам чай, аккуратно прикрыла чайник сложенным вчетверо полотенцем, поставила его на самовар и, извиняясь, что должна оставить нас на минутку, вышла, направляясь в темный зал и потом, вероятно, в переднюю. Тем временем мы выпили налитый ею нам чай, — мы были голодны и, не желая раздражать ее, молчали, ожидая ужина, — матушка налила нам в ее отсутствие по другой чашке. Я встал и, так как матушка вела все тот же разговор с приехавшей с нами родственницей, обнадеживая и успокаивая ее, — разговор, который уж сколько раз я слышал, — то от скуки и в надежде, не увижу ли я кого и не узнаю ли чего об Андрюше, я пошел сперва в гостиную посмотрел висевшие там старинные портреты дяди и деда с бабушкой и еще чьи-то, потом вошел в неосвещенный темный зал. Я хотел пройти из зала дальше, по коридору, до Андрюшиной комнаты, но дверь из зала в освещенную переднюю была отворена, и я увидал там тетеньку, стоявшую ко мне спиной, а перед нею, у стенки, по одной стороне двух мещан: того которого мы уже видели, как приехали, и еще другого, нового, и четырех мужиков, из которых я знал только одного — это бурмистра, которого я видел когда он приезжал к нам, в то время когда тетенька гостила у нас, за приказаниями. Я не повернул в коридор, а остановился и слушал из зала, что они говорили... Этого разговора и этой сцены я никогда не забуду, — эти лица и теперь, через тридцать пять лет, у меня перед глазами, я вижу их, как будто бы это вчера только все было, и слышу их разговор...
— Ну, так вот я вам говорю и объявляю, говорила тетенька, обращаясь к стоявшим перед нею мужикам, — тебя, Степан, и тебя, Захар, продала я в вольные и свободные охотники козловским мещанам Клюеву и Младенцеву — вот этим, — она посмотрела на одного и на другого мещанина, которые при этом переступили с ноги на ногу и поправились, покрутили шеями, — и если вы будете повиноваться, как вам подобает, и все будет сделано, как следует, вы получите по двадцати пяти рублей в награду от меня, а там, как война кончится, и совсем станете вольными... А если же будут глупости какие, если вы будете сопротивляться, я вас все равно без зачета отдам в ратники, и тогда вы и после войны будете моими же... как с войны придете...
Два средних мужика, стоявших между бурмистром и старостой, поклонились ей молча с насупленными лицами.
— А они, — продолжала тетушка, обратившись к одному сперва мещанину, а потом к другому, — а они от себя вам награждения дадут еще и угостят вас, как следует.
Мещане что-то сказали, что-то вроде: «да уж это так, как следует, это уж известно...»
— Послужите... Послужите царю... Что ж? Вы еще не старые, не бог весть какие старики, — можете. Вон у меня у самой родственники мои, и те служат: выбрало их дворянство, и идут, пойдут служить, — говорила им в наставление тетушка.
Мужики молчали.
— А это, что на войне убить-то могут, — продолжала она, — так от воли божией никуда не уйдешь, это если кому назначено.
— Это уж точно, от судьбы своей и если уж назначено, — сказал один мещанин, встряхнул головой и вздохнул от глубины души.
— Вот здесь и неприятеля никакого нет, стоим мы, а час наш придет — и все будет кончено, — опять заговорила тетенька и тоже вздохнула, как бы вспомнив о душе и об этом часе. — А тут, по крайней мере, и царю послужите и за веру отцов и за свою, православную, постоите.
— Это так, — согласился и другой мещанин и поднял голову, вытягивая шею.
Наступила минута молчания.
— Так-так, — сказала тетенька, обращаясь к лысому бурмистру, — сегодня я тебе дам их вольные отпускные, ты их отдашь стряпчему, как намедни, — они уж знают, как это надо сделать, а сам пойдешь с ними в рекрутское присутствие там уж будут знать, стряпчий уж знает, что toe и как там надо будет делать, и если они, — она указала головой на двух средних мужиков, внимательно слушавших ее распоряжения об их судьбе, — и если они будут всё делать, как следует, то как сдадут их, выдай им из денег, которые получишь от них вот, — она указала головой на обоих мещан, — каждому по двадцати пяти рублей от меня и потом их вольные — стряпчий потом передаст их тебе уж засвидетельствованные... Ну, и все, — сказала тетенька, обращаясь к мещанам, — все, теперь задаток выдавайте.
Один мещанин начал было что-то говорить, но тетенька и слушать его не захотела, замахала ручкой и замотала отрицательно головой. Мещане полезли в карманы и вытащили оттуда толстые пачки приготовленных денег и один вслед за другим передали их ей. Тетенька начала их внимательно считать, пересчитала, положила их в карман своего платья, потрогала его потом рукой, не обложилась ли, и сказала мещанам:
— Вы не беспокойтесь, если что, деньги ваши будут целы, не пропадут. Эти не сойдут — других найдем стариков.
Один мещанин вздохнул и взял одного из мужиков, обреченных уже в ратники, за руку, поднял ее и сказал:
— Вот, маленько не владеет он ею.
— Знаю, это ничего, это левая, — успокоительно сказала тетенька..
— Обегают этаких-то.
— Ничего, бог даст, сойдет. Ведь это не рекруты.
— Тогда, уж если что, — другого уж вы.
— И другого, я же тебе говорю, найдем.
— Нет, чтобы уж без сумления... Потому уж, ведь и у других помещиков тоже есть, которых они продают.
— Да ведь я уже сказала... Будь покоен.
Мещанин ничего не возразил. Наступило опять молчание.
— Ну, берите их, ведите с богом, — опять, прерывая молчание, сказала тетенька.
— Сейчас, на ночь, заковать их прикажете? — спросил лысый бурмистр.
— Заковать, заковать непременно, — заговорила тетенька. — Все лучше заковать вели, и им самим покойнее, в голову ничего дурного не придет, да и мне тоже... Пальцы смотри чтобы не порубили они себе на руках.
Бурмистр с одним мещанином стали возле одного мужике, другой мещанин и староста — возле другого, дверь в сени отворилась, и они начали выходить.
— Как закуешь, ужо, после ужина, приди ко мне, — вслед уходящему бурмистру сказала тетенька. — Тебе еще вольные им написать надо. Я не успела, у меня тут приехали гости...
Я посторонился и встал в тени, увидав, что тетенька уходит из передней. Она прошла мимо меня в двух шагах, не заметив меня и на ходу все ощупывая у себя карман, в котором были у нее деньги...
Я забыл обо всем, подошел к столу, стоявшему у темного окна зала, выходившего в сад, посмотрел на темные, ночью почти черные, верхушки деревьев, смутными очертаниями видневшиеся сквозь забрызганные снаружи дождем запотелые стекла, и тяжело опустился на него.
Я видел в первый раз, как продавали людей, — я не видывал этого раньше никогда. Мне даже это как-то в голову не приходило, хотя, конечно, я знал, что это бывает, что это делают, но я теперь точно первый раз узнал об этом: я не видел этого никогда и оттого не задумывался над этим. Я не знал умом, что это нехорошо, что это безнравственно, что это преступно против человечества, — я ничего этого не знал сознательно, — одним словом, я видел только теперь это и был глубоко потрясен, возмущен в своем детском сердце и в душе... Я знал и слыхал сплошь да рядом разговор о том, что вот Иван Петрович продал свое имение, а другой Иван Петрович купил, что в этом имении столько-то душ и столько-то десятин земли, что имение хорошо, что продано оно или куплено дешево, что эти двести или шестьсот душ в нем тоже, значит, одним проданы, а другим куплены; но это все представлялось как-то в виде продажи и купли дома, усадьбы и сада, — проданной и купленной Петровки и Осиновки, представлялось это все вместе, нераздельно, в общем, и потом, это было делом обыкновенным и потому не поражало нисколько. А это вдруг голо как-то: люди мне незнакомые, неизвестные, и их продают, и совершается это тут же, при них, и на их глазах... тут же и их покупатели, они их берут, рассматривают, говорят, что вот у этого-то рука плохо действует, и рассматривают руку, спорят о ней... «А как он взял-то его за руку и поднял ее, а потом опустил ее, бросил, — как они посмотрели друг другу в глаза! думал я все. — А потом, как они, мужики, на тетю Клёдю-то все смотрели и вслушивались, что она говорит... А как затем, когда она сказала: ну, так так-то, идите, ведите их, и они их взяли и пошли с ними... Их закуют, чтобы они не ушли ночью, и руки им свяжут или тоже закуют, чтобы они не порубили себе пальцев... И потом, как она все ощупывала карман, где деньги: говорит, а сама — нет-нет и ощупает его...»
— Сережа, ты где? — вдруг услыхал я голос матушки из гостиной. Она шла к залу.
Я очнулся от своего забытья, встал, встряхнул головой и поспешил к ней через темный зал.
— Ты где был? Что ты там делал? — спросила она
— Там, так, сидел...
— Ты спать хочешь?
Она взяла меня, приложила руку к моей голове и спросила, здоров ли я.
— Я здоров, — сказал я.
— Если ты хочешь спать — ложись. Ужинать, должно быть, еще не скоро мы будем.
Но я с ней вместе прошел опять в угольную, где сидела тетя Клёдя, уж как ни в чем не бывало, и толковала о чем-то с приехавшей с нами родственницей, у которой глаза были заплаканы и она все что-то уверяла тетю Клёдю, прикладывала себе к груди растопыренную руку. Мы с матушкой пришли, я сел в кресло и начал слушать, о чем они говорили. Желая уладить дело, матушка тоже от себя время от времени вставляла фразы, обращалась то к той, то к другой, уговаривая их согласиться.
И здесь дело ладилось, близилось к концу. Из продолжения их разговора, начало которого я не слыхал, и из всех их рассуждений я понял, что тетя Клёдя покупала, то есть брала в уплату, у приехавшей с нами родственницы одиннадцать мужиков, которых она намеревалась тоже всех продать мещанам и таким образом выбрать свои деньги
— Я к вам отправлю бурмистра Лукьяна своего он их осмотрит, отберет одиннадцать человек, и я буду за ними присылать, как приедут ко мне мещане покупать, или мещан буду прямо к вам посылать, и вы прямо уж их отпускайте им... Только я предупреждаю, я не отсрочу, пока не получу всех — срок еще есть, — успеете, если не будете задерживать. В неделю всё успеете. У меня на пять человек есть уж покупатели. Три у меня своих пойдут, а потом я за вашими буду присылать.. Ко мне еще покупатели, я знаю, приедут. Я было отказала, но потом вспомнила — Иван Михайлович ведь тоже продает, так я у него хотела перекупить, ну да все равно это, уж у вас теперь возьму говорила тетя Клёдя.
«И еще... и этих... и с этими, значит, будет то же и за этими будут приезжать мещане, осматривать, ощупывать их и покупать у нее, а она им будет награды давать и наставления читать, а потом будет деньги прятать в карман, и это, значит, еще долго будет продолжаться...» — думал я.
— Вот так, как я говорю, в таком случае я согласна, — сказала тетя Клёдя.
Приехавшая с нами родственница как-то нерешительно смотрела на нее с заплаканными глазами и не знала, что ей ответить. Смотрела на нее и, казалось, раздумывала о чем-то.
— Так вот, так, — повторила еще раз тетя Клёдя и встала, собираясь зачем-то выйти.
— Я сейчас, — сказала она. — Надо же об ужине подумать, — и вышла.
— Ну что же? — спросила родственницу матушка.
— Я не знаю, — всхлипывая, отвечала та ей. — Ну, как он не согласится... Я боюсь. Ведь это позор какой, вы знаете... Как ведь на это смотрят...
— Что же делать... По нужде ведь это вы делаете, — в утешение ей сказала матушка, желавшая во что бы то ни стало устроить ей дело.
— Боюсь... Не согласится как вдруг... Ведь это никуда глаз потом показать нельзя будет. И потом, и мужики сами... ведь это одиннадцать семей надо будет почти что разорить...
— Она разве молодых все хочет?
— Она и на стариков согласна — ей все равно. Отцов еще хуже будет. Без отцов семьи останутся...
Матушка тихо вздохнула, и они обе замолчали.
Послышались опять шаги тети Клёди.
— Ну так что же вы? — шепотом спросила свою родственницу матушка.
Но она не успела ответить ей, так как вошла тетя Клёдя и сказала, что Андрюша заснул, что ему будет от этого очень хорошо.
— Только вот я не понимаю, отчего доктор не едет? Пора бы уж. Я в пятом часу послала, как только сделался с ним во второй раз припадок, — говорила тетя Клёдя, посматривая на маленькие свои золотые часики, — уж одиннадцать скоро.
Но деловой разговор у них больше уж не продолжался до ужина и за ужином. Они остались еще все втроем, а меня послали в отведенную мне комнату спать.
Ночью я слышал какой-то шум, шаги, говорили, ходили. Я догадался, что это приехал к Андрюше доктор.
Утром, утомленный всеми впечатлениями прошлого дня, я еще крепко спал, когда ко мне в комнату вошла матушка.
— Пора, вставай, — сказала она, — все уж встали, чай пьют.
Я вскочил и сел на диван, на котором спал.
— Это к Андрюше доктор вчера приезжал, ночью?
— Да. А ты слышал?
— Ну что у него?
— Ничего... Только слабость страшная...
— Его можно будет сегодня видеть?
— Можно. Когда прощаться пойдем.
— То есть как?.. Мы сегодня разве уезжаем?
— Сегодня. Что ж, все кончено.
— А с этой... — я не знал, как назвать приехавшую с нами родственницу.
— И с ней уладила.
— Мужиков?..
— Ну, там увидим.
Матушка посмотрела на меня как-то странно-вопроси тельно и сказала:
— А ты и это знаешь?
— Я вчера видел вечером... в зале был, когда она продавала их...
Матушка промолчала мне на это, вздохнула и сказала, чтобы я скорей одевался и выходил к чаю, где все уж давно сидят.
Мы уехали после завтрака от тети Клёди. Совсем уж перед тем, как одеваться нам и уезжать, я с матушкой, но без тети Клёди, пошел к Андрюше.
— Только ты тише иди, на цыпочках, — говорила мне матушка.
Я пошел тише.
— И потом, ты ни о чем не расспрашивай и ничего ему не рассказывай.
— А что? — спросил я.
— Он очень слаб. Ему нельзя всего знать. И если он и будет тебя о чем расспрашивать, то не отвечай, скажи что ничего не знаешь, — учила она меня.
Мы были уж у самых дверей его комнаты. Матушка осторожно прислушалась и тихонько приотворила немного дверь.
— Ну, иди, только тихонько.
Она раскрыла одну половинку двери, и мы вошли. Андрюша лежал на своей беленькой кроватке, вытянувшись во весь рост, и показался мне необыкновенно длинным. Шторы в комнате были спущены, и так как день был пасмурный, дождливый, осенний, то в комнате были почти что сумерки.
Какая-то женщина, сидевшая недалеко от него на стуле, встала, когда мы вошли; в комнате пахло мятой, опиумом, лекарствами.
Андрюша повернул к нам голову и, увидев меня, вдруг страшно оживился, хотел было улыбнуться, но потом сейчас же вдруг опять сделал серьезное лицо и повел в сторону медленно-медленно глазами, как бы осматривая всю свою комнату.
Я подошел к нему и взял его за руку. Он опять быстро обернулся ко мне, точно в забытьи, и опять посмотрел на меня пристально, и я увидел, что тут только он как следует узнал меня.
— Ну что, тебе лучше теперь? — спросил я его.
— Лучше, — проговорил он.
— Ну, прощай, Андрюша, — сказала ему матушка. — Мы к тебе скоро опять приедем. Выздоравливай и к нам приезжай тогда. Опять будете с ним кататься, опять!.. — говорила она.
Андрюша с добрыми глазами слушал ее, смотря на нее.
— Выздоравливай, мой хороший. Ну, а теперь прощай, — сказала как-то торопливо матушка и шепнула мне: — Прощайся же.
Я нагнулся и поцеловался с ним.
Он хотел обнять меня, что-то хотел, мне казалось, спросить меня, но матушка заторопилась и стала говорить: «Ну, пойдем же, пойдем. Ему это вредно. Пойдем».
Она взяла меня даже за руку и повела к двери. Я оглянулся еще раз на него. Когда я был уже за дверями, мне послышалось, что он позвал меня, назвав по имени.
Но мы ушли от него по коридору.
В зале нас дожидалась тетя Клёдя и наша родственница, с которой мы приехали, совсем уж одетая. Они что-то договаривали еще, вероятно о своем деле.
— Согласилась, отсрочила?
— Нет, там... после... на других условиях.
Они все — матушка, отец и эта родственница наша пошли в кабинет, рассказывая о дороге, чтобы, вероятно, там передать, как они устроились у тети Клёди, а меня послали в детскую, где была сестра и наша гувернантка.
К обеду — все уже ранее пообедали — нам накрыли маленький стол, и мы обедали втроем: матушка, эта родственница и я — они сидели с заплаканными глазами. Отец не приходил в столовую.
После обеда сейчас же родственнице подали ее лошадей, которые оставались это время у нас, и она поехала, поспешая домой к себе...
После этого я тетю Клёдю уж не видел. Зимою меня отвезли в учебное заведение, а весною, когда я приехал на каникулы к себе домой, я ее уж не застал. Она умерла недели за две перед тем. Так же точно я не видел больше ни разу и Андрюши. Он был увезен опекуном своим за границу и, совсем расслабленный, обратился в полуидиота и умер где-то на южном берегу Франции, пережив тетю Клёдю только года на три или на четыре.
ИЛЬЯ ИГНАТЬЕВИЧ, БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК
I
Тетенька Клавдия Васильевна, всегда склонная приобретать, с покупкой пустоши в Саратовской губернии стала особенно озабочена приобретением «народа» для заселения этого обширного земельного владения своего. Сказать с точностью, сколько у нее там было десятин земли, я теперь не могу, но помню, что тетенька постоянно говорила о пятистах душах, без которых ей в Саратове «ни вздохнуть, ни повернуться нельзя» и которых приобретение в течение многих лет составляло для нее большую заботу. Необходимо здесь припомнить, что люди в то время всем были нужны, и если их продавали или покупали, то не иначе как вместе с землею, к, которой они были приписаны, то есть целыми имениями; случаи же отдельной продажи людей без земли были, относительно говоря, довольно редки и всегда при исключительных обстоятельствах: продавали повара-пьяницу — «золотые руки, но как запьет — и прощай на целый месяц»; продавали лакея — «хороший малый, но извешался: из девичьей его не выгнать»; продавали какую-нибудь горничную — «услужливая и расторопная, но очень уж умна: в барыни захотела», и проч., и проч. Поэтому приобретение пятисот душ без земли, «на своз», как говорили тогда, было задачей далеко не легкой, требовавшей много и времени, и хлопот, а главное, терпения и настойчивости среди неприятностей, с которыми этого рода дела всегда были сопряжены.
Тетенька Клавдия Васильевна для достижений своей цели пускалась на все хитрости: покупала вдовцов-стариков и женила их на женщинах средних лет в ожидании от них прироста населения; поощряла безбрачное сожительство; когда узнавала, где имеется портниха, коверщица, кружевница, оказавшаяся «с прибылью», что во многих помещичьих домах строго преследовалось, сейчас ее покупала и отправляла к себе в Саратов, с усмешкой говоря ей: «Старайся, старайся, милая: слова от меня не услышишь, спасибо еще скажу». Покупала даже малолетних детей, если кто из помещиков соглашался на такие ее предложения.
Хлопот много у нее было с этим делом.
Но, само собою разумеется, без помощников или помощниц она одна никогда с ним не справилась бы. Требовалось разъезжать, узнавать, выведывать, где имеются продажные люди, торговаться и проч. Наконец, собственно эта черная работа была и неподходящим для нее делом. Она, девушка с прекрасным состоянием, хорошей фамилии, не могла этим сама заниматься. Поэтому у тетеньки было заведено несколько таких необходимых для нее личностей, которые всю эту черную работу за нее делали и подносили ей уж облупленное яичко: ей оставалось только дать доверенность или самой поехать в город, заплатить деньги и совершить купчую крепость.
Таких полезных и даже прямо необходимых людей у тетеньки было несколько, как я говорю, и между ними первым человеком в ее глазах была одна мелкопоместная помещица, Анна Ивановна Мутовкина, женщина необыкновенной смелости, преданности и совершенно безучастная к мольбам и слезам выслеженных ею для тетеньки жертв, которые уж знали, к кому они попадают... Но и кроме этой Мутовкиной и ее мужа, тоже тетенькиного «полезного человека», были еще и другие, которые ей помогали в трудном деле заселения дальнего степного саратовского имения. Так, я запомнил в числе их одного бывшего тетенькиного же дворового человека, откупившегося у нее на волю и продолжавшего и потом оказывать ей разные услуги в качестве, между прочим, и такого вот «полезного человека», — Илью Игнатьевича. Казалось бы, что человек, испытавший на себе тяжесть неволи, не стал бы заниматься таким делом, да еще имея, к тому же, и некоторый материальный достаток (у него остались еще деньги от выкупа и была земля), однако ж страсть к наживе заставляла и его хлопотать и выведывать для тетеньки, где и у кого есть продажные люди, ездить от ее имени торговаться, условливаться. И все это из-за каких-нибудь десяти — двадцати рублей...
Илья Игнатьевич был человек лет пятидесяти. Сперва он долго ходил по оброку, аккуратно выплачивая его тетеньке. Он служил где-то у купца в Саратове или Симбирске, ездил с ним по торговым долам, а когда тот умер, то Илье Игнатьевичу наследники, за его верную службу, дали пять тысяч, так как он мог бы скрыться со всем капиталом, который был при купце, но он этого не сделал, оставаясь до самого конца честным и верным. Из этих пяти тысяч тетенька получила с него за вольную три тысячи, а на остальные две он купил землю, выстроил на ней постоялый двор в полуверсте от большого села и начал торговать всем, что мог сходно купить и с барышом продать.
Это был очень аккуратный, серьезный и обстоятельный человек, которого знали и «уважали» все окрестные помещики, то есть не заставляли его стоять перед собою без шапки, а говорили: «Надевай, Илья Игнатьевич, что за глупости...» Он был грамотей, и в качестве такового, что было в то время редкостью, его посылали с разными деловыми поручениями в город, где он являлся и в суде и так, частным образом, к судьям на квартиры и исполнял поручения, то есть устраивал дела, за что ему, конечно, потом платили.
Одевался он чисто, то есть так же, как вообще все дворовые, но только все на нем было хорошего, лучшего качества: и полушубок самый лучший, и покрыт он сукном лучшего качества, и сапоги прочной, хорошей работы; все в этом роде. По праздникам в церковь или вот с такими поручениями по судам в город он являлся даже в сюртуке, длиннополом, которые тогда носили в городах купцы средней руки и богатые и степенные мещане.
Росту Илья Игнатьевич был среднего, худощав, бороду брил или подстригал очень коротко, так что она казалась всегда у него долго не бритой. Но когда за ним посылали нарочно, он являлся всегда чисто выбритым.
Отправляя в город с поручениями или по возвращении его оттуда, ему наливали стакан чаю, который он держал в руках без блюдечка и пил как-то не обжигаясь, стоя у притолки и выслушивая приказания или давая отчет об исполненном им в городе поручении, и рассказывал про городские новости.
Но главное, на чем основывался его авторитет, была, несомненно, легенда о его честности, верности и преданности, которые он проявил во время своего служения у саратовского купца и потом после его смерти. Об этом обстоятельстве все знали более или менее подробно и высоко ценили эти его качества.
Очень высоко ценили и его умение молчать о данных ему и исполненных им поручениях, а также и умение обходиться с судейскими и вообще чиновниками — умение, несомненно приобретенное им во время проживания его у купца, которому по его торговым делам приходилось много входить в разные соглашения с чиновниками и всяким начальством.
Илья Игнатьевич был холост. Он был религиозен и расчетлив до скупости.
В окрестных селах бывали иногда крестные ходы, установленные по случаю разных событий, и Илья Игнатьевич всегда на этих крестных ходах бывал, где участвовал в несении икон или иных священных предметов, употребляемых при богослужении: кадила, чаши со святой водой, кропила, ящичка с ладаном и проч. Там, на этих крестных ходах, он встречался с помещиками, приезжавшими к этому дню в эти села, и они видели его, они с ним там разговаривали, и они там наказывали ему приехать к ним, у кого было в виду поручить ему какое-нибудь дело или просто обстоятельно переговорить о каком-нибудь деле.
Несомненно, человек этот пользовался у всех доверием, и все считали его авторитетным в обиходе деревенской жизни и тех обстоятельств ее, которыми она соприкасалась с городом.
II
Отношения его к тетеньке Клавдии Васильевне и ее отношения к нему были совсем особенные ото всех. Она и по взятии с него выкупа и отпуска его на волю считала себя все-таки имеющей на него как бы какие-то права. В свою очередь и он, отдавший ей больше половины того, что нажил у купца, считал в отношении ее какие-то за собою обязанности и не высвобождался вполне из-под ее влияния.
Я помню, проживая у нас, тетенька очень часто, имея в нем надобность, посылала за ним, чтобы поручить ему какое-нибудь дело, для которого мало было написать одно только письмо, но надо было и участие в нем живого и толкового человека.
Илья Игнатьевич сейчас являлся, тетенька звала его в свою комнату, и он оставался там, пока они не переговорят обстоятельно, не спеша, о деле.
— А нельзя ли Илье Игнатьевичу, — говорила после аудиенции, выходя с ним вместе из своей комнаты, тетенька Клавдия Васильевна, — дать чаю?
Илье Игнатьевичу, конечно, давали чаю, и он отправлялся в девичью пить его, а тетенька со вздохом говорила почти всякий раз:
— Да, упустила я этого человека. За него и десяти тысяч мало взять...
— Клавденька, да ведь он тебе и так служит, не отказывает. — возражали ей.
— Да, но это разве то же самое?..
И она опять вздыхала.
Но особенно тетенька стала тужить о нем, то есть раскаиваться и жалеть, что отпустила так неосмотрительно его на волю, с тех пор как купила эту вот пустошь в Саратовской губернии и всяких хлопот и забот у нее прибавилось вдвое больше против прежнего.
Скупка душ для саратовского имения продолжалась долго, лет пять, так что я эту эпопею помню еще мальчиком, в начале, и потом уже гимназистом пятого класса, в конце, незадолго до кончины тетеньки, и я несколько раз бывал за это время свидетелем таких вот непритворных сожалений тетеньки о своей поспешности, с которой она поступила, согласившись отпустить на волю Илью Игнатьевича.
Само собою разумеется, что особенно живо эту свою оплошность тетенька чувствовала в тех случаях, когда обнаруживалось неуменье, недостаточность опытности или вообще неспособность или неверность и продажность кого-либо из «полезных людей», которых она посылала разведать или уж прямо сторговать и войти в соглашение относительно продаваемых мужиков, баб или детей.
Даже такому верному, преданному и неустрашимому человеку, какова была Анна Ивановна Мутовкина, тетенька в случаях каких-либо ее неудач или оплошностей ставила на вид Илью Игнатьевича и им упрекала ее.
— Да, вспомнишь Илью Игнатьевича, — говорила она.
— Да что ж бы Илья Игнатьевич-то тут сделал? — возражала ей Мутовкина.
— Ну, уж он знал бы, что сделать.
— Да если не уступают. Не хотят ни за что продать.
— А ему бы продали.
— И ему бы не продали.
— Это Илье Игнатьевичу-то? — даже с удивлением восклицала тетенька, к вящей досаде Мутовкиной.
— Благодетельница! — в отчаянии тогда восклицала, в свою очередь, и Мутовкина. — Ведь это вы так только говорите. Ну что ж, я меньше, что ли, Ильюшки (она его терпеть не могла, как конкурента) готова стараться и стараюсь?
— Да уж я не знаю, — в меланхолии отвечала тетенька, — меньше ли, больше, только он бы это дело обделал, вот как обделал бы, — заканчивала она вдруг, оживляясь.
И тетенька при этом складывала пальчики в пучочек и целовала этот пучочек, громко чмокнув.
О чувствах Ильи Игнатьевича к тетеньке сказать что-либо определенное гораздо труднее, потому что при ней он этих чувств своих к ней не выражал, а когда ему случалось в ее отсутствие высказываться о ней в разговорах с отцом или матушкой, он высказывал их, эти чувства, всегда в такой почтительной и сдержанной форме, как и следовало ему относиться к их родственнице и своей бывшей госпоже, что по этим отрывочным разговорам не много можно было что-нибудь уяснить себе об его действительных к ней чувствах и его действительном взгляде на нее. Да к тому же, как я сказал уже, он был вообще человек скромный до скрытности.
Но одно несомненно — он благоговел перед ее стяжательным умом, перед ее умением и способностями наживать. Как человек, проживший всю свою жизнь почти в среде торговой, в среде наживы и приобретений, он привык, разумеется, выше всего ценить именно такой ум, даже едва ли он и понимал другой какой-либо ум, кроме этого, и потому в его благоговении перед тетенькиными способностями в этом отношении, которые действительно были незаурядны, — ничего и нет удивительного.
Мне кажется, едва ли не этим его удивлением и благоговейным чувством к своей особе она и держала его в такой зависимости к себе, в такой покорной готовности его на всякую услугу, на исполнение всякого ее поручения. В смысле наживном, чтобы нажить от нее, она мало представляла ему интереса, так как была скупа, и в этом отношении была просто непонятна, так как не один раз теряла, и помногу, из-за этой своей скупости, доходившей при выдаче наличных денег даже просто до скаредности.
Но и об этих ее качествах, которые он, несомненно, не мог одобрить, хотя бы потому, что и сам терял от них, не получая себе должного за исполнение ее поручения и обделывания им дела, он отзывался все же не только с умеренностью и осторожностью, но и как бы с некоторым оправданием, что, дескать, в жизни так и должно поступать...
— Никого-с ведь раздачей не удивишь, — в заключение такого разговора обыкновенно говорил он, — человеку иному сколько ни дай, все мало...
Илью Игнатьевича я стал помнить рано, когда был совсем еще мальчиком, и насколько я теперь припоминаю, и сам он и его отношения к тетеньке Клавдии Васильевне были постоянно одни и те же. С покупкою тетенькой саратовской пустоши — дело, в котором и он принимал не последнее участие, разъезжая с какими-то ее тайными и очень важными поручениями, — он выдвинулся, доказав на деле, а не одними только рассказами о своей верности и уменье делать дело, когда жил у саратовского купца, что он способен действительно участвовать в крупных предприятиях и быть в некоторых случаях полезным и даже необходимым человеком.
За саратовское дело, то есть за покупку пустоши, за все его хлопоты и за все участие его в этом деле, тетенька подарила ему тысячу рублей. Конечно, и даже наверное, он стоил большего, но, зная тетеньку, ее скупость, все удивлялись и этой цифре, находя ее громадной. Если бы кто другой и на какое-нибудь другое дело дал ему и большую сумму, такого впечатления и таких разговоров бы не было, но тут они были, и именно потому, что эту тысячу пожаловала ему известная своею скупостью и деловитостью тетенька Клавдия Васильевна.
Но и с увеличением своего авторитета и с увеличением своего достатка, вообще увеличением своего материального положения, Илья Игнатьевич, оставаясь таким же скромным, серьезным и вежливым, не переменил ни костюма своего, ни образа жизни. Он постоянно и до конца дней своих продолжал находиться или у себя на постоялом дворе, где у него заведовал какой-то племянник его, по какому-то случаю так же, как и сам он, вольный (только этот не от тетеньки откупился), или находился в разъездах по своим делам и по поручениям обращавшихся к нему помещиков.
Так бы, вероятно, жизнь этого человека и прошла мирно и, по-своему, безмятежно и тихо, если бы не одно обстоятельство, которое неожиданно, случайно и вдруг все в его жизни перевернуло, вытряхнуло все его существо и, без сомнения, ранее срока свело его в могилу...
III
Выше было сказано, что Илья Игнатьевич иногда мимоходом, между других дел, покупал для тетеньки у соседних и дальних помещиков нужных ей для заселения ее саратовской пустоши мужиков и баб. Но эта операция его была именно мимоходом, между дел, и никогда не составляла предмета его особенных хлопот, стараний и усилий, — не то совсем, как у Мутовкиной, которая главнейше и исключительно этим только для тетеньки и занималась. Позовут к какому-нибудь из помещиков Илью Игнатьевича посоветоваться с ним или поручат ему какое-нибудь дело, разговорится он о том, о другом, узнает Илья Игнатьевич как-нибудь случайно при этом, что у этого помещика или у другого какого недалеко имеется для продажи один человек или целая семья, сейчас справится, почем их можно купить, даже поторгуется, а потом, как будет по делам у тетеньки Клавдии Васильевны или близко где, заедет и скажет ей об этом:
— А я, матушка, Клавдия Васильевна, семью одну для вас нашел, — прикажете прислать?
Или так скажет:
— А я, матушка Клавдия Васильевна, человека одного для вас нашел: Василий Михайлович мужика одного за ненадобность продает, — как прикажете?
— Вор небось, какой-нибудь мошенник? — спросит тетенька.
— Да уж известно, хорошего человека кто же продаст... Им он ни к чему, а нам для Саратова-то не все ли равно, какой он есть.
— Да это-то так. О цене узнавал?
— Узнавал-с. Подходит...
И тетенька скажет ему:
— Что ж, возьми...
Такие разговоры я несколько раз слыхал. Но все это было, сейчас видно, случайно, не нарочно он за этим делом ездил, а так, подвернулась покупка, выгодно или сходно, он и купит для тетеньки, ей, в Саратов, одного человека, двух, а то и целую семью или две. И тетеньке это приятно, она видит, что он помнит о ней, об ее интересах, не забывает, и ему годится: тетенька пожалует ему за это красненькую...
Помню, инстинктивно как-то мне это в Илье Игнатьевиче не нравилось, то есть что вот он продает или подыскивает для тетеньки дворовых и мужиков, но мне не нравилось это потому только, что я и сам знал, что за человек тетенька Клавдия Васильевна, какая она сухая и злая, и потом все про нее говорили так неодобрительно и нехорошо с этой стороны, — только вот поэтому мне не нравилось, что Илья Игнатьевич делает это; по существу же, конечно, что же я мог иметь против покупки или продажи? Все продавали, все покупали, то и дело я слышал об этом, и если я не видел дома купленных людей и никого не продали никогда из наших людей, зато я на стороне слышал, часто слышал об этом... А главное, я не видел долго, лет до девяти, всей этой процедуры продажи и покупки, не видел сцен, которыми это все сопровождается. Потом, когда я их, эти сцены увидал, когда насмотрелся на них, что это такое, я уж понял как следует, что такое продажа людей и их покупка...
Но это все относится к первым годам появления у нас Ильи Игнатьевича и его деятельности по исполнению тетенькиных предначертаний и вот таких его маленьких добрых услуг ей, к настоящему же моему рассказу, то есть ко времени, к которому он относится, я уж сознательно и хорошо понимал, что такое покупка людей, потому что, благодаря той же тетеньке Клавдии Васильевне, я видел и чем эта покупка ее сопровождается и что эти купленные ею при этом ощущают и испытывают.
К тому времени, к которому относится этот рассказ, мне было уже лет двенадцать. Я уже много перечитал книг из отцовской библиотеки, и книг не детских, а серьезных: я зачитывался историей Карамзина, прочитал «Историю Наполеона» сочинения Полевого[25], прочитал «Историю Консульства и Империи» Тьера[26]: вот какие книжки я уж читал, и они меня интересовали, я ими зачитывался, к великой радости отца, который дал мне право брать и читать все, что я хочу, из его библиотеки. К этому я должен прибавить еще, что я был в эти лета страшно нервный и впечатлительный, что, может быть, и развилось во мне именно вследствие этой страстной охоты к чтению. Эта нервность и впечатлительность, в свою очередь, делали то, что какая-нибудь сцена или какое-нибудь обстоятельство, разговор, которые меня почему-нибудь поразили, запечатлевались в моем воображении и в памяти до такой степени живо и вместе с тем прочно, что мне стоило, например, только закрыть глаза и подумать некоторое время, чтобы требуемая сцена и все участвующие и действующие в ней лица представились бы мне как наяву, как происходило все на самом деле, а разговоры, останавливавшие на себе мое внимание, я помнил долгое время с поразительной верностью наизусть, как бы я их нарочно учил.
Ничего нет удивительного поэтому, что случай с Ильей Игнатьевичем, о котором я буду рассказывать, в высшей степени заинтересовал меня, приковал, так сказать, к себе все мое внимание, долго был для меня предметом упорных и тяжелых размышлений, в которых я с трудом разбирался и с еще большим трудом удерживался от высказывания прямо тех выводов и заключений, к которым они меня приводили.
IV
Однажды — помню, дело было ранней весной — к нам вдруг совершенно неожиданно приехала тетенька Клавдия Васильевна прямо из саратовского своего имения и, хотя была усталая с дороги, попросила в тот же день послать за Ильей Игнатьевичем. Тетенька была в отличном расположении духа, очень довольною всем тем, что нашла у себя в Саратове, рассказывала, что с ней очень редко случалось, о своих планах и видах на будущее, то есть какие она еще намерена сделать там приобретения и какие ввести усовершенствования в приобретенном имении.
— Ах, мой друг, — говорила она матушке, — ты не поверишь, какие там низкие цены на все в сравнении с нашими. Одно дорого там — люди. Представь, за девку там один помещик просил с меня тридцать рублей. Я даже расхохоталась... Правда, она «с прибылью», но ведь его жена поэтому-то ее и продавала, и потом, кто же ее знает, что она родит — может, тоже девку...[27]
Тетенька от всех этих приятных обстоятельств, которые она встретила во время этой своей поездки в Саратов, была даже в возбужденном каком-то состоянии. В это время она обыкновенно производила не радостное на всех впечатление, а, напротив, страшное, тяжелое, гнетущее, так как мы все знали, что в момент такого высокого подъема своего духа она бывала способна на самые жестокие и смелые дела.
К обеду, узнав о ее приезде к нам, явилась Анна Ивановна Мутовкина с докладом тетеньке о порученных ей делах. Дела эти все были — покупка людей для Саратова. Не помню уж, купила она этот раз для тетеньки, то есть приторговала или нашла их. Тетенька, по обыкновению, заперлась с нею у себя в комнате, и они долго пробыли там, беседуя и рассуждая.
К вечеру явился Илья Игнатьевич. Выбритый, причесанный, принарядившийся, то есть в длиннополом сюртуке с роговыми пуговицами и необыкновенно узенькими рукавами, как тогда носили, он покорным и готовым к услугам предстал пред своей бывшей госпожой. Мы пили в угольной чай, сидя все за большим круглым столом, в том числе и Анна Ивановна Мутовкина, а Илья Игнатьевич, заложив руки за спину и слегка отставив в сторону одну ногу, правильнее — как-то вывернув ступню, стоял у притолки в дверях и рассказывал городские новости, слышанные там, так как только что вернулся из города, где был по делам кого-то из соседей-помещиков. Тетенька время от времени начинала, в свою очередь, рассказывать ему о своей поездке в Саратов, — начинала, но как-то все не договаривала, останавливаясь, и добавляла:
— Ну, это мы с тобою об этом ужо поговорим...
По обыкновению своему, тетенька не вытерпела и этот раз, чтобы не укорить в глазах Ильи Игнатьевича Мутовкину, что она делала постоянно и, кажется, с целью возбуждать в них обоих соревнование.
— А ворона-то моя, — сказала тетенька, указывая головой на Мутовкину, — опять проморгала дело. Васильковы продавали три семьи — задаром почти пошли; не могла задатку дать без меня.
Илья Игнатьевич, как дипломат, промолчал на это, ничего не сказал, только кашлянул слегка и переставил ногу, а Мутовкина принялась оправдываться, говорила, что она не посмела без тетеньки начать этого дела, сказала, что уж она ли не служит ей верой и правдой, ничего не жалела, даже своей жизни, так как ей положительно известно, что ее за все эти дела давно уже хотят убить, и кончила тем, что расплакалась...
Тетенька очень даже любила это и помимо всяких соображений о конкуренции, просто потому только, что видела все-таки страдания, а это ей доставляло некоторого рода удовольствие, так как она в это время делала очень приятные улыбки, причем на щечках у нее показывались ямочки и глазки блестели так живо и радостно.
После чая Анна Ивановна уехала домой, а тетенька отправилась с Ильей Игнатьевичем к себе в комнату толковать о делах, и они там заперлись.
Тетенька просидела у себя в комнате, беседуя с Ильей Игнатьевичем, до самого ужина, и когда вышла оттуда с ним, мы все не могли не заметить какого-то особенного настроения, в котором она была: многозначительно улыбалась, потирала ручки и даже начинала шутить с нами, детьми, то есть со мною и с сестрой Соней, — признаки тоже несомненно прекрасного расположения духа, но уже в другом смысле, или, лучше сказать, по другому поводу: у она сделала какое-нибудь открытие, узнала что-нибудь любопытное и носится теперь с этим открытием, удерживаясь от подмывающего ее желания рассказать об этом. Мы все, разумеется, знали о таком настроении тетеньки, сотни раз его наблюдали и потому переглядывались в ожидании, когда она наконец не вытерпит и расскажет всем о своем открытии.
Илью Игнатьевича она отпустила домой, он раскланялся, поцеловал, по обыкновению, у тетеньки ручку и уехал, а тетенька, как только он вышел, кивнула вслед ему головой и, улыбающаяся и довольная, сказала:
— Каков старый хрен!.. Любовницу себе покупает...
Матушка молча посмотрела на нее.
— Да, — продолжала тетенька, — покупает... Как же...
Матушка молчала.
— Девку у Астафьевых... горничную... как же... То-то я заметила: он все у Астафьевых да у Астафьевых... Какие там такие могут быть у них особенные дела... с воды на квас перебиваются, все в долгу как в шелку, скоро жрать нечего будет, именьишко в аукцион пойдет... Ан оно вон что... дурак! На старости лет дураком хочет быть, — заключила тетенька.
— То есть как же это покупает? Разве он может купить? — спросила матушка.
— На мое имя просит позволить купить... Пускай... А мне-то что ж...
— Отчего же он ее на волю не откупит?
— Боится. Во-первых, те, как узнают, что он ее для себя в любовницы откупает, с него огромные деньги заломят... А потом, и так боится, как бы она не ушла от него, когда вольная-то будет... Ну, а тут уж не уйдет... нет! — радостно заключила тетенька.
И опять эти улыбки, на щечках ямочки, глазки горят и блестят, и она потирает руки.
— Клавденька! — воскликнула матушка. — И ты в этой грязи будешь участвовать, помогать ему будешь?..
— Что ж тут такого? — удивилась она в свою очередь. Разве этих примеров мало? Не только людей и землю покупают на имя помещиков, целые имения покупают на их имя те, кто не имеет право приобретать их на свое имя...
— Да разве это то же самое, Клавденька?
— А то как же?
— Ведь ты же знаешь, для чего он ее покупает?
— Мне-то какое дело — для чего... Просит позволения купить на мое имя — и только. Мне он доверяет... Отчего же... Непременно сделаю. И я еще по одному обстоятельству должна буду это сделать. Когда она моя будет, он будет опять весь в моих руках... Ведь он, старый хрен, значит, влюбился в нее, уж если покупает... Ведь он скупится, а тут не жалеет... И Астафьевы, должно быть, это уже смекнули, потому сумасшедшую цену за нее хотят — сто рублей...
Матушка с грустным лицом смотрела на нее, точно про себя, в тишине, безмолвно моля бога, чтобы он смягчил сердце тетеньки, пролил на него мир и благость...
А тетенька, ни о чем этом не догадываясь, ничего не замечала и, не понимая, какое она производит впечатление, вся погрузилась в сделанное ею открытие, смаковала его, делая при этом и свои соображения, какие она еще может по этому случаю извлечь выгоды...
Перед самым ужином в угольную, где мы сидели и где происходил этот разговор, вошел отец; тетенька и ему сообщила эту новость.
Он выслушал и сказал:
— Фу, какие мерзости! Я не ожидал этого от него.
— Чего? — спросила тетенька.
— А вот всего этого... Да что он, с ума, что ли, сошел? Ведь ему который год?..
— Это всегда к старости, — заметила тетенька.
— И ты будешь участвовать в этом? Помогать ему в этом?
— Ах, боже мой! — воскликнула, не вытерпев, тетенька. — Точно не покупают разве на имя помещиков, кто не может купить на свое имя?
— Да не с этакой целью.
— Я ничего не знаю, — решительно объявила тетенька. — Могу же я ничего не знать этого... Мне какое дело, что он с ней будет делать? Может, понравится она ему, он еще и женится на ней.
— Да ей-то он нравится? Он тебе не говорил?
— Говорил.
— Что говорил?
— Она просватана была там за кого-то из астафьевских дворовых...
— А он покупает ее себе?
— Да ведь господа же ее имеют право продать... Я, ей-богу, не понимаю этого... Что же это такое? Того нельзя, этого нельзя... Что же тогда можно-то?
Тетенька хоть и продолжала улыбаться, но это была уже не улыбка совсем, а нечто страшное, от чего жутко становилось даже и совсем посторонним людям, которые ни в чем от нее не зависели.
Потом мы пошли ужинать, и, я помню, за столом все время никто почти не проронил ни одного слова. Тетенька кушала, по обыкновению облизывая губы и улыбаясь, с ямочками на щечках, поглядывала на нас, как бы удивляясь, с чего это, дескать, они все прикидываются такими справедливыми и чувствительными.
V
За год до этого, тоже весной, когда у нас была тетенька Клавдия Васильевна, приезжал к ней Илья Игнатьевич, рассказывал, что он окончательно обстроился, обзавелся всем, и, кланяясь, просил ее и всех нас сделать ему честь приехать к нему на молебен, по случаю новоселья, «откушать чаю». Погода была хорошая, Илья Игнатьевич считался достойным человеком, посещения такие были в обычае, и к нему поехали. Это было тоже очень ранней весной, но по снегу еще, и мы отправились все в двух больших простых санях.
Он встретил нас, как самых почетных гостей, на крыльце, с непокрытой головой, в одном праздничном своем сюртуке, сам высаживал нас из саней. Во флигельке его — он состоял весь из двух комнат, с маленькой передней и еще какой-то комнаткой — были уже гости: один малоземельный помещик, какой-то чиновник из города в форменном сюртуке с ясными пуговицами и «батюшка» с дьяконом, приглашенные служить молебен.
Илья Игнатьевич показывал нам обе свои комнатки, в которых, я помню, меня поразило обилие образов в разных фольговых ризах с красными, синими и желтыми бумажными розанами вокруг венчиков, с лампадками в виде фарфоровых голубков, и необыкновенное множество раскрашенных лубочных картин духовного содержания по стенам. Я все ходил и рассматривал эти картинки и читал под ними надписи. По стенам, вдоль всех стен, стояли сундуки, окованные железом и жестью и покрытые сверху домашней грубой работы коврами.
— И с чем это у тебя все эти сундуки? — несколько раз полюбопытствовала спросить его тетенька Клавдия Васильевна.
— С разным скарбом, матушка-сударыня, — отвечал ей Илья Игнатьевич.
— Холостой ты, не женатый, а сколько у тебя сундуков.
— Да, матушка-сударыня, для хозяйства все нужно, — отвечал он.
Но тетенька ему не верила. Он как-то оставил нас, пошел распорядиться насчет молебна или закуски, и она сказала матушке:
— Никогда я не думала, что у него столько добра всякого. Ты посмотри-ка, восемь сундучищ каких наворовал.
— Клавденька! Уж и наворовал, — ответила ей матушка.
— Да откуда же он мог столько набрать всего?
— Мало ли... дарят, сам покупает. Он человек домовитый, расчетливый, бережливый.
— Нет, это любопытно, — продолжала тетенька, — и кому все это после его смерти достанется...
Действительно, эти две комнаты его и кроме сундуков были полны-полнехоньки всяким добром. На стенах, повешенные на гвоздях и прикрытые белыми простынями, висели какие-то шубы и даже лисьи женские салопы, много разного платья; в створчатом шкафу, когда он отворил его, что-то доставая, мы увидели много посуды столовой, стаканов, рюмок хорошего хрусталя и даже серебро: столовые и чайные ложки, подносы накладного серебра, и проч., и проч.
Тетенька ходила, посматривала и все удивлялась.
— Смотри-ка, смотри-ка, что у него всякого добра, — говорила она матушке.
— Домовитый человек.
— Нет, откуда это у него все?
— Собирал, копил.
— Да ведь это всё хорошие вещи.
— Что же хлам-то ему собирать.
— Да ведь это денег стоит.
И опять:
— Не понимаю, откуда это у него все?.. И кому это после достанется все?..
По окончании молебна, когда батюшка обошел весь дворик, причем и мы вслед ходили тоже, и окропил все постройки и всю скотину святой водой, Илья Игнатьевич и закуску нам подал тоже совсем приличную, доброкачественную, и подал ее как человек бывалый в помещичьих домах, знающий и понимающий все.
Тетенька все только удивлялась. Это чувство до такой степени поглотило ее всю, что под конец, когда вдруг Илья Игнатьевич явился с бутылкой шампанского, завернутой, по обычаю тогдашнему, в салфетку, и пробка щелкнула, — тетенька даже не утерпела и всплеснула ручками.
— Каков мой бывший мужик-то! А? А ведь когда на волю откупался, каким сиротой представлялся. Последние, говорит, соки вам отдаю, последние крохи... А он — вон он какой!..
Когда наконец мы уезжали с этого новоселья, все, по обычаю, что-нибудь подарили Илье Игнатьевичу, то есть матушка подарила ему корову, отец какую-то лошадь, сказав, чтобы он за ней присылал или приезжал сам, а нам дали с сестрой по новенькому золотому, которые мы передали ему; тетенька же до отъезда к нему, еще дома отложившая, чтобы дать ему, три новеньких золотых, ничего ему теперь не дала.
Назад я ехал в тех же санях, где сидела и тетенька, и слышал, как она чуть не бранилась, выведенная наконец из терпения этой всей картиной его благополучия.
— Нет, каков? А?.. А прикидывался-то каким? Надул меня... Надул... — все повторяла она.
— Тебе-то что, Клавденька? — возражала ей матушка, вероятно желавшая ее успокоить. .
— Ничего... Ничего... — злобно отвечала ей тетенька.
— Ведь не твое это все. Если он и нечестными какими манерами это все нажил, так ведь и не у тебя же. Ведь ты ничего от этого не потеряла.
Тетенька, волновавшаяся так в начале дороги, под конец даже замолчала — самое опасное состояние ее раздражения. Когда она замолкала, плохо было вызвавшему это ее состояние...
На другой день к нам явился благодарить за посещение, а кстати и взять подаренную ему корову и лошадь, Илья Игнатьевич.
Тетенька встретила его уже как ни в чем не бывало, как будто она и не раздражена против него. По-прежнему с веселенькими глазками улыбалась, на щеках были ямочки, и она спокойно говорила с ним о делах, справляясь, когда он поедет по такому-то и такому-то ее поручениям.
VI
Тетенька при покупке людей придерживалась всегда такого правила. Мутовкина, Илья Игнатьевич или другой кто доносил ей, что у такого-то помещика или такой-то помещицы имеется столько-то людей для продажи; тетенька выслушивала, подробно расспрашивала, за что, по какому поводу их продают, каких они лет, знают ли какие мастерства, и проч., и проч., и давала от себя письмо к тому помещику или к той помещице, которая продавала людей. В этом письме, с которым ехал сводчик, тетенька просила прислать ей выписку из ревизской сказки об этих людях и объявить ей решительную за них цену. Вместе с тем тетенька просила до поры до времени хранить от этих продаваемых людей готовящуюся им судьбу в тайне. Она иногда требовала этой тайны на некоторое время и после того даже, как они были проданы, то есть купчая на них была уже совершена и они принадлежали уже ей, и только всё еще жили, ничего не подозревая, у своего бывшего господина.
Тетенька имела на это основание и делала это потому, что не могла же она каждого отдельно купленного ею человека отправлять с нарочной подводой и под караулом, в цепях, за триста с лишком верст в Саратов. Она дожидалась партии и тогда отправляла уже всех зараз. Обыкновенно она требовала для этого оттуда, из Саратова, своего старосту, и он устраивал целый поезд с накупленными людьми и сам ехал с ними. Поэтому известие о его появлении в нашей стороне всегда смущало весь околоток, потому что при тайне, с которой тетенька вела эти дела, никто не знал, не продан ли уж он ей или его отец, мать, брат, сестра, дочь, сын.
Когда, таким образом, тетенька получала все нужные ей сведения о покупаемых ею людях и цена была подходящая, она давала сводчику денег на задаток, и он ехал опять и привозил ей уже расписку, что в задаток за таких-то и таких-то «мне принадлежащих крепостных моих людей» получил столько-то. А затем уж в условленное время тетенька съезжалась с продавцом в городе, отдавала ему остальную следующую с нее сумму, и они совершали купчую. Иногда, впрочем, она давала на это доверенность Мутовкиной или ее мужу, и они уж от ее имени все это там в городе совершали.
Это был обыкновенный порядок, которого она постоянно держалась. Осматривать лично покупаемых людей ей не для чего было, так как они в Саратове все поступали в одну категорию — просто мужиков-пахарей, все равно, был ли этот прежде дворовым или был садовником, а этот лакеем или поваром.
— У меня все сравняются, все одинаково станут работать, — говорила она. — У меня, как в раю, все равны...
Оттого и расценивала она их одинаково, по стоимости рабочего мужика, нисколько не обращая внимания на то, знает ли покупной какое-нибудь мастерство или приучен он к какому-нибудь делу: кучер, садовник, лакей и проч.
И действительно, ей, не заводившей в Саратове ни усадьбы и не основывавшей никакого даже жилья лично для себя, вовсе и не нужно было обзаводиться дворней и всеми этими мастеровыми людьми. Ей нужны были одни лишь пахари, чтобы обрабатывать обширные земли, и чем больше будет у нее этих пахарей, тем большее количество земли будет у нее обработано и, следовательно, тем больше дохода с этой земли и с их труда она получит.
Некоторые из наших людей, которые бывали там, у нее, в Саратове, посланные ею с каким-нибудь поручением туда, рассказывали про это ее имение, что это что-то особенное совсем, нисколько не похожее даже на то, что они видели и там, проезжая мимо других тамошних помещиков.
— Совсем как в Сибири, на каторге, — рассказывали они, никогда, конечно, не бывавшие в Сибири и слыхавшие о ней по рассказам, по слухам бывавших там. — Понастроили сараи, и в них люди живут, спят все вповалку. Вновь привезенных по целым месяцам держат в кандалах, пока они не привыкнут и не перестанут скучать по своем месте и о своих родных. И кормят их всех из одного котла, а готовят на них не бабы, а два мужика из новопривезенных, которых боятся отпускать в поле, на работы, чтобы не убежали они... А дети скупленные также все вместе спят вповалку, и им дана работа: лыки чистят для лаптей, кошельки плетут, а подрастать начнут которые, их в поле гоняют, и они там должны работать. А как девке исполнится пятнадцать лет, пойдет шестнадцатый, так ее сейчас замуж выдают, чтобы время не пропадало: тетеньке народ нужен. А ребят, то есть мальчиков, не женят, держат до шестнадцати лет, а как пойдет семнадцатый, так тоже сейчас женят. И справляют свадьбу от тетеньки, по положению; она же и попу за свадьбу платит, — под руками и поп у нее. Все по положению... А заправляет всем староста, вот этот, что сюда приезжает, и другой — помощник его, подстароста, такой же кровопийца, который вместо его остается, когда тетенька к себе вызовет старосту или он сам приезжает по делам с докладами или за людьми, чтобы вести накупленных туда, в Саратов... И ходят эти оба, староста и подстароста, всегда с охраной: два казака с кинжалами и с саблями за ними, и сами они с кинжалами тоже, только у них их не видно: они под платьем спрятаны...
В глухой в то время, совсем уже степной стороне делались тогда ужасные распоряжения и приводились невозбранно в исполнение; жаловаться было некому, да что бы, если бы и приняли от кого жалобу, можно было сделать по ней?..
Так, например, тетенька сама своей властью ра водила, то есть расторгала брак, брала жену от мужа, если она два года подряд не имела детей, и отдавала ее другому для сожительства, а мужу этой женщины давала «для хозяйства» какую-нибудь вдову из новопривезенных, и тоже «для опыту», на два года...
Ужасные я помню подробности!..
VII
Илья Игнатьевич из этой поездки своей по тетенькиным делам вернулся очень скоро, исполнив все их самым наилучшим образом. Он явился на этот раз утром, когда мы собирались ехать к обедне: был какой-то праздник.
— А! Уж ты вернулся! — увидав его, воскликнула тетенька. — Скоро... скоро... Ну что, все устроил?
— Все, матушка-сударыня, — с поклоном отвечал Илья Игнатьевич.
— Ну да, я знала... свое дело — не мое... — загадочно как-то сказала тетенька, но сейчас же благодушно заговорила с ним.
Это все происходило в передней; лошади, чтобы ехать в церковь, были поданы; мы стояли все уже одетые и дожидались, когда тетенька кончит говорить с Ильей Игнатьевичем.
— Ну, я с тобой после обедни поговорю... Ты поедешь к обедне? — спросила тетенька.
Илья Игнатьевич сказал, что поедет.
К обедне мы поехали в двух экипажах. Илью Игнатьевича, вышедшего вместе с лакеями провожать нас на крыльцо, посадили на козлы одного из экипажей, рядом с кучером, и мы тронулись.
Я опять сидел вместе с тетенькой и матушкой. Наш экипаж ехал впереди.
— Каков? — кивая матушке головой на следовавший за нами экипаж, где на козлах сидел Илья Игнатьевич, начала тетенька. — Для своей крали как постарался... В пять дней все повернул...
Матушка ничего ей не отвечала.
Тетенька тоже замолчала и сидела, как бы обдумывая что, и улыбалась.
В церкви тетенька, по обыкновению стоя на коленях на вышитом коврике, молилась как ни в чем не бывало; я стоял позади ее и, помню, упорно все время смотрел на нее, стараясь уяснить себе, что же это, наконец, за человек?..
Отошла обедня, священник выслал нам всем просвиры с дьяконом, в том числе и тетеньке, конечно. Тем же порядком мы поехали домой, и опять на козлах сидел Илья Игнатьевич.
С просвиркой в руках, покачиваясь на толчках, тетенька всю дорогу сидела улыбающаяся, как бы по поводу какой-то мысли, приятной, веселой, занимавшей ее и доставлявшей ей полное удовольствие.
В доме у нас, в зале, был уже готов чайный стол, блестящий самовар кипел, булочки, крендельки, сливки — все уж стояло на столе, и, не переодеваясь, все как были в церкви, в праздничных платьях, уселись пить чай. Позвали сюда же и Илью Игнатьевича. Он, по обыкновению, остановился у дверей, у притолки, и начался обычный разговор с ним о новостях, о городских слухах.
Когда кончился наконец и чай, тетенька в самом мирном и приятном настроении встала, взяла со стола свою просвиру, подождала окончания какого-то рассказа Ильи Игнатьевича и, направляясь к себе в комнату, сказала:
— Илья Игнатьевич, как кончишь тут, отпустят тебя, зайди ко мне.
Илья Игнатьевич пошел вслед за ней.
— Что она все время какая-то странная? — провожая глазами тетеньку, спросил я у матушки и отца.
— Кажется, ничего.
— Нет, что-то такое есть... Уж я вижу.
— Ничего. Да что ж такое может быть?
— Не знаю, но есть что-нибудь...
С Ильей Игнатьевичем тетенька на этот раз беседовала, к удивлению всех, очень мало; еще никто не уходил от стола, как она вошла уже с ним, и еще более веселая, прямо даже смеясь, подошла к нам с следовавшим за нею Ильей Игнатьевичем и, покачиваясь на цыпочках, со смехом сказала:
— А! Каков Илья Игнатьевич-то!.. Все уж устроил, обладил... Просит, чтобы я завтра в город ехала купчую с Астафьевым совершать...
Все молчали.
— Ну что ж, бог с ним. Надо для него сделать, он сам для меня хлопотал немало... Братец, — обратилась она к отцу, — у вас завтра лошади свободны, мне в город съездить?..
— Свободны, к вашим услугам, — ответил отец.
— Ну так завтра я поеду, — сказала она, взглядывая на Илью Игнатьевича, стоявшего тут в несколько как бы неловком положении, и вдруг опять сказала:
— А! Каков? В самом деле, ведь сто рублей за девку-то заплатил. Сто рублей!.. Ты смотри цену мне не испорти. Ведь она не знает, что это ты для себя; подумает, что это я за эту дрянь такие деньги плачу, — и обернулась к Илье Игнатьевичу.
Он стоял и неловко, глуповато улыбался, что так непривычно нам было видеть на его постоянно серьезном, строгом лице.
Тетенька посмотрела-посмотрела на него и так и фыркнула... А он стоял и улыбался все тою же улыбкою...
Наконец она его отпустила пить чай в переднюю, а сама присела к столу.
— Старый дурак... Мошенник... — проговорила она, когда он ушел. — Притворщик!.. А на это у него деньги есть...
Тетенька, не получив ни от кого ответа или замечания и возражения, развернула бывшую у нее в руках бумагу, задаточную расписку Астафьева, и стала ее еще раз перечитывать.
Отец ушел, а матушка спросила ее:
— Клавденька, ты сколько же купила?
— Две семьи, девять человек, да вот эту девку отдельно...
VIII
На другой день тетенька рано утром уехала в город.
Она пробыла там недолго и вернулась в каком-то экстазе, радостная, довольная, веселая, чуть не сияющая, так что всех даже поразило это ее состояние и все невольно переглядывались в ожидании разъяснения этого.
Из города она обыкновенно привозила нам, детям, всякий раз леденцов, вообще сладостей, но теперь забыла и, как вошла только, сейчас же объявила нам об этом, добавив, что уж в следующий раз она привезет нам вдвое. И, судя по ее веселому, радостному возбуждению, можно было поверить и понять даже, что она это забыла не только от скупости или дурного расположения духа, а именно от охватившего все ее существо радостного настроения, причем ей уж ни до кого не было дела и она обо всех и обо всем забыла.
— Ну что, Клавденька, все как следует устроила? — спросила ее матушка.
— Все, — коротко ответила она.
Она приехала сейчас после нашего завтрака, и матушка спросила ее, не хочет ли она чего-нибудь закусить, так как все готово, все еще не простыло, и ей сейчас подадут.
Но она даже не отвечала на это, точно не слыхала, и начала:
— И сегодня же этот дурак ее к себе возьмет. Я сюда поехала, а он за ней к Астафьевым.
— Ты про кого это? — точно не догадываясь, спросила ее матушка.
— Как про кого? Про Илью Игнатьевича... Ах, мошенник, старый дурак... Ну, пускай... Пускай полакомится несколько дней... Пускай его...
— Клавденька! — воскликнула матушка, догадавшись, что она намеревается сделать потом.
— Что такое?
— Ужас какой!
— Какой ужас?
И она вся вдруг переменилась в лице.
— Какой ужас? В чем ужас?
— Ты что это хочешь сделать?..
— Что и он со мной сделал... Он меня обманул, прикидываясь, что у него ничего нет и что он больше трех тысяч за себя не может внести мне. Он меня обманул, ну, а теперь сам ко мне попался. Бог-то справедлив! Он все видит и все терпит до поры до времени... Вот теперь он и опять у меня в руках. Вот она, — добавила тетенька, вынимая из ридикюля связку бумаг и выбирая одну из них, — вот она, купчая-то крепость на нее... На его кралю-то эту... Вот она!
Тетенька разложила свернутый исписанный лист гербовой бумаги с печатями и похлопала по нем рукой.
— Вот она, птичка эта, где у меня сидит. Добудь-ка ее отсюда от меня. Добудь-ка!.. Да я его... мошенника... притворщика... Шампанским угощает... Любовниц себе покупает...
Не только тогда, но и потом я не видал лица, более искаженного ненавистью и злобой. Бледная, с побелевшими совсем губами, с горящими, маленькими от злости глазами, она едва, и то тяжело, с усилием, дышала, ловя и как-то захватывая ртом воздух. По лицу вспыхивают и перебегают судороги... Я в ужасе смотрел на нее, как смотрит кролик на змею. Меня страх обуял, и я не шелохнувшись сидел и смотрел на ее лицо, не в силах оторваться от него.
— Посмотрим, посмотрим, что это за краля... Вот ужо он привезет ее показать мне... — говорила она и сома гладила, положительно любовно гладила развернутую перед ней гербовую бумагу, как живое какое-нибудь существо. Посмотрим...
Весь этот день я ходил как помешанный. Вечером с девичьего крыльца доложили, что приехал Илья Игнатьевич и привез новую, купленную у Астафьевых, горничную.
— Сюда их привести?.. Или туда хочешь пойти? — спросила тетенька у матушки.
Та в перепуге ей ответила, что нет, не нужно сюда, и что она и туда не пойдет.
— Ну как хочешь.
И пошла одна.
— Мама, и я пойду! — воскликнул я, когда тетенька встала и пошла.
Матушка с удивлением посмотрела на меня.
— Тебе-то зачем?
— Ну, пожалуйста, ну, ради бога!
— Да с тобой там бог знает что еще случится.
— Ничего не случится.
— Знаю уж я.
— Ну, уверяю же... Ну, ради бога... Ведь не станет же она ее там бить.
Матушка пожала плечами, я обнял ее, поцеловал и кинулся в девичью.
Тетенька стояла посреди комнаты, а у входной двери, у обеих притолок, стояли — у одной Илья Игнатьевич в крайнем смущении, сконфуженный, почти растерянный, у другой — девушка лет восемнадцати, высокого роста, довольно полная, в лиловом ситцевом платье и красном бумажном платке на голове, из-под которого выбивались ей на лоб и на щеки пряди волос, и они казались мокрыми. Она плакала, — теперь перестала плакать уже, но видно, что долго и отчаянно плакала: по лицу протянулись полосы от слез и пыли; глаза красные, совсем распухшие. Нельзя было даже понять, какое у нее в обыкновенном виде лицо. По стенкам стояли наши горничные и женщины. Тишина была мертвая. В отворенные окна виднелся сад и, как сейчас вижу, прямо кусты сирени, все в цвету...
Тетенька говорила:
— Ну, как тебя...
— Вера Антонова, — глухо проговорил Илья Игнатьевич.
— Послужи... послужи... — не обращая внимания на его слова, говорила тетенька. — Отдаю я тебя ему в услужение за его верную мне службу... За то, что он верный мне человек был всегда, не вор... не обманщик... говорил всегда правду... не притворщик... от госпожи своей никогда ничего не скрывал... А если скрывал, то думал, что я никогда ничего не узнаю...
И она нервно расхохоталась.
Но сейчас же она опять оправилась и продолжала:
— Послужи ему... Служба у него, наверное, не трудная тебе будет... Он хороший, у него дом что полная чаша... Он нам недавно показывал все свое хозяйство. Чего у него только нет... И мехов и серебра... все, чего хочешь, есть... Послужи... А что он старичок-то, так это ничего... Старики скорей из ума выживают, с ним что хочешь будешь делать... Да... Послужи... Барыней будешь жить... Старички ведь до этого охотники... они на это слабы... Лучше твоих первых господ, Астафьевых-то этих, будешь жить... А ты что ж дура дурой стоишь? — вдруг, переменяя тон, почти вскрикнула тетенька. — Барыня твоя тебе желает счастья, а ты и поклониться ей не хочешь. Отсохла у тебя, что ли, шея-то?
— Кланяйся, кланяйся... благодари, — обращаясь к девушке, сказал Илья Игнатьевич.
— Девушка медленно поклонилась.
— А ты, милая, как следует кланяйся-ка... Мне твои поклоны ни на что не нужны, наплевать мне и на тебя-то, а уж если кланяться, так как следует.
— Ниже, ниже поклонись, — подсказал девушке Илья Игнатьевич.
Она поклонилась в пояс.
— Ты ее уж выучи, а то что ж она барыне как ровне своей кланяется.
Илья Игнатьевич молчал. Он уж все понял и, видимо, был подавлен этим.
— Это вот когда она вольная если бы была, ну тогда другое дело, тогда могла бы хоть совсем не кланяться, а то теперь у нее еще барыня есть... Ну, ступайте с богом... — вдруг, опять переменяя тон, сказала тетенька, — живите себе, не ссорьтесь... Повинуйся, служи ему, он теперь как бы господин тебе... Слышишь?.. А не будешь его слушаться, не будешь исполнять его волю, он пожалуется мне... А я ведь строгая, у! какая строгая. Ты ведь небось слыхала обо мне? Тебе рассказывали ведь? Живых людей ем, кровь из них пью... Слыхала?.. Ну, то-то... Смотри...
Потом она обратилась к Илье Игнатьевичу.
— Ну, ступай, полакомься, старик...
И вдруг — «ха-ха-ха!..»
Повернулась и пошла из девичьей.
— Пойдем же, что ж тут тебе оставаться? — обратилась она ко мне.
Я, опустив голову, вышел тоже...
IX
Отца ужасно возмутила эта история, когда он узнал о ней: его не было дома, он вернулся, и матушка рассказала ему.
— Ты, пожалуйста, скажи ей от меня: жить она тут может, но чтобы этих представлений она тут не давала. И что ей нужно? Что она живет тут? У нее свое есть имение. Что она, контору скупки людей, что ли, сделала из нашего дома? Шляется к ней эта всякая дрянь сюда — Мутовкины разные!.. — кричал он.
Через несколько дней ему надо было ехать по делам на неделю или на две в наш губернский город, и он уехал, не простившись даже с тетенькой.
Это, впрочем, очень мало ее огорчило, так как без него она чувствовала себя у нас гораздо свободнее, благодаря необыкновенной к ней снисходительности матушки и вообще крайне доброму и мягкому ее характеру.
С отъездом отца тетенька просто даже расцвела. Приехала Мутовкина, и она с ней сидела целыми часами, целыми днями, отпуская ее в село, за две версты от нас, только ночевать.
И все время один разговор — Илья Игнатьевич, его «краля» и ни о чем другом.
Тетенька уж несколько дней поджидала к себе из Саратова старосту своего, но он почему-то опоздал, не ехал, и это теперь раздражало ее.
— Что он не едет, что он сидит там? Уж не завел ли и он там себе юбки какой? — рассуждала она с досадой.
— Приедет, — утешали ее и матушка и Мутовкина.
— Да когда же! Мне надо людей отправлять. У меня тут болтается человек сорок. Рабочая пора скоро, а они тут баклуши бьют, у старых господ своих живут, на них работают... Ведь я не щепки — деньги за них платила. Что он, дурак, не знает, что ли, этого? Кажется, я ему толком писала...
Наконец вечером как-то явился этот староста. Это было дня через три или четыре после сцены в девичьей. Тетенька расспросила его про саратовское имение, как там идет, все ли в порядке, и сказала:
— Ну, а на днях тебе надо ехать народ собирать.
— Много, матушка-барыня, изволили накупить?
Тетенька сказала.
— Всех разом двинем?
— Да что же? Заодно уж.
— Известно, уж заодно.
— Ну, а уж какую ты тут, может быть, одну кралю повезешь... в тарантасе поедет... — загадочно сказала тетенька.
Староста смотрел на нее, ничего не понимая.
— Особенно как везти, матушка, прикажете?
— Это уж как ее обожатель захочет... Это уж его дело. Для меня она все равно, такая же хамка, как и другие все.
Тетенька помолчала и добавила:
— А Илья Игнатьевич, кажется, успокоился, сидит у своей юбки, и не думает являться, и глаз ко мне не кажет... Ты завтра раненько утречком-то съезди к нему, ничего, не беда, если почивают, побеспокой их, скажи, мол, так и этак, барыня приказала девок собирать, везти их в Саратов, у тебя, мол, тоже одна наша проживает... Съезди к нему, скажи-ка... Ах, как скоро народ зазнаётся...
— Слушаю-с, — отвечал староста. — Прикажете взять от него ее?
— Нет, брать пока не нужно, так, скажи ему только.
— Слушаю-с.
Матушка смотрела на тетеньку и покачивала головой. Мутовкина сидела с потным лицом, долженствовавшим выражать удивление и негодование по случаю такой неблагодарности и забывчивости Ильи Игнатьевича.
— Спешить к чему же. Может, еще вспомнит... приедет... Может, выкупить ее захочет... — говорила тетенька. — Спешить к чему же...
Староста, только что явившись из Саратова, прямо с дороги, еще не посвященный во всю эту историю, ничего не понимал и странно-вопросительно посматривал на тетеньку и на всех нас.
Наконец тетенька его отпустила.
Наутро, мы только что собрались к чаю, доложили, что приехал Илья Игнатьевич.
Тетенька обвела всех хитрым, довольным взглядом.
— Можно его сюда позвать? — спросила она матушку.
— Да, что ж...
— Позови. — сказала она лакею, откашлялась, потерла руками и, зажмурившись от смеха, весело покачала газовой.
Вошел Илья Игнатьевич, бледный, осунувшийся, на несколько лет, казалось, постаревший за эти дни. По обыкновению, он подошел к тетеньке к ручке. Поцеловал ручку и стал у дверей, у притолки.
Прошло с полминуты томительного молчания. Как ни переменился за эти дни Илья Игнатьевич, но лицо у него выражало все же решимость.
Тетенька первая прервала молчание. Она, зорко глядевшая на него, кажется, смутилась было от этого его решительного выражения в лице. Ей, может быть, пришло в голову, что а ну как он скажет ей: «Берите, ну что ж такое?..» Что она тогда сделает с этой девкой? Она воспользуется только тем, что он заплатил за нее... Ему надо будет тогда еще возвратить за нее сто рублей — за девку, которой красная цена тридцать... Но он свободный человек, сытый, независимый, его ей не достать, его не укусишь... А между тем она его уж навеки и наверно для себя потеряет — его, этого полезного, почти необходимого ей в некоторых случаях для себя человека...
— Ну что? — проговорила наконец, глотая слюну, чтобы смочить пересохшее горло, тетенька.
— Приехал-с, — коротко отвечал Илья Игнатьевич.
— Вижу... Да не сам приехал... Евстигней был у тебя?
— Самому мне не было надобности приезжать. Так не смел беспокоить, а приказа от вас явиться тоже не было, — отвечал Илья Игнатьевич.
— Самому дела не было? — повторила тетенька.
— Да какое же дело-с?
— Никакого?
— Я не знаю-с.
— Ты не знаешь?
— Не знаю-с.
— Гм?.. Вот как нынче уж...
И сохрани он этот спокойный, холодный тон, он победил бы ее, она уж повторила вопросы, не знала, что ей спросить, путалась в мыслях... Но он заговорил, начал сам, заговорил о своей службе ей, о своей преданности, обратился к тем ее сторонам, которые у нее были не доступны ни совести, ни жалости, никакому чувству, — и проиграл.
— Ах, служба! Скажите на милость! Точно мне никто не служит, отроду никто не служил. Я, кажется, награждаю за службу... За саратовскую купчую я, кажется, тебе же целую тысячу заплатила. Служба! Ах, ха-ха-ха... Не все ли равно, я всем плачу, я и Мутовкиной плачу, и она мне тоже за деньги служит... Только Мутовкина меня никогда не обманывала, не притворялась никогда... И я ей такого благодеяния не делала никогда, как тебе... Мало тебе, что ли, что я с тебя за вольную всего только три тысячи взяла, поверила, что ты больше не можешь, что больше нет у тебя?..
— Ах, матушка-сударыня, как вы это говорите! — слезливо воскликнул Илья Игнатьевич. — Да что ж у меня было? Что же у меня и теперь есть? Ведь всю жизнь верой и правдой служил. Угол свой на старости лет только ведь и заслужил, только и есть.
— Уголок хороший, я видела, — торжествующим уж тоном, победоносно отвечала тетенька. — Как же, была у тебя, помню, сама была, своими глазами видела...
Затем она, уж совсем спокойная, овладевшая положением, знавшая уже, что и как ей говорить, сама повела речь о выкупе «крали».
— Что ж, никакого зла я тебе не желаю, а хочу только, при случае, добрать то, чего недополучила тогда, поверив тебе, что у тебя больше нет и ты не можешь больше за себя внести.
После разных уверений, что действительно он тогда не мог больше ей заплатить, что у него и теперь если и есть, то сущие пустяки, после напоминания опять о том, что он ей верой и правдой служил, что и отец его, и мать, и дед, и прадед служили родителям и прародителям тетеньки, — он наконец спросил, сколько же она хочет еще с него за «девку».
— Три тысячи, — хладнокровно и совершенно невозмутимо сказала тетенька.
— Матушка! Да откуда же я их возьму?
Тетенька расхохоталась.
— Ну да почем же я знаю, откуда ты их возьмешь! Я у тебя по сундукам не лазила, где они у тебя лежат, я не знаю.
— У меня лежат? Три тысячи?
— Ну, не лежат, в деле, значит, в оборотах...
— У меня обороты? Да какие же у меня обороты?
— Ну, я не знаю... Ну, достанешь где-нибудь.
— Да где я достану-то? Кто же мне даст?
— Не знаю, я ничего не знаю и знать не хочу, это не мое вовсе дело, откуда ты возьмешь... А не достанешь, Евстигнеюшка вот поедет и ее с собою возьмет.
— Воля ваша! Я не могу... У меня нет... — отчаянно-решительным тоном сказал Илья Игнатьевич, но именно потому, что он сказал таким, а не спокойным тоном, и сказал взволнованный, ему тетенька не поверила.
— Ну, нет, так нет, не могу же я тебя заставить ее выкупить, — сказала она.
— Не могу-с, воля ваша, не могу-с, — повторил Илья Игнатьевич.
— Ну, и не нужно. Господи! С сумой не пойду, если и не получу их.
— Матушка-сударыня! Явите божескую милость, опускаясь на колени, заговорил Илья Игнатьевич. — Скажите, что меньше возьмете. Если могу — заплачу. Тысячу рублей заплачу. Все распродам — заплачу.
— Ха-ха-ха... Лакомый какой, понравилась? А? — ужасным смехом расхохоталась тетенька.
Матушка, сидевшая все время молча, в ужасе поднялась.
— Клавденька! Что ты делаешь, что ты такое говоришь! — воскликнула она. — Что, эти три тысячи в самом деле тебе так необходимы! Он же ведь служил тебе...
— Тебе жаль его? Да? А может, она мне еще спасибо скажет, если он ее не выкупит? Ты думаешь, ей весело, легко будет жить с ним, с старым хрычом таким. Может, она там от меня, в Саратове, за молодого еще попадет, — ответила ей тетенька.
Матушка остановилась.
— Да. А ты как думала? Ты подумай-ка хорошенько, — продолжала тетенька.
Матушка тихо отвела от нее глаза и вынула платок, чтобы утереть их; она плакала, повторяя:
— Что за ужас... Ах, какие дела ты, Клавденька, делаешь! Накажет тебя бог за это... Не пройдет это тебе даром.
— Да что такое? Что такое я делаю? За свою девку хочу выкуп получить...
— Не надо бы тебе путаться в это...
— Отчего?
— Ужас... грязь одна...
— Никакого ужаса, никакой грязи... Заплатит, выкупит ее, оставлю ему, а нет — отправлю ее в Саратов, велю выдать за молодого какого, будет работать и очень еще довольна будет...
Это все очень легко, может быть, выходит в рассказе теперь, но что тогда я чувствовал, присутствуя при этой сцене, этого я никогда не забуду, хотя у меня и нет слов рассказать это...
Они что-то долго еще торговались, но все-таки кончили. Тетенька из трех тысяч ничего ему не уступила, но рассрочила уплату их. Тысячу рублей он должен был ей сейчас уплатить, тысячу после и тысячу к будущей весне.
Илья Игнатьевич поцеловал у тетеньки ручку и отправился домой за деньгами.
— Ну что? — быстро-быстро, потирая от удовольствия ручки, сказала тетенька, обращаясь ко всем. — Ну что, не говорила ли я, что у него есть деньги?..
X
Илья Игнатьевич приехал опять вечером в тот же день, и они с тетенькой уж совершенно мирно, как ни в чем не бывало, отправились в ее комнату толковать «о делах», то есть рассчитываться, — он платить ей деньги, а она писать ему расписку в получении их, так как у них утром было условлено, что тетенька, получив тысячу рублей с него в задаток, выдаст ему расписку в том, что, по уплате в срок ей остальных двух тысяч, должна будет выдать отпускную, или, как тогда обыкновенно говорили, вольную его «девке».
Когда тетенька вышла оттуда, она даже очень милостиво предложила ему, чтобы он напился чаю в передней. Он отказался, отговариваясь каким-то делом, а тетенька еще подшучивала:
— К своей, к возлюбленной, спешишь? Ах, чудак ты! Ну, уж ступай, ступай, обрадуй ее...
Тетенька была весь этот вечер в отличном расположении духа — не казалась только, не притворялась, а действительно в отличном, совсем покойном расположении духа, как может быть человек, сознающий, что он исполнил сегодня долг свой и ничего решительно не чувствует за собой, совесть его чиста и спокойна.
Я помню, кто-то еще был — приехал — у нас, мы пили вечерний чай на балконе, был лунный вечер, в саду свистел соловей, мы долго ходили по темным дорожкам сада, любовались на освещенные луною поляны и куртины[28]; очень долго гуляли, наслаждаясь прелестным, тихим, сухим, теплым вечером, и поздно пошли в дом ужинать. Кто именно был у нас тогда, я не помню теперь, но мы и за ужином засиделись долго, так как матушка отправила и меня и сестру спать раньше, чем все разошлись и разъехались.
Утром, как только мы встали, я услыхал ужасное известие: несчастная девушка Ильи Игнатьевича в эту ночь утопилась в реке. Когда он приехал от нас вчера поздно вечером, она была уже мертва, ее вытащили, и она лежала на берегу. Ее откачивали, что-то еще с нею делали, но ничто уже не помогло.
Когда я пришел на террасу пить чай, матушка, сидевшая там, я помню, все крестилась, выслушав рассказ об этой страшной вести. Тетеньки еще не было. Она вставала позже нас и не выходила еще из своей комнаты.
— Надо послать кого-нибудь, — говорила матушка. — Никифора надо послать, чтобы он все разузнал, как это было. Ах, господи, страсть какая. Ах...
— Ермил, кучер, поскакал уж туда. Сел на неоседланную лошадь и поскакал. Ведь он Илье-то Игнатьевичу как-то еще сродни приходится, — ответил кто-то из женщин матушке.
— Ах, господи, грех какой... Ах, страх какой, — все повторяла она.
Наконец явилась и тетенька.
Она молча выслушала страшную весть, сделала маленький крестик рукою у себя на том месте, что называется под ложечкой, и, тихо опускаясь на стул, проговорила:
— Ну что? Не права я разве? Вот и лучше бы было, когда бы я на его предложение не согласилась. Сразу он не мог бы трех тысяч за нее заплатить, ее и увезли бы. Разве ей легко было оставаться с ним, с этаким стариком, вот она и кончила...
И минуты не прошло, как она добавила:
— Ну, значит, на одной тысяче я и отъехала... вот остальные денежки теперь мои за ним и улыбнулись...
Ужасная эта история разнеслась по всему уезду, все, даже и те, что сами продавали тетеньке людей, были в ужасе от нее и осуждали тетеньку. Все были смущены; приезжал исправник и что-то долго толковал с отцом в кабинете; боялись «голубого», то есть жандармского полковника, как их тогда называли, боялись следствия по этому поводу, все были смущены или боялись, но не тетенька. Она одна держала высокий тон и ничем не смущалась.
— Ах, боже мой, что ж тут такого! Ну, не хотят, чтобы покупали людей, пускай запретят их продавать. А то закон существует на это, не запрещено это — так что ж тогда кричать-то об этом, пугать-то чем? Что я, беззаконие, что ли, какое учинила? Кажется, честные, не фальшивые денежки плачу, не крадучись как — в присутственном месте купчую совершаю, пошлину в казну вношу...
— Так-то так, но все-таки, знаете, это неприятная история, — возражали ей.
— Да чем? Я-то при чем тут? Что я, одна, что ли, покупаю людей?
— Ну, все-таки, знаете...
— Не понимаю. Девке какой-то пришла в голову дурь ни с того ни с сего утопиться — я виновата. Да разве мало у кого люди вешаются и топятся, что ж, и они виноваты? Да разве можно за это отвечать?..
Тетеньке, разумеется, ничего не было, суда и следствия по этому делу тоже никакого не было, «голубой» не узнал или если, может быть, и узнал, то не счел нужным обращать внимания на такую пустую историю.
Но на Илье Игнатьевиче это дело отозвалось. Ему оно но сошло даром. Те две тысячи, которые он не доплатил, разумеется, тетеньке, он чуть ли не с лихвой заплатил чиновникам. Чуть не целый год к нему все «заезжали» то становой, то исправник, то стряпчий и еще какие-то судейские из города, и он их угощал. Они жили у него по нескольку дней, ели, пили, надругались над ним, издевались, он просил у них прощения, становился на колени, ползал. Они брали с него деньги и уезжали.
И долго эта история не забывалась и после, когда все уже было кончено, все успокоились. Она все-таки отразилась до известной степени и на тетеньке: она с год, пожалуй, а то и больше, не покупала людей, какие выгодные условия для покупки ни предлагала ей Мутовкина.
Чтобы дать забыться всему и чтобы избегнуть неприятных всяких взглядов и расспросов, тетенька уезжала на время в Саратов, хотя раньше этого вовсе и не думала туда собираться.
Илью Игнатьевича, сильно изменившегося после этой истории, я видел, приезжая из гимназии, куда меня вскоре определили, раза два всего или три. Франтоватый вид его, когда он, бывало, являлся по праздникам в церковь или приезжал к нам, совсем исчез. Последний раз я видел его у нас в передней, в полушубке и в валенках, приезжавшим просить о чем-то. Материальное благосостояние его сильно пошатнулось, и уж он не мог потом оправиться после нашествия тогда на него судейских и чиновников. Упал и авторитет его как дельца. Он сделался как-то робок и застенчив после этой передряги. Она, несомненно, сильно повлияла на него и потрясла.
Он умер какой-то странной смертью. Племянник его, живший с ним и зачем-то уезжавший в город, возвратившись, нашел его умершим в сидячем положении, склонившимся над столом. Племянник его был в отлучке три дня, а потому никто не знал даже, когда именно он умер, так как никакой прислуги, кроме работников, он не держал, а они говорили, что в комнату к нему ни разу не входили.
После его смерти все его имущество досталось этому его племяннику, который открыл при постоялом дворе кабак и лавку. Он впоследствии очень разжился от обозов, которые заезжали к нему во двор и останавливались у него. Репутации он был не честной.
Вскоре скончалась и тетенька Клавдия Васильевна.
ПРОДАННЫЕ ДЕТИ
(Посвящается сестре моей Александре Николаевне Терпигоревой)
I
Анна Ивановна Мутовкина! — докладывает лакей.
— А, чтоб ей... Одна? — спрашивает отец.
— Нет-с, с детьми.
Отец с досады встает с дивана и уходит из угольной, где мы все пили чай; остается матушка с Анной Карловной, нашей гувернанткой-немкой, да мы, дети, — я и сестра Соня, девочка лет девяти.
Скоро в дверях угольной показывается Анна Ивановна Мутовкина с детьми, тоже мальчиком и девочкой. Она привезла их к нам, то есть захватила их с собою собственно для нас — для меня и для сестры, чтобы доставить нам удовольствие поиграть с ними...
Анна Ивановна Мутовкина женщина лет пятидесяти, среднего роста, с лицом вечно умильно улыбающимся, хотя глаза у нее бегают как-то тревожно и она все видит, все слышит, все замечает. Одета она не то чтобы бедно, а как-то неопрятно: одно плечо выпачкано мелом — это она дома стояла у печки и грелась; на оборках у платья сухая грязь — как забрызгалась, так с тех пор и не чистила его; мантилья спереди вся закапана — ела, соусом закапалась — она отвратительно ела, — салфеткой кое-как вытерлась, пятна и остались. Но самое противное для нас у нее было — это ее руки; маленькие, красные, с обгрызенными пальцами и все в цыпках, то есть с грубой и потрескавшейся кожей.
Когда мы утром, после умывания, спешили и кое-как вытирали, не насухо, лицо и руки, нянька говорила нам всегда:
— Вот посмотрите, будут у вас руки, как у Анны Ивановны, в цыпках все.
— Отчего?
— Оттого, что с мокрыми руками нельзя выходить.
— Да разве у нее от этого?
— А то отчего же.
Но, я думаю, это было само собою, а главная причина — от неопрятности: противно неопрятна она была.
Дети ее тоже нам не нравились. Старшею была Клавденька, названная так в честь своей крестной матери, нашей тетки Клавдии Васильевны, покровительницы Анны Ивановны Мутовкиной. Это была девочка скрытная, лицом очень некрасивая и совсем нам не пара: она в свои одиннадцать — двенадцать лет глядела почти как взрослая. Пойдем мы с нею, бывало, гулять в сад, зовем ее бегать с собою, играть:
— Сейчас... Бегите, я сейчас...
А сама идет с няньками и все у них выспрашивает.
Они сначала ей на все отвечают, а потом, как догадаются, что она это у них нарочно для чего-нибудь выспрашивает, и начнут ее стыдить:
— Ах, барышня, какая вы еще маленькая, а уж хитрая какая. И зачем вам это все знать? Вы бы побегали, поиграли, — усовещивают они ее.
А она, как ни в чем не бывало, кашлянет или рассмеется, и опять за свое.
Няньки на нее потом, вечером, жаловались матушке:
— Ах, сударыня, какая она, — говорили они, — и до всего-то, до всего ей дело. Обо всем это она расспрашивает, все высматривает.
— Несчастная девочка, — говорит матушка.
— И ведь это ее все мать, Анна Ивановна, научает, — продолжает нянька.
— Конечно...
Сын, Ваня, мальчик лет девяти или десяти, был какой-то не то что дурачок, а глупый, тупой, да к тому же еще забитый. Кроме того, он был постоянно болен золотухой: то щека подвязана, то нога забинтована. И чуть что, сейчас плачет. Побежит, упадет на больное место и так расплачется, что и не унять его.
— Не плачьте. Ну, что ж делать? Пройдет, ничего, — уговаривают его няньки.
— Больно...
— Ну, что ж с этим делать. Пройдет. А то, срам какой, большой вы уж, и плачете.
И начнут его перевязывать, перебинтовывать. А он сидит, всхлипывает, и такой несчастный, жалкий, беспомощный какой-то и в то же время противный, потому что мы знали, что и он такой же выведчик и сплетник, как и его сестра, только глупее ее и не такой шустрый — может быть, потому что больной.
Мутовкина очень любила привозить их к нам с собою. Она даже одно время вздумала было чуть не через день присылать их к нам одних. Она жила недалеко от нас, верстах в трех, и они начали то и дело к нам являться. Привезут их утром и оставят у нас на целый день — возись с ними. Как дети, и мы, разумеется, неохотно сидели в классе, но гулять и заниматься с ними у нас было еще меньше охоты, и мы были очень довольны, когда вскоре эти визиты их прекратили под предлогом, что мы в это время занимаемся и это нам мешает.
Но когда у нас гостила тетушка Клавдия Васильевна, покровительница Мутовкиной, или, как та ее называла, «благодетельница», тут уж ничего нельзя было поделать, и Анна Ивановна с детьми являлась то и дело; детей приведет к нам, нас перецелует, скажет: «А я вот к вам привезла своих, пускай они посидят с вами», — и пойдет и сидит с тетушкой в ее комнате, — о чем-то они беседуют, что-то такое всё разговаривают...
И матушка и отец Мутовкину не любили, особенно отец, но он не мог ее не принимать или принять ее так, чтобы она сразу перестала бывать у нас, потому что он был предводителем в это время, и как же так он стал бы невежливо или даже невнимательно обращаться с дворянкой — помещицей своего уезда, какая бы она там ни была?..
Но она угнетающе действовала на него, и он всякий раз уходил к себе в кабинет, как только докладывал лакей, что приехала Мутовкина.
II
У Анны Ивановны Мутовкиной был жив еще муж, и не только жив, но и служил даже в земском суде каким-то дворянским заседателем[29]. Он только у нас не бывал или почти не бывал. Я помню его у нас всего только каких-нибудь два или три раза за все время, да и то видел его у отца в кабинете: в прочих комнатах он не появлялся, и ни за обедом, ни за чаем я его никогда не видал.
По виду это было существо самое жалкое: небольшого роста, в неуклюжем, просторном, точно чужом, вицмундире — фрак с желтыми полинялыми металлическими пуговицами, плешивый, с глазами вечно слезящимися и робкой, заискивающей улыбкой. Как говорили, он был совершенно во власти у жены, вполне от нее зависел и всем был обязан ей, так как она была женщина энергическая, всюду проникала, всех просила о нем и если раз за что бралась, — своего уж достигала. Но он, говорили, был в то же время и изобретательный, отчаянный взяточник, славившийся именно этой своей изобретательностью во взяточничестве. Не было в уезде ни одного темного дела, в котором бы он не принимал участия или к которому так или иначе не был прикосновен. Три губернатора, один вслед за другим, обещались «съесть» его, как выражались тогда, и ни один не мог ничего с ним поделать. Но он был постоянно под судом или под следствием. Отдадут его под суд, он год или два посудится и опять очистится. И так все время, всю жизнь.
Он участвовал не только во всех чиновничьих и судебных плутнях, в лихоимстве и проч., но он принимал участие и прямо даже в мошенничестве, в воровстве, в грабеже, который тогда случался тоже не в редкость. Ему приписывали, я помню, выдумку воров уводить зимою по ночам у мужиков лошадей и коров обутыми в лапти: след человечий, а украдена лошадь или корова, которых следа нигде нет, не видно. И много приписывали ему других подобных же изобретений.
Жена его в разговоре отзывалась о нем пренебрежительно, называя его просто «мой» или с прибавлением: «дурак-то мой». Но она участвовала во всем с ним заодно — он старался в городе, в суде или в судах, а она в деревне, и дураком она на самом деле, несомненно, не считала его потому, что в споре, в азарте иногда у нее вырывались о нем такие выражения: «Ну да! Уж Алексей Макарыч-то это знает!» Или: «Ну да уж если Алексей Макарыч-то за это дело возьмется, будьте покойны, ничего не поделают», и проч.
Видал я его чаще у деда, у которого были постоянно какие-то тяжебные дела, и их вёл ему, в качестве его поверенного или просто советчика. Мутовкин.
— А спосылать-ка завтра в город за Мутовкиным. — скажет, бывало, дедушка еще с вечера.
На другой день Мутовкин и является, зазябший, весь синий с дороги, потому что за ним посылали мужицкую подводу в одну лошадь, а он все двадцать верст от города ехал шагом или почти шагом.
— Замерз... а? — спросит дедушка.
— Замерз, Николай Федорович.
— Водки хочешь?
И, не дожидаясь ответа, дедушка кричит:
— Кондрашка, подай водки и закусить чего-нибудь.
Несмотря на то, что дедушка высоко ценил судейский ум и судейскую опытность в делах Мутовкина, он, однако, при всех постоянно подсмеивался над ним.
— Ну, — скажет, — рассказывай, какие там у вас, в городе, новости, какие еще плутни вы там придумали?
Мутовкин все это переносил и, по-видимому, нисколько на это не обижался: сидит и сам же смеется, хихикает или рассказывает, действительно, какую-нибудь еще новую плутню, — не свою, как он уверяет, а чью-нибудь, — но так тонко ее понимает и смакует при этом, что видно, что он весь в ней, что это его жизнь.
— И как это только на вас грозы никакой нет. Погодите, вот приедет новый губернатор, он вам задаст, всех вас под суд упрячет! — продолжает дедушка.
А Мутовкин только сперва глупо-глупо так посмотрит на него, дескать, за что же тут, я не понимаю, а потом весело улыбнется и глаза сделает хитрые-прехитрые.
— Ты сколько раз, — продолжает дедушка, — под судом-то был?
— Восемь, — скромно отвечает Мутовкин.
— И все чист выходил?
— Да за что же, Николай Федорович! Ведь если человек ничего не сделал, за что же судить-то его?
— Рассказывай! Это уж особое к тебе милосердие дворян, что они еще выбирают тебя всё.
— А страдаю-то я за кого? Все за господ дворян же, за них же, за их дела...
— А ты за нехорошие дела не берись.
— Не берись!
— Да, разумеется.
— Ах, Николай Федорович, и как вы это говорите! Ну как я не возьмусь, если, примерно, вы меня призовете и скажете: «обделай мне это»...
— Я тебе никогда этого не скажу.
— Знаю-с. Да я к примеру так.
Но и дедушка и все подсмеивались над ним так только, потому что люди смеются, а как крупные помещики, от которых зависело его избрание на баллотировках, вновь избирали его в ту же должность заседателя и с делами своими всё обращались к нему: очень уж сами-то они все плохо знали законы, что можно и чего нельзя, да и вообще и так были слабы по части грамотности.
III
У Мутовкиной имение было очень небольшое, даже собственно, по-тогдашнему, не имение, а просто хутор — десятин сто земли, две семьи крестьян и одна семья дворовых, которая вся и служила при доме и при усадьбе, исполняя обязанности кучера, повара, садовника и разных ключниц, скотниц, горничных, птичниц и проч.
Но в подмогу им те помещики, дела которых вел Мутовкин, отдавали ему в виде вознаграждения во временное пользование или одиночек — мужчин и женщин, или иногда и целые семьи.
Положение этих несчастных — помню рассказы об этом — было самое ужасное. Мутовкин сам жил постоянно в городе, находясь на службе, или вот так разъезжал по помещикам в качестве их поверенного или советника, а хозяйством и всем в деревне или на хуторе заведовала Анна Ивановна. На этих несчастных, присылаемых к ней во временное пользование, она смотрела прямо как на жертв своих и не только обременяла их всякой работой, но еще, отпуская домой по окончании срока пребывания их у ней, обирала, что называется, до нитки.
Как ни мало могли интересовать все эти разговоры о порядках у Мутовкиной нас, детей, но, вслушиваясь в некоторые из этих разговоров, интересовавшие почему-нибудь нас, мы невольно вдумывались в эти рассказы, и они запечатлелись у нас в памяти. Разговоры нянек, горничных между собою, которые мы не могли не слышать, дополняли наши представления о мутовкинских порядках.
— Такой другой госпожи во всем уезде нет, да и в губернии во всей, пожалуй, не сыщется, — говорили они про нее.
— Жадна уж больно.
— Ненасытная совсем... И жалости в ней к человеку — никакой.
— Совести-стыда никакого.
Я помню рассказ один няньки — ей тоже кто-то рассказывал — о том, как Мутовкина разбирала сундук или мешок какой-то горничной, присланной ей в услужение каким-то помещиком, дела которого вел ее муж, и как она при этом отобрала у этой несчастной и взяла себе разные ее тряпки, не побрезгав даже и этой скудной наживой...
Но это я, однако ж, привожу здесь вовсе не потому, чтобы это было чем-то особенным, исключительным в характере самой Мутовкиной, — это очень многие тогда делали, то есть рылись в сундуках у горничных и даже отнимали у них разную дрянь, — я упоминаю здесь об этом обо всем просто как об общем фоне, на котором в памяти у меня вырисовываются те или другие картины или отдельные сцены. Мутовкина была только мизернее, циничнее, неопрятнее других, и оттого, глядя на нее или слушая ее, больше возмущалось нравственное чувство в нас, детях, и мы лучше и легче все это запомнили — только...
Имением своим и своими людьми Мутовкина распоряжалась совершенно самостоятельно, не спрашивая ни согласия, ни советов и указаний своего мужа. У них были даже из-за этого имения друг с другом ссоры. Сперва это именьице было его, но потом он как-то перевел его на ее имя. У него было какое-то опасное тогда дело, по которому он мог поплатиться каким-то большим для него денежным начетом или штрафом, взысканием, и у него могли это именьице его отобрать или продать, — так вот, чтобы этого не могли с ним сделать, он и перевел его как-то на имя жены.
Но потом опасность эта миновала, он благополучно избег ее, «отсудился» от нее, как тогда говорили, хотел было опять перевести имение на свое имя, но жена уж не соглашалась на это, не отдавала ему назад имения, постоянно с мужеством и очень ловко, говорили, отражала все его подвохи и нападки.
Это все, однако ж, тоже между прочим, так как и это все было в то время вовсе не в редкость, и у кого в семьях это происходило, семейному счастью семьи нисколько не мешало, напротив, и делалось-то это все в интересах семьи, ее безопасности и обеспеченности, и если над этим смеялись, то лишь над отдельными какими-нибудь случаями этой борьбы супругов, а самый факт, мотив таких ссор и борьбу супругов все уважали и рассматривали как заботу их о целости имения и об обеспечении детей. Так и теперь Анна Ивановна находила много сторонников, которые сочувствовали ей в ее упрямстве не отдавать обратно мужу его имения.
— Помилуйте, и к чему? Избави господи, опять попадется, что ж, тогда снова переводить ему на жену.
— Глупости! Как это служащему человеку на свое имя имение держать...
И даже прямо, в силу этих взглядов, смотрели на его желание получить имение обратно от жены как на предосудительное дело, как на доказательство того, что он не заботится о семье, по легкомыслию его, хотя все знали, что какой уж он легкомысленный!..
IV
Таково было общее отношение к Мутовкиным всех соседей и всех знавших их; но совсем иначе на них смотрела наша тетенька Клавдия Васильевна, или тетя Клёдя, как мы все ее звали, или «благодетельница», как называла ее Анна Ивановна Мутовкина.
И я не думаю, чтобы по характеру своему тетенька и в глубине своей души, оставаясь, так сказать, наедине с своей совестью, смотрела на Мутовкиных иначе, то есть с тем же оттенком некоторой брезгливости, как смотрели на них все. Напротив, по всему, что мне известно, тетенька, будучи связана с Мутовкиной некоторой общей с нею деятельностью и видя притом постоянное ее усердие, энергию и удачливость в предприятиях самых смелых, иначе и не могла на нее смотреть, то есть иначе, как с самыми дружескими к ней чувствами...
Зато и Анна Ивановна была не только верный слуга для тетеньки Клавдии Васильевны, но и восторженная ее почитательница. Она положительно смотрела на тетеньку как на идеал женщины — идеал, до которого ей, при ее малых средствах, необразованности, отсутствии положения и связей, да еще при такой «подлой» фамилии, как выражалась она про себя, — никогда, во веки веков не достичь, что бы она ни делала и как бы ни трудилась. Тетенька, в ее представлении, была орлом, который свободно носился и низко над землей, схватывая всякую мелкую добычу, и свободно парил в высоте, оттуда высматривал добычу и потом падал на нее со всей стремительностью и неотразимостью...
Бывая у нас ежедневно почти, когда к нам приезжала и гостила у нас тетенька Клавдия Васильевна, Мутовкина сидела, ходила, смотрела на нее и говорила с ней совсем как очарованная.
— Ишь, у Анны Ивановны-то совсем дыхание в зобу сперлось, — говорили про нее наши няньки, смотря на нее, когда она беседовала с тетенькой.
И действительно, во всей фигуре ее, в выражении лица и в глазах было всегда столько восторга и умиления, хотя в то же время было и что-то страшное...
Наши няньки, глядя на них, говорили:
— Опять, должно быть, Клавдия Васильевна научает ее порешить кого...
В свою очередь, и тетенька выражала ей любовь и вообще нежные чувства, что тем более должно было быть для Мутовкиной ценно, что она их никому не расточала, так как их было мало у нее.
Бывало, когда сидят они вдвоем у тетеньки в комнате, долго толкуют, рассуждают, читают какие-то бумаги, рассматривают планы, тетенька — видим мы в отворенные двери — встанет, пройдется по комнате, достанет из шифоньерки леденцов, себе положит в рот и ей тоже даст...
А иногда отсыплет их несколько, завернет в бумажку и даст ей, чтобы она потом дома дала полакомиться и детям своим, тетенькиным крестникам.
А когда тетенька летом бывала у нас и к ней являлась, по ее делам, Анна Ивановна, они иногда в сад уходили для деловых разговоров. И долго ходят всё по дорожкам, остановятся иногда, говорят или присядут на скамеечку и сидят, — тетушка говорит, дает ей наставления, а она слушает.
А подойдем мы к ним, они или замолчат и переменят разговор, или тетенька прямо скажет нашим нянькам:
— Ну, идите, гуляйте... Это вы нарочно их подводите, узнать хотите, о чем мы разговариваем.
— Помилуйте, матушка, — оправдывается нянька, — они сами увидали вас, их не удержать...
— Не рассказывайте... Знаю я...
И всякий раз, возвращаясь из сада, тетенька срывала несколько яблоков, если они в то время были уж спелые, и дарила их Анне Ивановне, с тем чтобы та отвезла их своим детям. А если не было яблоков, то набирала с нею вместе малины, вишен, крыжовнику и это посылала с нею ее детям.
Она несколько раз, я помню, дарила также этим ее детям и деньги — по новенькому золотому, — которые тут же почти вырывала у них из рук их мать Анна Ивановна, говоря, что они, пожалуй, еще потеряют, хотя это было и не похоже на них...
Сама Анна Ивановна, после такой милости со стороны тетеньки, ловила у нее ручку, чтобы поцеловать, но та не давала, и она целовала ее в плечико; детям же тетенька протягивала очень охотно ручку, и они ее целовали, как-то съежившись при этом и по нескольку раз, как будто не могли оторваться от такой сласти...
Что за дела такие были у тетеньки Клавдии Васильевны с Анной Ивановной и вообще что так связывало их, за что они любили так друг друга и стояли одна за другую, мы знали довольно смутно, полагая лишь, что тетушка поручает Анне Ивановне какие-то свои дела и она их ей всегда верно и честно исполняет. Мы даже знали, что эти дела заключаются в каких-то переводах или пересылках мужиков из одного тетенькиного имения в другое, из одной губернии в другую. Но о самом характере таких дел, то есть, в данном случае, о самой их сущности, и о том, чем эти дела обусловливаются, чем сопровождаются, вообще что это такое за дело, мы не имели ни малейшего тогда понятия.
— Мама, да что такое Мутовкина ей делает? — спрашивали мы матушку.
— Ах, там дела разные по тетенькиному имению...
И уж только после долгих расспросов однажды сказала:
— Тетя земли много пустой купила в Саратовской губернии, так ей мужиков туда послать надо...
— Как это послать, откуда это Анна Ивановна ей этих мужиков может набрать, — ничего этого мы не понимали.
Няньки тоже отвечали как-то уклончиво на наши расспросы об этом, хотя у них иногда и вырывались такие выражения:
— Отольются им обеим эти слезы...
— Кому?
— Да тетеньке-то с Анной Ивановной.
— За что?
Няньки ничего не отвечали или вздыхали и говорили, что когда-нибудь мы всё это поймем, а теперь нам об этом нечего знать, и просили, чтобы мы об этом ничего не говорили ни матушке, ни отцу.
Очевидно и несомненно, что тут было что-то нехорошее и запрещенное, чего мы не должны еще пока знать, но что именно?
V
Так бы, вероятно, все эти «дела» и остались для нас неразрешенной загадкой, по правде даже и мало интересовавшей нас, детей, а когда впоследствии мы узнали бы их, в чем они заключались, но, не увидя их и не прочувствовав в детстве, — они сошли бы для нас мертвым звуком, под ничего не выражающим названием заселения дальних, степных имений.
Но я их, эти дела, видел... Я увидал их, понял и хорошо почувствовал, благодаря случайному совсем обстоятельству — отъезду отца и матушки на месяц в Москву.
У нас была какая-то, нам, детям, неизвестная совершенно, дальная родственница — бабушка или тетушка, даже и этого не знаю хорошо, — которая постоянно жила в Москве. Но отец и матушка очень хорошо знали и очень любили и, изредка хотя, но все же переписывались. Судя по письмам, которые получались от нее и читались потом и при нас вслух, и она их тоже любила.
Родственница эта давно уж изъявляла желание видеть и матушку с отцом и нас всех и просила приехать к себе или в Москву, если зимою, к ней в дом, или если летом, то в ее подмосковную, где она любила жить с самой весны. Поездка туда давно была решена, но все откладывалась под разными предлогами из года в год. Наконец родственница написала категорическое и необыкновенно чувствительное письмо, в котором говорила и о том, что поездка эта не бог знает какое уж трудное дело, что если они не едут, то, значит, в них нет надлежащих к ней родственных чувств, а между тем она уж слабеет, чувствует, что ей недолго осталось жить, что она хотела бы распорядиться насчет оставляемых ею имений, дома и денег и проч., — и отец с матушкой решили наконец немедленно к ней поехать, как только после полой воды просохнет и установится настоящий уж летний путь. Железных дорог тогда не было, и потому это обстоятельство, то есть хорошая дорога, при семидневной езде до Москвы, было очень важное. Так ответили и родственнице, что явятся к ней тотчас, как установится путь. По каким-то причинам или соображениям нас, детей, однако, не брали с собою, хотя родственница выражала в своем письме живейшее желание нас видеть. Настоящею причиной этого, кажется, было опасение, как бы мы не заболели дорогой и вообще наше здоровье, за которым смотрели и которое берегли я уж не знаю как — «как зеницу ока», по любимой поговорке наших нянюшек. Сборы в дорогу и разные соображения и распоряжения насчет того, как за нами смотреть, куда нас пускать, куда не пускать, и проч., и проч., начались еще задолго, недели за две до отъезда матушки с отцом в Москву.
Гувернантка наша, немка Анна Карловна, и няньки наши получали каждый день всё новые и новые дополнительные наставления насчет всякой могущей встретиться с нами случайности: болезни какой, несчастья, и проч., и проч. Матушка с отцом первый раз уезжали вместе, покидали нас так надолго и уезжали на такое далекое от семьи расстояние.
Наконец все соображения и распоряжения были кончены, дорога также просохла, сделалась вполне годною для дальней поездки. К крыльцу подвезли дорожную огромную карету и отпрягли ее. Тут она будет стоять дня два, покрытая белым холстинным чехлом, пока будут в нее, то есть в бесчисленные ее сундуки, не спеша и осмотрительно все укладывать, что надо взять с собою для такой дальней дороги и потом для Москвы.
Вероятно, все бы это так и кончилось, устроилось, то есть матушка с отцом уехали бы в Москву, оставив нас на заботливом и вполне достаточном попечении гувернантки Анны Карловны и наших нянек, и мы прожили бы совершенно тихо, мирно и благополучно вплоть до их возвращения, если бы в день накануне отъезда их, к вечеру, совершенно неожиданно не появилась бы тетенька Клавдия Васильевна. И подъехала она до того тихо, что ее никто не слыхал. Мы увидали ее уж на балконе, что выходил у нас в сад и где мы все в это время сидели.
— Что это, вы ехать в Москву собираетесь? — здороваясь и целуясь со всеми, спрашивала она. — А я было у вас погостить хотела.
Ей начали рассказывать, в чем дело, почему решили ехать именно теперь, а не в другое какое время, и проч., и проч., и стали уверять, что ей все-таки рады и это будет даже очень хорошо, если за время поездки она пробудет у нас, что это отлично вышло, что она надумала приехать к нам именно теперь.
Завистливая, подозрительная и до крайности любопытная, она была, видимо, очень рада, что ей таким образом вдруг и совершенно неожиданно открывается новое поприще хозяйки в доме на целый месяц и она многое узнает, чего иначе никогда не могла бы узнать.
— Что ж, пожалуй, — согласилась она.
— Это отлично. Ах, как это хорошо вышло, — искренно радовалась матушка, что будет еще один верный человек, и притом такой авторитетный, солидный и родственный, который уж конечно будет заботиться и пещись о нас.
— Вы завтра утром, я слышала, едете?
— Хотели, Клавденька, завтра.
— Ну что ж, и нечего откладывать. С богом.
— Да ведь один день — это ничего не значит, можно и отложить.
— Нет, нет... Зачем?.. Что такое?.. Какие со мною церемонии... Я, кажется, не чужая... своя...
Наутро, прощаясь, матушка ей толковала, главное, про меня:
— Что все будет у нас в порядке, в том я уверена, — говорила матушка, — но вот я за него боюсь: он такой нервный, впечатлительный... На него все ужасно действует... Какая-нибудь сцена...
Тетушка улыбалась своей сухой улыбкой и отвечала:
— Ничего, будь покойна... Ничего не случится... что же может случиться?..
Так матушка с отцом и уехали.
VI
Проводив их, мы вернулись с крыльца в дом, и я живо помню чувство пустоты и то сиротливое чувство, какое я ощутил сейчас же тогда. Это сиротство, быть может, я почувствовал именно от присутствия тут «тети Клёди». Не будь ее, быть может, было бы иначе; но она была тут, и невольно приходило в голову сравнение ее с теми, кто покинул нас, с отцом и матушкой, и кого заместительницей для нас она теперь являлась...
— Ну, идите, занимайтесь с Анной Карловной, — сказала она нам. — Вы, Анна Карловна, — обратилась она к гувернантке, — пожалуйста, чтобы все так же... как было до сих пор, без перемен. Как у вас было заведено, так чтобы и теперь шло...
Мы пошли в классную, а за нами, мы слышали, как тетенька кому-то сказала:
— Как бы послать кого-нибудь за Анной Ивановной... чтобы она сейчас ко мне приехала...
Это было первое ее распоряжение в качестве правительницы в нашем доме по отъезде отца с матушкой.
Мутовкина, понятно, на крыльях точно, прилетела сейчас же. Когда мы «отучились» и вышли, по обыкновению, в зал, чтобы играть и бегать, или отсюда уж через балкон идти гулять и играть в сад, Мутовкина уж прохаживалась вдоль комнат, сопровождая тетеньку, медленно выступавшую с вечным чулком на спицах в руках, с холодной, жесткой улыбкой на лице.
И с этого же первого дня начались откровения и открытия для нас, что за дела такие у тетеньки с Анной Ивановной. Если бы отец или матушка были дома, тетя Клёдя сидела и беседовала бы с Мутовкиной у себя в комнате или гуляла бы с нею в саду и они там обсуждали и рассматривали свои дела; но теперь отца и матушки не было дома, вместо их, с согласия их и чуть не по их просьбе, полномочной хозяйкой и заместительницей их осталась тетенька Клавдия Васильевна, и она, в этом качестве, хотела показываться всем на подобающем ей первом месте, и ей поневоле, таким образом, пришлось беседовать и рассуждать обо всех своих делах с Мутовкиной при всех, или, по крайней мере, в нашем присутствии; да она, не находя ничего предосудительного в них, не считала нужным и стесняться этим или хранить их от кого бы то ни было в тайне, исключая тех случаев, когда, вследствие огласки, какое-нибудь «дело» или какая-нибудь комбинация могли расстроиться и не удаться.
Мутовкина тоже нимало не стеснялась. Она точно выросла. Точно с высоким положением в нашем доме, которое заняла тетенька, и она стала выше, получила какие-то права. Даже и к нам она как будто иначе начала относиться — не обращала на нас внимания, не замечала нас точно.
А о няньках и даже о гувернантке и подавно уж и говорить нечего: она и знать их не хотела.
И это все в первый же день по отъезде отца с матушкой.
Мы, дети, очень чутко поняли эту перемену, разом на наших глазах происшедшую и с тетенькой и с Анной Ивановной, и когда после обеда пошли гулять и услыхали, как и что говорили по этому же поводу наша гувернантка и наши няньки, мы почти обрадовались, найдя в их словах и рассуждениях подтверждения и объяснения того, что и сами заметили и почувствовали. Сразу, с этого же дня, с этой же самой послеобеденной прогулки нашей, не сговариваясь, не намекнув даже ни одним словом об этом друг другу, мы образовали свой совсем замкнутый кружок, прямо враждебный тетеньке и ее наперснице Анне Ивановне. У себя дома мы теперь точно и не дома были, или, по крайней мере, так стало казаться нам.
Очень может быть, что гувернантка и няньки, недовольные тем, что первенствующая роль в доме, которая должна была с отъездом отца и матушки перейти к ним, так вдруг и неожиданно, вследствие случайного приезда тетеньки, досталась ей, усиливали в наших глазах бестактность и холодность обращения с нами и тетеньки и Анны Ивановны, просто занятых своими делами, но нам это все представлялось именно так, как мы чувствовали это сами и как еще более ясно и отчетливо это представилось из разговоров, какие, нисколько не стесняясь нами, при нас постоянно во время прогулок вела гувернантка с нашими няньками.
Обыкновенно, когда у нас гостила тетенька, Мутовкина всегда являлась к нам с детьми своими, крестниками тетенькиными, но теперь она их почему-то не везла. Этого приезда их мы боялись теперь как огня. Они будут с нами целый день, и тогда, значит, не будет у нас убежища даже и в своем кружке. Этого только и недоставало!..
Но они не являлись.
Каждое утро к нам приезжала Мутовкина, но одна, и мы радовались даже и этому, точно особенному какому счастию.
— Приехала Мутовкина? — спрашивали мы утром няньку, перед тем как идти в столовую пить чай.
— Приехала. Ей-то не приехать!..
— Одна?
— Одна... покамест...
И точно повеселеет все...
Точно и в самом деле мы дома у себя не были дома и должны были переносить это все, не имея даже права на протест...
VII
Тетенькины дела, как мы вскоре, в эти же первые дни, узнали, заключались все в том только, что она «скупала народ», то есть мужиков и баб, — где одного, где двух, а где и целую семью и две и три семьи. Мутовкина Анна Ивановна помогала ей в этом, то есть узнавала, где и у кого есть для продажи мужики, узнавала у владельцев и владелиц их цену, сообщала все это тетеньке, а потом уж, если, по их соображениям, обеих их, тетеньки и Мутовкиной, дело было подходящее, цена была подходящая, ездила и торговалась, урезонивала продавцов, пока дело не слаживалось наконец. За это тетенька платила ей «за труды», и чем выгоднее Мутовкина устраивала для тетеньки покупку, тем больше получала «за труды».
Обо всем этом мы догадались в первый же день, за обедом, когда, нисколько уж не стесняясь, тетенька вела разговоры с Мутовкиной. При отце с матушкой она этих разговоров ни за обедом, ни вообще публично не вела, но теперь кого же ей было стесняться, да и зачем, да и что тут такого?
Тогда кто же не продавал людей, кто же их не покупал? Правда, у нас не было «купленных» людей и никого из наших людей не продавали, а были они у нас всё те же, и были они не купленные, а так... просто наши... Сперва они были дедушкины, а потом стали наши...
Но мы слышали очень часто, что их, то есть людей, то продают, то покупают... И ничего тут в этом нет ни странного, необыкновенного, ни предосудительного или дурного. Все об этом открыто говорили, все это делали. Что ж тут такого?
Когда я узнал, что в этом только заключаются тетенькины дела с Анной Ивановной, я помню разочарования свои по этому поводу даже. Что ж тут такого? Что ж это они так скрывают? — думал я. Обыкновенные дела, и нисколько не интересные...
Когда после обеда мы пошли гулять, помню, я даже несколько разочарованным тоном спросил у сопровождавших нас гувернантки и няньки:
— Анна Ивановна ездит и узнает для тети Клёди, где продают людей?
— Да.
— И больше ничего?
— Ничего.
— А потом тетя Клёдя даст ей денег, она их ей и купит?
— Да.
— А потом их тетя Клёдя отправит в Саратовскую губернию к себе в имение, и они у нее там живут?
— Там и живут...
И в следующие дни, каждый день, и за обедом и вечером за чаем, я слышал всё те же самые разговоры тетеньки с Анной Ивановной о ценах на людей, о том, кто дешевле продает, у кого по таким-то и таким-то соображениям выгоднее их купить, и проч., и проч. Все то же самое, и ничего необыкновенного, ничего такого, что следовало бы скрывать от нас, и не скрывать даже — они, положим, не скрывали, — а считать неудобным или как бы неприличным говорить об этом при нас...
Но я все-таки продолжал их слушать, вникал в их разговоры, в надежде все еще сделать какое-нибудь открытие или хоть намек на то, что они, пожалуй, в самом деле имели бы основание от нас скрывать; но — ничего. Все фамилии помещиков и помещиц, у которых имеются, или они предполагают, что имеются, «для продажи» люди, возможные или невозможные цены, которые они за них запросят, разные соображения и хитрости, которые, по мнению тетушки, Мутовкина должна при своих разысканиях продажных людей и потом при торге с владельцами и при самой покупке пускать в ход, — и больше ничего. Однообразный, сухой, скучный, нисколько не интересный разговор.
Но вот, на третий или на четвертый день по отъезде отца с матушкой, за вечерним чаем я услыхал, что Мутовкина завтра куда-то уезжает и будет назад не ранее как дней через десять, и уезжает она по точно такому же тетенькиному делу — окончательно сторговаться и купить от ее имени две какие-то семьи мужиков или дворовых людей.
Тетенька делала ей наставление, Анна Ивановна слушала. Раз или два Мутовкина пыталась было ей возражать, но тетенька сейчас же ее осаживала.
— Ты уж слушай лучше, что я тебе говорю... Меня послушай, лучше будет.
— Ну, слушаю, слушаю, благодетельница, — сейчас же покорившись, говорила Мутовкина.
Мое внимание остановили, я помню, из этого их разговора только следующие слова тетеньки:
— Если за стариков и за больших будут ломить ту же цену — и не нужно тогда совсем... Бери одних детей. Эти мне еще сподручнее и лучше. Подождать каких-нибудь пять-шесть лет — и такие же работники будут, а цена совсем другая...
— Убыль бывает в детях-то, — заметила Мутовкина.
— Какая же убыль? Убыль бывает в грудных, а эти, ты говоришь, каких лет? Семи-восьми?
— Да, так, по виду годов по семи, по восьми.
— Ну так что ж. И отлично. Через шесть-семь лет — работники. Нынче ведь не как в старину. Нынче в пятнадцать-то лет он уж и пашет и косит...
— Да, это так.
— А в цене-то какая разница. За эту цену-то я пятерых детей могу купить.
— Как можно — разница огромная! — соглашалась Анна Ивановна.
— Ну, то-то и дело. А что на убыль смотреть, может, убыль будет, — так ведь это и большие умирают не равно. Это не узнаешь, кто дольше проживет, кто скорее умрет. Ведь вот Ларька-то федотовский какой казался здоровяк, что мы тогда за него триста рублей дали, а привезли в Саратов, заболел, и через неделю его не стало.
Тетенька при этом начала было даже фантазировать, как бы она, если бы это было можно, — да вот беда, не все соглашаются продавать, — накупила бы все одних малолетних, так, не меньше шести-семи лет, хлопот за ними много и, действительно, убыли больше, и как бы они у нее росли — совсем как молодые деревца, — а она бы на них смотрела... со временем все работники будут... заплатят за свой корм и за воспитание...
Она начала даже наставлять в этом Мутовкину, удивляться и выражать непонимание, почему это и как это все стесняются, не продают от отцов и матерей малолетних...
— Точно не все одно. Так же вырастут. При матерях-отцах только избалуются — больше ничего... Да вон у меня же в прошлом году одиннадцать сирот купленных — живехоньки все и гораздо лучше выйдут, я уверена, чем как при отцах-матерях растут! И в работу раньше пойдут. Им надеяться не на кого. На себя одних только и есть надежда...
Это я слышал в первый раз. До тех пор я не слышал, чтобы детей продавали... И потом, меня поразило лицо у тетеньки, когда она это все говорила. Лицо у нее было очень уж какое-то жесткое... глаза тоже узенькие-преузенькие сделались, а сама она улыбалась...
VIII
Это все произвело на меня тогда такое впечатление, что я никак не мог отделаться от него. А было оно не то чтобы гнетущее какое — самого факта, то есть картины продажи детей, я еще не видел покамест, — а я просто все носился, не мог расстаться с мыслью, увижу я этих проданных и купленных ею детей или нет, и как бы это их увидеть. Точно они, эти дети, должны были быть какие-нибудь особенные, не такие совсем, как обыкновенные, а какие-нибудь другие, — и вот в чем эта разница, как она на них отпечатлелась?..
Помню, я спрашивал об этом и у нянек и у гувернантки, но они на это отвечали не то чтобы неохотно или равнодушно, а как-то так, что, дескать, «ну, сам понимаешь — несчастные, что ж тут еще толковать об этом...». А когда я начинал настаивать и приставать с разными вопросами относительно подробностей, как это делают, и проч., они отвечали, уж как-то подозрительно переглядываясь: «а ну как если ты из этого сцену какую глупую сделаешь — бывали эти случаи-то уж не раз...»
С сестрой Соней мне еще меньше удалось выяснить это обстоятельство, то есть чем это все должно сопровождаться и какие такие должны быть эти дети.
— Крестьянские, — сказала она, не поняв хорошо того, что мне нужно.
— Конечно, крестьянские... Но они, должно быть, жалкие.
— Отчего? — удивилась даже она.
— Да как же... Ведь тетя их купит и увезет к себе в Саратов.
— Глупости какие.
— Нет, не глупости! Ты слышала, она вчера за обедом с Мутовкиной-то рассуждала. У нее в Саратове уж много их накуплено...
Сестра, вероятно не слушавшая вчера разговора тетушки с Мутовкиной об этом, внимательно смотрела на меня, точно что-то соображая.
— Ты что-нибудь не то слышал, — наконец сказала она.
— Нет, уж это верно. Я знаю даже, сколько их у нее там, в Саратове, накуплено: их всех у нее одиннадцать...
Она промолчала на это, ничего мне не ответила...
Вечером однажды, в один из этих дней, вдруг совершенно неожиданно явился к нам муж Анны Ивановны Мутовкиной.
— Алексей Макарыч приехали, — доложил лакей, когда мы все, то есть тетенька, гувернантка наша и мы, сидели на террасе за чайным столом.
Если бы это случилось при отце, когда он был дома, Мутовкина, наверное, позвали бы в кабинет, куда к нему вышел бы отец один, там переговорили бы с ним, о чем ему нужно, и тот уехал бы, не показавшись к нам. Но как будет теперь? Меня, я помню, ужасно это занимало, — благорасположение и деловые отношения тетеньки к его жене повлияют ли на его прием, то есть как тетенька велит его принять: позовет сюда или выйдет одна к нему?
— Проси же, — с удивлением и даже с оттенком некоторого раздражения на лакея за его непонятливость сказала тетенька.-
— Сюда? — переспросил Никифор, не понимая, куда его просить.
— Ну, конечно!.. — И когда Никифор ушел, добавила: — Фу, какой дурак...
— Это он потому удивился, — ласково и вежливо, но с оттенком ядовитости, заметила тетеньке гувернантка, — что Мутовкина никогда сюда не принимают. Он обыкновенно туда, в кабинет, проходит...
— А я вот сюда его прошу... Это я уж за это буду отвечать, — так же вежливо и ласково ответила ей тетенька и, по обыкновению, с улыбкой посмотрела на нее.
Вошел Мутовкин, неловко раскланялся и потом поспешил прямо к тетеньке, к ручке.
— От Анны Ивановны, что ли? По делу? — спросила его тетенька.
— От нее, благодетельница.
— Опять напутала что-нибудь? — раздраженно проговорила тетенька.
— Что вы, благодетельница, избави господи!.. Видел ее в городе, купчую она совершает, а я сюда ехал: доезжай, говорит, поскорей, узнай у благодетельницы, не купит ли заодно, дешево тут семья одна продается... Муж с женой, четверо детей...
— Чьи? Кто продает-то?
— Не спросил. Вспомнил потом — далеко уж отъехал...
— И цены тоже не знаешь?
— Нет, цену знаю. За всех шестерых...
Я не помню теперь, какую он цифру сказал, но тетенька как-то сухо приняла это известие. Не показалась эта цена ей выгодной, что ли, или по другому по чему, но только Мутовкин, видимо, не такой ожидал встречи привезенному им предложению.
— Тех-то она купила по крайней мере, за которыми я ее послала? — спросила его тетенька.
— Купила, купила, благодетельница. Как же не купила. Говорю, в городе уж, купчую совершают. Велела еще она сказать, что сама к вам сюда их всех привезет. Боится оставить их там, как бы не наделали чего над собою... да и за детей тоже... Двух-то детей ведь от отцов-матерей берут, — ну так боится, как бы они над ними не сделали чего...
Тетенька выслушала и это все с неудовольствием и только заметила:
— Она бы, дура, хоть заковать-то велела больших.
— Закованы они у нее, закованы, — успокаивающе заговорил Мутовкин. — Как же, закованы. Она и это, благодетельница, мне говорила. Она со всеми с ними у Семенихина на постоялом дворе стоит. Они все с нею, потому, благодетельница, говорит: «Боюсь одних их оставить...» Закованы... Как же — закованы...
Тетенька начала потом говорить с Мутовкиным как будто немного спокойнее и не таким недовольным тоном. Она даже вернулась к обсуждению привезенного им предложения его жены купить еще каких-то людей с четырьмя их детьми.
— Мне народу много надо купить, — говорила тетенька, — в Саратове у меня пять тысяч десятин, а душ там и полусотни не наберется. Мне много надо...
— Благодетельница, да она, моя дура-то, для вас готова стараться. Вы только про нее не думайте, чтобы она насчет чего другого и прочего, — ни боже мой. Она, благодетельница, вот как для вас старается...
— Ее же выгода, — отвечала тетенька.
— Жизни своей она для вас, благодетельница, не жалеет...
— Ну, вздор... — сказала тетенька.
— Нет, не вздор это, благодетельница, а, доложу вам, сущая правда. Зол на нее здешний народ, ох, как зол... И за эти все дела. Названия-имени ей нет другого, как ворона. «Вон она летит, ворона! Опять, видно, цыплячьего мяса захотела!..»
— Перестань, глупости говоришь. И слушать тебя не хочу, — передернув плечами, проговорила тетенька и оглянулась на нас.
А он, точно не заметил этого, что тетенька-то вот раздражалась от этих его рассказов, продолжал:
— Не глупость, благодетельница, говорю, а сущую правду, и вот как перед богом не вру, знаю, от верных людей слышал, убить хотят ее!.. Как, говорят, полетит ворона опять по уезду, так ей и конец, довольно ей цыплят от матерей из гнезд таскать...
— Перестань, я тебе говорю! — почти вскричала тетенька.
Тетенька была сильно на него раздражена: кончик носика у нее побелел, то и дело она подергивала плечами, и на лице у нее, как зарница, быстро вспыхивала и опять потухала ее сухая, холодная, жесткая улыбка, от которой и нам становилось иногда не то чтобы жутко, а неприятно... и хочется уйди...
— Ну, перестану, перестану, благодетельница, — опять зачастил он. — Я ведь это, собственно, к тому, что если, избави господи, она и на самом деле из-за вас живота своего, по злобе людской, лишится...
Но тут тетенька уже не выдержала и своим сорвавшимся точно надтреснутым голоском закричала на него:
— Перестань!.. Тебе я говорю!..
Мутовкин безропотно замолчал, весь как-то даже съежившись и умалившись при этом. А тетенька — уж чисто от раздражения, знали мы ее — вздрогнула раза три плечиками и потянула в себя сквозь зубы воздух, как бы мороз пробежал у нее по спине... А потом опять ничего — обернулась, посмотрела на нас на всех и улыбнулась уж покойнее, продолжительнее.
Больше она уж тут, в этот вечер, при нас об этом обо всем с ним ее говорила. Потом в десять часов мы, то есть я с сестрой, пошли спать, сопутствуемые, по обыкновению, до самой детской нашей гувернанткой, где мы переходили уж всецело в заведование нянек, — и долго ли оставался в доме у нас Мутовкин и что с ним говорила тетенька, мы уж не могли знать.
Да довольно было с нас и того, что мы узнали из их разговоров в этот вечер, начиная с того, что к нам на днях Мутовкина привезет купленных ею для тетеньки детей и скованных больших мужиков, до известия о том, что Мутовкину Анну Ивановну, эту «ворону», — я сам стал представлять ее себе не иначе, как вороной, — хотят убить, и, может быть, вот-вот и в самом деле ее убьют...
Подавленный всеми этими известиями, так много говорившими моему воображению, известиями такими образными и вместе такими вдруг неожиданными, я уж ни о чем другом не мог ни думать, ни говорить. Я обращался к сестре с вопросами, к нянькам, рассказывал сам им, опять повторял то, что уж рассказывал однажды.
— «Цыплят повадилась таскать» — ведь это они, мужики, про детей своих... да? — спрашивал я.
— Ну, известно.
— И их как же повезут — в телегах?
— Не в тарантасах же — известно, на телегах.
— Их когда же привезут?
— Вы бы спросили у тетеньки, — отвечала нянька, которой я предлагал эти вопросы, но сейчас же сообразила, что из того, что я буду ее об этом спрашивать, выйдет, пожалуй, еще какая-нибудь история, спохватилась и добавила: — Вы в самом деле не вздумайте об этом ее расспрашивать.
— Почему же это?
— А потому, что не нужно этого.
— Я хочу знать, когда.
— Это совсем не ваше дело.
— Я хочу их видеть, когда их привезут.
— Ну, уж этого вот только и недоставало! — решительным тоном сказала нянька, и я тут же почти с испугом понял, что мне много будет хлопот и узнать, когда их привезут, и потом, когда привезут, — увидеть их, да еще и удастся ли это?..
Я знал, что нянька меня ужасно любит, души, что называется, во мне не чает, и что она, конечно, не отказалась бы и дать мне знать, известить меня, когда их привезут и пойти со мною их посмотреть, но ей уж столько раз попадало за это, то есть за подобные неуместные мне поблажки, после которых я бывал и расстроен на несколько дней и однажды даже серьезно болен, что я не мог теперь рас считывать на то, что уговорю ее.
А из расспросов моих и приставаний она уж видела — я сделал эту оплошность, не скрыл от нее, что дети, купленные тетенькой, и вообще вся эта история ее с покупка ми людей сильно меня и интересует и возбуждает. Оставалось, стало быть, рассчитывать только на случайность, то есть что случайно как-нибудь встретим этот поезд во время прогулки, или на хитрость, если удастся как-нибудь схитрить и явиться, когда узнаю, что их привезли, неожиданно туда, ни у кого не спросясь, — а там уж ничего они не поделают, будет поздно, когда я уж все увижу...
IX
И вот начались, с этой тайной мыслью в расчете на случайную встречу во время прогулки, наши с сестрой, — мы, конечно, сговорились уж с ней, — приставанья к гувернантке и к нянькам идти гулять не в сад, а в поле, на выгон, к деревне, туда, где дорога, по которой «они» должны были приехать.
День-два мы ходили туда гулять и утром, до жары, и вечером, и никто не спорил с нами, ни гувернантка Анна Карловна, ни няньки, находя вполне естественным это желание наше гулять там, так как могло нам надоесть гулять все время в саду; но постоянные наши упрашиванья идти гулять опять и опять на выгон, к деревне, где ровно ничего не было для них интересного и где, кроме того, очень часто еще пекло солнце, не могло наконец не показаться им странным.
— А, глупость, ну что там делать? Ну что там — дорогу вы, что ли, не видали? В саду хоть тень, по крайней мере, есть, а там что? — говорила Анна Карловна, гувернантка.
Но мы ее упрашивали, говорили, что на выгоне так хорошо нам гулять, бегать с сестрой, и она соглашалась, мы шли туда опять.
И мы с сестрой нарочно, когда нам и не хотелось вовсе, бегали по выгону, играли, чтобы только показать, как здесь хорошо и как нам тут весело... И в каком секрете я старался держать эту тайну, этот маленький наш заговор!..
— Пойдем, Соня, бегать, — упрашивал я сестру, — ну, пойдем же.
Побежим, отбежим так, что нас не слышат, пойдем потише и заговорим, высказываем друг другу наши соображения, когда «их» привезут, откуда, с какой стороны — дорог много — «они» должны ехать.
За эти дни мы еще кое-что услыхали и узнали из разговоров тетеньки с приезжавшим к ней из ее здешнего, не саратовского, имения старостой, бородатым с огромной лысиной мужиком, которого мы и ранее знали. Она говорила с ним, и мы слышали, как она сказала ему, что на днях к нему привезут две семьи мужицких, которые она купила, и пятерых детей, «разных», — как она их ему назвала, так вот чтобы он их принял и затем, как это и раньше было, в прежний раз, отправил бы на подводах в Саратов и чтобы караул при этом и присмотр за ними был крепкий. И опять упоминалось, чтобы мужики были скованы...
Высокий бородатый мужик, верный слуга ее и исполнитель всех тетенькиных планов и распоряжений, — «мучитель», «кровопийца», как называли нам, говорили про него наши няньки, — стоял перед ней у притолки и все только повторял:
— Слушаю, матушка, слушаю... понимаю... будьте покойны.
Про этого мужика, старосту тетенькиного, рассказывали ужасы.
— Он совсем без милости, — говорили няньки, — совсем в тетеньку или вот в эту ворону-то подлую, в Анну Ивановну, — за то она и любит его, ему одному и доверяет. И как это человек о душе своей не думает? Ну, служи господину, а какая ж это служба, разве это службой называется? Это кровопийца... кровь христианскую пьет...
Я помню, когда первый раз я услыхал это выражение или слово — «кровопийца», я думал, что тот, про кого это было сказано, и в самом деле пьет кровь, в буквальном смысле. Но теперь, — мне было уж лет десять, — я уж хорошо знал — довольно было для этого случаев, — что можно быть «кровопийцей» и не пить на самом деле кровь...
И тетенька, действительно, любила этого страшного и по виду мужика. Всякий раз, когда он приезжал к нам, когда он у нее бывал «за приказаниями», она просила, чтобы ему дали стакан водки, которую тот выпивал медленно, как воду, потом нагибался, брал край армяка или полушубка — в чем он был одет, — утирал им губы, кланялся и говорил:
— Благодарим покорно.
Эти беседы у тетеньки с ним происходили всегда обыкновенно в девичьей, куда и мы входили посмотреть на него и послушать, о чем он с ней говорит.
Но теперь, пользуясь отсутствием отца и матушки и тем, что она осталась за них хозяйкой здесь, она этого жестокого мужика позвала на балкон, где и мы все сидели, и беседовала с ним. Он стоял на одном конце балкона, а мы сидели за чайным столом на другом, прихлебывали чай со сливками из наших чашек, слушали их разговор и посматривали на них, то на тетеньку, когда она говорила, то на него, когда он глухим своим голосом произносил: «слушаю-с... слу-шаю-с... будьте покойны...»
От слышанных рассказов или и в самом деле он и сам по себе производил такое впечатление, но как-то жутко становилось, когда я представлял себе, что я почему-то вдруг остался бы с ним один на один... и мы едем... в поле... кругом никого нет... сумерки уж...
У детей ужасно легко разыгрывается воображение, а я, к тому же, был еще и страшно впечатлительный, нервный в то время. Я очень часто тогда воображал себя то в том, то в другом положении, и в голове, пред глазами моими, проносились целые картины...
«Они» к нему приедут, — фантазировал я сам с собою, в мыслях, — эти скованные мужики и эти «разные» дети, и он их примет и останется с ними один на один... кругом никого нет... и он начнет их мучить...»
Но на самом деле это все, то есть приезд их и как я их увидал, случилось совсем иначе и гораздо проще — по крайней мере не так, как я себе воображал.
Когда тетенька обо всем с ним переговорила и совсем уж отпустила было его, он вдруг спросил ее:
— А когда их, матушка, привезут-то сюда?
— Этих... купленных-то?
— Да-с.
— Да не знаю я. Я послала эту дуру, — с раздражением ответила ему тетенька.
— Анну Ивановну?
— Да. А она и запропала куда-то. Я еще вчера ее поджидала, а ее и сегодня нет.
— Ночью-то, может, и подъедет. Из города-то, может, холодком выехали, теперь и едут, к утру будут...
Тетенька прослушала это и, найдя его соображение несерьезным, ответила:
— Нет, она в ночь не выедет...
— Жарко днем-то. Вот я ехал — так и парит. А ночью-то, холодком-то, хорошо.
— Да не поедет она ночью, я тебе говорю, — с раздражением уж сказала тетенька, помолчала и добавила: — Как же это ночью она с ними поедет... Пять мужиков везет, двух баб, да еще детей с ней сколько — и поедет она ночью... Я и то боюсь, — вот что не едет-то она, — не случилось ли уж чего с нею...
Староста переступил с ноги на ногу, переложил руки, кашлянул и, видимо, ждал дальнейших сообщений, — хорошо не понимая, что же такое могло с ней случиться.
— Здесь народ-то сам знаешь какой, — продолжала тетенька, опять помолчав несколько.
— Да, это уж известно, — отозвался староста.
Так тетенька и не выговорила, что она боится, уж не убили ли Мутовкину. Я помню, мне ужасно хотелось услыхать, как она это скажет... чтобы она это сказала... Но она так и не сказала все-таки.
Только староста теперь понял, после ее последнего намека, вздохнул и тихо кашлянул.
— Ты вот что: ты сегодня не езди. Так и быть, ты уж подожди ее. Может, завтрашний день-то она подъедет. Она, я думаю, в городе с купчей замешкалась. Тут она мужа на днях присылала, просила узнать, не куплю ли я еще — еще две семьи продаются, — так я велела, если по той же цене отдадут, купить уж заодно и их...
— Слушаю-с, — ответил староста. — Уж известно, заодно их везти, одни хлопоты, что больше две семьи, что меньше.
— Да... Так, — раздумывая что-то, ответила тетенька. Помолчала еще и сказала: — Ну, так иди покамест. Завтра, как приедут, придешь...
— А подводы-то откуда мы возьмем? — вновь заговорил староста.
— Я здешние дам.
— Народ тоже нужен будет... везти-то их... и для караулу тоже...
— Ну, это завтра увидим.
Староста постоял немного еще, поклонился и сошел с балкона.
X
Утром на следующий день я проспал должно быть или уж не знаю почему, но только нянька все торопила меня умываться, говоря, что все давно уж встали, и вдруг совершенно неожиданно сказала:
— Тетенька уж и так заждались, — она очень любила сама разливать чай и всегда и везде это делала, когда приезжала куда, — им некогда, оне и то торопятся идти сейчас.
— Куда? — с удивлением спросил я.
— По делам своим... Смотреть этих купленных-то, что Анна Ивановна привезла.
— Их привезли? Когда?! — воскликнул я.
И я почувствовал, что у меня в голове мыслей, мыслей без конца: «Когда? Как? Куда их поместили? Где они?..» Я стоял с намыленными руками, и, что говорила нянька, я ничего уж не слыхал.
— Где же они? Как же это? — спрашивал, повторял я.
Кое-как, наскоро умывшись и одевшись, я поспешил на террасу, где мы обыкновенно пили летом утренний чай.
Там еще сидели тетенька и с ней Анна Ивановна, загорелая, запыленная с дороги, в ситцевом темненьком платьице, и с необыкновенным оживлением, разводя руками, как бы показывая что, говорила, рассказывала что-то тетеньке.
Тетенька слушала ее с довольной, то есть холодной, сухой своей улыбкой, только более оживленной теперь, как всегда это бывало с нею, когда ей приходилось, несмотря на препятствие или общее сомнение, все-таки восторжествовать наконец.
На мгновение оглянувшись на меня, при моем появлении, она взяла чайник и начала наливать мне чай, вся поглощенная тем, что рассказывала ей Мутовкина.
Сестры и гувернантки уж не было за чайным столом. Они гуляли — мне было их видно с террасы — в саду.
Я поздоровался, то есть поцеловался, с тетенькой и сел, пододвинув к себе свою чашку.
Мутовкина рассказывала, а тетенька слушала, совершенно позабыв обо мне, не обращая никакого внимания на то, что я тут сижу.
Мутовкина рассказывала, как она выезжала вчера с своей кладью из города и как на нее, ехавшую со всеми вместе, тоже в телеге, все смотрели...
— И еду это я ранним утром по Дворянской, а губернатор навстречу... Я так, знаете, благодетельница... вся вот этак, вот этак...
— Что ж он мог бы сделать?.. Ничего: закон есть, — спокойно, с презрительной улыбкой заметила ей тетенька.
— Его в этот день встречали... На ревизию он приезжал. Чиновники-то все вот как... зуб на зуб не попадут... Боятся... чувствуют все за собою... Улицы песочком посыпаны... А я-то с добром этим своим навстречу прямо ему...
— Ничего, ровно ничего он не мог бы сделать, — повторяла тетенька.
— Ах, благодетельница, вы по себе это судите, а я что? Что я ему? Маленький человек... А впереди меня-то на трех подводах людей скованных везут... ребят малых... стон... вой... плач... за ребятами-то матери бегут, голосят... Раиса Павловна-то как продавала, обещала не позволять матерям провожать ребят, а там, видно, позволила, — они бегут за телегами-то — в голос голосят... Только он, губернатор-то, спал еще, должно быть, в карете, рано еще было, часов в шесть мы выехали-то; а увидь он, наверное остановился бы...
— Ну и все равно ничего не взял бы. Закон есть на это. Господин волен своего раба кому угодно продать и купить тоже, если пожелает, — стояла на своем тетенька.
— Страшно уж мне-то тут стало. И зачем, думаю, я, дура, по другой улице не поехала. Ведь знала я, что ждут сегодня губернатора-то, и видела песочек на улице... Ну вот как отнял кто у меня разум...
— Нет, это вздор, а я боялась, как бы ты, в самом деле, ночью сдуру не выехала из города-то. Подгородный народ известно какой...
— Побоялась, побоялась, благодетельница... И вчера-то, едем, припоздали... Нет, думаю, не поеду ночью, лучше в Ивановке заночую... Скованных-то мужиков заперла в сарай на постоялом дворе, баб тоже. А детей собрала к себе, полеглись это они все вокруг меня, устали с дороги и сейчас поснули... А я-то сама заснуть не могу... Ну что хочешь — не могу, да и только. Чуть что стукнет или скрипнет, кажется мне, что идут ко мне, убить меня хотят — да и все тут... На дворе лошадь захрапит, собака цепью зазвенит, кажется, мужики мои посломали кандалы, идут ко мне, убить хотят...
— Глупости какие. — презрительно улыбаясь, сказала ей на это тетенька.
— Ох, уж не забуду я этого раза, набралась я страха. Сколько уж раз я их возила, а такого раза еще не бывало... И все раз от разу хуже и хуже становится с этим делом... Прежде народ другой совсем был, а теперь лица-то у всех зверские какие. Смотрят это на тебя, куда приедешь, так, кажется, чем попало сейчас бы тебя, тут же на месте, и положили...
— Глупости, все это кажется только тебе.
— Нет, благодетельница, нет, не кажется... И но дороге-то, и днем едешь с ними, — выедешь в глухое место, далеко от жилья, лесок где или овраг какой — и то я ни жива ни мертва. Ну что я одна поделаю с ними? На подводчиков да на караульных какая уж надежда...
Тетенька при этом пожала плечиками — не понимаю, дескать, — и протянула ручку к лежавшим перед нею каким-то деньгам и бумагам. Она молча сосчитала деньги, развернула по очереди одну за другой бумаги, подержала их и опять все сложила в кучу.
— Верно? — проговорила Анпа Ивановна.
— Кажется, — отвечала ей тетенька.
— Пойдете посмотреть-то их? — спросила Мутовкина.
— Да, пойду, — отвечала тетенька, взяла со стола бумаги, сдачу и поднялась, намереваясь уйти.
Во мне дыхание сжалось, сердце часто-часто билось.
«А ну как она не возьмет меня с собою, не позволит?»
— Тетя, ты куда? — спросил я.
— Так, недалеко. До каретного сарая... Они там, ты говоришь? — обратилась она к Мутовкиной.
— Там, благодетельница, там...
— Тетя, голубчик, ну возьми меня с собою, — жалобно-ласково сказал я, как я никогда не говорил ей. — Ну, пожалуйста...
Она совсем рыбьим взглядом посмотрела на меня и по-рыбьему же, если бы рыба улыбалась, улыбнулась.
— Ну, пожалуйста... — снова начал было я и вдруг вздрогнул под этим ее взглядом.
— Ты что? Что с тобою?.. — остановилась она.
«Ну, все пропало, теперь не возьмет меня», — мелькнуло у меня на мгновение в голове.
Но она, должно быть, иначе объяснила это себе, то есть тем, что это у меня случилось оттого, что я так прошу ее, а она не соглашается...
— Ну, иди... — проговорила она.
Я взглянул в сад. Гувернантка и Соня были далеко. Бежать за ними было уж некогда, да Анна Карловна, узнав, куда мы идем, пожалуй, восстала бы против этого, не пустила бы меня... Помню, у меня шевельнулось какое-то угрызение совести против сестры — как же это так: я пойду, все увижу, а она нет, и я точно это тайком от нее делаю... Но я до такой степени был нервно возбужден, так боялся, что мне не удастся увидать скованных людей и этих купленных и привезенных «разных» детей, что эта мысль — угрызение совести — только мелькнула у меня на мгновенье в голове и сейчас же прошла — в виду грозившей опасности ничего не увидать...
XI
Тетенька накинула на голову розовый шелковый платочек, распустила зонтик от солнца — день был солнечный, жаркий, — и мы втроем, то есть еще Мутовкина и я, вышли на крыльцо.
До каретного сарая от дома было шагов двести, если не больше: конюшня, при которой был этот сарай, стояла у самого выезда со двора. Мы шли туда прямиком, по мелкой зеленой траве, которая обыкновенно растет на чисто и опрятно содержимом пространстве в усадьбе перед домом. Из флигелей, из изб, в которых жили кучера и прочие дворовые, на нас выглядывали лица, догадавшись, вероятно, куда мы идем. И мне — живо я это помню — неловко как-то было идти, точно я будто тоже с ними в этом участвую, то есть вот с тетенькой и Мутовкиной...
Каретный сарай был затворен, не заперт, а затворен только. Возле него стояли четыре телеги, и выпряженные из них лошади ели овес или сено, положенное или насыпанное в эти телеги. У одной из телег стоял мужик — не наш, чужой, очевидно один из подводчиков, привезших «кладь». Когда мы стали подходить к каретному сараю, он приотворил немного одну дверь его и вошел туда. Сейчас же вслед за тем оттуда вышел тетенькин староста, который, оказалось, уж был там.
«Что он там с «ними» делал? Может, он там мучил их?» — мелькнуло у меня в голове, и я опять вздрогнул. Мне было жутко...
— Что это с тобою? — спросила, заметив это, тетенька.
Но я уж ничего не мог ответить ей. Нижняя губа у меня дрожала, горло сдавливало, и холодно всему было.
— Что с тобою? — повторила тетенька. — Посмотри-ка на меня?
Я взглянул на нее, стараясь улыбнуться, и насилу-насилу мог выговорить:
— Ничего...
Мы подошли к сараю.
Староста стоял с непокрытой головой. Он отвечал тетеньке поклоном, на который она кивнула ему.
— Ну что? Все они тут? — сказала тетенька.
— Тут-с, — коротко ответил староста.
— Ну-ка, отвори...
Староста стал разом, одновременно упираясь в обе половинки огромных дверей каретного сарая, отворять их. Прямо оттуда, из темноты, изнутри сарая, глянули на нас блестящие оглобли экипажей, кузова их, пахнуло запахом кожи, мази колесной. Но «их» не было видно. Не увидала их и тетенька, потому что спросила, ни к кому исключительно не обращаясь:
— Где же они?
— А вот тут, влево-то... вы взойдите в сарай... темно. Со свету-то не видно сразу, — объяснила ей Мутовкина.
Тетенька шагнула в сарай, за ней Мутовкина и за этой уж и я, со страхом заглядывая влево.
Там, в огромной, темной пустоте, виднелись на полу на подостланном сене, люди. Они начали вставать и загремели железом. Сюда, ближе к нам, сидели тоже на сене дети. Эти и не думали вставать, только смотрели на нас.
— Тут темно. Я ничего не вижу, — сказала тетенька. — Выйдите сюда, на свет.
— Выйдите сюда. Что вы туда забились? Сюда, на свет, выйдите, — повторил ее приказания староста, делая шага два к ним туда, в глубь сарая.
Из темноты один за другим начали выходить сперва мужики, потом бабы. Они все выстроились в ряд и молча, с серьезными лицами, смотрели на нас.
— Жили сперва у одних господ, теперь у меня будете жить, — обратилась к ним тетенька.
Молчание, ни слова...
— Будете хорошо жить, и вам будет хорошо, — продолжала тетенька. — А вот ты что это, — какой из них тут Анкудим? — Ей показали на самого небольшого мужика, лет сорока, худого, всклокоченного. — Ты что это вздумал дорогой рассказывать?
Мужик молчал. Некоторое время помолчала и тетенька.
— Ты что, этим лучше себе думаешь сделать? Вот из-за тебя одного и других пришлось заковать...
Анкудим, должно быть, хотел что-то сказать, встряхнул головой, повел плечами и сделал движение руками, которые он держал, закинув назад, но ничего не сказал и только зазвенел железом.
— За вину одного, а всем срамоту приходится принимать — хорошо это небось, — продолжала тетенька, — когда везли вас? Чьи это, спросят? Хороши, скажут, когда скованными приходится их везти...
Возле меня в это время вдруг кто-то глухо кашлянул, и так громко, на весь сарай. Так кашляют овцы летом от сухого корма — глухо и громко в то же время. Я обернулся. Обернулась также и тетенька. Анна Ивановна, стоявшая все время молча, тут заговорила, подходя к кашлявшему мальчику лет восьми или девяти, но речь ее была обращена к тетеньке:
— Ведь вот, брала я его, совсем здоровый был. А в город как привезла, кашлять начал... Что у тебя, хуже?
Она взяла его за руку — он сидел на сене — и потянула с полу. Мальчик стал вставать и опять кашлянул своим нечеловеческим кашлем.
Мутовкина вывела его совсем на свет, к самым дверям. Он исподлобья хмуро смотрел на нас. Волоса на голове спутанные, в сене; рубашонка гряаная-прегрязная...
— У тебя что? Что у тебя, кашель только? — спросила его тетенька.
Мальчик ничего не отвечал ей.
— У тебя что? Ты отчего кашляешь? — повторила она свой вопрос.
Мальчик опять кашлянул и страшно при этом вытаращил глаза, точно вот-вот сейчас подавится.
— Совсем здоровый был... Что ж я, с ума сошла, что ли, взяла бы его такого? — повторила Анна Ивановна.
— Да что у него? В горле вы посмотрите у него, — сказала тетенька.
Мутовкина взяла мальчика за голову, вывела из сарая совсем на свет и начала смотреть ему в рот.
— У нас в селе ноне мор на них, — заговорила вдруг одна из баб, стоявших в ряду с мужиками, тоже купленная, — их за весну-то что померло уж...
— Анна Ивановна! Ты слышишь? — закричала тут тетенька. — Ты слышишь, что баба-то говорит?
Мутовкина бросила ребенка и поспешила к тетеньке.
— Ты слышишь? Ты что же это мне заразных накупила-то? Заразу разводить? Вот она! Отличилась! Очень благодарна! Очень за это благодарна! Это мило!.. Заразных детей мне накупила! Что я с ними буду теперь делать тут?
— Матушка, благодетельница! Что такое?..
— Благодетельница, что такое? — дразнилась тетенька. — Вот что, такое, ты послушай-ка, что баба-то вон говорит.
— Что такое? — металась Мутовкина.
— Вот послушай-ка... послушай...
Баба повторила, что у них в деревне много детей ныне весной от этой болезни перемерло. Начнут кашлять, покашляют дня три и умирают.
— Благодетельница! Врет она. Что ж, Раиса Павловна-то продавая, разве скрыла бы это? Разве посмела бы она вам, благодетельница, продать, если бы у нее в самом деле зараза на деревне была.
— Да вот же, тебе продала, а ты, не спросив, не расспросив, и денежки ей сейчас: нате, мол, извольте, нам таких и надо... Что я с ними буду делать теперь? Что у него там в горле-то? Ты смотрела?
— Да ничего. Так только, побелело как будто...
— Побелело! Ну вот и есть...
Мальчик, пришедший со двора опять в сарай, снова кашлянул, громко, глухо, страшно... И опять таращил при этом глаза, точно давился.
— Как же его везти? — говорила тетенька. — Он еще умрет дорогой. Они останавливаться должны будут, хоронить его, это целая история. Кто это выправлять все будет? Ни один поп дорогой не похоронит...
— Ну, тут пока его оставить можно? Не сбежит, — предложила было Мутовкина, но тетенька не отвечала ей даже на это, вероятно находя это недостойным ответа, да того несообразно.
Староста, молчавший все время, тут вдруг спросил:
— Ехать-то нам когда?
Тетенька помолчала немного и сказала:
— Да так, я думаю, пообедайте и поезжайте; а что?
— Ничего, матушка, довезу...
— А если дорогой...
— Ничего. Не извольте сомневаться.
Мальчик стоял тут же перед нами, слушал все это и смотрел на нас.
— Не извольте беспокоиться. Ничего-с... Если и грех случится дорогой, — ничего, не извольте беспокоиться...
Тетенька вопросительно, но с доверием посмотрела на него, помолчала и проговорила:
— Я не знаю, как же это тебе... здешних дать... здешние подводы... или послать вольных нанять... у государственных крестьян.
— Нанять лучше, — сказал староста, — Здешний народ-то...
И не договорил.
— Да уж это... уж насчет того, как здесь-то распущены! — докончила его мысль тетенька.
— Нанять лучше... — повторил опять староста.
Тетенька пошла из сарая, за ней Мутовкина и староста, предварительно хотевший было затворить опять дверь, но потом передавший это дело мужику-подводчику, а сам поспешил за тетенькой, которая что-то говорила дорогой.
Я оглянулся. Мужиков, баб, стоявших в глубине сарая, не было уж видно, но мальчик с кашлем стоял, и его скрыла у меня из глаз затворяемая подводчиком дверь...
XII
— Ты что ж меня не позвал? — спросила меня Соня, когда я явился в сад к ней и гувернантке.
— Ах, какая страсть! Ты знаешь, один мальчик должен умереть дорогой... Они все, должно быть, умрут. У них в деревне, откуда их привезли, зараза, и они все там умирают. Он так кашляет... ах, как он кашляет...
Анна Карловна, гувернантка, глаза на меня при этом вытаращила. Няньки наши обе тоже ахнули.
— И это она вас к ним с собою водила?! — воскликнула Анна Карловна. — Вы с ней были там?
— С тетей, — ответил я.
— И она вам позволила?
— Она не знала.
— Вот этого только и недоставало! Это хорошо! Нет, я сегодня же обо всем в Москву напишу. Нет, иначе я ни за что не отвечаю.
Няньки тоже были в страшном волнении.
— Как же он кашляет? — спросила сестра.
— Страшно. Знаешь, как овца. Только еще громче... И Анна Ивановна смотрела в горле у него — говорит, там побелело все.
— A-а!.. И она вас там держала все время с собою! А! Каково!.. — восклицала гувернантка.
Вскоре за нами пришел из дома лакей и позвал нас завтракать.
Мы поднялись с ковра, на котором все сидели, и молча пошли к дому.
— Мутовкина тут еще? — спросила гувернантка у человека, пришедшего звать нас.
— Тут-с.
Гувернантка остановилась.
— Я не знаю. Она с ними ехала вместе. Она тоже, может, заразилась?.. Ах, что это Клавдия Васильевна только делает!..
Тетенька сидела на террасе, рядом с ней Мутовкина, а на другом конце, у самого входа на террасу, стоял, по-вчерашнему, ее староста. Мы прошли мимо него.
— Ну так ты позови ко мне сейчас кузнеца, поскорее, — говорила ему — мы услыхали — тетенька.
Староста ушел.
Тетенька, по обыкновению, улыбнулась нам и продолжала разговор с Мутовкиной.
Они обе показались мне теперь как будто уж успокоившимися. Мы уселись и принялись за завтрак. Гувернантка сидела молча все время, но мы, зная ее, видели и чувствовали это, что она собирается, выбирает момент начать говорить с тетенькой, хочет спросить ее обо всем этом. Мутовкина, проголодавшаяся, должно быть, дорогой, ела теперь много, и так как она не умела есть, ела отвратительно, неопрятно, то была ужасно мне противна и с этой стороны.
К концу завтрака вдруг опять появился на ступеньках террасы тетенькин староста в сопровождении нашего кузнеца Ефима. Мы все оглянулись на них.
— Сейчас, — сказала тетенька им.
Завтрак кончился, Никифор убирал со стола. Тетенька встала и, пройдя на другой конец террасы, заговорила. Мы всё еще сидели за столом и навострили уши.
— Ефимушка, — сказала она ласковым голосом — она это умела, когда ей было нужно, — Ефимушка, вот тут привезли мне мужиков, они плохо закованы...
Мутовкина тоже подошла к тетеньке и стояла возле ее.
— Боюсь я, как бы дорогой не случилось с ними чего... — продолжала тетенька. — Ты бы мне перековал их. Я тебе заплачу.
Я видел лицо Ефима, полное злобы и презрения к ней. Дорогой староста, вероятно, сказал ему, зачем его зовут.
— Я не умею-с этого, — ответил ей Ефим. — Я только лошадей подковывал. Я людей в кандалы не заковывал никогда...
— Да ведь это пустяки. Тут что ж мудреного? — начала было Мутовкина, но тетенька ее остановила, не оборачиваясь, махнув ей рукой, чтобы она замолчала.
— Нет-с, я не могу этого, — повторил еще раз Ефим.
— Так ты не можешь? Да? — услыхали мы голос тетеньки.
— Нет-с, не могу.
— Гм!..
Мутовкина опять норовилась было что-то начать говорить, но тетенька опять махнула ей рукой, и та так и замолчала с какой-то начатой фразой.
— Так ты не можешь? Да?.. Ну, ничего больше...
И вдруг я почувствовал в себе столько силы, смелой, решительной, на все готовой, не помня и не сознавая ничего, крикнул ему:
— Молодец, Ефим!..
Но дальше, на дальнейшее меня уж не хватило. Горло у меня сдавило, губа нижняя задрожала, и, рыдая, я упал на пол.
Что произошло потом, я уж не мог понимать. Я очнулся уж в детской. Возле меня сидели нянька, Анна Карловна, сестра. Ждали доктора, за которым послали в город.
Когда, оправившись и видя кругом повеселевшие лица, я спросил, увезли ли «их»? Анна Карловна мне ответила, чтобы я забыл об этом и больше не спрашивал.
— Вы только скажите мне.
— Ну, увезли.
— И этого мальчика?
— Всех...
Тетенька тоже почему-то уехала в этот же день.
А там, через неделю, вернулись раньше срока из Москвы и отец с матушкой, не выдержавшие такой долгой разлуки с нами.
ПЕРВАЯ ОХОТА
I
Это было в 1853 или 54 году, летом, так, должно быть, в последних числах августа. В это время у нас поспевает уже конопля, и ее можно есть, то есть можно нагнуть головку, намять семечек и жевать их: это довольно вкусно — что-то вроде молодых орехов... Ниже будет понятно, почему я запомнил, что конопля тогда была уж спелая.
Мне было в то время лет девять или десять. Я начал себя помнить очень рано — лет с шести. Я бы сказал — еще раньше, да боюсь, не примешиваются ли тут к воспоминаниям слышанные в детстве рассказы. Рассказ произвел впечатление, детское воображение облекло его в образы; эти образы — чаще всего страшные, грозные — жили, пугали, вызывали страх, любопытство, сжились и так и остались в памяти. У людей, которые в детстве были нервными и впечатлительными, это — сплошь и рядом.
Но уж девяти или десяти лет кто ж себя не помнит? У меня в это время были две гувернантки и два гувернера, и свадьбу одного гувернера с одной из гувернанток, случившуюся как раз в это же время, я помню отлично, со всеми подробностями. Так же хорошо и отчетливо я помню вот и это событие, о котором буду сейчас рассказывать.
Я, право, не знаю, вычитал ли это отец из книг каких или дошел до этого сам своим умом, но им было постановлено, чтобы я начал учиться читать и писать не раньше двенадцати лет. Матушка была против, и это даже огорчало ее.
— Но в таком случае, мой друг, для чего же ты хочешь, чтобы у него было два гувернера и две гувернантки? — говорила она.
— Откуда же это: у него? Гувернантки для Сони, а вовсе не для него. Для него одни гувернеры.
— Зачем же их двух? Разве один не может?
— Нет, не может... Прежде всего, гувернер — кто? Ты подумай, что ты говоришь...
Он остановился и смотрел на матушку. Она тоже поднимала на него глаза:
— Как кто?
— Да кто он такой?
— Ну, француз, немец...
— А француз или немец разве не человек?..
Она пожимала плечами.
— Кто ж об этом спорит?
— Ты споришь.
— Я?.. Ты бог знает что говоришь...
— Нет, это ты, душа моя, бог знает что говоришь. Это ты не хочешь понять, что гувернер человек...
Отец медленно вынимал из кармана шелковый, фуляровый носовой платок, потом из другого кармана золотую табакерку, производил «операцию» не спеша, молча, улыбаясь, и только когда все бывало уж кончено, объяснял свою мысль. Это он всегда так делал. Сперва скажет что-то вроде загадки, сделает несколько замечаний по поводу того, что «спрашивать и отвечать надо всегда подумавши», потом, как бы давая время на размышления, займется «операцией», и уж после всего этого — объяснение, ключ.
— Ну так как же? Гувернер — человек?
— Ах, что ты говоришь! Ну, разумеется.
— Ты не тревожься, не горячись... Если он человек — может он устать? Нужен ему отдых?
— Нужен.
— Ну, и все ясно... Теперь ты понимаешь, для чего нужен второй.
И он в это время, довольный, тонко улыбался, а если, кроме матушки, присутствовал кто-нибудь еще, то он взглядывал и на него.
Такая была уж манера у него. Мне кажется, при его характере, флегматичном от природы, она развилась у него под впечатлением деревенской скуки. Тишина и скука тогда были ужасные. Эти съезды, о которых теперь рассказывают в воспоминаниях, ведь не непрерывные же были. Ну, съедутся, поживут дня три, четыре, пять. А потом, когда все уедут, скука и одиночество чувствовались еще сильнее.
Не только с матушкой и по поводу моего воспитания, но я помню такие же, то есть подобные этому, беседы отца и со старостами, с управляющими, с проходящими за чем-нибудь мимо окон поварами. Сидит он, бывало, у окна или на крыльце. Скука, жара. Впереди, на пыльной дороге, никого не видать. Дальше за дорогой пруд. Вода как в тазу — совсем без движения. Даже звуки замерли. Только на кухне слышно, как повара выбивают дробь ножами, — значит, будут к обеду котлетки или пирог: рубят мясо для котлеток или начинку для пирога... Вдруг он замечает — из кухни торопливо вышел и идет мимо дома повар в белой куртке, в белом переднике — все как следует по форме, нет только белого колпака на голове.
— Василий!
Повар, сначала не заметивший, что у окна сидит барин, теперь замечает его и останавливается.
— Ты куда?
— На ледник, за сметаной-с.
— Для чего?
Тот объясняет.
— А скажи ты мне, пожалуйста, как ты думаешь, кто ты такой?
Повар смотрит и не понимает.
— Кто ты такой? — повторяет он.
— Ваш слуга-с... Крепостной ваш человек-с.
— Это я все знаю. Ты мне скажи: кто ты такой? Ну, кучер ты, садовник, столяр?..
— Я-с?.. Я повар-с, — все еще ничего не догадываясь, отвечает он.
— А если ты повар, — что ты повар, это верно, — разве ты не знаешь, что у тебя должно быть на голове?
Повар вспоминает, что он не в колпаке, поднимает к голове руку, как бы еще не уверенный в том, что колпака нет, и, улыбаясь, говорит:
— Виноват-с...
— Виноват! Нехорошо это... Пожалуйста, братец, чтоб этого в другой раз не было... Иди...
Страшная была скука. От скуки удивительные слагались характеры и удивительные выходили люди...
II
Гувернеров обоих — и m-r Беке и Богдана Карловича фон Гюбнера — привезли из Москвы в один и тот же год и даже вместе. Возили шерсть в Москву продавать, покупали там провизию «для дому», то есть макароны, чай, кофе, рыбий клей, вино, горчицу, зеленый горошек, и со всем этим вместе привезли и гувернеров. Рекомендовал их, то есть нанял и отправил к нам в деревню, я уж не помню кто. Помню только, что они приехали вечером, когда я ложился спать. Я слышал из моей комнаты движение, какие-то голоса, спросил об этом, и мне сказали, что «из Москвы вернулись» и привезли гувернеров.
— Двое их?
— Двое-с, — ответил дядька. — Один этакий высокий, а другой будет пониже...
— Старые они? :
— Так, средственные-с...
Утром, за чаем, я их увидал. Они сидели рядом и пили чай со сливками и сдобными булками. Полный блондин с гладко выбритым лицом, в коричневом сюртуке и в голубом галстуке, оказался немцем Гюбнером. Он сидел ближе к матушке и разговаривал с нею. Худой высокий брюнет, весь в черном, — был m-r Беке. Этот сидел ближе к отцу и говорил с ним. Немец говорил громко и громко хохотал. Француз, напротив, был удивительно тих. К первому я попал к немцу. Лишь только я поздоровался с матушкой, он взял меня за обе руки, потом начал приятельски трепать по спине, по плечу, тормошил, говорил по-русски, по-немецки, и так и заливался смехом. Этот смех мне показался каким-то искусственным, неестественным. Он, вероятно, хотел расположить этим к себе, но только оттолкнул. Француз же мне сразу очень понравился. Он совершенно спокойно, как будто видел меня уже сотню раз, поздоровался со мною, пожал мне руку, посмотрел на меня так, вскользь, на всего и продолжал опять о чем-то говорить с отцом.
Матушка налила мне чаю в мою большую разрисованную чашку, я подбавил туда сливок с пенками, взял крендельков и принялся пить и есть, посматривая то на одного, то на другого гувернера. Француз не обращал на меня никакого внимания; немец же выказывал его все больше и больше.
— Ви играть любит?
— Люблю, — отвечал я.
— А учиться будет любит?
— Буду любить.
— Учиться — это надо. Нынче все должен учиться. Потом ви будет официр... Да?
Он посмотрел на матушку, но та, грустно улыбаясь, отрицательно покачала головой.
— Гражданской служба? — сказал немец.
Она в подтверждение несколько наклонила голову.
— Тогда еще больше надо учиться. Мы поедем потом в университет. Там, о, как весело! У нас в университет было тысячу сто студент...
— Нет, он в лицей, — сказала матушка.
Немец удивился, недоумевая посмотрел на нее и тихо, таинственно спросил:
— А как же тогда, чтоб он не учился ни читать, ни писать до двенадцати лет? Туда больших не принимают...
Она подняла плечи и опять грустно улыбнулась.
Немец опустил глаза, отхлебнул чаю и, играя правой рукой хлебным шариком, повернул голову к отцу и стал слушать его разговор с французом.
— Прежде всего надо запастись физическими силами, — говорил отец, — надо, чтобы ребенок окреп в здоровье настолько, чтобы его не могли сломить никакие усиленные занятия в школе. Это прежде всего. Потом ему необходимо знать языки. По-настоящему, ему следует знать, кроме французского и немецкого, еще и английский... ну... это еще время терпит. А уменье читать и писать — это искусство, которое он усвоит в месяц, когда придет время и надобность в этом. Придет время учиться, запасаться, копить знания, он выучится и искусству брать их — читать и писать. Это вздор. Теперь ему нужно только здоровье и языки.
— Значит, и по-немецки ему нельзя будет учиться читать? — спросил немец.
— Нет.
— Только разговаривать?
— Только.
Немец ничего не возразил. Француз, рассеянно взглянувший на него во время этого разговора его с отцом, откинулся теперь на спинку кресла и как бы про себя, ни к кому не обращаясь, проговорил:
— Да... Пожалуй, что это так... Ужасно надрывают их здоровье и ужасной чепухой набивают их головы...
Потом он стал смотреть на меня.
— Который ему год? — спросил он, опять ни к кому не обращаясь.
— Уж девять, — отвечала матушка.
— Только девять, — подчеркивая слово «только», сказал отец.
— Мне, однако, почему-то кажется, — продолжал француз, я ведь совершенно еще незнаком с вашим сыном, — но я так думаю, что для него этот срок слишком длинен... он может смело начать учиться читать и писать, не опасаясь за здоровье, и через год, когда ему будет десять лет.
— Совершенно достаточно, — сказала матушка. — Мальчик совсем здоровый, сильный... Я этого не понимаю.
Отец молчал. Француз замолчал тоже. Немец откашлялся и, вероятно желая помирить два противоположных взгляда, сказал:
— Это будет можно видеть. Это мы увидим...
— Все ведь в том, — опять начал француз, — что для одного, согласно даже и вашей теории, — он обратился к отцу, — можно начать учиться и в девять лет, а для другого, больного, слабого, — это вредно отзовется на его здоровье и в двенадцать лет. Все от здоровья. Тут нельзя указать на один, общий для всех, год. Здоров — можно начать раньше, слаб — надо подождать...
III
В это время в столовую вошла Соня, моя сестра, высокая, худенькая девочка лет десяти — она была годом старше меня — с бледным личиком и с большими темными глазами. Позади ее шли две ее гувернантки — немка Анна Карловна, полная, белая тридцатилетняя девица с необыкновенно развитым бюстом, и m-lle Бибер, француженка лет сорока, высокая, худая, с черными как смоль волосами, с огромным носом, с огромным ртом и совершенно плоской грудью, несмотря на множество буфочек у нее на лифе... В ушах — серьги в виде огромных золотых колец. Живая, подвижная, она то и дело вертела головой во все стороны, и эти серьги-кольцы у нее так и болтались... Пока Соня здоровалась с матушкой и со мною, отец познакомил гувернанток с гувернерами. Немец, конечно, заговорил с немкой, а француженка так и накинулась на француза. Сестра поцеловала отца, села на свое место, возле меня, и, помешивая ложечкой чай, не сводила глаз с новых наших гостей. Немцы разговаривали спокойно, по временам лишь возвышая голос. M-lle же Бибер трещала, сыпала вопросы, показывая что-то руками, смеялась, потом вдруг делалась грустной и снова оживлялась, опять смеялась. Кольцы в ушах так и болтались, блестели...
Я помню все это до такой степени хорошо, до такой степени подробно, со всеми мелочами, что мне кажется, все это было вчера, а вовсе не тридцать пять лет назад...
Мы просидели за чайным столом, разумеется, дольше обыкновенного, даже очень долго. Разговаривая с своей собеседницею, француз один раз вдруг, не отвечай даже ей на какой-то ее вопрос, обратился ко мне и сказал:
— А верхом вы любите ездить? На охоту вы любите ходить?
— Верхом — люблю... А стрелять я не умею, — отвечал я.
— Я вас выучу. Это вы позволите? — обратился он к отцу.
Отец сам не стрелял; не было у него и не любил он и собачьей охоты, хотя в доме собак у нас всяких было всегда много, и больших и маленьких.
— Отчего же... Только осторожнее надо, — сказал он.
— Значит, мы втроем будем ходить на охоту, — продолжал француз, — вы, я и m-lle Бибер. Она уверяет, что она отлично стреляет. Посмотрим!..
— О да! Вы увидите, — сказала m-lle Бибер.
Она вытянула руку, наклонила голову на правую сторону и начала показывать, как стреляют.
— Паф! — крикнула она громко и сама расхохоталась.
Все смеялись, были веселы. Оживление было полное и общее. Отец сидел и, посматривая на всех, улыбался, вертел табакерку и чаще обыкновенного брал и нюхал табак. Матушка тоже была в прекрасном расположении духа. Анну Карловну она любила больше, чем m-lle Бибер, и эту симпатию свою переносила теперь — это было заметно — и на Богдана Карловича, успевшего заявить, что он ужасно любит сады, коров и всякую домашнюю птицу — предметы, пользовавшиеся любовью матушки.
— Мы, Богдан Карлович, будем уж с вами этим заниматься, — сказала она. — Анна Карловна тоже любит и сад и птицу. Она мне часто помогает...
Образовывались, одним словом, сразу же две партии — немецкая и французская. Матушка явно становилась во главе первой. Отец не примкнул ни к какой. Он видел теперь вокруг себя целое общество, веселое, смеющееся, и был доволен этим. Соне было тоже все равно. Я же, когда все наконец встали из-за стола и двинулись в зал, пошел с французами...
IV
Шерсть возили продавать в Москву всегда в середине лета, так что возвращались из этой экспедиции никак не позже конца июля. Стало быть, и это все происходило тоже в конце июля. В это время у нас отличная охота — бекасы, дупеля, утки, дрофы, стрепета, журавли, гуси — вся степная дичь к услугам. Но и Беке и Бибер на охоту что-то не ходили поговорили лишь, и — только. Я как-то спросил об этом. M-r Беке отвечал мне, что ружье у него в Москве, а у Бибер — я и сам знал — его не было.
— Как же быть? — спросил я.
— Не знаю. Надо будет здесь купить. Да ведь и у вас еще нет. И вам надо купить, — сказал он.
— Как сделать это? — продолжал я.
— Ужо за чаем я спрошу вашего батюшку, — сказал Беке.
Он так и сделал.
— Ничего, ничего... я очень рад, — опять сказал отец. — Ружья я вам всем на днях доставлю. Надо только осторожнее с ними обращаться. Вот в город поедут, я напишу к Василию Михайловичу (лесничий), он и пришлет: у него их много. Вот я не знаю только, где достать тебе ружье. Ведь тебе надо маленькое, — прибавил он.
Но m-r Беке уверил его, что мне совершенно годится обыкновенное, только немного полегче. Это будет даже лучше.
M-r Беке мне очень нравился. Он нисколько не занимал меня, не делал мне никаких наставлений, не рассказывал мне никаких глупых анекдотов про разных послушных Феденек и непослушных Петенек, как делал это в свое дежурство Богдан Карлович; но я к нему привязывался с каждым днем все более и более. Он дежурил через день. Когда был дежурным Богдан Карлович, m-r Беке проводил свой день точно так же — выходил в сад, уходил куда-нибудь в глухое место, ложился там на траву и читал, или шел в поле, прямо куда глаза глядят.
— M-r Беке, возьмите меня, — говорил я.
— Нельзя. Вы сегодня должны упражняться с Богдан Карлычем в немецком языке.
— Я уж упражнялся.
— Еще надо.
— С ним скучно.
— Ну, зовите его, пойдемте вместе...
В поле Богдан Карлович не любил ходить. Он готов был хотя целый день просидеть на балконе и проговорить с Анной Карловной или смотреть, как кормят гусей, уток, доят коров, бьют масло, но только не идти в поле.
— Ну, что там делать? Лучше пойдем гулять по саду, пойдем смотреть, как скотину пригонят...
Он очень нехотя соглашался идти в поле, уставал, тяжело дышал и все спрашивал: не довольно ли, не пора ли домой?
Я поэтому с каждым днем отдалялся от него все дальше и дальше. M-r Беке тоже был с ним вежлив, любезен но обыкновению, но они никогда почти не оставались вдвоем и никогда ни о чем долго не разговаривали. Они жили, разумеется, в разных комнатах, и у каждого комнаты были убраны по-своему. У немца был удивительный порядок во всем. Все лежало и висело на своем месте, и если что на какое место он положил в первый раз, так на это же место клал и потом. На стенах у него висели какие-то картинки, какие-то засушенные цветочки под стеклом, башмачок для часов, турецкий ятаган и, что удивительнее всего, огромный ягдташ.
— Богдан Карлович, ведь вы на охоту не ходите?
— Это мне подарили. Это украшение.
— А ятаган?
— Это для дороги...
На стенах, на письменном столе — везде все в удивительном порядке.
V
У француза наоборот. На стенах ничего не висело. В углу, на полу, стоит, как взойдешь к нему в комнату, целая куча связанных веревочками книг. Тут же и сапоги, и пустые сигарные ящики, и пустые пузырьки от одеколона, и всякая дрянь. На окне белка в колесе. Он купил ее где-то дорогой и с нею приехал к нам. Он очень ее любил и, когда бывал у себя в комнате, играл с нею. Она знала его и тоже кажется, любила...
— M-r Беке, ведь ей скучно в колесе?
— Что же с этим делать! А людей разве мало в ее положении?..
— То есть как?
— Точно так же.
И он, смеясь, взглядывал на меня... Я чувствовал, что он на что-то намекает, но на что, на кого? «Про себя это он намекает или про меня», — думал я...
На письменном столе, — он попросил, и ему сделали из белых некрашеных досок большой стол, как на кухне, — у него было все навалено в таком же беспорядке, как и там, в углу. Здесь только лежала еще целая груда исписанной бумаги, карандаши, перья, трубочки.
— Что это у вас тут написано?
— Так, кое-что. Записываю, что вижу, слышу, — когда-нибудь пригодится.
— То есть как пригодится?
Так, когда-нибудь разберу это все и что-нибудь напишу...
Я смотрел на эти исписанные листы, на него смотрел, ничего не понимал, про что это он говорит, но мне и это у него нравилось. Странный какой-то человек. Я таких прежде не видал. У нас в то время таких не было...
Один раз я застал у него в комнате m-lle Бибер. Он полусидел-полулежал, поджав ноги, на диване, а она сидела перед столом и читала, перебирала его бумаги. Они оба взглянули на меня и продолжали разговор. Это было в самом начале. По-французски я еще ничего не понимал. Она говорила, смеялась. Потом вдруг заговорили о чем-то серьезно, и я заметил, как оба они несколько раз во время разговора посмотрели на меня. Я услыхал только свое имя... M-lle Бибер была очень добрая. Я стоял у стола близ нее; она обняла меня одной рукой за талию, привлекла к себе и дружески-ласково поглаживала по голове и, поправляя мне волосы, спросила, кого я больше люблю: m-r Беке или Богдан Карловича.
— M-r Беке, — нисколько не смутившись, отвечал я.
Они оба тихонько рассмеялись.
— Мы с m-r Беке хотим вас выучить читать, — сказала она. — Вы хотите?
— Хочу... Конечно...
Они что-то опять заговорили. Он ей возражал, как мне показалось. Потом она ему что-то решительно ответила, повернулась к столу, взяла какую-то книжку, развернула ее, хлопнула меня по плечу и сказала:
— Ну, смотрите. Вот это А, это В, это С... смотрите и хорошенько запомните.
Я повторил вслед за нею несколько раз: а, в, с, всмотрелся в их очертания, запомнил, какой рисунок какому соответствует звуку, и сказал:
— Ну-с, дальше.
— Дальше — довольно. Дальше — завтра... Понравилось?..
Она смотрела на меня большими черными добрыми глазами и весело смеялась.
Я стоял и улыбался.
В этот же день вечером, за чаем, что-то, по обыкновению, болтая и смеясь, она протянула руку к корзинке с печеньем, взяла оттуда кренделек и вдруг остановилась и посмотрела на меня.
— Это что? — спросила она, держа кренделек. На что похоже?
Я не понимал, что такое она меня спрашивает; но она показала пальцем сперва себе на лоб, потом на крендель, и я догадался, рассмеялся. Все на нас обратили внимание и спросили, в чем дело?
— Ни в чем; это наш секрет, — сказала она. — Serge, смотрите — никому не говорите...
В несколько дней я выучил таким образом всю азбуку.
— А когда же читать?
— Теперь скоро. Очень даже скоро.
VI
Другой раз я застал их тоже вдвоем на балконе. Отца не было дома. Матушка с Соней, Анной Карловной и Богданом Карловичем была где-то в саду или ходила и осматривала хозяйство. M-r Беке сидел в камышовом плетеном кресле и что-то читал. M-lle Бибер сидела на балконных ступенях. Я подошел к ней и сел возле нее. Она вдруг резко обернулась ко мне, точно будто не заметила, как я подошел к ней и сел, и молча, пристально уставилась на меня. Я тоже оглянулся на нее. Она была какая-то странная.
— Вы добрый мальчик, Serge, — наконец начала она, — и никогда не будьте злым, таким, как ваш дядя, m-r Pierre. Он очень, очень злой... Про вашего папа говорят, что он очень слаб и своих людей распустил, но это ничего, это лучше... зато они все его любят...
Она была страшно возбуждена и говорила задыхаясь, несколько раз повторяла те же слова. Я не знал, в чем дело.
— Вы видели, как плачет ваша бедная няня? Видели?.. Нет?.. Вы знаете, что ваш дядя сделал с ее братом? Ее брат ведь принадлежит вашему дяде. Вы знаете его? Он — повар. Ваш дядя вчера его так наказал, что его сегодня причащали. Он, может быть, теперь уж и умер... няня хочет идти к нему. И я с ней поеду. Хотите и вы? Мы ему, вашему дяде, m-r Pierre, скажем, что он злой человек, что он варвар, я ему плюну в лицо!.. Я ему дам пощечину!..
Она почти кричала, а не говорила. M-r Беке сидел в кресле молча, облокотившись на балконные перила. Развернутая книжка лежала у него на коленях, но он ее не читал.
Он смотрел на нас с m-lle Бибер.
— И это люди! Еще считают себя образованными людьми!.. Убить почти семидесятилетнего старика! Что он мог ему сделать? Пережарил ростбиф, недожарил котлетку!..
В это время в балконных дверях, которые выходили в гостиную, показалась в темном платочке на голове старуха-нянька. Глаза красные, заплаканные, на щеках мокрые полоски от слез.
— Я пойду, барышня, — сказала она.
— Я тоже готова. Я сейчас, — воскликнула m-lle Бибер. — И он с нами. Он тоже пойдет, — говорила она, указывая на меня.
— Нет... Нет. Им как можно!.. Им нельзя идти. Нет, уж вы, батюшка, оставайтесь. И вы, барышня... я одна пойду... Это ведь далеко — версты четыре до них будет. Барыня узнает, гневаться будут, — отговаривала нянька.
Но m-lle Бибер стояла на своем, сказала, что она пойдет отыщет матушку, попросит у нее, чтобы нам запрягли какой-нибудь экипаж, и мы поедем. «Пойдемте», — говорила она, и мы все, в том числе и m-г Беке, бывший в этот день дежурным, отправились отыскивать матушку.
M-lle Бибер шла впереди, то и дело путалась в платье, в траве, поднимала руки к небу, потрясала ими, потом безнадежно опускала их. Я поспешал за нею. M-r Беке тоже шел скорым шагом. Старуха-нянька, всхлипывая, трусила за нами и раз или два споткнулась и упала.
Наши хлопоты, однако, ни к чему не привели. Матушка на этот раз отказалась отпустить и меня и m-lle Бибер.
— Вы бог знает что выдумали, — говорила она ей. — Вы там можете на такую сцену налететь, что и... нет, нет, ни за что... Вы не знаете, что это за человек!
— Я не хочу его и знать. Что ж он со мною может сделать? Я не крепостная его...
— А я вам опять-таки говорю, что вы не знаете, что это за человек. Разве он посмотрит на что...
M-lle Бибер поволновалась еще сколько-то времени и затихла. Все ее уговаривали: и матушка, и Анна Карловна, и Богдан Карлович, особенно Богдан Карлович. Он, собственно, со стороны приличия.
— Вы девица, — говорил он, — и вдруг среди мужчин! На конюшне!
— Разве «он» на конюшне лежит? — удивился я.
— Нет, он, вероятно, теперь не на конюшне, — его, вероятно, теперь уж перенесли оттуда!.. Но, может быть, на конюшне теперь других наказывают...
Я услыхал тогда в первый раз, что людей секут на конюшне. Но я помню, что с тех пор долго, всякий раз, как мы проезжали, бывало, мимо чьей-нибудь усадьбы и я видел отворенную дверь конюшни, я все с замирающим сердцем заглядывал туда, в темноту, — не увижу ли там такую сцену... К счастью моему, я, однако, так и не видал ее никогда. Совсем не видал, как секут людей, — ни когда был мальчиком, ни потом — никогда...
Старухе-няньке матушка велела заложить дрожки, и, когда их подали, она поехала туда одна. Мы из сада смотрели и долго провожали ее глазами...
VII
Все новые пошли для меня впечатления... Началось, что ни день почти, то что-нибудь непременно новое, чего прежде не было или чего я не замечал прежде. И все это как-то в связи с французами. Точно они всё это возбуждали... Анна Карловна и Богдан Карлович такие покойные, ровные. Если бы у нас жили только они и французов не было бы — ничего бы, кажется, и не было.
Я стал ощущать какое-то странное чувство: или все вокруг меня поглупели, или уж я вдруг поумнел. А между тем ничего особенного не случилось, ничего такого не произошло, я просто столкнулся с новыми людьми, увидал новое отношение, не такое, какое до сих пор, к разным случаям, суждениям, поступкам... Стал сличать это новое со старым. Прежде это мне представлялось таким, а теперь оно выходит вот что... Открытия все... Целый ряд открытий и каждый день...
У нас был садовник, который заведовал цветником перед домом. Он каждый день приходил и что-то делал, поправлял, обрезал, привязывал цветы к палочкам. Ему было лет тридцать, у него была жена, которую мы иногда видели в саду, но его все звали Егоркой. Так звал и я его. Один раз m-r Беке мне сказал: «Зачем вы так называете его? Это нехорошо. Он старше вас. У него есть имя — его зовут Егор...»
«Егорка... Егор... он старше», — мысленно повторил я несколько раз и что-то соображал...
С этих пор, когда в цветнике или в саду я видел его, я всегда вспоминал: «Егор... он старше...»
Богдан Карлович вскоре после этого как-то увидал его при мне и зачем-то позвал: «Егорка!..» Мне это уж показалось неловким... Мне стало неловко даже и за себя самого, присутствовавшего здесь...
Мы с m-r Беке почти каждый день катались верхом. Когда мы проезжали по деревне, а также и в поле, встречавшиеся нам мужики снимали шапки и кланялись.
— Смотрите, вам кланяются, — замечал мне m-r Беке.
Я кланялся, но не понимал, почему он говорит, что это они мне кланяются? Один раз я его спросил об этом.
— Потому что вы будущий их барин... Они со временем будут вашими рабами, и вы будете делать с ними, что хотите. Они это знают. Поэтому они уж теперь вам кланяются...
И это как-то странным, непривычным показалось моему уху. Особенно слово: «рабы». Я до сих пор хотя и слыхал это слово, но оно как-то так пролетало мимо ушей. А теперь я остановился на нем. Проехав несколько шагов, я сказал:
— M-r Беке, что такое раб?
Вы разве не знаете? — Он даже как будто удивился. — Раб — это... да вот все они... все, кого можно сечь, бить, истязать... все, кого вы видите вокруг себя, — ваш кучер, ваш садовник, ваш повар, ваш лакей, ваша няня — все это ваши рабы. И вся эта деревня — это тоже всё рабы...
Не знаю уж, моя ли это индивидуальная особенность или это со всеми так, но когда я слыхал и даже и теперь слышу про кого-нибудь что-нибудь, я всегда стараюсь найти следы этого — какую-нибудь черту, выражение, особенность — у него на лице, в глазах. Мне что-то все кажется, что это содеянное им или присущее ему непременно должно иметь свое отпечатление у него в лице... Так вот было и тогда. Помню, когда мы вернулись домой, на балконе у нас накрывали стол для чая, и лакеи приносили чашки, стаканы, молочники, корзинки; я смотрел на них, на их лица, и искал эту неведомую мне, но, наверно, присущую им особенную черту, эту особенность, которая бы соответствовала тому, что мне про них, рабов, сейчас говорили...
И много тогда было такого. Каждый день что-нибудь. И на все это наводили или m-lle Бибер, или m-r Беке...
Должно быть, все это точно так же клало особенный отпечаток и на меня, отражалось и на мне самом... Отец, по крайней мере, однажды вечером, смотря на меня, сказал матушке довольно громко, так что и я это слышал:
— Ты не замечаешь, он стал какой-то странный, чудной...
— Он здоров. Он ничего, кажется... — ответила она, поглядывая на меня.
— О, ja. Ег ist ganz gesund...[30] — подтвердил и Богдан Карлович, бывший в этот день дежурным.
Но это все было еще начало. Впереди ожидали впечатления более сильные...
VIII
Ружья от лесничего привезли тогда же, и очень скоро. Самое меньшее и самое легкое дали мне, потом другое по легкости взяла себе m-lle Бибер, а третье, тяжелее всех, досталось m-r Беке. Привезли их вечером, так что сейчас же стрелять из них было уже поздно.
— Вы вставайте завтра раньше, как только встанет солнце, мы устроим тир за садом, на выгоне, а вы будете учиться, — говорила m-lle Бибер, очень смело и ловко, как совсем привычный человек, вскидывая ружьем.
Я смотрел на нее и завидовал.
Наутро наши упражнения начались. Я встал, кажется, еще до солнца, раньше всех, так что и m-г Беке и m-lle Бибер мне пришлось дожидаться. Там, на выгоне, за садом, они устроили тир, то есть к какой-то доске гвоздиками прибили лист белой сахарной бумаги с нарисованными на ней углем кругами, отмерили расстояние в пятьдесят шагов, так что каждые десять шагов были обозначены колышками, и, когда все было уж готово, стали показывать мне и объяснять, как следует заряжать ружье, как держать его во время стрельбы, как целиться и проч.
— Только не горячитесь, не спешите... Особенно на охоте. И плохо будете стрелять, и кого-нибудь еще подстрелите, — учил меня m-r Беке.
— Ах, ну что ж он, маленький, что ли? Он и сам понимает, что это не шутка, — говорила m-lle Бибер.
— Не маленький, а надо предупредить.
— Serge, ведь вы не маленький, — продолжала она. — Ведь вы знаете а, b, с, d...
И она тормошила меня, хохотала, серьги в ушах у нее так и болтались, блестели на солнце.
Наконец все приготовления были кончены, все наставления сделаны, ружья заряжены.
— Цельте в самую середину круга, вот в эту черную точку... Ну, стреляйте... смелей, — сказал m-r Беке, отходя от меня шага на два.
Я потянул за «собачку». Какая-то сила рванула у меня ружье из рук, в ушах раздался оглушительный гул... А в плечо что-то толкнуло слегка. Я сделал первый выстрел...
M-lle Бибер, m-r Беке и за ними я, сперва крупными шагами, а потом уж чуть не рысью побежали к тиру.
— Попал, отлично попал! — кричала m-lle Бибер.
Мы начали считать дробинки.
— Отлично... Вот, вот, вот... вот еще... вот, — говорила она, показывая пальцем на пробитые на бумаге дырочки. — О, он отлично будет стрелять.
— Только вы взяли немного выше, — говорил m-r Беке. — Ружье «отдает»... надо брать под цель... Надо класть заряд меньше...
Я стоял с замирающим от радостного волнения сердцем, улыбался и посматривал на блестевший у меня в руках ружейный ствол.
— Ну, еще раз. Надо несколько раз в день стрелять. Через неделю можно будет и в птиц начать учиться, — говорил Беке.
Мы простреляли чуть не целый час. Я один сделал выстрелов двадцать. Потом стреляли m-lle Бибер и m-r Беке. Критиковали ружья, рассказывали, какие где-то когда-то были у них, рассказывали разные случаи из «настоящей» охоты и проч.
Я жадно слушал все это и, разумеется, был весь одно внимание, одно возбуждение.
M-lle Бибер, оказалось, по словам m-r Беке, стреляет действительно «тоже очень недурно».
«Тоже...» — подумал я...
Мне это «тоже» очень пришлось по сердцу.
На возвратном пути m-r Беке «влет» застрелил ворону. Птица упала навзничь и как-то глухо ударилась о землю. Мы подошли — она была мертвая. Из широко раскрытого рта на серые перья текла алая кровь. Черные блестящие глаза наполовину были закрыты веками — серой тоненькой кожицей...
M-lle Бибер начала рассматривать, куда попала ей дробь, разбирала перья, дула на них, чтобы они поднимались... И в руках она держала ее навзничь, брюшком вверх. Голова безжизненно болталась.
Мне было жалко ее. Немножко неприятно и как-то даже жутко, но это чувство очень скоро прошло, и, во всяком случае, оно не было во мне настолько сильно, чтобы омрачить впечатление первых уроков стрельбы или хотя на мгновение вызвать раздумье — ходить на охоту или нет?..
В этот же день, когда мы пришли в дом, за чаем и m-r Беке и m-lle Бибер рассказывали, что они даже удивились, как это я так хорошо стреляю.
— Для первого раза — очень хорошо, очень, очень, — повторяла m-lle Бибер.
Ворону я принес с собою и внес было ее даже в столовую, но и матушка, и Анна Карловна, и даже Богдан Карлович чуть не хором испустили крики (очень, впрочем, слабые и сентиментальные) сожаления о постигшей ее участи.
— Бедная!.. Ах, зачем это?
— Унесите ее...
— Бедная птичка!.. Что она сделала?..
Ворону куда-то унес лакей, а мы продолжали разговор о том, как, когда и куда идти или ехать на охоту, когда я выучусь порядочно стрелять в цель.
— Самая лучшая охота у Петра Васильевича в Прудках. Я не знаю, это не по моей части, но все хвалят, — заметил отец. — И потом ведь это и близко — верст шесть-семь...
— Прудки?.. Это m-r Пьер?.. Это имение m-r Пьера? Это вот что тут недалеко?.. Мы хотели тогда, помните, туда ехать, проведать этого бедного брата вашей няни, которого m-r Пьер так жестоко наказал! — воскликнула m-lle Бибер.
Матушка взглянула на нее с упреком: к чему, дескать, вы говорите это?.. Отец сказал:
— Да... Он шутить не любит... Это действительно тиран... В полном смысле слова — тиран...
IX
M-r Пьер, то есть дядя Петр Васильевич, был человек очень богатый. У него и кроме Прудков было много имений, и даже гораздо больших, но он постоянно жил в Прудках. В молодости он служил в гвардии, жил в Петербурге, там и женился, но у него вышла какая-то «история» с женой, за нее заступились ее влиятельные родственники, вышла «история» еще более скандальная, по которой он должен был выйти в отставку; он вышел и поселился в Прудках. «Ее» мы никогда не видали. Знали, что зовут ее Агния и что хотя она была, и чисто русская, но по-русски едва говорила. Детей у них было всего только одна дочь, которая и осталась при матери. Все это мы, то есть я и сестра, знали по кой-каким обрывкам разговоров, которые мы слышали между отцом и матушкой. У нас последнее время Петр Васильевич не бывал — у него вышла какая-то ссора с отцом. Прежде он бывал, и очень даже часто, но после этой ссоры перестал ездить и только один раз в год присылал поздравить Соню (сестру, его крестницу) со днем ее рождения и ангела 17 сентября. Посланный обыкновенно устно передавал сестре его поздравление, целовал у нее ручку, отдавал коробку конфект, фрукты, какой-нибудь подарок-игрушку и, запинаясь, с осторожностью отвечал на расспросы отца или матушки, как поживает Петр Васильевич, и уезжал обратно. Это повторялось каждый год. Других сношений и отношений не было. У нас он не бывал, и мы не видали его года два или три перед этим.
Прудки было очень большое село. Там было две церкви, огромный барский дом, сад, оранжереи, конюшни — усадьба была громадная. За садом начинался парк, потом шел выгон, за выгоном деревня — несколько длинных кривых рядов деревянных изб, бедных и жалких до последней степени.
Я помню — часто приходилось слышать, как говорили: «Это самые разоренные мужики во всей губернии...» Они и в самом деле, должно быть, жили ужасно бедно: очень уж были жалкого вида их избы, дворы, клети и проч. На них всё отчего-то не было крыш, то есть не было соломы — одни стропила и решетник...
Ближе к усадьбе, с другой стороны сада, был поселок, почти такой же бедный с виду, но все-таки как будто более веселый и притом гораздо меньший сравнительно с деревней, — тут жили дворовые.
Когда, бывало, прежде мы приезжали в Прудки, то проезжали всегда мимо этого поселка, и я помню, наша нянька, указывая на людей, которые выходили из изб, говорила: «Это охотники...» Они были все в розовых и красных ситцевых рубашках, в каких-то особенных шапках, и тут же вокруг них всегда вертелось множество борзых и всяких других пород собак. От няньки же мы слыхали, что для этих собак режут лошадей и их мясо дают им, — что ужасно жалко смотреть, как это режут лошадей, и проч., и проч. На детские нервы эти рассказы действовали противно, и с этим противным чувством смотрели мы и на этот поселок, где жили охотники, режущие лошадей, и проч.
Но охота так красива... Я помнил также, как однажды я видел в поле дядю со всей его охотой. Мы куда-то ехали осенью и встретили его. Он подъехал к карете, говорил с матушкой, с нами, и кучеру на козлы отдал (доезжачий положил) двух затравленных сейчас зайцев...
Он приезжал как-то однажды и к нам в дом прямо с охоты. Сошел с лошади и так, как был, в охотничьем костюме, вошел в зал, когда мы только что садились обедать. Он сел за стол возле меня, смеялся, рассказывал, что затравил чуть не сотню зайцев, и проч. Я смотрел на его серебряный пояс, на широкий кинжал в серебряной оправе, и все это меня занимало, интересовало, казалось ужасно любопытным и завидным.
Но все это было «уж давно», года два-три назад. За это время дядю я не видал ни разу... Разговор о нем заходил очень редко, или, может быть, редко слышали мы его, и вообще он от нас ушел куда-то вдаль — мы почти не вспоминали его. В последнее время вот только этот эпизод с нянькиным братом, сцена экзальтации m-lle Бибер, ее сборы ехать туда вместе с нянькой и проч., о чем я рассказал выше, заставили меня вспомнить о нем и пробудили во мне представления о нем...
Когда мы вышли из-за чайного стола, и m-r Беке, и m-lle Бибер, и я — все пошли в сад. Там разговор об охоте, разумеется, продолжался. Говорили они и о дяде.
— Мне ужасно хочется его видеть, — сказала m-lle Бибер. — Я его ни разу не видала. Он уж старик? — спросила она.
— Он высокий, немного седой, усы у него длинные и висят вот так, книзу, — отвечал я. — Он ужасно сильный...
— По-французски он хорошо говорит? — опять спросила она немного погодя.
— О да, — сказал я.
— Ужасно хочется его видеть... Бели бы мы встретили его, когда поедем на охоту!..
— А может, и встретим, — почему-то так, спроста, ответил я.
Мы стреляли в цель каждый день. Иногда даже дважды в день.
— Он, вы посмотрите, отлично будет стрелять, — уверяла m-lle Бибер, которая ходила стрелять с нами тоже всякий почти раз. — У него замечательно верный глаз.
Меня это радовало. Отец улыбался. Матушка покачивала сомнительно головой и только повторяла m-r Беке, чтобы он смотрел за мною.
— Боюсь я этой потехи, — говорила она.
M-lle Бибер сшила себе охотничий костюм — какую-то коротенькую юбочку, потом куртку и еще что-то. Наш сапожник «Петруша», очень почтенная особа лет пятидесяти, отличный пчелинец и потому любимец матушки, шил нам всем троим охотничьи сапоги.
Над m-lle Бибер слегка трунили, но она на это не обращала внимания, смеялась и сама. Все шло очень хорошо, все были веселы и ждали теперь вот только этих сапогов, чтобы ехать в Прудки за дупелями, которых там много, которых легче всего стрелять и которые там водятся по таким удобным местам, что ходить по ним — как по ковру...
Наконец были готовы и сапоги. «Петруша» принес их вечером. Мы их примеривали «на суконные чулки», и они все-таки были очень просторны.
— В воде сядут... это так и следует, — говорил мне «Петруша». — Вы их, сударь, потом, как с охоты приедете, всякий раз приказывайте салом свиным смазывать, а то ссыхаться будут...
M-lle Бибер сапоги примеривала в другой комнате, куда ходили смотреть эту примерку матушка с Анной Карловной, и там у них долго шел смех. Сапоги удались. «Петруше» дали водки, велели напоить его чаем. Завтра мы встанем чуть свет, нам запрягут линейку, и мы поедем в Прудки, то есть туда, за Прудки, где эти удивительные места для охоты...
Это «завтра» я никогда не забуду.
X
Утро было свежо, и со сна совсем даже и холодно было. Были, кажется, утренники — тот легкий морозец, который бьет гречиху и который у нас уж не редкость в августе. У крыльца стояла линейка[31], запряженная тройкой наших бурых лошадей, и на козлах сидел кучер Евтроп — здоровенный мужчина с огромной светло-русой бородой. Совсем уж одетые, мы вышли на крыльцо. M-lle Бибер сверх своего «костюма» — курточка и коротенькая юбочка с множеством складок, как у греков, албанцев, — накинула еще свою женскую тальму и, держа ружье в руках, села по одну, сторону линейки, а мы с m-r Беке по другую сторону. На козлы с нами сел лакей Никифор, тоже для чего-то надевший высокие сапоги. В руках у него было что-то завернуто в салфетку — провизия, как оказалось потом...
— Ну, трогай, — сказал Никифор.
Евтроп «тронул», и лошади побежали крупной, «машистой» рысью.
Мы скоро доехали до Прудков. Вот эта жалкая деревня. Вот сейчас за парком будет сад, за садом — усадьба, дом.
— «Места» (то есть места для охоты) по ту сторону, за рекой будут, — сказала Никифор, когда его кто-то спросил: «Где они?» — Это — уж проезжая дворовый поселок — версты полторы от усадьбы.
Проехали мы и усадьбу, то есть все эти амбары, конюшни, овчарни, и только завернули за угол, к саду, где нам должен был показаться барский дом, — навстречу нам вдруг, словно из земли, выросла целая кавалькада — всадников двадцать.
— Дяденька-с, — вдруг тихо, внятно, но испуганным голосом сказал Никифор.
Дядя, в охотничьем костюме, ехал впереди всех. В нескольких шагах позади — его охотники. Собак — видимо-невидимо, и на сворах и так просто бегут у их лошадей, целым стадом. Картина была очень красивая, но мы все почему-то невольно и смущенно переглянулись.
Поравнявшись с нами (проезд в этом месте был довольно узкий, и, чтобы дать им проехать, кучер остановил лошадей — мы стояли), дядя, в свою очередь, с изумлением смотрел на нас и тоже остановился.
— Сережа, это ты? — узнал он меня и спросил: — Куда это?
Никифор и Евтроп сидели на козлах без шапок, и кто-то из них отвечал ему, что мы едем на охоту, стрелять.
Я подтвердил их показания.
— А это кто ж с тобой? — продолжал он, указывая глазами на m-lle Бибер и m-r Беке.
Я сказал.
— Как, на охоту с гувернанткой? Боже мой, что же это такое! — рассмеялся он. — Я тоже еду на охоту — поедем со мной, моя будет позанятней. Другой раз такой, может быть, и в жизни не увидишь... Поворачивай за нами, — приказал он кучеру. Потом обернулся, сказал какому-то охотнику, чтоб он слезал с лошади и уступил ее мне.
— Брось ружье, садись, — это смирная лошадь...
Я нерешительно оглянулся на m-r Беке. Он молчал, m-lle Бибер тоже сидела и ничего не говорила. Я сбросил бывший на мне плащ, отдал Никифору ружье и сошел с линейки, чтоб уж садиться на лошадь, которую подвел мне охотник и держал под уздцы.
— Садись, садись... что ж ты? Я знаю, ведь ты ездишь, — говорил мне дядя.
Я начал садиться и услыхал, как он уж заговорил о чем-то по-французски с m-r Беке. Потом послышался голос и m-lle Бибер.
— Ну, трогай... А куда и зачем мы едем — не говорить! — крикнул он, поворачиваясь к охотникам и поправляясь в седле.
В толкотне и суматохе кучер начал поворачивать тройку, собаки путались, лошади жались одна к другой, прыгали. Наконец все пришло в порядок, и мы поехали рысью. Наша линейка ехала окруженная со всех сторон всадниками, среди стада собак. Мы с дядей — впереди.
— Ну, уж какую штуку ты сейчас увидишь, — заговорил он. — А что отец, здоров?
— Здоров, — отвечал я.
— И мать здорова?
— Здорова.
— И Соня?
— И Соня здорова.
С минуту мы ехали молча.
— Это откуда же тебе гувернера с гувернанткой привезли?
Я сказал.
— Оба француза?
— У нас есть и немец с немкой, — отвечал я.
— Пары? Черт знает что, — рассмеялся он.
— Это мы далеко поедем? — спросил я.
— А что?.. Нет, недалеко. Вот сейчас за выгоном, в коноплянике.
Я взглянул на него.
— Там такой зверь сидит у меня — ты ахнешь, чудо! — сказал он.
— Волк?
— Нет, не волк.
— Лисица? — опять спросил я.
— И не лисица и не заяц — дьякон!..
Я так и уставился на него:
— Дьякон? Какой дья...
— Мой, здешний... из деревенской церкви — Иван... Третьего дня он глупости говорил, я велел его наказать, а эти дураки его упустили, он убежал в конопляник и до сих пор не выходит оттуда... скрывается там. А мы его вот сейчас возьмем оттуда... Запустим туда гончих, они его живо нам представят, — говорил он совершенно так же покойно, как если бы шла речь действительно о зайце каком...
Я оглянулся назад. M-r Беке и m-lle Бибер сидели на линейке рядом и о чем-то горячо говорили. Увидав, что я смотрю на них, они делали мне какие-то знаки рукой, звали к себе, но как я мог остановиться? Я было и хотел поотстать от дяди, спросить их, что им нужно, сказать им, куда мы едем, но он тоже посдержал лошадь и тоже оглянулся.
— Ну, не отставай — теперь сейчас уж. — заметил он мне.
Мы ехали по обширному выгону. Солнце уж встало и ярко блестело. На траве была обильная роса. Впереди бежало несколько собак, и след их на мокрой траве ложился ясно, отчетливо. Впереди перед нами, шагах в двухстах, был огромный конопляник. Тут прежде был какой-то поселок, его сняли и это место засеяли коноплей. Помнится, тут было примерно десятин пятнадцать посеяно конопли. Она была уж высокая и стояла зеленая-зеленая, густая, как лес. Вдоль всей стороны конопляника, которую мы могли видеть, то есть которая была к выгону, стояли шагах в тридцати друг от друга мужики с дубинками...
Не доезжая до конопляника шагов пятьдесят, мы остановились. Линейка также остановилась, окруженная охотниками и собаками, еще дальше, позади нас. Двое охотников отделились и, подъехав к дяде, почтительно приготовились слушать, что он будет приказывать им. В это же время подошел к нему от конопляника и один из мужиков, держа в одной руке шапку, а в другой дубинку.
— Ну что, цел? Не упустили? — спросил его дядя.
— Никак нет-с. Здесь, батюшка Петр Васильевич, — отвечал мужик. — Перед рассветом в том вон углу голос подавал... — продолжал мужик, указывая рукой направо.
— Просился, чтоб пустили?
— А уж этого не могли разобрать. Слышно, что голос подает, а слов не разобрали. Микитка сказывает, что это он и с вечера слышал вот — на этом месте, вот тут, вот поправей бугорочка-то, за низочком-то. Подошел, говорят, близко и голос подал таково жалобно, таково жалобно...
— Наверно, уж упустили его!.. — раздражительно сказал дядя. — Ну, тогда смотрите вы у меня!..
— Никак нет-с... Воля ваша-с... — весь как-то судорожно подергиваясь, отвечал мужик.
Дядя обернулся к охотникам.
— Гончих, я думаю, надо пустить... пар десять...
— Место большое-с... притом чаща... десять пар, пожалуй, мало-с... — окидывая взглядом конопляник, отвечал ему доезжачий[32].
— Отсюда десять, да вон оттуда, — соображал дядя.
— А если бы со всех сторон-с? Они бы его прямо на выгон сюда и предоставили, — посоветовал доезжачий, — тогда ему деваться-то некуда будет — прямо сюда и выскочит... борзыми травить не изволите приказать?..
— Об этом после... Пожалуй, оно, действительно, с трех-то сторон лучше будет, — согласился дядя. — Ведь черт его знает, в каком он углу. Надо только, чтобы он сюда на выгон выскочил.
— Тогда беспременно надо с трех концов их запустить: тогда, где бы он ни был, а уж этого места ему не миновать — беспременно сюда-с выскочит.
— Ну, ладно, с трех, так с трех... только живей!..
Доезжачий рысью повернул назад к прочим охотникам, стоявшим в ожидании у линейки, а мы с дядей поехали вдоль конопляника и стали на выгоне, как раз против его середины. Я все посматривал на линейку и на сидевших на ней m-r Беке и m-lle Бибер. Но они были и далеко от меня и сидели, по-видимому, молча. Сам я был в каком-то странном нравственном состоянии. Тут были и испуг, и какое-то замирание сердца, и непонимание того, что происходит у меня перед глазами и вокруг меня... Я все только повертывался во все стороны и смотрел. Мне кажется, я искал, кто бы спас меня, увел отсюда. Но помощь ниоткуда не приходила.
Вон охотники повели пол сотни гончих на сворах. Одна группа поехала направо, две других повернули налево. И слежу за ними глазами, а они удаляются, поворачивают за конопляник, едут вдоль его окраин, так что видны нам только головы охотников... Цепь часовых-мужиков стоит по-прежнему, без шапок, с дубинками... Все тихо... От нечего делать дядя вынул кисет, набил свою коротенькую трубку, закурил ее и стал пускать кольцами дым изо рта. Две его любимые собаки — Катай и Зорька — ходят тут же, ложатся... Прошло томительных четверть часа, а может, и больше. Все по-прежнему тихо. Вдруг с той стороны, с того конца конопляника, послышался как будто лай — лает одна собака. Потом опять все смолкло, и вдруг залаяло там много собак...
— Ага, запели! Нет, не ушел, тут, значит! — про себя, улыбаясь, заговорил дядя.
И он оживился, начал поправляться в седле, точно в ожидании, что вот-вот сейчас придется травить. Бросил курить и жадно поглядывал вдоль всей линии конопляника, поворачивая голову направо, налево. Позади нас в нескольких шагах стоял охотник и держал две своры борзых. Дядя обернулся и махнул ему. Он подъехал.
— Что это они, никак по ежу поют? А?
— Никак нет-с. Это они по ём. По ежу так не станут петь, — отвечал охотник, осадил лошадь, попятился и надел шапку.
Лай слышался все ближе, громче, явственнее. Но он что-то по временам вдруг затихал на мгновение и опять слышался с удвоенной силой... Прошло так еще сколько-то времени. Лают и целым стадом, но не подаются ни взад, ни вперед — все на том же месте.
— Черт его побери совсем — они его еще, пожалуй, изорвут там совсем, — нетерпеливо сказал дяди и опять подозвал к себе охотника.
— Они его рвут, кажется?
— Окружили, должно... рвут-с...
— Ну-ка, ступай на голоса... прямо... в конопляник.
Охотник хотел было соскочить с лошади, но дядя его остановил и велел ехать туда верхом. Он ударил лошадь, и она с ним, прыгая и становясь на дыбы, кинулась в густую зеленую чащу. Мы смотрели, как прыгала его голова поверх конопляника.
Еще прошло несколько страшно-томительных минут, и лай опять начал подвигаться к нам, но теперь уж безостановочно и слышался каждый момент все явственней и ближе. Над конопляником замелькала и голова возвращающегося к нам охотника. Несколько собак выскочили уже на опушку, но сейчас же опять вернулись назад и исчезли в коноплянике... Дядя тронул лошадь и поехал туда, ближе.
— А ты что ж? — обратился он ко мне.
Я чувствовал, что у меня горло пересохло, руки дрожат и я не могу справиться с лошадью. Она пошла сама собой за дядей.
В это время из конопляника вывалила сразу целая стая гончих и с страшным лаем и завыванием остановилась на опушке. Показался, выезжая из конопляника, и охотник. Впереди его, перед самой головой его лошади, шел высокий, худой человек, с длинными, спутанными волосами, в длинном, совершенно изорванном платье, которое лохмотьями висело и тащилось за ним. Он был мертвенно бледен, глаза широко раскрыты и обезумели от ужаса. Мы стояли от него шагах в пяти-шести. Он смотрел на нас своими страшными глазами, губы что-то шевелились...
— Струнь! — крикнул дядя. — Ну!..
Я видел только, как соскочивший с лошади охотник начал совать этому человеку в рот ручку нагайки и как на губах у него в это время показалась кровь... Я помню также, и то очень смутно, что я видел, как этого человека куда-то ведут, он спотыкается, падает... Видел, — помню и это, — что и Евтроп наш и Никифор стоят у линейки без шапок и крестятся...
Что было дальше со мной, как я очутился опять на линейке — этого я ничего не помню. Уж там, дома, куда меня привезли в состоянии каком-то полупомешанном, и то на другой день только, я узнал, что со мной сделалось дурно, я упал с лошади, «слава богу», не ушибся, Евтроп и Никифор меня подняли, положили на линейку, на которой уже лежала m-lle Бибер (с ней сделалась истерика), воспользовались поднявшейся возней вокруг дьякона и ускакали как от волков, во всю прыть. За нами, однако, была погоня, но m-r Беке, ошалевший также почти до безумия, начал стрелять в эту погоню, и они нас оставили...
Вскоре после этого в доме у нас произошла совершенно неожиданная перемена, и я очутился в «благородном пансионе»...
ДЯДИНА ЛЮБОВЬ
I
Начиная с февраля, когда бывают уж пригревы, нас обыкновенно каждый день отпускали кататься. Запрягались для этого большие троечные сани с ковром, на козлы садился седой, бородатый, кучер Ермил, с большим животом и страшно широкими и толстыми плечами, в руках у которого вожжи казались какими-то шнурочками, а самые лошади — большие, вороные — смирными и послушными телятами.
Эти выезды наши были степенны, важны, обставлялись господским достоинством, торжественностью. Ермил одевался в парадную кучерскую форму; ливрейный лакей Никифор не садился, как обыкновенно, на козлы, а становился на запятки, позади саней, и ехал так все время стоя, держась за басонные поручни. Нас, то есть меня и сестру Соню, сажали в середину саней, а по бокам садились с одной стороны нянька, с другой гувернантка. Укутаны мы были так, что даже жарко нам было. Говорить дорогой, чтобы не простудили горло, запрещалось: можно было только отдельные замечания делать.
Так доезжали мы обыкновенно до Прудков, имения дяди Петра Васильевича Скурлятова, огибали усадьбу, проезжая мимо самого его дома, что называется под самыми окнами, и тем же порядком возвращались домой, где нас уже дожидались, но вдруг снимали для чего-то с нас теплое платье, расспрашивали о том, что мы видели, кого встретили, и спрашивали также няньку и гувернантку, не говорили ли мы много дорогой и вообще не шалили ли, как следует ли вели себя.
Прудки эти, до которых мы доезжали, катаясь, было одно из имений дяди Петра Васильевича, человека очень богатого, жившего постоянно в Петербурге, где он служил в самом блестящем гвардейском кавалерийском полку. У нас в доме был подаренный им портрет его масляными красками, в мундире, каске и верхом. Он был очень красив на лошади, и я всегда с завистью в душе посматривал на него — когда же и я буду такой, в такой же форме и верхом?.. Об этом, кажется, мечтала и матушка в конце концов, скрепя сердце и мирясь с опасностями вообще военной службы и верховой для меня езды: я почему-то считался «слабым мальчиком»... Дядя в Прудках никогда не жил, даже и не заезжал туда, когда брал отпуск и являлся на месяц или на два из Петербурга. Дом в Прудках стоял поэтому всегда, и зиму и лето, с заколоченными окнами, и что это был за дом внутри, никто из нас — ни я, ни сестра — и понятия об этом не имели. Мы знали только из рассказов матушки и отца, а также и няньки, что и это очень хороший дом, и мебель и все убранство там тоже очень хороши, хотя, конечно, не то, что в Покровском, главном его имении, где он всегда жил, когда приезжал из Петербурга, и которое от нас отстояло на семьдесят, если не больше, верст, хотя и было в том же самом уезде, только на другом его конце. Но тем не менее, и дом и вся усадьба в Прудках вовсе не представляли ничего унылого и выморочного на вид, как это бывает с усадьбами, в которых никогда, ни зимой, ни летом, господа не живут. Напротив, в Прудках все поражало строгим порядком и благообразием. Двор весь прибран и подметен; зимою снег сгребали в кучи и куда-то увозили; все флигеля, конюшни, сараи, амбары — все в самом изысканном порядке. И если что поражало — так это безмолвие и мертвая тишина на дворе: точно во всех этих флигелях, людских, конюшнях никто не жил и не было во всей усадьбе ни одной живой души. Когда мы проезжали, катаясь, через двор, редко-редко когда мы видели в окне чье-нибудь лицо; единственный признак, что тут живут люди, — это был дымок, который иногда струился где-нибудь из трубы.
А между тем там жили, мы это знали наверно и доподлинно. Там, например, жил управляющий Прудков, Максим Ефимов, необыкновенно серьезный и вежливый человек, который иногда зачем-то приезжал к отцу и разговаривал с ним, все время стоя у притолки в кабинете. Он привозил матушке какие-то деньги, которые пересчитывали, и матушка потом садилась к письменному столу и что-то писала. Он даже и чай пил стоя: нальют ему в передней, человек принесет на подносе стакан, он возьмет его и пьет стоя, на том же месте, у притолки.
— Ну так-то, Максим Ефимов, — скажет отец, — хорошо, значит, все в порядке? Я так и напишу Петру Васильевичу.
— Точно так-с, — отвечает он и, откланявшись отцу, матушке, нам, если мы были здесь, уходил, осторожно ступая по полу, в переднюю. Там он пробывал еще некоторое время и уезжал.
— Отличный человек, золотой человек. Счастье брату Петру Васильевичу, — говорила про него матушка, оставшись вдвоем с отцом.
— Да, но только уж очень... он зверски с людьми обращается.
Матушка при этом вздыхала и ничего не говорила.
— Он когда-нибудь плохо кончит, — продолжал отец, — хоть и крепостные, а ведь и их терпению бывает конец...
— Он чем же виноват — Петр Васильевич требует, — возражала матушка.
— Да, но того, что он делает, этого позволять нельзя, и никто не позволит. Это только при Александре Павловиче (предводителе) можно делать; другой предводитель давно бы потребовал, чтобы помещик его сменил. Он может волнение вызвать: это еще народ тихий, слава богу, попался на его счастье... А будь это осиновские или сосновские...
Мы с сестрой слушали все это, соображали, замечали, что-то такое понимали, но смутно, неопределенно. Да, впрочем, тогда про многих так говорили...
Но и его, этого дядина управляющего, когда мы проезжали, катаясь, через усадьбу, никогда не видали. Никогда никого, ни души...
И вдруг однажды, — это было ранней весной, по «последнему пути», значит, в конце марта, — помнится, на последней неделе великого поста, когда матушка всегда говела, нас отпустили на тех же лошадях, на которых она ездила в церковь к обедне, прокатиться до Прудков. Это было не в обычное для катанья время, но уж заодно, не запрягать же второй раз лошадей. Мы проехали деревню свою, повернули направо, по берегу реки, по дороге к Прудкам, и только что выбрались в чистое, ровное поле, как оттуда, от Прудков, навстречу нам, мы увидали, скачет какой-то человек верхом. Поравнявшись с нами, он своротил с дороги, отчего лошадь его увязла задними ногами в талом, непрочном весеннем снегу и все карабкалась опять на дорогу, «танцевала» под ним, а он сидел на ней без шайки и что-то спрашивал кучера. Мы приостановились.
— Дома, у себя, — услыхали мы голос нашего выездного человека Никифора, стоявшего на запятках, и вслед за тем, уже обращаясь, очевидно, к нам, Никифор сказал: — Дяденька Петр Васильевич приехали.
Затем посланный поехал дальше, а мы своей дорогой тоже дальше, к Прудкам. Я помню, с каким волнением мы с сестрой продолжали эту дорогу...
— Мы заедем к дяде? — спрашивали мы гувернантку нашу Анну Карловну.
Но она сама была поставлена этим не только неожиданным, но необыкновенным событием в крайне неизвестное и затруднительное положение и отвечала нам только, чтобы мы не говорили на воздухе...
— А если дядя нас позовет к себе?
— Сидите и не говорите, а то я маменьке скажу, и вас больше пускать не будут кататься.
Когда же мы доехали почти уж до самой дядиной усадьбы и до нее уж было, что называется, рукой подать, Анна Карловна вдруг неожиданно сказала своим ровным, бесстрастным голосом:
— Ермил, поверни назад.
Мы с сестрой так и уставились на нее.
— Зачем же? Отчего же мы не поедем в Прудки?
Но она ничего не отвечала; Ермил повернул лошадей, мы проехали некоторое время шагом, а когда тронулись рысью и стали уж подъезжать к нашей деревне, нам попался навстречу опять тот же дядин посланный, уж скакавший назад.
Дома мы узнали, что сейчас, к обеду, к нам будет дядя, что он присылал узнать о здоровье и дома ли мы все. В доме у нас было заметно то движение и то настроение, которое всегда бывает, когда ждут важного и редкого гостя, заставшего нас врасплох известием о своем прибытии, не приготовленными и никак не ожидавшими его приезда.
Скоро мы увидали в окно дядю, в санях, на тройке, в черной медвежьей шубе и белой военной фуражке с красным околышем, и через несколько минут он вместе с отцом вошел в гостиную, где сидела матушка и с нею мы все, — высокий, красивый, в несколько длинном, форменном военном сюртуке, какие тогда носили, ловко сидевшем на нем; ступая, он мягким, серебряным звоном звенел шпорами. Он подошел к матушке — она встала ему навстречу. — поцеловал ее: они обнялись для этого; потом приподнял и поцеловал сестру Соню, свою крестницу, а потом меня, влюбленного в него, смотревшего на него с восторгом, с замиранием сердца...
— Неожиданный совсем гость, — сказал отец.
— Да-а, — покачивая головой, отвечала матушка. — Петр Васильевич, а ты надолго сюда-то, в Прудки?
— А не знаю еще, сестра, ничего, — ответил ей дядя. — Во всяком случае, некоторое время проживу здесь.
За обедом мне пришлось сидеть как раз против дяди, и я все смотрел на него с тем же чувством радостной к нему зависти и в то же время беззаветной ему преданности. Он, должно быть, понимал это и несколько раз, посмотрев на меня, переводил глаза потом на отца или матушку и улыбался; они тоже улыбались, а мне почему-то становилось от этого совестно, и я краснел.
Матушка все извинялась за обедом, что у нас стол постный, а она знает, что он привык есть и постом скоромное, но дядя несколько раз принимался уверять ее, что он, напротив, очень рад этому, так как давно уж не ел постного, и притом так вкусно приготовленного.
— А кстати, — сказал он вдруг, — нет ли у вас лишнего повара, я бы с удовольствием купил...
Матушка с грустной улыбкой посмотрела на него, покачала головой и вздохнула, а отец коротко и как-то резко ответил:
— Нет.
— Мой Василий умер, — продолжал дядя. — А в Прудках, я и забыл, у меня никакого повара нет.
— Так, на время, пожалуй, пока ты здесь, возьми нашего Степана. Он тоже очень хорошо готовит, — сказал отец.
Степан был второй повар, но уж старик, он часто хворал и призывался на кухню только в экстренных случаях, когда наезжало много гостей и Андрею с поваренком было трудно управиться. Обыкновенно же он жил на покое, и мы видали его только летом, когда он в белом парусинном широком пальто с большими костяными пуговицами, с Трезоркой, с ружьем через плечо и с огромным ягдташем, ходил на охоту или возвращался с нее, неся какую-нибудь одну Утку, двух бекасов, трех дупелей.
— Если он здоров только, с удовольствием, — повторил отец. — Да что тебе за фантазия была приехать в Прудки и жить там? — продолжал он. — Переезжай к нам и живи у нас; а если дело какое у тебя, всегда можешь съездить туда и велеть Максиму сюда приехать.
— Нет, у меня там... после об этом поговорим, — скороговоркой ответил дядя.
Они говорили все время по-французски, так что при слуга все равно их не могла бы понять, но тут сидели мы, дети, и потом гувернантка, и он, очевидно, не хотел сказать чего-то и при нас...
Матушка с отцом многозначительно переглянулись.
Затем заговорили о чем-то совсем другом — о Петербурге, о смотрах, о парадах, о войне, которую все ожидали тогда[33] и которой все волновались и у нас.
Когда обед кончился и все встали, отец с дядей ушли в кабинет; вскоре за ними пошла туда и матушка, а нас гувернантка увела играть в нашу детскую.
II
К чаю, то есть к восьми часам, мы уж «отучились», за нами, звать нас, пришел посланный от матушки казачок Гришка, и мы отправились в «угольную», где обыкновенно подавался вечером самовар.
— А дядя не уехал? — спросил я Гришку. — Где он, в «угольной»?
— Точно так-с.
Анна Карловна только посмотрела на меня и повела плечами: она терпеть не могла никаких наших обращений с расспросами к прислуге. Но раз мы уж «отучились» вечером и нас позвали пить чай, Анна Карловна с своим авторитетом обыкновенно отходила у нас в соображениях на задний план: мы вступали в непосредственное, так сказать, общение с матушкой и отцом — положение, несравненно более приятное и удобное для нас. А тут еще дядя приехал, стало быть еще вольготней будет... Я поэтому, как только вышел из детской, побежал, бросив и сестру и Анну Карловну. Но только я показался в столовой, как сейчас же заметил по лицам отца и матери и по странной улыбке дяди что-то неладное. Матушка, когда говела, обыкновенно ходила всегда с постной физиономией, делалась не то чтобы не в духе, а как бы переносящей какую-то несправедливость, сделанную кем-то в отношении ее или ниспосланную ей свыше, и вот она теперь «этот крест» с терпением несет; часто удалялась к себе в спальню, кажется молилась там перед огромным киотом с образами в золотых и серебряных ризах; часто и с грустным оттенком вздыхала, говорила, ни к кому не обращаясь, как бы сама к себе: «да», «да»... и проч.; но теперь к этому состоянию ее, очевидно, было примешано еще какое-то живое, житейское, очень близкое для нее, тревожное и неприятное чувство. Отец сидел на турецком диване, рядом с дядей, и посматривал как-то неопределенно по стенам, на потолок. Один только дядя сидел, казалось, молодцом, красиво, ловко опершись одной рукой о колено, и с несколько иронической улыбкой помешивал ложечкой чай в стакане. Они, очевидно, уж давно здесь сидели. Перед отцом стояла пустая его огромная чашка — он пил чай всегда из чашки; перед матушкой тоже ее пустая чашка. Я вошел и почувствовал тягость напряженных отношений сидевших за чайным столом. Матушка сейчас же стала наливать мне в чашку и сказала: «Садись, какие у тебя манеры...» Но я никаких «манер» не проявлял, только вбежал в комнату, что я делал почти всегда и что не вызывало никогда никаких с ее стороны замечаний. Очевидно, это она сказала потому, что была не в духе и ей сразу же захотелось осадить меня. Я взял стул и смирно присел к столу. Позвякивая шпорой, дядя с улыбкой посматривал на меня. Потом взял с дивана лежавшую с ним рядом свою белую с красным околышем фуражку, мотнул мне пальцем и, когда я подошел к нему, надел мне ее на голову, повернул меня лицом к матушке и спросил: «Идет?..» Матушка кисло улыбнулась. Отец рассмеялся веселей, но как-то деланно, точно обрадовавшись случаю рассмеяться, который наконец-то представился... В комнату вошла сестра Соня и с ней Анна Карловна. Матушка и их встретила с такой же миной человека удрученного, но терпеливо несущего свой крест. Дядя о чем-то спросил по-немецки Анну Карловну, рассмеялся и сказал, что по-немецки он уж теперь, кажется, лет десять не говорил. Потом пошутил с Соней, еще раз подмигнул мне; потом вынул вдруг часы, взглянул, встал и начал прощаться с матушкой. Когда он прощался с отцом, мы услыхали, он спросил его: «Если можно, пришли, пожалуйста, не забудь, этого второго вашего повара. Мне на недельку, на две, я к этой поре где-нибудь куплю себе...» Простился с нами и, стройный, высокий, позвякивая шпорами, пошел в зал. Отец и матушка пошли за ним. Я тоже было хотел пойти провожать его, но матушка движением руки меня остановила и, обращаясь к гувернантке, проговорила: «Анна Карловна...» Та поняла, что ей надо и сказала: «Сидите, пожалуйста, это вовсе не ваше дело...»
Проводив дядю, матушка одна вернулась в столовую; отец остался в передней толковать о завтрашних работах с «начальниками», то есть с конюшим, бурмистром, старостой и проч., которые около этого времени обыкновенно приходили «к докладу». Матушка вернулась к нам такая же расстроенная и унылая. Она как-то умела говорить с Анной Карловной одними вздохами, взглядами, повторением «да», «да», и та ее понимала... то есть она не понимала, может быть, подробностей дела, но самую суть и, главное, отношение к этой сути матушки она понимала отлично...
— Да ведь мы и не доезжали до Прудков сегодня, — сказала Анна Карловна, — я велела Ермилу повернуть.
— И хорошо сделали, — ответила ей матушка.
Они многозначительно при этом переглянулись, и матушка, кивая ей утвердительно головой, проговорила:
— Да... это сюрприз, которого я от Петра Васильевича уж ни в каком случае не ожидала...
Мы с сестрой смотрели на них и ровно ничего не понимали.
Вернулся наконец отец, отпустив начальников.
— А узнал ты: повар Степан здоров, может пожить это время у Петра Васильевича? — спросила его матушка.
— Я послал за ним. Здоров. Он сейчас придет. — И добавил, как бы тоже ни к кому не обращаясь: — Да, сюрприз это...
Степан, как не служащий уже, живущий почти что на покое и притом в качестве больного, отпустил себе довольно большую седую бороду, длинные волосы и одет был, как одевались все такого рода дворовые, в желтом дубленом полушубке. Когда он, поклонившись, остановился у притолки, матушка ласково обратилась к нему, спрашивая его о здоровье;
— Ничего, сударыня, теперь легче.
— Вот что, Степанушка, — сказала она. — Петр Васильевич приехал, был сегодня у нас. У него повара нет в Прудках. Ему нужно недели на две, пока он достанет себе...
Степан молчал.
— Так ты можешь пока послужить ему?
— Воля ваша-с.
— Да нет, мы тебя не принуждаем. Если можешь и хочешь — послужи.
— Воля ваша-с, как прикажете, — повторил Степан.
— Да не как прикажете, а хочешь ты?
— Отчего же-с, — как-то нерешительно и как бы не договоривши чего, сказал он.
— Так вот...
Степан вздохнул, кашлянул в ладонь.
— Да ты что? — спросил его отец.
— Я ничего-с... Вы уж только сделайте милость, защитите, если что... от Петра Васильевича... если гнев какой будет, или от Максима Ефимова, или... от мадамы... может, по-питерскому будут требовать что, а я не знаю...
— О нет, — воскликнул отец, — этого ты не бойся! Этого я не позволю, да Петр Васильевич и сам это хорошо понимает.
— А то отчего не услужить — готов стараться, — сказал Степан, повеселев уж.
Дальше в разговоре он спросил еще что-то и осведомился, кто там будет у Петра Васильевича заведовать столом, и назвал при этом опять «мадаму».
«Кто это такая?» — соображал я и в уме у себя перебирал, кто бы это могла быть? Про кого это он говорит все: «мадама», и матушка и отец его понимают, по крайней мере ничего ему на это слово не возражают, — значит, они знают, и это слово, в виде действительного существа, живет в Прудках. Но кто эта личность, она, эта «мадама»? До сих пор ни о какой «мадаме» в Прудках мы не слыхали.
И вдруг, под впечатлением этих соображений и заключений, не подумав хорошенько, кстати это будет или некстати, я брякнул:
— Мама, а как эту дядину «мадаму» зовут?
Она оглянулась вдруг на меня, сделала большие глаза:
— Что ты сказал?
Я повторил, смущаясь.
— Им спать пора... Анна Карловна, уведите их, — сказала матушка вместо ответа мне. А когда я подошел прощаться к ней, она добавила: — Никогда ты не в свое дело не суйся. Никакого тебе дела до этого нет. И пожалуйста, ни к кому с такими глупыми вопросами не обращайся...
Я понял из этого, что если не это, то есть не эта «мадама», то что-нибудь к этому очень близкое и было главной причиной того странного, натянутого отношения между матушкой и отцом с одной стороны и дядей с другой, которое я застал в угольной, когда пришли пить чай. И, разумеется, эта «мадама» с тех пор не выходила у меня из головы; я вспоминал про «мадаму» всякий раз, как вспоминал про дядю, а не вспоминать его каждый день я не мог уже по одному тому, что в гостиной у нас висел его портрет и я знал, что сам он, оригинал этого портрета, находится от нас в нескольких верстах, в своих Прудках.
На следующий день, отпуская нас кататься, матушка сказала Анне Карловне:
— Так пожалуйста же.
— Да, да, — отвечала Анна Карловна. — Мы поедем по Козловской дороге[34].
— А отчего же... разве не в Прудки? — живо спросил я.
— Нет, не в Прудки, — коротко и сухо ответила матушка и добавила: — А если не хочешь, то и никуда не поедешь. Мне оставалось только замолчать и покориться, что я и сделал. Убеждение в действительной причине всего этого, в той причине, которую я предполагал, то есть что всему виною «мадама», во мне окончательно окрепло.
III
Последняя неделя великого поста, то есть страстная, для нас всегда бывала самой любимой неделей в году: ее мы ждали, к ней готовились все, и не одни мы, дети, а и большие: торжественность Святой не была бы так полна и велика, если бы ей не предшествовала неделя приготовлений, хлопотливой суеты, пачкотни — неделя знакомых и все-таки неведомых, радостных ожиданий... В доме у нас, с среды, начиналась эта особенная жизнь, которая все усиливалась, как пульс в своем биении, продолжаясь до самой заутрени светлого праздника: тут только, отправив куличи и пасхи святить в церковь — это была целая экспедиция, — все наконец на короткое время давали себе сладостный роздых, чтобы собраться с последними силами для уборки лично уж себя самих, причесаться, умыться, одеться в праздничное платье и в таком виде ехать тоже в церковь или дома ожидать возвращения поехавших туда с куличами и пасхами; это все совершенно знакомо и понятно людям, проведшим свое детство в деревне, и мертвый, ничего не выражающий звук для тех, кто вырос в городе...
В четверг, по обыкновению, матушка уехала к обедне в церковь, когда мы еще спали, или, по крайней мере, еще не вставали и не выходили к чаю. В доме все шло своим порядком, по заведенной программе. Матушка всегда говела на страстной неделе. Так было и на этот раз. Анна Карловна, заместительница матушки в этих случаях, отрываясь то и дело с ключами, чтобы что-нибудь отпереть и потом запереть, напоила нас чаем, причем, вместо сливок, нам дали малинового варенья; отец, по обыкновению, ушел куда-то — он уходил всегда в это время, когда в доме поднималась уборка и чистка, на гумно или на конюшню. Наконец приехала матушка из церкви, и мы сразу заметили по ее лицу, по ее мине и по ее голосу — она в таких случаях говорила совсем уж как убитая страданиями, — что что-то такое случилось там, в церкви, или дорогой, когда она туда или оттуда ехала, на возвратном пути. По обыкновению, мы ее поздравили с причащением, она поцеловала нас, вздохнула, что-то сказала Анне Карловне и прошла к себе в спальню. Но что-то такое с ней случилось, что-то такое она узнала — это было несомненно. Это было заметно по Анне Карловне — у нее в этих случаях делалось тоже такое же почти выражение в лице и, кроме того, поглядывая и наблюдая, всегда собирала нас прежде всего вокруг себя и никуда не отпускала, точно боясь, чтобы мы не узнали чего, не услыхали, не спросили бы кого-нибудь о том, что нам знать вовсе не нужно.
Вскоре после ее приезда пришел и отец; матушка вышла из спальни в гостиную, где были и мы с Анной Карловной, и мы услыхали их разговор.
— Ермил сказывал, «эта» была там? — спросил отец.
— Да-а, была, — отвечала матушка и вздохнула.
— Ну и что же?
— Разодетая... На Петра Васильевича лошадях, парой в дышловых санях, с лакеем...
— Одна?
— Одна... А с кем же еще? Этого вот только недоставало, чтобы с Петром Васильевичем.
— Ну и...
— Она стояла, знаешь, направо, где кружка за клиросом. Я не смотрела на нее; так, взглянула только...
— Видная, красивая?
— Глаза хорошие...
— Держала себя прилично?
— Да. Все молилась. Несколько раз на колени становилась. Дьякон просвиру ей вынес.
— Ну, это...
Отец кивнул головой: дескать, это, что же, понятно...
Матушка и отец, заинтересованные разговором, не заметили, вероятно, что мы слушаем, а Анна Карловна сама была вся настолько поглощена тоже тем, что слышала, что забыла на это время про нас, и мы всё от слова до слова услыхали и догадались, конечно, о ком они говорят.
— Ты поедешь? — сказала матушка.
— Просил. Надо, — ответил отец.
— После обеда?
— Да, конечно... хотя он и просил к обеду.
«Я попрошу, чтоб он меня взял с собой», — догадался я, но сейчас же сообразил, что об этом и думать нечего.
За обедом отец сказал, чтоб ему запрягли лошадей, он поедет к Петру Васильевичу в Прудки. Я, как ни был уверен, что меня не возьмут, притворился, что ничего не знаю и не понимаю, и сказал:
— Возьми меня. Ведь ты ненадолго, ты скоро назад?
Но ни отец, ни матушка ничего мне на это не ответили.
— Ведь все равно мы кататься поедем, — сказал я.
— Нет, сегодня вы не поедете: некогда и не с кем — Ермил отпросился сегодня, — сказала матушка.
— Ну вот я бы с папой...
Но меня точно никто не слыхал. Я понял, что никакая моя попытка ни к чему не приведет, и, оставив это, замолчал.
Отец вернулся поздно домой, когда мы уже спали, и что он в этот день рассказывал матушке — мы ничего не узнали. Но назавтра и в следующие за тем дни нам удалось услыхать несколько отрывков из их разговора, и из этих отрывков я узнал, что «она» очень красивая, «держит себя необыкновенно скромно», «понимает каждый взгляд Петра Васильевича», «никем не командует», «в доме совсем как чужая», «должно быть, получила кое-какое образование» и «одно неприятно, что она ходит точно виноватая...». Из разговоров матушки с Анной Карловной, разговоры которых сейчас же прекращались, как только замечали, что мы слушаем их с сестрой, и оттого не из разговоров собственно, а из коротеньких отрывков отдельных фраз, намеков поняли, то есть я, по крайней мере, понял, «что при характере Петра Васильевича это долго не продолжится, и вообще она несчастная», «хотя он и бросает на нее деньги теперь и показывает вид, что ее любит...».
Утром, на второй день праздника, вдруг появился совершенно неожиданно из Прудков наш повар Степан: он пришел похристосоваться. Мы пили чай в столовой, куда его и позвали, как только доложили о его приходе, и я услыхал, как он в ответ на вопрос матушки, хорошо ли ему там жить, отвечал: «Ничего пока, сударыня-барыня: только «она» — мадама ихняя, хоть и приказывают, но ничего в деле не понимают. Может, со временем что...»
Да еще в девичьей, куда послали Степана чай пить и куда вслед за чем-то и я прибежал, я услыхал, как он рассказывал девушкам: «И такая-то смирная, такая-то смирная: говорит, приказывает, точно стыдится: знает себя... И дана «ей» власть большая, только «она» ничего не взыскивает и ничего не понимает, все только: пожалуйста, пожалуйста!..»
— Это кто же? — спросил я.
Степан с сомнением и нерешительно посмотрел на меня, дескать, хорошо ли это, если я скажу, и ответил, вероятно придя к заключению, что не следует говорить:
— Это, сударик, мы тут так, промеж себя говорим... Но я, недовольный таким ответом, чувствуя себя почти обиженным, сделал равнодушный вид и, как будто я уже все знаю, проговорил:
— Это ведь все равно недолго продолжится...
— Чего-с это? — глупо и некстати спросил Степан.
— Да вот все это и она... — ответил я.
Я хотел спросить, как «ее» зовут, но не решился, на это у меня духу не хватило, да и что же бы он подумал обо мне: говорю так уверенно, а сам не знаю даже, как «ее» зовут...
Но в это время кто-то вошел в девичью, позвали меня, — расспрашивать и выпытывать мне дальше уж нельзя было.
IV
Было одно место, куда отец брал меня одного с собой довольно часто, особенно в хорошую весеннюю солнечную погоду, — на конюшню. Меня одевали в крытый синим сукном полушубчик, и я шел с отцом вдвоем, довольный уже тем, что я вне домашнего присмотра, никто меня не останавливает, могу говорить с кем хочу.
В то время конюшни были совсем не то, чем они стали теперь. Тогда это был клуб, куда съезжались соседи. Бывало, иные приедут, проведут на конюшне в осмотре лошадей часа три, четыре и пять и уедут, не заходя даже в дом. В мало-мальски порядочных конюшнях бывали для таких собраний приезжавших соседей манежи — особые теплые помещения, которые были так приспособлены, что в случае какого-нибудь спора, недоразумения, возникшего в разговоре о какой-нибудь лошади, ее можно бывало ввести туда, а не выходить самим, опять одеваться в теплое платье. Устроены были диваны турецкие, стояли столики; иногда туда приносили и вино, закуски, ставили самовар, пили пунш. Это станет совершенно понятно, если знать, что завод конский и самая покупка лошадей в то время не носили на себе того коммерческого отпечатка, которым они, конечно, отличаются теперь: тогда это было любимое дело, благородное занятие, общепринятая приличная страсть. «Завод» — этим именем без прилагательных: винокуренный, картофельный, то есть крахмальный, и проч., назывался только один конский завод, и если говорили завод просто, то это значило, что говорят о конском заводе, и это все хорошо понимали — конский завод гораздо ближе поэтому подходил к собачьей охоте, к карточной игре, чем к прибыльному наживному предприятию, и если лошадей продавали, то только потому, что куда же наконец их девать, да и деньги всем дворянам и тогда точно так же были нужны...
Для нас, детей, конюшня была местом веселой, занимательной и любопытной прогулки: во время ее мы видели массу лошадей, к которым чувствовали и мы какую-то прирожденную страсть, — лошадей, между которыми были такие красавцы, как все эти «Барсы», «Варвары», «Кролики», «Грозные» и проч., и такие хорошенькие, но еще глупенькие жеребята, так ревниво оберегаемые своими матерями, этими «Кроткими», «Любезными», «Верными» и проч., так степенно и важно, точно с сознанием своего достоинства, выступающими, поводя по ним своими красивыми большими глазами...
Особенно весело было на конюшне вот весной, когда уж пригревает: везде талый, мягкий снег; в затишьях на солнце уж бегут ручейки, с крыш каплет; воздух такой мягкий, не острый, как зимой, грудь дышит им так полно-полно, и все хочется вздохнуть поглубже, все кажется, что еще не всей грудью дышишь. В такие дни, в самый полдень, когда солнышко обогрелось, на большой обширный луг перед длинным зданием конюшни, к ней прилегающий и обнесенный с внешней своей стороны мелкой низенькой решеткой с высокими для чего-то въездными воротами, конюха выносят вязанки сена и раскладывают его кучками на небольшом одна от другой расстоянии. Потом одну по одной выводят вороных, серых, караковых лошадей с их детьми, выводят и пускают, то есть снимают с них недоуздки, и они нюхают, раздувая ноздри, воздух, осматриваются, глядят одна на другую, на своих жеребят, бегающих между ними, как-то неумело тыкающих длинными высокими ножками и точно с гордостью, как султанчиками, помахивающими своими коротенькими курчавыми хвостиками. Но вот они осмотрелись на воздухе, от которого за зиму в своих темных отделах почти уж отвыкли, ознакомились с новой, непривычной картиной света и простора и одна по одной обращают внимание на приготовленное им угощение — кучи сена. А потом дети их, жеребята, перепутаются, начнут лезть к чужим матерям, начнется призывное ржание матерей с тоненькими ответными голосами жеребят. И когда-то, когда-то они разберутся, но все равно ни одна никогда не ударит чужого жеребенка, как бы он ни лез к ней и ни надоедал.
В такие ясные, солнечные, теплые дни, особенно на первый выпуск лошадей и жеребят на воздух, обыкновенно на конюшню ходили и матушка и с нею мы с гувернанткой. Нам приносили на луг из конюшни табуретки, стулья, ставили в затишье на солнце, и мы иногда по часу и более смотрели на лошадей, как бегают и путаются их жеребята, первый раз увидавшие и свет и простор.
В этом году такой ясный, теплый, солнечный день приходился на третий или на четвертый день праздника; было решено, что сегодня, как ободняется, жеребят и кобыл выпустят в первый раз погулять на двор. Но почему-то, не помню, в этот день матушка с Соней и гувернанткой не могли идти, и отец взял на конюшню меня одного. Мы пришли, нам вынесли на двор из конюшни и поставили в затишье на солнце скамейку, мы сели на нее с отцом, возле стали конюший, наездник, коновал и проч, конюшенная свита; конюха начали приносить и раскладывать по огороженному решеткой перед конюшней широкому двору охапки сена, разложили его, потом начали выводить лошадей-матерей с жеребятами, снимать с них недоуздки и пускать вольно. Происходило, одним словом, все то, что описано выше и что в этом случае происходило каждый год. Как я сказал уже, на конюшню приезжали очень часто соседи и так люди всякого торгового звания, которые в доме у нас никогда не бывали, смотрели лошадей, иногда покупали их, отдавали деньги и уезжали. Так было и в этот раз. Кто-то из таких мелкопоместных соседей или посторонних людей, которые никогда у нас не были, приехали и пошли с отцом смотреть назначенных для продажи лошадей на конюшню. Я остался один, то есть, собственно, не один, конечно, — кто-то: наездник, коновал или еще кто-нибудь, оставался со мною, но отец оставил меня и ушел. Помню, день был чудесный, замечательно теплый, даже жаркий для этого времени, особенно на пригреве, на солнце. Я сидел на скамейке, смотрел на ходивших по двору лошадей, жеребят, наконец задумался. Вдруг, я услыхал, кто-то возле меня сказал: «Дяденька Петр Васильевич приехал». Я очнулся, взглянул и увидел, что от ворот идет между лошадьми по огороженному двору, в военной шинели с бобрами и в белой фуражке с красным околышем, дядя, и идет такой видный, статный, красивый, идет прямо ко мне, оглядываясь по дороге на лошадей, которые важно, серьезно смотрели на него.
— Здравствуй, — мы три раза поцеловались, похристосовались с ним. — А где отец? — сказал дядя.
— Он там, на конюшне, с кем-то, — ответил я.
— С кем?
— Не знаю. Кто-то лошадей смотрит.
— А ты что ж тут делаешь?
— А я вот сижу, смотрю.
— Он с кем там? — обратился дядя к стоявшему тут же наезднику или кому-то другому из стоявших тут, которые все при приближении его сняли шапки и стояли с непокрытыми головами.
Наездник назвал кого-то.
— Ну, пойдем к нему, — сказал мне дядя.
Мы пошли. Дорогой я зачем-то оглянулся и увидел, что у ворот стоят парадные дядины сани и в них кто-то сидит, но не мужчина, а женщина. «Неужели?» — подумал я. И, я помню, у меня вся кровь, не знаю почему, бросилась в голову.
Отец, вероятно кем-нибудь предуведомленный, уже шел к нам навстречу. Дядя с ним обнялся и тоже трижды поцеловался. Я заметил, и это удивило меня, что вся свита, шедшая за отцом: конюший, коновал, выводные, конюха — все были без шапок. У нас этого никогда не было, отец терпеть этого не мог, и причиной было, очевидно, присутствие дяди. Когда, встретившись с отцом, они остановились и поздоровались, некоторые из дворовых поклонились дяде, но он как-то, точно не замечая их или, правильнее, не различая их, кивнул в их сторону головой и мотнул по направлению к козырьку фуражки двумя пальцами. Они так и остались с непокрытыми головами. Отец стоял к свите спиной, разговаривая с дядей, и не видал этого.
— Во-первых, с праздником, а потом дело у меня к тебе: мне нужно пару серых, есть у тебя? — сказал дядя.
У дяди в Прудках своего завода не было. Был у него какой-то завод в Покровском, главном и большом его имении, но и тот был неважный. У отца же, напротив, был некогда известный, с хорошим именем завод.
— Для чего тебе — я ведь не знаю; ты скажи, каких тебе надо, — ответил ему отец.
Дядя стал ему объяснять, каких ему надо лошадей, и сказал, кивнув туда, где стояли его сани и в них сидела женская фигура:
— Я хочу ей подарить: она любит серых.
Когда дядя кивнул, и отец оглянулся в ту сторону.
— Понимаешь, какие поэффектнее, поконистее, каретных.
— Посмотри, выбери сам.
— Нет, уж если так — позволишь? — пускай она сама выберет, — сказал дядя, — это ей же ведь.
И что-то скороговоркой добавил по-французски и рассмеялся.
Я видел, что отец на минуту как будто замялся, мельком взглянул на меня и потом проговорил: «Хорошо...» Дядя кивнул головой кому-то из конюхов и сказал: «Скажи, чтобы, — вон барыня сидит, — чтобы шла сюда. Проводи ее сюда ».
— Да ведь это... Не сюда... Мы на конюшню пойдем... Это туда, — сказал, несколько смешавшись, отец.
Но было уже поздно. Конюх рысью добежал до дядиных саней, стоявших у решетки, и сидевшая в них дама уже шла. Я старался не глядеть ни на нее, ни на отца. Я боялся, как бы он не услал меня в дом под каким-нибудь предлогом. Я бы готов был провалиться в этот момент, лишь бы только он не видел меня, не останавливался на этой несчастной мысли, которой я не знаю как я боялся, а между тем я понимал и чувствовал, что это «она»...
Она подходила к нам очень скоро и довольно торопливой походкой, распахнув свой темно-зеленый бархатный салоп и пробираясь по тропинке, по рыхлому, весеннему снегу. Она издали еще начала раскланиваться с отцом, который сделал тоже несколько шагов ей навстречу и поздоровался с ней за руку. Дядя смотрел на нее и на отца, как-то полуиронически улыбаясь, и тотчас свел с них глаза, когда они подошли. Она сделала поклон и в мою сторону. Я тоже раскланялся.
Я увидал ее великолепные глаза, темные, глубокие, кроткие-кроткие, бледное довольно лицо, худощавое. Она была роста выше среднего. Дядя повел разговор с отцом и с ней по-французски.
— Ну вот, сама выбирай, — сказал он, обращаясь к ней, — Сейчас увидишь.
Она улыбнулась и пожала плечами.
Тогда, не обращая уж больше на нее внимания, дядя сказал отцу цену, которую он хочет дать за лошадей, и просил, чтобы ему показали этот сорт.
Все двинулись через двор на конюшню. Я, чтобы не быть на виду, несколько поотстал и шел позади; отец с дядей шли впереди.
Отвечая что-то дяде, она сказала это таким славным, милым голоском и так весело, что у меня вдруг стало радостно на сердце, и радостно оттого, что как же она может быть, как все говорят, «несчастная» с таким голосом? Мне показалось, что она даже тихонько смеялась. Я шел за ними поспешно, путаясь, оступаясь, спотыкаясь в талом, рыхлом снегу. Вдруг я услыхал, кто-то назвал меня по имени и отчеству. Я оглянулся и увидел нашего лакея Никифора. Он говорил мне:
— Маменька прислали: приказали домой идти.
Я так и остановился на месте...
Когда я пришел домой, матушка ни о чем меня не спросила, но я заметил сейчас же, что она в высшей степени чем-то недовольна. Минут через двадцать или через полчаса мимо дома, в отдалении, по дороге оттуда, со стороны, где конюшня, проехали парные дядины сани, и в них сидела «она». Немного погодя еще, перед самым обедом, пришел с конюшни отец и с ним дядя. Когда дядя здоровался с матушкой, он ей что-то сказал, на что та ответила, по обыкновению, точно обиженная.
— Да ведь то конюшня, не дом твой! — сказал он, рассмеявшись, с гримасой вздернул плечами и, оставив ее, заговорил о чем-то со мною. За обедом дядя усиленно и нарочно шутил, много смеялся, что составляло вызывающий контраст с недовольным настроением матушки. После обеда за ним вернулись его лошади, и он сейчас же уехал домой. Весь остаток дня и весь вечер матушка провела с отцом в кабинете.
В этот же вечер, оставшись наедине с сестрой, я рассказывал ей:
— Ах, Соня, какая «она» красавица, если бы ты видела!.. И за что они на нее сердятся? Я не знаю, что «она» им сделала?.. И «она» вовсе не несчастная!..
V
Подходила совсем весна — уж чуялась она не только в воздухе, но уж видно ее было: снег на дороге стал совсем желтый, грязный; перед домом в цветнике все клумбы были уж видны: снег каждый день сходил с них, и черная земля в полдень, когда солнце разогревало тоненькую ледяную корочку на ней, которой, как стеклом, покрывал ее за ночь мороз, становилась черной, рыхлой, точно летом после дождя. Наконец начались те серенькие, теплые дни без солнца, но с туманами, которые сгоняют снег лучше всякого солнца: в воздухе разливается сырость от них, и не разберешь, что это: туман ли садится или идет мелкий дождь. В дом принесли нарезанных веточек с кустов черной смородины, поставили их в банку с водой, и они дня через три дали молоденькие, зелененькие душистые листики. Это всегда делалось у нас весной: листики потом обрывали, и на них делали настойку на водке, которая бывала нежно-зеленого цвета, необыкновенно приятного запаха, и все находили ее необыкновенно вкусной и говорили, что она здорова... Стали каждый день слышны разговоры о плотине на реке. Принимались какие-то меры, чтобы ее не сорвало. Вечером, придя из передней после разговора со старостой, бурмистром и другими начальниками, отец сообщал нам за чаем новости: сегодня видели, как утки летели над рекой, а сейчас староста шел сюда и слышал, как над рекой гуси перекликаются, летят. Наконец, однажды вечером кто-то пришел и сказал, что идет такой дождь, что хоть бы летом.
— Ну, это уж значит жди теперь: через день, а то и завтра к вечеру река тронется, — заговорили все, а отец сам пошел на крыльцо смотреть дождь.
— Возьми меня с собою! Мама, мне можно? Я немножко постою только. Я сейчас оденусь...
И видя, что они оба, в сущности, ничего против этого не имеют и оба в самом лучшем настроении, я вскочил и побежал одеваться.
На крыльце было темно, потому что ночь стояла совсем черная. С нами на крыльцо вышло несколько человек лакеев и тоже стояли, прислушиваясь к дождю.
— Послезавтра река тронется непременно, а то еще и завтра, — говорили все.
— Постойте-ка, — прислушиваясь, сказал отец, — ведь это гуси кричат.
Мы все начали тоже прислушиваться. Действительно, слышался крик летевших гусей. В темноте по двору кто-то шел, слышны были голоса.
— Это кто? — громко сказал отец. Послышался ответ, но не явственный. — Кто это? — повторил отец.
— Я-с! Степан, повар.
Шлепая по снегу и грязи, подходил к крыльцу Степан.
— Ты как же здесь? — спросил его отец.
Петр Васильевич отпустили.
— Совсем?
— Совсем-с. Нового повара привезли. У Волкова Ивана Семеновича Авдея купили. Приказали кланяться, благодарят; завтра будут, — добавил Степан. — Мне двадцать пять рублей на чай пожаловали.
— Вот как! А как же ты прошел? Через реку есть еще езда? — спросил отец.
— Есть-с, только уж плохо.
У нас была та же река, что и у дяди в Прудках, и чтоб от него попасть к нам, надо было или переезжать по плотине, по которой зимой никто не ездил и она стояла заваленная снегом, или по льду, прямо через реку.
— Как же Петр Васильевич-то завтра проедет?
— Не могу знать-с. Приказали сказать, что завтра будут.
— Ну что там? Ничего, все благополучно?
Отец стал его расспрашивать. Степан как-то странно отвечал, точно не договаривал, — хочет сказать, а потом не договорит.
— Ну, пора в дом, а то ты еще простудишься, — сказал мне отец. — Степан, зайди-ка ко мне.
Мы прошли с крыльца в переднюю, я снял теплое платье, отец велел мне идти к матушке, а сам остался в передней говорить со Степаном.
— Какой дождь идет; гуси летят, кричат; Степан пришел: дядя отпустил его, он себе нового повара купил, — сообщал я новости в угольной, за чайным столом, с которого еще не убирали самовара.
— Ты где же видел Степана? — спросила матушка.
Я сказал.
— Он там еще?
— Там.
Матушка встала и, ничего нам не говоря, пошла в переднюю. Потом мы слышали из угольной, что отец с матушкой пошли в кабинет и туда же позвали и Степана. Что они там с ним говорили и о чем он им рассказывал, мы не могли расслышать, хотя доносился иногда до нас голос отца, что-то громко и горячо говорившего. Затем наступила тишина, и смутно, не явственно слышалась чья-то речь — может быть матушки, может быть Степана. Мы так и ушли спать, а они всё там разговаривали.
Дождь, ливший всю ночь, к утру перестал. Дождливая погода разом сменилась ясной, теплой. Когда мы пошли пить утром чай, я подбежал к окну и удивился, какая произошла перемена за одну ночь. В цветнике уж была видна не одна черная земляная клумба, но оттаяли и дорожки, и с них сошел снег. По другую сторону дома, обращенную к реке, образовались тоже большие проталины, и была видна земля. Дальше, снег на реке посинел, потемнел, надулся как-то, так что отсюда даже, из окна, видно было, что по реке ни ехать, ни идти пешком нельзя. Отца с утра не было дома; он был там, на плотине, где был и весь народ. Среди дня он на минутку приезжал, но сейчас же опять туда уехал. Ждали, что ночью река непременно тронется, а надо было еще многое успеть сделать, чтобы уцелела плотина, не сорвало ее. К обеду он приехал опять и рассказывал все время о реке, как она опасна и как люди торопятся сделать поскорее то-то и то-то. Кто-то вспомнил про дядю и сказал, что он, вероятно, уж не приедет сегодня.
— Где ж ехать, это провалиться наверняка, — сказал отец.
Когда он стал после обеда собираться ехать снова на плотину, я начал его просить, чтоб он взял и меня с собою. Но матушка сама тоже захотела ехать смотреть, как там работают, — вопрос был только в том, как и на чем туда ехать? Все советовали запрячь простые мужицкие сани, наложить побольше соломы и ехать в них, так как они без подрезов, на широких полозьях, и по грязи и жидкому снегу в них будет легче ехать. Поднялась возня, суета, послали лошадей запрягать, начали одеваться; наконец на трех санях, наполненных свежей, чистой соломой, мы тронулись. Погода была дивно хорошая, какая бывает в это время весною. Было уж часа четыре; солнце склонилось уже к западу; но в воздухе так тепло, так много разлито в нем весенних звуков, и несутся они откуда-то с вышины или от земли — не разберешь, но так хорошо!.. Мы ехали по деревне, посередине большой, широкой улицы, образуемой двумя длинными рядами мужицких изб, и вся она, эта улица, была оживлена, готовилась к весне, к весенним работам: стояли перед избами выдвинутые из дворов телеги, сохи, бороны — их чинили. По улице и перед дворами бродило множество ребятишек. Завидев наш удивительный поезд, из изб выходили бабы и, останавливаясь в дверях сеней, смотрели на нас, кланялись оттуда. Славная, живая весенняя картина! И так давно мы ее не видали — целую зиму и осень, — и так весело было смотреть на нее. Вдруг оттуда, с конца длинной улицы, показался верховой. Он скакал точно на пожар; скоро мы услыхали удары копыт его лошади по рыхлому снегу и жидкой грязи, покрывавшей еще мерзлую, не совсем оттаявшую землю; наконец он доскакал до нас и, не дожидаясь, пока лошадь остановится, соскочил, точно свалился, упал с лошади, сорвал шапку и подал письмо отцу. Это был посланный от дяди Петра Васильевича.
— Что такое? — спросил его отец, принимая у него из рук письмо.
— Барышня... Лизавета Семеновна... провалились... кататься поехали и провалились в реку... простудились, насилу вытащили... в город за доктором послали, — говорил посланный, запыхиваясь и едва переводя дыхание.
Я смотрел на него. Он был весь и лошадь его вся в грязи и мокрые. Отец прочитал письмо и, передавая его матушке, сказал, обращаясь к посланному:
— Ну, поезжай, я не держу. Только как же ты по этой дороге провезешь доктора?
— Приказано-с... к вечеру...
Посланный, молодой малый, я знал его немного в лицо — кажется, конюх, — вскочил на лошадь, надел шапку и опять как сумасшедший поскакал дальше.
Начались предположения, что и как. Матушка с отцом высказывали свои соображения о том, что Петр Васильевич просто сумасшествует от нечего делать и со скуки, что, может быть, доктора вовсе еще и не нужно, что как это Андрюшка слетает в город, за двадцать верст, и к вечеру, — а уж и теперь не утро, а вечер, — успеет привезти его оттуда и, наконец, как это по этакой дороге доктор поедет, какой это согласится, и проч., и проч. Я слушал все это, понимал, о ком идет речь, хотя и в первый раз еще услыхал, что «ее» зовут Лизаветой Семеновной...
Мы долго пробыли на плотине, смотрели, как работают, смотрели на реку, покрытую каким-то сине-серым, пропитанным набежавшей с берегов водой, сквозным, заледенелым снегом. Смотрели вверх на летевших в высоте длинными, растянутыми треугольниками диких уток, гусей и возвратились в дом, когда было уже почти совсем темно. А часа через три еще, когда в угольную к нам «от начальников» вернулся из передней отец, он сказал, что сейчас мимо дома, по дороге, проскакал на тройке в какой-то таратайке, должно быть, доктор в Прудки, потому что слышали голос «Андрюшки», погонявшего немилосердно лошадей.
VI
К нам ездил — каждый месяц два раза — наш годовой доктор Богдан Карлович Нусбаум. Обыкновенно он приезжал к вечеру, осматривал нас, то есть мы ему высовывали языки, он щупал пульс, прикладывал руку к щекам, к голове, шутил с нами, смеялся, иногда что-нибудь «на всякий случай» прописывал. К нему также приходили дворовые, мужики, бабы — он должен был и их лечить, — а к тем, которые были трудно больны и не могли прийти сами, он ездил в их избы, для чего ему запрягали легкий экипаж, и он отправлялся. Богдан Карлович всегда оставался у нас ночевать, утром пил чай, завтракал и, если у нас все было благополучно, ехал дальше, к другим, у кого он тоже был годовым. Эти разъезды он совершал всегда на лошадях тех помещиков, которых лечил. К нам приедет на васюковских лошадях, а от нас, к Емельяновым, поедет на наших, от Емельяновых дальше уж на их, таким образом.
Богдана Карловича мы с сестрой не любили: он был весь какой-то притворный, неестественный: и шутил он с нами и смеялся все как-то деланно, искусственно. Особенно противно он смеялся — громко, закатисто, и сейчас видно, что нарочно: ничего смешного нет, а он смеется... Так, из разговоров, мы слышали, что он имеет очень много денег и ему должны были многие. Ему каждый год два раза — перед рождеством и перед пасхой — посылали овса, муки, крупы, масла, ветчины, кур, уток, гусей; посылают исправнику, становому, судейским, почтмейстеру — и ему тоже. Деньгами я не знаю что ему платили.
Он был тоже помещик — не сам он, а жена его: он был женат на чьей-то вдове, у которой было где-то, в нашем же уезде, имение, но они там не жили, а жили в городе, куда за ним и посылали, если было что нужно.
На другой день, вот после того, как ночью слышали голос «Андрюшки», проскакавшего назад из города, по предположению, с доктором, когда мы только что утром отпили чай и хотели с Анной Карловной идти заниматься в классную, доложили, что приехал этот Богдан Карлович Нусбаум, а вслед за тем, в качестве домашнего человека, он и сам явился в столовую.
Он вошел, по обыкновению, шумно, сейчас же засмеялся своим притворным смехом и в одно и то же время начал здороваться с матушкой — отца не было дома — и шутить с нами.
— Богдан Карлович, вы от Петра Васильевича? — спросила матушка.
— От Петра Васильевича, — отвечал он, и вдруг сделал серьезное лицо, перестал смеяться, оставил нас и сел к столу.
Матушка и Анна Карловна посмотрели на него вопросительно.
— Плохо... Там очень плохо.... — наконец выговорил он. И сейчас же добавил: — Только не «эта», не то, что вы думаете. У «нее» еще ничего нельзя сказать, что такое... Ну, может быть, будет маленький тифик... Но кучер и потом этот лакей...
Матушка и Анна Карловна смотрели на него с величайшим любопытством и недоумением, не произнося ни слова.
Богдан Карлович, сказав это, тоже замолчал и, поглядывая на нас через свои очки, постукивал пальцами по столу.
— Да... очень плохо может кончиться, — повторил он.
Матушка наконец сказала:
— Да что такое?
— Вы разве не знаете? — удивился Богдан Карлович.
— Ничего;
— Петр Васильевич их страшно наказал... Так нельзя наказывать... Ну, они виноваты, зачем послушались ее, поехали через лед, их можно было наказать, но не так...
— И что ж теперь? — проговорила матушка.
— Я не знаю. Кучер, может быть, уж умер теперь. Я уехал...
Богдан Карлович, помолчав немного, опять побарабанил по столу и спросил: где отец, скоро ли он придет, все ли у нас здоровы?
Анна Карловна, ну, вы идите, ведите их в классную, — сказала матушка, видимо желая наедине и подробнее расспросить Богдана Карловича: она это всегда так делала, к крайнему нашему неудовольствию.
— Да... да... — повторил он. — Ну, а что они? — указывая на нас головой, говорил доктор, — ничего?
— Ничего, слава богу.
— Ну, впрочем, я у вас сегодня пробуду, успеем, — сказал Богдан Карлович, намекая на то, что он успеет нас осмотреть и теперь не задерживает нас, можем идти в классную.
Анна Карловна встала и увела нас.
Из столовой в классную надо было идти через ту комнату, где висел дядин портрет верхом на лошади. Проходя мимо, я с каким-то странным чувством посмотрел на него — долго, пристально...
И сестра Соня и Анна Карловна были — может, мне казалось — тоже в каком-то странном состоянии...
Мы наконец уселись, и гувернантка начала нам диктовать. Этот прием она всегда делала, когда хотела сразу занять нас, чтобы мы не разговаривали и чтоб ей было свободно думать и не разговаривать с нами: никаких программ и распределений занятий у нас, конечно, не было.
Я писал, а слышанное у меня не выходило из головы. На каком-то перерыве я наконец не выдержал и спросил:
— За что же он их так наказывал?
— Кого? — не сообразив вдруг, сказала Анна Карловна.
— А вот кучера и лакея.
Но Анна Карловна уж спохватилась и сухо ответила:
— Это не ваше дело.
— Ведь «она» им велела ехать... — продолжал я. — Чем же они виноваты?
— Это не ваше дело, я вам сказала.
Она начала диктовать, и мы опять принялись писать. Снова через несколько минут наступил перерыв, и опять не совладал с собою — я весь был поглощен этой мыслью — и спросил:
— Ну, а если они умрут?
— Кто? — сказала Анна Карловна и, не дожидаясь моего ответа, поняв, о ком я говорю, сказала:
— Если вы не перестанете и будете продолжать, я пойду и скажу мамаше, что вы мешаете, не даете заниматься и Соне.
Я писал крайне невнимательно, наделал массу ошибок, Анна Карловна возмущалась, и когда нас позвали из классной завтракать, — мы оставались в классной и по окончании занятий, она почему-то не выпускала нас, — Анна Карловна, идя с нами, пригрозила мне, что скажет обо всем матушке. Но я нимало не был этим смущен. Меня гораздо больше занимала мысль, не услышу ли я за завтраком от Богдана Карловича еще чего-нибудь.
Но, к удивлению нашему, Богдана Карловича за завтраком не было. Отец с матушкой уж сидели за столом. Отца я не видал еще сегодня и потому подошел к нему поздороваться.
— А где же Богдан Карлович? — спросил я.
— Он уехал в Прудки. За ним присылали. Он сегодня опять приедет, — ответил мне отец.
Оба они — и отец и матушка — сидели смущенные. Лакей, подававший кушанье, был тоже особенно как-то серьезен и ходил совсем неслышными шагами. Анна Карловна не пожаловалась на меня: она сразу поняла, что теперь не момент...
Мы молча, почти не проронив ни одного слова, позавтракали, и когда встали, матушка сказала Анне Карловне, чтобы мы пошли в сад погулять, где просохли дорожки, и чтобы она только посмотрела, крепкие ли у нас калоши и, вообще обувь.
— А если они не будут слушаться и станут ходить, где мокро, вы тогда скажите мне: я другой раз не пущу.
— Слышите, — обретясь ко мне, внушительно заметила Анна Карловна.
— А что? Он разве не слушается? — проговорила матушка.
— Так... я вам после скажу, — ответила Анна Карловна.
VII
Как это всегда бывает весною, сад, еще каких-нибудь три-четыре дня до того покрытый весь лужами и местами даже не растаявшим еще снегом, теперь был почти весь уже сухой. На дорожках еще кое-где стояли лужи, но куртины, покрытые старой, желто-серой прошлогодней травой, были уже совсем сухие. Анна Карловна и мы пошли по куртинам, по этой старой сухой траве. День был чудесный, солнечный; было даже жарко: нас страшно кутали всегда.
Пробираясь из одной куртины в другую, мы дошли до дорожки, пересекавшей нам путь; на ней стояла почти сплошная лужа. А там, дальше, казалось так хорошо, там такие сухие, просторные куртины, а главное — там дальше наша любимая скамеечка, на которой мы всю зиму с самой осени еще не сидели. Мы долго искали сухого перехода и хотели было отказаться совсем от мысли попасть туда, как вдруг увидали, что идет оттуда, из того конца сада, наш садовник Михей. Он был в длинных сапогах, и он нас выручил: принес каких-то обрубков, дощечек, откуда-то соломы, камышу, которым на зиму обвязывают от холода и от зайцев молодые яблони, и Анна Карловна перешла по этой импровизированной плотине через лужу, а нас с сестрой он перенес туда на руках.
— А как же, Михей, мы назад-то перейдем? Ты придешь, перенесешь их опять? — спросила его Анна Карловна.
Михей замялся, видимо хотел что-то сказать и не говорил.
— Мы с полчаса там погуляем и придем опять сюда, — продолжала Анна Карловна.
Но Михей, пожимаясь как-то нерешительно, объявил нам, что сейчас идет к отцу проситься, чтобы он его отпустил на сегодня в Прудки.
— Ведь за этим за самым Дмитрием, которого Петр Васильевич засекли-то, моя дочь замужем, — сказал он, — хочется посмотреть ее, что она и как там все это...
— А уж он умер разве? — живо спросил я.
— Умер, сказывают, — ответил Михей. — И Василий-лакей помирает. Человек этот, который сейчас с Прудков за доктором приезжал, сказывал...
Я помню, меня при этом как-то словно надавило чем в темя и потом застучало в висках...
Со мною это иногда и теперь бывает в случаях, сильно чем-нибудь меня взволновавших, и потому я живо помню и понимаю то, что тогда со мною было...
Анна Карловна пришла в смущение от этакого неожиданного разговора его с нами, растерялась даже, что-то ему ответила, — чтобы он кого другого прислал со двора нас перенести или чтобы еще наложил поскорее соломы и тростнику, и мы тогда перейдем сами, что-то вроде этого, — и поспешила с нами от него.
Но я уж не унимался. Тут уж она не могла меня остановить.
— Хорошо, хорошо, — все повторяла она мне.
— Да что ж такое я сделал?
— Хорошо, хорошо.
— Ничего я не сделал. Михей всем рассказывал, а я спросил только, — оправдывался я.
— Хорошо, ничего, — твердила она.
— Да ничего, — повторял и я.
— Вот увидите, придем.
Но она и тут, когда пришли домой, ничего не сказала матушке, хотя раздражена была на меня до последней степени.
— Она ей ужо вечером скажет, когда спать пойдет, — заметила мне сестра.
Богдан Карлович вернулся из Прудков внезапно, и случилось это тогда, когда мы только что сели пить чай, а он вошел, так что нам нельзя было удалиться сейчас же с Анной Карловной.
Он вошел с необыкновенной серьезностью, даже важностью на лице. На устремленные на него вопросительные взгляды матушки и отца он ответил утвердительным наклонением головы и потом несколько раз покивал ею, вздохнул и поднял плечи, как бы желая этим сказать: «Что делать — несчастье...»
— Оба? И Василий? — спросил отец.
— Оба, — ответил Богдан Карлович и наклонил в знак согласия голову.
Это он всегда делал в трагический момент.
Отец встал, сделал два шага и опять вернулся на свое место и сел.
— А что ему за это будет? — вдруг неожиданно и для себя самого брякнул я, так что все на меня оглянулись.
— Ну, будет... Ничего, вероятно, бог даст, не будет, потому что это могло произойти с ними и от удара, — начал было объяснять, не понимая наших порядков, Богдан Карлович.
— Богдан Карлович, чаю что ж? С ромом? — вдруг заговорила матушка.
Она переменила разговор, хотела замять и мой вопрос и его объяснения мне...
Мы допили чай и ушли.
Дня через три кто-то при нас проговорился, что «их» похоронили. Был кто-то там, в Прудках, и, возвратившись оттуда, рассказывал, что «их» сегодня утром похоронили...
А еще несколько дней спустя у нас был кто-то из соседей и в разговоре, смеясь, заметил, так, между прочим, что, говорят, у Петра Васильевича было маленькое несчастие, и это ему теперь наука будет...
Слышал я потом разговор и о том, что «это дело» Петру Васильевичу стоило все-таки дорого: он заплатил крупную какую-то цифру доктору Богдану Карловичу за что-то — он писал какое-то свидетельство при этом — и потом исправнику...
Вообще все были того мнения и так относились к этому «случаю», что это просто несчастие: не нарочно же он их засек! Если бы он знал, что он их засечет, он не стал бы этого делать, и все винили больше не его самого, а его управляющего Максима Ефимова, который должен был то-то и то-то при этом сделать, и тогда ничего бы не было...
Но дворовые и вообще все не господа, чьи разговоры об этом урывками мне все-таки доводилось кое-как время от времени слышать, относились к «этому делу» иначе.
— Отольются ему эти сиротские слезки — ведь у Дмитрия-то кучера пять человек детей осталось...
— Василий-то в прошлом году только женился, и на днях перед тем его жена только что родила...
— А где же эти дети? — кого-то спросил я.
— Дмитриевых дедушка (Михей, садовник наш) к себе взял. Хорошенькие такие...
Я помню, мне их все хотелось как-нибудь увидеть...
VIII
Время между тем шло, начиналась уж зеленая весна; от снега и первой весенней грязи не осталось нигде и помину. Молодая трава зеленой щеточкой начинала пробивать сквозь старую, сухую, желто-серую, прошлогоднюю. Отец как-то был в поле на пахоте и привез оттуда желтые первые весенние цветы. В саду мы сами, в куртинах, между сухой прошлогодней травой нашли новенькую, густую, свежую зелень — кусточки маленьких круглых листиков и с ними синенькие цветочки. Почки на деревьях — тополе, березе, черемухе — надулись, стали крупные, скоро будут листья: на смородине, крыжовнике они уж показались, маленькие, зубчатые.
Мы ходили на огород, и самым любимым нашим делом в это время бывало смотреть сквозь запотелые стекла в парниках на цветущие под рамами огурцы, на широкие листья салата, на веселую зелень редиски.
Садовник Михей — вот тот, о котором я говорил, — нам открывал всегда парники, поднимал одну или две рамы, подпирал, их зубчатыми подпорками, и мы сами срывали себе огурцы и выдергивали редиску. Иногда, отпуская нас гулять в сад, матушка сама нам давала поручение сходить на огород и оттуда принести к обеду свежих огурцов, редиски и салату. Анне Карловне огород тоже нравился, она в нем и летом гораздо охотнее проводила время, чем в саду, в тени наших липовых, березовых и кленовых аллей, и потому мы каждый день и почти все время весной, когда гуляли, были там, на огороде.
Садовник Михей имел при себе двух помощников, учеников, как он их называл, которые вместе с ним работали и на огороде и в саду. Все они летом, с самой весны, жили в большом плетеном шалаше, где у них было все устроено — кровати, скамейки, лежали толстые обрубки, на которых тоже можно было сидеть, если поставить их стоймя; тут же лежали скребки, лопаты и всякая прочая утварь. Этот шалаш меня всегда интересовал: я находил в нем большое сходство с шалашом Робинзона по картинкам: у меня в детстве было большое воображение, как и у всех детей.
После обеда, то есть после рабочего обеда, после двенадцати часов, Михей и его ученики обыкновенно спали в своем шалаше, а потому, когда мы в это время проходили на огород, надо было или громко позвать кого-нибудь оттуда, чтобы кто-нибудь вышел и открыл нам парники и вообще исполнил бы то, что нам нужно, или, в крайнем случае, надо было войти в шалаш и разбудить там спавших. Но так как мы приходили туда всегда втроем — Анна Карловна, сестра и я, — то этого рода поручение всегда возлагалось, понятно, на меня, как на мальчика — «все же мужчину».
Однажды, когда мы пришли в это время к Михею на огород, никого — ни его самого, ни «учеников» его — там не было. Мы несколько раз их громко позвали у самого шалаша, но никто оттуда не откликался, а между тем — странная вещь — там как будто кто-то был, слышно, кто-то как будто кашлянул там, что-то уронил, шуршал чем-то.
— Ну, пойдите, — сказала Анна Карловна.
Я вошел в шалаш и сразу, со света, в темноте, увидал только, что на кроватях никого не было, никто на них не спал. Я хотел было уже закричать, что никого нет, и идти назад, как вдруг в углу, у самой двери, я увидал мальчика какого-то, лет десяти или около того. Я на мгновение остановился и смотрел на него, он на меня.
— Ты чей? — спросил я его.
— Кучеров.
— Какого кучера? Ермила?
— Дмитрия-кучера... Прудковского.
И вдруг я вспомнил, что я слышал тогда, что детей этого Дмитрия взял дедушка (Михей) к себе и они у него теперь живут...
— Тебя как зовут? — спросил я.
— Никитой.
— Ты здесь... у Михея живешь?
— У дедушки...
— Что вы там делаете? Идите! — услыхал я голос Анны Карловны у самых дверей шалаша.
— А где Михей? — спросил я мальчика, собираясь уж уходить.
— Сейчас придет.
Я вышел из шалаша и объявил стоявшим в нескольких шагах от него Анне Карловне и сестре, что в шалаше никого — ни Михея, ни его «учеников» — нет, но что внук Михея, мальчик... самого этого... Дмитрия, которого дядя до смерти засек.
Анна Карловна с досадой и удивлением слушала.
— Что ж он там делает?
— Он стоит... И уж большой, славный мальчик, — продолжал я. — Я вошел, гляжу — никого нет, а он притаился, стоит. Он у Михея живет. Их пять сирот осталось у Дмитрия — Михей, их дедушка — жена Дмитрия ведь дочь Михея, — взял к себе. Они теперь все у него живут, — рассказывал я Соне.
Она слушала, взглядывая на меня.
— А у Василия-лакея, который тоже умер, жена только что перед этим родила ребенка, — продолжал я.
— И откуда вы всё это знаете? Кто это вам рассказывал? — вмешалась Анна Карловна.
— Знаю. Слышал. Говорили.
Но, к удивлению моему, Анна Карловна ничего мне на это не сказала — не остановила, не запретила говорить.
— Неужели, — помолчав немного, продолжал я, — все это так и кончится? Ничего дяде за это не будет?
— Вот если вы будете об этом рассказывать, я маменьке скажу, — проговорила Анна Карловна и добавила: — А еще говорите, что вы любите дяденьку Петра Васильевича.
Я вдруг остановился, — мне раньше никак не приходил в голову этот вопрос: что, я люблю его и теперь или нет?.. И, странное дело, я вдруг, и к удивлению своему, ощутил в себе какую-то в этом отношении пустоту: я не заметил, как это произошло со мною. Мне было все равно — до него мне теперь не было никакого дела, даже скорей неприятное что-то шевелилось во мне, когда я стал себе представлять его. Я представлял себе встречу свою с ним, как мы встретимся с ним после «всего этого». И, по обыкновению, под этим первым впечатлением спросил:
— А отчего он не едет к нам после этого?
— Ему просто неловко, — сказала Соня.
— Он не смеет!.. — проговорил я.
Анна Карловна повела плечами.
— Вас он, вероятно, боится!
Я ей ничего не ответил...
Когда наконец пришел Михей и стал, оговариваясь и извиняясь, открывать нам парники, я попробовал было начать с ним разговор о его внуках, но тут уж Анна Карловна меня решительно остановила, сказав по-немецки, что если я не перестану, она сейчас же пойдет к матушке, все ей расскажет и притом откажется гулять со мною.
— Вы не умеете совсем вести себя, — по-немецки говорила она.
— Да что ж такого? Я только спросил его о его внуках. Ведь это же все знают, — попробовал я ей представить свои объяснения.
Но она не стала меня слушать и повторила опять, что, если я не перестану, она сейчас поведет нас в дом, откажется больше гулять со мною и все передаст матушке.
— Довольно уж! — говорила она решительным тоном. — Довольно уж! Ходите, расспрашиваете всех, все узнаете, рассказываете, что за это вашему дяде будет... Довольно!.. Слава богу, только все кончилось, это устроили, а вы опять начинаете. При ком-нибудь начнете рассказывать — из этого еще история может выйти.
— Я никому не рассказывал. Кому же я рассказываю?
— Довольно! Я говорю — довольно.
Она была раздражена даже — я не понимал, ей-то что за дело? Какое у нее чувство? Ей дядя представляется точно обиженным, все на него точно понапрасну восстают, и он от этого может еще пострадать...
IX
Мы уже подходили к дому, как вдруг впереди точно из земли выросли и шли к нам навстречу отец и с ним дядя, в одном форменном военном сюртуке (был жаркий весенний день) и в фуражке. Отец шел, по обыкновению заложив назад руки и опустив голову, а дядя, напротив, с каким-то небрежно-рассеянным и в то же время надменным видом и что-то ему говорил.
Мы так и остановились. Анна Карловна не знала, что ей делать, куда идти, и оглядывалась по сторонам, но свернуть было некуда, и к тому же и они уже подошли к нам, были в каких-нибудь десяти — пятнадцати шагах перед нами.
Отец поднял голову и увидал нас, что-то сказал в сторону дяди, и они оба молча приближались к нам.
— Вы домой? — подойдя, спросил нас отец.
Анна Карловна что-то ответила. Я помню как сейчас, я смотрел на дядю, не сводил с него глаз. Он мне показался бледным, и у него как-то повисли усы. Он прежде их закручивал, а теперь они у него висели книзу, и от этого в лице у него явилось какое-то болезненное, пренебрежительное выражение.
— Здравствуй, — сказал он, нагибаясь и вскользь целуя меня.
Но это все произошло в одну минуту. Они, не останавливаясь с нами, прошли далее. Я могу сказать, что я не понял тогда совершенно ни того, что я ощущал, ни своих чувств к дяде, которыми я, однако, был в этот момент в высшей степени взволнован. Когда я оглянулся, отец с дядей были уже далеко за нами, и я мог заметить, что они опять продолжают что-то говорить и отец идет по-прежнему, заложив руки назад и с опущенной головой.
У детей — я заметил это — почти у всех, до известного возраста, есть привычка, когда кто-нибудь их поцелует, — вытереть губы потом. Нас от этого останавливали, говорили, что это даже невежливо перед тем, кто нас поцеловал, точно мы брезгаем им; но это все равно ни к чему не вело. Я помню, я удерживался сейчас же, первый момент, при поцеловавшем меня утирать губы, но всегда или уходил вскоре и утирал их, или тут же отворачивался за чем-нибудь, как-нибудь нагибался, чтобы не видали, и все-таки их утирал. Эта привычка у всех почти детей, какое бы они ни получили воспитание. Вся разница только в том, что от одного поцелуя они утрутся один раз и, так сказать, мимоходом, слегка, а от другого несколько раз и тщательно.
Я очень тщательно утерся на этот раз после дядина поцелуя, даже нарочно тщательно, и так, чтобы Анна Карловна могла это видеть...
Но она ничего не сказала, и мы прошли в дом.
Матушка нас встретила как-то рассеянно и, к моему удивлению, была даже как будто в довольном и совершенно покойном, чуть не веселом настроении. Это меня удивило, показалось загадочным, и я все смотрел на нее, не скажет ли она чего, не узнаем ли мы чего. Но она, не обращая на нас внимания, позвала Анну Карловну и, уйдя с ней в другую комнату, начала ей что-то рассказывать.
— Дядя когда же, давно приехал? — спросил я у кого-то из прислуги.
— Нет-с, сейчас только перед вами.
— Один? — почему-то спросил я.
— Одни-с.
К обеду отец с дядей вернулись из сада. Я сел не рядом с дядей, как всегда, а нарочно против него и все смотрел на него. У меня и теперь еще осталась привычка, если я слышал что про кого или узнавал, искать потом у него на лице, выследить это слышанное. Так и теперь, я все искал на лице у него следов этого всего, что там, в Прудках, произошло...
Но дядя за обедом был совершенно покоен и с важностью рассказывал о Петербурге, говорил о несомненно в недалеком будущем предстоящей войне и о каком-то князе.
— Ты, значит, все время будешь при нем теперь? И в случае похода, войны? — спросила матушка.
— Конечно, при нем, — ответил он.
Тут, за обедом, из разговоров их мы поняли, что дядя получил какую-то бумагу из Петербурга, что его вызывают, дают ему какое-то блестящее назначение и он уезжает туда на днях...
Дядя рассказывал обо всем этом, делал предположения, строил планы. Матушка, видимо, была рада всему этому, и главное, кажется, потому, что уезжает отсюда.
«А что же «мадама», тоже с ним уезжает или остается здесь? — соображал я и чуть-чуть один раз не спросил об этом. — И потом, как же эта вся история, так, значит, и в самом деле кончена?»
После обеда Анна Карловна увела нас играть в детскую, а матушка с отцом и с дядей остались в гостиной, куда все перешли тотчас после обеда.
Я помню, меня присутствие дяди у нас, то есть самый факт того, что он у нас, здесь, и, может статься, уедет, с нами не простившись, нисколько этот раз уж не занимал, не интересовал. Мне гораздо больше хотелось знать об этой его «мадаме», где она, что с ней, останется ли она здесь или уедет с ним, и потом вот эта история с засеченными им кучером и лакеем — неужели это так и кончится все и ничего не будет — похоронили их, и конец...
Поэтому, когда к вечернему чаю из детской мы пришли в столовую и дяди там уже не было, это меня нисколько не удивило, не встревожило. Я только спросил, уехал ли он? Мне сказали: «Да».
— Совсем уж... в Петербург?
— Нет, еще пока к себе, в Прудки.
— А в Петербург скоро?
— На этих днях.
— А у нас уж не будет?
— Неизвестно, если успеет. На всякий случай он уж, впрочем, со всеми простился.
И затем матушка как будто сама про себя сказала:
— И слава богу, я так за него рада...
Анна Карловна с доброй, кроткой немецкой улыбкой посмотрела на нее и, вероятно чтобы доказать свое сочувствие, — вздохнула.
Через несколько дней мы узнали, что дядя уехал из Прудков...
X
Время шло своим порядком. Весна быстро меняла, как всегда это бывает, картину за картиной. Везде уже была зеленая трава; все деревья стояли в листьях. В доме у нас уж давно были выставлены все двойные рамы, и окна целый день почти стояли открытыми. Мы, как только кончали свои занятия, шли в сад с Анной Карловной — весь день, за исключением трех-четырех часов, что сидели в классной, были в саду.
Выше я уже сказал, что там, под липками, у нас была любимая скамейка, где мы больше всего пребывали. Стояло пять огромных лип, по-видимому выросших из одного корня; тень от них была огромная; они покрывали чуть не полдесятины своим зеленым шатром; площадка под ними была вычищена и усыпана песком; кругом стояли скамейки, и одна из них, самая большая, ближайшая к стволам лип, и была наша любимая. Если нас надо было позвать для чего-нибудь в дом или вообще надо было для чего-нибудь нас отыскать, то шли прежде всего под эти липки, а уж потом искали в саду в других местах.
Прежде, когда мы были еще меньше, под этими же липками, на площадке, были ссыпаны две большие кучи красного просеянного песку, и мы в нем все время играли, насыпая его в баночки, в деревянные ящики, возили в игрушечных тачках и проч.; теперь же мы сюда приходили больше по привычке к этому месту. Анна Карловна или приносила работу какую-нибудь с собою, или книгу, и они с сестрой или читали, или работали, я в это время или что-нибудь столярничал перочинным ножом, вырезывал тросточки, делал удилища для удочек, плел и сучил лесы: мне только что позволили удить рыбу. Иногда же я сидел с ними и просто болтал или слушал, что они читали.
Содержание площадки этой в чистоте и порядке составляло прямую обязанность «учеников» садовника Михея. Мы посидим, исчертим разметенный песок перед скамейками, набросаем стружек, палочек, бумажек, а на другой день опять все чисто, все подметено, все в порядке.
Однажды утром, не помню уж по какому случаю, я явился на эту площадку под липками один, — вернее всего, я приходил за какой-нибудь тросточкой или удилищем, которые вчера вырезал, приготовил и забыл здесь, — и встретил совершенно неожиданно старика-садовника Михея и с ним вот того мальчика, его внука, которого видел в шалаше. Я увидел их и как-то смутился: вообще один я бывал не особенно боек. Михей раскланялся со мною и начал что-то говорить своему внучонку; тот слушал его и не отходил от него, хотя тот его, по-видимому, куда-то посылал. Наконец я услыхал, что он его посылает ко мне «просить ручку».
У нас это было отцом строжайше запрещено: ни у него, ни у матушки, ни у нас, детей, никто никогда рук не целовал. Я поэтому сейчас же замахал руками, начал говорить, что это не нужно, я не дам и для пущей наглядности своего непременного решения спрятал руки назад.
— Отчего же... Это ничего... Это ему не мешает, — говорил Михей, — Он сирота...
Мальчик смотрел на меня с серьезным и внимательным выражением в глазах...
— Вот наши все смелые, — как бы про себя говорил Михей, — а прудковские такие все дички, просто страх, — И опять к мальчику: — Ну, подойди же, батюшка, попроси ручку...
Но мальчик не шел.
— Я не дам. Этого не нужно! — конфузясь, приходя в какое-то небывалое еще у меня волнение, воскликнул я.
Михей оставил его в покое и смотрел на меня, улыбаясь.
— Это ничего-с. От этого, что ж такое...
И вдруг совершенно неожиданно сказал, погладя мальчика по головке:
— Сегодня вот барышня-мадама из Прудков присылала за мною — просит, отдай, говорит, мне твоего старшего внучка; я, говорит, ему буду вместо отца-матери, потому из-за меня несчастный его отец пострадал, так я, говорит, чтобы совести моей легче было, хочу хоть одного из сирот воспитать... Да уж не знаю, как и быть, — заключил Михей.
Я что-то подумал, сообразил и спросил:
— А «она» разве здесь, в Прудках, не уехала? — удивился я.
— Здесь-с. Она ведь больная лежит совсем. Как тогда простудилась, потом выкинула на другой день с перепугу... до сих пор больная лежит... доктор приезжает.
«Выкинула — что такое?» — опять подумал я и опять спросил:
— То есть как выкинула? Что такое?
— А, значит, мертвенького родила, — ответил Михей, — не живого, а мертвенького...
Это была опять для меня новость, которую я первый раз слышал.
— Она разве тут останется навсегда? — спросил я.
— Да уж бог знает-с, — отвечал Михей и для чего-то вздохнул, — дяденька, уезжая, никакого распоряжения на этот счет не сделали. И оне сами не знают-с этого. Я спрашивал их — говорит: «Разве я, говорит, Михей, знаю что про это...» — Михей помолчал и продолжал: — Дяденька уехали и неизвестно когда будут. На войну, говорят, пойдут — война, говорят, будет... — И добавил: — Она вот, барышня-мадама-то, добрая такая, по-видимому, да и все вот прудковские-то говорят, такая уж добрая да тихая, смирная...
— Ты ее сам видел, говорил с ней? — спросил я.
— Как же-с. Я сейчас вот только оттуда. Оттого и не успел еще и здесь-то подмести.
Михей, как бы вспомнив, что россказни россказнями, а дело делом, принялся подметать площадку под липками, а я постоял еще немного, хотел еще о чем-то спросить, но не решился, взял, что мне было нужно, за чем я прибегал, и отправился домой.
Но дома я никому не сказал ничего. Только сестре Соне, оставшись с ней наедине, я рассказал о своей встрече и о своем разговоре с Михеем и его внуком.
Это вот тот самый, которого я в шалаше, помнишь, видел... И Михей говорит, «она» такая добрая, и все в Прудках говорят тоже, что она очень добрая и кроткая. Но только она очень больна...
— Что ж, это она очень хорошо сделает, если возьмет его на воспитание, — задумчиво поглядывая на меня, проговорила сестра. — очень хорошо...
XI
Вскоре как-то Богдан Карлович, доктор, опять заехал к нам навестить нас по своей обязанности. И на этот раз он заехал из Прудков: был там и по дороге заехал кстати уж и к нам. Он застал нас за завтраком, потом ездил к кому-то из больных на деревню и пробыл у нас целый день и ночевал у нас.
От него, то есть из его разговоров с отцом и матушкой, которых в этот раз урывками мне удалось много слышать, я с болью в сердце узнал грустное, тяжелое для меня известие, что «она» очень и безнадежно больна.
— Ей всего ведь восемнадцать лет, девятнадцатый... — говорил Нусбаум, — а в эти года... ужасно быстро...
— Да от чего, вы полагаете? — спрашивала его матушка. — От простуды?
— И от простуды и... все это повлияло на нее... «эта история» и этот выкидыш... Ну, и теперь вот этот отъезд Петра Васильевича...
— Да почему вы думаете, что у нее чахотка? — спросил тут же сидевший отец. — Кашляет она?
— После воспаления в легких в эти годы, если еще при неблагоприятных обстоятельствах, это очень часто... она кашляет, да, — сказал Богдан Карлович.
Потом я слышал другой отрывок из разговора. Отец рассказывал со слов дяди, как он, то есть дядя Петр Васильевич, с ней познакомился... Он знал «ее» давно уже, когда она была еще в училище, и ухаживал тогда за нею. У всех офицеров гвардейских, особенно того полка, где служил дядя, были в училище любимые воспитанницы, за которыми они ухаживали. У дяди была вот она. Он дождался наконец, когда она вышла оттуда, и прямо увез ее. Отец говорил, что это ужасные порядки, возмутительно, что там делается.
— Да чьи там дети? — спросила матушка.
— Лакеев, актеров, мелких чиновников, служащих при театре...
— Как же это допускают?
— Что?
— А вот что их увозят оттуда.
— Так принято... Мода, обычай такой...
Все это были для меня новости, которые я узнавал таким неожиданным образом, но которые заставляли меня задумываться над ними.
И потом я узнал еще в этот же раз, что фамилия ее Акимова, что она дочь какого-то маленького-маленького чиновника, сирота, матери у нее нет...
— И вот, вы попомните, он, наверно, ее бросит теперь, — сказал отец.
Богдан Карлович почему-то захохотал.
— Да-а, — уверенным и решительным тоном согласилась матушка, — надо знать Петра Васильевича!..
— О да! — подтвердил и Богдан Карлович. — Лечить просит, а самому, я вижу, все равно. Он, я уверен, не особенно будет тужить о ней, если она и умрет. Очень доволен скорей будет...
— Она очень больна? — услыхал я голос отца.
Они все сидели на террасе и говорили там, а мы с сестрой в нашей классной у крайнего окна. Анна Карловна сидела и что-то кроила или шила у стола, посреди комнаты, и ничего не могла слышать.
— Очень, и серьезно, — с расстановкой отвечал Богдан Карлович.
— И вы думаете наверно, она не останется... живой?
— То есть... как это сказать?.. но я полагаю так. У нее было страшнейшее воспаление в легких, а после этого и, как я говорил вам, если условия неблагоприятные...
— Три жертвы! За делом приезжал! — опять раздался голос отца.
— А маленький-то, которого она выкинула теперь, — поправил его Богдан Карлович.
Сестра вопросительно посмотрела на меня.
— Да, — тихо проговорил я, кивая ей утвердительно головой.
Анна Карловна не обращала на нас внимания: она ничего не слыхала.
На другой день, когда Богдан Карлович уехал, уж вечером, мы все, то есть отец с матушкой и мы с Анной Карловной, пошли в сад и оттуда зачем-то прошли на огород. Там мы встретили Михея-садовника и с ним этого мальчика — его внука. Отец что-то сказал матушке, она удивилась, и, подойдя ближе, она его подозвала, спросила, как его зовут, который ему год, и погладила по голове. Ей все почти отвечал за него Михей. Вероятно, не предполагая, что мы всё знаем о нем, об этом мальчике, матушка спросила Михея: что ж, хочет ли он его отдать?
— Да уж и сам, сударыня, не знаю, — отвечал Михей. — Оно, конечно, если так...
— Не отдавай, мой совет, — сказал отец.
— Да оно, точно... действительно... — и с ним согласился Михей.
— А куда его хотят отдать? — спросил я, как будто ничего не знаю.
— Там... в ученье, — отвечала матушка. — А те меньше? Этот самый старший? — обратилась она опять к Михею.
— Самый старшенький, — отвечал Михей. — Последнему-то еще году нет...
XII
Был уж май — роскошный, цветущий: сад, поля, леса стояли в полном уборе. Мы по целым дням не бывали дома: уйдем с утра в сад, да так там и живем: чай, завтрак, обед — все на террасе, а то и вовсе в саду же, где-нибудь тут, поближе к дому; ученье нам в это время прекращалось, так разве иногда, в дурную погоду, в дождик, чтобы не сидеть без дела, не скучать в доме, нас заставляла Анна Карловна писать под диктовку.
Мне в этом году — я уже сказал выше — было позволено ловить рыбу удочкой. Для этого я должен был кого-нибудь позвать с собою — одному не дозволялось ходить на реку. Чаще всего мне давали в провожатые старика Осипа Ивановича, дядьку, и потом денщика деда-покойника, с которым он ходил в ополчение в двенадцатом году. Но раз как-то Осип Иванович заболел или так почему-то не мог со мною идти, и меня поручили охране и надзору повара Степана, того самого заштатного дворового человека, которого посылали готовить кушанье у дяди в Прудках, когда тот только что приехал и у него не было еще своего повара.
Степан этот был великий искусник во всяких охотах. Он и с ружьем ходил и с удочкой, ставил силки зимой на куропаток, ходил с дудочками за перепелами — он знал все. Кроме того, Степан прожил почти целых две недели у дяди в Прудках, видел «ее», видел все тамошние порядки, ему все было и «это» известно. Я очень обрадовался поэтому, когда матушка сказала мне, чтобы я, за болезнью или за недосугом Осипа, взял с собою Степана. Я очень живо скомандовал, и мы с ним отправились, закинув длинные удилища на плечи.
К реке надо было идти мимо конюшни — не заводской, а той, в которой стояли езжалые лошади. Когда мы проходили мимо, я с удивлением увидал, что кому-то запрягают линейку: ни матушка, ни отец никуда не собирались — кто же это едет?
— Это кому? — спросил я Ермила.
— Нянюшке-с, — отвечал он. — В Прудки ее, кажется, посылает барыня.
В Прудки? Зачем? Что это такое? Я помню, обстоятельство это меня сильно заинтересовало, так сильно; что я чуть не вернулся домой узнать, зачем она едет в Прудки? Но Степан совершенно резонно заметил, что никакой удачи не будет в охоте, если с дороги воротиться, и мы пошли с ним дальше. Но я все никак не мог успокоиться, любопытство меня дразнило, а загадочные события, совершающиеся в Прудках, все еще не совсем мне известные и как следует понятные, невольно наводили на мысль и как бы указывали на свою связь с предстоящей экспедицией туда няньки...
Степан, к удивлению моему, сам и совершенно неожиданно начал:
— Барышня-мадама-то плоха уж очень стала... — сказал он, далеко закидывая от себя удочку.
Я посмотрел на него с удивлением и проговорил:
— А что? Разве присылали? Был оттуда кто?
— Михей-садовник... мальчишку-то своего он отдал там ей... Утром сегодня приходил, маменьке с папенькой рассказывал. Совсем стала плоха...
— Да что у нее?
— Известно — чахотка...
— Вот несчастная-то! Жалко ее...
— Как же не жалко! Известно — жалко! Если бы не она, так еще не то дяденька-то в Прудках-то понаделал бы!
— Для чего же она к себе этого Михеева внучка взяла, ведь она больна?
— Ну, такое, стало быть, ее мечтание: все покойников — Дмитрия с Василием — забыть не может, что они через нее от дяденьки пострадали.
— Да ведь она же тут ни при чем?
— Известно, ни при чем. Когда их наказывали, она слышала, как дяденька велели запороть их Максиму Ефимову... на коленях умоляла со слезами, а потом, когда дяденька сами туда пошли, она перед образом упала, молилась...
Эти подробности на меня подавляюще действовали, безвыходность, немощность какая-то сказывалась в них, и в то же время они и будили меня, хватали за сердце, и я не знаю, на что бы только я не решился, чего бы я не сказал тогда в глаза и дяде и всем, кто спокойно выслушивал это и умывал при этом руки... Я задумывался, уставившись куда-нибудь в одну точку, и у меня целые живые картины выступали перед глазами — яснее куда, чем во сне...
А Степан продолжал:
— Маменька-то сжалилась над ней... Самим-от, известно, неловко к ней ехать, к барышне-мадаме-то, потому, что же она? все-таки не равная какая: наложница дяденькина.
— Как, что?
Степан объяснил мне новое слово, которого я до того времени еще не слыхал.
Я молчал, а Степан, словно нарочно, словно решив почему-то и для чего-то посвятить меня во всю эту историю, продолжал:
— Вот они (то есть матушка), подумав да пообсудив с папенькой, и решили послать к ней нянюшку Дарью Афанасьевну — может, нужно что ей или какое у нее желание есть...
С этого ужения я пришел и возбужденный, и убитый, и страстно в то же время ожидающий и желающий узнать о последствиях нянькиной поездки в Прудки. Няньки еще не было, она не возвращалась еще. В саду я встретил только матушку: отца не было — он был где-нибудь в поле, вероятно. Сестра Соня бегала с мячиком, а матушка ходила, о чем-то рассуждая с Анной Карловной.
— Ну что, наловил сегодня много? — спросила меня матушка, когда я подошел к ней.
Я небрежно отвечал ей и спросил ее:
— А куда это нянька уехала? Мы видели, она мимо нас по дороге проехала.
Матушка пристально взглянула на меня и сказала совершенно спокойным голосом:
— В Прудки.
— Зачем?
— К больной одной.
— Кто такая?
— Там, ты не знаешь... — И добавила: — Ну иди, вон, бегай с Соней. Я хотел сказать ей тут же, сейчас же, что я все знаю, что я уже давно все знаю, но удержался, кажется, единственно потому, чтобы не сказать, от кого я это все знаю, чтобы не, стали потом выговаривать за меня Степану и чтобы я не, лишился через то свободного общения с человеком, от которого я мог и на будущее время все знать... Я промолчал, хотя и не пошел бегать с сестрой и играть в мяч.
— Я устал, — сказал я.
К вечеру нянька приехала, вернулась из Прудков. Мы сидели все на террасе, то есть опять-таки: матушка, гувернантка и мы — отца не было при этом. Нянька взошла и с постной миной, как и следует, приличествует важности возложенного на нее поручения, поглядывая на нас с сестрой, как бы указывая на неудобство для ее рапорта нашего здесь присутствия, остановилась и молчала.
Но матушка, под впечатлением ли нетерпения узнать от нее, что и как там нашла она, не заметила ли ее взглядов, забыла ли сама об этом или, наконец, просто не считала уж больше нужным держать от нас в тайне самый факт, оберегая нас лишь от скабрезных его подробностей, — спросила ее:
— Ну что, Дарьюшка?
— Плоха, сударыня... — отвечала нянька. — Ждут Богдана Карловича.
Сказала она это и опять повела на нас глазами, и на этот раз уже как-то настоятельно, так что ее требование удаления нас или, по крайней мере, уединения матушки с ней одной для выслушивания ее рапорта матушка заметила и поняла и приказала нам с сестрой идти гулять по дорожкам перед террасой. Она сказала это таким тоном, что я понял, что никаких возражений тут делать не следует, — все будет напрасно.
— Ну, все равно я завтра же все узнаю, — с досадой говорил я Соне, когда мы пошли с ней. — Завтра, как пойду удить рыбу со Степаном, все и узнаю.
— Он знает? — спросила сестра.
— Все.
— Да ведь няньку в Прудки разве к «ней» посылали? — спросила сестра.
— К «ней»... «Она» умирает. И садовника Михея внук у нее. «Она» упросила-таки отдать его ей...
И гуляя перед террасой (все ближе и ближе к ней) и потом из разговоров в этот вечер за чаем отца с матушкой, хоть и отрывочно, но многое все-таки я узнал из подробностей, привезенных нянькой. Во-первых, «она», действительно, безнадежно больна — не встает: «точь-в-точь как Клавдия Васильевна» (тетка, которая давно когда-то умерла в чахотке), потом все только и думает о том и говорит, что как бы она была рада и счастлива, если бы ей, как только она выздоровеет и поправится, позволили бы хоть на минуточку одну приехать к нам — она хочет что-то много-много рассказать матушке... Потом, что за ней приставлена Максимом Ефимовым (управляющим) ходить девка Малашка, которая все-все, с кем бы и о чем бы она ни говорила, докладывает ему, и он, таким образом, все знает, а ей нет никакого покоя, душа ее не покойна, так как перед ней целый день торчит человек — враг ее...
Но самое важное, что мы или, по крайней мере, я узнал, — это было то, что матушка остановилась на мысли «как-нибудь на днях самой к ней поехать»... Это было такое радостное, такое хорошее, милое для меня известие, что на первых порах я чуть не кинулся на шею обнимать матушку... Отец тоже говорил об этом — отрывками, я слышал, — как о факте самом обыкновенном, не представляющем ничего удивительного. Их занимало гораздо больше обсуждение того обстоятельства, что как бы этим не повредили ей в глазах дяди Петра Васильевича, который, не было в том никакого сомнения, «бросил ее» и будет рад очень случаю в чем-нибудь заподозрить и к чему-нибудь придраться...
Эта неожиданная в отношении к ней перемена, начавшаяся с посылки туда няньки, кроме радости принесла еще мне и массу забот и стараний разгадать и узнать, как и почему это все произошло и, по-видимому, неожиданно, вдруг. Я объяснил просто жалостью — она жалостлива и чувствительна была, матушка, и потом безнадежным ее состоянием. Она уже была, по общим отзывам, полумертвая, «не жилица», дни ее сосчитаны, так что уж перед ней что-то еще изображать из себя, сводить какие-то с ней счеты? Другое бы было дело, если бы она была здорова, в фаворе у дяди, он бы был в нее влюблен, она бы царствовала в Прудках, — ну тогда, конечно, и речи не могло быть о каком-нибудь не только приближении к себе, но и о допущении к себе... А теперь что ж!..
Я помню, я и тогда представлял это себе так же ясно, как понимаю это и теперь. Конечно, эта перемена произошла от вышеуказанных причин и соображений. Недоставало еще только, чтобы считались с полумертвыми уже...
XIII
Действительно, на другой день, сейчас же после обеда, в карете, нагруженной всякими гостинцами для больной, четверкой, с ливрейным лакеем на запятках, со всей пышностью и торжественностью, какая только была возможна, матушка отправилась одна в Прудки. Она, кажется, не хотела, чтобы кто-нибудь из наших домашних был свидетелем ее встречи с Акимовой. Настроена она была серьезно, понимала, что делает решительный шаг, какого она еще в своей жизни не делала, — приходила в соприкосновение с «такой» личностью, — но она была вместе с тем исполнена и сознанием своего христианского подвига и оттого имела вид кроткий, покорный, как подобает «несущей крест».
Я почему-то сообразил и даже решил про себя, что если после всего того, что произошло на этих днях, я теперь попрошусь, чтобы она меня взяла с собою, — она меня возьмет. Но я, к удивлению моему, ошибся — именно к удивлению, — хотя она и сказала мне, взглянув на меня пристально и с грустью:
— Нет, сегодня нельзя. Другой раз как-нибудь...
Я оставил, не стал приставать, настаивать, но зато во мне явилось с этих пор сознание законности моего права проситься туда поехать завтра, послезавтра, «когда-нибудь другой раз». Значит, не сегодня только, а когда-нибудь, другой раз, можно. Это было огромное для меня приобретение.
Матушка там пробыла до самого вечера и приехала оттуда совсем как больная, утомленная до изнеможения.
— Ах, — усаживаясь на террасе, повторяла она все только Анне Карловне. — Ах, что это такое, если бы вы видели...
Она почти уже не стеснялась нас, рассказывала о «ее» болезни, в каком, по-видимому, и даже наверно, безнадежном «она» состоянии; какая «она» показалась ей добрая, сердечная, кроткая: «все простила и сама сознает свое положение», — какая, наконец, должно быть, она красавица была: «глаза и теперь, до сих пор, удивительные!..»
Только некоторых соображений — не фактов, а именно соображений, которые делала и обсуждала матушка с отцом по ее поводу, — мы не слыхали; но эти их разговоры меня почему-то даже не особенно и интересовали: масса открыто рассказанных подробностей требовала столько раздумья, что и с этим я едва справлялся. А главное — признание факта подлежащим или, по крайней мере, доступным для открытого и общего обсуждения... Чуть ли не с того же вечера я начал задавать и матушке, и няньке, и Анне Карловне вопросы о «ней», и если не на все из них мне отвечали, говорили иногда, что это не мое дело, до меня не касается и проч., то ни разу меня за это не остановили или не сказали, чтобы я молчал, не расспрашивал об этом. Это совершилось как-то по молчаливому соглашению всех между собою, как необходимое последствие того, что наделал дядя и что, живя всем вместе, никак невозможно было одному скрывать от других, хотя бы эти другие и были еще только дети.
Так, матушка с отцом и при нас подробно обсуждали поведение, в отношении ее, Максима Ефимова, приставившего ходить за ней «девку Малашку» — этого «шпиона в юбке». Отец тут же решил завтра послать за Максимом, и этот Максим, действительно, к нему явился. И хотя я при этом свидании отца с ним не был и, что они говорили, во всех подробностях я не знал, но вечером на другой день, за чаем, отец с матушкой, разговаривая об этом, высказывали при нас с сестрой свое сожаление, что не сообразили, — как это не могли догадаться? — что Максим так поступает по приказанию дяди, иначе он не стал бы обо всем доносить, то есть писать ему в Петербург, а следовательно, напишет или уж написал, что в Прудки к ней приезжала матушка, а сперва присылали няньку, и все проч...
Они не боялись и делали при нас разные соображения, даже и насчет того, что подозрительным им кажется и самое лечение ее Богданом Карловичем — другом и единомышленником управляющего, с которым у него вечно какие-то общие дела по предприятиям торгово-промышленного свойства, обоим им одни и те же люди должны, и проч.
— Да, но уж это... — говорила матушка.
— Ты думаешь, если это так, то Петр Васильевич тут ни при чем? — говорил отец.
— Да, я думаю.
— Максим на все способен, Богдашка тоже... А Петр Васильевич ничего знать не знает, но будет очень рад, что так все кончилось и он отделался от нее...
Читатель может себе представить, как все это ложилось на мою детскую душу и какие понятия укладывались в голове обо всем окружающем, так же как и что это за окружающее было!..
Раз поступивши так решительно, матушка дальше уж не стеснялась и ездила к Акимовой в Прудки почти каждую неделю, а иногда и два раза в неделю. Она приезжала иногда оттуда и привозила известия, что ей как будто лучше сегодня и «вообще она как-то покойнее»... Матушке удалось даже поместить к ней свою горничную — Максим не смел же ей, сестре своего барина, противоречить в этом, — а «девку Малашку» она удалила. Но эти все подвиги ее, точно так же как привоз ей варенья, разных пирожков, сдобных булочек и проч., не много помогали. С одной стороны, болезнь, а с другой — Максим Ефимов делали свое дело. О дяде же не было ни слуху ни духу.
— Ни одного письма ей не написал! Как уехал, ни одной строчки, — говорила матушка. — Это ее убивает, кажется, еще пуще болезни.
— А Максиму Ефимову он не пишет о ней ничего? — спрашивал отец.
— Говорит, что ничего. Да разве он скажет...
— А сам он о ней пишет ему в Петербург? Ты не спрашивала?
— Спрашивала. Говорит: «Да, пишу, что больна, что ездит доктор, а что ж я сам в этом деле понимаю...» У нее он сам ни разу не был, а каждый день присылает узнать, не будет ли каких приказаний...
— Ловкий малый...
В приезды свои Богдан Карлович тоже ничего особенного не рассказывал о ней, то есть об ее здоровье, кроме того, что он говорил и раньше и что видели и понимали все и без него, — что она очень серьезно больна и он будет считать чудом, если она выздоровеет и оправится.
А я, слышавший разговор о нем матушки с отцом, где они подозревали его, все вглядывался, по своему обыкновению, ему в лицо, в глаза, в его наморщенный лоб, стараясь по ним понять его, проникнуть в его мысли, вывести для себя заключение о том, виновен ли он или нет в том, в чем его подозревают?
Но он был все такой же плоский, деланный, искусственный и так же точно хохотал противно, без всякой причины, когда и не было ничего смешного.
XIV
Был уже июль месяц. В том году он был жаркий, совсем без дождя. Уборка хлеба была в полном разгаре. Жали рожь, пшеницу, поспевал овес; все дружно поспело, почти разом, и надо было спешить убрать, пользоваться стоявшей жаркой, сухой погодой. Отца мы не видели иногда по целым дням — он все время проводил там, где работали, в поле. Он рано, до солнца, уезжал из дому и возвращался, когда уж было темно, народ кончал работать. Про такое время говорят: «день — год кормит». И так было, разумеется, не у нас одних, а и у всех то же.
Вдруг однажды утром, когда отца, по обыкновению, не было дома, он был в поле, приехал Максим — прудковский управляющий. Он был отличный хозяин, и появление его в эту пору, когда он, казалось бы, должен был быть, где и все, — на работе в поле, не могло и матушке, видевшей его, как он приехал, из окна, и всем не показаться подозрительным. Узнав, что отца нет дома, Максим хотел было уже ехать к нему туда, где он был, но матушка приказала его позвать к себе. Максим Ефимов явился с лицом, на котором, кроме обычной серьезности, было написано еще какое-то покорно-таинственное выражение, несомненно говорившее, что он приехал с каким-нибудь важным известием, по серьезному делу.
— Ты что, Максимушка? Зачем тебе барина? — спросила его матушка.
Мы были все при этом и с любопытством смотрели на Максима. Он тихим голосом отвечал:
— Приказания приехал узнать...
— Какие приказания? — удивилась матушка.
— Как насчет барышни Лизаветы Семеновны.
Матушка уж с неделю не была в Прудках, и этот ответ его и ее и всех встревожил — не случилось ли «с ней» чего?
— Петр Васильевич приказание прислали очистить от нее дом...
Буквально этими словами: я как сейчас их помню.
— Как очистить?
— Приказано-с.
— То есть выселить ее... чтобы она у вас не жила?
— Точно так-с.
Матушка тяжело вздохнула и ничего ему не ответила. Максим стоял с такой же все покорной и скромной физиономией.
— И когда же это нужно сделать?
— Сегодня-с. Они пишут, чтобы, как получу письмо, в тот же день... Утром сегодня привезли с почты. Боюсь, чтобы не быть в ответе.
— Да ведь она же больна, она встать не может, лежит...
Максим молчал.
— Куда же ты ее думаешь перевести?
— Куда прикажете...
Матушка опять замолчала и задумалась. Он что тебе пишет? — наконец выговорила она, — Покажи. Письмо с тобою?
— Не могу-с... Этого не могу-с сделать... Боюсь ответа, — все так же тихо, даже не поднимая глаз, скромно ответил ей Максим, но в его голосе слышалась бесповоротность его решения.
Он был покорен, скромен перед сестрой своего господина, но повиновался он не ей... Матушка была поставлена в невозможно неловкое положение. Она не нашлась ничего ему на это ответить, сказала только:
— Хорошо... я пошлю сейчас за барином... мы подумаем... Сейчас, Максим, я пошлю...
Максим поклонился и тихо, совсем неслышно, вышел из комнаты. Матушка велела кого-то позвать, чтобы послать к отцу с запиской. В это время в других дверях, со стороны девичьей, показалась Евпраксеюшка и, возбужденная, как бы принесшая и не весть бог какое важное известие, доложила, что пришла из Прудков Матреша от «барышни» — «ее» все в это время звали уж барышней, а не «мадамой», как было вначале. Матрешу не нужно было звать, она стояла за спиной Евпраксеюшки, и только та доложила о ее приходе, как она сама вошла. Матушка, едва сохраняя обычное присутствие духа, смотрела па нее, что она скажет.
— Матушка-сударыня, Максим Ефимов нас выгоняет, барышня не знают, что делать, к вам прислали... — заговорила Матреша и заплакала.
Было очевидно, что она опоздала, Максим Ефимов ее обогнал дорогой и предупредил.
— Писать барышня хотели — не могли. Ради Христа, говорит, Матреша, иди, скажи им... За что же это? И Дмитриева сына, мальчика-воспитанника, Максим Ефимов отнял, увел от них... Малашка теперь опять у них...
Все были возмущены, взволнованы, все жалели несчастную, и все не знали, что делать. Матреша, перестав плакать, вошла в роль, овладела вниманием и рассказывала, рассказывала... Ее все слушали, делали замечания о Максиме Ефимове, отзывались о нем как о злодее, который готов погубить кого угодно, а о главном виновнике — о дяде — все как-то или умалчивали, или отзывались почти что с сожалением, как бы он ни при чем тут и что злоупотребляют его именем и данной им властью... Может, это из деликатности перед матушкой, так как Петр Васильевич — ее брат, а может быть, это было и по их логике. Тогда была странная логика...
Часа через два наконец приехал отец. Он встретил в доме, в передней, Максима Ефимова и вместе с ним перешел в кабинет; туда же к ним пошла и матушка. Мне хотелось знать, что там будут говорить, и я пошел было с матушкой, но она меня остановила.
— Останься, — сказала она, — все узнаешь потом.
Я остался. Они пробыли там с полчаса или около того. Матушка возвратилась оттуда крайне взволнованная, прошла к себе в спальню, позвала туда няньку Дарью Афанасьевну и отдавала ей какие-то приказания, потом позвала туда же Матрешу, и они долго еще втроем обсуждали, говорили. Вскоре по уходе матушки из кабинета мы видели, как оттуда вышел и Максим Ефимов и осторожно прошел в переднюю, а потом на своей тележке уехал обратно к себе в Прудки. Отец в доме оставался еще сколько-то времени, говорил с матушкой, обсуждал что-то с ней и тоже уехал опять в поле. На конюшню вслед за тем, мы слышали, матушка послала приказание запрягать карету.
Было решено, что нянька Дарья Афанасьевна с Матрешей и выездным Никифором отправятся сейчас в Прудки и привезут «ее» к нам, что Максим Ефимов не смеет им ничего сделать, как посланным матушки, и они не должны вступать с ним ни в какие рассуждения и пререкания; что если он будет что удерживать из ее вещей — оставить, не спорить об этом, и проч.
Когда карета была готова и подъехала к крыльцу, в нее торжественно села нянька Дарья Афанасьевна — посланница, а с ней поместилась и Матреша. Никифор в ливрее встал на запятки, позади кузова. Карета тронулась, мы провожали ее из окна, а матушка с Евпраксеюшкой и несколькими другими еще горничными и дворовыми женщинами отправилась наверх, в мезонин, где у нас были три или четыре пустые, нежилые комнаты, в которых стояла ломаная мебель, запасные кровати на случай приезда кого-нибудь — вообще всякий хлам. Теперь две из этих комнат приготовляли для помещения «ее»: приказано было поскорее вымыть в них пол, обтереть потолки, приготовить кровать, собрать и уставить необходимую мебель, и проч., и проч. Все это надо было сделать сейчас же, поскорей, потому что могли приехать из Прудков, а помещение еще не будет готово. Поднялась спешка, горничные бегали наверх, а потом опять вниз, уносили, приносили; зачем-то позвали туда столяра Герасима с инструментами. Я попросился туда, и меня матушка пустила, сказав только, чтобы я там не шалил и никому не мешал, так как надо поскорее все приготовить.
Я помню, до, этого раза в мезонине я никогда не бывал; так, всходил по лестнице, видел в отворенные двери тамошние комнаты, но сам в них не бывал. Это были очень просторные и обширные комнаты, только потолок в них был несколько ниже, да стены были оклеены какими-то дешевенькими голубенькими, желтенькими, розовыми обоями... Я походил там, рассматривая разные старые вещи, поговорил с девушками и женщинами, там убиравшими, со столяром Герасимом, что-то строгавшим, приколачивавшим, и прошел опять вниз. Матушка сидела и беседовала с Анной Карловной, сестра возле них шила какое-то платье кукле.
— Но если только это правда, я не приму, — говорила, я услыхал, матушка, — ни его, ни ее... Это ужасный человек — бог с ним, нет!..
«Как это? Про кого это: «не приму»?» — бросилось мне в голову. Я стал слушать, о чем они говорят.
— Тут не может быть ни расчета — он сам слишком богат, — ни любви — теперь мы знаем его любовь, — продолжала матушка. — Женится! Воображаю, что эту несчастную ждет!..
— Как? Разве «он» женится? На ком? — воскликнул я
Матушка посмотрела на меня, помолчала мгновение и отвечала:
— Максим Ефимов говорит; я ничего не знаю. — И добавила: — И после этого я и не желаю ничего о нем знать!..
— А... — начал было я и запнулся, — а куда же денется... — я не знал, как «ее» мне называть, еще ни разу мне не приходилось называть «ее» в разговоре по имени, — а куда же денется Лизавета Семеновна, — произнес я с каким-то странным чувством в первый раз при всех ее имя.
Матушка мне ничего не отвечала.
— Она что ж?.. Ей тут будет покойнее... она может у нас жить, — сказал я вопросительно, ни к кому особенно не обращаясь.
И на это мне не последовало ответа...
Это была новая тема, новый сюрприз — известие о предстоящей на ком-то женитьбе дяди...
XV
Уж давно все было готово в мезонине, прибрано, расставлено — матушка сама туда ходила, ходил и я, ждали только из Прудков неожиданную и нечаянную гостью, а карета, поехавшая за нею, все еще не показывалась: ее можно было видеть издалека, мы смотрели, десятки раз подходили к окнам — никого не видно на прудковской дороге! Под самый уж вечер, часов в семь, когда все предположения, какие только можно было делать, были уж перебраны и обсуждены, наконец кто-то увидал и почти вскрикнул: «Едут!..» Действительно, карета ехала, медленно, чуть-чуть рысцой, казалось, она едет шагом. Начались опять предположения: пустая едет, Максим Ефимов «ее» не отпустил, «она» сама не захотела ехать, передумала? Нет, «она» просто настолько больна, до того ослабела, что, как ни покойна карета, «она» все-таки не может выносить хотя бы и самой покойной качки и самомалейших толчков... Я помню это напряженное чувство, с которым я стоял у открытого окна в гостиной и смотрел на дорогу, по которой вдали ехала наша карета... Наконец она была совсем уж близко, сейчас въедет во двор. Из окна я взглянул налево: на девичьем крыльце стояло человек пять — горничные, Евпраксеюшка, еще какие-то дворовые женщины; их зачем-то много всех было в девичьей. Поднялась, встала с своего места и матушка, подошла к окну и послала кого-то сказать стоявшим на крыльце, чтобы они махали карете подъехать к девичьему крыльцу, а не к переднему, так как «ее» надо будет высаживать и вести, а то и просто нести на руках наверх, в мезонин. Карета въехала во двор и повернула к девичьему крыльцу. Матушка пошла встречать, а за нею и мы. Все вышли на крыльцо. Когда карета остановилась и Никифор распахнул дверцы, мы увидали прежде всего няньку Дарью Афанасьевну. Она выходила первая, с серьезным лицом, исполненным важности возложенного на нее и ею исполненного теперь поручения. Со ступенек крыльца спустились навстречу ей горничные и женщины и столпились у дверец кареты, не зная, как им приступиться и взяться высаживать «ее» — это что-то полусидевшее-полулежавшее белое в карете. Кто-то полез туда, внутрь. Начали бережно оттуда тянуть, осторожно и с усилием поддерживая. И вдруг я увидел «ее» лицо: оно улыбалось — бледное, худое, с кроткими, большими темными глазами. Она, казалось, увидела матушку и кивает ей оттуда еще, из кареты... У меня пересохло в горле, я глотал слезы и посматривал на всех, как бы ожидая, что сейчас произойдет что-то страшное. Возле меня стояла сестра и, устремив на «нее» глаза, неподвижно и серьезно молча смотрела.
— Осторожно... Никифор, теперь ты помоги... под подушки берите! — услыхал я голос матушки.
Наконец из кареты ее высадили, и люди с ношей стали подыматься по ступенькам крыльца.
— Ну, хорошо, хорошо... после, не говори ничего, после, — опять я услыхал голос матушки и увидал, что она одной рукой поправляет беленький чепчик на «ней», и не столько поправляет, как гладит «ее» по голове...
У меня задрожала нижняя губа, и слезы так и брызнули из глаз, радостные, восторженные слезы, легкие, благодатные: летом дождик такой бывает — «благодатный»...
Ее пронесли мимо нас наверх, а матушка, оглянувшись зачем-то и увидав меня, слезы на моих глазах, смотрела на меня, качнула раза два головой и провела рукой по моим волосам. Я помню, что я схватил и крепко-крепко поцеловал ее руку...
Наверх пошла одна только матушка. Анна Карловна собрала нас и не пустила, сказала, что после, если матушка позволит, а теперь мы будем только мешать там, и, кроме того, «ей» надо успокоиться, отдохнуть с дороги.
Матушка долго пробыла там, наверху. Она пришла оттуда уж почти к чаю, когда и на террасе и везде зажгли огни. Там же с нею была и нянька Дарья Афанасьевна и Евпраксеюшка. Матреша, горничная наша, которая ходила за «нею» там, в Прудках, приставлена ходить за «ней» и тут. Она, как посвященная и уж опытная, знающая все, что нужно, несколько раз зачем-то приходила вниз и опять уходила к себе наверх.
Приехал и отец с поля, по обыкновению усталый, не обедавший, только закусывавший там, в поле. На террасу, где был приготовлен самовар, ему принесли в маленькой миске суп, холодное, жаркое; пришла матушка сверху. Отец ел и расспрашивал; она ему рассказывала.
— Бог с ней, пусть живет. Господь с ней — не объест. — говорил он.
Из их разговоров, из рассказов няньки Дарьи Афанасьевны, Евпраксеюшки, наконец Матреши мы узнали в этот вечер, что Максим Ефимов, «как коршун», все время стерег, пока укладывались и укладывали самое «барышню» в карету; что он, исполняя, конечно, приказания Петра Васильевича, ничего не остановил из ее вещей — все отпустил, все до последней нитки; что он не согласился только отпустить с ней мальчика Дмитриева, как она его ни упрашивала, как ни плакала; что это ее расстроило и утомило больше всего; что дорогой она никаких мучений не претерпела, потому что почти все время ехали или шагом, или легонькой рысью. Только самое главное никому не было известно — на ком и когда дядя женится... У «нее» об этом, разумеется, никто не спрашивал, да она это и знать не могла. Это он, очевидно, задумал уже после своего отъезда отсюда... Было даже строго-настрого приказано никому «ей» об этом и намеком не говорить, потому что это ее и совсем убить может, и, кто это знает, может, еще это все и вздор, выдумки дяди, и Максим Ефимов распускает их, конечно, не иначе, как по приказанию Петра Васильевича.
— И вы смотрите, пожалуйста, не болтайте об этом «ей». Анна Карловна, пожалуйста, чтобы они не рассказали «ей» об этом, а то пускать вас не будут, — сказал отец.
«Значит, пускать нас к ней будут», — про себя подумал я, услыхав это ограничение, под которым нам дозволялось, таким образом, заходить к «ней»...
Но в этот вечер уже ни я и никто, даже матушка, к ней не ходили. Приходила оттуда, от нее, зачем-то к матушке Матреша-горничная, но матушка сказала ей, чтобы «она» ни о чем не беспокоилась и не думала, а спала бы себе — это важнее всего, и приказала Матреше, когда ей надо что или она ее пошлет за чем-нибудь вниз, одну не оставлять, а посылать пока туда какую-нибудь девочку...
Усталый от всех впечатлений дня, я тоже эту ночь заснул как убитый — почему-то радостный, довольный...
XVI
Было, должно быть, очень еще рано утром, когда я проснулся вдруг. Шел дождик; мокрые листья и ветки лип, росших у нас перед самым домом, бились по ветру и трепались по оконным стеклам. В комнате был тот скучный, серенький свет, который бывает ранним дождливым утром. Все еще тихо было; все, по-видимому, еще спали в доме. Вдруг я заметил, что дверь в соседнюю комнату, где спала сестра с нянькой нашей, отворена, и смятая кровать няньки, которая стояла у противоположной с дверью стенки, пуста, и няньки нет в комнате. Я потихоньку, осторожно спустил ноги на пол, встал и на цыпочках подошел к двери, заглянул в комнату — няньки не было. Куда она девалась? Я возвратился к своей кровати, постоял, подошел к окну, посмотрел на деревья в саду — все мокрые от дождя, — на песчаные дорожки, на которых образовались дождевые лужи с пузырями, и только что хотел было опять ложиться еще спать, как мне показалось, что в смежной с моею другой комнате, в которой была лестница наверх, в мезонин, скрипнула деревянная ступенька на лестнице. Я стал прислушиваться — тихо все. Я подошел к этой другой в моей комнате двери, за которой, мне показалось, я слышал шаги и голоса, и осторожно отворил ее немного. В комнате, и так обыкновенно довольно темной, теперь, ранним дождливым утром, было и совсем почти темно. Никаких голосов не слышно... Но там, дальше, в отворенную из этой комнаты дверь в гостиную, я явственно расслышал чьи-то осторожные шаги и голоса, говорившие торопливо, что, трудно было разобрать; но, опасаясь, как бы меня не увидали, я опять притворил дверь. В голове у меня было бог знает что. Я ничего не знал, что такое, но что-то несомненно, случилось — кто-нибудь приехал, заболел. Я лег на свою кровать и стал дожидаться, не услышу ли чего, не войдет ли ко мне кто. Скоро дверь из этой комнаты, где была лестница наверх, отворилась, и вошла нянька в одной юбке, в кацавейке, накинутой на плечи. Я хотел было почему-то притвориться, что сплю, но повернулся, не успел, и когда она, войдя в комнату, остановилась и стала смотреть на меня, я открыл глаза и спросил ее:
— Что такое? Там что такое?
— Почивайте. Ничего... Теперь слава богу...
— А что такое было?
— Ничего. С «барышней» было худо сделалось. Теперь ничего, все слава богу...
— Что ж с ней было?
— Ничего. Кровь было пошла у нее горлом, — тревожным шепотом произнесла она.
Я послушал-послушал, ничего не мог от нее узнать толком.
— Теперь остановили, слава богу. Ничего, почивайте...
— А мама там?
— Там были. Теперь ушли. Почивайте. За доктором послали... Ей, бог даст, хорошо теперь будет...
Нянька ушла, сказав еще раз: «Почивайте, ничего», а я повыше подложил подушку под голову и задумался, глядя на мокрые от дождя стекла, на ветки, которые бились в них и с шумом трепались по ветру.
Но на рассвете так сладок бывает сон, и я опять заснул...
В обычное время, в девятом часу, когда все встали, проснулся и я и первым делом спросил:
— Ну что там, наверху?
— Ничего. Теперь все слава богу.
Мы прошли с Анной Карловной и сестрой в столовую пить чай, и там уже сидели матушка с отцом. Он не поехал в поле — по случаю дождя там никаких не было работ. Они оба сидели нахмуренные, встревоженные, говорили отрывочными фразами, и вскоре, неожиданно совсем для нас, отец сказал:
— Анна Карловна, вы, как чаю напьетесь, займитесь, пожалуйста, с ними: дождик, в сад нельзя — что ж они будут тут ходить...
Этого он никогда не говорил, он в это не вмешивался, а тут вдруг... Значит, уж что-нибудь очень его растревожило и ему хотелось остаться одному. Анна Карловна собрала нас и увела в классную.
Вскоре мы узнали, что приехал доктор, но не Богдан Карлович, а новый, какой-то другой, еще молодой и, как нянька говорила, такой из себя видный, высокий, красивый, должно быть из «хохлов». Он вместе с матушкой почти все время до обеда просидел наверху, у больной; послали в город за лекарством, которое он прописал; наверх носили какие-то тазы, простыни, чем-то смоченные, вообще — там происходило усиленное принятие лекарственных мер. Обо всем об этом мы узнали от няньки и от других, приходивших к нам в классную. Раз зашла и матушка и на вопросительный взгляд Анны Карловны, обращенный к ней, отрицательно покачала головой. Потом они обе вздохнули и заговорили о постороннем.
За обедом мы наконец этого нового доктора увидали. Фамилия его была Захарченко, и звали его Александром Павловичем. Он, действительно, был и очень красив и сразу нам понравился своей простотой и веселостью. Он один был весел за обедом, составляя живой контраст с отцом, который сидел какой-то рассеянный, как бы от какой-то мысли, занимавшей его и поглотившей все его внимание, и матушкой, с постным лицом угощавшей доктора и поминутно вздыхавшей.
Почти сейчас же после обеда приехали, воспользовавшись свободным временем, по случаю дурной погоды, ближние наши соседи целой семьей — с детьми и гувернантками. Хоть и не подходили теперь гости ко всей обстановке и господствовавшему в нашем доме настроению, но нельзя же было отказывать, и потом, они привезли с собою все-таки хотя немного живого воздуха: явились свежие, веселые лица. Жизнь берет свое и тогда даже, когда рядом, на виду у нее, смерть делает свое дело. Александр Павлович, доктор, остался тоже у нас в ожидании возвращения из города посланного с лекарством. Он, вместе с матушкой и приехавшей к нам соседкой, пожелавшей тоже посмотреть интересную больную, опять ходили наверх, и так как нового и вообще никакой там перемены в состоянии больной не произошло, даже, напротив, она была как будто бы покойней и вообще казалось, ей немного лучше, то, по их возвращении оттуда, мало-помалу стало свободнее и веселей и у нас внизу. Александр Павлович, доктор, сел за фортепьяно и заиграл что-то. Матушка спросила его, не обеспокоит ли это больную, он улыбнулся и отрицательно покачал головой. Он отлично пел, — это знали — и его стали просить что-нибудь спеть. Он охотно согласился и запел. Все наконец совсем оживились. В антрактах между пением он заиграл какую-то польку или вальс, и нас, детей, вместе с приехавшими гостями-детьми заставили танцевать. Во время этого водворившегося мало-помалу у нас беззаботного и веселого расположения с верху к матушке пришла Матреша и подала ей какую-то записочку. Матушка прочла ее, улыбнулась и стала просить Александра Павловича спеть какой-то романс. Записку прислала «она», с верху, и спрашивала: не поет ли такой-то романс доктор? Если поет, то нельзя ли спеть... Он сейчас же охотно согласился, взял несколько громких аккордов и запел. Чтобы «ей» лучше было слышно, двери в комнату, откуда шла лестница к «ней» наверх, отворили. «Она», таким образом, как бы принимала участие вместе с нами в веселье... После этого все пошло еще непринужденнее, веселей. Матушка ходила опять к ней наверх и принесла известие, что «она» там оживилась и благодарила все, что ей романс спели и вообще веселятся, поют и играют...
Приехавшие гости-соседи остались у нас ужинать; погода прояснилась — было только сыро от дождя. Приехал посланный из города и привез лекарство и с почты письма, газеты и журналы, которые тогда, кажется, один отец во всем уезде и получал... После ужина, прошедшего довольно живо и весело, уже поздно, в полночь, уехали соседи, и с ними уехал и доктор Александр Павлович, предварительно сходивший еще раз к больной и сделавший распоряжения, как и какие давать лекарства и в каком случае. А нас, детей, увели, уложили спать, и мы заснули самым безмятежным сном...
XVII
Утра следующего дня я никогда не забуду... Мы проснулись и встали, как обыкновенно, в девятом часу. Я помню, кажется, еще спросил кого-то: «Что там, наверху?» — и мне ответили, что ничего, все по-прежнему. Но когда мы были уж совсем готовы и хотели идти в столовую к матушке пить чай, вдруг вошел Никифор-лакей с подносом, на котором были налитые наши с сестрой чайные чашки и чашка Анны Карловны. Я в недоумении остановился — что это такое? Никифор ничего не отвечал на мой вопрос, обращенный к нему, а Анна Карловна сказала, что в столовой есть кто-то, при ком матушка не хочет, чтобы мы выходили. Этого никогда не бывало прежде, и сказала она это как-то странно-подозрительно...
— Там кто? — спросил я Никифора; но тот уж уходил и опять ничего мне не ответил.
Было что-то во всем этом необъяснимо-странное, и не только странное, но тревожное, загадочное. Няньки и вообще никого, кроме Анны Карловны, с нами не было. Как только мы напились чаю, она сейчас же пошла с нами в смежную, рядом с детской, комнату, классную, хотя погода в этот день была солнечная и, следовательно, по летнему положению мы должны бы были с ней идти гулять в сад, а вовсе не заниматься.
— Сейчас маменька придет и отпустит вас, — сказала она в ответ на мой вопрос, — а теперь пойдемте.
Я повиновался. Сестра тоже как-то странно и удивленно поглядывала на нее и на меня.
Наконец мы уселись вокруг стола, достали наши тетрадки, и Анна Карловна начала нам диктовать. Прошло с полчаса. Я писал, путал, ошибался, совсем не то у меня было в голове, предчувствие чего-то нехорошего не оставляло меня и моих мыслей в покое. Я помнил, что года два тому назад, когда нашли в саду зарезанную ночью жену повара Степана (ее зарезал молодой малый, конюх, «из любви»), нас тоже не выпускали никуда из классной, пока не кончилось все, то есть похороны ее. Я писал, а сам все думал, подыскивал причины, почему мы сидим теперь и нас не пускают гулять в сад?.. В классной окно было отворено, и это еще больше манило в зелень, в тень; все так блестело на солнце, деревья стояли такие зеленые после вчерашнего дождя, воздух такой чудный, свежий-свежий, душистый — липы цвели... Вдруг в саду, под самыми нашими окнами, кто-то пробежал, и вслед за тем голоса:
— Евпраксия Егоровна! — услыхал я голос Матреши. — Что ж вы не идете? Идите же... барыня ждут одевать покойницу...
Я вскочил с места, выглянул в окно, мимо проходила Евыраксеюшка« старуха, и с ней Матреша.
— Кто покойница, какую покойницу? — Крикнул я им.
Матреша с заплаканными глазами вскинула на меня свое лицо.
— Барышню, Лизавету Семеновну, — моргая глазами, на которых блестели слезы, отвечала она.
Вокруг меня уже стояли сестра, Анна Карловна, откуда-то явившаяся вдруг нянька, Дарья Афанасьевна, и они что-то говорили. Анна Карловна выговаривала, упрекала — я ничего не слыхал, не понимал, не слушал их: я был весь под влиянием того, что я услыхал, узнал сейчас... Они, должно быть, поняли, догадались наконец, что упрекать меня теперь не время вовсе, и принялись уговаривать и успокаивать.
— Ну что ж, видно, уж богу так угодно было. Ей, может, там, на том свете, лучше будет... Что ж делать — видно, так судьба уж...
Я посматривал на них и как-то не то чтобы успокоился после первого известия, поразившего меня, а словно как бы одеревенел.
— Она когда же умерла? — спросил я.
— В восемь часов... утром.
— Это мы уж встали, проснулись, — про себя соображал я вслух.
В это время я увидел сестру Соню. Она стояла тут же и плакала, смотря на меня и утирая платочком слезы.
— Тебе ее жаль? — спросил я.
— Жа-а-ль, — ответила она.
— Да как же не жалко, всем жалко, — говорили и нянька и Анна Карловна. — Бог прибрал — видно, он лучше знает, что делает.
Потом пришла матушка. Что-то она нам говорила, объясняла, — я ничего не помнил и не понимал. Потом приходили и другие женщины, горничные. Эти рассказывали одна другой какие-то подробности, как она умирала и умерла. Потом я видел или слышал, как приезжали попы, носили восковые свечи, к нам в классную откуда-то проникал запах ладана. В таком состоянии я пробыл до вечера. В сумерки я задумался, глядя в окно, в сад, и у меня вдруг хлынули слезы, неудержимые, горячие, и мне вдруг все стало словно яснее, словно сейчас только явилось у меня сознание и я начал понимать, что кругом меня делается... Меня никто не останавливал, не уговаривал, не успокаивал, все как будто даже делали вид, что меня, или, по крайней мере, того, что я плачу, не замечают... И вдруг какое-то горькое-горькое чувство, как от оскорбительной неправды, обиды, наполнило душу мне... А еще немного погодя я уж ощущал в себе какое-то сильное, сознательное, смелое до дерзости, до вызова, порывистое, решительное чувство... Против кого? Если бы меня тогда спросили, едва ли бы я сказал: «против дяди!..», хотя и его и его управляющего, Максима, имена и не выходили у меня из головы... Я и на Анну Карловну, смотрел как на обидевшую меня тем, что скрыла от меня истину, и на матушку — с упреком, что и она не поняла меня, не пожалела меня, не сказала, и на всех этих назойливо-досадных девушек и женщин, которые и плакали и вместе с тем судачили, болтали, интересуясь такими все пустяками и глупостями!..
Вечером в комнату к нам пришел отец, мы не видали его целый день (обедать нам приносили сюда, в детскую), и, заметив наше уныние и подавленное настроение, начал было бодро что-то рассказывать и даже попробовал смеяться, шутить с нами; но из этого ничего не вышло. Он понял это и сказал:
— А жалко ее, бедную...
Посидел, поговорил еще о чем-то и ушел...
На третий день утром, часов с девяти, в доме поднялась суета. Мы из окон смотрели, как покойницу выносили, то есть мы видели только гроб ее, — как с того же крыльца, на которое, только четыре дня перед тем, ее вносили больную, в надежде, что она проживет у нас и покойнее и дольше, теперь, так же осторожно, взявшись целой кучей, спускали ее гроб, обитый яркой материей с золотыми на нем крестами. Потом этот гроб понесли через двор. А затем, когда люди с ним были едва видны по дороге, к крыльцу подали экипаж, и в нем, вместе с нянькой и Евпраксеюшкой, уехала в церковь и матушка...
Дня через три или четыре после похорон вдруг, совершенно неожиданно, приехал к нам дядин управляющий Максим Ефимов. Был дождик, гроза, и мы сидели все в доме. Отца не было дома, он был в поле; Максима Ефимова позвали к матушке, он вошел и остановился в дверях у притолки: он был смущенный и, видимо, имел какое-то важное известие сообщить. Матушка, увидав его, вероятно под впечатлением все еще не забытой драмы, холодно и с достоинством, не допускавшим никакой развязности с его стороны, коротко спросила:
— Что такое?
— От Петра Васильевича письмо-с.
— Подай.
Максим Ефимов подал, матушка начала было читать, но сейчас же сказала:
— Да это к тебе?..
— Точно так-с... Они пишут насчет покойницы... Деньги приказали ей передать... или, если не застану их в живых, переслать родным ее.
Матушка нервно рассмеялась;
— Скажите, какой благодетель! Как это великодушно! Как это порядочно!.. Деньги предлагает!.. Деньгами думает...
Но с ней сделался истерический припадок, и она, вынесшая, по-видимому, так спокойно всю эту страшную драму, теперь плакала и рыдала как ребенок, всхлипывала, слезы ручьями так и текли у нее по щекам...
Деньги эти куда-то потом отправили...
Я помню тоскливую пустоту и какое-то одиночество всех, долго царившее потом в нашем доме...
— Вот, — говорили все, — всего ведь только сутки живая-то у нас прогостила, а как увезли ее, скука какая стала без нее, точно и век тут жила.
— Похоронили ее, что ж, честь-честью, — говорили тоже все, — теперь бы вот еще памятничек если бы какой... совсем бы как настоящую дворянку.
Помню я, когда и этот «памятничек» ей устроили. Это было в субботу, а в воскресенье мы были все в церкви и ходили смотреть его: большая плита, и на ней черными буквами: Лизавета Семеновна Акимова, родилась 15 апреля 1833 года, скончалась 19 июля 1852 года.
О дяде из Петербурга, через родственников и знакомых (сам он к нам не писал), получались сведения всё самые утешительные. Он помолвлен был на вдове, княгине С., очень богатой и, говорили, красавице. На каком-то смотру, на параде или разводе, государь выделил его из толпы, подозвал, милостиво разговаривал с ним, сказав, что надеется, что он и на войне, куда отправлялись тогда многие гвардейские офицеры охотниками, отличится, и тут же поздравил его с милостивым и блестящим назначением.
ДВОРЯНИН ЕВСТИГНЕЙ ЧАРЫКИН
I
По дороге в Покровское, имение бабушки, куда мы приезжали каждый год два раза, весною, ко дню ее именин, и осенью, на Покров, престольный праздник, особенно ею чествуемый, — нам приходилось проезжать через большое село Всесвятское, сплошь состоявшее из мелкопоместных. Маленькие усадебцы с домиками и надворными строениями, крытыми соломой, при них садики с густо разросшимися яблонями, грушами, вишнями, рябиной, черемухой, сиренью, а невдалеке три-четыре крестьянских двора — их крепостные. Из таких усадебец, вперемежку с крестьянскими избами, состояло все Всесвятское. Когда-то давно оно принадлежало трем помещикам (земли которых сходились тут клиньями), поселившимся невдалеке друг от друга, по причине красивой здешней местности, а также чтобы жить было веселее, люднее, не в одиночку, в глухой степи. Но это было давно, и с тех пор наследники их, множась, поделили их земли, расселились и обстроились каждый отдельно, и оттого стало во Всесвятском такое множество помещиков, хотя все они носили всего три фамилии: Зыбиных, Чарыковых и Неплюевых.
Едем мы, бывало, мимо этих их усадебец, смотрим в окна кареты и слушаем, как матушка с нянькой нашей говорят: «Вот это Ивана Ивановича Зыбина усадьба... А это вот Петра Ивановича... А это Раисы Степановны, вдовы Василия Ивановича...» Проедем Зыбиных, начнутся Чарыковы, и опять они говорят: «Вот это усадьба Григория Григорьевича Чарыкова... А это вот Евстигнея Григорьевича...» Кончатся Чарыковы, пойдут Неплюевы, и опять та же история. Очень много было этих усадебец, и почти все одинаково маленькие, полуразвалившиеся, с заросшими садиками. Только две или три между ними были хотя несколько побольше и попривольнее, то есть сколько-нибудь походили на обыкновенные помещичьи усадьбы средней руки.
Проезжая, мы видали некоторых из владельцев, расхаживающих у себя по двору в красных рубахах, совсем как кучера, или в широких грязных парусинных пальто, как старые повара, дворецкие отставные и прочие заштатные дворовые[35]. Видали и их жен вдали, сидевших в усадьбе или на берегу, окруженных бедно и грязно одетыми детьми.
Но они все живо чувствовали себя дворянами, потому что мужики их, вообще их крепостные, как мы видели это из кареты, стояли перед ними без шапок, а они, напротив, расхаживали и сидели с важностью, не забывая своего достоинства.
Это, однако, нисколько не мешало нам и теперь, проезжая мимо них, и дома слышать рассказы о их драках, как люди какого-нибудь Зыбина, по приказанию своего господина, побили кого-нибудь из Чарыковых, или наоборот. Друг с другом все они были постоянно в ссорах, и хотя никто из них у нас не бывал, но слухи об этом и о их взаимной вражде и побоищах нередко доходили до нас. Мы знали также, что большинство из них не только без всякого образования, но даже прямо безграмотные, не умеют ни читать, ни писать.
И люди у них были всё самого жалкого вида, какие-то несчастные, забитые, запуганные, оборванные, грязные. Крестьянские избы были у них совсем закоптелые — черные лачужки с крохотными закоптелыми же окнами и с обнаженными крышами, точно после пожара.
— И живут у них люди хуже, чем на каторге, — слышали мы, рассказывала про них нянька.
— Самим есть нечего, и людям тоже, — отвечала ей на это матушка.
Но мы слышали однажды и целое большое рассуждение об этих всесвятских помещиках. Был у нас однажды дядя Сережа, брат отца, который был в то время предводителем, и при нем кто-то приехал из соседей и рассказывал, что сейчас, проезжая по Всесвятскому, видел возмутительную сцену — драку Зыбиных с Чарыковыми, в которой принимали участие и их крестьяне, вооруженные чем попало и бившие господ тоже по чем попало.
Этот сосед приехал перед самым обедом, и когда сели за стол, он начал рассказывать.
Слушая его, дядя был возмущен и все говорил, что допускать существование подобных дворян — это значит позорить всех остальных, все сословие.
— Но что же с ними делать? — возражали ему.
— Приписать их куда-нибудь, к другому какому-нибудь сословию. Те сословия податные — им все равно.
— Но это значит лишить их дворянского звания.
— Об этом я и говорю.
— Но тогда, по произволу, можно будет, чуть что, и других лишать дворянского звания.
— Непременно!
— Но к чему же тогда это поведет?
— А вот к тому, что этой срамоты не будет.
— Все равно они будут драться.
— Но тогда не будут говорить, что это дворяне дерутся. Позора сословного не будет, соблазна не будет. Мужики, мещане дерутся, это ничего, это низшие сословия, податные; но дворяне, господа, вы не забывайте, ведь это высшее в государстве сословие, оно владеет крепостными людьми, оно несет государственную службу, оно ставится примером для всех других сословий, и вдруг этакие представления, и еще с участием в них их крепостных людей!.. Какое они могут иметь уважение к дворянину? Эти господа своим недостойным поведением не только себя роняют, но они подрывают в народе уважение к дворянству вообще.
Дядя очень долго говорил, и так как он был очень умный человек, о чем мы постоянно слышали, то его слова невольно нами запоминались, и мы, слушая его, соглашались с ним и так его глазами смотрели на всесвятских помещиков, и без того казавшихся нам нисколько не симпатичными.
Этот взгляд на дворянское достоинство, на словах по крайней мере, тогда был общий, всеми исповедуемый, и если запоминались рассуждения об этом собственно дяди, то это потому только, что он говорил необыкновенно торжественно, красноречиво, и так как он был авторитетный человек, то слова его были для всех законом, который, конечно, можно было и нарушать.
II
Никто из всесвятских помещиков, как я сказал уже, у нас не бывал, и вообще мы с ними не были знакомы. Но у соседей мы встречали некоторых из них. С нашим и вообще с чьим бы то ни было приездом они исчезали куда-то, а соседи, у которых они были, рассказывали потом, какие они несчастные, жалкие и какие вместе с тем необразованные и вообще невоспитанные.
— Вообразите, рассказывали те, у которых они были, которые их принимали или допускали до себя, — вообразите, невозможно за стол с собою посадить: сморкаются в салфетки, едят руками... А между тем ведь все-таки и неловко как-то но принять, не посадить с собою: все-таки ведь дворяне...
И они точно сами сознавали свое ничтожество и, говоря по-старинному, свою подлость перед крупными, или, по крайней мере, более или менее крупными в сравнении с ними, помещиками.
Бывало, едем куда-нибудь, дорогой вдруг встречается в тележке в одну лошадь или на беговых дрожках кучер не кучер, дворовый не дворовый, сворачивает в сторону, кланяется. Ему едва отвечают и спрашивают лакея, сидящего на козлах:
— Это кто?
— Всесвятский барин.
И называет одну из трех фамилий.
А то встретится, бывало, в тележке парой целая семья таких помещиков. Сам глава семьи сидит на облучке и правит, а в тележке жена, дети и с ними, в качестве няньки, какая-то баба.
Но особенно возмутительное чувство, с дворянской точки зрения, вызывали их дети, бывшие уж на возрасте. Сыновья по виду и по всему — совершенно конюхи, охотники из псовой охоты; дочери — поповны, мещанки подгородные, горничные.
Старики были все-таки приличнее как-то, вежливее, умели хоть заискивать, а эти были совершенно дички: при встречах притаивались, прятались за сидевших с ними мужиков, вообще старались избегать всех встреч и точно боялись, чтоб с ними не заговорили.
Однажды на какой-то плотине мы вышли из экипажа — плотина была узкая, пристяжных отпрягли, и их вел в поводу бывший с нами лакей. Впереди с одними дышловыми ехала карета, за ней мы шли, а позади лакей вел в поводу отпряженных пристяжных. Когда мы переправились через плотину и кучер остановил лошадей, чтобы снова припрячь пристяжных, и мы усаживались в карету, невдалеке в кустах мы увидали какую-то тележку и в ней мужика и кого-то, точно прятавшегося за ним. Лакей, которому было неловко припрягать одну лошадь и держать в поводу в это время другую, крикнул сидевшему в тележке: «Что сидишь-то, иль не видишь? Трудно небось сойти помочь?» Прятавшийся за мужика слез с тележки и помог припрячь пристяжных. Это был один из молодых всесвятских помещиков, малый лет восемнадцати, краснощекий, в розовой ситцевой рубашке, совсем конюх.
— Это какой же? — потом спросила матушка лакея, и он назвал ей одну из всесвятских фамилий и сказал, чей это сын.
Другой раз подобным же образом, то есть тоже как-то в дороге, на постоялом дворе, где мы кормили лошадей, — мы повстречали какую-то не то мещанку пригородную, не то дочь чьего-нибудь управляющего, девушку замечательной красоты, но совершенно простую и по одежде и по манерам. Матушка справилась, кто это, и она оказалась дочерью тоже какого-то всесвятского помещика.
Матушке очень понравилось ее лицо, и она потом долго все вспоминала о ней, говорила, что как это все-таки сейчас видна благородная кровь. Я, помню, слушая ее, все удивлялся, почему же она тогда не узнала по этой благородной крови сразу, кто она такая...
Ближе мы не подходили к ним, короче мы их не знали, и они такими мне представлялись, какими я вот их описываю: отчасти любопытными, отчасти жалкими и вызывающими полубрезгливое к ним отношение.
С годами я узнал их лучше, потому что узнал покороче и осмысленнее стал вообще относиться к обстановке и нашей жизни и их и увидал, что разница вся тут только в средствах.
III
Я был уже в пятом классе нашей губернской гимназии, где я учился, и приехал на рождественские праздники домой, в деревню. В эту зиму, тотчас после праздников, должны были быть дворянские выборы[36]. Дома я застал отца и всех приезжавших к нам соседей, всецело поглощенных этими выборами. Толковали, кого выбрать в предводители, кого в судьи, в исправники, в заседатели и проч. Взвешивали шансы одних, права, их достоинства и недостатки, потом принимались за других, расценивали и подробно рассматривали этих. Но так как, в сущности, все дело было в том, у кого больше сторонников, чья партия сильнее, то все эти расценки достоинств и недостатков намеченных или предполагаемых кандидатов на все эти должности в конце концов сводились на сосчитывание шаров, кто сколькими располагал или кто на сколько шаров мог рассчитывать.
И вот при этих сосчитываниях и расчетах я то и дело, не без удивления для меня, слышал, как всё повторялись фамилии всесвятских помещиков.
— У Зыбиных один купон.
— Нет, они в этом году два составят.
— Это как же?
— А очень просто: у них у всех оказывается двести пять душ.
— Вот так сюрприз!..
— Это что такое купон? — спросил я как-то.
Мне объяснили.
Из этого объяснения и из дальнейших их разговоров и споров я понял, что обитатели Всесвятского, всесвятские помещики, все, в общей сложности, представляют в некотором роде силу, так как все они образуют четыре купона, следовательно имеют на баллотировке четыре шара, что в общем числе всех двадцати шаров в уезде вовсе не пустяки, и в спорах и в рассуждениях о шансах на выбор того или другого кандидата совсем не напрасно так постоянно и настойчиво их вспоминают. Они настоящая сила, которой нельзя пренебрегать, и ими в данном случае и не пренебрегают. Ими пренебрегают вообще, в смысле знакомства с ними, но теперь, во время баллотировки, ими нельзя и не следует пренебрегать. Ими надо заручиться. Они могут в решительный момент дать тому или другому кандидату перевес.
Вместе с этим я услыхал и фамилии знакомых помещиков, которые, как говорили, заигрывают с ними, ласкают их, помогают им и обещают еще больше помочь в случае получения их содействия на предстоящих выборах.
Это была новость, которая меня заинтересовала, и я не без любопытства следил за разговорами о предстоящих выборах, интересуясь главнейше этим ухаживанием за захудалыми и находившимися все время в общем пренебрежении всесвятскими помещиками.
Вскоре как-то у нас был «дядя Сережа», так громко возмущавшийся поведением всесвятских помещиков и доказывавший, в интересах поднятия дворянского достоинства, необходимость их уничтожения, разжалования их из дворян. У дяди были соперники. Кроме того, дела у него порасстроились за время его двукратного предводительства, а между тем ему хотелось быть вновь избранным и на этих предстоящих выборах.
И вот, за тем же обеденным столом, за которым он тогда так ораторствовал против всесвятских помещиков, называя их не дворянами, а сбродом, я услышал уж совсем другое о них.
— А я сейчас был в Всесвятском, — сказал он. — Несчастные!
— А что? — спросил отец, и, мне показалось, как будто стараясь не встретиться с дядей глазами.
— Ужасная беднота!
И, помолчав немного, дядя продолжал:
— Вот настоящая обязанность правительства помочь кому — это им! И в самом деле, мало разве у нас казенной свободной земли, мало разве у нас государственных крестьян?.. Я не говорю, чтобы им дать по нескольку тысяч десятин земли, по нескольку сотен душ, но дать им столько, чтобы они могли быть самостоятельными хоть на выборах.
— Это значит, по сто душ? — заметил кто-то.
— Ну конечно, — ответил дядя.
— И по тысяче десятин земли?
— Да, около.
— Чтобы всесвятские помещики имели, если их всех сосчитать, тысяч тридцать десятин земли и тысячи три душ?
— По крайней мере, дать некоторым из них, которые приличнее держат себя.
— То есть тем, которые посытее и теперь?
Кто-то из обедавших соседей при этом ядовито заметил дяде, сказав:
— Я бы на вашем месте, Сергей Павлович, обещал им, в случае избрания, поднять этот вопрос, начать для них об этом ходатайство. Тогда они, наверное, были бы все за вас...
Дядя дал этому замечанию шутливый характер, но оно, видимо, было неприятно для его самолюбия, так как укололо его в больное его место — заискивание у всесвятских помещиков, что он скрепя сердце делал, лишь бы только ему быть вновь избранным.
— Ничего, — заключил сосед, — выберут вас и без них, да и они что же могут иметь против вас?
— Я вовсе не за этим ездил в Всесвятское, — вспыхнув, возразил дядя, — а по должности предводителя, так как я обязан же был вновь повторить им их права, разъяснить их обязанности. Ведь вы знаете, в каком они состоянии: они от нужды совсем одичали почти.
— О! Это они, будьте покойны, отлично все знают и понимают. Это вы напрасно трудились. Они отлично понимают и знают, что теперь, во время выборов, и они не последняя спица в колеснице. Свои нрава и свои интересы они понимают нисколько не хуже кого бы то ни было.
IV
Но дядя был, видимо, раздражен и настаивал все на том, что это совершенно напрасно его подозревают в заискивании не только у всесвятских помещиков, но и у кого бы то ни было.
— Я не отказываюсь и должен служить дворянству, — говорил он, — как я служил и эти два трехлетия, но только я шагу не сделаю, чтобы самому подготовлять свое избрание. Хотят меня выбрать, пусть выбирают, но сам я ничего для этого не намерен делать.
Однако он не без сожаления сообщил, что его противник, тоже кандидат на предводителя, за день до него был вовсе уж не для какой обязанности, а прямо чтобы заручиться содействием, в Всесвятском и там пообещал одному определить сына на казенный счет, другому — дочь, третьему — местечко смотрителя магазинов, четвертому — протоколиста опеки, и проч., и проч.
— Это кто же вам говорил? Откуда же вы это знаете? — ^ спросил его сосед.
— Они же сами всё это мне выболтали.
— По какому случаю?.. Как зашел у вас с ними об этом разговор?
И сосед, улыбаясь, углубился в тарелку.
— Я их сманивал обещаниями на свою сторону, а они торговались и сказали мне, что Александр Николаевич (его противник, другой кандидат на предводителя) обещал им больше, — ответил ему дядя, зло и с презрением посматривая на него.
Сосед ничего ему не отвечал и только пожал плечами, дескать, к чему это, разве я на это намекал.
Но и все и я понимали, что он на это именно, а не на что другое, намекал, и хотя заискивание у всесвятских помещиков перед баллотировкой и было, как оказывалось, обычное явление, однако положение дяди было неловкое.
В моих же собственных глазах это противоречие дяди в рассуждениях о всесвятских помещиках и теперь изворачивание и запирательство в действительной причине его поездки к ним уронили его в моих глазах, и с этих пор он перестал быть для меня авторитетом.
А потом, позже, уж летом, я узнал, что всесвятские эти помещики дорого ему стали. Его выбрали-таки при помощи их, но он раздарил им кому лошадь, кому двух, кому дал прямо денег и, кроме того, надавал всяких обещаний относительно разных определений на службу и помещения детей их в казенные учебные заведения на дворянский счет.
Но с избранием его кончились и всякие его с ними любезности, и он в качестве предводителя уж более не находил нужным заезжать к ним и объяснять им их интересы и права.
Так обыкновенно все поступали, так поступал и он, исполнив, разумеется, относительно их все свои обещания об определениях и помещениях, благо это ничего ему не стоило.
V
Дядя Сергей Павлович жил верстах в шестнадцати от нас. Имение его, Павловское, по усадьбе, по обширному и богатому дому там, по всем удобствам и затеям, считалось одним из наилучших в губернии.
В Павловском были пруды, наполненные удивительными карпами и карасями. В парке были устроены отделения для диких коз, для лосей, которые водятся в северных уездах нашей губернии, откуда привозили их ему маленькими, и он их выращивал. Были отделения и для зайцев, и для молодых и старых лисиц, для молодых и старых волков. В парке же у дяди был устроен и медвежатник — огромная яма, обнесенная высоким частоколом, в которой жило пять или шесть медведей, лазавших очень ловко на стоявшее посреди ямы подобие дерева и оттуда просивших себе подачки или водки.
В саду и по двору ходили, гордо выступая, павлины с роскошными длинными хвостами, на которых изумрудно-золотистые глазки так и горели под солнцем. Бегали, согнувшись и издавая пронзительный, надоедливый крик, хорошенькие серенькие цесарки с красными гребешками. На кухне под лавками жили, задернутые сеткой, перепела. Кроме того, постоянно на дворе была какая-нибудь редкостная птица — ручной журавль, говорящая сорока и т, и. Для скворцов были устроены десятки скворечен, и они летали целыми стадами.
Борзой охоты, вопреки тогдашнему обычаю, дядя, однако, не держал. Но это не мешало его любви к собакам. В доме у него постоянно было штук пять их разных величин и пород, и они порядочно надоедали гостям, особенно во время обеда и ночью, шляясь по комнатам. Собаки эти, действительно, были распущены и избалованы у него донельзя и оттого не всегда и держали себя опрятно.
Кроме того, у жены его, у тетушки Дарьи. Николаевны, было несколько любимых кошек какой-то пестрой, трехцветкой породы, приносивших дому, в котором они жили, счастье, но также, вместе с тем, и дурной запах.
Обо всем этом я говорю потому, что дальше это будет служить объяснением к одному случаю, сделавшемуся любимой темой для разговоров всего уезда чуть ли не в течение целого года, а может быть и больше.
В середине лета, пятого июля, дядя Сергей Павлович бывал именинником, и к этому дню в Павловске съезжались родственники и предводительствуемые им дворяне с женами и детьми. Так было заведено исстари, это было в тогдашних обычаях, и так было и в этом году, то есть в первое лето по избрании дяди на третье трехлетие, о котором говорено было выше.
Мы приехали в Павловское еще накануне и застали там уже порядочное-таки общество. Между прочим, приехал и богатый помещик, друг дяди генерал Лунев, служивший еще в двенадцатом году и где-то раненный. Это был очень полный, совсем белый старик, с редким и в то время Кульмским крестом[37], который у него все рассматривали почему-то с особенным почтением. Лунев никогда один не ездил, а всегда непременно с кем-нибудь — с адъютантами, как называли его спутников.
На этот раз таким адъютантом он привез с собою одного из всесвятских помещиков, Евстигнея Лукича Чарыкова, высокого, худого старика с бритым скуластым лицом, с необыкновенно выдающимися челюстями и большими черными глазами, как-то страшно глядевшими из глубоких темных впадин. Одет он был в какой-то серенький костюм, висевший на нем как на вешалке: до того он был тощ и изможден. Я даже остановился и не мог отвести от него глаз, когда в первый раз увидал его.
Он явился к дяде поздравить его с ангелом кроме того еще и потому, что дядя, после избрания своего, согласно обещанию, доставил ему место магазинного смотрителя, то есть ревизора хлебных магазинов, которые в то время должны были быть у всех помещиков и которых ни у кого никогда не было. Это была должность чисто фиктивная, как и сами эти магазины, но на ней кормились, то есть этим магазинным смотрителям (всегда из бедных дворян), когда они являлись, давали «сенца», «овсеца», «ржицы», гусятины, курятины, масла и проч. Это был все-таки доходишко в общем очень даже порядочный, а для бедняка-дворянина, какими были все всесвятские помещики, и даже хороший.
Чарыков поэтому дядю называл не иначе, как «мой благодетель».
Теперь, накануне праздника, когда были еще только свои и ближайшие, Чарыков был допущен и в зало, и в столовую, и даже в гостиную, где почтительно сидел в углу, у самой входной в зал двери. К нему даже иногда обращались с какими-нибудь вопросами, и он отвечал на них своим глухим, надтреснутым и как-то дрожащим голосом.
Я вдоволь насмотрелся на него, и он показался мне несказанно жалким, а эти все родственники и знакомые, относившиеся к нему свысока и пренебрежительно, такими пошляками.
Но тут, в доме, над ним никто еще не насмехался. Несколько раз только вспоминали какие-то случаи, бывшие с ним, причем Чарыков ежился, болезненно как-то улыбался, а все начинали смеяться. Дальше этого не шло.
Но вот пообедали, дамы отправились на балкон сидеть, где им подавали кофе, десерт, а мужчины пошли отдыхать, и им подали шампанское и разные настойки. Увели они с собою и Евстигнея Лукича.
VI
Что у них там происходило, я не был ничему свидетелем, так как к ним не ходил, а оставался на балконе и в саду, когда отдохнувшие наконец гости начали один по одному являться на балкон, — все они были в отличном расположении духа и рассказывали, что дурачились долго и смеялись над потешавшим всю компанию Чарыковым.
— Григорий Николаевич (тоже наш родственник) ему кобылу рыжую подарил, — сказал кто-то.
— За что? — спросили его.
— Да так, досада этакая вышла... Григорий Николаевич хотел перешагнуть через него, а тот поднялся, Григорий Николаевич и зацепил его каблуком. Пошла кровь... Старик заплакал... Ну он, чтобы утешить его, и подарил ему кобылу.
— Бедный. И что вам за охота так шутить и смеяться над ним! — заметила одна из дам.
— Ничего. Ему приложили английский пластырь... В два-три дня заживет, — успокаивал рассказчик.
Вечером, когда захолодало, мужчины все собрались идти на конюшню смотреть на выводку лошадей.
У дяди был очень хороший конский завод; я всегда любил лошадей и тоже пошел со всеми. На крыльце к нам присоединился и что-то делавший там Чарыков. Он был с черным огромным кружком английского пластыря на щеке и, кроме того, имел у самого виска еще синяк.
Теперь никто с ним не шутил, не смеялся над ним, напротив, все были как-то с ним ласковы, точно жалели его и точно чувствовали себя неловко от этой неудачной шутки, причинившей ему и боль и слезы.
Прогулка до конюшни, отстоявшей на довольно порядочном расстоянии от дома, выводка лошадей, проездка некоторых из них перед конюшней на выгоне прошли благополучно, то есть никто не позволил себе никаких шуток над Чарыковым.
Я любовался лошадями, но посматривал и на Чарыкова, стараясь разгадать по его лицу его настроение — действительное, а не то веселое, в котором он, по-видимому, находился. Я все никак не мог понять, как может себя весело чувствовать человек в обществе, где с ним так обращаются. Но я ничего не подметил и не разгадал на его лице. Он только часто изменялся, из сурового делаясь вдруг подобострастным и заискивающим, когда к нему обращался или только глядел на него кто-нибудь из влиятельных, крупных гостей.
Так же благополучно все вернулись и обратно домой. Вскоре, по деревенскому тогдашнему обычаю, подали и ужин, то есть полное повторение обеда, начиная с супа и до пирожного включительно.
В конце ужина от выпитого вина почти все мужчины повеселели, начались громкие разговоры, шутки, смех. Дамы ушли. Матушка посоветовала и мне уходить спать. В столовой оставалась одна мужская компания, и в ней порядочно-таки подвыпивший (ему все подливал Григорий Николаевич) Евстигней Лукич.
Моя комната, где я спал, была недалеко от столовой, и я так и заснул, а они всё разговаривали, рассказывали, шумели и хохотали.
VII
Утром я проснулся довольно рано, умылся, оделся, вошел в зал, намереваясь пройти через балкон в сад, и вдруг, к удивлению моему, встретил тоже уже вставшего дядю Сергея Павловича в халате и страшно взбешенного.
Он мельком поздоровался со мною и продолжал что-то толковать с лакеями, стоявшими тут со щетками, тряпками и тазами.
— Так где же он? — спрашивал дядя.
— Да нет-с его. Искали везде — и в саду и на дворе. Пальто и фуражка его тут, в передней.
— Этакий свинья! Отыщите мне его непременно. Не сбежал же он, — говорил дядя.
Лакеи, полусерьезно-полуулыбаясь, продолжали уверять, что везде уже его искали, — нет, не нашли, и никто не видал его: как в воду канул...
В это время вошел в зал, тоже в халате, еще кто-то из гостей, и дядя стал объяснять происшествие.
— Чарыков пропал. Скрылся неизвестно куда, — говорил дядя. — Черт бы с ним совсем, но что он тут наделал. Он мне весь кабинет загадил. Я вхожу сегодня — не продохнуть... А его самого нет... Оказывается, вчера после ужина, как ушли, его никто не заметил, он и проспал всю ночь на диване, а сегодня рано проснулся, увидал, что наделал, и скрылся...
Сосед принялся смеяться, а дядя обиженным и раздраженным голосом возразил:
— Я терпеть не могу этих шуток. Это все Григорий Николаевич. Подсыпает ему всякой дряни в вино, с ним бог знает что и делается. Ну что за мерзости! Теперь в кабинет войти нельзя...
Вдруг в отворенной балконной двери показалась странная личность, не то одетая, не то завернутая во что-то белое, и с обеих сторон лакеи.
— Где его нашли? — крикнул дядя.
— На речке, на плоту... Мылся, — отвечали, едва сдерживаясь от смеха, лакеи.
Человек, завернутый в белое, медленно подавался, упираясь; лакеи его подталкивали.
Это был Чарыков. Страшно испуганное и болезненно-бледное лицо его осунулось еще более, и какая-то мертвенная синева покрывала его; глаза ввалились еще глубже во впадины и глядели оттуда с неизобразимым испугом.
— Ты это что же?.. В хлев приехал? — обратился к нему дядя.
Чарыков молчал.
— Напивается до бесчувствия и потом...
Чарыков стал опускаться на колени.
— Скотина ты этакая! Не нужно этого! — крикнул дядя. — Поднимите его!
Лакеи его подняли.
— Ты понимаешь свой поступок? — продолжал дядя. — За это что с тобою, по-настоящему, надо сделать? Носом тебя туда...
Чарыков заплакал.
— Григорий Николаевич всё подливают мне и порошки какие-то сыплют, — оправдывался он.
— А ты и рад! Шута из себя корчить! А тоже дворянин!
Дядя смотрел на него с презрением, брезгливо, но сердце у него, видимо, уж прошло. Стоявший тут сосед смотрел на всю эту сцену и улыбался.
В это время через зал, выскочив из угольной, пробежала одна из трехцветных тетушкиных кошек, очевидно тоже сделавшая «шалость», и за ней с тряпкой побежал было лакей.
Вдруг Чарыков гробовым голосом, сквозь слезы и как-то торжественно, воскликнул:
— И разве это я нарочно! И что ж тут позорного для вашего дома?.. Собакам — можно... Кошкам — можно... А дворянину — нельзя!..
Дядя точно остолбенел от удивления и молча долго смотрел на него. Собравшиеся соседи разразились хохотом. Лакеи закрыли рты руками и еле держались от смеха.
— Фу, негодяй! — проговорил наконец дядя, посмотрел на смеявшиеся, пожал плечами и ушел из зала.
Лакеи куда-то повели Чарыкова.
Он сделался, благодаря этой выходке, героем дня в этот день.
Начавшие с утра съезжаться соседи, узнавая о сравнении, сделанном Чарыковым, приходили в восторг и хохотали. Приезжали следующие, узнавали и тоже восторгались и хохотали. Приехали, наконец, почетнейшие люди в уезде и тоже были в восхищении от сравнения Чарыкова...
По секрету кто-то сообщил об этом и дамам, те делали гримасы и тоже смеялись.
За час или за два до обеда приехал губернатор, объезжавший в это время вверенную ему губернию для ревизии; дядя шутя рассказал ему о происшествии, и губернатор пришел в восторг.
— Покажите мне его. Где он?
Позвали и привели Чарыкова.
— Этот самый? — вглядываясь в него в монокль, спросил губернатор.
— Этот самый.
— Как это вы выразились? Собакам — можно... кошкам — можно... а дворянину — нельзя...
— Точно так.
— И вы завидуете по этому случаю кошкам и собакам?
— Точно так.
— И желали бы быть на их месте для этого?
— Точно так.
— Пользоваться этими их правами?
— Точно так, ваше превосходительство.
— Вот пример, — сказал губернатор, — до чего может опуститься человек, будучи даже дворянином...
Один только архиерей, разъезжавший по епархии, подобно губернатору, для ревизии и тоже заехавший на именины к предводителю, когда ему в виде шутки рассказали о сравнении, сделанном Чарыковым, сделал серьезное и грустное лицо и проговорил:
— Несчастный человек... опустившийся. Что же над ним смеяться! Его жалеть надо...
Выражение Чарыкова: «собакам — можно, кошкам — можно, а дворянину — нельзя» сделалось в уезде любимым, и его повторяли кстати и некстати, находя верхом остроумия.
VIII
Прошло два года. Я был уже в университете и приехал на каникулы в деревню. Пятого июля у дяди, все еще служившего предводителем, по обыкновению собрался весь уезд.
Я как-то вспомнил о Чарыкове и спросил, где он и будет ли сегодня.
— Зачем? Нет, — ответили мне. — он лишился ног и лежит, почти не вставая, у себя в усадебце.
Время тогда было для дворян невеселое, готовилось объявление освобождения крестьян. Не до Чарыкова уж было. Все говорили только о деле, и притом говорили или только между собою, или обиняками и намеками, если была тут прислуга. Веселья, по крайней мере того веселья, которое было еще так недавно, каких-нибудь два года назад, не было теперь и в помине. Дядины дела к этому времени были так запутаны, состояние расшатано, что он тянулся, что называется, на последние, занимая под будущий умолот, сдавая на несколько лет землю купцам с условием получения вперед денег, и проч. Он дослуживал последние, оставшиеся до выборов, месяца, уже и не помышляя о следующем избрании. Не было того разливанного моря и в этот знаменательный для него день, которое обыкновенно всегда бывало и к которому все привыкли. Не было и почетных гостей — губернатора и архиерея. Лежала на нем и на всем в доме у него тень уныния.
Вдруг кто-то неожиданно увидел в окно подъехавшего к крыльцу Чарыкова и сообщил об этом.
Все почему-то заинтересовались им и хотели поскорей его увидать. Все знали, что он уже с год как никуда не показывался из дому.
— Это он вас поздравить приехал. Больной, а вспомнил, пересилил себя, приехал, — говорили дяде.
В другое время, два года назад, он бы не обратил на это внимания, да и никто бы не обратил, но теперь другое было время, а главное — другие были у дяди дела, и он — я ясно это прочел на его лице — заинтересовался Чарыковым и был доволен его приездом.
Кое-кто пошел к нему даже навстречу в переднюю.
Вскоре, опираясь на костыль, в дверях того самого зала, где тогда разыгралась такая печальная и унизительная сцена, показалась согбенная фигура высокого старика, ставшего от болезни совсем уже белым.
— Здравствуй, Евстигней Лукич! — проговорил дядя и пошел ему навстречу.
— Здравствуйте, Сергей Павлович! — ответил с передышкой Чарыков.
Дядя поцеловался с ним.
— Да ты еще молодец. А мне сказали, что ты уж совсем плох.
— Плох и есть. Не выхожу. Это вот только к вам приехал...
— Ну, спасибо... спасибо...
Чарыков, едва передвигая ноги, подошел к стулу, стоявшему совсем у входной двери, возле окна, и тихо, медленно на него опустился, стукнув своим костылем.
Его обступили и стояли вокруг него.
Он отдышался и заговорил:
— Последний раз приехал.
— Ну, что такое... Бог даст, еще проживете.
— Последний раз хочу посмотреть на все собравшееся здесь почтенное дворянство, — не обращая внимания на возражение, продолжал с обычной своей расстановкой Чарыков. — Да и у нашего почтенного предводителя оно, вероятно, собирается тоже в последний раз... Ведь уж вы больше выбираться, вероятно, не будете?
— Нет. Довольно с меня, послужил и будет!.. Теперь пускай другие послужат, — с, горечью сказал дядя.
— Довольно, — решающим тоном заключил Чарыков и опять закашлялся и умолк.
Что-то странное, загадочное мне сразу показалось и в этом приезде его и теперь в его тоне, с которым он говорил. Было что-то такое, что наводило на мысль, что это неспроста, не одно только расположение к предводителю его привело сюда. И все это заметили и почувствовали. Особенно на всех произвел впечатление этот новый тон его — не привыкли к нему, совсем другой он у него был. И это не потому, что он был обессилен, болен, знал, что с него за это взять уже нечего, и позволял его себе поэтому. Нет. Чувствовалось что-то другое, какая-то другая причина давала ему право на этот необычный его тон... Но какая?.. Плохие, запутанные дядины дела? Уверенность, что он больше уже не будет предводителем?
И все хотя не высказывались, но ходили с этою маленькою, загадкой.
Чарыкова за обедом посадили за общий стол, накрытый лакеями в зале, — не на почетных местах, но и не на самых отдаленных. Это было тоже необычное явление, потому что его никогда прежде на этих местах не сажали, да в торжественные дни и вообще не сажали: он куда-то на время обеда исчезал.
За обедом дядя несколько раз обращался к нему, а обходя, по обычаю, гостей, сидевших за столом, и потчуя их, он останавливался возле Чарыкова и разговаривал с ним.
Когда пили шампанское и все начали поздравлять именинника, чокаться с ним и пить его здоровье, дядя сам подошел к Чарыкову, стоявшему у своего стула и не решавшемуся переступить своими больными ногами.
Совсем другие вдруг установились к нему отношения. Все замечали это, видели, понимали, но никто не находил этого странным, точно это всегда так и было и иначе и не было.
И после обеда, когда все встали из-за стола, он не остался один. Около него собралось человек пять, сели к окну и разговаривали с ним, расспрашивали его, он рассказывал.
В кучках, на которые разбились все после обеда, несколько раз были слышны отзывы о нем как об очень неглупом человеке.
— Напускал это он тогда юродство на себя.
— Нужда!
— Совсем стал старик.
— А все-таки приехал. Вы слышали: посмотрю, говорит, хоть в последний раз на дворянство...
— М-да... Что-то будет...
И разговор переходил на злобу дня, на ожидавшееся объявление воли...
IX
Вечером, пользуясь прекрасной погодой, все, кто не отправился на конюшню смотреть выводку и проездку лошадей, разбрелись по обширному павловскому саду, гуляли, сидели на скамейках.
На одной из них сидел Чарыков с костылем в руке и что-то ораторствовал. Вокруг него стояло человек пять и слушали его.
Я подошел к группе.
— И все вы сойдете на одно и будете все такими же, — говорил он. — Я уж, может быть, не доживу, не увижу этого, но вы вот попомните мое слово. Потому, под самый корень подсекают...
Его слушали с мрачными лицами.
— Потому, — продолжал он, — дворянин без слуги своего быть не может. Какой же после этого он может быть дворянин, когда слуга его будет равный с ним. И на что он, дворянин, нужен после этого? Дворянин — высокое слово. Он отец — все равно, худой или добрый — своим детям, людям своим; но если у него этих детей, людей его, берут, — зачем и кому тогда он нужен? Что он без них?.. Торговать ему пойти?.. Служить?.. На что он служить будет? Из-за жалованья? На это чиновники есть... Землю частью, говорят, оставляют. Что он с землей будет делать? Сам пахать ее не может. Нанимать, — как это делается теперь у купцов на их хуторах, — да разве это дворянское дело? Те барышники, а разве дворянин сидел на земле из-за барышей? Он сидел, чтоб и самому жить и детей, своих людей, кормить. Ему ничего не надо было, потому что все его было, и детям, людям его, ничего не надо было, потому что он им все давал, они все от него получали. Он жил с детьми, своими людьми, кормился на земле, а не барышничал на ней. И тот дворянин был честен, который сытно и сам жил и дети, люди его, сытно жили, а не тот, который скоплял и оттого сам голодал и люди его голодали...
Он говорил это срывавшимся, высоким голосом, поднимая руку, как бы пророчествуя, и во всей фигуре его и в лице его было что-то пророческое, точно этот человек пришел оттуда, где никто не был, и рассказывает о том, чего никто не видал, наставляя и вразумляя слушающих его.
Подходили другие гуляющие в саду, останавливались, слушали, молчали.
Наконец он закашлял, умолк и в раздумье и усталости опустил голову на грудь.
— А ведь правда это все, что он говорит, — прерывая общее молчание, сказал кто-то в числе собравшихся.
— Конечно, правда, — отозвались ему.
И начались разговоры самые обыкновенные, которые велись тогда, о несправедливости реформы, о неблагодарности и проч. Эти разговоры, не заключавшие в себе никакой мысли, кроме узкой и эгоистичной, мне надоели уж по горло, и я отошел.
«А ведь, пожалуй, прав он, — думал и я про Чарыкова. — Ну что, в самом деле, они все будут делать без мужиков, без всей этой крепостной прислуги?!»
Я походил с час по саду. Начинало уж темнеть, в доме уж зажгли огни. Я пошел к дому. Когда я проходил мимо той скамейки, на которой час назад сидел и ораторствовал Чарыков, я невольно вспомнил его и опять задумался о нем.
Поднимаясь на террасу, я услыхал смущенно-встревоженный голос стоявших и разговаривающих наверху.
— Все время говорил, рассказывал, потом закашлялся, и вдруг это с ним...
— Может быть, еще это и пройдет. Просто, может быть, дурно с ним сделалось.
— С кем? — будучи почему-то уверен, что это произошло с Чарыковым и говорят о нем, спросил я.
— С Чарыковым обморок сделался... а может, и разрыв сердца, — отвечал кто-то мне.
В доме были все смущены, встревожены и говорили только о нем. Дяди не было. Он был там, куда из сада на руках отнесли его, во флигеле для гостей, возле дома.
Я пошел было туда, но навстречу мне попались дядя и другие возвращавшиеся оттуда.
— Нет, разрыв сердца, — говорил дядя. — Удушье у него было... закашлялся и... Но это ужасно... ужасно! — повторял он.
— Что, умер? — спросил я.
— Скончался...
Я не пошел туда.
Неожиданная смерть его произвела на всех ужасное впечатление. И без того довольно унылое общее настроение сменилось настоящим удручающим. Все говорили тихо, точно боясь нарушить чей-то покой. Разбились все на кучки и передавали друг другу разные подробности кончины. Многие собрались уезжать... Дядя ходил совсем расстроенный. Подходил к одним, говорил: «Да, ужасный случай», потом шел к другим и повторял то же самое: «Ужасно, ужасно»...
— И утром, как еще он только вошел, он показался мне странным каким-то, — слышалось в одной группе.
— И вообще все это... Этот приезд его... это какой-то намек его...
— «Хочу последний раз видеть все дворянство», — вспомнил кто-то его слова.
В гостиной кто-то, желая, может быть, рассеять, разогнать общее тяжелое настроение, отвесть мысли от печального происшествия, заиграл было на рояли, но все начали говорить, что теперь это не идет — в доме покойник...
— Да ведь он не в доме, а во флигеле.
— Все равно.
И игра прекратилась.
Чтобы как-нибудь убить, сократить время, велели раньше собирать ужин и раньше все сели за стол.
Но и это не помогло. Все никак не могли отрешиться от происшествия, или молчали, или говорили всё о нем же.
— Да, вот подите. Всю жизнь вел себя так... а перед смертью что высказывал. И точно нарочно затем и приехал, чтобы все это высказать... — говорили за ужином.
— Всю жизнь вел так... а умер дворянином...
Начали по этому поводу вспоминать других из достаточных, настоящих помещиков, которые всю жизнь играли не то шутов, не то юродивых, а между тем несомненно чувствовали в себе дворянство.
И все были согласны, что это общая русская черта, характерная особенность русского ума — скрывать настоящего себя, каков есть на самом деле, под личиной.
X
Дядя устроил приличные, даже богатые похороны Чарыкову. Он действовал в этом случае и как предводитель, желая показать, как он высоко ставил дворянское звание, хотя бы носитель его и был беднейший человек в уезде, и — это, пожалуй, главное — под впечатлением какого-то странного, особенного в нем чувства, имевшего своим источником угрызение совести и суеверный страх...
Мы пробыли в Павловском похороны Чарыкова и еще один день после этого. Я был и на похоронах и потом, после похорон, на поминальном обеде, который был устроен во флигеле, где лежал покойный и где теперь всем распоряжалась, угощала всех на дядин счет приехавшая из Всесвятского жена Чарыкова.
Вынесли гроб с покойником сам дядя с бывшими у него гостями, оставшимися в Павловском со времени именин. И дядя и все шли за гробом до церкви, которая была в полутора верстах, на конце села, за мостом, по той стороне реки.
Это было в воскресенье; народа, одетого по-праздничному, в церкви было много, день, к тому же, был ясный, солнечный, и картина похорон была торжественная и величественная, особенно когда несли гроб от церкви до могилы. Дьякон, с очень, хорошим голосом, провозгласил вечную память болярину Евстигнею. Отец Онисим сказал краткое слово, в котором очень тепло и сердечно отозвался о покойном, сказав, что, он, будучи любим многими «сильными местными владетелями», никого из них не подвигнул на гонение и притеснение подданных, но, напротив, умерял их гнев, склонял к милосердию и кротости...
— А ведь это верно в самом деле, он постоянно упрашивал, и заступался, — замечали в толпе, окружавшей могилу, точно будто сейчас только догадались об этом...
Гроб опустили в могилу, засыпали ее, постояли и начали расходиться.
Во флигеле для гостей, в той самой даже комнате, где стоял гроб с покойником, и на том же самом, вероятно, столе был приготовлен «поминальный стол», кувертов на тридцать, для приглашенных и приехавших из Всесвятского родственников покойного.
Съезд этих всесвятских дворян, через три дня после именинного съезда помещиков достаточных и богатых, представлял своего рода тоже назидательное и поучительное, даже как бы пророческое отчасти зрелище... Глядя на них, невольно вспоминались слова покойного, сказанные им не далее, может быть, как за час до смерти: «И все вы сойдете на одно и будете такими же...»
Приехавшие родственники покойного, никогда не бывавшие в Павловской усадьбе, только издали видавшие ее великолепие, как-то озирались, всматривались.
Некоторых из них дядя знал и разговаривал с ними, стоя на дворе, с другими только раскланивался.
В свою очередь и я всматривался с не меньшим любопытством в них. Я видел всех их в первый раз и вообще в первый раз видел дворян такого разбора и собравшихся в таком количестве. Покойный был, конечно, аристократ между ними и по уму, и по образованию, и по манерам. Его жена, как ни ничтожна казалась ее маленькая подсохшая фигура, все же неизмеримо была выше других по уменью держать себя. Остальные все были просто или старые, отставные, на покое, дворовые, или пригородные мещане и мещанки.
Теперь, в присутствии дяди и других достаточных и богатых помещиков, они держали себя крайне стесненно. Теперь, глядя на них, не могло и в голову прийти, чтобы эти люди могли повелевать кем-нибудь, судить, жаловать, наказывать и миловать кого-нибудь. А между тем на деле это было так: они и повелевали, и судили, и наказывали, и жаловали, миловали. И были люди, их люди, которые их боялись, трепетали, которые от них вполне зависели, которых судьба была всецело в их руках...
Некоторые из всесвятских, осмелившись от ласкового обращения с ними дяди и других помещиков, тоже вышедших на двор посмотреть на них, — спрашивали, таинственно оглядываясь, не скажет ли кто чего насчет упорно ходивших в народе слухов о воле.
И дядя и другие отвечали им, что определенного и верного и сами они ничего не знают, но что воля, по всей вероятности, Действительно более или менее в скором времени будет объявлена.
— И как же тогда: мы лишимся нашей собственности? Ведь они не мною приобретены, достались мне от родителя, — говорил один совсем уж седой старик.
Дядя в ответ пожал плечами, как бы говоря: «Не от меня это зависит, я ни при чем тут, я сам теряю, как и все».
— Ну, а земля?
— И часть земли.
— Да у меня всего-то семьдесят десятин.
— А душ у вас сколько?
— Четыре.
— Ну, значит, при трехдесятинном наделе двенадцать десятин потеряете.
— Да ведь семьдесят-то десятин у меня всего: и с усадебной, и с удобной, и неудобной.
Дядя опять грустно-сочувственно к его беде пожал плечами.
Старик развел руками, вздохнул, опустил голову и потом, вновь поднимая ее и глядя жалобно в глаза дяде, проговорил:
— Ведь она же, земля, не краденая, моя... Ведь люди мои же...
В это время от флигеля, где готов был им обед, через двор шел посланный оттуда конюх, приблизился и сказал, что все готово.
И старик, этот властелин, владетель людей, не понимавший, как их могут отнять у него, был жалок и казался ничтожным перед молодцеватой, красивой, молодой фигурой конюха, смотревшего на него не то с любопытством, не то с презрением.
— Пойдемте, — сказал дядя.
Старик съежился и как-то боком прошел мимо дяди и конюха, чуть-чуть, на полшага, отступившего, чтоб пропустить мимо себя, дать ему дорогу...
Доживались последние крепостные дни!..
МАША-МАРФА
I
Была у матушки двоюродная сестра Глафира Николаевна — «тетя Глаша», как мы ее авали, — девица, по каким-то романтическим причинам, однако ж вполне целомудренным, не вышедшая замуж. Жила она довольно далеко от нас, верстах в тридцати, в своем имении Пестрядке. Это имение принадлежало сперва не ей одной, а также и брату ее, Василию Николаевичу Коптеву, также почему-то не женившемуся, хотя в свое время, говорят, он считался завидным женихом, так как был красив, отлично танцевал мазурку, а кроме того имел еще прекрасное состояние — вот эту Пестрядку, вместе с сестрой, «тетей Глашей», и лес, что в нашей степной стороне и тогда было большой редкостью, а стало быть и ценностью.
Но «дядя Вася» умер, когда я был еще совсем маленьким, и я едва его помню. У меня остались в памяти только его огромные усы и большие черные смеющиеся глаза, да помню я еще, как он играл на «семиструнной» гитаре — почему семиструнной, не знаю — и при этом пел, и так жалостно, с душой, что у нас все горничные, бывало, приходили слушать его к дверям и плакали, смотря на него сквозь щелку.
Это последнее обстоятельство, впрочем, я не столько помню сам, как запомнил рассказы об этом нянек и горничных, которые его постоянно, когда он бывал у нас, слушали и долго и потом, после его странной и внезапной кончины, всё не могли забыть ни его «семиструнную» гитару, ни его самого.
Дядя Вася, кажется, пил — на это есть указание, сохранившееся в рассказах о нем, об его доброте, щедрости, необыкновенно веселом и потом вдруг грустном и печальном настроении. Но матушка, когда я ее спрашивал об этом, всегда с негодованием отвергала даже самую мысль о том, что он имел какое-нибудь пристрастие к крепким напиткам.
— Это был редкой души человек, — обыкновенно говорила она после этого, — но и глубоко несчастный. Он своим кажущимся веселием подавлял в себе свою грусть, чтобы только люди не замечали ничего.
Во всяком случае, это был, несомненно, очень симпатичный и добрый человек, который оставил по себе хорошую память.
Умер он странно и неожиданно. Ранней весной, только что начались пригревы и с холмов побежали ручейки, он без всякой, по-видимому, причины — по крайней мере, она так и осталась никому не известной — заскучал и однажды вечером велел приготовить себе постель не в кабинете своем, где он обыкновенно спал, а наверху, в мезонине, в большой комнате с балкончиком, откуда у него был летом чудный вид на реку и на огромный его же синий лес за рекой. Из этой комнаты, с балкончика, я помню, мы впоследствии всё любовались на эту картину, а я все вглядывался в стены, в пол, в потолок — свидетелей дядиной загадочной кончины. Мебели потом в этой комнате не было никакой...
Рассказывали об этом так: по обыкновению, поужинав вместе с сестрой, он, несколько более, чем всегда, то задумчивый и грустный, то веселый и разговорчивый — эти переходы у него были постоянно, — ушел к себе наверх спать, дав на вопрос сестры, спросившей его, зачем он велел там приготовить сегодня себе постель, — странный и загадочный ответ: «Там тише...»
— Да тут-то тебя кто же беспокоит?
— Никто, но там все-таки покойнее, — ответил он и, весело посмотрев сестре в глаза, ушел туда с своей «семиструнной» гитарой.
Ночью некоторое время еще слышали, что он там играет и поет. Старуха-нянька — его и ее, — жившая у них в доме уже на покое и встававшая обыкновенно очень рано, раньше всех, часа в четыре и даже три, «с петухами», рассказывала потом, что она ночью, когда вставала, слышала, как будто кто плачет: «и до того тихо да жалобно...» Но она подумала, что это плакала во сне одна из сенных девушек, спавших в соседней комнате, и не придала этому никакого значения.
— И я почему это вспомнила. — говорила она после. — плач-то этот сверху как будто шел... Это беспременно он плакал, тяжело его душеньке было с нами расставаться... А я-то, дура, тогда не догадалась...
Но, как бы то ни было, утром, когда пришли в комнату, где он спал, нашли его сидящим на кровати — он даже не раздевался — с своей «семиструнной» гитарой на коленях и как бы дремлющим или заснувшим.
Признаков насильственной смерти не было никаких. Вероятнее всего, он умер от разрыва сердца или другой какой подобной же причины. Но всех смущало это странное и загадочное желание его ночевать эту ночь наверху, одному, в мезонине.
— И ведь ты поверишь, — потом сколько раз я слышал, тетя Глаша рассказывала, вспоминая об этом, матушке, — ты поверишь, в голову ведь никому не пришло. Думали, так, странность какая-нибудь... У него это, ведь ты знаешь, было иногда: вдруг в лес уедет и один там ночует, играет, поет. А то всю ночь до утра проездит по реке в лодке с гитарой своей. Верхом сколько раз в степь ночью уезжал один. Бывало, одним словом, это с ним...
А нянька-старуха уверяла, что это не просто с ним случилось, — он уж с вечера знал или чуял, что приближается его конец.
— Кончину свою всегда человек чует, и не только человек, но и скотина бессловесная. Отчего же вот собака, которая если старая и чует, что издыхать ей скоро придется, забивается в угол, куда-нибудь в сторонку, или под балкон уйдет? Кончину свою все чуют...
Одним словом, смерть дядина осталась загадкой, о которой вспоминали каждый раз почти, как вспоминали о нем или бывали в доме, где он жил. «Семиструнная» гитара его, одетая в какой-то кисейный, из грубой кисеи, чехол, висела в углу, в его кабинете, над любимым его креслом. Она пользовалась какой-то странной, не то страшной репутацией. Я помню, я на нее все смотрел и однажды при матушке влез на кресло и хотел дотронуться до нее, но матушка тотчас же сказала:
— Оставь... не трогай ее.
— А что? — спросил я, и мне вдруг стало страшно.
— Не трогай ее, бог с ней совсем...
— Ничего, — продолжал я.
Но я и сам бы не тронул...
II
После дядиной кончины тетя Глаша переехала к нам и жила у нас около полугода. Ей отдали угольную комнату и другую, смежную с нею, куда она перевезла из Пестрядки некоторые свои вещи и устроилась, как ей было удобнее и как она хотела.
Тетю Глашу я помню уж очень хорошо. Это была небольшого роста, худенькая, бледная девушка, тоже с большими темными глазами и гладко причесанная. Она ходила всегда одетая очень скромно, в темном платье с беленькими рукавчиками и воротничками. В то время, к которому относится этот рассказ, ей было лет тридцать пять. Я как сейчас гляжу на нее: сидит в своей комнате в кресле, у окна, кругом расставлены столики, этажерки с разными дагерротипными портретиками, статуэтками, чашечками и т. п., — сидит и аккуратненько вяжет чулок из тоненьких-тоненьких ниток, и весь чулок ажурный, с узорными дырочками, полосочками. Я, помню, все удивлялся, как это она умеет так искусно вязать.
— Как это ты так умеешь? — скажу я ей, бывало, после того, как долго смотрю на нее.
— Тебя удивляет? Да? — ответит она, опустив руки с чулком к себе на колени, и с улыбкой тоже долго и пристально посмотрит на меня, а потом вздохнет и опять примется за чулок.
С этим вязаньем она не расставалась. Утром, в девять часов, когда она выходила из своей комнаты и шла в столовую, где мы все в это время уж пили чай, — чулок, подвернутый и закатанный снизу, был с нею, и она на ходу быстро перебирала блестящими тоненькими стальными спицами. Она и потом целый день не расставалась с ним. Летом, бывало, пойдут все в сад гулять, и она пойдет с своим вязаньем. Эта работа, по-видимому, нисколько ей не мешала. Она разговаривала, слушала, смотрела по сторонам, даже читала и в это время вязала. И никогда, ни разу я не помню, чтобы она ошиблась в узоре или спустила петлю. Точно все эти узоры запечатлелись у нее где-то в голове, и руки ее, помимо ее воли, сами собою справлялись и выводили эти узоры.
Потом она вязала также крючком гарусом одеяльца для детей, и тоже необыкновенно искусно и со вкусом, и всегда полосатые — полоска голубая, розовая, коричневая, а по этим полоскам еще какой-нибудь белый или черный шелковый узор. Выходило очень красиво. Одеяльца эти она дарила всегда тем из своих знакомых соседей-помещиков, которые ждали у себя скоро приращения семейства; а так как кто же в уезде у нас ее не знал или кого она не знала и кто же не был, при ее кротком характере, добрым ее соседом, то выходило так, что у всех были ее одеяльца и народилось и выросло целое поколение, покрывавшееся этими ее работы одеялами — розовыми, голубыми, пунсовыми и проч.
Но это все-таки была исключительная, к случаю, ее работа. — постоянная была вот эти тоненькие ажурные чулки.
Тетя Глаша располагала совершенно свободными средствами. Она была очень скромна и не проживала и половины того, что получала. Она очень любила лошадей, и у нее была прекрасная вороная тройка, отличный экипаж, в котором она и приезжала к нам и к другим родственникам и знакомым. Я помню ее красавца старика-кучера, с седой окладистой бородой, с широчайшими плечами и громким голосом, которым он никогда не кричал на встречных, а только говорил: «Пади!», но зато таким громким и сильным басом, что еще издалека его можно было слышать, и ему давали дорогу.
Она очень «жалела» лошадей. Бывало, я помню, едешь с ней, лошади бегут полной рысью и нисколько не устали, а она уж все беспокойно заглядывает на них и потом скажет:
— Ермил, поезжай потише, дай им вздохнуть...
Ермил сдержит лошадей, но иной раз обернется и, благодушно улыбаясь, заметит:
— Вы, барышня, портите их только этим. Они в настоящую рысь никогда у нас не взойдут.
— Ну, бог с ними уж.
И иногда, когда мы гуляли и заходили все на конюшню, где стояли и ее лошади, она вынимала из кармана в бумажке кусочки сахара и давала им, трепля их своей маленькой ручкой в перчатке по мягким, теплым мордам. А они на нее ласково косились своими умными, красивыми большими глазами.
Собак и собачек она не любила, особенно собачек. В доме у нас была большая собака сен-бернардской породы, которая, бывало, важно переходила от одного к другому. Когда она подходила к тете Глаше и клала ей на колени свою морду, она всегда сейчас же вынимала из кармана кусочек сахару и давала ей, но вместе с тем и ласково выпроваживала от себя:
— Ну, довольно, довольно, иди: получила и иди...
Не любила их.
Образование тетя Глаша получила домашнее. Она совершенно правильно писала по-русски, говорила очень хорошо по-французски и играла на фортепьяно. Но она не любила, кажется, музыку.
— Я не то чтобы не люблю ее, а мне все равно, что хоть бы ее и не было, — говорила она. — Вот брат-покойник уж как пел и играл, все знают, а я — нет...
Тетю Глашу вообще все очень уважали: во-первых, она была с хорошими средствами, и, несмотря на ее тридцать пять лет, все были убеждены, что она все-таки выйдет замуж, и потом, она такая кроткая, не сплетница, не злоязычница. Она везде, куда приезжала, была почетной гостьей, и ей действительно были рады.
Молчаливая, смирная, кроткая, она тем не менее, однако ж, не, любила сидеть дома у себя в Пестрядке, а предпочитала гостить у кого-нибудь из родных, а больше всего у нас. Но, вероятно, чтобы кто-нибудь не подумал, что это она делает из скупости, по расчету, она всякий раз привозила с собою или потом привозили от нее, под предлогом, что это какие-то необыкновенные, гусей, уток, индюшек, варенья, соленья и проч.
— Для чего ты это, Глаша, делаешь? — бывало, при этом спрашивала всякий раз ее матушка.
— А что ж такое?
— Да для чего это?
— А мне кажется, у меня хороши они вышли в этом году.
— Очень хороши; только для чего это ты? Это совсем напрасно.
А то вдруг поедет в город и привезет оттуда чаю, сахару, кофе и разных припасов.
— Глаша, для чего это ты?
— Все равно надо же покупать. Прошлый раз вы покупали, этот раз я. Я у вас живу...
— Да не нужно это совсем.
— Ну, следующий раз вы уж купите.
И так всегда, постоянно.
Очень она была на этот счет аккуратна или щепетильна, и ей это, кроме того, доставляло, кажется, даже удовольствие.
В самом деле, куда и для чего ей было беречь? Она была совсем одна, и мы и все это знали. Она всюду приезжала одна, и когда кто приезжал к ней, заставали и дома ее всегда одну.
Глашенька, ты бы хоть какую родственницу взяла к себе, — говорили ей.
— Да?
— Серьезно. Тебе все-таки бы веселее было.
— Ответственность большая.
— Да в чем?
— Ну как же...
И на этом так всегда разговор и прекращался.
III
Но однажды, когда она гостила у нас, я услыхал странный и показавшийся мне чрезвычайно любопытным разговор, который происходил у них с матушкой в моем присутствии и который они вели, кажется, в полном убеждении, что я хотя и тут, с ними, сижу, но настолько занят своим делом — рассматриванием картинок, — что ничего не слышу, да если бы и услыхал, все равно ничего не пойму.
Матушка ее спрашивала:
— Глаша, ты когда в монастырь поедешь?
— Думаю, на той неделе.
— А когда, ты говоришь, она скончалась?
— Мать Евфимия-то? Да уж второй месяц!
— Так что Маша, значит, у Досифеи все время и живет?
— Да. Это тоже чудная женщина.
— Досифею-то я знаю, — уверенно ответила матушка.
Они помолчали обе. Я понимал, что они говорили про женский монастырь, который был в соседнем с нами уезде и куда они обе, и матушка и Глаша, и еще другая тетка, Евпраша, ездили иногда говеть. Но кто такая эта Маша, про которую они упоминали? Имена Досифеи и Евфимии, а также и других монахинь тамошних я знал, но ни о какой Маше никогда вместе с ними не упоминалось. И вдруг — Маша...
Как часто это бывает и со взрослыми, ничтожное и, по-видимому, совсем даже постороннее обстоятельство вдруг почему-то обратит на себя внимание и вслед за тем делается целое открытие, которого ранее и не подозревали. Так было и тут. Эта «Маша» вдруг почему-то меня заинтересовала. Я стал прислушиваться к их разговору. Но они говорили уж о чем-то совсем, по-видимому (так мне с первого раза показалось), постороннем — о каких-то планах, предположениях, и, между прочим, о комнатах в пестрядкинском доме, какую из них, ту или эту, отвести для «нее».
— Понимаешь, мне хочется так, — говорила тетя Глаша, — чтобы гувернантки комната была рядом с ее.
— Да, я понимаю, — отвечала ей матушка.
«Кто это «она», «ее», и о какой это гувернантке они говорят? — думал я, ничего не понимая. — И потом, что это такое вообще готовится в пестрядкинском доме у тети Глаши?»
После этого я уж стал совсем внимательно их слушать, ожидая, что будет дальше.
Матушка вздохнула. Обе они некоторое время помолчали. Да, — начала матушка, — я понимаю, конечно, хочется, чтобы она была и образованная и все такое, только...
Она не договорила и замолчала. Тетя Глаша продолжала за нее:
— Вот видишь, если ее так оставить, — во-первых, братец (тетя Глаша так всегда называла покойного дядю Васю, своего брата) желал, чтобы она получила образование — ты ведь это знаешь, — а потом, что же она за госпожа будет для Пестрядки? Ведь выйдет же она замуж...
— Да, это-то так, — соглашалась матушка.
— А тут, по крайней мере, при образовании, не так заметно будет ее происхождение... скроется...
Я сообразил на основании всего этого, что эта «она» — нечто, находящееся в связи с дядей Васей, по крайней мере с памятью о нем.
— Последний раз ты ее когда видела? В прошлом году? — спросила матушка.
— Осенью, нынче осенью. Я ведь осенью была в монастыре.
Матушка вспомнила, что тетя Глаша действительно осенью ездила в монастырь, и она это знала, но как-то вдруг забыла об этом.
— Похожа становится на брата Василия Николаевича? — спросила она.
— Поразительное сходство, — отвечала тетя Глаша, — знаешь, эти глаза, улыбка... Помнишь, как это он, бывало, веселый-веселый, и потом задумается...
— Так что больше на него похожа, а не на мать?
— На него. Авдотья же была ведь совсем светлая блондинка.
— Не помнит она ее?
— Мать? Нет.
— А Василия Николаевича?
— Слабо, но помнит, однако же. Я как-то раз заговорила с ней: помнишь, Маша, говорю, папу своего?..
Матушка в это время перебила ее:
— Ну, зачем ты это делаешь?
— Что? — удивилась тетя Глаша.
— Говоришь, объясняешь ей, кто ее отец.
Тетя Глаша посмотрела на матушку и до того кротко и тихо, любовно ответила ей:
— Ах, кажется, что же это, если у нее и это отнять?
— Да я ничего, я это так, — поправляясь, заговорила матушка. — Рано, мне кажется, только это ей еще объяснять.
— Я ведь ей все: и портрет его и письма его, в которых он о ней пишет, — все ей отдала. Пускай знает, что был человек, который ее любил, для которого она была дороже всего. Что он не успел ее обеспечить, оставить ей состояния, то все это я — это моя уж будет забота, я это сделаю, — не воспользуюсь его имением... но так, чтобы она знала, кто был ее отец и что он любил ее, — это непременно должно сделать... Это я для него уж должна сделать, если не для нее самой...
Тетя Глаша сказала это с таким возбуждением, с таким непреклонным и решительным выражением в лице, что я как взглянул на нее, так и остался, не сводя с нее глаз: до того это было не похоже на нее и невиданно.
Матушка что-то ей ответила в свое оправдание, что она не то совсем хотела ей сказать, что тетя Глаша не так ее поняла, что-то в этом роде; но они обе сейчас же точно вдруг и только теперь меня увидели и заметили, что я их слушал все время, и, как ни в чем не бывало, начали говорить, обращаясь ко мне, какой я чудной, какой у меня уморительный вид, что я, должно быть, спал все время и видел что-нибудь во сне, и проч.
Я молчал, снисходительно, как проникший их тайну, поглядывал на них и думал: «Как же это так не знал я этого раньше?»
Вечером в этот же день, отправляясь спать, я сказал сестре Соне:
— Соня, ты знаешь, у дяди Васи есть дочь.
Соня с удивлением посмотрела на меня.
— Да, — продолжал я, — зовут ее Маша, и ее скоро перевезут в Пестрядку.
— Откуда? Какая дочь? — спросила Соня.
— Дочь дяди Васи, — решительным и уверенным тоном отвечал я ей, — та, которая в монастыре теперь у монахини матери Евфимии живет... Ее скоро возьмут оттуда, и она будет жить в пестрядкинском доме, в угольной, а рядом, в маленькой комнатке, будет жить гувернантка...
Сестра с недоверием посмотрела на меня и покачала головой, дескать, бог знает что ты говоришь...
Вот ты увидишь. Ты не веришь и увидишь.
IV
«Тетя Глаша» прожила после этого у нас недолго и уехала в монастырь говеть — это было постом великим. Почему-то матушка, ездившая тоже туда с нею, не поехала этот раз вместе, а несколько дней спустя. Провожая матушку, мы слышали, отец сказал ей:
— Если поедешь в Пестрядку оттуда, к Глафире Николаевне, то дай знать, пришли нарочного, извести, сколько ты там пробудешь.
— Нет, я едва ли поеду, пускай она пока там устроится, — отвечала ему матушка.
— Ну, уж это ваше дело, только если поедешь — пришли известие.
Мы с сестрой, стоявшие тут же, при этом переглянулись.
— Нет, и даже наверно могу сказать, — продолжала матушка, — что я туда не поеду. Маша, гувернантка — это целая история. Пускай сперва устроятся... Я после поеду их посмотреть... через неделю, через две...
После этого разговора их, слышанного нами обоими, для нас уже не оставалось никакого, малейшего даже, сомнения в том, что предыдущий разговор матушки с тетей Глашей понят мною как следует, то есть что у нее, у тети Глаши, на руках дочь дяди Васи, которая воспитывалась до сих пор в монастыре, а теперь тетя Глаша берет ее оттуда, и она вместе с гувернанткой — вот только с какой? — будет жить у нее в Пестрядке.
Совершенно неожиданное сделанное нами открытие это в высшей степени возбудило наше любопытство. Какова эта Маша, сколько ей лет, кто такая эта ее мать Авдотья, на которую она, по словам тети Глаши, нисколько не похожа, — столько вопросов, и ни от кого мы не могли получить на них никакого ответа. Если бы дело было летом, когда мы ходили гулять и в сад, и в поле, и так на дворе, я бы, уж конечно, от кого-нибудь — от садовников, огородников, пчелинцев, конюхов и проч. — уж узнал бы, допытался бы, а тут, зимой, от кого можно было это все разузнать? Мы никого не видали, сидели в доме, взаперти, а если нас пускали кататься на тройке, то мы ездили вместе с гувернанткой, и как же это и кого же это я стал бы расспрашивать? Конечно, я сделал все-таки попытки хоть что-нибудь разузнать — спросил нашу гувернантку Анну Карловну, так, как бы мимоходом и это меня нисколько, собственно, не интересует, каких лет дочь дяди Васи, которая теперь в монастыре и за которой поехала тетя Глаша, чтобы взять ее к себе в Пестрядку; но Анна Карловна только с удивлением поглядела на меня и спросила в свою очередь: откуда это я все знаю?
— Да уж знаю, — отвечал я, — все же это ведь знают.
— То-то, от кого это вы узнать могли?
— Слышал.
— От кого?
— Мама говорила с тетей Глашей.
— А вы подслушивали?
— Нет, я слышал просто. Я тут же сидел с ними и слышал, как они говорили.
— Вы слышали, только совсем не то, не поняли ничего и теперь бог знает что рассказываете.
— Нет, я понял, — попробовал было я настаивать, — и она, эта Маша, нисколько не похожа даже на свою мать Авдотью.
— Какую Авдотью? Это еще что такое?! — воскликнула Анна Карловна. — Вот погодите, мамаша приедет, я ей все это расскажу! Это еще что такое выдумали!..
Анна Карловна, конечно, все это знала, но она была поражена, как это я все знаю, и даже с такими подробностями. Она, несомненно, была возмущена неосторожностью матушки и тети Глаши, которые такие вещи рассказывают в присутствии детей, — разве можно это делать?
Так же безуспешно окончилась и моя попытка узнать что-нибудь от няньки нашей, которая, конечно, тоже все знала.
— А господь с ней, с этой девочкой, — отвечала она мне на мой вопрос. — Это не наше дело, батюшка, и что об этом говорить.
— Да ведь она дочь дяди Васи?
— А господь ее знает.
— Да ведь ты-то знаешь?
— Ничего, мой соколик, я не знаю.
— Ну вот еще!
— Да откуда же я узнаю? Где же я бываю? От кого мне слышать-то?
Так что мне оставалось на такие ее ответы сказать только с недовольной гримасой:
— Все равно ведь — я все узнаю...
Матушка вернулась, действительно, прямо из монастыря, не заезжая оттуда в Пестрядку к тете Глаше. Но зато она привезла нам богатый материал, который оставалось только поглощать и усваивать, по мере того как нам удавалось слышать ее разговор об этом с отцом, с гувернанткой или с кем-нибудь из родственников и соседей, приезжавших к нам и тоже интересовавшихся этим вопросом.
Так, мы очень скоро узнали, что этой девочке Маше уже пятнадцать лет будет скоро. Что она очень миленькая и даже, может быть, будет красавица со временем, потому что волоса у нее необыкновенной густоты и для ее лет длинны.
— Понимаете, — рассказывала матушка, — коса почти до полу. Я ей говорю: «Ну-ка, Маша, распусти косу». Как она распустила, я так и ахнула. Ну вот на столько (матушка показала пальцем, на сколько) не хватает до полу. И черные-пречерные. И потом глаза у нее совсем как у покойника Василия Николаевича: большие, черные и этакие задумчивые. Я смотрю на нее — совсем он, только, как в девочке, это все в ней нежнее...
Это нам было, я помню, почему-то очень приятно узнать. Нам она представлялась, на каком основании — неизвестно, забитой или уж по крайней мере всеми обиженной, и вдруг мы узнаем, что она, вот как назло им всем и к великой их досаде, такая красавица, оказывается!..
Потом мы узнали, что она необыкновенно кроткая, тихая и очень добрая, должно быть. Матушка, в подтверждение своих слов, рассказала несколько случаев, по которым она сделала такое о ней заключение. И это тоже нам было очень приятно узнать.
Она очень рада была тете Глаше, когда та к ней приехала в монастырь. Тетя Глаша, рассказывая об этом матушке, приехавшей позже ее, была растрогана этим до слез, и «это так на нее подействовало, — рассказывала матушка, — что она до того за эту неделю привязалась к Маше, что только и смотрит ей в глаза, как бы чем ей угодить».
Матушка находила, что это даже нехорошо и может принести Маше, то есть ее характеру, только один вред: она ее избалует и из скромной, хорошей девочки сделает капризницу.
Но главное, против чего матушка особенно возмущалась, — это была та, вовсе, по ее мнению, не нужная, роскошь в образовании, в обстановке и в платьях, которую тетя Глаша непременно хотела допустить для этой Маши.
В этом случае с матушкой все были согласны и приводили в подтверждение справедливости их мнений множество соображений, доказательств и примеров, которые мы, однако же, никак не могли признать заслуживающими уважения.
Эта «девочка Маша» теперь была уже в Пестрядке, и туда же должна была к этому времени прибыть и нанятая для нее гувернантка-немка, отошедшая от кого-то из знакомых соседей тети Глаши, где она с успехом воспитала всех детей.
Матушка недели через две — нам это было известно — едет туда. Возьмет ли она нас с собой? Как бы это сделать?
Но сделать этого нам не удалось. Матушка уехала к тете Глаше в Пестрядку одна, нас с собой не взяла, несмотря ни на какие наши просьбы и мои ухищрения.
Тетю Глашу и ее «девочку Машу» — так мы ее звали — мы увидали только летом, когда они обо приехали к нам вместе с своей гувернанткой.
V
Этот приезд их к нам я помню с поразительной ясностью. Как сейчас гляжу, на наш двор въезжает их карета; мы, знающие уже, что на этот раз тетя Глаша не одна, а везет к нам и «девочку Машу» с ее гувернанткой, жадно всматриваемся в окна кареты, не увидим ли «ее», не выглянет ли «она», но карета едет по двору так быстро... Вот она остановилась у крыльца, и из нее выходят, поддерживаемые с ними приехавшими и нашими, выскочившими к ним навстречу, лакеями, сперва тетя Глаша, а за нею еще каких-то две дамы... Где же «девочка Маша»?.. Я помню это наше — мое и сестры Сони — удивление, с которым мы посмотрели друг на друга, — что же это, дескать, такое?..
Но еще большее удивление ожидало нас впереди. Мы поспешили из нашей детской, откуда из окон мы смотрели на приехавшую карету, в зал, и оба невольно остановились — перед нами была тетя Глаша, еще какая-то дама с седыми буклями, пришпиленными на висках черепаховыми гребешочками, и совершенно взрослая девушка, которая разговаривала с отцом и матушкой и весело смеялась. Неужели это «она», это та самая «девочка Маша»? Разве такой мы ее себе представляли? Высокая, стройная, в прекрасно сшитом, но простеньком платьице с беленькими рукавчиками и воротничком, с черной блестящей косой, заплетенной необыкновенно тщательно и сложенной сзади в тяжелый пучок, казалось, перевешивавший ей голову, — она время от времени касалась до него рукой, как бы невольно поправляла его, — неужели же это «она»?
Но в это время тетя Глаша начала уже целовать нас каждого по нескольку раз и, подозвав к себе даму с буклями, познакомила нас с ней, сказав нам, что это гувернантка, а потом, подозвав к себе девушку с тяжелой косой, сказала нам, что это Маша и чтобы мы ее любили. Маша поцеловалась с нами и, совсем как взрослая, взяла нас за руки и пошла с нами по залу, разговаривая и расспрашивая нас с сестрой — любим ли мы сад, гулять, любим ли мы кататься на лодке и проч.
Я помню, я все поглядывал на нее, не мог все еще отрешиться от мысли, — как же это так: думали мы, что она такая, а она уж вот какая?.. Сестра Соня вошла с ней в колею гораздо скорее: через час, и даже того меньше, она уж относилась к ней совсем по-домашнему, как к старой знакомой, тогда как я все еще не мог попасть на верный тон. Она мне очень нравилась, но она была настолько солиднее меня, что я стеснялся с ней, чувствовал себя неловко, как это всегда бывает с мальчиками, которых знакомят с молодыми, но уж взрослыми девушками и они чувствуют, что те авторитетнее их: они еще мальчики, и все к ним так еще относятся, а эти уж взрослые девушки, и все с ними обращаются как равные с равными...
Это было перед обедом, что они приехали к нам. Мы уж «отучились», к тому же приехала тетя Глаша с Машей — обстоятельство или событие, по которому все равно занятия наши были бы прерваны, — и, как только все перездоровались друг с другом и несколько поговорили и успокоились от радости свидания, наша гувернантка,. Анна Карловна, в качестве нашей над нами, детьми, хозяйки, предложила всем, то есть их гувернантке, Маше и нам с сестрой, идти гулять в сад, так как до обеда оставалось еще довольно времени...
Гувернантки начали разговаривать друг с другом, а, мы то есть Маша и я с сестрой, побежали вперед. Но Маша, хотя и побежала с нами, держала себя, однако ж, не так, как мы; которым это доставляло удовольствие, а с целью приблизиться этим манером к нам. Удивительно, в смысле этого, как рано начинают владеть тактом девочки. На какие-нибудь два-три года старше она была нас, а командовать, в чужом доме, над чужими ей совершенно детьми, начала в тот же день и с первого же разу.
Мы пошли гулять, чтобы ей показать наш сад, наш пруд, наш огород, теплицу, парники, одним словом, все наши достопримечательности. Они, несомненно, занимали ее, они ее интересовали, но она не нуждалась в наших объяснениях при этом, в нашем руководительстве как компетентных людей, знающих все у себя дома лучше ее, конечно, — а рассматривала сама, не слушала того, что мы ей говорили, делала сама нам вопросы о том, что ее интересовало, критически разбирала, говорила, что там-то у того-то это не так устроено и это лучше, и проч. Однажды она сказала при этом:
— А вот в монастыре, так там, бывало, у нас рано, еще в марте месяце, уж и огурцы свежие и редиска. Конечно, это для матери игуменьи, не для всех же сестер...
Я остановился, слушая это, и смотрел на нее.
— Ты что так смотришь? — спросила она.
Я сконфузился и молчал.
— Ты хотел что-то спросить? Да? — сказала она.
— Да, — ответил я.
— Что такое?
— Ты долго жила в монастыре?
— Долго. А что?
— Ты зачем там жила?
— Оттого, что мне негде было жить.
— А теперь?
— А теперь можно... Ты почему это спрашиваешь? — подумав немного и усмехнувшись, спросила она.
— Так.
— Нет, не так. Ты слышал что-нибудь?
— Слышал, что ты там.
— А почему, не знаешь?
— Нет... — нерешительно ответил я.
— Неправда! — вдруг громко сказала она. — Неправду никогда не следует говорить. Ты думаешь, я обижусь от этого?
— Отчего? — испугавшись и удивившись ее неожиданному волнению, проговорил я.
— Ты что знаешь — скажи.
— Я ничего не знаю.
— Говори правду.
— Я правду говорю.
— Ты ничего не слыхал?
— То есть про что?
— Про меня.
— Нет, слышал.
— Что?
— Ты дочь дяди Васи... — чуть не задохнувшись, проговорил я.
— Да. А кто моя мать — ты знаешь?
— Авдотья, — тихо выговорил я.
Никакой Авдотьи я не помнил, то есть не знал, не видал в Пестрядке, но я не забыл этого имени, когда я услыхал его тогда в разговоре матушки с тетей Глашей.
— Да, Авдотья... — уж тихо повторила она.
И, задумавшись, усмехнулась какой-то грустной и презрительной усмешкой.
— И мне это ставят в вину?..
— Кто? — спросил я.
Она мне ничего не ответила.
— Никто тебе этого в вину не ставит, — проговорил я.
Но она меня не слушала...
Потом она вдруг точно очнулась, встряхнула головой, поправила по привычке рукой косу и, уж по-прежнему веселая, опять стала звать нас играть и бегать. И эта перемена в ней произошла естественно совершенно, не то чтобы она притворялась. Она точно что-то поняла, рассеяла какое-то недоразумение, испугавшее ее и тяготившее.
Но я не мог забыть, запомнил, как у нее блеснули глаза, когда она меня спросила: «И ты знаешь, кто была моя мать? »
Предоставленные самим себе, потому что гувернантки наши, только что познакомившиеся, вели разговор между собою, совершенно поглощенные им, мы ходили по куртинам, по траве, рвали цветы и, по выражению Сони, всячески «отчаянничали», то есть нарушали те мелкие условия и строгости благонравной прогулки, которые при других обстоятельствах соблюдались и теперь были в совершенном забвении.
Наконец за нами пришел из дома лакей звать нас обедать.
Тут гувернантки наши, забросившие было нас, вдруг точно опомнились и начали делать нам инспекторский смотр. У меня оказались руки выпачканными в траве и земле до такой степени, что стыдно было на них смотреть, у Сони на ее платьице тоже зеленые от травы пятна. Но что нас удивило — это осмотр, который гувернантка Маши проделывала над ней. Она буквально ее всю до мелочей осматривала и делала ей тысячи замечаний, которые та, хоть и смеясь, но все-таки, однако ж, выслушивала от нее и даже иногда оправдывалась.
— Мисс Джонсон, — она была англичанка, — да это старое платье, я еще дорогой, должно быть, запачкала его, — говорила ей Маша.
— Мой друг, вы должны беречь и старое. Вы бедная девушка и не должны этого забывать ни при каких обстоятельствах.
«Почему же она бедная? — думал я. — Ведь у тети Глаши есть же такое же, как и у нас, как и у всех, имение?»
Но Маша ничего ей на это не отвечала, продолжая совершенно спокойно повертываться и смеяться на ее осмотры.
— Она тебе бог знает что говорит, — сказал я Маше, когда мы пошли обедать в дом.
— Что такое?
— Что она тычет тебе: бедная, бедная, — какая же ты бедная? Такая же, как и все.
Маша мне ничего не ответила, только погладила меня по голове и надвинула шутя мне шапку на глаза.
— Вообще она у тебя противная, какая-то кислая, — продолжал я.
— Нет, она добрая. Она ничего.
— С фигурами, — я этого не люблю. И тон у нее какой-то...
Маша дружески-покровительственно потрогала меня по спине — я шел справа, рядом с нею, — и проговорила:
— Ты будешь меня любить?
— Да, — ответил я и вдруг весь покраснел.
Я чувствовал, как вся кровь бросилась мне в лицо...
За обедом, куда мы пришли, предварительно вымывшись, причесавшись и почистившись, мы застали целое общество: приехали два семейства наших ближних соседей. В числе их были три девушки, дочери их, лет по семнадцати и старше. Машу тетя Глаша сейчас же представила им, и они очень мило и, по-видимому, сердечно взяли ее за руки и начали с нею ходить по залу; пока принесли суп и все начали усаживаться. Но Маша села со мною рядом, предварительно подозвав меня к себе.
— Ты где сидишь? Посади меня рядом — я хочу с тобою, — сказала она скороговоркой.
Рядом со мною всегда сидела сестра Соня. Я побежал к матушке, отозвал ее и начал ей объяснять.
— Ах, сделай одолжение, где хочешь, — отвечала она мне, занятая с кем-то разговорами.
Я побежал в зал и начал там командовать у стола.
— Ты что это? — спросил меня отец.
— Маше надо сюда, между нами, поставить прибор.
Он рассмеялся и сказал мне:
— Посмотри на меня.
Я помню, кровь опять мне бросилась вся в лицо, а он рассмеялся еще пуще прежнего.
— Она славная девочка. Нравится тебе?
— Очень.
— Что очень?
— Она очень мне нравится. Она славная...
За обедом я сидел с нею рядом, и отец несколько раз, улыбаясь, взглянул на меня, а я от этого краснел.
Но когда он сказал что-то сидевшей с ним рядом тете Глаше и они оба, рассмеявшись, посмотрели на меня, я готов был провалиться.
В довершение всего еще и Маша спросила меня:
— Что ты такой чудной? А?
Я с сдавленным и пересохшим горлом насилу мог дать ей ответ:
— Так. Ничего...
— Что же они так смотрят на тебя?
Но тут я уж чуть не расплакался. Слезы подступили у меня к горлу. Я чувствовал, что я смешон и они надо мною смеются... Ничто так не обижает детей, как снисходительно-добродушное отношение старших к великодушному и благородному порыву детей, а я был убежден, что пробудившееся во мне чувство к Маше есть и именно и великодушное и благородное.
После обеда и весь вечер я только и думал о том, как бы и чем мне доказать, что я выше того, как они обо мне думают, и что я вовсе не смешон, а они грубы и несправедливы ко мне.
Но я ничего не придумал. Проект одного геройского подвига сменялся у меня в голове другим подвигом, еще более геройским, но не представлялось решительно никакого предлога к проявлению моего геройства. Все шло, как по-заведенному, своим чередом: опять гуляли в саду, потом на террасе пили чай, кто-то после играл на фортепьяно. Я хотел было, пользуясь лунной ночью, снова пойти гулять в сад и слушать соловья, так и заливавшегося где-то в кустах, но перед вечером был дождь и оттого теперь было сыро.
— Не ходите, еще насморк получите, сыро, — сказал нам кто-то из старших, когда мы, то есть Соня-сестра, Маша и я, хотели было идти в сад.
— Я платок на голову надену, — возразила Маша, — Сережа, там, в передней, платок, принеси мне его, — сказала она.
Я кинулся за платком, но когда я его принес, вопрос о прогулке был решен уже окончательно в отрицательном смысле и даже балконная дверь была уже заперта.
Меня отослали отнести платок опять в переднюю.
Так не удался мне даже и этот подвиг пустой ловкости и любезности.
Ах, до чего живо я это все помню!..
VI
Тетушка прогостила у нас с Машей этот раз недолго, дня три, и уехала к другим родным, представить и им Машу.
На возвратном пути она обещала опять к нам заехать.
У нас все были в восторге от Маши, особенно матушка, которая никак не ожидала теперь встретить ее такою и все говорила:
— Ну, вы не можете представить, какая в, ней произошла перемена. Если бы я встретила ее одну на улице, я бы не узнала ее.
Все эти удивления и рассуждения относились главнейшим образом к тому, как она за это короткое время так быстро возмужала, развилась, стала совсем почти как взрослая девушка, тогда как ей всего еще несколько месяцев как минуло пятнадцать лет, и с каким тактом, достоинством и в то же время скромностью она себя держит.
— Это все мисс Джонсон. Это все она, — говорили все, — Ведь эти англичанки...
— Да, но ведь и плата же! — возражали некоторые.
— Ну, знаете, уже лучше заплатить, да чтобы было... чтобы она сделала из детей...
— А что она получает?
— Глаша говорила, восемьсот.
— Ой-ой... Ну, это ведь и цена же.
Эти разговоры, когда они происходили при нашей гувернантке, Анне Карловне, получавшей что-то рублей триста, не более, вызывали всякий раз ее неудовольствие, которое выражалось в кислых минах ее и иногда полуобиженних замечаниях, ни к кому непосредственно не относящихся, что от родителей всегда зависит взять к своим детям такую гувернантку, которая им больше нравится, и проч, в этом роде.
Анне Карловне на это отвечали туманно и при случае, чтобы успокоить ее, говорили:
— Ну да вы согласитесь, Анна Карловна, вы вот у нас, да и везде, где вы жили, вы свой совсем человек, вы как ближайшая родственница в доме; но много ли таких? Что мы видим кругом?
Эти замечания-возражения ее успокаивали, и она опять приходила в нормальное состояние своего духа, уверившись в том, что эти все рассуждения о мисс Джонсон и вообще об англичанках до нее не относятся.
Однажды, вскоре после отъезда тети Глаши, когда у нас кто-то был и шла речь в таком вот вроде, как вышеприведенная, о воспитании детей, о гувернантках, и заговорили о Маше, кто-то из присутствующих спросил матушку:
— А что, скажите, не знаете, Глафира Николаевна сделала «ей» духовную?
Матушка отвечала, что она хоть и слыхала от тети Глаши об этом, что она ей говорила про духовную, но исполнила ли она это, то есть написана ли у нее духовная, — она этого хорошо не знает.
— Вы спросите ее об этом. Напомните ей об этом, если она, может быть, позабыла.
И еще кто-то из присутствующих стал тоже говорить об этом:
— А то ведь все это воспитание, вся эта обстановка... если, чего боже сохрани, да Глафира Николаевна умрет, не оставив духовной... ей же во вред будет... Так кто же на ней женится: девушка без имени... Да если еще у нее не будет и состояния никакого... Куда же ей деваться? За управляющего какого выходить? Аптекарь какой-нибудь, заседатель, становой женится?..
Все были согласны, что это действительно будет ужасно, если Глафира Николаевна забудет или так почему-нибудь не сделает завещания.
— Она, кажется, боится сделать завещание, — сказал кто-то из сидевших тут, — я с ней заводил как-то однажды речь об этом, и мне тогда же, я помню, показалось так.
От этого разговора перешли на другую тему: кто, в случае кончины тети Глаши, будет ее наследником, если она завещания никакого никому не оставит?
Перебирали и перетолковывали разно, но в конце концов все согласились, что ближайшим наследником у нее какой-то двоюродный племянник, служащий в Москве в каком-то военном ведомстве — комиссариатском или провиантском, человек и без того богатый.
Кто-то даже знал его и сообщил о нем, что он в эту вот войну (тогда только что кончилась Крымская война) нажил огромные деньги.
Но когда зашла речь о том, что это еще слава богу, что он, этот господин, может быть, в случае неоставления Глафирой Николаевной духовного завещания на имя Маши еще и не польстится на наследство, так как и сам богат, — то разговаривавший об этом родственник воскликнул даже:
— О, что вы!.. Нет, это не такой человек. Он и отца и мать родную не пощадит!..
И он начал рассказывать про этого родственника, что он живет в маленькой квартирке, что у него одна только страсть — карты, но он и тут устроился как-то так, что играет всегда очень счастливо.
Он очень известен в Москве, — заключил рассказчик, — у него идет большая игра, настоящий игорный дом.
Рассказчик добавил еще, что у этого господина, при всей его скупости, устраиваются какие-то скандальные и непристойные вечера, на которых, однако ж, бывает вся Москва, и поэтому у него большие связи, с ним трудно что-нибудь сделать.
Но никто из присутствующих но знал его. Они знали, что он существует, знали, как его зовут, но в лицо никто его не знал. Он был мальчиком отвезен в какое-то военное учебное заведение, и с тех пор его никто не видал, так как он сюда не приезжал. Его отец и мать давно умерли, имение их продано было за долги, и он стал совсем отрезанный ломоть для всех.
Все эти рассказы об этом господине, вместе с рассуждениями о Маше, о ее дальнейшей судьбе, о духовном завещании тети Глаши, и проч., и проч., навели на всех такое неприятное чувство, что все расстались, жалея бедную девушку уже заранее, точно это было уж решенное дело, что не она сделается наследницей тети Глаши, а он, этот неприятный, всем неизвестный господин. Я по крайней мере, слушая и смотря на всех, вынес такое заключение, и оно на меня до того подействовало, что я несколько дней только и мог думать, что о Маше и этом чудовище, которое непременно пожрет ее, если тетя Глаша как-то не охранит ее от него.
На другой или на третий день после этого вечера я, оставшись как-то с отцом, спросил его:
— А что, этот господин, родственник тети Глаши, уж старик?
Отец ничего не понял из моего вопроса, с удивлением посмотрел на меня и проговорил:
— Какой родственник?
— Вот который ее имение после ее смерти получит.
Он, вероятно, забыл уже об этом разговоре или сразу не вспомнил, только с еще большим удивлением посмотрел на меня и сказал:
— Что ты такое говоришь? Какой такой родственник?
Я начал объяснять ему, спутался и сконфузился.
— Да откуда ты это взял его?
Я напомнил разговор вечерний.
— A-а!.. Ну, да тебе-то до него какое дело? — наконец догадавшись, сказал отец.
Я опять начал ему что-то объяснять и опять спутался. Но на этот раз я упомянул имя Маши, заметив, какая она бедная будет, что этот господин такой злой и хитрый, словом, повторил то, что тогда слышал.
— Ты заботишься о ней? Тебе жаль ее? — спросил отец.
— Жаль, — сказал я и весь вспыхнул.
— Тебе она очень нравится? — спросил он, и мне показалось, что он уже не смеется надо мною, но рассматривает меня с каким-то любопытством, как новую совсем для него вещь.
И, странно, в этом внимательном и неожиданном любопытстве его, с которым он смотрел на меня, я увидал что-то вроде признания моих прав на мои чувства к Маше, на мою заботу о ней, об ее интересах и проч.
— Не беспокойся об этом, тетя все сделает, — успокаивающе проговорил он.
— А если нет? — уже с облегченным сердцем спросил я, и нисколько не робея этого моего вопроса.
— Нет, сделает все, как следует. Я ей напомню, вот как она приедет.
— А если ты забудешь?
— Ну, тогда ты мне напомни об этом...
Это было первое серьезное поручение, которое я получал в жизни, то есть оно мне было дано не серьезно, конечно, отцом, но я понимал, что оно имеет, по крайней мере для Маши, серьезный смысл, и стал ждать приезда ее с тетей Глашей.
Я дожидался их спокойно, то есть, конечно, только по внешности; внутренне же я сгорал от нетерпения и от сознания представлявшегося мне подвига. Я представлял себе, как они приедут, будут рассказывать, где они были, у кого как их приняли, будут передавать это все с подробностями, с увлечением, а я буду сидеть тут же, слушать и думать: «Как это можно увлекаться такими пустяками, когда есть такое серьезное дело и оно совсем не выяснено?» И вот я улучу минуту, когда я останусь один на один, или — и это еще лучше — с Машей, в присутствии сестры, и вдруг, совершенно неожиданно и серьезно, спрошу Машу: «Вот что, Маша, — скажу я, — ты, конечно, не подумала об этом, но это очень серьезный вопрос: Глафира Николаевна сделала духовное завещание, что передает все тебе, или нет?» Она мне ответит, конечно, что не знает, а я с тем же серьезным видом скажу, что шутить этим нельзя и это надо выяснить. Потом я дам им понять, что я говорил об этом с отцом и он просил меня ему напомнить об этом, как они приедут...
Этот деловой мой вопрос, а равно и серьезный тон, с которым я поведу это дело, должны произвести сильное и благоприятное для меня на них обеих — и на Машу и на сестру — впечатление, которое сразу же поднимет меня в их глазах, и они совсем иначе станут на меня смотреть. Но и не они одни станут на меня так смотреть. Отец уж и теперь задумался, когда я предложил ему этот вопрос о духовной... Меня, конечно, посвятят во все подробности, я буду все знать, буду носителем в некотором роде тайны, так как, конечно, отец, да и все мне скажут, чтобы я об этом не болтал. Какое заблуждение с их стороны: я буду об этом болтать!.. Из них кто-нибудь скорее меня проболтается.
Но главное — и в этом вся суть для меня — я спасу Машу от этого чудовища, ее дальнего родственника, который живет так воровски в Москве и который, как все говорят, в случае смерти тети Глаши не пощадит ее, если не окажется духовного завещания. И всем этим она будет обязана мне, потому что я возбудил вопрос об этом и я же потом настоял на его разрешении. И она будет это знать...
VII
Но дни проходили за днями, а их все не было. Я уже начал терять в своем бездействии терпение. Я обсудил уже до мельчайших подробностей, что и как я буду говорить, в какой даже позе я буду стоять, когда начну об этом разговор е Машей. Придумал даже несколько предлогов отозвать ее, если скоро не представится простого случая нам быть наедине, то есть мне, ей и сестре Соне... А их все нет.
Несколько раз я спрашивал Соню, что она об этом думает, то есть почему они не едут. Но она к этому относилась как-то непростительно равнодушно. Спрашивал гувернантку нашу Анну Карловну, — эта отвечала мне уж совсем безучастно:
— Вероятно, упросили где-нибудь остаться подольше погостить.
— Но ведь все-таки они заедут, когда поедут к себе домой?
— Ведь вы слышали, Глафира Николаевна говорила тогда, что заедет на день, на два.
Анне Карловне было, кажется, неприятно скорей, если бы они скоро приехали, потому что опять могли начаться восхищения их гувернанткой-англичанкой мисс Джонсон, а это уж и тогда, в первый их приезд, много испортило ей крови.
Матушка когда я спросил ее, приедет ли тетя Глаша опять к нам, сказала:
— Да ведь ты слышал, она обещала...
И я опять жил надеждой несколько дней, подбегая каждый раз к окнам, когда кто-нибудь, я слышал, говорил, что едут к нам гости.
Однажды вечером, когда мы сидели все за самоваром на террасе, вдруг вошел отец, только что возвратившийся с поля, с распечатанным письмом в руках и, передавая его матушке, совершенно спокойно, как будто ничего в этом не было особенного, сказал:
От Глафиры Николаевны. Она просит, чтобы ты ей сварила земляники, у них всю какие-то червяки в этом году съели. Досадует, что не могла заехать на возвратном пути.
Матушка так же спокойно приняла письмо, пододвинула лампу и начала его читать.
Меня ударило просто в жар от этого известия — все мои планы разлетелись в прах. Я ничего не мог сообразить, понять и только удивлялся, как это они так спокойны. Неужели они забыли все эти ужасные разговоры об опасности, которая грозит Маше в случае неоставления на ее имя духовного завещания, — разговоры, которые и на них тогда произвели такое тяжелое впечатление.
Но не оставалось никакого сомнения, что они не придают ни малейшего значения полученному ими известию, о том, что тетя Глаша проехала к себе прямо, не заехав по дороге к нам. Отец начал рассказывать кому-то из сидевших у нас гостей о пшенице, об овсе. Матушка дочитала письмо, положила его и сказала:
— Вот чудачка. Ну, где же это я ей возьму земляники теперь? Она почти вся уже сошла...
И тоже точно и ей ничего при этом не пришло в голову, кроме этой земляники...
И только. Больше даже ни слова никто не сказал ни о тете Глаше, ни об этом завещании ее, ни об этой несчастной Маше.
Вышел какой-то перерыв в их разговоре, и я спросил у матушки, к которой сидел ближе:
— Значит, они теперь уж к нам не скоро приедут?
— Кто? — не поняв, про кого я спрашиваю, сказала матушка.
— Тетя Глаша с Машей.
— Не знаю, не пишет; в будущем году, вероятно, — опять летом.
Я помолчал и еще спросил:
— А мы... поедем туда?
Но матушку в это время спросил кто-то о чем-то, и она ничего мне не ответила, занявшись разговором. Когда, несколько времени спустя, я снова ее спросил, — она скороговоркой ответила мне:
— Да... как-нибудь...
Когда гости вечером уехали, я встретил в зале отца — он был один — и сказал ему:
— Ну, вот ты говорил напомнить тебе о завещании, когда к нам приедет тетя Глаша; как же теперь, она ведь не приедет в этом году уж больше к нам?
Он усмехнулся и сказал:
— А ты не забыл еще?
— Нет, — с удивлением к этому его вопросу отвечал я.
— Сделаем уж как-нибудь.
— Но когда?
— Скоро. Я ее увижу скоро и поговорю с ней об этом, — сказал он, уходя от меня и оставляя меня одного в зале.
Тетя Глаша бывала у нас обыкновенно в начале лета, а мы ездили к ней в конце, так в середине или в последних числах августа, а иногда, когда запаздывали, то и в сентябре.
Отец, действительно, виделся с ней вскоре, но когда я спросил его, что он сделал насчет духовной, то он ответил мне, что все будет скоро в порядке, но он сказал это мне так, как говорят, чтобы только отделаться.
Поэтому вся моя надежда оставалась теперь на нашу поездку туда, когда я предполагал подбить уже самое Машу начать разговор об этом с теткой, объяснив ей предварительно весь ужас того положения, которое ее ожидает, если тетя Глаша, по лени или из боязни умереть, не оставит духовной на ее имя.
Этой мыслью я жил все время, с тех пор как отец дал мне на мой вопрос такой неопределенный и уклончивый ответ.
Как вдруг в середине августа, совершенно неожиданно для меня, я услыхал, что меня везут в наш губернский город, в гимназию, где я буду учиться, а жить буду в благородном пансионе при гимназии. Известие об этом решении было для меня до такой степени странно и неожиданно, что я прежде всего растерялся сам за себя, за свою участь, и при этом с первого раза, конечно, совсем почти забыл и о Маше, и о духовном завещании, ее обеспечивающем. Известие о предстоящей мне участи ошеломило меня, отодвинуло от меня все другие вопросы на задний план. Но я даже вскоре заметил, как только я освоился с мыслью об отъезде, что она, Маша, вновь приближается ко мне такой же все для меня дорогой, бедной и близкой моему сердцу. Она стала еще более необходимой для меня. Теперь, с моим отъездом, Машина судьба представлялась мне совсем почти уже решенной: кто о ней позаботится, кому теперь будет дело до этого? Я не видел никого, кроме себя, кому бы она была так, дорога и кто бы так постоянно внимательно и неуклонно думал о ней и заботился...
Я был тогда, как могу это понять теперь, вспоминая о том времени в связи с собою, с своими представлениями, нервным и впечатлительным до последней степени. Я помню, что накануне моего отъезда я ходил в сад и прощался с аллеями, любимыми деревьями, любимыми местечками в саду, где я сиживал. Понятно, что, уезжая, я представлял ее себе совсем брошенной, уж чуть не погибшей. У меня, как только я начинал думать о ней, дух захватывало, и я не знаю, на что бы я тогда не решился, чтобы только спасти ее.
В таком состоянии я был, когда настал и день отъезда. Помню, это было утром. Начинался чудесный, ясный день. Над рекой еще был туман, все низы, заливные луга вдоль реки были окутаны еще им; но уж солнце, большое и яркое, всходило, и чуялся ведреный день...
Этого утра, а также и подробностей отъезда, я никогда не забуду. Только что вставшие и наскоро умывшиеся, матушка, сестра, гувернантка, нянька — отец всегда рано вставал летом — вышли провожать меня на крыльцо, жмурясь и щурясь на восходящее прямо перед нами солнце. Я думал и был озабочен только об одном — как бы мне с достоинством, то есть серьезно, выдержав характер, уехать. Я чувствовал, что задень кто-нибудь хоть одну какую-нибудь из моих больных душевных струн, я не выдержу, слезы начнут душить меня, и тогда все пропало. Это все я не знаю теперь для чего мне было нужно и даже что такое было это, собственно, все: под этим все надо было понимать, конечно, одно самолюбие, больное от расставания, раздраженное от сознания невозможности протестовать, детски отзывчивое и доброе.
Лошади и тарантас были давно уже готовы. На козлах сидел по-дорожному одетый и с необыкновенно серьезным — точно он сознавал важность минуты — лицом кучер Илья. Внутри, в самой утробе тарантаса, возился Филипп, наш человек, укладывая и уминая бесчисленные кулечки, подушки, чемоданчики и узлы с моим добром и припасами, которые нам были приготовлены на дорогу, а частью и для домашнего обихода там, в том городе, где гимназия и где я буду жить. Тяжелое впечатление, испытываемое мною, испытывали, должно быть, и все провожавшие меня, потому что все это совершалось как-то молча, слышались отрывочные только фразы; наконец кто-то сказал: «Ну, готово».
— Готово, — повторил и отец, обнял и поцеловал меня.
— Готово, — услыхал я, сказал еще кто-то, и меня все начали целовать. Я переходил из одних объятий в другие, наконец все вместе со мною начали спускаться по ступенькам крыльца к тарантасу, подсадили меня, я сел высоко на положенные на сиденья подушки и увидел, что с другой стороны тарантаса уж лезет садиться со мною рядом Филипп. Я едва держался и чувствовал, что мне уж нет никакого дела теперь до поддержания своего достоинства, а просто жаль их, до боли жаль с ними со всеми расставаться.
Но в это время раздалось:
— Ну, с богом, трогай! Да осторожнее, пожалуйста, Филипп, слышишь!
Это говорил отец.
— Слушаю-с, да как же можно! — оборачиваясь из отъехавшего уж тарантаса, откликнулся ему Филипп.
Я оглянулся и не успел еще, прощаясь, всмотреться хорошо в лица, как вдруг их всех заслонил угол флигеля, стоявшего у выезда, — мы выехали со двора и поворотили влево. Они скрылись.
Мне предстояла новая совсем жизнь, о которой я понятия не имел, и она была у меня не за горами. Завтра вечером я уже должен был начать жить ею, но я всю дорогу и не думал о ней. Я мысленно был все еще дома, вспоминал, что они там делают теперь, в таком-то часу... Вот теперь они пообедали, и отец ушел спать... Матушка сидит на балконе — вероятно, кто-нибудь есть у нас... Соня с Анной Карловной гуляют в саду, или Соня одна гуляет перед балконом невдалеке, а Анна Карловна сидит с матушкой, и они разговаривают...
VIII
В благородном пансионе, куда меня привезли и сдали и откуда с следующего же дня я стал вместе со всеми ходить в гимназию в классы, были одни только дети дворян — помещиков нашей губернии. Всего нас было человек тридцать пять — сорок. Эта цифра довольно часто менялась и в обыкновенное время, так как одних брали, других привозили к нам. После экзамена она менялась еще резче, потому что одни оканчивали курс и выходили, а на их место являлись новички.
Почти одновременно со мною — несколькими днями позже — привезли новичка, такого же неопытного, ничего не видевшего мальчика, как и я. Он попал в тот же класс, куда и я, и мы сидели с ним рядом во время занятий и в пансионе. Это был очень изнеженный, слабенький мальчик, не по летам вытянувшийся, с белокурыми вьющимися волосами, с голубыми доверчивыми глазами, первое время страшно тосковавший. У него была масса разных коробочек, листиков почтовой бумажки с нарисованными цветочками, птичками, сидящими в гнездышках и на ветках, каких-то черных вырезанных силуэтов, засушенных цветов и т. п. Все это у него было тщательно разобрано и уложено в отведенном ему ящике казенного стола, за которым мы сидели и занимались во время приготовления к завтрашнему дню уроков. Сидя рядом с ним, все это я видел — некоторые предметы он сам мне показывал.
Как-то вскоре, недели через две как мы поступили, во время вечерних занятий воспитатель наш, m-r Брон, дезертир-француз, какой-то капрал[38], перебежавший к нам в Севастополе и потом получивший место воспитателя в нашем благородном пансионе, вдруг закричал на моего соседа, разбиравшего во время занятий у себя в ящике все эти бумажки, цветочки, силуэтики и проч.: «Эй, занимайтесь!..» и, вероятно возмущенный тем, что он не сейчас задвинул ящик и взялся за книгу, вскочил со своего стула, на котором он постоянно сидел и следил за нами, читая какой-нибудь французский роман, и подбежал к мальчику:
— Покажи!
С — н показал, отодвинув ящик.
— Вынимай! Все вынимай!
Мальчик все вынул.
Брон рукой смахнул все это на пол, кликнул служителя и велел все это бросить в топившуюся печь.
Несчастный мальчик кинулся, схватил все эти дорогие для него предметы, прижал их к груди и не отдавал.
— Бери! — кричал на служителя m-г Брон.
Служитель не трогался. Это был мой Филипп.
— Бери! Я тебе говорю! — продолжал Брон.
— Филипп, не бери, — сказал я.
Я сам задыхался от волнения.
— Я не могу, — отвечал Филипп Брону.
— A-а! Хорошо. Бунт! Это бунт, — горячился Брон и, оставив нас в покое, отправился в дежурную комнату записывать нас в штрафную книгу.
История эта, разумеется, кончилась ничем, потому что не мог же, в самом деле, какой-то выходец, дезертир, обращаться так с нами, детьми все более или менее крупных местных помещиков и предводителей дворянских, — этот Брон был определен к нам по протекции одной губернской аристократки, у которой он снискал к себе расположение, — но с этого случая у меня с моим соседом начались самые дружеские интимные отношения. Он начал доверять мне все свои самые задушевные тайны, мечты, планы. Я был гораздо мужественнее его, здоровее, а главное — гораздо развитее его. Он был поэтому совершенно подавлен моим во всех отношениях превосходством и за мою дружбу с ним и покровительство платил мне беспредельной, какой-то, можно сказать, собачьей преданностью и даже приверженностью. Я мог заставить его сделать для меня что угодно, и он не задумался бы ни на минуту.
Товарищи иногда смеялись по этому поводу и говорили:
— Т — в, скажи, вели С — ну, чтобы он из окна для тебя выскочил.
— И выскочу, — отвечал им С — н.
— Ну, выскочи.
— Пускай он скажет.
— Т — в, скажи...
Он таким был потом и в жизни, таким он и покончил с жизнью...
Месяца через два или через три мы уж начали подумывать о том, кто куда поедет на рождественские праздники. Только что утихшее было воспоминание об оставленных в деревне дорогих сердцу людях и предметах теперь вновь будилось, и являлось старое нетерпеливое желание как можно скорее опять увидеть их, пожить с ними и их жизнью. Мой верный друг, мечтательный и нервный, задумчивый, склонный к экзальтации, теперь все свободное и даже не свободное время, если обстоятельства позволяли только это, проводил в перебирании этих своих силуэтиков, рисуночков, писем и проч., напоминавших ему об его доме.
Однажды, рассказывая мне о том, какие ему предстоят в деревне удовольствия, он сказал, что у них будут играть на домашнем театре какую-то пьесу, и это будет очень весело.
— И ты будешь играть?
— И я.
— А еще кто?
— О! У нас есть отличные актеры и актрисы! — воскликнул он.
И затем он начал перечислять фамилии своих родственников и соседей, которые на праздниках приедут к ним, чтобы принять участие в спектакле. Между этими последними, то есть соседями, я услыхал и фамилию тети Глаши.
— Ты знаешь тетю Глашу?..
— Глафиру Николаевну?
— Ну да.
— Да она ж в семи верстах от нас.
— Стало быть, и Машу ее знаешь?
— Знаю.
Меня охватило такое волнение, что я не мог говорить даже несколько мгновений.
— Ты ее когда видел последний раз? — с трудом выговорил я, несколько уж успокоившись.
— Как сюда меня повезли, дня за два. Они были у нас.
— И Маша?
— И она...
Как ни хорош и даже ни дружен я был с С — м, но я никогда и не начинал даже с ним говорить обо всем этом, то есть об этой своей истории с нежными и попечительными чувствами моими к Маше. Конечно, если бы я мог только предполагать, что он и ее и тетю Глашу знает, — было бы другое совсем, я бы расспрашивал его про них обо всем, до самых мелочей, и он был бы мне от этого еще вдвое ближе.
Теперь зато я начал с удвоенной жадностью расспрашивать его о них, то есть, собственно, о Маше, только так, для приличия, справляясь и о тете Глаше.
Он рассказывал мне, повторял то, что меня интересовало, по нескольку раз с тем большей охотой, что эти расспросы мои и его рассказы удерживали меня возле него, видимо вызывали и меня на некоторые ему признания и, таким образом, сближали меня с ним.
Он рассказывал, повторял мне интересовавшие меня подробности, но я ясно видел, что он ничего не знает из того, что собственно и главнейше интересовало меня: ни о том, что Маша незаконная дочь дяди Васи, ни о том, что если тетя Глаша не оставит ей завещания в случае своей смерти, она останется нищей, — он ничего не знал. Он знал только, что ее, то есть Машу, все очень любят и говорят, что она будет замечательная красавица, что тетя Глаша гордится ею и любит ее так, что и души в ней не чает.
— Нынче летом у нас студент гостил, который в Москве с Володей (его братом) живет, и он был влюблен в нее.
— А она? — спросил я.
— Да она чудная такая, ей ни до чего дела нет.
— Он летом опять к вам гостить приедет?
— Нет, он кончает курс и куда-то уезжает.
И еще рассказал он, что за нею ухаживал также какой-то ремонтер[39], у которого недалеко от их имения снят хутор и помещение все, где у него стоят ремонтные лошади.
— Значит, он постоянно там живет?
— Летом — да, а зимой уезжает в Москву.
— Теперь его, значит, нет?
— Нет.
Все в этом роде он мне рассказывал. Это все, конечно, более или менее тревожило, беспокоило меня.
До праздников оставалось уже недолго, недели две — не больше. За нами должны были приехать или прислать из деревни лошадей, чтобы взять нас. С — ну я уже дал понять — не прямо сказал, но именно дал понять, — что я ее люблю «безумно» и что я носитель ее тайн, что ей угрожает одна опасность, от которой ее никто не спасет, кроме меня, но я ее спасу...
Мне было тогда уже тринадцать лет, и я перечитал уж массу переводных французских и оригинальных русских романов. Марлинского всего я перечитал раза два и бредил его героями, выбирая то того, то другого из них за образец себе. Судьба Маши мне представлялась как раз подходящей для совершения мною подвигов во вкусе героев Марлинского, и я ходил с ужаснейшим сумбуром в голове, едва успевая готовить уроки.
Когда за нами обоими наконец приехали (прислали кучеров с лошадьми) и мы начали с ним прощаться уж совсем одетые по-дорожному, я с чувством сказал ему только несколько слов. Все вопросные пункты и инструкции он получил от меня еще раньше во всех подробностях.
— Я понимаю, — крепко пожав мне руку и обнимая меня, отвечал мне мой друг так же растроганно и в то же время так же серьезно и решительно.
Я уехал домой, исполненный самых возвышенных мыслей и самых серьезных соображений.
IX
Не доезжая версты до нашего дома была мельница, принадлежавшая какому-то купцу Огаркову. Он у нас бывал, то есть приезжал по делам к отцу, и я его видал у него в кабинете. Летом мы всей семьей иногда приезжали к нему на мельницу, и в это время он и жена его выходили к нам и они угощали нас у себя чаем с вареньем и какими-то особенными, необыкновенно вкусными кренделями — обыкновенными баранками, вероятно.
Когда мы теперь подъехали к мельнице, на плотине мы увидели этого Огаркова. Он стоял с какими-то мужиками и разговаривал. Он очень любезно раскланялся со мною и стал поздравлять с приездом и говорил еще какие-то любезности. Кучер приостановил лошадей.
— Маменьку-то вот, жаль, не застанете дома — сейчас только проехали, спешат к тетеньке Глафире Николаевне, — с участием сказал он.
— Что там такое? Случилось что? — с испугом воскликнул я.
— Да нездоровы, кажется, оне, — отвечал Огарков успокоительным тоном, но я видел по лицу его, что он не совсем откровенно мне говорил. — Ничего, все, бог даст, все под богом ходим, может еще и понапрасну потревожили, — добавил он.
Дома, здороваясь с отцом, вышедшим встречать меня на крыльцо, прежде всего я спросил, что такое у тети Глаши случилось, что матушка так поспешила, не дождавшись меня, поскакала туда.
— Да, что ж делать — ужасно это грустно! — с ней, кажется, паралич, — отвечал отец, — плохо ей, по крайней мере так говорят.
Я просто как с горы сорвался и упал в какую-то пропасть. Должно быть, я был хорош, что отец с испугом на лице спросил меня:
— Что с тобою?
— А Маша? — проговорил я.
Он повел меня в дом; в передней с меня сняли теплое платье — я повертывался, шел куда меня вели, здоровался с сестрой, с гувернанткой, с няньками, со всеми, как автомат.
Перепуг всех взял, что со мною такое сделалось. Отец растерянно спрашивал меня, почему это известие так тревожит меня, успокаивал, говорил, что, может быть, все еще окажется благополучно, что верного ничего он и сам не знает, так как все, что им известно. — известно из письма Маши, которая могла просто испугаться, и больше ничего.
Меня, насколько могли, успокаивали; но никому из них и в голову не приходила настоящая причина моего беспокойства. Наконец, много времени спустя уже, я — так долго не решавшийся спросить — задал отцу вопрос о том, что же теперь будет с Машей?
— Да, это ужасно, если только Глафира Николаевна не сделала ей завещания, — согласился и он.
— А она не сделала его?
— Должно быть, нет.
— Я был уверен в этом! У меня было предчувствие! — воскликнул я. — И какая это подлость! Оставить, бросить так ее...
Матушку ожидали только на третий день. Если бы она почему-нибудь решилась там остаться на более продолжительное время, она должна бы была — так было условлено — прислать известить об этом. Эти три дня были для меня целой вечностью, кажется. Наконец на третий день, к вечеру, она приехала.
Положение тети Глаши было, по ее словам, безнадежно. Она лежала без языка, одна рука и одна нога у нее отнялись. Доктора — три, — которые приезжали к ней во время пребывания там матушки, говорили, что прожить она может, пожалуй, еще и проживет, но чтобы выздоровела — на это нет никакой надежды. Я слушал это все вместе с другими и спросил ее:
— И завещание в пользу Маши, конечно, не сделала?
— Никакого, — решительно ответила она, не догадываясь, какое значение имеет этот ее ответ для меня.
— Фу, какая подлость! — опять воскликнул я.
Матушка быстро обернулась на меня.
— Это ты про тетю Глашу-то? — с удивлением глядя на меня и даже как бы в испуге, проговорила она.
— Да разве можно делать то, что она сделала? Ведь эту несчастную теперь выгонит на улицу этот их дальний родственник.
Матушка начала говорить, что этого тетя Глаша, конечно, никогда не желала сделать, что это просто несчастие, и т. д., и т. д., что наконец, если ей немножко, бог даст, получшает, она, матушка, первая, конечно, настоит на этом, то есть чтобы тетя Глаша сделала духовное завещание, и проч.
Но на другой день по ее приезде из Пестрядки приехал посланный и просто, без письма, на словах, привез известие, что тети Глаши не стало...
X
Прошло много лет после этого. Я кончил гимназию и был потом в университете. Что случалось за это время с Машей — я знал все. Ужасное впечатление производили на меня всякий раз известия о несчастиях, которые одно за другим обрушивались на эту несчастную девушку. Я знал, что после смерти тети Глаши ее пригласил к себе жить другой наш дальний родственник, и ей там был далеко не мед. Я слышал потом о каком-то гнусном покушении на нее со стороны того дальнего ее родственника, который унаследовал, помимо ее, имение после тети Глаши. Я знал, что потом у нее была оспа, страшно ее обезобразившая, после которой она, выздоровев, поступила в тот монастырь, где когда-то жила девочкой и откуда ее тогда взяла на воспитание к себе тетя Глаша. Но сам я ее с того единственного раза, как видел тогда впервые у нас, больше ни разу не видал.
Ранней весной я ехал однажды домой из Петербурга в деревню. Реки только что прошли. Мерзлая, не успевшая еще оттаять земля была покрыта местами еще снегом. Но день был жаркий, яркое солнце — веселое, весеннее солнце — стояло высоко в голубом, даже синем небе, какое бывает только ранней весной. Там, в его выси, звенели бесчисленные голоса: пели жаворонки, посвистывая летели утки, кулики. Я почти уже подъезжал к нашей деревне, и оставалось немного уж, каких-нибудь верст двадцать.
Впереди нас давно уж ехала подвода парой — обыкновенная, простая мужицкая телега, запряженная двумя лошаденками, — и на ней каких-то две женских фигуры и мужик-кучер на козлах. Дорога была худая, и я не спешил на тройке обогнать эту подводу. Но на каком-то повороте они остановились, так что нам нужно было проезжать мимо их. Я взглянул, и из двух монашенок, сидевших на подводе, лицо одной невольно остановило почему-то на себе мое внимание. Мне показалось, что я ее видал, помнил почему-то... Ямщик тронул, и мы поехали рысью вперед, далеко оставив их скоро за собою.
Дня через четыре по приезде домой мы сидели за чаем, как к матушке пришла нянька и сказала ей: «Монашенки приехали».
Я почему-то при этом невольно вспомнил про тех монашенок, которых видел дорогой, и именно про ту, которую тогда я не мог никак припомнить, где я ее видел.
Матушка велела принять их, подать им чаю, узнать, не хотят ли они ночевать — дело было уже поздним вечером. Немного погодя она сама пошла к ним: она много им давала разных старых вещей, с которыми я уж не знаю что они делали, жертвовала всегда и сколько-нибудь денег.
Вдруг она вернулась и, радостно-сияющая, обратилась к нам, ко всем сидевшим еще у чайного стола, с вопросом:
— А знаете, кто одна из этих монашенок?
Я совершенно безучастно посмотрел на нее, предполагая, что это просто какая-нибудь знакомая всем им монахиня, которую я совершенно не знаю и до которой мне никакого дела нет.
— Отгадай. Ну как бы ты думал, кто? — смотря на меня уж одного, вдруг спросила она.
— Маша! — вдруг почему-то пришла мне в голову она, и я воскликнул ее имя.
— Да. Ты почем узнал?
Почему она мне пришла вдруг в голову, как это могло случиться, когда я и не думал о ней, — я не знаю, — но теперь вдруг понял точно, что никого, кроме нее, и не могло быть, и мне вдруг ужасно захотелось скорее ее видеть, говорить с нею.
— Она где?
— В угольной. Им самовар подали, они чай пьют.
— Можно туда?
— Конечно.
И я и все мы пошли смотреть Машу, говорить с ней, расспрашивать ее.
Я торопливо, вперед всех, не дожидаясь остальных, вошел в угольную. Там сидела нянька за самоваром и две эти монашенки. Они обе встали при моем появлении. Ту, которая была «Маша», я узнал теперь сразу и хотел было уж подойти к ней, назвать по-старому, как тогда; но предо мною были две серьезные до суровости женщины, не допускавшие, по-видимому, и мысли ни о какой радости. Они встали, поклонились мне как-то враз и продолжали стоять с опущенными глазами.
Мне вдруг сделалось ужасно неловко за свою поспешность и излишнюю развязность, с которой я вошел. И потом, как же я ее назову?
Меня выручила матушка, вошедшая в это время.
— Мать Марфа, вы не узнаете его? А помните гимназиста-то?
Монахиня подняла на меня глаза и долгим, внимательным взглядом посмотрела, как бы припоминая.
Я тоже смотрел на нее. Лампа со стены освещала ее сзади, так что лицо ее было не освещено и я не мог видеть на нем следов, оставленных страшной болезнью, ею испытанной.
— Нет, я помню, но они, — она повела глазами на меня, — тогда, кажется, не были еще гимназистом.
— Совершенно верно, — не без некоторого волнения ответил я ей.
Матушка, отец, тоже сюда пришедший, начали просить их опять садиться и продолжать кушать чай. Мы все тоже уселись тут с ними. Я сел нарочно поближе к «Маше».
Матушка заговорила с ними что-то о монастыре, что там, какие новости, перемены, давно ли они оттуда выехали, по какому сбору ездят и т. п.
И, что мне было самое странное, — она нисколько не чувствовала в этом никакой неловкости, когда я говорил ей «мать Марфа», и отвечала мне, точно будто я никогда не знал другого ее имени.
Они долго сидели и говорили, а я слушал их и все смотрел на нее — как это так, был один человек, и вдруг этот же самый стал другой теперь совсем, так что ничего решительно в нем не осталось от того, первого человека и узнать его почти нельзя.
Уже совсем как им уходить спать — они остались у нас ночевать и так как сказали, что с дороги очень устали, то матушка велела им раньше все приготовить, — я спросил «ее»:
— А я, кажется, вас видел дня четыре тому назад. Я вас обогнал. Вы отстали на одном повороте.
— Очень может быть, — ответила «она» и посмотрела в мою сторону.
— Я тогда не то чтобы вас узнал, но никак не мог все вспомнить, где я вас раньше видел.
Она ничего мне не ответила, только еще раз взглянула на меня.
Мы провели с ними еще сколько-то времени и оставили их, пожелав им покойной ночи.
— Вы рано завтра уезжаете? — спросила их матушка. — Останьтесь, погостите, отдохните...
— Да вот поспешаем, полая вода нас застала. Нас уж давно в монастыре со сборами ждут. Скоро постройки начнутся, деньги нужны, — ответила другая монахиня.
Но они все-таки остались на завтра до нашего утреннего чая.
Утром, в столовой, я ее опять видел.
Мне опять пришлось — на этот раз уж не по моему желанию, а случайно — сидеть почти рядом с нею.
— И вы часто ездите по сборам? — спросил я ее.
— Когда благословит игуменья-мать.
— И вы всё тут ездите, по знакомым местам?
— Где подают жертву, там и ездим.
— Ведь тут все кругом полно для вас воспоминаний.
— Мы тут редко ездим.
— И в Пестрядку никогда не заезжали?
Ее в это время матушка спросила, не хочет ли она еще чаю, она ответила ей, мне показалось, нарочно поспешно, чтобы избежать ответа мне.
Второй раз я уже не решался спросить ее об этом.
Им подали после чаю еще какую-то закуску, после которой они уехали.
Когда я стоял у окна гостиной, смотря на них, как они отъезжают от крыльца, ко мне подошла матушка и, положив на плечо мне руку, спросила:
— Каково изменилась-то? Ведь ты бы не узнал ее?
Я вздохнул и пожал плечами.
ВИЦЕ-КОРОЛЕВА НЕАПОЛИТАНСКАЯ
I
Верстах в семи от нас была деревня Самодуровка, принадлежавшая дяде моему, Никандру Евграфовичу Олсутьеву. Он был нам родственником со стороны матери. Олсутьев был прежде человек очень богатый, но все свои имения прожил в Петербурге, где служил в одном из самых «блестящих» гвардейских кавалерийских полков. Ко времени этого рассказа у него было несколько сот тысяч долгу и оставалась уж только одна вот эта Самодуровка — по тогдашнему определению, триста душ, да была еще, кажется, какая-то пустошь, земля без населения.
Здесь, кстати, замечу, что название деревень Самодуровками, которых в нашей стороне много в каждом уезде, произошло вовсе не от господ их, которые были самодурами, а по следующему поводу. Живет село, разрастаясь вширь, народ все в нем множится, плодится; прежде пахали ближнюю землю, оставляя дальнюю в лугах, а теперь стали пахать уж и дальнюю, начали для этого ездить на самый конец дачи, версты за три, за четыре, времени на это уходит у всех много, а в рабочую пору это несподручно; уезжать же туда на несколько дней с тем, чтобы там и ночевать, жить, тоже не всем можно — не у всякого есть на кого оставить свой дом. Вот когда это наконец сделается уж совсем невмоготу, особенно беднейшим, они и начнут галдеть на сходках, что надо-де из села переселяться кому-нибудь туда, на дальний конец поля. Богачи на это не соглашаются, им не рука выпустить из села бедняков — бедняк всегда нужен, он годится им, его можно нанять в батраки и проч. Но бедняки стоят на своем и в конце концов добиваются своего, их отпускают и даже оказывают при их переселении, по обычаю, помощь: дают подводы, рубят общественный лес, плетут для них плетни и проч.; но все-таки смотрят на них с досадой, враждебно и называют их за их упрямство и настойчивость самодурами. Вот отсюда и название их будущего поселка — Самодуровка.
Такая-то Самодуровка была и у дяди Никандра Евграфовича Олсутьева. Прежде это был поселок, но потом стала уж целая деревня, все как следует, с флигелем для барского приезда, с усадьбой, с садом; был даже пруд для карасей, а чтобы садовнику было что делать — были кое-какие парнички и накладены кучи навоза, из которых торчала длинная, зеленая, никуда уж не годная спаржа. В этой усадьбе, еще маленькими, мы бывали несколько раз, ездили зачем-то туда с матушкой, разумеется всегда летом. Помню, нас встречал там какой-то высокий, худой, совсем седой старик, весь в белом, которого все звали Андрюшей, и старая-престарая, беззубая уж, женщина, Евпраксеюшка или Евпраша.
— А ну-ка, Андрюша или Евпраша, — скажет, бывало, матушка, — самоварчик есть у вас, угостите-ка нас чаем.
И Андрюша или Евпраша засуетятся, начнут ходить своей старческой, колеблющейся и шмыгающей походкой, и довольные, радостные такие, точно им подарили что-нибудь.
Потом являлся к матушке — приходил оттуда, с деревни — плотный мужик с необыкновенно блестящей лысой головой и огромной рыжей бородой — староста.
Пока нам собирали чай и мы пили его, матушка о чем-то говорила все время с этим лысым мужиком, который все время потел и утирался. О чем они говорили и даже как его звали — совершенно забыл теперь. Напившись чаю и походив по двору, перед флигелем и по саду, — одно название, что сад, так что-то такое вроде сада, — нам запрягали карету, и мы уезжали.
Дядя Никандр Евграфович в этой своей Самодуровке ни разу, кажется, и не был вплоть до того вот времени, к которому относится этот рассказ. Он вообще приезжал редко из Петербурга, да когда и приезжал, останавливался в своем главном имении, Знаменском, верст за сорок от нас. Но теперь это Знаменское было продано им на уплату долгов, и, как я говорю, осталась у него только одна вот эта Самодуровка да необитаемая пустошь.
Дядю Никандра Евграфовича мы видели до этого времени всего только раз или два, да и то как-то вечером, когда он был у нас проездом куда-то или откуда-то.
Зима, вьюга, сугробы снега, все окна занесло. Мы сидим в угольной или пьем чай вокруг самовара. Вдруг на той стороне дома, в передней, какое-то движение, оттуда спешно приходит лакей и докладывает; «Никандр Евграфович приехал». Отец с матушкой спешат к нему навстречу, порываемся и мы, но нас останавливают под предлогом, что дядя прямо с холоду, с морозу, и мы можем еще простудиться. Мы слышим голоса, веселые восклицания; но это все там, далеко, в зале; потом и этого не слышно — отец с дядей и с матушкой прошли в кабинет, и оттуда к нам приходит лакей с серебряным подносом. «Просят туда чаю», — говорит он нашей гувернантке Анне Карловне, которая заступила место матушки у самовара. Она наливает особенно внимательно стакан чаю, отрезывает на блюдечко свежего лимона, приносят откуда-то низенькие пузатенькие графинчики с белым и красным ромом, ставят это все на серебряный поднос, и лакей, у которого на руках явились уже белые перчатки, важно уносит его. И разве уж перед самым только ужином мы увидим дядю.
— Ах, как они выросли, сестра, — говорит он, поздоровавшись с нами и смотря на нас.
— Да, растут, — улыбаясь, соглашается матушка.
Но отец о чем-то опять заговорил с дядей, матушка тоже что-то ему рассказывает или расспрашивает его, и мы в стороне, на нас уж не обращают внимания. Мы только смотрим, рассматриваем дядю, какой на нем невиданный наряд, какие у него манеры, какой у него голос, какие ухватки. За ужином мы продолжали всё его рассматривать, слушаем, как он рассказывает про Петербург, про парады, про выходы во дворце, и все царь, великие князья, генералы, министры, посланники...
А утром, когда после классов мы вышли играть в зал, его уж нет, он уехал.
— Дядя вас целует, он не хотел вам мешать учиться, — говорила нам матушка, когда мы спрашивали ее о дяде.
Очень мало мы его видали, да и то вот так, мельком, на самый короткий срок.
Общее впечатление, впрочем, было о нем у нас очень хорошее: мундир у него такой блестящий и красивый, усы такие тонкие, элегантные, изящные, совсем не такие, как у большинства наших соседей-помещиков, и потом он такой веселый, живой, развязный, болтает, шутит, смеется — должно быть, очень добрый.
II
Гораздо лучше мы знали его сестру, «тетю Липу», Олимпиаду Евграфовну, маленького роста, худенькую, кроткую и молчаливую девушку уж лет тридцати пяти, отдавшую, как мы это много раз слыхали, половину почти своего состояния своему брату, выше которого она не знала человека в свете. Мы слышали про нее, что она «жила братом», что он все для нее, и «избави господи, если с ним случится что, она не переживет».
И все, бывало, она сидит в больших зеленых сафьяновых креслах у окна, вяжет тоненький чулок, скоро-скоро перебирая золотыми спицами подарок брата, и сосет малиновые карамельки. Я, помню, любил наблюдать ее. Возьму какую-нибудь книгу — у отца была большая библиотека, — сяду в этой же комнате, показываю вид, что читаю, а сам все смотрю на нее: она иногда в это время заработается и сама того не замечает, шевелит губами, что-то шепчет, улыбается. Очень мне это было любопытно, нравилось...
Она почасту бывала у нас и иногда подолгу гостила. Это, после бабушки Аграфены Ниловны, была самая любимая наша родственница И все ее в доме любили: и матушка, и отец, и прислуга. Она нас баловала лакомствами, у нее был всегда целый запас их с собою, особенно малиновых карамелек.
— Тетя Липа, откуда ты их берешь? — спрашивали мы.
— Это мне брат из Петербурга присылает.
И действительно, у нас, в нашей стороне, ни у кого таких не было: чистые, красные, совсем как рубины.
Любила она также барбарисовое варенье. Как, бывало, она приедет к нам, так уж всякий день вечером к чаю подают его в вазочке, и она кушает. Положит на блюдечко, возьмет ложечкой немножечко в рот и прихлебывает чаем.
— Тетя Липа, ты никакого другого варенья, кроме барбарисового, не любишь?
— Нет, вот малиновое тоже хорошо.
— А другое?
— Клубничное я тоже люблю, только оно приторно очень, сладко.
— А другое какое еще? — опять допытываем мы.
Но во рту у нее варенье, она отхлебнула чаю, говорить не может и потому только молча отрицательно качает головой.
Ее я вот как сейчас вижу.
Иногда мы ей надоедали с нашими расспросами до того, что матушка прогоняла нас от нее.
— Катенька, ну зачем же ты их, ведь они не мешают никому, — заступалась она за нас.
— Ах, Липа, надоели они. Лезут всё с глупостями какими-то.
Кротости и терпения необычного она была. Ездила с ней горничная ее, немолодая уже девушка и тоже, должно быть, добрая, но до того глупая, что все, бывало, перезабудет, что ей нужно взять с собою, и раз они приехали гостить к нам на месяц и забыли привезти с собою рубашек для смены, так что потом эту горничную — не помню уж, как ее звали — послали с нарочным в Павловку — имение тети Липы.
— Ну, это только твое терпение, Липа, — говорила ей по этому случаю матушка, у которой терпения тоже было хоть отбавляй, — я бы ее и неделю при себе не держала.
— Так мало ли что. Не нарочно!
— Прошлый раз вы платки носовые забыли, еще как-то чулки. Ведь это уж бог знает что.
По-тогдашнему, это были такие преступления, что теперь этого понять даже невозможно и никто бы даром их не спустил, а она — ничего.
У тети Липы было тоже когда-то несколько имений, но, как сказано выше, она отдала их все брату, а тот их спустил, так что ко времени этого рассказа у нее оставалась только одна эта Павловка, в которой она жила. Но мы никогда там не были. Знали мы только, что там был старый небольшой, бабушкин еще — Павловка ей досталась от ее матери — дом, в котором было жилых, то есть в которых можно было жить и зимою, только три комнаты. Имением заведовал староста, совсем уж седой мужик с трясущейся головой. Этого мы видали. Он иногда приезжал к нам, когда тетя Липа гостила у нас, привозил ей какие-то бумаги, письма. Она была с ним очень ласкова и всегда просила, чтобы ему дали рюмку водки и накормили его.
— Ах, Липа, о каком вздоре ты говоришь, — ну, разумеется, и водки ему дадут и накормят его, — говорила ей в этих случаях матушка, — как же его не накормить? Человек за пятьдесят верст приехал, с морозу, а она просит еще об этом!
Сама она в хозяйство, кажется, совсем не входила, предоставив все этому старосте своему; а потому, как над ней с упреками и ядовито подсмеивались соседи, особенно соседки-помещицы, относительно ее женского хозяйства, следовало, я думаю, заключить, что это хозяйство было у нее в плачевном состоянии, если еще было оно. По крайней мере, ни о каких тальках, кружевницах, коверщицах и т. п. у нее и разговору не было. Все ограничивалось, кажется, одними грибами да ягодами.
Тетя Липа много читала. Я не могу теперь сказать, имело ли это чтение какой-нибудь результат, усвоивала ли она что-нибудь из прочитанного и как все это переваривала ее голова, но читала она иногда по целым дням, и всё серьезные книги. Она много очень перечитала из отцовской библиотеки. Потом, она прекрасно знала французский и немецкий языки, и не болтала только, но основательно их знала. Наши гувернантки, француженка и немка, говорили так, по крайней мере, про нее.
Тетя Липа училась в Москве, в каком-то дорогом и в то время самом аристократическом пансионе, где отлично кончила курс первою. Это мы всё знали из ее разговоров с нашими гувернантками. В свободное от занятий с нами время они говорят с ней, а мы слушаем, это нам интересно. В то время, вот когда они говорили, а мы слушали их, пансион этот еще был цел в Москве, и однажды тетя Липа сказала матушке, присутствовавшей при этом:
— Вот бы Сонечку (мою сестру) туда отдать: прекрасное заведение.
Матушка промолчала, ничего ей не ответила: Сонечка предназначалась в Смольный монастырь[40], который, в нашем, по крайней мере, захолустье, считался тогда лучшим женским учебным заведением и, к тому же, там окончила курс некогда и бабушка (первого выпуска) — мать отца.
Тетя Липа не вышла замуж по причине какой-то необыкновенно печальной любви, которую она почувствовала вскоре по приезде из пансиона к одному молодому человеку, их соседу, тоже только что приехавшему на побывку к своим родителям из Петербурга, где он служил гусаром. Дело было зимой, на праздниках. В Крещение он явился в иордань, желая блеснуть красивой своей формой, в одном мундире, простудился, схватил горячку и умер. Тогда Липа едва перенесла эту утрату, тоже была больна, все отчаивались в ее выздоровлении, однако ж она, слава богу, выздоровела, но о замужестве за кого бы то ни было она уж и слышать потом не хотела. Сватались и богатые и красивые, — она всем отказывала.
— Ну что ж делать, значит, не суждено было. Тогда бог не судил мне выйти, и не нужно, — коротко отвечала она, когда заводили с ней речь об этом.
Вообще она не любила этого разговора, отделывалась этой фразой или просто молчала, ничего не отвечала.
И это не было притворством с ее стороны, жеманством: она никогда не притворялась. Она действительно, должно быть, тяжело переносила свою утрату, и это отразилось на всю ее жизнь.
III
Как я уже упоминал, у нас все — и родные и чужие — говорили про тетю Липу, что она живет только для брата своего, дяди Никандра Евграфовича, которому уж отдала почти все свое состояние и отдаст и последнюю свою Павловку, если это ему понадобится.
И действительно, надо было видеть ее в то время, когда она говорила о нем. Вся оживлялась, глаза блестят; рассказывая про глупости, которые он проделывал в Петербурге, про дурачества, которые он позволял себе с великим князем Михаилом Павловичем[41], очень его любившим, она смеялась и хохотала до слез, хотя все это было, даже и на мой тогдашний взгляд, ужасно глупо, а иногда и просто даже пошло.
Но она все это ему не только прощала, несмотря на то, что эти дурачества, как и вообще весь образ его жизни, стоили ей почти всего ее состояния, но, кажется, в самом деле ни на минуту не задумалась бы отдать ему сейчас и Павловку свою, если бы он попросил у нее этого прямо, так, для какого-нибудь нового своего дурачества. Это была совершенно необъяснимая странность у нее, слабость к нему — я не знаю, как это назвать.
Увлечется; начнет рассказывать какую-нибудь уж совсем не остроумную выходку его, все слушают, молчат, а она сама рассказывает и смеется, жмурит глаза, полные слез от смеха; увидит вдруг у кого-нибудь грустную, снисходительную к нему улыбку, и сейчас замолчит, обидится. Ее самое скорее можно было обидеть, и она бы перенесла, ничего; но обидеть его даже просто снисходительной улыбкой по поводу рассказа о его дурачествах — этого она не могла перенести.
Повторяю, это была какая-то необъяснимая просто даже слабость у нее к нему. Ее все любили за ее кроткий, тихий, безобидный нрав, знали эту ее слабость, старались всячески избегать при ней даже разговора о ее брате, но иногда срывалось все-таки у кого-нибудь слово осуждения по поводу его безумного мотовства и всех этих дурачеств, она сейчас обижалась, и бывали случаи, что она сейчас же уезжала домой или к кому-нибудь из родственников, тут поближе, и потом долго не показывалась: надо было ехать к ней, объяснить, просить ее забыть.
— Ведь он не ваше тратит — свое, — говорила она обыкновенно.
— Да досадно на вас, вы-то зачем ему свое отдали?
— Опять же ведь это мое, а не ваше Вам-то какое дело?
— Ну, извините. Олимпиада Евграфовна, больше не услышите, остерегаться буду
Бесконечно добрая она разумеется, не могла долго сердиться мирилась, но видно было, что перенести ей это действительно тяжело было, что это опять-таки вовсе не притворство с ее стороны, не каприз простой
Так это и продолжалось Все осуждали его, находили, что это нечестно даже с его стороны обирать свою сестру, которая на старости лет может остаться, по его милости, без своего угла и проч., и проч., но при ней, в силу вот этой необъяснимой ее слабости к нему, молчали избегая даже спрашивать ее о нем
Как вдруг однажды, ранней весной, матушка получила записку от нее, в которой она просила ее приехать к ней в Самодуровку
Это было что-то подозрительное. Зачем она очутилась в Самодуровке? Никогда она туда, подобно брату своему, не заезжала, и вдруг там теперь. Позвали посланного.
— Давно барышня уж у вас?
— Третьего дня приехали. Вчера возы пришли с вещами...
— Какие возы? С какими вещами?
— С ихними-с. Оне ведь изволили Павловку продать, стало быть, теперь жить тут будут.
Это был крайне неприятный сюрприз для матушки, которая очень любила ее. Конечно, она сейчас же поняла, почему это сделала тетя Липа и для кого, и была этим глубоко возмущена. Она сейчас же велела запрячь лошадей и поехала к ней, несмотря на то, что дороги были уже совсем испорчены и было даже опасно ехать от готовой разлиться полой воды.
К вечеру матушка вернулась уже с тетей Липой. Матушка была взволнована, а она ничего, по-прежнему улыбалась, была весела, ей это казалось нипочем.
После чаю она, матушка и отец ушли в кабинет и долго там говорили. Матушка выходила оттуда, и глаза у нее были заплаканы.
Любимая наша гувернантка, то есть любимая матушкой немка Анна Карловна, вопросительно смотрела на нее, и матушка не вытерпела, сказала при нас ей:
— Никандр Евграфович — это ужасный человек: он бог знает что делает. Это с его стороны низко, даже преступно...
Анна Карловна вздохнула из глубины души, а мы, догадавшиеся приблизительно, в чем дело, поняли, что и Павловка тетина пошла тоже на какое-нибудь его дурачество.
Но тете Липе, казалось, до этого ни малейшего не было дела. Она и за ужином была все такою же точно, как и всегда, смеялась, поглядывала на нас, и после ужина, когда мы, перед тем как идти спать, прощались с ней, обделяла нас, по обыкновению, малиновыми карамельками.
За матушкой, оказывалось, она присылала из Самодуровки только затем, чтобы спросить ее, не обеспокоится ли она, если приедет пожить к нам, пока там у нее все устроят? Она знала, что мы ждали в это время других к себе родственников. Удивительно!
Матушка просто не знала даже, как ей понимать ее, и смотрела, кажется, как на тронутую немного...
И вот с этих пор тетя Липа стала почти что безвыездно пребывать у нас. Съездит, поживет у себя в Самодуровке для чего-то с неделю или дней десять — это уж много, — матушка и пошлет за ней или сама поедет и привезет ее.
— Ну что ты там, Липа, сидишь одна? — спросит она, встречая ее.
— Да так. Разбирала кое-что, читала, письма писала.
— Да это-то и здесь можешь делать.
Привезет, бывало, оттуда, из парников, своей редиски, огурцов, если ездила туда весною, а летом — ягод каких-нибудь. Все это есть и у нас, но мы едим это ее, ею привезенное, и все хвалят, говорят, что вот редиска у них лучше или малина крупнее, и она как будто довольна этим.
Стали и мы чаще бывать в Самодуровке. Прежде мы там бывали, вот как я рассказывал, очень редко, всего-то раза два я помню, а теперь всё раз десять в год-то уж съездили. Никого там прежде не жило, к кому же было ехать, а теперь там жила тетя Липа, и хотя это только так говорилось, что она там живет, а все-таки корень у нее там был.
Сидим-сидим, бывало, вдруг кто-нибудь и придумает ехать раков ловить, а это всего только в одной версте от Самодуровки, — тетя Липа поддержит сейчас, скажет:
— А вот я бы кстати и к себе заехала, а то давно не была уже.
Запрягают лошадей, и мы едем. Довозим сперва тетю Липу до ее дома в Самодуровке, заходим сами на минутку и едем дальше, ловить раков. А на возвратном пути, уже поздно вечером, заезжаем за нею и опять увозим ее к себе.
Осенью и зимою ездили мы с нею в Самодуровку под предлогом прокатиться. Приедем, она там что-нибудь начнет искать у себя в комодах, в шкатулках, которых, кроме тех, что были с нею у нас, у нее было бесчисленное множество еще; мы согреемся между тем, она угостит нас лакомствами, и едем назад вместе с нею домой.
Около года, первое время, как тетя Липа приехала в Самодуровку, она, вот кроме этих комодов и шкатулочек, никаких вещей не раскладывала. Огромные сундуки с чем-то и наглухо заколоченные ящики так и стояли нераспакованными в затворенной комнате флигеля, и что там было, мы не знали. Но вот однажды тетя Липа — это было на следующий год весной — отправилась к себе в Самодуровку, сказав, что хочет там пробыть некоторое время, так как ей надо разобрать свои неразобранные вещи.
— Через недельку я опять приеду, — сказала она нам, когда, прощаясь, мы спрашивали ее, когда она будет.
Но прошло дней десять, она не ехала, и матушка решилась сама за ней ехать. Разумеется, мы стали просить, чтобы она и нас взяла, матушка согласилась, и мы все поехали за ней.
IV
Мы не узнали самодуровского флигеля, когда этот раз вошли в него. Все стены были увешаны картинами, картинками, большими портретами, писанными масляными красками, черными печатными, литографированными, и множеством миниатюрных, писанных на фарфоре, на стекле, на слоновой кости и проч. Все это в красивых рамках, золоченых, бронзовых и т. д.
Матушка, бывавшая у тети Липы в ее Павловке, откуда она это все привезла с собою, когда продала свое последнее имение, встретилась теперь со всеми этими портретами как со старыми своими добрыми знакомыми; но для нас с сестрою все это было новостью, и мы с величайшим любопытством и интересом принялись их рассматривать и спрашивали: «Кто это?», «А вот это кто?» Матушка занялась разговором с тетей Липой — тетя сообщала ей какую-то новость, а мы надоедали им своими расспросами, отрывали их от разговора, но то та, то другая отвечали нам, удовлетворяя наше любопытство.
Большею частью это все были портреты наших же родственников, родных, двоюродных, троюродных, бабушек, прабабушек, дедушек, прадедушек, в их молодости, н средних годах и в старости; но были между ними портреты и совсем посторонних лиц, разных знаменитостей, с которыми я, много читавший, целыми днями тогда читавший у отца в библиотеке, был уже знаком. В то время, как у всех это бывает детей, которые только что пристрастились к чтению, и у меня был свой любимейший герой, или, правильнее, целый цикл любимых героев. — Наполеон с своими маршалами. Я уже прочитал «Историю Консульства и Империи» Тьера, «Историю Наполеона» соч. Полевого, еще чью-то «Историю Наполеона», прочитал многотомные воспоминания и записки герцогини Абрантес[42] и много других. Наполеоном я зачитывался и фактическую историю его знал со всеми мельчайшими подробностями, которые, собственно, и составляют весь интерес и всю прелесть для детей. И вот теперь вдруг я увидел целую галерею портретов самого Наполеона и его маршалов. Я никак уж этого не ожидал и был просто поражен этим открытием. Здесь был и Ней с открытым, гордым лицом, и мрачный Даву, и Макдональд, и Латур Мобур, и проч., и проч., но главное — Мюрат[43]. Его портретов было несколько, и между ними один превосходный, писанный на стекле. Знаменитый начальник кавалерии Наполеона, его зять, был изображен на коне, в каком-то странном уборе с перьями, весь в позументах, .орденах; вместо чепрака на лошади — барсовая шкура...
Сестра, совершенно равнодушная к Наполеону и его маршалам, пересмотрела вместе со мною все тетушкины портреты и занялась рассматриванием разных ее вещиц, во множестве теперь расставленных у нее на туалете, на комодах, на окнах; но я не мог оторваться от портретов моих любимцев. Она звала меня, кричала мне: «Посмотри, какие шкатулочки! Ах, какая прелесть!» — но я не шел смотреть «эти глупости». Из моих настойчивых и неотвязчивых расспросов: «Откуда, тетя Липа, ты взяла этот портрет?» — этого маршала или этого вот — они все были не одинакие, то есть разных не только величин, но и разным способом воспроизведены, — матушка с тетей, конечно уже знавшие о моей страсти к Наполеону и его маршалам, поняли, что я попал в очарованный круг, и, улыбаясь и переглядываясь друг с другом, смотрели на меня. Я почувствовал себя неловко и, стоя на диване или на кресле перед портретом, думал, смотря на них: «Что они тут находят смешного?..» Матушка в это время встала и, выйдя на середину комнаты, остановилась перед большим поясным портретом какой-то барыни, висевшим как раз посреди стены и окруженным всеми этими портретами Наполеона и его маршалов. К ней подошла тетя Липа. Они обе смотрели на портрет молча, изредка только перекидываясь короткими фразами:
— А ведь как хороша-то!
— Глаза особенно. Удивительно...
— И до сих пор его портрет все на ней, не расстается?
— Нет.
Я тоже обратил внимание на красивую даму. Это была молодая еще женщина, блондинка, с волосами, высоко причесанными, в белом кисейном платье, подпоясанном голубой лентой высоко, под самую грудь; на шее у нее, в черной бархотке, висел чей-то большой медальон-портрет, осыпанный крупными красными камнями.
— Это чей портрет? — спросил я.
— Тоже Мюрата, — ответила матушка.
— Нет, этой вот дамы.
— Ах, а я думала, у нее чей портрет... Это Свистова, Анна Павловна.
Мне что-то тут подозрительным показалось.
— А у нее это чей портрет? — спросил я.
— Да ведь я же тебе сказала — Мюрата, — ответила матушка.
Я так и остановился.
— Как Мюрата? Зачем?..
— Ну, теперь пошло, — смеясь и махнув рукой, сказала матушка, — так, Мюрата, и больше ничего. Это ее знакомый был.
— Ее знакомый? Где же они познакомились?
— Когда в Москве были французы.
Я совсем ничего не понимал.
— В Москве, когда были французы в двенадцатом году, и она там оставалась; ну, и познакомилась там в это время с Мюратом, — видя мое недоумение, объясняла мне матушка.
Но я все-таки никак не мог понять, как же это так могло быть: какая-то Анна Павловна Свистова и Мюрат — и они были знакомы? Очень уж великим представлялся мне для этого Мюрат; и потом французы, двенадцатый год... Все это, мне казалось, так давно было, а тут вот портрет помещицы — соседки тети Липы, женщины еще молодой, и которая, они говорят, была с ним знакома... Положим, портрету этому, как они же говорили сейчас, я слышал, уж лет тридцать, но все-таки что же это еще?
— Она жива и до сих пор? — спросил я матушку.
— Жива.
— Каких же лет она была, когда...
— А в самом деле, Липа, который Анне Павловне год теперь? — спросила матушка, обращаясь к тете Липе.
Они начали высчитывать, и у них вышло, что ей что-то сорок семь — восемь.
— Ведь она же совсем еще девочкой была тогда, — говорила тетя Липа.
— Я знаю, ей пятнадцать лет тогда было, — подтвердила матушка.
— Ты ее тоже знаешь разве? — спросил я, опять удивившись и тому, что ее знает матушка.
— Знаю.
Мне было странно, что она матушкина знакомая, а я ее ни разу не видел. Все знакомые бывали у нас, а эта никогда. Я даже никогда ничего не слыхал о ней раньше, не подозревал даже о ее существовании.
— Она отчего же у нас не бывает? — спросил я.
— Она далеко живет.
— Где?
— Она там, за Павловкой, где прежде тетя Липа жила.
— А тут она у тебя, тетя Липа, будет бывать, в Самодуровке? — спросил я.
— Она теперь больна, — сказала матушка.
Но от меня отделаться было не так легко, и я продолжал расспрашивать:
— А если выздоровеет, то тогда приедет ли? Если приедет, то долго не проживет? Пошлют ли за тетей Липой, когда она приедет, а тетя Липа в это время будет у нас гостить? — и проч., и проч.
— Только ты если и увидишь ее, пожалуйста, не вздумай расспрашивать про своего Мюрата, — сказала матушка.
— А что?
Это было опять загадочно для меня, и я смотрел на нее, ожидая ответа.
— Так... не надо этого... она не любит...
— А как же она постоянно портрет его носит?..
— Ну, одним словом, я тебе говорю, если бы когда и увидал ее, не изволь расспрашивать... После все узнаешь, — заключила матушка.
Я остался ошеломленный до последней степени всей этой историей. Очень уж близко, казалось мне, был я теперь к Наполеону, ко всем его маршалам, и так это вдруг неожиданно все вышло...
Мы ходили куда-то гулять, что-то смотрели в самодуровском саду, на дворе, и когда пришли опять в комнаты, я снова все смотрел на портреты и особенно на портрет дамы с медальоном на шее...
V
Домой мы возвратились, по обыкновению, в тот же день, захватив с собою и тетю Липу.
Вечером в угольной, за чаем, из разговора матушки и тети Липы с отцом мы с сестрой узнали, что в это время, пока тетя Липа была у себя в Самодуровке, она получила очень неприятное письмо от своего брата, дяди Никандра Евграфовича. Дела его были совсем плохи. Он был страшно должен и нуждался в деньгах.
— Да, но ведь на него не напасешься! Ему сколько ни дай — все будет мало.
— И потом, что же это такое: в пятьдесят почти лет ведет себя совсем как мальчишка какой. Ведь все эти дурачества, шалости, глупости хороши в двадцать лет, а не в пятьдесят, — говорили и отец и матушка.
Тетя Липа слушала их и если, может быть, и не соглашалась с ними в душе, то понимала, что ведь нельзя же, в самом деле, заставить всех смотреть на него своими, то есть ее, глазами. И потом, это говорят ближайшие к ней люди, которых она ни в чем враждебном к себе или к нему и корыстном не может заподозрить.
— Ты меня извини, сестра, — говорила ей матушка, — но ты подумай о себе. Его все равно ты не спасешь, а сама останешься нищей.
Разговор шел по поводу того, что братец Никандр Евграфович просил у сестры последние десять тысяч, которые остались у нее из денег, вырученных от продажи Павловки. Она отдала ему все деньги, оставив себе только десять тысяч, и он просит теперь у нее и их.
Тетя Липа молчала.
— Ведь все равно десятью тысячами ты его не спасешь, — говорила ей матушка. — Ну, вышлешь ты их ему, а дальше?
— Он говорит, продаст Самодуровку и отдаст мне, — отвечала ей тетя Липа.
— Да не допустят его и продать ее, — у него за долги кредиторы продадут ее.
— Но как же я его оставлю! У меня деньги есть, а я ему не помогу! — как-то фанатически, с блистающими глазами, воодушевленная, воскликнула тетя Липа. Отец ей ничего не ответил, побарабанил пальцами по столу, встал и вышел; матушка продолжала ее образумливать, вздыхала, говорила:
— Ах, ах, Липа... Ах, будешь ты тужить, да уж будет поздно.
С этих пор разговор о дяде Никандре Евграфовиче у нас в доме начинался почти каждый день. Иногда он велся и при тете Липе, иногда и без нее. При ней, щадя ее слабость к нему, сдерживались, говорили и выражались о нем мягче; без нее, конечно, не стеснялись ни в обсуждении его поступков, ни в эпитетах ему. Деньги, по настоянию матушки, тетя Липа послала ему не все, а только половину. Он скоро отвечал ей и ни полусловом не упомянул о том, что она ему не десять тысяч выслала, а всего только пять. Тетя по этому случаю беспокоилась, говоря, что она боится, что ему не хватило.
— Но он так деликатен...
— Он просто забыл, сколько он у тебя просил. Ему просто нужны были деньги, а сколько — пять, десять тысяч, он, уверяю тебя, и сам не знал. — возражал ей отец.
— Ну как же так?
— Очень просто. Надо знать его. Это такой человек...
Тетя Липа очень часто получала от него письма и как-то в это время, после получения одного из них, сказала, что дядя Никандр Евграфович собирается в Москву.
— А сюда будет? — спросили ее.
— Не пишет...
Отец задумался и, улыбаясь, сказал:
— Последнее средство хочет испытать — жениться на купчихе!..
Матушка стала смотреть на тетю Липу. Та молчала.
— Да, печальный конец, — продолжал отец, — но его надо было ожидать.
Тетя Липа молчала.
— Да он пишет тебе об этом что-нибудь? — сказала наконец ей матушка.
Тетя Липа заплакала.
— Ну, дети, идите гулять, что вы тут сидите, нечего вам тут слушать, обратилась к нам матушка, заметив, что мы вовсе не нужные тут свидетели этой тяжелой, неприятной сцены.
Мы с сестрой ушли.
Но такие разговоры начинались теперь почти каждый день, и хотя они никакого интереса нам, собственно, не представляли и мы вовсе не старались быть их свидетелями, но, тем не менее, присутствовали при них — сегодня при начале разговора, вчера при конце, и могли следить за ходом развития вопроса о женитьбе дяди в Москве на купчихе. Отец отгадал тогда верно. Дядя в самом деле ехал в Москву с этой целью и теперь был уже там, и оттуда к тете Липе приходили письма. Из разговоров мы узнали, что ему можно жениться не иначе, как на невесте с приданым не меньше миллиона...
— Да вы сами посудите, как же меньше-то ему можно, говорил однажды отец, — когда, у него одних долгов больше полумиллиона.
— Нет, меньше, — вступилась было тетя Липа.
— Ах, что ты говоришь, Липа. Ты точно ребенок.
— Да он же сам мне писал.
— Он сам не знает, я думаю, наверно, сколько он должен.
Тетя Липа, по обыкновению, замолчала.
— А чем же они жить будут после? Ведь если теперь одному ему не хватало никаких средств, что же будет тогда-то, когда он женится? Ведь тогда жизнь-то будет втрое, вчетверо дороже стоить...
— Он остановится. Он не будет больше...
— Дай бог, пора, кажется.
— Да это уж бог с ней, что она купчиха, и из них попадаются также иногда хорошие женщины, — соглашалась матушка, — самое главное, чтобы она только сумела его в руки взять... чтобы он остепенился при ней...
Таким образом, у нас мало-помалу все почти что уж примирились с тем, что дядя женится на купчихе, — факт признавался почти что уж совершившимся, и все желали только, чтоб ему попалась, по крайней мере, добрая жена, хорошая хозяйка.
Матушка, тетя Липа и даже отец приводили известные им примеры удачных браков в этом роде, когда, женясь, имели в виду сперва одни только деньги, а потом оказывалось, что им попадали и хорошие жены.
Но, тем не менее, рядом с этими добрыми соображениями, показывавшими, что дело женитьбы дяди на купчихе не вызовет особенного какого скандала, матушка и отец — разумеется, в отсутствие тети — говорили, что они замечают, что она последнее время стала какая-то испуганная, и это вовсе не оттого, что ее тревожит вся эта история, а есть этому какая-то другая причина, она о чем-то задумывается, у нее есть что-то такое в голове, чего она не высказывает, хранит про себя.
Но что?
VI
В конце мая тетя Липа собралась, и довольно как-то неожиданно, поехать навестить некоторых общих наших родственников. Такие поездки вообще все делали, делала их и тетя Липа, и ничего в этом особенного не было; случайным казалась вот только эта неожиданность какая-то, нервная поспешность, с которою она собралась в дорогу. У нее был свой экипаж, свои лошади в Самодуровке, так что ее следовало только довезти до дому, а оттуда она уж и поедет, куда ей вздумается.
— Липа, а если письма получатся без тебя на твое имя, куда тебе переслать? Ты скажи приблизительно, где ты в какое время будешь, мы туда тебе и перешлем, — сказала ей матушка при самом уж прощании с нею, когда все тут стояли.
— Да куда?.. — нерешительно сказала она. — Вышли тогда все это к Свистовой. Я давно ее не видала, мне хочется ее проведать...
Но она сказала это как-то странно, и это странным точно так же показалось и всем. Это было тоже неожиданностью. Все знали, оказывается, о ее дружественных, приятельских отношениях с Свистовой, но она говорила все это время, что едет к родственникам, это совсем в другую сторону, а письма, между тем, просит переслать к Свистовой...
— Я объеду родных, а потом к ней заеду, у нее и поживу, — как бы в объяснение этой загадочности сказала тетя Липа.
Проводив ее, и матушка и отец высказывали опасения, как бы из этого ее пребывания у Свистовой не вышло еще чего-нибудь нехорошего для нее.
— Она такая расстроенная, возбужденная, а та уж совсем экзальтированная, тронутая почти, — ничего тут хорошего не может выйти, — говорил отец. — Я прямо-таки за нее боюсь...
Через несколько дней после отъезда тети Липы я сидел у отца в кабинете и читал какую-то историю Наполеона. Отец тоже в это время перелистывал какую-то книгу. Мне попался на глаза портрет Мюрата, и у меня вдруг блеснула мысль спросить отца о том, как попался его портрет к Свистовой, и я спросил.
Он ужасно удивился этому.
— Ты где ж ее видел?
— У тети Липы.
— Да разве она была там, когда вы там были?
— Портрет ее я видел.
— A-а!.. А я уж думал...
— Как он к ней попал?.. Портрет Мюрата к Свистовой? — повторил я, когда он, ничего не ответив мне, замолчал.
— Как попал? — раскрывая книгу, проговорил отец, — Это очень длинная история... — и опять замолчал.
— Она с ним познакомилась в Москве... И он сам ей этот медальон подарил с своим портретом? — продолжал я.
— Да... в Москве... сам подарил... Да ты-то откуда это все знаешь?
— Я слышал.
— Она от этого и такая... странная сделалась потом, — продолжал отец.
— Отчего это?
— А так... Она думала, что он женится на ней... а потом это расстроилось...
— Мюрат хотел жениться на Свистовой? — воскликнул я.
— Да, что ж тут удивительного? Она столбовая дворянка, прекрасно воспитанная. Да сам Мюрат-то кто был?
— Да ведь, по истории, он уж женат был. Его жена ведь сестра Наполеона была, — опираясь на свои знания, совершенно серьезно сказал я.
— Да ведь ей-то казалось, что он женится на ней. Ведь она совсем почти девочкой тогда еще была. Ей и пятнадцати лет не было еще тогда...
— Как бы я хотел ее видеть, — сказал я.
— Что ж тут хотеть? Несчастная девушка. Вся жизнь ее разбита... Почти полупомешанная...
— И все от этого?
— Все от этого.
Кто-то вошел к отцу или позвали его, — на этом разговор и кончился.
Вскоре, через несколько же дней, как тетя Липа уехала, пришли на ее имя письма, и между ними одно от Никандра Евграфовича. Надо было их ей послать, но куда их отправить? Приехала ли она уж к Свистовой? А может, они, эти письма, нужны, особенно от дяди?.. Но ввиду того, что тетя Липа так определенно сказала, чтобы письма ее пересылали к Свистовой, их туда и решили отправить. Для этого был послан садовник наш Ефим, которому зачем-то самому нужно было быть в бывшем тетином имении Павловке, а оттуда уж рукой подать и до имения Свистовой. Он и поехал с письмами туда.
Теперь я начал думать, когда приедет назад оттуда Ефим, я его расспрошу о Свистовой — он ее, несомненно, увидит, да и вообще он может что-нибудь знать о ней. Его жена из тетиной Павловки, а это близко. Наверное, он все знает, и его мне расспросить гораздо удобнее... Я с большим нетерпением ждал его возвращения. Наконец он явился и привез известия, что тетеньку Олимпиаду Евграфовну он застал там уже и, кроме письма, она приказала сказать, что скоро будет сама к нам. В письме, которое Ефим привез от нее, она говорила, — как мы это узнали из разговоров отца с матушкой, — что, слава богу, женитьба дяди в Москве на купчихе не состоялась. «И я очень рада, — добавляла тетя, — потому что это, может быть, будет даже и к лучшему».
«Очень рада... Может быть, к лучшему», — почти с неудовольствием повторили ее слова отец и матушка, уже привыкшие тем временем, что дядя женится на богатой, хоть и на купчихе, и его дела поправятся, а теперь опять начнется эта нескончаемая канитель с деньгами, с долгами его...
Они оба были теперь прямо недовольны этими известиями и положительно не понимали, чему тут радуется тетя Липа?
— И потом, что это такое она пишет: «Он, может быть, скоро сюда приедет»? Что ж, он последнюю Самодуровку приедет продавать, что ли? Зачем же еще-то? Что ему делать тут? Или, может, в отставку должен был уже выйти?.. — рассуждали матушка с отцом.
Но так как, сколько они ни догадывались, все-таки догадаться не могли, то и поневоле им оставалось ждать приезда тети Липы.
VII
На другой или на третий день, как приехал Ефим, мне представился удобный случай расспросить его о Свистовой, видел ли он ее и вообще что он о ней знает и слышал. Мы с сестрой и гувернанткой нашей пошли перед завтраком на огород за редиской — матушка нас часто посылала; сестра с гувернанткой отстали или замешкались где-то, так что я побежал на огород впереди их, один, и нашел там Ефима. Мы пошли с ним набирать редиску, и я прямо, не теряя времени, спросил его:
— Ефим, а ты видел Свистову?
— Видел-с. Они с тетенькой вместе выходили ко мне в переднюю.
— Вот несчастная-то!
Ефим с удивлением посмотрел на меня.
— Кто-с? Про кого это вы?
— Про Свистову.
— Помилуйте, этакое именьище у нее — какая же она несчастная.
— А эта история-то ее? Почему она замуж не вышла за Мюрата?
— За кого-с?
Я сообразил, что садовник Ефим может даже и не знать или позабыть фамилию знаменитого наполеоновского маршала, и сказал в объяснение ему:
— А это французский генерал, который хотел тогда на ней жениться... когда французы были в Москве.
— У них столько было женихов после — что тут уж какой-то французский генерал. За них графы и князья сватались — не хотят, всем отказывали. Да за них и сейчас, при их состоянии, кто угодно посватается. Что им? Оне и из себя еще совсем не старые — в годах, а какие же оне старуха.
— Да ты что знаешь, слыхал что-нибудь о том, что за нее этот французский генерал-то сватался? — спрашивал я его о том, что меня больше всего интересовало...
— Да что-то такое, помнится, слышал.
— Она еще его портрет постоянно носит вот тут, на шее.
— Рассказывали, что оне зарок будто бы дали ни за кого замуж не выходить, поэтому и не выходят.
— Да тебе что рассказывали-то?
— А вот это самое... Действительно, будто бы их тогда в Москве в плен взяли, держали долго там, а потом отпустили...
По этим малым обрывкам, по недоговоренным, недосказанным разговорам я все же составил себе, на основании всего этого, представление о том, что у Свистовой этой, которую я отроду не видывал, был какой-то несчастный роман — я тогда прочитал «Королеву Марго» и еще какой-то исторический роман — и что этот роман с таким героем, как Мюрат, непременно, должно быть, что-нибудь в этом же роде. И ни от кого я не могу добиться, в чем дело и как это все было!..
Вечером, помню, в этот же самый день из Самодуровки приехал посланный с известием, что сегодня утром изволил пожаловать Никандр Евграфович, приказали кланяться, сказать, что скоро будут сами, и справиться, не известно ли, где Олимпиада Евграфовна.
Посланного расспросили, не знает ли, зачем и на сколько времени приехал Никандр Евграфович, один ли, и проч., и проч., потом сказали, что знали о тете Липе, то есть что она у Свистовой, но что мы ее ждем сюда со дня на день, и приказали просить Никандра Евграфовича к нам.
Но прошло, по крайней мере, дней пять, пока в одно прекрасное утро они вдруг явились к нам оба и вместе — дядя Никандр Евграфович и тетя Липа.
Тетя Липа была, или показалось нам всем, необыкновенно странная какая-то. Прежде она, бывало, всегда такая радостная при брате, а теперь она хоть и радовалась, но это было совсем не то: она точно все чего-то с минуты на минуту ждала и чего-то боялась.
Но дядя был совсем по-прежнему, казался такой же веселый, беззаботный, только облысел еще больше — у него и без того был открытый лоб, — и потом у него покраснел немного нос — а может, это и от загара, — да в глазах явилось что-то вялое, бестактное и неприятное... Это всё, конечно, заметили не мы, а матушка с отцом, которые высказывали это потом, когда дядя с сестрой уехали, а мы это только слышали и, припоминая и сравнивая дядю, каким он был прежде и стал теперь, находили, что это они, пожалуй, и верно заметили. Особенно неприятно стал дядя улыбаться: как-то во весь рот, и улыбнется и так и сидит, смотря на всех.
Или, может, это мы наслушались дурных все разговоров о нем, об этих его кутежах, о том, что он обирает сестру, об этой купчихе какой-то, на которой он хотел жениться, чтобы воспользоваться ее деньгами, — не знаю почему, но только и на меня и на сестру Соню он произвел этот раз неприятное впечатление, и мы сами по себе, без всяких приказаний, сами держались от него все время подальше.
Они пробыли у нас весь день, обедали, вечером пили чай и уехали уж в поздние сумерки.
Когда они уезжали, мы вышли все провожать их на крыльцо. Перед тем все они — и матушка, и тетя Липа, и дядя провели долгое время, запершись, у отца в кабинете и вышли оттуда все серьезные, — один только он, Никандр Евграфович, был, по-видимому, весел, улыбался, начинал хохотать, спрашивал про какой-нибудь вздор. И на крыльцо провожать вышли все тоже серьезные, опять-таки, разумеется, кроме него.
— Ну так когда же вы едете туда? — спросила его матушка.
— А вот это как она, — ответил дядя, — она сваха, она это лучше знает. Послезавтра она хочет...
И опять у него на лице, во все лицо, эта противная его улыбка.
Отец стоял молча, ничего не говорил, точно дожидался, когда эти все проводы и разговоры кончатся и они наконец уедут...
— Не знаю!.. Она уверяет!.. Может, что и в самом деле выйдет!.. — уж из тарантаса, когда он трогался, крикнул дядя.
Отец нетерпеливо повернулся и пошел в дом, за ним и мы.
Из разговоров в этот вечер отца с матушкой — они под впечатлением «этого нового еще сюрприза» не стеснялись нами — я совершенно ясно и определенно мог понять, что дядя Никандр Евграфович едет опять завтра с тетей Липой к Свистовой свататься за нее и все это дело ладит тетя Липа.
Это был и для меня сюрприз!
И Наполеон, и Свистова, и Мюрат, и дядя, и все маршалы теперь смешались у меня в голове, и я не мог разобраться в моих мыслях...
VIII
Сватовство это, однако, не удалось. Как все это там произошло, я не мог тогда узнать, но некоторые подробности дошли до меня. Разумеется, все это я узнал из разговоров отца с матерью и потом из рассказов самой тети Липы, когда все это наконец кончилось.
Идея о женитьбе дяди Никаидра Евграфовича на Свистовой, или, как называли уже ее все при нас, вице-королеве Неаполитанской, зародилась у тети Липы под влиянием беспредельной любви ее к брату и старых приятельских ее отношений к своему другу и соседке Свистовой. Она ездила к ней тогда, перед тем как проявиться у нас Никандру Евграфовичу, с целью приготовить Свистову к этому сватовству за нее своего брата. Свистова дала ей какой-то крайне неопределенный и туманный ответ, который тетя Липа, под влиянием страстного желания своего устроить счастье их обоих, истолковала в смысле ее согласия. Но когда потом, через неделю, тетя Липа привезла к ней Никандра Евграфовича в качестве жениха, Свистова не только была поражена этим, изумлена, но даже сочла прямо за оскорбление себе со стороны тети Липы. К тому же, кажется, и дядя Никандр Евграфович позволил себе при этом какую-то «неловкость». Это еще более возбудило гнев в Свистовой, и она, приняв совершенно «царственную» осанку, как рассказывала потом сама же тетя Липа, удалилась, оставив их одних в комнате, и больше уж к ним не выходила. Тетя Липа попыталась было на основании прежних, старых дружеских к ней отношений проникнуть к ней в комнату объясниться, но Свистова ее не приняла. Так они с дядей и уехали в тот же день. Все это кончилось удивительно скоро. Через несколько дней дядя был уже опять у нас. Он приезжал, чтобы проститься, так как на днях уезжал в Петербург.
Он хохотал, рассказывая об этой истории, делая противное, осклабившееся лицо, и говорил грубо, цинично о том, как все это произошло.
— Фря какая! Да кто ее возьмет-то после этого скандала ее с Мюратишкой? Извольте видеть, влюблена она была в него. Просто послали, как это всегда бывает на походах, какого-нибудь вахмистра[44] за ней, ее и привели. Влюблен!.. Скажите, пожалуйста. И она в него была влюблена, до сих пор влюблена...
Но его остановили, заступились за нее.
— Нет, уж это-то, Никандр Евграфович, извините, — возразила ему матушка, — это всем известно, что ее забыли сонную, когда выбирались и бежали из Москвы, и Мюрат ее увидал одну, испуганную, растерянную на улице, подъехал к ней — он известен был своей учтивостью и любезностью с дамами, — был поражен ее красотой — она действительно, ведь все знают, редкой была красоты, — пленился ею, поместил ее в штабе... Но потом, конечно, несчастие это было... Но ведь этого кто же не знает. Это вовсе не секрет. За нее сватались потом такие женихи... завидные... н-да...
— Завидного у нее только состояние. А так, куда с ней деваться? Ко двору ее нельзя представить... Скандальная история эта всем известна... Жениться на ней можно, только чтобы ликвидировать свои дела. Из полка тоже надо будет сейчас же выйти... Но состояние, то есть имение ее, это действительно... клад... Золото — имение.
И все это сопровождалось коротким хохотом, сухим, нервным, и той неприятной улыбкой во все лицо, про которую я говорил. Чувствовалось что-то фальшивое, деланное в этом смехе его, как и во всем вообще веселье его. Мы, дети, замечали это даже; а отец по отъезде его прямо говорил:
— А ты заметила, как на него это подействовало? Его всего так и передергивает от злости.
— Ему неловко, совестно.
— Да, но и зол он вместе с тем. Сорвалось, не выгорело!..
— И у него манеры стали какие-то... прибаутки... ничего этого прежде не было.
— Всё казармы.
— Ах, не говори. Прежде это был действительно блестящий молодой человек, я ведь помню его, — заступалась за него, в его прошедшем, матушка.
— Я его понимаю, — говорил отец, — положение его скандальное. В Москве купчиха отказала, потому что там узнали об его долгах и что вот он начал очень счастливо в карты играть... И это несмотря на полковничий чин и на вензеля...[45] И потом тут, эта вот история.
Отец начал перечислять фамилии соседей-помещиков, чьи дети служат в петербургских гвардейских полках, и говорил, что это им, несомненно, все будет известно и, следовательно, разнесется в их кругу и в Петербурге. Положение дяди Никандра Евграфовича некрасивое: можно там все делать, но чтоб это было прилично и удавалось, главное, чтоб удавалось: перед успехом все молчит. А тут полнейшая неудача и две скандальных истории...
Тетя Липа переехала к нам не сейчас по отъезде дяди Никандра Евграфовича в Петербург, а по крайней мере недели через три. Матушке стоило большого труда перетащить ее к себе. Тетя Липа, кажется, хотела даже идти в монастырь и теперь предварительно решила было запереться у себя в Самодуровке и никуда не показываться. Но матушка, великая мастерица врачевать душевные раны у родственников и родственниц, а также и устраивать, чтобы все потом выходило гладко, без приключении и скандалов, победила ее решение, вытащила ее сперва к нам, а потом и совсем оправила ее упавший было дух.
На тетю Липу, когда только она явилась к нам первый раз после этой истории, мы тоже все с любопытством смотрели, хотя нам и было строжайше приказано ни о чем не расспрашивать ее и вести себя, как будто ничего не было и мы ничего не знаем: старшие уже знали, конечно, что и нам все известно.
Она приехала сильно побледневшая и похудевшая даже. Видно было по лицу, что история эта на нее потрясающе подействовала. Мы не могли только понять, что на нее особенно повлияло тут — неудача брата жениться вообще на богатой, что было равносильно его окончательной погибели, или безобразно-бестактная история сватовства за Свистову, история, которую все — не могла же она этого не знать, доходили же до нее слухи — приписывали ей и в которой она действительно была главной виновницей.
Матушка и отец поняли хорошо всю щекотливость ее положения, очень тактично не усугубили нисколько к ней внимания, ни лелеяли, ни ухаживали за нею больше, чем обыкновенно; только совершенно избегали всякого разговора о дяде и даже отдаленнейших намеков на всю эту историю — вели себя, как будто ничего никогда не бывало, они ничего не знали и не знают.
Даже соседей, на такт и скромность которых нельзя было вполне рассчитывать, когда они приезжали к нам, предупреждали, прося не говорить ничего об этой истории и не спрашивать тетю Липу о дяде Никандре Евграфовиче.
Предосторожность и деликатность со стороны матушки и отца в отношении ее доходили до того, что мне, я помню, было запрещено при ней не только рассуждать о Наполеоне и его маршалах, но даже брать из отцовской библиотеки книги о Наполеоне.
— Читай, если хочешь, в кабинете — сделай одолжение, сколько хочешь, — а туда не носи, не бери к себе, — говорил мне отец.
И это, пожалуй, не было лишним...
IX
Но со временем, как все забывается, стала забываться мало-помалу и эта история. Моя страсть к Наполеону и его маршалам тоже улеглась, или, правильнее, ее сменило увлечение средними веками, я вдумывался в загадочную тогда для меня личность Карла V Испанского[46].
Я был в это время уж в гимназии и жил в нашем губернском городе, в благородном пансионе, откуда мы ходили, в сопровождении гувернера-воспитателя, ежедневно в классы. Гувернеров этих у нас было четверо: один немец, один русский и два француза, оба уже старики и оба пленные солдаты великой армии, оставшиеся потом уж навсегда гувернерами в России. Они оба были уж настолько стары, что, собственно, узнать от них хотя что-нибудь о Наполеоне, его маршалах, как и обо всей славной эпохе, ими пережитой, в которой и они были деятелями, — ничего уже нельзя было. Они не могли даже рассказать ни одного анекдота, ни одного случая из тогдашнего времени. Один, покрепче, воровал у нас перочинные ножики, карандаши, которые мы же потом вынимали у него из ящика, и он не спорил при этом.
— Это твой разве?
— Мой, Иван Иванович.
— Ну, бери...
Другой был совсем уж слаб, с трудом ходил, тыкая ногами, и как только садился на стул, начинал сейчас дремать.
Но однажды нам удалось как-то расшевелить его, он был бодрее, чем обыкновенно, слово за слово, и он начал что-то отрывочно, путая и забывая половину, рассказывать из своего прошлого, разумеется и о походе Наполеона в Россию.
Я сидел тут же и слушал его. Его спрашивали, каких он помнит генералов, какие сражения. Он отвечал.
— А Мюрата помните? — спросил я.
— О да! — Мюрат — вице-король был. Красавец. Красива девочки любил...
— Ив Москве?
— И в Москве тоже. У него их много было...
Старик увлекся и начал рассказывать разные скабрезности, на общее удовольствие его слушателей. Его расспрашивали, и он все рассказывал, путал, вспоминал.
— Это раньше, может быть, все было, или тоже и в Москве? — еще раз спросил я его.
— И раньше и в Москве.
Он махнул рукой и захохотал.
Один из товарищей, с которым я был дружнее, чем с другими, тоже сын помещика нашей же губернии, спросил при этом меня:
— Да что это тебя так интересует?
— А я знаю одну его историю... Мюратову, — сказал я, — тоже из времен пребывания его в Москве.
— Ты знаешь?
— Да. Его любовь жива еще, она наша же помещица, нашей губернии.
И только я начал ему рассказывать и назвал фамилию Свистовой, как он вскричал:
— Анна Павловна!
— Да. А ты ее почем знаешь?
— Да ведь она же наша соседка. Она полупомешанная. Ну да... ее вице-королевой Неаполитанской зовут... я слыхал, отец ее так называл. Она возле Павловки живет. Как отец купил Павловку, мы и стали соседями с ней. Она верстах в семи от нас. Только она ведь никуда не выезжает, ни у кого не бывает... Я только раза два или три ее у обедни видел. В Павловке у нас нет своей церкви, так мы ездим к ней, в Свистовку... Только она и ездит, что в церковь. Она очень ведь богатая, говорят... У нее парк какой в имении, сад. Дом громадный, но уж старый, говорят.
Он долго болтал, рассказывал про сад, про этот дом но о ней сам он ничего не мог мне сообщить такого, что бы я не знал уж раньше. Это был какой-то праздник, мы были свободны, и наша беседа тянулась. Я рассказал ему из ее прошедшего гораздо больше, чем он из настоящего.
— А знаешь что? — сказал он. — Приезжай нынче летом ко мне. Ведь это недалеко от вас, верст сорок — пятьдесят, не больше. Тогда ты ее увидишь. Можно будет под каким-нибудь предлогом к ней поехать. Отец был у нее, не помню, по какому-то делу, и она очень милая, очень любезно его приняла.
И я было решил, обещав ему непременно приехать к нему летом, а потом вместе отправиться к Свистовой, но что-то мне помешало, летом я к нему не попал, и так опять-таки вся эта история забылась.
X
Прошло много лет. Я жил в Петербурге, нередко навещал и деревню. Однажды я застрял там и на всю осень. В то время я был страстный ружейный охотник. В простой телеге, вдвоем с егерем и собакой, мы заезжали иногда верст за двести и более от дома. И куда мы попадали, где мы были, мы и сами не знали. От болота к болоту, от села к селу, глядишь, уж и в чужом совсем месте, в другом уезде. Ночуем, пока тепло, в поле, под стогом, у копны; начнутся холода, темные ночи, ранние вечера, пойдут дожди — заезжаем ночевать в избы мужицкие. Охоту я понимал всегда именно только так; иной охоты я никогда и не любил.
Однажды, вот когда таким образом, пробираясь из села в село, мы заехали в совсем уж незнакомую нам сторону. Был темный, холодный, поздний вечер. Не зная дороги, мы бог знает куда заехали и плутали. Наконец было уж совсем темно, когда мы очутились у какой-то усадьбы; лаяли собаки, виднелся в темноте какой-то лес, мелькали огоньки. Кое-как мы добрались до жилья.
— Чья это усадьба?
— Госпожи Свистовой, — ответил нам какой-то человек, вышедший на собачий лай из избы.
— Как?
— Анны Павловны, госпожи Свистовой, — повторил в темноте голос.
«Боже мой, вот судьба-то куда привела!» — подумал я.
— Она дома?
— Дома.
— Спит уже?
— Никак нет. У них гости.
— Вот что, любезный, мы измокли, иззябли — где бы нам тут у вас переночевать?
— А вы кто будете?
Я сказал. Человек, говоривший со мною, подумал немного и проговорил:
— Да где же тут? Во флигеле разве... Надо позволения попросить.
— У кого?
— Да у барыни.
— А как же ее можно видеть?
— Да уж вам надобно тогда в дом к ним сходить.
— Пойдем. Проводи меня.
И я как был, в высоких сапогах, в грязи, весь мокрый, отправился с провожатым моим через двор к огромной темной массе — господскому дому. Мы поднялись на крыльцо, ощупали ручку двери и отворили ее. Огромная передняя, слабо освещенная, и в ней ни души; дальше слышались голоса и звенели какие-то струны, но это были не скрипка и не гитара, а какой-то совсем неизвестный мне инструмент. Мы остановились в передней и не знали, что же нам дальше делать, — нельзя же в этаком уборе идти в следующие комнаты. Наконец звуки струн смолкли, голоса послышались резче, и вскоре кто-то, разговаривая, прошел в соседней комнате. Я кашлянул и громко проговорил:
— Позвольте вас спросить...
Немедленно из соседней комнаты к нам кто-то вошел.
— Исправник, — шепнул мне мой спутник.
Этот вошедший к нам в переднюю, очевидно, недоумевал, что мы за люди и что нам надо.
Я сказал ему, кто я, как попал сюда и зачем теперь пришел.
— Ах, Анна Павловна очень будет рада. Она с удовольствием, конечно, позволит. Да вот я ей скажу сейчас. Она, может, даже выйдет сама к вам.
И он ушел, мы опять остались одни.
— Следствие тут идет, непременное отделение съехалось, — пояснил мне мой спутник, — размежевание спорное по соседству... Ну, судейские все то же самое к нам ночевать и приехали. На селе где же?
Оттуда, изнутри, опять послышались голоса и чьи-то шаги, все ближе и ближе. Вдруг опять зазвенели струны.
— Это что ж такое? Кто играет?
— Это сама барыня.
— На чем же это она?
— На арфе...
На этот раз в переднюю к нам вошел седой, совсем ветхий старик в мягких сапогах, по-видимому дворовый, и прошамкал:
— Барыня приказали просить.
— Да вы видите, в каком я виде, как же я пойду?
— Приказали просить...
Провожатый мой остался в передней, а я пошел. Старик передо мною растворил двери и, по-старинному придерживая ее для чего-то рукою, пропустил меня. Я вступил в огромный пустой зал с хорами наверху. В зале было темно; но из следующей комнаты широкой полосой врывался свет, и оттуда же слышались голоса. Старик, обогнав меня, встал у дверей и показывал рукою в освещенную комнату. Я не вошел туда, а остановился на пороге.
Картину, которую я увидел, я никогда, конечно, не забуду. Эта комната была гостиная, и меблирована она была так, как в старину меблировались гостиные: большой длинный диван красного дерева, с выпуклой деревянной спинкой, стоял у средней стены; перед ним красного же дерева круглый стол. Такие же диваны и перед ними столы и у других двух стен. У четвертой, наружной стены, в простенках между окнами, высокие зеркала в рамах красного дерева. По стенам, в бронзовых старинных бра, горели свечи, освещая стоящую посредине комнаты почти совсем седую женщину в длинном платье, ниспадавшем крупными складками и со шлейфом. На плечах у нее была накинута малинового цвета бархатная мантилья, подбитая горностаевым мехом. Она держала в руках арфу; глаза ее были устремлены куда-то вдаль. На двух боковых столах перед диванами, на подносах и так прямо на столах, стояли батареи бутылок с вином и пустых уже; кругом тарелки, стаканы, рюмки, ножи, вилки, куски хлеба и проч. Человек пять сидели и полулежали на диванах... Вдруг струны зазвенели, и раздался дребезжащий, старческий голос... Сидевшие не обращали на это никакого внимания, продолжая говорить между собою, пить, лить, стучать бутылками, ножами, тарелками, вилками...
И она продолжала петь, тоже не обращая на них внимания, как будто и они ей нисколько не мешали. Седые волосы прядями висели по щекам, старческий голос дребезжал; худыми, как у скелета, пальцами она цеплялась за струны, заставляя их звенеть...
Я постоял, пока наконец очнулся, и тихо попятился в глубь темного, неосвещенного зала и на цыпочках, осторожно, чтобы не стукнуть толстыми сапогами, вышел опять в переднюю.
— Пойдем, — сказал я провожавшему меня дворовому человеку.
— Пустили? Во флигель?
— Нет. Я не спрашивал... Я тебе заплачу, проведи меня в село, в какую-нибудь избу...
Это был единственный раз, когда я ее видел.
Года через три после этого она умерла.
ДВЕ ЖИЗНИ-ПОКОНЧЕННАЯ И ПРИЗВАННАЯ
I
Верстах в семидесяти от нашей деревни, совсем на другом конце уезда, было богатое село Покровское, принадлежавшее, в числе прочих деревень, дяде моему, Петру Васильевичу Скурлятову. В последние годы свои дядя переселился туда, и мы ездили навещать его с матушкой. Дядя был крестный отец моей сестры, и это было, кажется, главной причиной, почему матушка всегда настаивала туда ехать. Она начинала говорить о поездке недели за две до того, как мы уезжали.
— Опять?! — спрашивал отец.
— Надо же Соне к нему съездить. Это даже странно, что ты говоришь. Ведь он ей крестный отец.
— И опять на неделю?
— Хоть не на неделю, а нельзя уж утром приехать, а вечером уехать...
В конце концов матушка, разумеется, свое брала — поездка устраивалась. Мы с сестрой всегда очень интересовались этими переговорами отца с матерью, потому что поездка в Покровское была для нас целое событие... Верст пять надо было ехать лесом. Дорога в этом лесу песчаная — белый, глубокий песок. Ехать лошадям тяжело — они идут шагом. Мы всегда выходили из кареты и шли по опушке дороги пешком: собирали цветы, грибы, вырезывали перочинным ножичком тросточки. Потом дальше по дороге был крутой большой овраг. Там, на всякий случай, мы опять выходили из кареты. Пристяжных отпрягали, и их вел в поводу Никифор — лакей, который всегда с нами ездил. Там, внизу оврага, лошадей опять запрягали, и они, дружно вложившись в хомуты и упираясь, захватывали по крутизне огромную, на ременных рессорах, карету. Этот спуск и подъем с отпряганием и запряганием лошадей, с наставлением кучеру Ермолаю, как осторожнее спускаться и проч., занимал, по крайней мере, час времени. Потом посередине пути, в Спасском, на постоялом дворе нас ожидала подстава, то есть нас ждал там высланный накануне с свежими лошадьми другой, который ездил с отцом, кучер, Михей. Его свежих лошадей запрягали в карету, а Михей оставался ждать нашего возвращения со «старыми» лошадьми. На постоялом дворе опять новые впечатления. Пока перепрягают лошадей, ставили самовар, развертывали и развязывали завернутых в сахарную белую бумагу и завязанных в салфетку, взятых с собой на дорогу, жареных цыплят, кур, разные крендельки к чаю, пышки... Мне кажется, я помню даже эту толстую, серьезную дворничиху[47], в темно-синем с красными и желтыми цветочками ситцевом платье, и вижу, как она принесла и поставила на накрытый чистою скатертью стол огромный сливочник с нарисованными на нем розанами и какими-то золотыми и синими разводами. Скатерть «их», а салфетки «наши», и они также белые-белые в сравнении с ней... Сливки у нас дома подавались к чаю всегда кипяченые, а тут мы пили с сырыми, и у чая вкус совсем другой от этого... Но вот наконец лошадей напоили на, дорогу, запрягли; мы тоже напились чаю, все узелочки уложили куда-то в карету и начали усаживаться. Садится матушка, потом гувернантка Анна Карловна, потом сестра, я, нянька... Нянька всю дорогу держит на коленях какую-то картонку с чепчиками, рукавчиками, платочками. Тоже с какими-то такими же нежными предметами пришпилен булавками узелочек к потолку кареты, и он всю дорогу раскачивается у нас над самыми головами... Эта вторая половина дороги не так уж интересна. Выходить приходится только один раз — при въезде в Покровское, на мельничной плотине... Она очень широкая, отличная плотина, но мало ли что может случиться — может, лошади испугаются шума воды в мельничных колесах... От этой плотины до дому версты полторы. Перед тем как садиться в карету «после плотины», все оправляются, охорашиваются — сейчас приедем...
В Покровском опять новые впечатления. Там старинная, огромная барская усадьба с флигелями, оранжереями, теплицами, какими-то зимними беседками в саду. Сад тоже старинный, громадный, одичалый совсем. После жаркого летнего дня, когда вечером начнет садиться роса, в нем и сыро и как-то душно-тепло. Пахнет глухой крапивой, повиликой и какими-то высокими белыми цветами, что растут всегда вместе с крапивой в самых глухих местах. Дорожки в саду никогда не чистились, заросли травой, молодым вишенником. Там, на верхушках деревьев, все черно от грачиных гнезд: их на каждом дереве по десятку, кажется. Если пойти в сад в такое глухое его место часов в десять, когда грачи уж все собрались спать, и громко хлопнуть несколько раз в ладоши, то на целых полчаса поднимутся их крики, карканье и они начнут летать, виться кругом. Когда я бывал с матушкой в Покровском, то каждый вечер ходил их будить. Вечером в саду, особенно в таком глухом месте его, «мало ли что может случиться, от чего ребенок может испугаться», — поэтому меня всегда пускали туда будить грачей не одного, а в сопровождении приехавшего с нами нашего лакея Никифора. Иногда с нами шел кто-нибудь и из «их» людей. Мы подходили к любимому грачиному месту как можно тише и все сразу начинали хлопать и кричать. Грачи тоже все сразу поднимали крики с своей стороны, и этот шум и гам продолжались иногда целый час.
— И хорошо? — спрашивает, бывало, матушка.
— Хорошо... Только вот с нами ходил ихний столяр Андрей, так он говорит, что если бы из ружья выстрелить, еще лучше бы было... Тогда они со всего сада собрались бы...
— Ну, уж этому не бывать.
— Отчего?
— Оттого, мало ли что может случиться. Нет, ты эту затею уж оставь, пожалуйста. И дядю не проси об этом. Я все равно не позволю... Выйдет еще что-нибудь — потом толкуй с отцом...
То же было и по поводу пруда, то есть катанья на лодке. В саду был громадный пруд, весь почти заросший какими-то водяными растениями, распустившими по его поверхности свои большие, широкие зеленые листья. Под этими листьями, если смотреть с берега под солнце, можно было иногда видеть больших щук, недвижно стоявших под ними.
— Спят...
— Они разве днем спят?
— В жару... Ночью щука ходит. Она как волк: днем спит, а ночью на добыче. Намедни мы пошли ночью в сад с Андреем, — рассказывает Никифор, — так ведь они как щелкают — страх, так и раздаётся...
— Плескаются?
— Да-с, играют, за карасями гоняются. Таких щук, как здешние, нигде нет... Потому, им воля... Дяденька ловить их не позволяют...
И много-много было таких удовольствий в Покровском... Но они все были какие-то дикие, «страшные»... как и вся обстановка. Громадный глухой сад, глухой пруд в саду...
Громадный, высокий двухэтажный дом, наполовину заколоченный, но полный мебели, с полинялыми коврами, с черными картинами и портретами в золоченых, потускневших и полусгнивших от времени, рамах... Бронза какая-то тоненькая, столбиками, с фигурками крылатых богов, ангелов и мелкой гравировкой... Осенью нежилую половину заколачивали, чтобы не отапливать понапрасну, и открывали ее почему-то уж поздно весной, всегда почти когда мы приезжали. Я начинал приставать к дяде, чтобы отперли запертые двери посмотреть мне картины и портреты, которые там висели, и по этому поводу отдавался приказ назавтра открыть ставни, открыть окна и вымыть запыленные стекла в оконных рамах. Я всегда присутствовал при этом. В комнате сыро, тяжелый запах плесени. Но вот открыли ставни, и стало светло. Открыли настежь окошки, рамы — из сада пахнул чистый, теплый воздух с запахом сирени, черемухи — и так хорошо. Все улыбнутся и глубоко вздохнут... Потом откроют окна в другой, в третьей, в пятой, в десятой комнате, во всей «половине»... Потом развесят в саду на веревках, протянутых от одного дерева к другому, ковры, драпировки... Вынесут и поставят на солнце эту полинялую золоченую мебель с полинялой розовой, голубой, малиновой шелковой обивкой... Я присутствую при всем этом, перехожу из комнаты в комнату, помогаю (то есть мешаю, разумеется), рассматриваю вытканных на мебельной материи каких-то франтов в бледно-розовых кафтанах, в чулках и башмаках, франтих в широких пеньюарах или коротеньких платьицах, с необыкновенно высокими прическами и узенькими длинными талиями... Иногда и дядя и матушка приходили посмотреть, как всё это открывают и выносят.
— Братец, а материя-то какая в то время была!.. Теперешняя столько не выдержит...
— Да, уж ей теперь будет...
Они начнут вычислять, когда приехал в Покрове кое дедушка Сергей Нилыч, какой-то елизаветинский или екатерининский генерал-аншеф[48], как, попав в немилость, был удален к себе в имение и все это построил здесь, отделал и завел...
Дядя был одинокий. Он долго служил в Петербурге, в гвардии, и по какой-то причине должен был выйти в отставку в чине полковника; он приехал в Покровское и повел жизнь совершенно замкнутую, одинокую. Сам ни к кому не ездил и никого к себе не принимал. Он был очень богат. Это был высокий мужчина, в то время лет пятидесяти, с сильной проседью, с длинными усами, которые он, когда ел суп, всегда непременно купал в тарелке и потом как-то обсасывал их и вытирал салфеткой... Я помню, меня это очень занимало, и я всегда посматривал в это время на него. Для себя он жил не жалеючи. У него был превосходный повар, целый погреб дорогих вин. Большая библиотека, преимущественно французских книг. Целый магазин сигар, на которых (то есть на ящиках) он сам наклеивал какие-то ярлычки с обозначением года, цены и проч. Он выписывал также все почти тогдашние газеты и журналы... В доме, то есть вот в этой всегда открытой жилой половине, порядок и чистота были удивительные. Удивительная была в нем и тишина. Лакеи ходили как-то неслышно. Меня особенно удивляло, как они собирали стол к обеду. Ходят неслышными шагами, неслышно кладут ложки, ножи, вилки, ставят тарелки, стаканы. Мне кажется, можно было сидеть в этой комнате, и если бы глаза были закрыты или завязаны, не услыхал бы ничего решительно. Но он достиг этого дорогой ценой... Я помню, при нем лакей раз уронил ложку, так он только взглянул на него, и уж тот мертвенно побледнел, и у него как-то точно отвалилась нижняя губа с бородой... Такой же удивительный порядок был и на конюшне. Он считался одним из первых заводчиков в нашей губернии, и лошади его, действительно, были замечательно хороши. Я не хочу называть по именам лучших и самых знаменитых его лошадей, потому что это значило бы назвать его настоящую фамилию: этих лошадей знают все охотники, любители и знатоки... Вопреки всем тогдашним помещикам, он терпеть не мог псовой охоты: в доме у него была только одна большая собака. Он два раза в год ездил зачем-то в Москву и жил там каждый раз недели по две, по три. Кроме того, он ездил в наш губернский город, когда там бывали рысистые бега. Все остальное время он жил буквально безвыездно в Покровском.
Я сказал, кажется, что возле дома были какие-то флигеля. Там жили и работали коверщицы. Они ткали ковры и попоны на лошадей. Их было что-то много. Я помню, мы ходили туда с матушкой и видели там девушек тридцать или сорок. Они все при нашем появлении вставали и кланялись, а когда мы проходили мимо них, ловили у матушки и у нас с сестрой руки и целовали их. Дома у нас этого «заведения» не было, то есть не было заведено, чтобы у нас целовали руки, и потому эта ловля рук и потом целование их действовали — я помню — на меня ужасно неприятно. Я все прятал руки и увертывался, а матушку, тоже прятавшую руки, они целовали в плечо... В этих флигелях начальствовала над всеми ими высокая, красивая, с полной грудью и степенной походкой, женщина лет тридцати — Фиона Матвеевна. Матушка называла ее Фионушкой, и когда та целовала ее в плечо, она целовала ее в щеку. Она была тоже очень почтительная, но в обращении у нее было что-то непонятное для меня тогда, особенное, странное. Когда матушка, обойдя всех коверщиц, садилась на какой-нибудь стоящий тут где-нибудь сундук, она говорила ей: «Фионушка, садись», — и та не заставляла себя упрашивать, садилась.
— Ну что, как поживаешь?
— Ничего-с. Все по-старому...
— В этом году не было?
— Нет-с. Да и бог с ними...
— А те здоровы?
— Слава богу-с.
— Ты их приведи как-нибудь. Мальчика-то Мишей зовут?
— Мишей-с. Такой балун... А вот девочка такая тихая, такая тихая...
— Постарел «он» у тебя... Против прошлого года он, Фионушка, страшно постарел. Это вот место на висках-то совсем белое стало... и в усах сколько уж седых, а прежде-то ведь как смоль были черные...
— В этом году и то два раза хворали... Один-то раз простудились, должно быть, а уж другой и понять не можем, что такое было...
— Любит он их-то? К тебе не заходит?
— Один раз во все время только и заходили, когда еще одна Ленка у меня была... А с тех пор нет.
В доме я Фиону никогда не видал при дяде, но когда после ужина я уходил спать в комнату, смежную с той, где помещалась матушка с сестрой, я иногда видел ее мельком и слышал за стеной ее разговор с матушкой. Смутно я, конечно, догадывался, что эта Фионушка persona gratissima[49] при покровском дворе, но ее действительное назначение и положение я понял гораздо позже...
II
Из дому, отправляясь в Покровское, мы выезжали всегда утром после чаю, наскоро позавтракав, так часов в десять. В дороге, со всеми этими отпряганиями, запряганиями и перепряганиями лошадей, мы были часов одиннадцать или двенадцать, потому что в Покровское мы приезжали не ранее девяти или десяти вечера, когда было уж темно и в окнах светились огни. Дядя всегда нам был очень рад, целовал матушку, меня, а Соню, свою крестницу, брал на руки и не спускал ее с рук, носил, несмотря на то, что она была тогда уж довольно большая девочка, лет десяти или девяти. Разумеется, моментально и неслышно подавался чай, во всех комнатах зажигались свечи, лампы, все точно оживало, пробуждалось от оцепенения.
— Вы устали с дороги? Спать хотите? — спросит он и меня и сестру. — Надо ужинать сегодня пораньше...
— Нет, ведь они и дома раньше одиннадцати не ложатся, — вмешивается матушка.
Мы тоже уверяли, что вовсе не захотим еще спать и дорога нас нисколько не утомила.
Но ужин все-таки подавался раньше. Он сажал меня всегда рядом с собой и непременно заставлял выпить целый стакан красного вина, а Соню — рюмку какой-то ужасно сладкой и вкусной наливки.
— К чему это ты, Петр Васильевич, делаешь? У них еще головы разболятся, — улыбаясь, протестовала матушка.
— Ничего, лучше заснут.
И мы, действительно, засыпали отлично, проведя целый день в дороге, на воздухе, среди новых лиц, новых впечатлений...
Так бывало всегда, но в тот раз, о котором вот идет речь, случилось немного иначе. К удивлению нашему, мы не застали дяди дома. Он уж три дня как уехал.
— Когда же он будет? Когда вы его ждете? — спрашивала матушка вышедшего из дому лакея, все еще почему-то сидя в карете.
— Сегодня ожидали-с... Может, еще подъедут.
— Досадно, — проговорила она.
Нас это тоже как-то удивило. Но нечего делать, надо было выходить.
Лакеи начали вынимать и вносить в переднюю сундуки, важи. В доме была мертвая тишина и темнота. Только мухи бились и жужжали на закрытых окнах... Лакеи начали было зажигать лампы и свечи, но матушка их остановила. Она сказала, чтобы подали только самовар и чего-нибудь заодно уж и поужинать. Без него в доме было, кажется, еще напряженнее и тяжелее от незнания, когда он приедет, от ежеминутного ожидания его возвращения и незнания, правильнее, несознавания всеми своей перед ним вины или правоты... Через полчаса проявилась откуда-то и Фиона — единственный человек в доме с спокойным взглядом и довольным, хоть и покорным, улыбающимся лицом.
— Что же, Фионушка, с Петром Васильевичем-то у нас сделалось? Уж он не закутил ли у тебя? Куда это он уехал? — спросила ее матушка.
Фиона, самодовольно улыбаясь, сказала, куда он поехал, и сказала, что он вернется только завтра. А прислуге она не говорила потому, что, пожалуй, еще напьются, выйдет какая-нибудь история и им же потом будет плохо...
Мы напились чаю. Почти сейчас же после чаю поужинали, и нас уложили спать. Там, за стеной, долго еще слышался разговор матушки с Фионой, и я так и заснул под него...
Летом мы с сестрой и дома вставали рано, а тут поднялись еще раньше, кажется, и, не дожидаясь чаю, побежали в сад. Перед террасой, которая шла вдоль всей стороны дома, обращенной к саду, огромным полукругом была посажена сирень. Она разрослась в высокую сплошную стену и теперь была в полном расцвете. От массы цветов кусты казались белыми или лиловыми — каким цветом цвели они. Это было так красиво, что когда мы выбежали с Соней на террасу, то невольно остановились, любуясь роскошной стеной из живых цветов... На террасе кто-то кашлянул возле меня. Я оглянулся. Ко мне подходил, улыбаясь и раскланиваясь необыкновенно вежливо, молодой человек с длинными белокурыми волосами, падавшими почти до плеч, с маленькой бородкой клинышком, в серой пуховой шляпе с широкими полями, в коричневом коротеньком бархатном сюртучке и каких-то необыкновенно пестрых клетчатых панталонах. В первый момент, как мы вбежали с Соней на террасу, его не было или мы его не заметили, и теперь мы не знали, откуда он явился. Я стоял и смотрел на него. Соня также остановилась и, поправляя свои растрепавшиеся (у нее они всегда были растрепаны) волосы, также смотрела на него.
— С добрым утром, — проговорил он, еще раз снял шляпу и раскланялся.
Я «шаркнул ножкой», сестра сделала книксен.
— Идете в сад гулять? — продолжал он.
— Да.
— Здесь чудесный сад... пойдемте вместе... Мамаша еще почивает?
— Да. Она теперь скоро встанет, — сказал я.
Мы спустились с террасы и пошли к полукругу сирени. В этом полукруге были сделаны просеки, с которых и начинались все эти липовые, кленовые, дубовые, вязовые и березовые аллеи. Расчищена была только одна серединная, липовая, самая широкая и длинная, дядина любимая, по которой он гулял, а остальные все, как я уж сказал выше, были запущены, заросли. Мы и направились к этой вот, липовой-то. Она начиналась кустами белой сирени. Когда мы подошли и начали ломать ветки цветов, молодой человек тоже наломал себе огромный букет и, подавая его мне, сказал:
— Это передайте от меня вашей мамаше и попросите ее, чтобы она приняла меня... Живописец из Петербурга... Пожалуйста...
Я взял букет и сказал: «Хорошо-с», и мы с сестрой побежали по аллее.
Через полчаса за нами пришла нянька и повела в дом чай пить. Молодой человек попался нам опять возле террасы и напомнил мне свою просьбу.
Чай был подан у матушки в ее комнате. Там же сидела и Фиона. Когда мы с сестрой явились с такой массой сирени, матушка, принимая от нас цветы, упрекнула, зачем столько наломали их.
— Это вот тебе прислал живописец из Петербурга, — сказал я. — Он просит, чтобы ты его приняла...
Матушка удивленно посмотрела на меня.
— Какой живописец?
— Не знаю. Он там, на террасе...
— Это, матушка, Степанки-пчелинца сын. Изволите помнить Степанку? Этакой рослый, седой он еще был...
— Помню.
— Так это сын его... А дочь у меня в коверщицах... она на попонах сидит... хорошая девка, смирная...
— Что ж ему надо?
— Не знаю. Он вот только просил меня цветы передать и чтобы ты его приняла... Он там, у террасы... Я, хочешь, сбегаю, узнаю, — вызвался я.
— Ну, уж ты сиди, пожалуйста, пей чай, успеет... Что ему нужно? — обратилась матушка к Фионе.
Фиона улыбнулась и покачала как-то головой.
— Наделают беды, а потом и не знают, как уж вывернуться... — сказала она. — Вдруг присылает из Петербурга письмо — о нем барин и забыл было совсем, — хочу, говорит, ехать за границу, там учиться, так пришлите мне паспорт и не отпустите ли совсем на волю?.. А барин-то, изволите помнить, хотели три года тому назад и сами за границу ехать — им не разрешили, а этот-то сдуру напомнил о себе, да еще говорит, за границу еду... Ну, они и прогневались. Велели написать ему, чтоб он сперва сюда к нам приехал, а потом они его и отпустят... Вот-с он и приехал...
— А больше-то за ним никакой вины нет?
— Какая же вина?.. Только, я знаю, они его отсюда теперь не выпустят...
— Петр Васильевич, что ж, так и сказал ему?
— Не видали они еще его. Он вчера только утром приехал-то... Рассказывают, письма какие-то привез барину из Петербурга, от князей, графов, генералов... Говорит, со всеми он знаком, и все просят барина за него... Только...
— Что только?
— Не думаю, чтоб он его отпустил. Очень это им обидно, что им разрешения не было дано, а ему дадут... Они раз пять об этом вспоминали... Уж я-то знаю их, — заключила Фиона.
— А отчего же дядю не пускают? — спросил я, все время внимательно слушавший разговор.
— Это не твое дело. Пей чай.
— Я больше не хочу... — Встал, поцеловал матушку и спросил: — Что ж, позвать его сюда?
— Сиди — это не твое дело...
Я опять сел.
— Фиона, ты говоришь, это Степанкин сын? Какой же это? Что в поваренках был? — спросила матушка.
— Этот самый-с... Теперь не узнаете... Совсем по-благородному...
— Волоса у него, мама, до самых плеч. Вот как у Сони, — сказал я.
— Погодите, дяденька ужо вот приедут — сейчас прикажут остричь его, — заметила мне Фиона и как-то странно улыбнулась: «будет, дескать, ему на орехи...»
Дети вообще чутки и гораздо понятливее, чем думают о них взрослые, особенно такие нервные и впечатлительные дети, как я был тогда. Совершенно безотчетно, так почему-то, я решил, что ему предстоит много несчастья, и мне стало его ужасно жалко...
— Ведь он же ничего дурного не сделал, — сказал я. — За что же он будет к нему придираться?..
Фиона смотрела на меня и улыбалась своей почтительной, но и загадочной улыбкой. Матушка, тоже что-то соображавшая в это время, с некоторой досадой опять заметила мне, что это вовсе не мое дело, а гораздо умнее будет, если я буду говорить с сестрой по-французски...
— Мама, мы с Соней в сад пойдем — можно? — спросил я.
— Можно. Только…
Она запнулась.
— Только вы идите с ней и играйте одни... Вам с «ним» нечего разговаривать...
Но она и сама поднялась, очевидно тоже собираясь идти.
— Пойдем, Фиоша, посмотрю я, что это за франт у вас проявился, — сказала она, и обе, улыбающиеся, пошли вместе с нами через зал, гостиную на террасу.
Мы с сестрой шли впереди, и я с нетерпением, как только вступил на террасу, оглянулся по сторонам. Но его не было.
— Экая прелесть... сирень-то... А вот у нас, что я ни делаю, не идет она... — говорила матушка. — Ну, где ж он?..
— Нет его. Он, должно быть, ждал-ждал тебя, да так и ушел, — сказал я.
— Барин какой... ох, уж и дождется он... быть ему драному... вот он, извольте видеть, по липовой-то дорожке разгуливает... Ну, увидал бы Петр Васильевич... — и Фиона, сомнительно улыбаясь, покачала головой.
По липовой аллее, то есть по той, которая была посредине между всеми другими, расходившимися во все стороны от террасы, действительно сюда, к нам, шел он...
Мы все стояли группой посреди террасы и смотрели на него. Когда наконец он был уже в сиреневой просеке, которой оканчивалась аллея, он снял на ходу шляпу, поклонился и опять совершенно свободно и вольно надел ее.
— Извольте видеть, каков! — сказала Фиона.
Матушка ничего не отвечала.
Он прошел полукруглую площадку, отделявшую сирень от террасы, и начал подниматься уж по ступенькам. На последней он опять снял шляпу, сделал к нам еще несколько шагов и опять поклонился. Матушка слегка наклонила голову.
— Вы меня, конечно, не узнаете... А я, Катерина Васильевна, помню вас, когда еще поваренком здесь был, — сказал он. — Вы приезжали...
— Нет, я помню... и Степана помню...
— Это давно было... лет десять... больше, пожалуй, — сказал он, вынул из кармана фуляровый платок, отер им лоб, встряхнул волосами, поправил их и опять надел шляпу.
Фиона удивленно посмотрела на него, потом перевела глаза на матушку.
— Вы хотели видеть меня? — спросила матушка, — Что же вам?
Этой сдержанности и даже сухости, кажется, он не ожидал, потому что как-то странно посмотрел на матушку, на всех нас, на мгновение как бы задумался, и едва заметная горькая улыбка появилась у него и осталась на губах...
— Я так обрадовался, что вы приехали... Я много рассчитывал на вас... Мне хотелось бы о многом с вами поговорить, — сказал он.
Но он говорил это уж совсем не тем голосом: так говорят люди, когда рассказывают о своих ошибках: «а я-де вот был так глуп...»
— Я вам ничего не могу сделать... Это все как Петр Васильевич, — сказала матушка.
— Вы все-таки можете мне уделить хоть несколько минут?.. Мне бы с вами с одними хотелось переговорить... — спросил он.
Матушка, ничего не отвечая ему, посмотрела на Фиону, на нас.
— Вы меня подождите здесь... я сейчас, — сказала она, открыла зонтик и пошла к ступенькам.
Он пропустил ее мимо себя, сделав нечто вроде поклона, и пошел за ней. Когда они были уж почти возле сирени, он пошел с ней рядом, и было видно, что они говорят, но уж слышать ничего нельзя было. Мы смотрели вслед им.
— О-ох, — покачивая головой, проговорила Фиона. Мы с сестрой обернулись на нее. — И задаст ему дяденька за все это...
— За что?
— Так... очень уж...
— Он же ведь ничего дурного не сделал?..
— Мало ли что...
«За что это они ждут ему всех этих бед? — думал я. — И какое им дело до его волос? Я ему скажу, чтоб он поскорее, до дяди, остриг их. Тогда ему ничего не будет...»
Матушка с живописцем дошли до самого конца аллеи, так что их уж едва было видно. Что-то долго стояли там и пошли опять назад. Когда они начали приближаться к нам и были уж недалеко от сирени, я позвал Соню:
— Побежим к ним...
Но Фиона нас остановила, заметив: «Маменька будут гневаться... нельзя...»
Они у сирени опять что-то долго говорили и потом тихо, несколько раз останавливаясь, пошли сюда к нам, к террасе; у самых ступенек он взял руку у матушки и несколько раз почтительно, но как-то восторженно и горячо поцеловал ее. Матушка, по обыкновению, спокойно, флегматично допустила его сделать это, что-то еще сказала ему и, придерживая одной рукой платье, медленно начала подниматься по ступенькам. Он шел позади ее, махая шляпой себе о лицо и нервно то и дело поправляя волоса. Когда они подошли к нам, он сказал ей:
— Вы мне позвольте, Катерина Васильевна, на память вам и в благодарность за все, что вы делаете для меня, снять с них портрет... Я с собой взял сюда краски.
— В самом деле! Вот это отлично, — несколько оживленнее обыкновенного сказала матушка. — Только ведь мы здесь всего дня три пробудем...
— Я к вам приеду... Я постараюсь, чтобы Петр Васильевич меня как можно поскорее отпустил... Я тогда перед отъездом явлюсь к вам и в неделю их обоих нарисую...
Он был такой счастливый, сияющий...
В дверях, выходящих из гостиной на террасу, показался лакей, приблизился к матушке и спросил:
— Фриштик[50] прикажете в столовой подавать или прикажете здесь накрыть?
— Все равно, хоть здесь...
Мы все сидели на деревянных садовых стульях, расставленных на террасе, вдоль стен, по углам, вокруг таких же садовых столиков, а он стоял, прислонившись к большой колонне, и рассказывал что-то о том, как привезли его мальчиком в Петербург, он жил там у какого-то живописца... Я смотрел на него и внимательно слушал. Когда он замолчал, я не вытерпел и спросил его:
— Вы можете мне что-нибудь нарисовать?
— С удовольствием. Что хотите? Лошадку?
— Хорошо. Что-нибудь.
Он пошарил у себя в боковом кармане, вынул оттуда карандаш...
— А вот бумаги-то у меня уж нет...
Я побежал и принес ему бумаги. Он длинно и остро, не по-нашему, очинил карандаш, сел на стул, положил бумагу на широкое балконное перило и еще раз спросил, что же ему нарисовать?
— Что-нибудь.
— Ну, хорошо. Я вам нарисую петербургского чухонца на лошади. Таких лошадей здесь нет...
Мы с Соней близко обступили его и начали смотреть, как он скоро и смело рисовал, пальцем растушевывая карандаш. Лошадь выходила как живая. Мы смотрели и улыбались.
— Мама, посмотри-ка, ты поскорей посмотри, — говорила Соня.
Вдруг Фиона сказала:
— Постойте-ка... Ведь это колокольчики... это они, Петр Васильевич, едут...
Он вдруг перестал рисовать, повернул голову к саду и стал прислушиваться.
— Да, он. Наверно он. Вы поскорей дорисуйте, а то тогда некогда будет, — попросил я его.
Но он не слышал меня. Он быстро обернулся к матушке | и, взволнованный, прерывающимся голосом, скоро-скоро заговорил:
— Вся моя надежда... Катерина Васильевна... Все мое будущее... все, все...
В гостиных дверях показался лакей с блюдом, поставил его на накрытый уже стол и, неслышно, беззвучными шагами подойдя к нам, доложил:
— Кушать готово-с... Барин едут...
III
Колокольчик между тем звенел все ближе, резко и громко раздаваясь в саду. Наконец он так и залился по ту сторону дома и вдруг точно оборвался — приехали.
— А я пойду-с, — сказала Фиона, поклонилась нам всем и, улыбаясь какой-то полузначительной-полушутливой улыбкой, пошла к балконным ступенькам.
— Ты, Фионушка, ужо-то приходи, — сказала ей вслед матушка.
Она оглянулась, утвердительно кивнула несколько раз головой и пропала в саду.
Мы остались на балконе одни, то есть матушка, сестра и я, да еще этот живописец, несколько в отдалении от нас прислонившийся к балконной колонне, бледный, с каким-то застывшим, странным выражением на лице...
В доме, чрез отворенные на террасу окна, послышались голоса, шаги. На балкон выскочила большая дядина собака. Вслед за ней в дверях показался и сам он — высокий, стройный, несколько полный, с длинными, вислыми, седыми усами. Увидав нас и улыбаясь, он пошел к нам.
— Соня, что ж ты? — сказала матушка.
Сестра встряхнула волосами и, расправляя их, побежала к нему навстречу. Он на ходу нагнулся, поднял ее, поцеловал несколько раз и, не спуская ее с рук, подошел и начал здороваться с матушкой.
— Какая досада... я не знал, что вы здесь... — говорил он. Машинально потом протянул ко мне руку, зацепил меня, подтащил к себе и, продолжая говорить с матушкой, даже не смотря на меня, поцеловал в губы. Жесткие, прокуренные сигарами усы грубо дотронулись до моего лица. Точно какой-то большой зверь близко подошел и прикоснулся.
— Ну, уж этот раз я вас не скоро выпущу, — говорил он матушке. — Нет! Погодите.
Она, по обыкновению, улыбалась своей тихой, однообразной, безучастной улыбкой и что-то отвечала ему.
— Однако что ж, ведь завтракать готово? — вдруг спохватился он. — Идемте.
Когда мы шли к столу, накрытому на другом конце террасы, мы должны были пройти мимо живописца. Дядя уж раз прошел мимо его, когда только что приехал. Я не заметил только — кланялся он ему тогда или нет. Теперь, когда мы проходили мимо него, он сделал шага два вперед и что-то начал говорить: «По вашему приказанию... вот... я...» Но дядя точно не замечал его. Точно будто никого он не видел на балконе. Мы подошли к столу и начали садиться... Нас было четверо, а приборов стояло пять, и этот лишний оказался как раз возле меня.
— Это чей же? — спросил дядя у лакея.
— А живописца, — сказал я.
Но он ничего мне не ответил, продолжая смотреть на лакея. Тот испуганно, растерянно молчал; наконец робко, нерешительно протянул руку к прибору и взял его. Дядя ухмыльнулся и свел с него глаза...
Я сидел так, что не мог видеть, где стоит живописец. Он был у меня там, за спиной. Чтобы видеть, что с ним, что он делает, я все оборачивался.
— Что ты вертишься? Сиди, — сказала мне матушка.
Но я все-таки изловчился еще раза два оглянуться. Он стоял с опущенной головой, немного боком к нам, все на том же месте, где он стоял, когда мы проходили мимо него. Когда я последний раз оглянулся — его уже не было, и я не видел, как он ушел.
После завтрака дядя закурил сигару, ближе подсел к матушке, и они о чем-то стали говорить несколько тише обыкновенного. Меня интересовало — не о «нем» ли они говорят, и я прислушался. Нет, они что-то говорят про отца, про тетю Лизу, с которой дядя тоже был почему-то в ссоре, — только не о «нем». Мы с сестрой встали из-за стола и тихо, от нечего делать, ходили по террасе, прыгали по ступенькам, но «он» все-таки не выходил у меня из головы.
— Соня, знаешь что?
— Что?
— Ты попроси, чтобы дядя его к нам отпустил.
— Живописца?
— Ну да.
— Хорошо...
Она была какая-то странная девочка: задумчивая, рассеянная. Что ей ни скажи — она сейчас исполнит. Так и теперь она хотела сейчас же идти и просить его; но я понимал, что не момент, и остановил ее.
— После — сейчас нельзя.
— Хорошо...
Мы потом гуляли, обедали, ходили по комнате, рассматривали портреты, картины, бронзовые и фарфоровые фигурки, ну, одним словом, — что делают дети без гувернантки, когда взрослые заняты каким-то важным и серьезным разговором. Так дотянулось время до вечера. Смерклось. Я вспомнил про грачей и стал проситься, чтобы меня отпустили будить их.
— Только не один. Никифора возьми с собой. И, пожалуйста, к пруду не ходи ночью, еще как-нибудь упадешь с берега.
— Постой. Вот что. Эй, кто там! — крикнул дядя.
Почти моментально неслышной рысцой откуда-то прибежал лакей и вытянулся перед ним.
— Собери сейчас конюхов, там еще кого-нибудь, человек десять, и пошли их сюда, к балкону. Ну, живо!.. Вот тебе целая армия — всех грачей с ума сведете, — обратился он ко мне.
Я радовался, смеялся. Мне едва ли было и десять лет тогда...
Они все собрались и стояли внизу, у балкона, без шапок. Там с ними же стоял и приехавший с нами наш лакей Никифор.
И я отправился с ними, счастливый, довольный, туда, в этот страшный, глухой, темный теперь сад. Там, в глубине его, внизу, под большими деревьями, тепло, сыро; на полянах садится роса, и над ними туман стоит. В саду тишина мертвая. И хорошо, и страшно!.. Но я не один... Мы тихонько подкрались и пошли по сосновой аллее — излюбленное грачиное место. Дошли до середины ее и все разом начали кричать, хлопать в ладоши. Грачи подняли отчаянный крик, начали летать, шумя и цепляясь крыльями там, на вершинах деревьев. Потом — перебудили этих — пошли дальше, в другое место, будить других грачей. И там та же история. Наконец всех перебудили.
— Ну-с, теперь в дом пора, а то маменька будут сердиться, что так долго, и грачам пора спать, — начал говорить Никифор.
Усталые и довольные, мы пошли к дому. Позади меня велся вполголоса разговор, слышался смех.
— Ну, попомни мое слово, если он завтра не отдерет его...
— То есть вот как... утром же.
— Как услыхал колокольчик, стал бы у крыльца на колени... и в ноги.
— Господин какой проявился!..
И все это они говорили весело, смеясь, с шуточками. Я догадывался, о ком идет речь.
— Да что «он» сделал? — вдруг обратился я назад, к толпе.
Они смешались, замолчали. Они не предполагали, что я слушаю, что они говорят, и понимаю — про кого.
— Это, сударь, не наше дело. Нам в это нечего мешаться, — решительно сказал мне Никифор.
— Да нет, как же... вот и Фиона то же говорит, — оправдывался я.
Позади меня кто-то начал о чем-то шепотом говорить, и я слышал, как Никифор ответил: «Нет, не скажет. Никогда не скажет».
— Дело детское... известно...
— А вы, сударь, там не проговоритесь, о чем тут говорили... дяденька строг... — сказал он, — такой еще беды наделаете...
Мы были уж близко от дома и шли по средней липовой аллее. В доме, в окнах, ярко светился огонь, и от этого еще чернее казалась фигура дома... Вдруг впереди что-то показалось — какая-то тень. Она приближалась к нам. Немного погодя я увидал, что это живописец. Темно было, но я все-таки заметил, что он какой-то расстроенный, точно полоумный. Мне даже страшно за него стало. Он вглядывался в нашу толпу — очевидно, искал кого-то глазами. — увидал меня, нагнулся ко мне, к самому уху, и глухим шепотом скоро-скоро что-то заговорил. Я ничего не мог разобрать, что он говорит.
— Я не слышу, — сказал я.
Кругом нас стояла безмолвная толпа, но любопытная, внимательная. Он ничего не сказал. Опять нагнулся и начал шепотом же говорить, но реже, явственнее. Я понял, что он просит передать письмо, но кому и какое письмо, я ничего не понимал.
— Где же письмо? Кому? — также шепотом спросил и я его.
— Мамаше... вашей... вот оно.
— Хорошо-с.
Я взял письмо и сунул в карман, стараясь, чтобы никто не видал.
Но это увидали.
— И вот, посмотрю я, какой «ты», Иван, глупый, — сказал ему Никифор. — Ребенка, дитя ты в этакое дело путаешь... Себя ты этим не спасешь, а только хуже еще, пожалуй...
Но он, кажется, ничего не слыхал, ничего не понимал. Его, должно быть, чуть не до сумасшествия запугали рассказами о том, что его ожидает, и он ошалел теперь... Мы шли. Он шел рядом со мною молча, повесив голову, заложив руки назад... Когда мы вышли наконец на площадку, что была перед террасой, между ею и садом, и до дома оставалось уж несколько шагов, Никифор спросил меня, можно ли отпустить «народ».
— Покойной, сударь, ночи. Завтра опять пойдемте их будить, — кланяясь, говорили мне все эти конюхи, столяры и проч.
Они все пошли, и Никифор тоже, куда-то в сторону, к выходу из сада. Я остался один с живописцем.
— Ради бога... только чтобы никто не видал... — говорил он.
— Хорошо-с. Непременно...
Я оставил его и побежал к дому, туда, на террасу, в ярко освещенные комнаты.
В столовой за самоваром сидела матушка, возле нее — Соня, а напротив — дядя. Они уж пили чай. Тут же сидела с подвязанной щекой и приехавшая с нами гувернантка наша, Анна Карловна. У нее разболелись зубы, она все время лежала и теперь только вышла.
— Ну что, всех грачей разбудили? — спросил дядя.
— Всех, то есть там, за прудом, мы не были, — поправился я.
— Экая досада! — сказал он.
— А ноги не намочил? Покажи-ка, — спросила матушка.
Я подошел к ней и показал.
— Ну так и есть.
— Это роса...
— Все равно — мокрые... Поди, скажи Никифору, чтобы он дал тебе сухие сапоги и надел бы чистые панталончики.
Да ноги у меня сухие. Это так только... немного... — начал было я защищаться.
IV
Но она настоятельно приказала, и я пошел. Чтобы найти и позвать Никифора, я должен был зайти в переднюю. Когда я отворил дверь туда, там стояло в ожидании выхода дяди, для распоряжения относительно завтрашнего дня, человек десять «начальников», то есть управляющий, староста, конюх, коновал, наездники и проч. Они все, увидав меня, вытянулись и начали кланяться. Я позвал Никифора и поскорей вышел, смущенный этим народом. Никифор провел меня в комнату между передней и кабинетом, где стояли наши чемоданы, и начал открывать их, чтобы достать оттуда мне чистое платье. Пока я снимал и надевал новые сапоги, панталончики, кстати мыл уже и руки, причесывался и проч., в передней послышалось какое-то движение, и я явственно услыхал громкий и резкий голос дяди. Он что-то поговорил с управляющим и потом кого-то спросил:
— А по чьему же распоряжению этот болван шлялся по дому, по саду?
Кто-то что-то отвечал ему, но так тихо, что я ничего не разобрал. Потом я опять услыхал дядин голос:
— Во-первых, завтра, чем свет, остричь его... сшить ему из мизерецкого сукна[51] куртку... ливрейную... Барин какой проявился... А вы и рады!..
Опять чей-то голос, и я опять ничего не разобрал.
— Завтра, как я встану, чтобы он был уже одет.
И опять чей-то голос, и опять ничего не слышно. Потом дядин голос:
— Какие у него письма? Пошел, возьми у него... принеси сюда...
— А вы, сударь, письмо-то бросьте, какое он вам дал: его сжечь надо. Это не ваше дело, — сказал Никифор. — Его вина — он пусть и отвечает...
— Да в чем он виноват-то? — чуть не вскрикнул я.
— Тише, дяденька еще услышит. В чем виноват? В том, что... дурак он и есть... Разве это его место на балкон было приходить... Маменьке надоедать...
— Ну, уж если за это! — воскликнул я и побежал в столовую, на бегу застегивая куртку.
— Мама! «Его» будут стричь... потом драть... за тебя... Ты скажи...
Я был страшно возбужден. И без того нервный и впечатлительный, не привыкший дома к подобному обращению с людьми, никогда не видевший, как «дерут» людей, — я теперь сделался как помешанный. Матушка перепугалась, ничего не поняла, должно быть, и, обыкновенно спокойная, теперь совершенно растерялась.
— Поди сюда... что с тобой?
— Ничего... «его» стричь будут... потом драть...
— Кого — «его» ?
— Живописца!
Она вздохнула свободно.
— Глупости какие ты говоришь. Господи, как ты меня напугал. Я бог знает что подумала...
— Ты скажи дяде... я сам слышал — он велел его остричь... Потом куртку велел ему какую-то сшить... А завтра его драть будут...
— Все глупости.
— Не глупости!.. Я тебе говорю. Я сам слышал.
— Что он велел его высечь?
— Нет, это я там, когда грачей будили, слышал... Они все говорят, что его, наверно, завтра утром будут драть, и все смеются и радуются этому... У меня вот его письмо к тебе, — сказал я.
Впопыхах я совсем было и забыл про это письмо, но теперь вспомнил и начал искать его в карманах. Письма не было.
Я потерял его! — в ужасе сказал я.
— Оно у тебя в тех панталончиках, должно быть, — сказала матушка, успевшая между тем уж успокоиться. — Где же ты его видел?
— В саду, когда назад шли... я сам принесу тебе письмо.
Я опять побежал туда, опять растворил дверь в переднюю, чтобы позвать Никифора, и видел, как дядя, держа в одной руке свечку, а в другой какое-то письмо, молча читал его. Несколько конвертов и других писем лежали возле него. Когда я позвал Никифора, дядя оглянулся в мою сторону и опять продолжал чтение. Но «его» не было в передней.
— Посмотри, я забыл в тех панталонах письмо, — сказал я Никифору.
Мы пошли и отыскали его.
Я принес и отдал письмо матушке, а сам стал смотреть ей в лицо, стараясь угадать ее мысли. Письмо было большое, и она довольно долго читала его. Наконец окончила, свернула и положила к себе в ридикюль — тогда все носили их.
— Однако который час? — сказала она. — Анна Карловна, их надо пораньше уложить, — продолжала она, — Они очень рано встали...
— Ужинать будут? — спросила немка.
— Да... вы хотите ужинать? — спросила матушка. — Хочу... Да... — сказал я.
Мне ужасно хотелось выяснить, что будет с «ним». Хотелось видеть дядю по возвращении оттуда, с приема начальников, услыхать, что будет ему говорить матушка, и проч. Я все оглядывался и прислушивался, не идет ли дядя... У меня и теперь привычка, если я хоть немного встревожен и вообще возбужден, — я не могу сидеть, я то и дело встаю, хожу, опять сажусь. Я был таким и маленький. Матушка, конечно, знала это.
— Уж ты, пожалуйста, успокойся, сиди, — сказала она. — Что нужно, я все сделаю.
— Да?!.
И я вот как сейчас помню: у меня вдруг сдавило горло, и в то же время так радостно, светло стало на душе, и глаза полны слез. Я смотрел на нее, улыбался, смеялся, мне хотелось захохотать...
—Она смотрела на меня и также улыбалась, качая головой.
— Ах, какой ты... ну, поди сюда... сюда, ко мне.
Я подошел к ней, всхлипывая от слез и в то же время смеясь. Она утерла мне глаза своим платком, поправила волосы и поцеловала.
— Садись, успокойся... Я же тебе сказала... ничего «ему» не будет...
Наконец дядя пришел. Я смотрел на него, не мог оторвать глаз: Он был в каком-то странном настроении, как будто несколько рассеян. Матушка спросила его о чем-то. Он не услыхал ее и ничего ей не ответил. Раза два вынимал из кармана какие-то письма на листах большой почтовой бумаги и что-то перечитывал в них. Потом опять прятал их, ухмылялся, щелкал пальцами, говорил про себя: «Да-с... так-с...» Я внимательно продолжал смотреть на него. Он наконец это заметил и спросил:
— Что ты на меня так смотришь?
Я молчал.
— После... я вам, братец, после ужина расскажу, — поспешила за меня ответить матушка.
— Да что такое?
— Так, ничего... Мы потом поговорим.
— Ты что: опять завтра хочешь грачей будить?.. В лодке кататься? — приставал он ко мне.
Я не говорил, молчал. Он оставил меня, подозвал к себе Соню, посадил ее на колени и начал с ней шутить, спрашивал, пойдет ли она за него замуж, и проч.
— Братец, вы в котором часу ужинаете? — спросила его матушка
— Ах, сестрица, — они были по временам иногда на вы, — как прикажете. Да уж пора, пожалуй.
Он хлопнул в ладоши, крикнул «эй» и велел накрывать на стол. Когда после ужина матушка сказала Анне Карловне, чтобы она вела нас укладывать спать, и я, поцеловавшись с дядей, начал прощаться с матушкой, еще сидевшей за столом, я ей напомнил о «нем».
— Да, да... будь покоен, — шепотом сказала она. — Ступай спи... Позови Никифора, чтобы он тебя раздел.
Я долго не спал. Слышал, как она наконец пришла из столовой в свою комнату — стена об стену с той, в которой я спал, — как они еще долго о чем-то разговаривали с пришедшей туда к ней Фионой... Наконец и они там что-то замолкли. Заснул и я.
Усталый от всех этих впечатлений, я уснул крепко-крепко и проспал на другой день. Я проснулся не сам. Меня разбудил, вошедши ко мне в комнату, Никифор.
— Уж чай кушают, — сказал он. — Маменька все не приказывали будить. Вставать извольте, пора.
Я приподнялся, сел на постели, и первая мысль: «А что с «ним» сделали?»
— Ну, а что живописец? — спросил я.
— Ничего-с. Что же?..
— Ничего ему не было?
— Да ну его... Уж чай кушают...
— Нет, ты мне правду скажи, — настаивал я.
— Докладываю вам, что ничего.
— Не били его? — расспрашивал я, обуваясь.
— Извольте одеваться. Не били...
— А остригли?
— Известно, остригли. Что за дьячок?..
— И он теперь в куртке?
— В куртке... Умываться пожалуйте.
— Ты мне, Никифор, правду скажи: не секли его?
— Ах ты, господи боже мой! Докладываю вам, что не секли. Так, для примера, дяденька приказали его разложить, а потом помиловали, сказали ему, что маменька за него просили и потому прощают... В зубы раз или два толканули...
— Все-таки!
— Умывайтесь, умывайтесь...
— Он где же теперь?
— К попу отправили. Приказали портрет с него писать.
— Где же это все было?
— Известно — где секут, — на конюшне...
— А теперь он там, у попа?.. Это возле церкви?
— Да-с, в поповской избе.
«Это я маму попрошу, чтобы она меня туда отпустила», — подумал я. Мне непременно хотелось пойти к нему, хотя я наверно знал, что мне там будет неловко и я сконфужусь, по обыкновению...
За чаем я не застал дядю: он уехал в поле. Сидела матушка, Соня, Анна Карловна и всегда присутствовавшая в отсутствие дяди Фиона — спокойная, довольная, почтительно улыбающаяся. Я поздоровался и сел возле матушки пить чай.
— А ты знаешь — он «его» все-таки остриг и бил... — сказал я ей. — Два раза ударил... Что «он» ему сделал?..
Во мне — я чувствовал это — росло все больше и больше какое-то злое чувство к дяде — живая ненависть... Матушка посмотрела на меня и ничего не ответила.
— «Он» у попа теперь... Мне можно туда сходить с Никифором? «Он» с попа портрет рисует...
— Нет уж, пожалуйста...
Фиона слушала и улыбалась.
— Анна Карловна, подите с ними в сад, — сказала матушка.
Анна Карловна встала, взяла свою работу, зонтик, и мы пошли.
За завтраком дядя уж был. Я все искал на лице у него следов всего того, что было там, «на конюшне, где секут»... Он был очень весел, доволен, смеялся... Вечером я опять попросил матушку отпустить меня к «нему», но она наотрез отказала...
V
В Покровском мы прожили еще дня два. О «нем» я больше ничего не мог узнать. Никифор на все отвечал, что «он» живет «как и все», и только. Наконец настал и день отъезда. Накануне нас раньше уложили спать под тем предлогом, что завтра надо рано вставать. Утром, часов в восемь, мы уж пили чай, всё укладывали, запирали сундуки, важи, носили их в карету. Сюда же, на чайный стол, принесли и завтрак — котлеты, цыплят, пирожки, яйца и проч. Часов в десять подали карету, уж совсем уложенную, запряженную. Понесли подушки, картонки. Началось прощание. Фиона прощалась в девичьей с матушкой. Горничные прикладывались к «плечикам», к «ручкам»... Дядя всех сам усадил в карету, в сотый раз повторил приглашение приезжать к нему; столько же раз матушка повторяла обещание приехать.
Наконец кучеру Ермолаю Никифор, стоявший все время без шляпы у каретных дверец, крикнул как-то особенно вовсе ненужно громко и торжественно: «Пошел!» и, подпрыгивая и цепляясь, вскочил к нему на козлы. На крыльце стоял и кивал нам дядя. Колыхаясь и раскачиваясь на бесчисленных рессорах, карета поплыла.
В начале рассказа я уж как-то сказал, что верстах в двух от дома, там, проезжая сад, выгон, конопляники, была плотина на пруде, не доезжая которой мы всегда выходили из кареты, «на всякий случай», и переходили ее пешком. Так было и этот раз, конечно. Мы вышли, пристяжных отпрягли, и их повел в поводу Никифор, а Ермолай поехал через плотину парой. Когда это шествие тронулось, из конопляника, что был возле самой плотины, вдруг вышел человек какого-то странного вида и, озираясь во все стороны, почти кинулся к нам. И матушка и все мы остановились. Это был живописец. Он до того изменился за эти два-три дня, что я не узнал его. Совершенно бледный, как мертвец, осунувшийся, с большими — таких у него не было прежде — глазами, беспокойно вращавшимися, остриженный под гребенку, неровно как-то клоками, с обритой бородой — усики ему оставили, — он был совсем другой человек. Это было какое-то воплощение ужаса и несчастия. Он подошел к матушке и как-то машинально, как какой-нибудь механизм, упал на колени и поднял на нее глаза... Потом вдруг опустил голову. И он и мы все молчали... Потом я увидел, как его голова затряслась, закачалась, и он совсем повалился в ноги, громко рыдая и что-то выговаривая. Матушка нагнулась, стала поднимать его. И я и Соня — мы стояли, испуганно смотрели и молчали.
— Анна Карловна, уведите их! Идите, — сказала матушка.
Анна Карловна схватила нас за руки и повела по мягкой, устланной свежей соломой, плотине. Мы шли и ежеминутно оглядывались. Там осталась матушка, нянька и Никифор, державший в поводу пристяжных. Мы дошли до половины плотины, когда, оглянувшись, я увидел, что и «он» стоял с ними, с опущенной головой и вытянутыми книзу, несколько вперед, руками. Мы перешли плотину. Ермолай стоял с каретой. Мы все смотрели туда, на них. Это было довольно далеко, так что ни лиц их, ничего нельзя было рассмотреть. Прошло, по крайней мере, четверть часа, пока наконец в группе стало заметно движение, и мы увидели, что одна фигура осталась стоять на месте, а остальные идут к нам. Матушка пришла бледная, взволнованная и все торопила, чтобы скорей запрягали пристяжных.
— Он «его» опять будет бить? — спросил я.
Она мне ничего не ответила.
— Никифор, да запрягайте поскорей... Анна Карловна, усаживайте детей, садитесь...
Идя в карету, я еще раза два оглянулся на фигуру, стоявшую на том конце плотины... Наконец все было готово, все уселись — мы поехали... В карете все молчали, сидели с серьезными лицами.
На каком-то повороте я выглянул в окно. Покровское село, барская усадьба, сад, мельница — все слилось в одну синеватую полосу.
— Сиди, пожалуйста, что ты все выглядываешь? — сказала матушка.
Анна Карловна тоже сказала, что нельзя выглядывать, потому что дверца еще как-нибудь отворится и тогда можно упасть...
Всю дорогу этот живописец не выходил у меня из головы... Дня через три, как мы приехали, отец зашел зачем-то к нам в детскую и увидал валявшуюся на столе бумажку, на которой нарисована была лошадка.
— Это кто же рисовал? Ты или Соня? — спросил он меня.
— А вот этот живописец-то... в Покровском... Тебе мама говорила?
— Знаю, знаю.
— Он «его» остриг и бьет... — начал я. — «Он» прибегал на плотину прощаться с нами... Вот несчастный-то!..
— Теперь недолго. Теперь это все скоро кончится, — сказал отец.
— Что кончится?
— А вот все это.
— «Его» возьмут от него?
— Всех возьмут...
Он поговорил о чем-то с гувернанткой и ушел. «Всех возьмут»... то есть кого же это «всех»? — соображал я. — Про кого он говорит?» Так я ничего и не понял...
Прошла неделя, другая, третья. Я реже стал вспоминать «его», и наконец мало-помалу и совсем «он» исчез у меня из головы... В этом году в конце лета, так в последних числах августа, меня должны были отвезти в благородный пансион при нашей губернской гимназии, где я буду жить и откуда буду ходить в гимназию учиться. Я знал, что это будет наверно, и мысль об этом не покидала меня с утра до ночи.
— Что ты такой чудной какой-то? — спрашивал отец. — Ты все об этом думаешь — как тебя повезут!.. Это стыдно. Что ты, маленький, что ли?
— Я ничего... Я хочу...
— Что ж, ты разве дома болваном хочешь расти? Куда же потом — в юнкера?
Я опять повторил, что я и сам хочу в гимназию.
— Теперь другое время настает. Эта пора уж прошла, когда можно было так жить...
«Какое это такое время? Про что это он говорит все?» — думал я...
Прошел июнь, прошел июль, наступил наконец и август — до отъезда мне оставалось уж недолго... Время от времени матушка про что-нибудь вспоминала, что нужно мне будет там, в гимназии, начинался об этом разговор, начинали это нужное готовить, снаряжать.
— А вот про теплые чулки-то я совсем было и забыла. Устиньюшка!
Нянька Устинья за мной уж не ходила, но моим бельем платьем и проч, все-таки заведовала она.
— Что, матушка?
— А ведь про теплые чулки-то мы совсем и забыли...
— Шесть пар у них ведь есть, сударыня.
— Не мало этого?
— Можно и еще связать.
— Я думаю — связать...
И много было таких вопросов. Каждый день почти что вспоминали про что-нибудь... Мне, действительно, и самому хотелось — я живо это помню — ехать в гимназию; но эти воспоминания и особенно тон, каким говорилось все это, вздохи при этом — ужасно какое грустное, тоскливое будили чувство...
— Вы его точно в поход какой, в чужую сторону снаряжаете, — несколько раз с досадой замечал отец.
— Как же не подумать обо всем? Ребенка везут в гимназию...
Ужасно как неприятно это действовало на меня. А время отъезда все приближалось. Точно таяли, пропадали дни... Наконец их и счетом осталось всего только несколько...
Был, я помню, чудесный, тихий вечер, какие так часто бывают у нас в конце лета. Уж и листья начали желтеть, и почти весь хлеб свезли с поля — полны гумны скирдов, — скоро будет осень, но пока еще лето. Солнце заметно стало раньше садиться, вечера уж темнее, но еще теплые, сухие — сырости еще нет. Прежде в девять часов было еще светло и мы пили чай на балконе без свечей; а теперь уж нельзя и их приносят в подсвечниках с стеклянными колпаками... В такой вот тихий, хороший вечер, за несколько дней до моего отъезда, все мы, то есть я, отец, матушка, Соня, гувернантка Анна Карловна, сидели еще после чаю на балконе и разговаривали. Было уж, должно быть, часов десять, и было совсем темно. Сад, вершины деревьев, небо — все одна темнота, ничего не разглядишь. От свечей, что стояли у нас на чайном столе, казалось еще темнее, совсем черно было кругом... Говорили о чем-то вроде «чулочков» или «панталончиков»... Вдруг в этой темноте внизу, у балкона, кто-то как будто тихонько кашлянул... Все оглянулись... Тихо...
— Кто там? — спросил отец.
Несколько мгновений никакого ответа и потом:
— Это я-с...
Что-то удивительно знакомый голос. Я стал всматриваться сквозь решетку балкона и вдруг близко увидал «его» лицо...
— Это он!.. Живописец... из Покровского... — почти закричал я и взволнованно-радостно стал смотреть на отца, на матушку.
Они как-то недоумевающе переглядывались.
— Что же вы там... идите сюда, — сказал отец.
«Он» начал подниматься по ступенькам. Под мышкой у него был какой-то ящичек. Он был без шапки: он держал ее в руках. Поднявшись на балкон, он остановился и не подходил к нам. До него было шагов пять, и он был слабо освещен, так что я не мог хорошенько разглядеть его лица.
— Идите... что ж вы?.. — опять сказал отец.
Тут уж, когда он подошел совсем близко, я увидел, что он переменился еще больше, чем даже тогда, на плотине. Лицо совсем уж как-то обтянулось, загорело. Волоса отросли и торчали неприглаженные, клочьями, как на звере. Глаза какие-то странные.
— Садитесь... — сказал отец. — Вы как же это так из Покровского?..
Возле меня был пустой стул, и я пододвинул его. Он сел на него и поставил возле себя на пол свой ящичек.
— Вы давно из Покровского? — повторил отец.
— Давно-с... Уж две недели... Меня ищут...
Он сидел возле меня, так что я был между им и отцом. Когда он говорил это, я услыхал от него запах водки... Я знал этот запах. На Святую к нам приходили христосоваться мужики, и от них всегда пахло водкой. Мне показалось это почему-то очень нехорошим с его стороны... Зачем это он пьет?.. Отец не любит этого...
— Петр Васильевич хотел меня драть... утром, а я вечером, как это узнал, и убежал... Днем я в кустах лежал, а ночами шел... В кабаки заходил, покупал водку, хлеб... Я в кабаке и слышал, что меня ищут... Впрочем, это все равно...
— Как все равно?
— Так...
Я оглянулся на отца. Он рассматривал его очень внимательно, но с каким-то недоумением.
— Что ж вы хотите дальше делать... потом?
Но он ничего не ответил на это и сказал:
— Я ведь к вам пришел еще вчера ночью. Только, должно быть, поздно... в доме уж огня не было... Походил по саду... потом забился в самую чащу — там и уснул... А вот теперь, вечером, когда смерклось, сходил в кабак, выпил, поел... У вас меня не искали?..
— Нет, не искали...
— Ну да... Мне и в кабаке сказывали, что не искали... Они думают, должно быть, что я в Петербург пробираюсь...
И он как-то хитро и глупо улыбнулся.
— Ты знаешь, — обращаясь к матушке, по-французски сказал отец, — он помешанный...
Мы переглядывались друг с другом, взглядывали на него. Но он не обращал никакого внимания... Соня облокотилась на стол, подперла голову руками и уставилась на него. Он смотрел рассеянно; наконец остановился на ней и стал смотреть на нее. Мало-помалу глаза у него оживились, он улыбнулся и сказал: .
— Вот так ее и надо написать...
Пришел лакей и сказал, что ужинать готово.
— Пойдемте... поужинаем... вы отдохните, успокойтесь... Тут вас никто не тронет, — говорил ему отец. — А завтра вы ее и напишите...
— У меня ведь краски с собой, — ответил он, оглядываясь на свой ящичек. — Вот они... я их не забыл там...
В столовой было светло, и он, загорелый, запыленный, с этим своим ящиком под мышкой, казался еще жальче, еще несчастнее, сиротливее.
— Садитесь, что ж вы? — сказал ему отец, когда мы все сели, а он стоял. — Ничего, все, бог даст, уладится. Садитесь...
Он сел также, то есть я опять был между им и отцом. В середине ужина отец по-французски же сказал матушке, чтобы она прислала ему чистого белья: «Ты видишь, что за рубашка на нем? Вот несчастный-то... Вели приготовить ему постель в угольной... Ему надо сшить что-нибудь», — добавил он.
Матушка утвердительно кивнула головой и вздохнула.
— Хотите красного вина? — спросил его отец. — Сережа, налей-ка.
Я налил ему стакан. Он доел и выпил его сразу. Я смотрел ему в рот, как делают это собаки.
— Хотите еще? — спросил я.
И, не дожидаясь ответа, налил ему еще стакан. Немного погодя он и его выпил также залпом... И все молча...
Когда кончили ужинать и все встали, отец положил ему руку на плечо и повел в угольную. Я слышал, как он ему говорил: «Вам надо непременно успокоиться... вы отдохните... я все сделаю... уж там как-нибудь... Ну, бог даст...»
Он ничего не отвечал. Но в этом молчании было столько покорности, несчастия, сиротства.
— Я не знаю, что с ним, — говорил отец, возвратившись к нам. — Он и там был такой же?
— Вот на плотине, когда мы уезжали тогда почти такой же был, — сказала матушка.
— Надо, однако, подумать завтра, что с ним делать. Держать его долго здесь ведь тоже нельзя...
Анна Карловна и Соня простились с нами и пошли спать. В столовой убирали со стола.
— Ну, а ты чего же ждешь? Иди, пора спать, — сказал мне отец.
— Завтра он будет еще у нас? — спросил я.
— Будет, будет. Успокойся, пожалуйста.
— А если за ним пришлют?
— Никто не пришлет.
— А вот он говорит, что его ищут...
— Иди, я тебе говорю, спать, — уж с досадой сказал отец, — это вовсе не твое дело. Вот послезавтра тебя самого надо будет везти. Ну, иди же. Прощай.
Я простился и пошел к себе. Часа два я не мог заснуть. Прислушивался к каждому звуку... Мне все казалось, что вот сейчас дверь отворится и «он» войдет ко, мне. Но мне нисколько не было страшно... Так я и заснул наконец.
VI
Отец вставал летом всегда очень рано, часа в четыре. У крыльца его ожидали уж беговые дрожки, он садился на них и уезжал в поле на работы. Иногда он бывал далеко, на самом конце дачи, версты за три от дома. В таком случае туда за ним везли самовар и какую-нибудь холодную закуску, и он возвращался домой уж к обеду, то есть к часу.
Обыкновенно же он приезжал назад к нашему чаю, то есть часам к восьми, когда и матушка и мы все уж сидели в столовой за самоваром. Когда в этот день я встал, умылся, оделся и, по обыкновению, часу в восьмом вышел в зал, там еще никого не было. Я прошел гостиную — там тоже никого. Двери в угольную комнату, где спал живописец, были отперты, — я заглянул и туда, но и там никого. Все убрано, даже и догадаться нельзя было, что там кто-нибудь ночевал. Я отворил балконную дверь, вышел на балкон, посмотрел в сад, — никого... Куда же «он» девался?.. Вскоре пришла в зал и сестра Соня с гувернанткой.
— Соня, ты не видала «его»?
— Нет.
— Куда же «он» девался? Анна Карловна, вы не знаете, где живописец?
— Не знаю.
— Он, может, уехал?
— Не знаю...
Еще немного погодя в зал вошла и матушка, мы поздоровались с ней. Она у кого-то из прислуги спросила: не приказывал ли отец привозить самовар в поле, и, получив ответ, что «нет, не приказывал», она не пошла прямо, по обыкновению, в столовую, а, видимо, поджидала его к чаю, — медлила, отворяла окна, смотрела, политы ли цветы на окнах. Она тоже прошла и в гостиную, заглянула и в угольную, и все мы вышли вместе с нею на балкон.
— Ты не знаешь, где живописец? — спросил я.
— Нет. Тут где-нибудь...
— Его нигде нет, — опять сказал я.
Она улыбнулась и ответила, что, вероятно, он или в саду, или, может, отец взял его с собой в поле. Отец, действительно, всегда брал кого-нибудь. Страстный любитель лошадей, известный заводчик, он, однако, боялся их, то есть молодых и необъезженных. Оттого и ездил всегда на смирных и старых. Кроме того, он не умел их запрягать. Так что, если бы дорогой у него распряглась почему-нибудь лошадь, он не знал бы, что и делать. Поэтому он всегда кого-нибудь брал с собой...
Мы постояли на балконе и потихоньку, не спеша, из комнаты в комнату пошли в столовую. Там все уж было готово; матушка начала заваривать чай. Немного погодя мы увидали в окно, как подъехал к крыльцу отец на своих беговых дрожках. Но он один, без живописца...
— Один... «его» нет с ним, — сказал я.
Матушка не расслыхала или не хотела мне ответить, только она ничего не сказала. Анна Карловна посмотрела на меня и покачала головой: как это, дескать, можно так приставать... Я и сам, и без нее, чувствовал, что уж очень лезу ко всем с расспросами, но что ж я стану с собой делать?..
Вскоре отец вошел в столовую, держал в руках какое-то письмо, которое он распечатывал на ходу. Здороваясь с нами и целуя нас, он говорил матушке:
— Ты знаешь, «он» ведь ушел от нас. Встал сейчас же, почти вслед за тем, как я уехал, написал в кабинете вот это письмо, запечатал его, отдал Никифору и через сад куда-то ушел.
Мы все удивленно и напряженно слушали его. Письмо отец читал про себя, время от времени как-то странно-грустно улыбаясь, пожимая плечами...
— Вот несчастный-то, — проговорил он.
— Куда же «он» ушел? — спросила матушка.
— «Он» просит, ради бога, держать это в тайне. Вы не болтайте об этом, — обратился он к нам. — «Он» пишет, что будет пробираться в Петербург. Дорогой будет заходить к попам, дьячкам, рисовать образа для церквей, и думает так добраться до Петербурга. На первое время у него есть еще несколько рублей... Оставаться, говорит, у вас не могу, потому что все равно из этого ничего не выйдет и рано или поздно меня отыщут и возьмут. Просит только, чтобы в случае, если из Петербурга будут спрашивать, почему он убежал от Петра Васильевича и что это за человек, — сказать правду, только правду... А там, в Петербурге, он уверен, что его спасут, не дадут погибнуть... «Он» пишет, на кого и надеется...
Я помню, отец назвал тогда несколько фамилий, но у меня сохранилась в памяти одна — Плетнев[52]. Отец (он был Петербургского университета) знал Плетнева и начал говорить, что это — очень хороший, добрый человек и, действительно, непременно примет в «нем» участие... С этих пор я почувствовал к Плетневу какое-то необъяснимо горячее, чуть не восторженное чувство и потом все расспрашивал о нем отца. Через семь лет, когда я приехал в Петербург поступать в университет, где он был в это время ректором, я помню, в каком волнении ожидал я увидать его...
— Так что они наверно «его» спасут? — сказал я.
Мне никто не отвечал. Я опять повторил вопрос.
— Да, если он доберется до Петербурга, — сказал отец.
— Там уж наверно спасут?
— Да, — повторил отец.
— А если нет?
— Тогда плохо...
— Что ж, тогда его опять к дяде?
— Отдадут опять ему... Ну да ты уж успокойся, доберется до Петербурга... Вот только «он» глупо сделал, что ушел, не дождавшись. «Ему» бы надо было дать денег на дорогу, рублей хоть сто...
— А если бы его догнать?
— Ты разве знаешь, в какую сторону «он» пошел?.. «Он» тебе ничего не говорил?.. Ты «его» не видал? — спросил отец, и мне показалось, что он представляет себе, что я будто бы знаю, куда «он» пошел...
— Я «его» не видал, — сказал я. — Как вчера пошел спать, так я «его» больше уж и не видал.
— Ну так где же «его» сыщешь? Днем «он» наверно будет где-нибудь укрываться, идти будет ночами... Вот только беда, если «он» будет пить. Тогда наверно попадется, и тогда уж «ему» конец... Тогда уж «он» от дяденьки твоего не уйдет. Он, я думаю, в клетку тогда «его» посадит...
— Анна Карловна, идите в сад гулять с детьми, — сказала матушка.
Она всегда нас куда-нибудь отсылала, когда почему-нибудь находила, что нам не следует слышать начавшийся разговор. Так и теперь. Она послала нас потому, что, по ее мнению, нам не следовало слышать то, что говорил отец про дядю...
Анна Карловна собрала нас и увела.
Вечером в тот же день, когда, я зачем-то вошел в кабинет, где сидели отец с матушкой, я услыхал еще такой отрывок из их разговора:
— Это может ведь очень скверно для него кончиться... Из этого может разыграться целое следствие. Его из имения выведут... Имение возьмут в опеку... — говорил отец.
— Это ты про кого? — спросил я.
— Все про дяденьку твоего...
— За что?
— Чтоб людей не мучил...
— Для чего это ты рассказываешь ему? — сказала матушка. — Ребенок и так какой-то странный, а ты ему еще рассказываешь...
— Какой же он «странный»? Мальчику десять лет, разве он не понимает? Ведь ты все понимаешь? — спросил он меня.
— Все, — улыбаясь, сказал я.
— Ну вот видишь...
Но матушка удивленно пожала плечами, сказав, что воображает, как это я все понимаю, и заговорила о том, что лучше бы подумать, как это вот послезавтра везти меня в гимназию...
VII
Наступил наконец и день отъезда. С вечера все уж было уложено, завязано. Утром оставалось только велеть запрячь лошадей, закусить на дорогу, проститься и — в путь. Филипп Иваныч — человек, который должен был со мною ехать и потом остаться при мне в пансионе (у нас в пансионе у каждого был свой человек), — тоже ходил уж совсем как посторонний.
— Филипп! — зовет отец.
— Ах, дайте ему собраться. Человек завтра уезжает, а его всё зовут, — вмешивается матушка.
И Филипп ходил с каким-то совсем особенным выражением в лице, даже что-то такое надел, чего на нем прежде не было; говорил он серьезно, тихо.
— Пожалуйста же, Филипп...
— Да уж будьте покойны, матушка. Лишь бы, бог дал, учились они хорошо...
Филипп был очень хороший человек. Он был испытанной честности и пользовался доверием в доме. Его посылали в город за покупками. Он же ездил и в Москву с шерстью. Железных дорог тогда не было, и он ездил туда с этой шерстью на подводах. Уложат, бывало, шерсть в тюки, зашьют в рогожу, навалят тюки на подводы и поедут. Там Филипп ее продавал где-то, получал деньги. Потом покупал по списку все нужное «для дому» — зеленый горошек, вина у Депре[53], чай, кофе, сахар, макароны и т. д. Возвращение его из Москвы было целым событием. По приблизительному расчету дней начинали поджидать его задолго.
— Что это Филипп не едет? — говорит отец.
— Не управился еще.
— Да уж пора бы. Разве в дороге что...
— Ах, у тебя все что-нибудь... приедет, бог даст, — успокаивает матушка.
Наконец Филипп приезжает...
— Филипп Иваныч приехал, — докладывает лакей.
— A-а!.. Приехал... ну, зови его сюда.
Филипп с дороги в высоких сапогах, для ловкости и для сохранности денег, которые он привез из Москвы за шерсть и которые у него в боковом кармане, подпоясан кушаком. Стараясь тише стучать своими сапогами по полу, он идет — мы слышим — и останавливается в дверях.
— Здравствуй, Филипп. Ну что, как съездил?
— Слава богу-с.
— Все хорошо?
— Хорошо-с. Слава богу...
Поездки Филиппа в Москву составляли какое-то событие — не событие, что-то вроде священнодействия, о котором и самый рассказ-то выслушивался чуть ли не с благоговением. Сразу даже не спрашивали, почем он продал шерсть, сколько привез денег, а подходили к этим вопросам как-то задерживая себя и как бы мимоходом. И уж гораздо спустя после того, как он расскажет новости про Москву, расскажет про дорогу, после того, как его пошлют в переднюю напиться чаю с дороги — он почему-то приезжал всегда к вечеру, — он сдаст деньги в кабинете: толстые, засаленные пачки бумажек, чистенькие, синеватые листочки серий... Завтра будут развязывать и открывать возы, в которых уложены покупки. Мы будем смотреть, рассматривать, пробовать изюм, миндаль, горошек и проч. Я говорю — это было целое событие в тиши тогдашней деревенской жизни. У него, конечно, все в исправности, все верно. Нечего и считать. Такой человек, как Филипп!.. Долго, чуть ли не целую неделю еще, по вечерам он будет рассказывать о своей поездке, и его будут слушать все с тем же напряженным вниманием и любопытством...
Этот человек ехал теперь со мной — меня поручали ему. Он нужный, необходимый человек для дому, «с ним покойно», но я единственный сын, надежда, радость — все... Кому же поручить это «все», как не Филиппу?.. Помню я это последнее утро — день отъезда. До мелочей я его помню: какое платье было на матушке, как кто сидел, что подавали за завтраком — подавали битки с кисленьким огуречным соусом, — все помню... Наконец надо же было ехать. Лошади уж часа два стояли у крыльца
— Ну, присядем.
Присели. Посидели молча с полминуты, встали, начали креститься... Началось прощание, обнимание, целование... Все меня крестили, целовали, говорили, точно в утешение, что надо учиться. Каким зато я молодцом буду потом, когда выучусь и приеду!..
Когда кончилось и прощание, все — отец, матушка, сестра, гувернантка, нянька, горничные — гурьбой двинулись за мной в переднюю, на крыльцо. Филипп стоял у тарантаса и, перегнувшись в него, поправлял дорожные подушки, узелочки с провизией и еще другие с чем-то узелочки. Еще раз все целуют, крестят...
— Ну, с богом!..
Филипп садится в тарантас рядом со мною, говорит, чтобы я сел повыше, что-то такое поправляет у меня за спиной... Лошади трогают. Я оборачиваюсь, смотрю на крыльцо... Там все стоят, крестят, кивают... Сейчас будет сверток за сад. Повернули — и все скрылось... Крепкие, сытые лошади бегут дружной, ровной рысью. Колокольчик так и раздается в саду, в глубине его, по всем этим дорожкам, по которым сегодня еще я гулял в последний раз... Проехали и сад, плотину, выгон, что за плотиной, едем полем. Я оглядываюсь время от времени назад — все дальше, туманнее видно усадьбу. Наконец осталась на горизонте какая-то бледно-синеватая туманная полоска. Скоро и она пропала... Когда я оглянулся и не нашел уже этой полоски — тут только я ощутил вполне, что я остался один, и сознал, что перехожу какую-то границу, которая оставляет за собой все, что было до сих пор, и что впереди у меня все будет другое... И в это другое я вступал... И вдруг тут почему-то мне вспомнился «живописец», о головой, остриженной клочьями, запыленный, загорелый, с своим ящиком под мышкой. «День я во ржах — ночью иду», — повторял мысленно я его слова... Впереди налево — бесконечная равнина уж поспелой, но еще не сжатой ржи. «Может, он там», — мелькнуло у меня в голове, и я внимательно стал всматриваться в даль... Теперь он лежит там, в этой ржи, где-нибудь на меже, прислушивается, дожидается, когда солнце сядет... Потом пойдет и все оглядывается... Ночью мы тоже поедем... и вдруг где-нибудь он выйдет на дорогу... И мне как-то страшно стало... Я очнулся от мечтаний, лошади идут шагом. Рядом сидит Филипп и дремлет с полузакрытыми глазами...
«А что теперь там?.. Обедать теперь уж скоро будут... Отец с матушкой в кабинете сидят... Соня с гувернанткой в саду... Никифор накрывает стол. Через открытые окна в зале слышно, как в кухне Василий-повар рубит котлеты и точно дробь выбивает на барабане...»
Мысли и образы проходят, сменяют друг друга... Лошади опять побежали рысью. Филипп Иваныч проснулся, встряхнул головой, кашлянул и поправился.
— Вот уж и Осиповка, — говорит он, заглядывая вперед.
— Там кормить будем?
— Там-с.
— Покормим и дальше поедем?
— Дальше-с. Холодком отлично...
— И ночью будем ехать?
— Так до полуночи. К полуночи в Спасское приедем. Там опять кормить до утра...
Сон совсем прошел у него. Он видит, что я сижу бодрый, не нюню. Озабоченный своей миссией, он начинает со мной говорить о том, как мы приедем, остановимся где в «губернии»...
— Приедем — умоетесь, оденетесь, чайку покушаете, папенькины письма положите в карманчик, и мы с вами поедем... Перво-наперво к архиерею — под благословение... Потом к предводителю губернскому... к тетеньке-игуменье, а там к директору в гимназию...
Точно вчера это все было... Господи, как живо все это я помню!..
Так мы и сделали, как приехали. Я напился чаю, умылся, причесался, надел новенькую курточку; Филипп тоже оделся во все самое лучшее; мы взяли извозчика и поехали развозить письма. Куда ни приедем, он оправит на мне платье, скажет, чтоб обо мне доложили, и советует: «А вы, сударь, так и так скажите...» Меня, конечно, везде принимали, везде дали совет, чтобы я хорошенько учился, и сказали, что по воскресеньям будут за мной приезжать. Даже и архиерей[54] — и тот сказал, благословляя:
— Скучно, отрок, будет тебе у меня, а на праздники все ж приходи...
Наконец мы отправились в гимназию, к директору. Это был высокий, толстый мужчина лет сорока пяти, с огромной мохнатой головой и громким голосом. Он говорил во все горло, точно кричал, и то и дело хохотал: «Ну да, да...» — повторял он, и ни с того ни с сего вдруг захохочет... «Какой он чудной», — думал я и смотрел то прямо ему в лицо, то на ноги, одетые в узенькие короткие брюки, не достававшие до полу почти на четверть.
— Ну, пойдем, пойдем, ха-ха-ха... пойдем, я отведу тебя в пансион... А ты учиться будешь? Ха-ха-ха...
Он надел фуражку и пошел со мной через улицу в благородный пансион. Филипп Иванович пошел за нами.
— А это твой дядька? — спросил он меня.
— Дядька, — сказал я.
— Ну, ты у меня смотри служи хорошенько, не пьянствовать... смотри!.. А то так велю отодрать... ха-ха-ха...
Мне это показалось странным и стало как-то неловко. «Какой он глупый и грубый», — подумал я. Филипп ничего ему не ответил. Я хотел было оглянуться и посмотреть на него, но не оглянулся — мне было неловко, совестно...
Мы пришли как раз в то время, когда пансионеры садились в столовой обедать. Их было человек около тридцати.
— Ну, вот вам еще товарищ. Смотрите его не обижайте, — сказал он. — Садитесь вот здесь. Ты еще не обедал?
— Нет.
— Ну, обедай...
Затем он что-то поговорил обо мне воспитателю и ушел в другие комнаты. Некоторое время оттуда долго еще слышался его громкий голос... В тот же день на меня надели форменную куртку, казенное белье, сапоги. Вечером, когда нас повели в столовую пить чай, я удивился, увидав, что и Филипп был тоже уж в форменном сюртуке и на огромном подносе разносил стаканы с чаем.
— А вы, сударь, после того извольте к маменьке с папенькой письмо написать, — сказал он мне. — Ермолай (кучер) пришел проститься. Он завтра чуть свет домой уезжает.
Началась новая жизнь...
VIII
В пансионе были всё дети помещиков нашей же губернии; было несколько человек из одного со мной уезда; но я раньше с ними не был знаком. Мы вставали в семь часов утра, умывались и одевались, шли на молитву, потом садились готовить уроки. В половине девятого нам давали по стакану чаю с булкой и вели в гимназию на лекции. Во время «большой перемены», то есть после двух уроков, во время перерыва лекции на полчаса, давали бутерброды. Потом опять два урока. В три часа вели попарно в пансион; обед, отдых, приготовление уроков, чай, отдых, ужин, и в половине десятого — спать. И так изо дня в день. Меня очень скоро полюбили. Того, что называется «приставаньем к новичку», — со мною не было.
— Ха-ха-ха... Ну что, привыкаешь? — несколько раз спрашивал меня директор.
Он приходил в пансион каждый день.
— Привыкаю.
— А если станут приставать, то спуску не давай...
Я уже сказал, что товарищи-пансионеры были всё дети помещиков нашей же губернии. Были между ними и моложе меня, но были и гораздо старше — в шестом и седьмом классах были здоровые ребята лет по восемнадцати, а одному было даже за двадцать лет. Они, понятно, с нами, маленькими, никакой дружбы не водили и ходили между нами, как ходят в садке крупные рыбы между маленькими. Но они жили вместе с нами. Ели, пили, спали, гуляли — все вместе. Они говорили друг с другом, но разговор их мы слышали. Курить было запрещено, но они все курили в форточки, в отдушники и потом ели мятные лепешки, чтобы не было от них запаха табаку. Возвращаясь по воскресеньям из отпуска, они опять ели эти мятные лепешки и дышали друг на друга, спрашивая, не пахнет ли от них вином. Они рассказывали друг другу ужасные сальности. Все это мы видели и слышали. Сперва, с нова, меня, не слыхавшего ничего подобного, это удивляло и вызывало во мне какое-то брезгливое чувство. Так действует на человека, привыкшего к чистому белью, чистому платью, порядочным манерам и проч., вид грязного, неумытого, потного лица, грязных, сальных рук... Но меня особенно удивило и возмутило их обращение с своими дядьками. Почти у всех у них были свои дядьки. На другой день, как я поступил, вечером, когда мы пришли в спальню и раздевались, чтобы укладываться спать, один из этих старших начал за что-то бранить своего человека. Тот оправдывался. Тогда он его при всех ударил по щеке... Некоторые смеялись и говорили, что так и следует, а то он совсем его распустил... Меня это ужасно возмутило, и я долго не мог заснуть потом. Мне было одиннадцать лет, но я видел первый раз, как бьют людей... Еще через несколько дней разыгралась такая сцена. Один из старших пансионеров за что-то — так, за какой-то вздор — рассердился на своего дядьку. Это при мне было, и я помню, что тот ничего ему обидного не отвечал, только оправдывался. «Ну, хорошо, довольно. Мне уж это надоело, — сказал он. — Вот ужо я тебя накажу...» Это было утром. Когда мы пришли из гимназии и собирались идти обедать, пришел директор. Пансионер, о котором я говорю, подошел к нему и сказал: «Ваше превосходительство, прикажите моего Егора наказать. Ни на что не похоже — грубит, не служит...»
Директор в лице преобразился — просиял, захохотал и радостно начал звать служителей-дядек.
— Я его... я его!.. — кричал он. — А где Егорка?
Мы стояли и смотрели. Некоторые смеялись и разговаривали, как перед началом спектакля... К директору подошел «Егорка».
— Ты это что затеял? А? Своему помещику грубить вздумал?..
— Ваше превосходительство! — с искаженным лицом завопил «Егорка» — старик лет пятидесяти, почти уж седой, маленький, сухощавый, с выбритым лицом, с серенькими щетинистыми усиками под носом — и повалился в ноги.
Я как сейчас гляжу на него...
— По-ме-щи-ку своему... а!.. Сто... пятьсот ему дать!.. Эй, Васька, Ванька!..
В это время из кухни в столовую мимо нас с миской проходил Филипп.
— Филька! — увидав его, закричал он.
Филипп поставил миску и подошел к директору. В это же время прибежали и другие дядьки.
— Филька! Как господа откушают, вот ты с ними, — он указал еще на двух служителей, — накажешь Егорку... Дать ему двести... мало... дать ему триста...
Филипп стоял и молчал. Потом я увидал, что он что-то шевелит губами, но что он говорил — я не мог разобрать за говором других. Директор тоже, должно быть, плохо расслышал.
— А? Что ты говоришь?
— Я не могу-с. Я этого дела не умею, — говорил Филипп.
— Не умеешь?.. Ты не умеешь?.. Ты заодно?.. Ну так я тебя выучу... Васька, дать ему для науки, чтобы умел, на первый раз пятьдесят. Я тебя выучу...
Он взял его за подбородок и дернул голову кверху. Я увидал смущенное, бледное лицо Филиппа, и вдруг я почувствовал, что меня что-то душит и в глазах зелено, какие-то круги, пятна... Я хотел закричать, но не мог, со мной сделалось дурно, я зашатался и упал.
У нас в пансионе была большая, высокая, просторная комната, в которой стояло шесть кроватей, у каждой кровати ночной столик и стул. Тут же был шкаф, в котором стояли банки и пузырьки с какими-то лекарствами. В комнате пахло аптекой. Это был наш лазарет. Когда я очнулся и пришел в себя, я лежал на одной из этих кроватей. Возле меня на стуле сидела наша старуха-кастелянша. У кровати стоял Филипп. В дверях слышался голос директора: «Скоро?» — «Сейчас приедут», — кто-то отвечал ему... Я чувствовал ужасную слабость. Мне давали что-то пить. Подошел директор.
— Что это с тобой? — спросил он.
Я смотрел на него, на кастеляншу, на Филиппа, все слышал, видел и ничего не мог сказать.
— Что это с тобой было? — повторил он. — Дайте ему воды. — Мне подали стакан. — Пей... еще... еще выпей...
Я пил воду и тяжело всхлипывал, как бывает это у детей, когда они уж перестали плакать, но еще не, совсем успокоились... И вдруг я почувствовал, что у меня опять что-то душит в горле, и слезы, горячие-горячие, так и полились ручьями.
— Да что с тобой, наконец? — говорил директор.
Теперь я чувствовал, что могу говорить, и, рыдая и всхлипывая, выговорил:
— Ничего... я с ним домой поеду...
— С кем это с ним? Куда?..
— С Филиппом... домой...
— A-а!.. — догадался он. — Так это вот что!.. А ведь я сразу и не понял... Ну, ты это успокойся... Наказывать, изволь, я его не буду... Вот он у нас какой... скажите, пожалуйста.
Его смущение и испуг прошли, он оправился и даже захохотал слегка — какой, дескать, я дурак, думал, что-нибудь серьезное, а то какой вздор...
— Скажите, пожалуйста... а! За что только меня напугал... — все повторял он.
Скоро приехал доктор, пощупал у меня пульс, приложил руку к моему лбу, посмотрел язык, спросил что-то, пожевал губами, и они вышли вместе с директором. К вечеру я совсем оправился — мне что-то давали, какие-то капли, — но ночевать оставили в лазарете. В одиннадцать часов, когда воспитанники уже спали и когда убрались с работой и служители, ко мне в лазарет тихонько, на цыпочках, без сапогов, кто-то вошел. Я не засыпал еще и окликнул.
— Это я-с, — отвечал Филипп. — Я тут ляжу...
И он лег на полу, в ногах моей кровати, что-то подложив себе под голову и чем-то прикрывшись...
Мне не спалось; с вечера, после обморока, я немного заснул, а теперь все вертелся, в голову лезли какие-то мысли, образы; путались-путались они, и вдруг опять живописец. Стоит ночью на дороге. Кругом рожь. Ночь тихая, темная... Я чувствую, что и я тут, но он меня не видит. Стоит он и все смотрит куда-то. Голова острижена клочьями, глаза злые... я смотрю на его лицо, и вдруг оно мало-помалу стало звериным, как у волка, зубы слегка оскалены... Я с трудом перевел дух, сделал движение головой, руками... и все пропало. Я был в испарине и тяжело дышал... В большой комнате лазарета было почти темно, но я, однако ж, видел все пять пустых коек, что стояли рядом, одна возле другой... Тишина... Я полулежал на спине, повернулся на бок, попробовал было опять закрыть глаза, но в голову опять полезли образы...
— Господи Иисусе Христе... Мать пресвятая богородица, — шепчет во сне Филипп.
— Филипп, ты не спишь? — тихонько говорю я.
— Нет-с. Чего угодно? — И он поднялся, сел.
— Ничего... Я так... И я не сплю...
— Отчего же? Надо почивать... Уж первый час, я думаю.
— Я живописца сейчас видел... он в поле стоит.
— Почивайте, бог с ним... Прочитайте молитву и започивайте...
— Какой он, если бы ты видел, страшный...
— Молитву прочитайте — все пройдет. «Да воскреснет бог» надо прочитать...
Он посидел еще немного и опять лег, поджал ноги и хорошенько прикрылся...
Утром ко мне зашел дежурный воспитатель.
— Ну, что с вами? — спросил он.
— Ничего... Теперь все прошло.
В гимназию меня, однако, не повели. Воспитатель сказал, что это уж пусть директор как знает... В четыре часа, к обеду, когда пришли воспитанники из гимназии, пришел и директор. Зашел в лазарет.
— Ну что?
— Я здоров.
Это было в субботу. Все спешили в отпуск. За кем приезжали родственники, за кем присылали лакеев с записками. Я переоделся из больничного халата в обыкновенное наше платье и вышел в зал. Те, за кем еще не присылали, стояли у окон, сидели на них, смотрели — не идут ли и не едут ли за ними. Вдруг по залу раздалось: «Тсс... предводитель!..» Все начали оправляться, отошли от окон. Воспитатель пошел навстречу, тоже поправляя галстук, волоса... Предводитель губернский считался попечителем гимназии и нашего пансиона. Он был самое большое для нас начальство, перед которым в ничто обращался даже и директор. Он очень редко заходил к нам.
Он вошел очень торжественно, прошелся по всем комнатам... Мы все сбились в кучу и издали глядели на него. Он ходил с воспитателем. Вдруг Пишо — воспитатель — громко позвал меня.
— Т — в, тебя зовут, — повторили товарищи.
Я поправился, обдернул курточку и пошел.
— Ну что? Привыкаешь? Нравится здесь? Не скучаешь? — спрашивал предводитель. — Не шалит он? — обратился к воспитателю.
— Пока ничего. Здоровье только у него, кажется, слабое, — ответил воспитатель. — Вчера припадок с ним был.
— Да-а? Это нехорошо. Надо больше движения. Заставляйте их больше бегать... Ну, одевайся... поедем ко мне в отпуск...
Он походил еще немного, пока я переменил куртку на мундирчик; потом подали его коляску, мы сели и поехали.
— И что ж, эти припадки у тебя часто бывают? — спросил он меня дорогой.
— У меня никаких припадков нет.
— А вчера что ж было?
— Вчера Петр Иваныч (директор) хотел сечь Филиппа, а я испугался.
— Как сечь? Какого Филиппа?
— Моего. Который из деревни со мной.
И я ему все до самых мелочей рассказал, как было.
Он очень внимательно слушал, что я говорил, время от времени качал головой и повторял: «Ах, что он делает, ах, что он делает... И это теперь-то, когда на носу...»
Дома, когда мы приехали, он повторил мой рассказ собравшимся к обеду.
— Этакие вещи узнаешь случайно!.. Теперь и там, в деревнях-то, надо тише воды ниже травы себя держать, а он тут вздумал...
Я помню, что они говорили, ссылаясь все на какое-то «нынешнее время». Я это и помню только, но в чем дело — я тогда не понимал...
На другой день, в воскресенье, у нас, то есть у предводителя, был перед обедом наш директор. Я видел его мельком, когда он проходил через зал в, кабинет. Они пробыли там вдвоем около часу, и директор уехал. Потом, когда я вернулся из отпуска, он встретил меня в гимназии, позвал в комнату, где собирались учителя, — там никого не было, — и спросил, что я говорил предводителю.
— Он спрашивал, отчего у меня припадки, а я сказал, что у меня никаких припадков нет — я только так испугался тогда...
— А домой ты об этом ничего не писал?
— Нет, еще не писал.
— И не пиши...
Уж я, право, не знаю, от кого и как, но вечером в этот же день в пансионе все узнали, что за директором вчера присылал предводитель, задал ему головомойку и не велел больше сечь служителей. Старшие воспитанники на меня косились, что-то такое говорили про меня друг с другом вроде того, что если нельзя «людей» наказывать — лучше их и не держать, и проч. Зато я сделался любимцем всех дядек...
Подходили праздники. Подходили — и подошли. Святки — не каникулы. На каникулы все разъезжаются, а на святки и четвертая часть не уехала в деревни; но в городе, к родным, к знакомым, разошлись почти все. Меня взял к себе предводитель. В доме у него никого не было, кроме его жены и ее сестры, очень бойкой девицы, которая меня страшно тормошила — брала с собой кататься, таскала по магазинам... Но я все-таки был один, в том смысле, что не имел товарища, и все время был там же, где были и большие. Я невольно слушал их разговоры, споры. Каждый день у предводителя, разумеется, собиралось народу очень много, и речь у них все шла об одном — об эмансипации.
— Что это значит — «эмансипация»? — спросил я однажды. Мне объяснили, что это значит «воля», которую хотят дать мужикам и всем этим кучерам, поварам, лакеям, горничным, но что об этом говорить им не следует...
Я начал кое-что понимать...
Пришла весна. Начались и кончились экзамены. Начали разъезжаться по деревням. Прислали и за мной лошадей. Приехал тот же кучер наш, Ермолай, и принес в пансион два письма — ко мне с советами и наставлениями, как осторожнее ехать, и к директору — об отпуске меня.
— А что с живописцем? — спросил я Ермолая.
— Поймали его!.. Во ржах поймали... на третий день-с, как от нас ушел... Становой ехал, видит — во ржах человек прячется... Велел народу окружить — поймали; где паспорт? Чей ты человек?.. Велел связать, да так связанного к дяденьке и представили... Становому дяденька за это сто рублей пожаловали и тройку лошадей подарили... Теперь сидит под караулом и картины расписывает... Заливает уж шибко. Его накажут, а на другой день опять пуще прежнего напьется...
— Ну, теперь недолго... — сказал я, не зная, что такое я говорю.
— Бог знает-с. Народ и то что-то и у нас болтает, да всякому слуху разве можно верить? — ответил кучер.
— Нет, Ермолай, это уж верно...
— Да дай господи... От хороших господ и так никто не отойдет, а уж зато вот у худых-то, по крайней мере, народ вздохнет...
Не больше я узнал о живописце и в деревне в тот год.
IX
Наступил наконец последний крепостной год. Оставался и мне всего один год пробыть в пансионе. На святки в этом году я был в деревне. Помню, была страшная вьюга, мороз, окна все запушило, люди ходили с обмороженными носами, щеками. В доме топили печки по два раза, и все-таки было холодно. Птицы падали на лету... И вдруг после этого сразу сделалось тепло; с крыш начало капать — настала совсем весна. Я уехал в гимназию.
До воли оставалось уж близко, так близко, как никто и не думал...
Мне шел тогда шестнадцатый год. Я помню, раз был очень теплый, солнечный, совсем уж вешний день. С крыш капало, на улицах лужи, грязь; везде кучки народа, у всех возбужденные лица, и над всем этим — чистое, безоблачное, синее весеннее небо...
Помню, я вышел, как был в комнате, даже без фуражки, на крыльцо — оно у нас в пансионе во двор выходило, но высокое, выше забора, так что можно было с него все видеть на улице, и долго стоял — все смотрел, как откуда-то все едут, спешат, все в мундирах, в полной форме, и так это все блестит на солнце...
Пробираясь и прыгая через лужи, с подвернутыми панталонами, без фуражки, весь запыхавшись, к крыльцу спешил Петр — куриловский дядька, маленький, заморенный седой старикашка, очень часто напивавшийся и буянивший. Он увидал меня, распустил улыбку, остановился и перевел дух.
— Откуда это ты, Петр?
— Из собора... сейчас... объявили... фу... и устал же — все бежал... Вот он... вот!..
Он вынул из кармана сложенный раз в десять печатный лист, показал мне, еще несколько раз повторил: «Вот он!.. Вот он!..», точно кто его хотел отнять у него, и опять спрятал.
— Рад ты? — спросил я.
— Гм! Чудно!..
Он отер, ошмыгал ноги и мимо меня юркнул в переднюю. В окно, выходившее на крыльцо, изнутри кто-то забарабанил. Я оглянулся. Оттуда мне махали, что-то показывали руками. Я пошел.
— Директор!.. Он спрашивал тебя, — разом сказали мне несколько товарищей.
— Где же он?
— Там, в зале.
Я увидал его в мундире, с орденами, в руках трехугольная шляпа. Он стоял несколько поодаль от толпы воспитанников, дядек, казенных лакеев, солдат-сторожей — все смешались.
— Это великий день. Великий!.. — говорил он. — Отныне рабство пало... Теперь все равны...
Он говорил это перед нами. Все слушали его и молчали.
— Вот он... вот!.. — раздалось вдруг возле меня.
Я догадался и, улыбаясь, оглянулся. Это был все тот же Петр, но я тут только заметил, что он совсем пьян.
— Даровал нам, даровал... кормилец наш!.. Довольно всякой муки примали... Ваше превосходительство! — протискиваясь к директору, говорил он тем хриплым, разбитым голоском, каким говорили обыкновенно тщедушные, забитые старики из дворовых.
Теперь таких тщедушных, беззубых, но до последней минуты выбритых и все бодрящихся стариков уж нет больше...
Директор остановился, несколько смущенный.
— Ваше превосходительство... я, ваше превосходительство, сегодня же-с ухожу... я больше не могу-с...
Директор, конечно, догадался, что он пьян.
— Иди, иди, спи... после поговорим, — сказал он.
— Да нет-с... вы, может... я не пьян...
— Хорошо... поди усни...
— Да нет-с... куда я пойду...
Директор вышел из терпения:
— Пшел!.. Ну!.. Это что такое... Ты думаешь, волю вам дали, чтобы пьянствовать, грубить? Пшел!.. Я тебя так сейчас...
Петр смотрел на него, ничего не понимал, повертывал головой, как делают это утки, когда всматриваются...
— Ведь вот он!.. У меня есть... вот, — сказал он вдруг, вынул сверточек, показал его всем и опять спрятал.
Несколько воспитанников взяли его за плечи и отвели. А там дальше увели его уж дядьки... Директор проводил его глазами до двери и, обращаясь к нам, сказал:
— Шестой и седьмой класс, пойдемте сюда, за мной.
Мы пошли за ним в столовую.
— Ну, господа, — разводя руками, оттопырив губы и подняв брови, начал он и затворил двери. — Ну-с... Старого уж не воротишь... Надо переменить обращение... Могут иначе быть неприятности. «Они» вы видите что уж затевают... На всякий случай, я сейчас в соборе говорил полицеймейстеру, и он обещал, если что... Гм!.. Я им, боже их сохрани... я... — вслед за тем злобное, притворное «ха-ха-ха»...
Он начал говорить что-то о том, что волю дали необдуманно рано, что от этого могут быть бедствия... и потом опять:
— Милость, дарованная государем императором...
Он был противен. Такое чувство вызывают рассуждающие о чести люди, которых все знают уж, что они за птица, и слушают их из деликатности, совестятся смотреть им в глаза, но уж никто им не верит...
Когда он уехал, мы разбились на кучки и говорили о событии, но так, чтобы «маленькие» не слыхали.
— Да что ж может быть? Чего он боится?..
— Мало ли что...
Но ничего не было. Прошел весь день, вечер, нас повели спать... Прошел и следующий день, и еще прошло их несколько — все по-старому, как было... И потянулись дни за днями... Подходила весна, подходили экзамены...
X
Раз как-то я сидел один на окне и смотрел в наш пансионный сад — все уж зеленело, распустилось, — я, задумался и не слышал, как кто-то подошел сзади.
— Сергей Николаевич...
Я даже вздрогнул. Оглянулся — Филипп.
— Что ты?
— Хочу я вас просить... Нам, дворовым, по «Положению» земли не полагается... А если бы вы попросили папеньку... мне клочок... так, десятинку одну... к дороге...
— И что же?
— Я бы постоялый дворишко поставил... всякую мелочь держал бы — чай, сахар, деготь — деревенский товар... Если бы вы их попросили... за мою службу...
— То есть чтобы я написал?
— Не-е-т-с. Как кончим здесь, приедем домой, — тогда...
Я, конечно, обещал, сказал, что он и без моей просьбы сделает ему это. Но мне показалось как-то и странным и удивительным это желание его обособиться, отойти, отделиться...
— А разве ты у нас не останешься? — спросил я.
— Все равно я буду всегда к вашим услугам, если что прикажут... с шерстью если в Москву... или так что...
«А все-таки отделяется... не вдруг, а все-таки отходит... хочет сам по себе быть...» — думал я.
И я долго потом все не мог свыкнуться с этой мыслью. Грустное какое-то будилось чувство...
Наши «окончательные» экзамены затянулись что-то очень долго — был уж конец июня. За несколько дней до конца их ко мне приехал отец и пришел в пансион.
— Ну что, как у вас тут идет? — спрашивал он меня.
— Ничего, все хорошо, — отвечал я. — Завтра последний экзамен.
— Этого нечего бояться. Этот нам не опасный, — сказал Филипп.
Он был тут же и сказал это пресерьезно. Мы с отцом рассмеялись.
— Ты почём же это, Филипп, знаешь?
— Да как же мне не знать? Вот Энкелю это опасный экзамен, а нам нет... Я всех знаю...
Отец стал его о чем-то расспрашивать — уж о его собственных делах. Я вспомнил про его просьбу и сказал:
— Он просит — исполни, пожалуйста — подари ему у большой дороги одну десятину земли — он хочет постоялый двор поставить.
— Кто? Филипп? — удивился отец.
— Да-с, — отвечал Филипп. — Если милость ваша...
— Сделай одолжение... И двор тебе поставлю — снарядим все как следует...
Филипп был на верху блаженства, сиял, улыбался, говорил, что что бы ни приказали, куда бы ни послали — он вечный слуга, и проч.
Экзамены кончились. Филипп собрал все мои и свои пожитки... Я в последний раз обошел комнаты, прощаясь с ними; простился с товарищами, со всеми, кто оставался, и на другой день мы — отец, Филипп и я — уехали домой.
Мы ехали на своих — это очень длинная, как я рассказывал, история. Отец дорогой расспрашивал нас — мы с Филиппом рассказывали. Рассказывал и он про деревню.
— Да, знаешь, — сказал он, — дядя Петр Васильевич ведь при смерти... Я был у него с «маменькой»... Бог с ним, умирающий.
— Отчего же это с ним?
— Не перенес... «Это» на него так подействовало. Все опасался, что его убьют. Из кабинета почти не выходил... Впрочем, что же это я как о покойнике говорю?..
На другой день, когда мы подъезжали к дому, матушка вышла нас встречать на крыльцо. Я выскочил из тарантаса, кинулся к ней — глаза заплаканы. Я невольно остановился.
— Скончался дяденька… Петр Васильевич... — проговорила она, целуя и обнимая меня.
— Когда? — спросил отец.
— Сейчас только получила письмо... Посланный привез. Завтра надо туда ехать...
Мы прошли в дом. В комнатах попадались старухи-няньки и так просто какие-то старухи, у нас много их жило, — поздравляли меня с приездом, говорили и слезились: «Дяденька-то, Петр Васильевич...» Очевидно было, что до нашего приезда известие о кончине дяди было здесь событием, от которого они не успели еще отделаться...
Но наш приезд отодвинул это событие и если не заставил совсем забыть — событие было еще слишком свежо и важно, — то уж во всяком случае все смешал, спутал и внес веселое настроение. И матушка и ее штаб, все еще всхлипывая, уж улыбались сквозь слезы, разглядывали меня, спрашивали, кончил ли я, говорили: «молодец» и проч. Филипп Иваныч вносил чемоданы, ему помогали домашние. Матушка увидала его и сказала:
— Филипп, слышал, Петр Васильевич-то?..
— Слышал-с... Что ж делать, сударыня... Все там будем...
— Ну, а как вы-то поживали...
— Ничего-с. Слава богу, кончили...
— Слава богу... Спасибо тебе, Филипп... Вот все это как, бог даст, кончится, надо с тобой будет поговорить...
Она намекала на то, что хочет сделать что-нибудь для него, отблагодарить чем-нибудь, и он это понял, кланялся, говорил, что он всегда и на будущее время... и проч.
Я был это первый раз в деревне после объявления «воли». Я хотел увидеть, заметить разницу, ну хоть какую-нибудь черточку против прежнего, какую-нибудь новизну, которая показала бы: «а вот этого не было прежде»... Но в доме было все по-прежнему: те же лица, те же отношения...
В саду, у самого балкона, наш садовник Ефим поливал цветы, и с ним еще какой-то человек. Ефим увидал меня, обрадовался, снял шапку, начал спрашивать о здоровье, о том, как приехали. Этот другой, который был с ним, тоже снял шапку, поклонился и опять принялся за дело...
— А это кто? — тихо спросил я Ефима.
— Это не наш-с... Это из Алексеевки...
Я почему-то с любопытством посмотрел на него. Он мне показался каким-то особенным... Это был первый «не наш»... И это было единственное новое, чего не было прежде...
Я обошел сад, двор, конюшню — все по-прежнему, везде попадались все те же лица...
XI
Со смертью дяди Покровское переходило теперь к матушке, единственной его наследнице. Они ехала теперь и хоронить его и вступать в свои права, принимать имение.
— И, пожалуйста, всю эту дворню ты сейчас же распусти. Ни на что она не нужна. Господь с ними — пусть идут куда хотят и нанимаются. Народ у него весь перегажен... — сказал ей отец.
— Надо же хоть до шести недель-то...
— Это сколько угодно. Только чтобы они не рассчитывали остаться, чтобы они это знали... Ведь там никто жить не будет, так зачем же держать дворню? Стариков и старух оставь — пусть доживают, а эти — с богом...
— Да там есть и молодые такие, что хуже всяких старых, — сказала она. — Вот хоть бы этот несчастный живописец-то...
— Да? Ну что ж он? — живо спросил я.
Она грустно улыбнулась и покачала головой.
— Ты и не узнаешь его... Руки трясутся, вечно пьян, затевает драки... Намедни, когда я была, он ходил по двору, так я и не узнала его... ужасно!..
Отец стал говорить, что он вовсе не в том смысле сказал о роспуске дворни, как она поняла; что он не только ничего не имеет против содержания таких несчастных, но даже, напротив, это обязательно должно быть сделано; что он только против дальнейшего содержания всего штата, и проч.
— Что ж он делает там? — опять спросил я.
— Ничего; кажется... так, на кухне... Да вот завтра ты его увидишь...
Под предлогом, что с дороги и что завтра надо будет с утра опять ехать, раньше обыкновенного велели подавать ужин. Поужинали, и все разошлись...
Я должен был в августе отправляться в Петербург, в университет. Я был полон сил, надежд, гордой уверенности, что мне все по плечу... Я не боялся нужды, потому что я и понятия о ней не имел и она не грозила мне... Я там сразу должен был попасть в среду богатых, сильных людей — бывших товарищей и сослуживцев отца... «Возьму я «его» с собой: не удалось «ему» тогда, ну — теперь... «Он» опять поступит в академию... Здесь ведь «он» совсем пропадет. Окончательно сделается пьяницей... Мы поедем с «ним»... Да!» — решил я...
Утром меня разбудили, когда уж карета была подана и матушка с Соней уж были готовы. Они всё жалели меня и оттого не будили.
Мы поехали опять по той же дороге, которую я описывал в начале рассказа, когда ехал по ней еще мальчиком. Тот же лес, та же песчаная дорога, тот же глубокий овраг... Всё знакомые места, но уж нет при виде их ни радостного замирания, ни неудержимого желания выйти из кареты и пройти лесом. Ах, как все это скоро проходит!..
Наконец, колыхаясь из стороны в сторону, карета въехала на широкий двор. Перед конюшней стояло несколько отпряженных экипажей — очевидно, были «гости»... На крыльце нас встретила Фиона, вся заплаканная и, мне показалось, страшно постарелая. Она кинулась ловить руку у матушки, чтобы поцеловать ее, но та не дозволила, и она поцеловала ее в плечо. Матушка тоже начала плакать. Соня не плакала, но шла с постным лицом. Так мы вступили в зал и невольно остановились. Посреди комнаты, на банкетном столе, с подложенной под голову подушкой, весь покрытый какой-то кисеей, лежал дядя. Несколько человек «гостей», то есть приехавших на похороны соседей, стояли тут же. Матушка опустилась на колени, начала креститься. Соня сделала то же. Потом матушка подошла и посмотрела через кисею на дядино лицо; к ней подошли соседи, тихо поздоровались. Все говорили шепотом, вздыхали, покачивали головами. В комнатах было душно — для чего-то все окна были закрыты. Потом все перешли в гостиную. Дверь на террасу была открыта, и я прошел туда... Все по-старому, как было тогда... Песчаная площадка... полукруг сирени... а там, дальше, громадная, сплошная стена лип, кленов... Вечер был тихий; солнце уж село, набегали сумерки. Я спустился вниз по ступенькам и пошел по средней дорожке. Тишина. Ни души кругом. Там, на конце ее, стояла скамеечка — я дошел до нее и сел... Я, должно быть, долго просидел. Я и теперь способен долго засидеться, задумавшись, а тогда, в молодости, это и еще чаще со мной бывало. Особенно при таких вот случаях... За мной пришел «здешний» человек, «не наш», и сказал, что чай подали. Я встал. Он шел позади меня шагах в двух.
— А что, где у вас этот живописец? — спросил я.
— Здесь-с.
— Он где же теперь?
— На кухне-с или у себя в комнате...
— Можно, стало быть, его видеть?
— А вот, позвольте, я узнаю-с. Он, кажется, не годится-с... выпивши. Он запивает-с...
— Узнайте, пожалуйста, и скажите мне потом.
Чай подали в угольной, где и прежде его всегда подавали. Туда все и собрались. Разговор шел, разумеется, все о похоронах. Вспоминали какие-то добродетельные дядины поступки, какую-то необыкновенную его справедливость, еще что-то... Я никого не знал из соседей и сидел молча. Вскоре пришел лакей, которого я посылал узнать о живописце, и остановился в дверях. Я встал и подошел к нему.
— В квартире-с, — доложил он, — совсем пьян. Спит... Добудиться невозможно. Уж мы его будили-будили...
«А все-таки я пойду его посмотрю», — подумал я. Спросил, где эта квартира, и мы пошли... Лакей, должно быть, думал, что это мне забава, что я хочу посмотреть смешного человека, и начал рассказывать, какие штуки он выделывает, когда напивается.
— И врать здоров. Как в голову попадет, так сейчас про Петербург рассказывать, с какими генералами он знаком, как ему ручку пожимали...
— Это он не врет. Это все правда, — сказал я. — И теперь опять ему будут пожимать...
— Хорошо, стало быть, мастерство свое знает... Тоже вот есть у нас столяр Андрей — золотые руки, а запьет — и прощай. Покойник барин тоже и с ним чего-чего только не делали. Никакой строгости не боялся. Сегодня накажут, а завтра — опять. Так уж их вместе всегда и наказывали…
Мы прошли весь двор и остановились у крайнего деревянного флигеля, рядом с конюшней. Из конюшни слышался смех, говор, ветерок доносил запах махорки. Собрались и болтают свои и приезжие кучера.
— Вы извольте немножко здесь погодить, я вперед пойду, может, добудимся, — сказал лакей.
— О нет, нет, не нужно. Вы меня только проводите; идти куда покажите...
— А вот-с... Пожалуйте. Это окошки-то у него.
Он дернул за ручку какую-то дверь; она отворилась, и я увидал маленькую, темную комнату аршин пяти в квадрате, низенькую, слабо освещенную одной сальной свечой. Меня обдало затхлым, кислым воздухом... Прямо против двери у противоположной стены стояла огромная, высокая двухспальная деревянная кровать с ситцевым пологом. Она занимала полкомнаты. Какая-то женщина отошла от стены и, поправляя на груди шейный платок, поклонилась нам.
— Иван Степаныч спит?.. Вы его супруга? — спросил я.
— Супруга-с, — отвечала она и уставилась на меня.
— Он у вас немножко, кажется, закутил, я слышал?
— Да-с.
Это была еще не старая женщина, но с ужасно изможденным, больным лицом. Довольно красивые глаза смотрели страшно усталыми и точно молили о пощаде.
— Это все у него пройдет... — бодро сказал я. — Опять примется за работу.
На кровати кто-то повернулся и тяжело вздохнул.
— Иван Степаныч... Иван Степаныч, — сказала она.
Ответа не было. Я опять попросил не будить.
— Вы мне его только покажите, — сказал я.
Лакей торопливо снял со стола свечку и поднес к кровати. Я увидал его... Он лежал совершенно одетый (в каком-то сюртучке) на «сделанной» кровати, то есть поверх одеяла (из кусочков). Голова на темной ситцевой подушке. Когда свет упал ему на лицо — я сделал невольное движение испуга. Совсем мертвец. Бледный, с темными кругами под глазами, с полуоткрытым ртом. Казалось, он даже не дышал...
— Иван Степаныч... барин... — опять позвала жена.
— Не будите же, ну, я прошу вас, — сказал я.
И прямо, чтобы удостовериться, жив ли уж он, я взял его руку и поднял... Она была теплая, но совсем как плеть.
— Жив, — проговорил я.
— Это что он бледный-то такой? Это он завсегда, как выпьет... А потом пройдет... — заметила жена.
XII
На другой день утром мне сказали, что пришел живописец.
— Где же он?
— В передней. Сюда не идет...
В передней было много своих и чужих лакеев; при моем входе они все встали, вытянулись в ряд. Они стояли спиной к окнам, так что я не сразу увидал между ними живописца.
— Здравствуйте, пойдемте, — сказал я, когда наконец нашел его глазами.
Он неловко и как-то стыдливо взял мою руку, совсем не пожал ее и, осторожно ступая своими толстыми сапогами, чтобы не стучать, пошел со мною. Надо было проходить через зал, где лежал покойник. В зале, отойдя совсем уж на цыпочках несколько шагов от двери, он остановился, начал креститься и потом в пояс почти поклонился. Я не видал выражения его глаз: он их как-то держал все время опущенными, лицо скромно-серьезное.
Когда мы проходили гостиную и наконец вышли на террасу, он все оглядывал по стенам кругом.
— Что это вы всё смотрите? — спросил я.
— Смотрю-с, припоминаю... Все так же...
— А вы разве «после того» ни разу не были здесь?
— Нет-с. Как же было возможно?..
Я пригласил его к чайному столу, что был уже накрыт.
Он смотрел на меня с застенчивой, тихой улыбкой; потом опустил глаза и начал крутить бахромку чайной скатерти. Маленькие красные пальцы дрожали.
— Ну, бог с ним... Прошлого не воротишь... Начнем снова жизнь, — сказал я.
Он вскинул на меня глаза и с той же улыбкой сказал:
— Я ничего-с.
И замолчал. Я налил себе и ему стаканы чаю.
— Пожалуйста.
Он чуть не уронил стакан, до того у него тряслись руки.
— Вы успокойтесь, — сказал я.
— Я ничего-с... Это уж... признаться, если... вот когда если выпьешь накануне...
А я думал — это у него от волнения. Мне сделалось невыразимо грустно и жалко его. Значит, он уж совсем погиб... Как же он будет работать теперь?..
— Тогда вы как же?..
Я не договорил.
— Пишу?
— Да...
— Рюмку или две выпьешь и...
«Предложить ему разве?.. — подумал я. — Очень только уж рано...»
Я вошел в дом, встретил какого-то лакея и велел подать водки и закуски.
Там, должно быть, подумали, что это я и буду пить, и живо собрали и подали на огромном серебряном подносе несколько сортов водки, сыру, масла, икры. Лакей поставил поднос и ушел.
— Пожалуйста, — попотчевал я «живописца».
— А... вы-с?
— Я не пью...
Я, действительно, тогда ничего не пил. Я налил ему рюмку. Он очень ловко подхватил и выпил ее, ничего не пролив. Потом выпил другую и третью. Я все поглядывал ему на руки — трясутся они или нет?
— Великая это пагуба человеку — водка... — проговорил он.
— Зачем же вы тогда пьете ее... то есть столько?
Он улыбнулся и вздохнул.
— Только ею одной и спасался... Выпьешь и перенесешь... Без водки-с не перенес бы... Вспомнишь все... и за водку...
— Теперь все уж это прошло. Бросьте и водку...
— Прошло-с. Все прошло... это действительно...
— Поедемте в Петербург... — начал было я, но он так удивленно и точно будто с испугом посмотрел на меня.
— А что же? — спросил я.
— Не-е-т-с. Это все уж прошло... кончено...
— То есть?..
— Конечно-с: все кончено...
И он начал часто, нескладно, путаясь, смеясь некстати, говорить, что он человек теперь совсем погибший; говорил какими-то притчами, загадками.
— А какая примерно, по-вашему, разница между человеком, творением божиим, и... и... ну, хоть деревом? — вдруг спросил он.
Я смотрел на него и молчал. Он, немного повременив, продолжал:
— А вот-с какая. И человек к богу стремится и каждое дерево. Извольте посмотреть, куда они растут... деревья?.. К небу... К богу стремление имеют... я уж над этим много думал-с...
«Господи, да неужели же он еще и с ума сошел...» — подумал я.
— Так-то-с... Это все надо понять... Я, конечно-с... какое мое образование, а все-таки в свое время людей видел-с... И все это отлично понимаю-с... И теперь вот и тогда — ваше обращение: все ведь это я помню...
Он посмотрел на стол с закуской, потом на меня.
— Сделайте одолжение, — сказал я.
Он встал, подошел к столу, взял графинчик с водкой — руки уж не тряслись, — налил рюмку и выпил ее, потом так же поспешно налил другую и опять выпил. Потом поставил графинчик, отломил крошечный кусочек хлеба, обмакнул его в солонку и, пожевав его, обернулся ко мне.
— Все это ведь кажется так просто-с. И траву какую-нибудь, примерно хоть табак, в порошок можно растереть... А человека тоже разве нельзя? Э... э... как еще легко!
Он не садился, а в волнении и как-то точно расхрабрившись ходил передо мною. Сделает шага три-четыре в одну сторону, потом опять назад и все поглядывает на стол с подносом. Я стал догадываться, что дело плохо пойдет, и начал придумывать, под каким бы предлогом велеть убрать водку. Он все ходил и продолжал говорить притчами. Я уж и не думал начинать с ним разговор о том, о чем хотел вчера и все время раньше, то есть про академию, Петербург и т. д. Надо было отложить это до другого раза... может быть, даже и навсегда... Мне уж и это стало приходить в голову...
В доме между тем начиналось движение. Свои и гости просыпались.
— А у , меня к вам поручение от матушки, — сказал я.
— Какое-с? — удивился он.
— Не можете ли вы ей нарисовать портрет... дяди-покойника?..
Он грустно покачал головой.
— Ничего нет ведь у меня... ни красок, ни кистей...
— А карандашом?
— Это можно-с.
— Если можете, пойдемте... Ведь его скоро выносить будут. Есть у вас бумага, карандаши?
— Нет-с.
Я пошел сказать, чтобы принести все это, и вспомнил, что как же это я оставляю его одного на балконе? Я поспешил вернуться. Он жевал. Очевидно, еще только что выпил...
— Ну, пойдемте, — сказал я.
— Разве еще одну, последнюю?..
Я промолчал.
— И довольно.
Он очень развязно, не дожидаясь моего приглашения, налил рюмку, выпил ее, закусил кусочком хлеба, и мы пошли в зал. Там поставили ему близ изголовья гроба стол, положили на него каких-то больших толстых книг, чтобы было можно рисовать стоя. Открыли лицо покойника. Я отошел.
Я пошел опять на террасу, велел убрать водку, закуску, чай. Потом прошел к матушке, которая тоже уж встала и пила чай у себя в комнате. Рассказал ей про живописца, сказал ей, что он рисует. Потом походил еще по комнатам и вернулся. Он стоял, облокотясь на книги, высоко положенные на столе, подпер голову руками и точно замер. Дьячок, который стоял у изголовья и читал псалтырь, делал мне какие-то знаки глазами. Я подошел. Он не переменил ни позы, ни отвел глаз с дядиного лица. Уставился, как-то сжал глаза — пристально, лихорадочно горящие, и, почти не моргая, смотрел на него. Я испугался — как бы еще не вышло чего.
— Иван Степаныч, — сказал я. — А Иван Степаныч!
Он молчал. Тогда я коснулся его локтя и опять позвал его. Он встрепенулся, взглянул на меня широко раскрытыми глазами, выпрямился, потом, как бы придя в себя, вдруг закрыл лицо руками, голова закачалась, затряслась, и он пошатнулся. Я поддержал его, дьячок с другой стороны. Так мы вывели его на террасу, посадили на стул, дали выпить воды. Он был бледный-бледный, как вчера.
— Я вам после нарисую, — проговорил он, заметив меня. — Не могу теперь...
И он вдруг вскочил, быстро спустился с балкона по ступенькам, держась за перилы, и пошел вдоль стены дома, шатаясь и упираясь в нее рукой. Я проводил его глазами до угла. Он повернул за него и исчез.
— Что тут такое было? — спросила меня матушка из гостиных дверей.
Я рассказал ей.
— Не надо было ему водки давать... Экая досада...
После похорон мы прожили в Покровском еще несколько дней — дня три-четыре. Матушка делала какие-то распоряжения. Я целый день проводил в саду, уходил в поле. Живописец два дня пропадал где-то. Жена его искала у себя в деревне, но нашла в каком-то другом селе. Я заходил к ней, и она мне обещала вытрезвить его, чтобы я мог поговорить с ним до отъезда. Но это так и не удалось... Бедная женщина плакала, ловила меня за руки, хотела целовать их, чтобы я взял ее с мужем к нам. Я дал ей слово устроить это во всяком случае, когда она пришла еще раз просить меня об этом в день отъезда. Мы с матушкой наконец уехали домой.
Из Покровского к нам то и дело приезжали то староста, то управляющий, то конюший за разными приказаниями. Привозили оттуда разные вещи, не нужные там, так как никто там не жил. Я всякий раз спрашивал про живописца и получал все один и тот же ответ: «Пьет-с...»
Между тем подходило время и моего отъезда в Петербург. Приемные экзамены в университете были тогда в августе, так в половине, и я должен был поспеть к ним. До отъезда оставалось недели три. Надо было на что-нибудь решиться — покончить как-нибудь с живописцем. Я уж видел, что моя мечта уехать в Петербург с ним вместе, с тем, что я поступлю в университет, а он снова в академию, — едва ли осуществима... Мне грустно было с ней расстаться — так хороша, красива она была, — но, очевидно, надо было расстаться. И потом, что же делать с его женой? Надо же ведь ее устроить...
Однажды вечером я заговорил об этом с отцом. Он выслушал меня и сказал:
— Делай как знаешь. Но, по-моему, из этого ничего не выйдет. Пить он не бросит. Он не может бросить. Это уж болезнь теперь у него. Самое умное и самое доброе, что ты сделаешь, — это если будешь помогать его жене. Она будет его одевать, возиться с ним, ходить за ним и, если у нее будут средства, ей будет легче это делать — он будет хоть сыт и одет, по крайней мере. Во всяком случае, я так думаю, он не долго проживет.
— Она просила, и я обещал ей сюда его перевести, — сказал я.
— Это напрасно. Впрочем, как хочешь.
— А где ему жить?
— Вот и это опять... Вот разве где — в бане, знаешь, на той половине?..
У нас была на берегу реки, возле сада, шагах во сто от дома, чудесная липовая баня, а к ней пристроены были когда-то еще две комнаты, в которых никто не жил, и они и зиму и лето стояли пустые, на заперти. Мысль поселить их там мне понравилась. Как раз то, что и нужно ей, то есть что он будет постоянно на виду и будет удерживаться. В это время у нас был покровский староста и завтра должен был ехать обратно.
— Так я скажу Семену, чтобы он их прислал сюда.
— Сделай одолжение, — отвечал отец. — Да вот на той неделе привезут сюда экипажи из Покровского — пусть с ними и приезжает.
Я начал благодарить его за согласие, но он грустно усмехнулся и опять повторил, что он рад это сделать, но что из этого ничего не выйдет — дело его кончено...
XIII
Вскоре как-то я собрался на охоту и велел разбудить себя как можно раньше. Меня разбудили на заре, еще до солнца. Я наскоро умылся, оделся, взял ружье и пошел. Сейчас за деревней, по берегу реки, длинной полосой далеко тянутся заливные низы — самое дупелиное место: кочки, красная ржавчина, низкая осока. Туда я и направился. Когда я подходил к селу, оно уж проснулось. Мужики, бабы выходили из дворов. Которые садились в телеги и ехали, которые так спешили в поле. Было жнитво, самый разгар рабочей поры... На краю деревни, у моста, ставили новый, чистый сосновый сруб. Несколько десятков обтесанных бревен лежало еще на земле; кругом — щепки, чурки, стружки. Слышался стук топоров. Когда я подошел уж довольно близко, навстречу ко мне вышел Филипп Иваныч, «для ловкости» подпоясанный кушаком поверх старого, форменного своего «пансионского» сюртука с ясными пуговицами, и стал просить меня зайти «откушать» у него чайку...
— У меня и самоварчик тут стоит... на чистом воздухе...
Я зашел. Он мне показывал и рассказывал, как он хочет устроиться, где у него будет лавочка устроена при дворе, как двор постоялый будет стоять... Столько планов, надежд, так человек этот уверенно, бодро смотрит вперед...
— А хорошо быть вольным, Филипп? — спросил я его.
Он взглянул на меня, на мгновение задумался и очень дипломатично ответил, что ему все равно хорошо было жить и по-крепостному...
— Да?.. Ну, а если бы теперь предложить тебе опять ехать в пансион, как тогда со мной, и опять начинать все это сызнова, ведь не согласился бы?
— Хочется пожить, — улыбаясь, ответил он и начал рассыпаться в благодарностях и мне и отцу, который не забыл его службы и подарил ему теперь и клочок земли и лесу на постройку. — Теперь на своих ногах — от самого зависит человеком стать... Теперь-с один только избалованный, который избаловался, в люди не выйдет. Всякому предоставлено...
Я слушал его бодрую, уверенную речь; такой практичностью, трезвостью отзывалась она. Нельзя было и сомневаться, что он твердо встанет на ноги... Я прежде даже и не подозревал за ним такой энергии и практичности... И вдруг он начал вспоминать, как мы с ним тогда приехали в пансион. Потом эту сцену с директором, как я испугался, как со мной сделался припадок...
— А ты этого разве не забыл? — спросил я.
— Сергей Николаевич, разве в нас уж и души нет? Собака, и та добро помнит...
— Это уж все прошло, Филипп...
Я потолковал с ним еще немного, выпил у него стакан чаю. Солнце начало вставать — пора было идти. Он проводил меня до моста, пожелал счастливой охоты и сказал, что ужо зайдет на барский двор — зачем-то отец велел ему приходить.
После обеда, в этот же день, к вечеру, так часов в семь, все мы, то есть отец, матушка, я, сестра с гувернанткой, собирались проехаться в поле, куда-то — уж не помню — на косьбу, на жнитво. Лошадей долго не подавали, и мы все в ожидании их вышли на крыльцо. Тут же стоял и пришедший из деревни Филипп Иваныч и что-то, говорил с отцом. В это время по дороге во двор показалось несколько тарантасов, карет. Все они были закрыты парусинными чехлами и запряжены в одну или в две лошади. Это везли экипажи из Покровского. С ними должны были привезти и живописца с женой. Они въехали во двор и остановились у конюшни, перед каретным сараем. Мы все пошли к ним туда, смотреть их. Из одного из тарантасов, покрытых чехлом мы видели, как вышла женщина, потом вышел мужчина. Я издалека узнал их. Это были «они»... И у него и у нее были в руках какие-то узелочки. Вышли они из тарантаса и остановились. Когда мы подошли к ним шагов на тридцать, она ему что-то сказала, и он снял фуражку...
— Боже мой... так измениться... я не узнал бы его, — говорил отец, идя со мной рядом. — Ай-ай-ай...
Когда мы подошли к ним, и отец и матушка очень ласково и просто поздоровались с ними. Сказали, чтобы устраивались скорей; за чем нужно, чтобы прямо обращались, и проч.
— Что это вы?.. Это что ж такое? — заметил ему отец, указывая головой на фуражку, которую он продолжал держать в руках.
Он имел невыразимо жалкий вид. Он, несомненно, чувствовал, что его из милости привезли, будут кормить, поить... Все знают, что он пьет, и теперь будут отучать его от этого... Стыдно ему и за нищету свою... сапожонки сбитые, сюртучишка старенький, засаленный, в пятнах, на шее какой-то голубенький женский платочек вместо галстука. И она — робкая, заискивающая, благодарная, — ужасное впечатление...
На подводе, которая сопровождала экипажи, было нагромождено их имущество — деревянная двухспальная кровать, пуховик, какие-то полки, сундук, два или три стула.
— Ну, устраивайтесь, бог даст, все уладится. Филипп, покажи им, куда идти... Знаешь, пристройку к бане? — сказал отец.
Филипп Иванович сейчас же, как бывалый и притом свой человек, начал распоряжаться, сказал, чтобы они шли за ним, подводе с кроватью велел тоже ехать за собой. Они тронулись. Я смотрел им вслед, думал и сравнивал их. Оба ждали воли. Дождались. Этот бодро, уверенно заводит себе гнездо, говорит: «Своим домком хочется пожить»... Этот — измученный, больной, нищий, нахлебник... Вот и воля... Бери ее...
Он умер в тот же год. Осенью, в Петербурге, я получил письмо из деревни, и в числе новостей писали о его смерти...
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЕ УЗНИЦЫ
I
Мой отец был тогда уездным предводителем дворянства, и мы жили безвыездно, и зиму и лето, в деревне.
Жизнь у нас вообще была тихая. Гости, соседи-помещики, приезжали, и мы к ним ездили, но того, что называлось «съездами», у нас не бывало. Только раз в году, одиннадцатого августа, в день рождения отца, собиралось к обеду человек пятьдесят гостей; вечером, после чая, они все разъезжались по домам.
Отец был из числа трех-четырех помещиков в уезде, которые выписывали газеты, журналы, книги. В кабинете у него стояли вдоль стен высокие, до потолка, шкафы, наполненные книгами, а перед окнами, выходившими в сад, — большой письменный стол, обставленный портретами тогдашних литераторов в рамках под стеклом. В этом кабинете, на ковре, которым был устлан весь пол, я просиживал целые дни при нем и без него, рассматривая картинки в книгах; потом я стал читать без всякого разбора и эти книги. Мне не было десяти лет, когда я прочитал «Историю Консульства и Империи» Тьера, «Историю Наполеона» соч. Полевого и множество других оригинальных и переводных статей и сочинений о Наполеоне.
Эта моя любовь к книгам, я помню, очень радовала отца, и он всегда совершенно серьезно отвечал мне на вопросы и беседовал со мною о Наполеоне, о его маршалах, не показывая и виду, что это ему, может быть, скучно.
Он с совершенно серьезным лицом призывал меня иногда в кабинет и поручал привести в порядок письменный стол, то есть все — портреты, книги, бумаги — снять со стола, стереть пыль и потом опять все расставить и разложить по местам. Он никому не доверял этого, кроме меня. При посторонних, при гостях полушутя-полусерьезно он называл меня своим библиотекарем.
Все это вместе возвышало меня в моих глазах, развивая самомнение, впечатлительность, нервность. Это очень драгоценные качества, которые мне пригодились впоследствии, и я им много обязан, но тогда они из меня сделали до болезненности чуткого ко всему мальчика, который все хотел видеть, знать, понимать.
От этого многие случаи тогдашней жизни, не составлявшие по тому времени ничего особенного, мимо которых проходили все, не задумываясь над ними, на меня производили сильное впечатление, доводя меня чуть не до нервных припадков. Да и бывали припадки...
Очень многие из этих случаев, благодаря произведенному ими на меня сильному впечатлению, до такой степени живо представляются мне во всех подробностях до сих пор, что, мне кажется, умей я рисовать, я бы нарисовал даже лица, выражение глаз людей, бывших при этом, не только всю обстановку, костюмы, где кто стоял, сидел и проч.
Впоследствии, много лет спустя, желая проверить свою память, самого себя, не ошибаюсь ли я, много раз спрашивал я свидетелей или действующих лиц, которые в то время были взрослыми и, следовательно, лучше меня должны были помнить всё, все подробности, и они с удивлением подтверждали все, что я рассказывал им, решительно не понимая, как я это мог запомнить. Было несколько раз даже так: я рассказывал, и мне возражали, говорили — это было не так; но когда продолжали вспоминать дальнейшие подробности и обстоятельства случая, выходило, напротив, что это было именно так, как я рассказывал, по-моему, и что иначе этого даже не могло и быть.
Но как бы драгоценны эти качества ни были и как бы ни годилось мне это все теперь, было бы гораздо все-таки лучше, если бы память моя была свободна от всего этого. Характер всех этих воспоминаний, обусловленный тогдашним временем и тогдашними нравами, очень уж тяжел, и носить всю жизнь в себе эту отраву нельзя безнаказанно...
Я хочу здесь рассказать один такой случай. Я сделался совершенно случайно свидетелем его, то есть, правильнее, никто не предполагал, что он, случай этот, во-первых, выйдет по обстоятельствам таким, а во-вторых, что он произведет на меня такое страшно тягостное и глубокое впечатление. Казалось, по-настоящему, он должен бы был произвести и оставить в памяти, напротив, впечатление светлое, отрадное... Но так несчастливо вышло все это...
II
То, что я буду рассказывать здесь, происходило в сорок девятом году[55]. Читатель должен припомнить, какое это было тревожное время и как боялись тогда у нас какого бы то ни было движения, всячески устраняя малейшие к нему поводы.
Губернатором тогда в нашей губернии был П. А. Б — в. Это был очень умный и энергичный человек, но дворянство его почему-то у нас не любило. Во главе недовольных им стоял известный Ю. Н. Г — н, который был тогда у нас губернским предводителем. Партии ли тогда так разделялись, личная ли ссора была тому причиной или другие какие были мотивы и причины к тому, но только отец считался в числе противников Г-на, человека, отличавшегося вообще страшной жестокостью, взбалмошного, нередко прямо-таки истязавшего людей. С Б — м же, напротив, отец был в хороших отношениях. Объезжая каждый год летом губернию для ревизии, Б — в всякий раз, как попадал в наш уезд, непременно заезжал в нашу деревню и проживал день-два у нас, устраиваясь на это время в кабинете у отца.
Я помню, как с его приездом набиралось к нам много разных чиновников, и они дожидались все в зале, пока одного по одному их вызывали к губернатору в кабинет. Они все ужасно боялись губернатора, «потому что они все воры», как мне объяснял это однажды сам Б — в, и ходили на цыпочках, бледные, растерянные, умоляя отца, чтобы он заступился за них. И он очень часто за них заступался, просил Б — ва простить или смягчить наложенное им наказание.
Однажды я попал на крайне тяжелую сцену. Матушка послала меня зачем-то к отцу, который был в кабинете вместе с Б — м, ревизовавшим там какие-то дела, вытребованные им сюда из города, и толковавшим с чиновниками. Когда я вошел, Б — в сидел, погруженный в бумаги; кругом него, затаив дыхание, ни живы ни мертвы стояло несколько человек этих несчастных, и между ними я узнал некоторых, которых я видел раньше, когда они зачем-то приезжали к отцу. Особенно памятен мне был, и я сразу узнал его, стряпчий, очень толстый человек, с огромным животом, лысый, без единого знака волос, с каким-то белым пушком на затылке и на висках. Он был красен. Все чиновники были бледны со страху, а он был с багровым почти лицом, рот полуоткрыт, и нижняя челюсть у него тряслась. Я говорил с отцом, а сам все не сводил глаз со стряпчего. Вдруг Б — в, молча читавший и разбиравший бумаги, вскочил, провел рукой по лицу — нервный жест его, — оглянулся и остановил взгляд на стряпчем...
— Каналья! — вдруг услыхал я. — Разбойник! Креста на тебе нет! С живого шкуру дерешь!.. Сгною тебя, каналью!.. В чертову баню его! — быстро поворачиваясь к привезенному им с собою чиновнику, добавил Б — в.
Стряпчий между тем становился все меньше и меньше в своем росте, точно он уходил в землю, и вдруг упал на колени, глухо стукнув на ковре.
Сцена была невыносимо тяжелой.
— Простите его, — сказал отец, — в последний раз его простите...
Стряпчий лежал молча.
Б — в, презрительно, брезгливо смотревший на стряпчего, распростертого у его ног, проговорил как бы сам с собою:
— И этот человек называется царским оком! Это царское бельмо... Вставай!.. — И он топнул на него ногой.
Стряпчий, тучный человек с багровым лицом, один не мог уже подняться с полу, и ему помогали подняться другие бывшие тут и ожидавшие своей очереди чиновники. Когда его наконец подняли, он что-то бормотал: «Век не буду... жена... дети», что-то в этом роде.
— Не меня! — закричал Б — в. — Вот предводителя благодари: я для него тебя простил. Но попадись ты, каналья, мне еще раз, сгною тебя в чертовой бане (в уголовной палате[56], под судом).
Эта сцена вот перед глазами у меня, как будто вчера это было. И вытянутое, зеленое, искаженное злобой лицо губернатора, и опускающийся, точно уходивший в землю, лысый стряпчий под этими неподвижными, злобно-холодными взглядами губернатора. Умей я рисовать, я нарисовал бы все это в мельчайших подробностях...
В этот день за обедом, когда чиновников никого уже не было, Б — в сам вспомнил или кто спросил его об этой сцене со стряпчим, но только он горячо начал говорить о том, что это все за народ.
— Ведь они знать ничего не хотят! Они дразнят только народ. Они ведь не знают, что там, в Петербурге, шапки у всех дрожат...
Я помню, меня заинтересовало, почему это «в Петербурге шапки у всех дрожат», и я тихо спросил об этом у отца, рядом с которым я сидел.
— Время какое... — ответил он.
— Да, уж время! — подтвердил Б — в. — А они в это-то время что затеяли! Я только, и делаю, что улаживаю то там, то тут, а они затеяли чуть не целыми десятками в Сибирь в ссылку приговаривать. Ведь этак они восстание вызовут, стрелять придется еще потом...
— Это все по емельяновскому делу? — спросила его матушка.
— Да-с, по емельяновскому: ведь у него и тут и в вашем уезде есть имения, — отвечал ей Б — в.
Что это за дело было такое, я не помню. Но Емельянова, седого совсем старика, я видал, знал: он несколько раз приезжал к нам, и этот разговор о нем я запомнил по другому случаю, о котором я, собственно, и буду рассказывать и который разыгрался самое большее недели через две после того, как у нас был Б — в.
III
Стояла жаркая погода, какая бывает у нас обыкновенно в конце июля и в начале августа, в самую уборку хлеба. Отец был в поле, вернулся, и мы только что сели обедать в столовой, половина окон которой — те, что выходили на солнечную сторону, — были наглухо закрыты ставнями, а другие, выходившие на тенистую сторону, были настежь отворены, отчего в комнате было полутемно, но зато прохладно.
Вдруг послышался колокольчик, бубенчики, и вслед за тем кто-то на тройке в телеге промелькнул перед окнами, и колокольчик сразу точно оборвался: очевидно, подъехали и остановились у крыльца. Нам всем показалось, что на тройке в телеге сидел кто-то в военной фуражке. Матушка с отцом в недоумении переглянулись: кто бы это мог быть?
Вошел лакей, подававший нам обедать, и таинственно как-то проговорил:
— Жандарм с пакетом от губернатора...
Это известие было уже совсем неожиданное и притом видимо смутившее отца. Он сейчас же встал и вышел в переднюю, а матушка проводила его глазами, потом посмотрела на нас и как-то странно замолчала и задумалась.
Я запомнил, что, хотя не понимал тогдашнего духа времени, не понимал, что такое жандарм, на меня это смущение отца и матушки, вообще вся эта сцена произвели неприятное, тягостное впечатление.
Отец скоро вернулся с пакетом с красной печатью в одной руке — пакет был толстый — и с запиской в другой... Эту записку он молча передал матушке и принялся есть свой простывший суп. Но уже по лицу его, вообще по спокойному его виду, я мог понять, что тревожного ничего не было.
Матушка прочитала письмо и, возвращая его отцу, спросила:
— Когда же ты поедешь?
— Сейчас. Вот пообедаю и поеду. Я уж лошадей велел запрягать.
— Куда? — спросил я.
— В другой уезд, верст за сорок, к Емельянову, — ответил отец.
— Когда же думаешь назад? — спросила его матушка.
— Сегодня же ночью, вероятно...
— Возьми меня с собою, — стал просить я.
— Тебя? Что ж тебе там делать?
— Возьми меня.
Матушка не возражала, сделав замечание только: «А если придется ночевать?» Отец тоже не возражал; я повторил опять просьбу взять меня с собою, и он как-то неожиданно, в рассеянности и в задумчивости, проговорил:
— Ну, хорошо...
Мы скоро пообедали, и я побежал собираться.
Странным поездом двинулись мы в путь. Когда я вышел на крыльцо, я увидал следующее. У самого крыльца стоял наш открытый тарантас, запряженный тройкой, но почему-то без колокольчика. На козлы, чтобы сесть рядом с кучером, карабкался какой-то неизвестный мне мужик с лицом солдата, в простом сером армяке, который у него при этом распахнулся и оттуда был виден синий мундир. На голове у этого загадочного мужика была надета мужицкая шапка гречневиком. Позади тарантаса были еще три тройки в телегах, и в каждой по четыре мужика, но уже действительных, настоящих. Некоторых из них я даже знал в лицо.
— Понятые, вы поезжайте вперед, — сказал отец, — и, не доезжая до Ильинки так верст двух, дождитесь меня. Я тут недалеко заеду еще и догоню вас потом.
Тройки одна за другой тронулись и поехали полной рысью, а мы с отцом начали усаживаться в тарантас. Матушка, сестра, гувернантка провожали нас.
— Да, конечно... Там нечего делать. Я их отправлю, и сейчас же домой, — отвечая матушке на ее вопрос, сказал отец уж из тарантаса и велел кучеру ехать в Семеновку, сельцо верстах в трех от нас. — Надо взять там Василия Николаевича, — добавил он.
Василий Николаевич был письмоводитель отца и, когда не было никакого дела, жил в Семеновке у своего тестя, мелкопоместного помещика.
У отца — его «собственная» — была отличная рысистая тройка, молодец-кучер, тоже «собственный», то есть с которым только он ездил (у матушки, каретный, был другой), и мы как птицы полетели.
Но куда, то есть, собственно, зачем, мы ехали, что нам там предстояло делать, что мы там увидим, — ничего я этого не знал. Отец был и серьезен и в то же время весел. Шутя спрашивал жандарма, удобно ли ему в мужицком армяке и шапке, и проч. Меня томила неизвестность, подмывало любопытство, хотелось спросить, узнать, зачем мы едем, что там будет такое, но я не спрашивал, удерживался, и, кажется, из опасения, что как бы отец не раздумал и не оставил бы меня дома.
В Семеновке мы очень скоро управились. Василий Николаевич был дома, сейчас собрался, сел с нами в тарантас, захватив и свой вечный, громадный, зеленый, толстый портфель, наполненный бумагой, баночками с чернилами, транспарантами, карандашами и проч.
Когда он сел и мы опять поехали, отец вынул из бокового кармана пакет с большой красной печатью, полученный им от губернатора, вынул оттуда бумагу и дал ему прочитать ее. Отец потом подал ему письмо, которое он давал за обедом прочитать матушке. Василий Николаевич и его прочитал.
— Надо это все сделать аккуратно... без шуму, — сказал отец и кивнул головой на жандарма, сидевшего на козлах.
— Ах, это он и есть? — улыбаясь, проговорил Василий Николаевич и с любопытством посмотрел на него.
— Я нарочно велел ему переодеться, чтоб не было заметно. А то увидят, смекнут, уберут их, и мы ничего и никого не увидим... Понятых, двенадцать человек, я уж отправил вперед. Они нас будут дожидать версты две не доезжая до Ильинки.
— Как бы они не разболтали там?
— Они ничего не знают: куда, как, зачем, — ответил отец.
Я не выдержал и спросил:
— А мы к самому Емельянову в дом?
— Нет, его там нет, — сказал отец.
— Так к кому же?
— К нему в сад, — усмехаясь, ответил мне отец и вдруг посмотрел на меня и сделался серьезен, не то задумчив.
— А вот я взял тебя, — начал он, помолчав немного, — да, кажется, напрасно это сделал...
У меня душа ушла в пятки. Ну как он раздумает, не возьмет меня? Мы вернемся в Семеновку, и он меня там оставит у тестя Василия Николаевича... а потом, на возвратном пути, заедет за мною... а то попросит доставить меня обратно домой...
Все это вдруг мелькнуло и перемешалось у меня в голове. Но лошади летели, и я молчал. Не хотел ли отец возвращаться в Семеновку, чтоб не терять времени, не опоздать, или передумал, нашел, что ничего, что он взял меня с собою, но только он очень скоро начал опять говорить с письмоводителем...
IV
— Я думаю так сделать, — говорил он, — мы подъедем к саду, знаете, там ворота есть у дороги, войдем в них и пойдем по саду, как будто ехали мимо, устали, жарко, и захотели пройтись, отдохнуть, яблоков купить... «Они», Б — в пишет, все у «него» в саду содержатся, работают там в этом уборе...
— Можно навести разговор, спросить так, стороной, о них. Где они, дескать, мы слышали... — посоветовал Василий Николаевич.
— Да, наверное, и без этого увидим, встретим. Чего приказчику-то опасаться? Их уездный предводитель — приятель Емельянова, да и нет его вовсе теперь здесь, он в Москве живет. Исправник, становой и т. д. — все куплены, свои люди... Ах, ужас! — заключил отец.
— А потом как же? — спросил письмоводитель.
— А потом — в Т — ов. Сейчас же их, «в этом же уборе» самом, как выражается Б — в. Вон с ним, — отец кивнул на жандарма, — на тройки их, и марш!..
Мы проехали уж верст двадцать, больше половины дороги.
— Ты разве бывал прежде у Емельянова? — спросил я отца.
— Бывал. Раз или два как-то был.
— Хороший у него сад?
— Хороший.
— Мы погуляем там, и домой?
— Погуляем, и домой.
Василий Николаевич (очень хороший, милый человек) слушал этот разговор наш и улыбался.
— Да, погуляем, — повторил отец как-то загадочно.
— Вот только бы нам найти, увидеть, встретить их, — говорил все письмоводитель.
— А мы кого там должны встретить? — опять спросил я и опять понял, что сделал бестактность: мне не следовало бы спрашивать.
Отец опять с досадой кивнул головой, дескать: «зачем я его брал с собой...»
Я понял этот жест, догадался и присмирел.
Отец снова заговорил с письмоводителем все о том же, как им подъехать к усадьбе Емельянова, чтобы не вызвать подозрения к цели их приезда, как войти в сад, под каким предлогом гулять там, как разузнать, если они не встретят и не увидят «их», где «они», как «их» взять оттуда и отправить, и проч., и проч. В общем, я начал догадываться и даже понял, что мы едем к Емельянову взять там у него каких-то баб, которых он держит скованными или что-то в этом роде у себя в саду, под надзором управляющего, такого же истязателя, как и сам он; понял, что бумага от губернатора и этот переодетый жандарм, что сидит у нас на козлах, присланы по этому делу и что это дело Б — вым поручено исполнить отцу, так как тамошний ит — ский предводитель, приятель Емельянова, все позволяет ему, ни на что не обращает внимания, а исправник и другие всё позволяют ему за взятки...а между тем это ужасное дело, которое Б — ву необходимо покончить, и вот он, употребив все средства и все-таки не добившись ничего, обратился теперь к отцу, как к соседнему предводителю и к своему хорошему знакомому, и проч., и проч.
— Вы понимаете, мы это должны устроить: «в личное мне одолжение, не в службу, а в дружбу», пишет Б — в, — несколько раз повторил отец Василию Николаевичу.
И снова, как тогда, за обедом, говорил Б — в: «В этакое время, когда у всех и в Петербурге-то шапки на головах трясутся, а тут этакое возмутительное зверство совершается среди белого дня, на глазах у всех! Ведь этак и до бунта довести можно... А там стрелять...», и т. д., и т. д.
Поездка наша представлялась мне все серьезнее и серьезнее. Воображение разыгрывалось, мысли напрягались. Мне хотелось все видеть, знать, и я боялся только одного, как бы меня отец не оставил где, как бы не взял меня с собою, когда пойдет в сад, и я ничего, никого «их» не увижу...
Со мной уже был случай — я видел, как дядя травил дьякона в коноплянике, и у меня сделался нервный припадок. Отец и матушка тогда напугались и с тех пор за мною внимательно следили, осмотрительно обдумывали, куда меня можно, то есть, собственно, к кому, взять с собою, где я «не налечу» на подобного рода сцены, к кому нельзя, где есть в этом отношении риск.
Теперь, как я понял, что нам предстояло увидеть, я даже удивился, как это отец взял меня с собою, отправляясь по такому делу, и матушка ему не возражала. Я имел полное основание опасаться, что он попытается, по крайней мере, устроить так, чтобы я не все это видел. Я сидел поэтому и вел себя как можно бодрее, чтобы не возбудить в отце никаких мыслей об опасности для меня слез, припадка и т. под. А у самого, я уже чувствовал это, было такое настроение, такое состояние, что, кажется, чуть что, и я вот-вот готов буду сейчас — горло сдавит, подступят слезы, и в глазах пойдут темные и золотые круги.
V
Между тем мы подъехали — вдруг и как-то неожиданно — к тому месту, где нас должны были дожидаться тройки с понятыми-мужиками, и они действительно дожидались нас.
«Уж так близко, — подумал я, чувствуя нервный холод, — вот немного еще, и мы там... у этого Емельянова будем...»
Мы подъехали к мужикам-понятым. Понятые стояли все в куче, без шапок; тройки их стояли несколько в стороне.
— Вот что, — сказал им отец, — вы поезжайте, так, немного погодя, шагом и остановитесь, вы увидите там, где будут мои лошади стоять, знаете, у ворот, что справа в поле ведут из сада. Кто бывал у Емельянова, в Ильинке?
Несколько мужиков откликнулись.
— Ну так вот, станьте же там. Будет кто спрашивать откуда, что за народ, — говорите: «В город судиться ездили, теперь остановились, хотим яблоков в саду купить». И ничего больше. Понимаете? А там я вам скажу, в чем дело. Сами увидите. Ну, только... С богом, трогай! — обратился он к кучеру.
Мы опять полетели.
Дорога шла под изволок, а вдали уж синела деревня, сад и постройки емельяновской усадьбы.
«Сейчас, сейчас приедем, — думал я, глядя на эту приближающуюся и все более и более ясно видимую усадьбу.
Вот уже и сад обозначился — должно быть старый, большой. В середине его, и как бы углубившись в него, большой серый господский дом с белыми колоннами и мезонином, конюшни, флигеля, дворовые постройки...
— Держи влево, мимо усадьбы, по дороге. Там у садовых ворот, что в поле выходят, остановишься, — сказал кучеру отец, — и поезжай тише.
Оказалось, что нам нужно было проехать мимо дома и всей усадьбы и потом там, у ворот, остановиться. Я почему-то думал, наоборот, что мы оттуда подъедем.
На большом господском дворе было тихо, ни души. Окна в доме все затворены, вообще какой-то нежилой, скучной казалась вся местность. Когда мы проезжали мимо усадьбы, с пруда шли две бабы и несли на плечах мокрое, только что выстиранное белье. Они нам поклонились.
«Не эти?» — мелькнуло у меня в голове.
Мы обогнули усадьбу и легкой рысью ехали по дороге, с одной стороны которой тянулся сад, а с другой — конопляники. Сад был огромный, особенно туда, вглубь. Наконец конопляники кончились, и пошли жнивья ржаные.
— Направо, у ворот, стой, — услыхал я вдруг голос отца.
Кучер остановился у плохеньких, полуизломанных, какие бывали всегда у садов, ворот.
— А ты сиди тут, жди тут нас, — сказал отец обернувшемуся к нам лицом жандарму.
— Если будут спрашивать: чьи, — как отвечать прикажете? — спросил сметливый, а может, и догадавшийся о таинственности нашей поездки, кучер.
— Так и говори, как есть на самом деле, — отвечал ему отец.
Мы все трое вышли из тарантаса, отец отворил незапертые ворота, и вошли в сад.
Направо и налево, очевидно вдаль и вокруг всего сада, шла аллея из старых, развесистых, обросших мохом у корней, берез. В какую сторону повернуть, куда пойти по ней — направо или налево? Мы постояли и пошли направо. В саду ни души, тишина мертвая. Жара уже спала, солнце склонялось к заходу, и косые лучи его прорезывали и золотили густую листву. Мы шли, в лицо нам веяло прохладой, запахом глухой крапивы, медовика, кашки, сорных трав, обильно и густо заполнявших куртины запущенного сада.
Мы шли все дальше. Этой длинной березовой аллее, казалось, конца не будет, и все ни души, даже признаков человека, что он был здесь; грабель, лопат, скребков — ничего не было видно. Дорожки совсем заросли травой, их, очевидно, и не чистили даже с самой весны.
— Неужели никого нет? Ну как это все вздор?.. Ему дожно донесли, или это бог знает еще когда было? — проговорил отец и добавил: — А! Василий Николаевич?
Тот вскинул плечами и проговорил:
— Пойдемте дальше. Это, может, дальний самый конец сада, и запущен он у них. Там, дальше, что будет...
Вслед за тем мы увидали: далеко впереди каких-то два рабочих с граблями на плечах перешли поперек дорожку, по которой мы шли.
— А! Вон люди! — вырвалось радостно у отца.
Мы прошли еще немного и увидели большую, широкую поляну, не то куртину, уставленную копнами скошенного сена. По этой поляне росли редкие, старые, наполовину засохшие и разодранные бурей яблони. Посередине поляны стояла телега, запряженная лошадью, и на эту телегу человек пять мужиков накладывали совсем уж сухое сено. Мужики сняли шапки, поклонились нам и, все еще не покрываясь, с удивлением смотрели на нас: откуда мы взялись и кто мы такие?
— Бог помочь! — крикнул им отец и свернул в куртину к мужикам.
Мы с Василием Николаевичем — за ним.
— Здравствуйте, ребята! Что, сено накладываете? — продолжал отец. — Уж высохло? Хорошо?
— Точно так, сено, — отозвались мужики.
— Вы, что ж, одни тут в саду? А управляющий тут или в поле?
— Он там вон, с бабами...
Мужики кивнули вперед, вдаль.
Там, действительно, виднелись люди.
Отец не то поклонился, не то поправил фуражку, и мы пошли туда куртиной, прямиком.
Вдали мы скоро увидели нескольких мужиков, баб и кого-то с ними в синем — в поддевке или в сюртуке, какие носили в то время мещане, городские купцы, — очевидно, управляющего. Там, оттуда, нас тоже увидели и смотрели на нас: откуда это мы, кто это, что за люди?
Отец шел крупным шагом по скошенной траве, по рядам не собранного, но уж сухого сена. Я торопился поспевать за ним.
VI
Вот мы подошли уж близко. Средних лет человек в синем, внимательно все время смотревший на нас, должно быть узнал отца, снял картуз и распустил подобострастную улыбку на лице.
— А мы у вас тут в саду заблудились, ехали из города, да захотелось пройтись, устали и заблудились. Здравствуй, — сказал отец, раскланиваясь с ним.
Человек в синей поддевке сделал еще более подобострастное, ласковое лицо и отвечал ему что-то вроде того, что сад, действительно, большой, обширный и, не зная его хорошо, легко можно заблудиться...
— Ты управляющий?
— Точно так-с.
— А Назар Павлович (Емельянов) дома, у себя?
— Никак нет-с. В другом имении, в Малиновке, верст десять отсюда будет.
Пять-шесть баб и столько же мужиков сгребали сено. Видимо, это были не те, которых нам нужно.
— Что это вы запоздали как с покосом? — заговорил отец.
— Да так-с, все некогда было. В поле работы много было.
— Пить хочется. Нельзя ли у вас тут яблоков что ли, купить? У вас сад сдан? — спросил отец.
Управляющий точно и невесть какую услыхал радость, засуетился весь и хотел куда-то поспешно идти, но отец остановил его, заметив, что мы сами пойдем, лишь бы он нас только проводил, где шалаш арендаторов сада.
— Устали, ехали долго, ноги хочется размять.
Управляющий, показывая путь, пошел сбоку, несколько держась позади отца, а мы с Василием Николаевичем еще шага на три, на четыре позади их. Мы вышли из куртин на внутреннюю, шедшую, очевидно, посреди сада, широкую липовую аллею и сейчас же увидали на ней четырех женщин или девушек в каком-то странном уборе, в каких-то хомутах, с цепями на шее, чистивших скребками дорожку.
— Это что такое? — делая удивленное лицо и всматриваясь в них, воскликнул отец.
— Ослушницы-с. Противницы. Господской воле не покоряются, — со вздохом и скороговоркой ответил управляющий.
Что дальше говорил ему отец, что тот отвечал отцу, я уж не слушал. Я уставился на этих несчастных и оторваться не мог от них. Женщины эти или девушки были прикованы на цепи к громадным чурбанам, дубовым обрубкам, и волочили их за собою, ухватившись обеими руками у хомута за цепь, на которой они как бы сидели верхом, так как она проходила у них между ног.
— Пойдемте же, не отставайте, они уж ушли, — позвал меня Василий Николаевич.
Тут только я очнулся и увидел, что отец и управляющий уже отошли от нас шагов на тридцать.
— А как же... А их-то? — спросил я.
— После это. Не говорите, — тихо ответил мне письмоводитель и все торопил, чтоб мы догнали отца.
Когда мы догнали его, они разговаривали.
— Все-таки это жестоко, — услыхал я, говорил отец.
— Уж такова господская воля...
— И давно это они у вас в таком виде?
— Да с месяц уж, пожалуй, будет. Две сдались, покорились...
— Ведь Назару Павловичу-то уж, пожалуй, стыдно, ведь он старик...
— Об этом уж мы не смеем рассуждать... Их приказание должны исполнять... — с подобострастием отвечал управляющий.
Невдалеке завиднелся шалаш, запахло лежавшими в ворохах яблоками. Мы все подошли и начали пробовать и выбирать себе яблоки. Арендатор-мещанин стоял без шапки. Отец хотел заплатить за яблоки, но управляющий энергично воспротивился этому, говоря, что это будет оскорблением господину Емельянову и что он будет сердиться на него, управляющего, если узнает, что мы покупали яблоки...
— Ну, хорошо, пускай это будет взятка с тебя, — сказал отец.
Управляющий, довольный своей любезностью, весело смеялся.
— А теперь ты нас проводи, — сказал отец, — а то мы опять у вас тут заблудимся.
Управляющий спросил, у какого выхода стоят наши лошади, отец сказал ему, и он нас повел новой дорогой туда.
— Ну, а на ночь вы их куда же деваете? — спросил отец.
— Это кого? Ослушниц? — переспросил управляющий.
— Ну да.
— Да теперь, потому что как лето, тепло-с, в сарай на ночь запираем.
— Расковываете их на ночь?
— Нет-с, не приказано.
— Это дворовые девушки всё?
— Точно так-с. Кузнеца Филиппа одна, другая садовника, а еще две, сестры, Ивана-доезжачего дочери.
— Жестоко, жестоко, — повторил отец.
Мы подходили к садовым воротам, где стоял наш экипаж, оставалось уж недалеко, и было видно у ворот много народу, мужиков. Это, очевидно, уже подъехали понятые и ждали нас.
Я чувствовал, что приближается решительный момент, и посматривал то на отца, то на шедшего слева, почти рядом с нами, управляющего. Удивление, недоумение было на его лице при виде этой толпы мужиков, обступивших пустой наш тарантас и болтавших с кучером, с жандармом. Когда мы подошли уж совсем к воротам и увидавшие нас мужики-понятые отступили от тарантаса и поснимали шапки, управляющий поспешно отворил ворота и остановился, не выходя из сада, чтобы пропустить нас. Но отец ваял его левой рукой за руку, повыше кисти, и увлек его за собой из сада.
— Снимай армяк... возьми его! — в волнении сказал отец жандарму.
Тот мгновенно преобразился, и я уже увидел его в форменной фуражке, в мундире, держащим управляющего сзади за обе руки почти у самых плеч. Управляющий, бледный, с свалившейся на землю фуражкой, с раскрытым ртом, с выпученными глазами, стоял и молча трясся, как в лихорадке.
— Ну, что же теперь, — стараясь не смотреть на него, заговорил отец. — Ты его свяжи, — обратился он к жандарму, — и отдай мужикам, чтобы они его караулили, а мы за теми пойдем. Или нет, пойдемте все, и его ведите...
И мы опять, но уж теперь всей толпой, с мужиками, окружавшими жандарма с управляющим, вошли в сад и по той же дорожке пошли туда, где мы видели этих несчастных...
VII
Теперь мы уж почему-то шли скоро, уверенно. Отец, шедший впереди с Василием Николаевичем, о чем-то разговаривал с ним, что-то толковал ему. Василий Николаевич шел теперь с своим портфелем-чемоданом, которого он прежде не брал с собою, но теперь вpял из тарантаса.
Когда мы проходили мимо шалаша, где только сейчас ели и выбирали себе на дорогу яблоки, мещане-арендаторы, съемщики, в ситцевых розовых рубашках, без шапок, с удивлением и недоумевающими лицами смотрели на наше шествие, как мы ордой целой проходили мимо них.
Мы миновали шалаш, прошли еще сколько-то и вдали, на липовой аллее, опять увидели этих четырех несчастных, скребками чистивших дорожку и волочивших за собою свою страшную ношу.
Но и они, увидев, должно быть, нашу толпу, остановились, перестали работать и в недоумении — что это такое? — смотрели на нас. Мы приблизились к ним...
— Вот что... Слушайте, — начал отец, обращаясь к ним ко всем, — вас хочет видеть в этом вашем уборе губернатор и просит меня прислать вас к нему...
Девушки странно смотрели на него, внимательно, с широко раскрытыми глазами и с выражением полного недоумения на лицах.
Все они стояли в одной и той же позе, ухватившись одной рукой за железную цепь у шеи, а в другой держа скрябку или метлу, что у какой было.
Затем, обращаясь к Василию Николаевичу, отец продолжал:
— Перепишите их по именам и составьте протокол, в каком виде мы их нашли. Понятые! Между вами грамотные есть?
— Есть, — отозвался один.
Вдруг среди женщин послышался плач, и вскоре он перешел в отчаянные крики и вопли с причитаниями, с обращениями к «батюшке и матушке родимым», к «сестрицам и братцам милым» и проч.
— Что вы, что вы! — говорил им отец.
Но они не слушали его и продолжали вопить, рыдать и выть.
— Он освободит вас. Губернатор хочет вас видеть для того, чтобы убедиться, как вас истязают. Вашего управляющего, вот видите, я велел связать, и он поедет вместе с вами. Губернатор накажет его. И помещику вашему достанется за это, — говорил отец, но они не обращали на его слова ни малейшего внимания.
Вдруг одна девушка, высокая, с черной косой, отбросила от себя в сторону скрябку, схватилась обеими руками у самой шеи за цепь, истерически, как-то не по-человечески, нечеловеческим голосом взвизгнула и с криком: «Не достанусь я тебе! Не владеть мною тебе, злодею!» — шарахнулась оземь и начала биться, как в припадке. Она рвала на себе одежду, царапала руками грудь себе, лицо.
Другие, видя это, подняли крик еще больше. Отец, понятые, Василий Николаевич, переставший в это время писать, подошли к ним, уговаривали, растолковывали им, — ничто не помогало.
Девушку, бившуюся на земле, двое мужиков держали за руки и едва могли ее удерживать. Они только что не позволяли ей дольше царапать себя и рвать на себе одежду.
— Дуры! Что вы разорались! Вам спасенье пришло, а вы орете! — уговаривали их мужики-понятые.
— Боже мой, что же я с ними поделаю! — повторял отец и опять принимался им объяснять и растолковывать.
Вдруг раздался снова нечеловеческий крик, и я увидел, как, вся окровавленная, с лицом, по которому ручьями текла кровь, с разорванной на груди рубашкой и с грудью, по которой также струилась полосками кровь, вскочила девушка, бившаяся на земле, и оттолкнула от себя удерживавших ее мужиков-понятых.
— Барин! Предай меня смерти!.. Или отпусти меня, я сама пойду, удавлюсь, сама наложу на себя руки! — вскричала она к отцу.
Я видел, как он в ужасе смотрел на нее, ничего ей не говоря. Потом и он, и она, и люди, и деревья как-то тронулись и поплыли у меня перед глазами влево — все влево, а я качнулся и, падая, все хотел за что-нибудь ухватиться и не упасть...
Я очнулся, когда все было уже кончено, и что было, долго ли эта сцена продолжалась, я ничего не знал, не понимал. Возле меня, на траве, на коленях стоял отец. У самой моей головы стояло ведро с водой. Сам я весь был мокрый, и трава кругом была вся мокрая. Василий Николаевич, нагнувшись надо мною, держал в руках ковш с водою и говорил, чтобы я отпил немного воды.
— Глоток один... Немного...
Помню, вставая, я был ужасно слаб и едва держался на ногах, которые тряслись у меня, но общее состояние и настроение было необыкновенно радостное, ясное и приятное.
Я оглянулся кругом и не видел никого из бывших сейчас тут: ни этих мужиков-понятых со связанным управляющим, ни этих несчастных девушек.
— Где же они... все?.. — проговорил я.
— Уехали... — отвечал смущенно отец.
Потом он обратился к Василию Николаевичу и начал ему что-то говорить отрывками, несвязно.
Тот отвечал, что побудет со мною, что теперь мне ничего.
Отец посмотрел мне в глаза, приложив для чего-то руку ко лбу, потом подержал мою руку в своей и со словами: «Ну так, пожалуйста же... я сейчас... только отправлю их», — пошел от нас по дорожке в ту сторону, где были ворота из сада.
— Ну что? Теперь ничего? — обратился ко мне Василий Николаевич.
— Ничего. Это так, — отвечал я.
— Ну, уж это «так» мы знаем! И напугали же вы всех.
— А они еще не уехали... Их еще не увезли? — обратился я к нему с вопросами.
— Сейчас уедут.
— Пойдемте... Я ничего теперь...
Но он и слышать об этом не хотел.
— Ну, уверяю вас, ничего.
— Нет, нет!
В конце концов он, однако, согласился, вероятно предполагая, что теперь их уже увезли и нечего опасаться.
Мы пошли с ним. Он всячески старался задерживать меня, останавливаться, смотрел на меня, брал за руку, прикладывал свою руку мне ко лбу и проч., а я, напротив, торопился, надеясь еще их застать.
Мы, действительно, застали еще их. Но они все сидели уже на телегах — девушки с колодками на ногах и с чурбанами, прикованными к цепям, которые шли от колодок. Они сидели по две на телеге, и с ними сидели по два мужика. На третьей телеге сидел, с завязанными назад руками, управляющий, и с ним тоже два конвойных мужика и жандарм, но уж теперь в мундире, в форменной фуражке и с саблей, на рукоятку которой он положил руку.
Мы поспели к самому концу. Мы услыхали только, как отец сказал:
— Ну, с богом! Трогай...
И телеги поехали, выровнявшись, одна за другой.
Оставшиеся без телег понятые собрались в кучу и стояли вместе с отцом, провожая глазами отъезжающих.
Обернувшись, вероятно, чтобы идти к нам, отец очень удивился, увидав меня и Василия Николаевича.
— Не мог удержать, — вскидывая плечами и указывая на меня головой, проговорил Василий Николаевич.
Отец ничего ему не ответил, только посмотрел мне в глаза и спросил:
— Ну что? Ничего?
— Ничего, — ответил я.
Он помолчал и, обращаясь к Василию Николаевичу, проговорил:
— Экий ужас!
Тот только покачал головой.
— Ну что ж? Ехать надо домой теперь. Все кончено, — проговорил отец и крикнул кучеру, чтобы он подавал тарантас.
Мужики-понятые спрашивали отца, как же им быть теперь: подводы их пошли в губернию «с барышнями», — я как сейчас помню это их выражение, — смеясь, говорили они.
— Да как быть? Ну, нате, наймите себе подводу или две. На одной ведь все не уместитесь?..
Он дал им денег. Они весело, со смехом, продолжали шутить над испугавшимися девушками и над управляющим, неожиданно так очутившимся связанным.
— Совсем как помешался словно. Глядит как птица. Поймаешь когда птицу в поле, так смотрит: глядит и ничего не понимает, — говорили мужики.
Мы сели в тарантас и поехали, а они всей кучкой пошли по дороге к деревне, чтобы нанять себе там лошадей ехать тоже домой.
Емельянова судили каким-то особенным дворянским судом в депутатском собрании[57]. Потом еще где-то судили и присудили вывести его из имения, то есть воспретить ему не только жить в имениях своих, но и на время приезжать в них...
Емельянова этого я видел много лет спустя, и притом при характерных обстоятельствах. Это было летом 1861 года. Я зачем-то был в нашем уездном городе и остановился в гостинице. В номере рядом со мною все кашлял и бранился с своим слугой какой-то старик. Я спросил, кто это. Слуга при гостинице сказал мне, что это господин Емельянов, и добавил: «Едут из Москвы к себе в имения. Им прежде запрещено было въезжать, ну, а теперь, как волю объявили, люди свободные стали, и им вышло позволение...»
Я увидал его в коридоре: он куда-то шел, поддерживаемый своими лакеями, молодыми малыми с глупой, улыбающейся физиономией. Это был старик уж лет семидесяти пяти по крайней мере, небольшого роста, с красным лицом, с маленькими, узенькими темными глазками, с крючковатым носом и совершенно белыми, какими-то пушистыми волосами, которые напоминали наклеенные волосы на куклах.
Поравнявшись со мною, он почему-то сделал мне на ходу приветственный жест рукою при низком поклоне.
Я тоже, разумеется, раскланялся.
Он жил потом еще долго и умер уж в конце восьмидесятых годов завидной смертью безупречного человека: заснул в креслах на балконе, под парусинными навесами, в полдень прелестного майского дня, и уж больше не проснулся...
В это время с ним жила в качестве сиделки и ухаживала за ним его племянница, единственная его наследница, старая дева, которой все он и оставил.
Я не знаю, кому теперь принадлежат его имения.
ИУДА
I
К нам в деревню ездил чиновник один — Василий Прокофьич Лысогорский.
Зима, вьюга; окна все занесло, залепило снегом. Мы сидим в классной, Анна Карловна диктует нам.
— Внимательней пишите; если много будет ошибок, будем еще диктовать, — говорит она.
Но вот диктовка кончилась; ошибки все подчеркнуты, и мы с сестрой идем в зал играть, бегать. В кабинете у отца кто-то сидит.
— Кто это?
— Ах, никого, — говорит Анна Карловна.
— Как никого — кто-то сидит там.
— Никого. Это Василий Прокофьич...
Мы заглядываем туда из зала, — он.
Это было существо до такой степени маленькое, жалкое, униженное, хотя у нас в доме все обращались с ним хорошо, что я не могу себе представить его даже иначе, как вечно трепещущего, готового поминутно кому-либо что-нибудь подать, что-нибудь поддержать или подскочить кому-нибудь к ручке. Чуть что, сейчас вскочит со стула и глядит: верхняя губа и маленькие щетинистые усики на ней ходят и двигаются у него под носом, как у зайца, точно он ими нюхает воздух.
— Василий Прокофьич, да сиди уж, что ты все вскакиваешь, — скажет ему кто-нибудь.
— Я так-с...
Сядет и улыбается. В глазах столько преданности, покорности и этого желания всем услужить и угодить...
Он появлялся у нас раза три или четыре в год и все больше почему-то зимой. Кроме того, мы встречали его еще и у соседей. Он ездил ко всем, разъезжал по всему уезду.
Он служил каким-то магазинным смотрителем — осматривал, есть ли и сколько у кого из помещиков хлеба в амбарах. Это была, должно быть, очень маленькая какая-нибудь должность, потому что уж очень он был ничтожен и презираем всеми, и даже не презираем, а просто как-то незамечаем — как муха какая-то.
И ездил он тоже совсем как-то ничтожно — в одну лошадь, с одним бубенчиком, в простых санях: поверх сиденья постлан войлок, на нем он сидит, рядом с ним мужик-кучер сидит — и так они едут.
Шуба у него была волчья с огромным, высоким воротником, который в дороге у него был всегда поднят и подвернут внутрь. Это мы видели из окна, когда он подъезжал к дому. Сам маленький, а воротник огромный и стоит как труба, так что головы и шапки не видно, только одно личико виднеется — маленькое, красненькое, с серенькими усиками под носом.
Ему было тогда лет пятьдесят, но на вид, благодаря своей юркости, он казался гораздо моложе.
— Василий Прокофьич, пойдемте с нами бегать, — звали мы его иногда с собою.
— Ангелочки мои, не могу. Где уж мне за вами поспеть! Ножки у вас молодые, резвые... Где уж мне, старику.
Но мы продолжали приставать к нему, и он соглашался.
Пробежит несколько раз по залу, запыхается, устанет, начнет кашлять.
— Нет, не могу... не могу, ангелочки мои.
— Ну, еще, Василий Прокофьич.
— Не могу, не могу.
— Один раз только!.. Вы ее вот поймали, — говорю я про сестру, — теперь меня поймайте.
— Ангелочек мой, где ж вас поймать? Не поймаю. Вот разве ножки вы мне свои дадите?
— Возьмите...
— Давайте, давайте, — кинется он и хочет схватить за ноги.
Мне только этого и нужно: я удираю от него, а он за мною.
Но он пробежал шагов двадцать и остановился.
— Не могу!..
— Ну, этак что. Вы как надо... хорошенько, — недовольный говорю я.
— Ангелочек, не могу. Мне ведь лет пятьдесят уж. И даже с хвостиком пятьдесят.
Я помню, когда я в первый раз услыхал про этот хвостик, я все смотрел и думал: «Да где же у него этот хвостик-то?..»
Приедет он — мы все видели, как он подъехал, — и где-то сидит, скрывается, долго не показывается.
— Иван, — спрашивает матушка проходящего куда-то по комнатам лакея, — это Василий Прокофьич приехал?
— Он-с.
Не «они», а именно «он-с». «Он» не стоит того, чтоб про него говорили «они».
— Где он?
— В передней сидит.
И его не зовут, не спешат, по крайней мере, позвать, — знают, что он придет, и пускай себе посидит там. И это делалось опять вовсе не потому, чтобы хотели его заставить подождать, нет, а так — что ж, отчего же не посидеть ему там? Ему и там место...
И не скоро, часа через три-четыре, так незадолго до обеда, вдруг он как-то проявится в зале, большой, пустой почти комнате с рядами стульев по стенам, с большим банкетным круглым раздвижным столом на бесчисленных ножках, — слышно, ходит там, покашливает и все держится ближе к дверям передней.
— Иван, это кто там? Василий Прокофьич?
— Он-с.
— Пошли-ка его сюда, — говорит матушка.
Она сидит в гостиной. Мы все вокруг нее. Тут же то сидят, то стоят, приходят и уходят наши няньки. Мы бы сидели в это время в классной, но у гувернантки нашей Анны Карловны болят зубы, и потому мы сидим с матушкой, а Анна Карловна, совсем одетая, с подвязанной щекой и укутанной головой, лежит у себя на кровати. Вся комната пропахла камфарой, нашатырным спиртом. Матушка пришла, увидала, что-то поговорила с Анной Карловной и взяла нас к себе в гостиную. Там она нас усадила возле себя и заставила читать какие-то учебники, что-то учить. Но тут, на счастье наше, вот приехал Василий Прокофьич, мы давно уж ждем его, что вот-вот он появится в зале, его услышат и позовут, и мы оставим эти скучные, бестолковые книжки и будем слушать его бесконечный рассказ про город, из которого он недавно приехал, про тамошние новости, про исправника — этого усача, который тоже у нас бывает и которого мы знаем, про какого-то откупщика, о котором мы все только слышим, но никогда его не видывали, про какого-то протопопа соборного, отца Андрона, про аптекаря, его жену, и проч., и проч., про всех этих людей, о которых мы столько слышим, но которых сами мы так мало видим, а то и вовсе никогда и в глаза не видали...
— Здравствуй, Василий Прокофьич, — говорит матушка, не поднимая даже на него глаз, не видя его, только чувствуя, что он уж появился. Она что-то вяжет — какой-то шарф, упустила петлю и занята теперь этим, но говорить все это ей не мешает. — Ты откуда?
Но он, не дожидаясь еще этого вопроса, при первом звуке ее голоса уже рысцой почти бежит к ней от дверей зала и кидается к ручке.
— От Хоботовых, матушка, — говорит он торопливо и чмокает ее в руку. — Василий Михайлович и Евпраксия Григорьевна приказали вам кланяться. Я у них три дня прогостил. Потом съездил к Неплюевым, и опять к ним. Подписал там ведомость магазинную и опять к ним...
— Здоровы они? — спрашивает матушка.
— Здоровы, слава богу. Дочка-то, Марья Васильевна, не так-то здорова была, но, однако же, теперь, слава богу, лучше, так что и за доктором не посылали, — продолжает Василий Прокофьич, целуя ручку сестре Соне и потом меня в голову.
— Что ж с ней было, с Машенькой? Садись, Василий Прокофьич.
— А так что, я думаю-с, ничего больше-с, как простуда...
— Да-а-а, — протягивает матушка, которая опять упустила петлю и опять занята подниманием ее и говорит это «да», только чтобы что-нибудь сказать.
— Ведь ихний двоюродный братец теперь у них гостит, Евгений Петрович... знаете, ведь эти все катанья да гости... ну, и простудилась.
— Да-а-а? Евгений Петрович приехал? Давно ли это?
— Да уж так, должно быть, с неделю-с... Да позвольте, когда это я к ним в первый-то раз приехал? Во вторник? — вспоминает Василий Прокофьич. — Ну, а они накануне пожаловали. Ну, аккурат, значит, неделя вчера была.
— И надолго?
— На месяц-с, сказывали... На двадцать восемь дней-с взяли отпуск...
— Мы ничего здесь не слыхали об этом, — говорит матушка и точно будто не совсем довольная этим, и что-то, как будто ирония, слышится в ее голосе.
— А я так полагаю, матушка, — точно будто проникая ее мысли, говорит Василий Прокофьич, — я так полагаю, все равно шило в мешке не утаишь... Ведь весь уезд, куда ни приезжай, все только и говорят, что Евгений Петрович сватается за Марью Васильевну... Так понапрасну в секрете только держат... Объявили бы — и все тут...
— Да и что скрывать-то? Жених для Марьи Васильевны Евгений Петрович, кажется, какого же ей и лучше. И состояние, и все его знают — человек известный, не новый какой... А разве так уж это заметно?
— Господи боже мой, да как же-с? Ведь сейчас это видно. Разве можно это утаить? Оне к фортепьянам — и он. Оне играют, а он сейчас стоит за ними и поет. И так — куда они, туда и он... И всё вместе-с.
— Не понимаю, что тут и скрывать, — говорит матушка. — Объявили бы — и кончено. Все бы было покойно. А то что такое теперь? Для чего это скрывать? Отбить никто не отобьет. Кто же может отбить?
— В том-то и дело-с!..
Мы слушаем все это. Мы знаем и Машу Хоботову, она даже еще недавно как-то была у нас и рисовала нам с Соней чижиков: она их так отлично рисует. Знаем и этого красивого офицера, ее двоюродного брата, — Евгения Петровича: у него такой блестящий мундир и так звенят шпоры. Он нам всякий раз показывает свою саблю, вынет и показывает...
«Так он женится на Маше, — думаем мы с сестрой. — Вот и новости узнали».
— А из города ты давно, Василий Прокофьич? — спрашивает матушка, поговорив с ним еще сколько-то о Хоботовых.
— Третьего дня-с. От них это я прямо в город и в тот же день-с с исправником в Семеновку поехал. Они и подвезли меня. А оттуда я уж подводу взял-с...
— Он зачем в Семеновку-то? Так?
— Нет-с, насчет недоимки, надо полагать. Потому, если бы они «так», так тогда бы они прямо к Павлу Борисовичу, а то они в волостное правление[58].
И долго тянутся у них такие разговоры. Матушка сидит, вяжет. Отца нет дома, он куда-то уехал вчера и будет, должно быть, еще только завтра. В доме тишина. Гувернантка лежит больная. Мы сидим и всё это слушаем.
— Кушать готово-с, — докладывает Иван, появляясь в дверях гостиной.
Матушка не спеша довязывает спицу, кладет работу, складывает ее и так же не спеша подымается с дивана и говорит:
— Ну, пойдемте... Устинья, — обращается она к няньке, — узнай у Анны Карловны, придет она или ей туда прислать?.. Василий Прокофьич, пойдем, — говорит она и идет.
В зале посредине, на этом огромном банкетном столе, накрыты четыре прибора. Перед тем прибором, за который обыкновенно садится матушка, стоит миска с супом. Как только матушка сядет, Иван подойдет сейчас и снимет с этой миски крышку, и мы узнаем, какой суп сегодня.
— Садись, Василий Прокофьич, — говорит матушка, усаживаясь в кресле и снимая с своей салфетки кольцо.
— Да я, признаться, было уж... — начинает он и все-таки, разумеется, садится. — Пока за подводой посылали, мы в волостном правлении с исправником закусили уж...
Матушка наливает суп и не слушает его. Лакей ставит одну тарелку сестре, другую мне и уж только третью несет Василию Прокофьичу, сидящему хоть и за тем же столом, но как-то поодаль от нас.
— Ты ведь никак водку пьешь? — говорит матушка, ставя сама себе тарелку и взглядывая при этом на Василия Прокофьича. — Иван, подай же...
— Да не извольте беспокоиться, — как-то вздохнув при этом, говорит Василий Прокофьич.
Иван приносит графинчики с водкой в серебряном судочке и ставит их перед ним.
Василий Прокофьич наливает себе большую рюмку какого-то стравнику, ставит графинчик на место и смотрит на стоящую перед ним рюмку, как бы раздумывая еще: взять ему выпить ее или нет?
Мы уж знаем этот прием его, глядим на него с сестрой и ждем, когда он возьмет эту рюмку в руки, широко раскроет рот и, одновременно закидывая голову как-то невероятно назад, вольет в тот же момент в рот и рюмку водки. Потом мы видим, как эта водка, точно мячик какой-то, прошла у него в горло, и он уже смотрит на нас слезящимися от натуги глазами, жует кусочек хлеба и сразу принимается за суп, который и ест с необыкновенным вниманием, весь погруженный в еду...
За обедом он рассказывает о городе, о том, какую необыкновенную икру получил недавно купец Подугольников.
— Но уж цену дерет-с безбожную: по рублю фунт[59]! Балык-с по полтиннику... Намедни, на той неделе-с, я как-то случился у него в лавке — откупщик приехал и брал, — страсть какие цены-с!
— У него что ж, у откупщика-то, обед какой или пирог был? — спрашивает матушка.
— И закуска-с, пирог был, а потом обед. Василиса Савишна-то ведь именинница была... Как же-с! Девятого-то ведь Василисы...
— Ну, и все это уж, разумеется...
— Да-а-с. На обеде я не был, — ну, знаете, вся аристократия была: исправник, судья, почтмейстер, аптекаря оба — где уж нам? А утречком-то забежал поздравить, и она оставила к закуске... Три пирога-с было: с визигой, с фаршем и с цыплятами-с...
— Мама, как же это с цыплятами? — спрашиваем мы.
У нас не делали пирогов с цыплятами, мы не знаем этого и спрашиваем.
— Очень просто, кладут в фарш цыплят, и все тут.
— Крошат их?
— Не крошат, а так — кусочками...
Пообедали, матушка идет отдыхать после обеда. Мы с нянькой остаемся одни и идем в гостиную. Василий Прокофьич целует у матушки руку и остается в зале. Лакеи начинают убирать со стола, Василий Прокофьич куда-то исчезает из зала.
Нам одним скучно в гостиной, и к тому же надо сидеть тихо, не беспокоить матушку. Набегают быстро зимние сумерки.
— Няня, где же Василий Прокофьич? — спрашивает кто-нибудь из нас, заглядывая в зал.
— В передней, должно быть, с лакеями... курить пошел.
— А в кабинете его нет?
— Да как же он без папеньки-то туда пойдет?
«А отчего он туда не может идти?» — думаем мы и смотрим на кабинет, открытая дверь в которой видна нам с этого места гостиной.
Но вот в передней слышится какой-то смех, слышна возня, дверь в зал на минутку из передней приотворяется и опять закрывается.
— Кто там? — спрашиваем мы у няньки.
— Да никого, лакеи смеются над Василием Прокофьичем...
Вечером к чаю, когда матушка встанет и в гостиную на круглый стол подадут свечи и самовар, Василий Прокофьич опять появится в зале, начнет покашливать, слышны его шаги.
— Василий Прокофьич, иди сюда, — позовет его матушка.
И он придет, сядет как-то так, что половину его не видать за самоваром, на самом неудобном месте. Матушка нальет ему один за другим стаканов пять чаю, и он все пьет, пьет без конца. Наконец опрокинет стакан вверх дном и скажет вдруг как-то решительно:
— Покорно благодарю, матушка, больше не могу-с.
Я помню его также сидящим перед ней с растопыренными руками, на которые надет моток красной, синей, зеленой шерсти. Она мотает эту шерсть на клубок, а он сидит и держит. И рассказывает, рассказывает — без конца.
Он вообще как-то больше принадлежал женской половине дома, чем мужской. В переднюю он удалялся только курить и вот в эти мертвые, так сказать, моменты жизни, как интервалы между утренним чаем и завтраком, во время послеобеденного сна и проч. Но и то только тогда, когда отца не было дома. Когда же он бывал, Василий Прокофьич эти мертвые часы проводил в девичьей, где его никто, кажется, и не считал за мужчину. Девушек было множество. Какие кружева вязали, какие кружева вышивали, какие так что-нибудь делали. Там сидят с ними и Авдотьюшка и Евпраксеюшка, уже пожилые дворовые доверенные женщины. Василий Прокофьич придет к ним, сидит и разговаривает, и его не прогонят оттуда. Он там свой, им никто не стесняется, при нем всё говорят, всё делают, всё носят... Совсем как муха какая, никто на него и внимания никакого не обращает.
А летом так он был даже желанный гость на женской половине. Настойки, наливки когда делали, он был уж постоянно тут, помогал, держал бутыли, лейки, переливал в бутыли, завязывал бутыли тряпочками, надписывал билетики — какого года и какая наливка. Когда сушили вишни, яблоки и рассыпали их для этого на солнце на белой сахарной бумаге, он сидел где-нибудь в тени под деревом и караулил, чтобы воробьи или куры не пришли клевать их.
И тем не менее, несмотря на этакую близость и приближенность даже, он был все-таки необыкновенно робок. Он точно ни на минуту не мог все отрешиться от сознания своей ничтожности, что он червяк — не более того, и что раздавить его всякий может, кто захочет.
Как я уже сказал, у нас обращались с ним хорошо, по-человечески еще, и он заживался у нас дольше, чем где-нибудь; но все-таки, стоило отцу насупиться как-нибудь, и вовсе не на него даже, а так просто — ну, не в духе, — и он уже не знал, куда ему деваться.
Чаще всего он в это время исчезал куда-то, и так прочно исчезал и скрывался, что если бы в это время он и понадобился кому-нибудь и за ним посылали даже, то найти его было чрезвычайно трудно, а иногда так-таки и не находили совсем.
Потом, по соображению, что «гнев» уже прошел, он появлялся опять.
— Где ты был, Василий Прокофьич?
— Я на пчельнике был-с.
— Что ж ты там делал?
— Так-с... Меду нонче много будет. Вот запомните. Примета у меня такая есть.
А зимою уйдет вдруг куда-нибудь на скотный двор, в кошару к овцам, в людскую, и сидит там, пока, по его соображению, не пройдет «гнев» и ему опять можно появиться.
Но один раз, я помню, он так вот вдруг исчез, испугался и не приходил до утра следующего дня, так что начали даже тревожиться — не пропал ли уж он совсем, не сделал ли чего над собою с испугу...
— А что вы думаете, сударыня, и очень просто, — говорила нянька. — Затейщик он большой, а как дойдет дело до расправы — я такого труса и не видывала...
— Да куда же он мог деваться? — тревожно спрашивала матушка, — Везде его уж искали...
И действительно, его искали везде, всюду, куда он обыкновенно уходил в таких случаях: и на конюшне, и на скотном дворе, и в людских, — нигде не было и никто не видал его даже проходящим. Провалился словно сквозь землю — и баста.
— Да шуба-то его тут, в передней, и узелок его тоже тут, — говорил лакей няньке, когда она тоже ходила туда справиться о нем. — Уйти ему некуда, только куда он девался?
И все в дому диву дались: куда он мог деваться?
Погода была холодная — дело было зимой, несло по земле, а он исчез в одном сюртучонке да в шапке.
— Да я ему и ничего не сказал... слова ни одного не сказал, — говорил отец вечером за чаем, когда матушка спросила его, не бранил ли он его.
— Да уж так это он, сам от себя струсил, — объясняли присутствовавшие тут же, по обыкновению, наши няньки.
Было уже темно совсем, был час десятый вечера, погода на дворе стояла такая, что, как говорится, добрый хозяин собаки в это время не выгонит, мела вьюга по земле, — а его все нет как нет. Наконец стали собирать к ужину, поужинали, а его все нет. Легли спать, — все его не было. Часу во втором ночи он явился, постучался в переднюю, ему там отперли, — и он, пожимаясь от холода, а сам в то же время уверяя, что ничего, — где-то на рундуке свернулся и заснул, укутавшись в свою шубу, предварительно, разумеется, расспросив и убедившись, что на него не сердятся больше и вообще «гнев» прошел.
Утром к Василию Прокофьичу приставали, смеялись над ним.
— Да где ты пропадал-то? Вот чудак-то! Глупый ты какой, Василий Прокофьич... Чего ты испугался? Нас-то ты только перепугал тут всех... — говорила ему матушка.
— Благодетельница моя, простите... — повторял он.
— Да чего ты испугался?
— Да как же-с! Человек я маленький...
— Да что — Николай Дмитриевич (отец) сказал тебе что-нибудь?
— Ничего-с. Ничего они не сказали — только взглянули.
— Так ты это от взгляда?
Молчит, улыбается и такой радостный, точно его, умирающего, опять вернули к жизни и над ним опять солнце, кругом все зелено, радостно, цветет...
А нянька, по обыкновению, читает ему наставление:
— Вот ты блудлив-то как кошка, а труслив-то как заяц. Набедокуришь, а потом с перепугу и не знаешь, что делать, куда и спрятаться... Говорила я тебе: не выдумывай, а ты все свое да свое.
А он, седой старик, слушает ее, молчит...
И все это произошло по ничтожному случаю.
Я видел робость и даже отчаяние крепостных, видел их ужас, когда им грозило какое-нибудь невероятное, холодно придуманное наказание; но ведь то были «крепостные», бесправные люди, над которыми можно было все сделать, разве только не убить... и то только не сразу, не вдруг, — постепенно и спокойно «вогнать в гроб» можно было сколько угодно. А ведь этот был свободный человек... Но, знать, таково было время и такова среда, что воспитывала в себе и свободных, но маленьких людей такими же бесправными и испуганными, как и рабов настоящих...
Дом у нас в деревне был большой, просторный. Бегать и играть в нем было где, и не только нам вдвоем с сестрой, но, когда приезжали соседи с детьми, было и всем просторно. Но зимой в деревне все-таки скучно. Бегаешь-бегаешь, бывало, устанешь, сядешь и смотришь в окно, в сад. Перед домом большая поляна, обсаженная кустами сирени, разросшейся в сплошную стену. Летом на этой поляне разбиты клумбы, в них цветут цветы, кусты роз — белых, пунцовых, розовых, желтых, и она очень красива. Но теперь вся поляна под снегом, ровная, белая, — ничего нет на ней, только следы нашей собачонки Жучки, которая всегда, когда ее выпустят, непременно уж явится на поляну и, утопая и увязая в снегу, наделает на ней следов.
Но иногда — это было в середине зимы — на поляну прилетали какие-то птички с красными грудочками.
— Соня, смотри-ка, сколько их, — позвал я однажды сестру, — ты смотри: вон... вон... — показывал я ей.
Василий Прокофьич, бывший тут же, — он о чем-то говорил с нянькой: они были большие друзья, — тоже стал смотреть в окно.
— A-а... в самом деле, сколько у вас снегирей-то, — сказал он.
— Их еще иной раз больше бывает у нас, — отвечали мы. — Это еще что... Это разве и есть снегири?
— Эти самые. Поют они как... отлично.
Мы слушали его. Он начал рассказывать, как их ловят, как потом сажают в клетки и они в них поют.
— Да как поймать? Вы можете? — спросил я.
— А вот надо попробовать.
— Василий Прокофьич, да вы попробуйте, — начали мы приставать к нему.
Он пришел в переднюю, ему дали там какую-то палочку, он принес ее, остругал столовым ножиком, потом достал откуда-то два или три длинных конских волоса, сделал из них петельки, прикрепил их к палочке, попробовал пальцами — хорошо ли затягиваются они, если их потянуть, и, довольный инструментом, хитро улыбаясь и подмигивая, объявил нам, что силки готовы.
— Как? Силки?
— Силки. Это силки называется. Теперь корму надо достать, приваду сделать, — объяснял он нам, как он будет сейчас ловить птичек.
Мы смотрели на него — все это было нам любопытно. В доме у нас никогда не было птиц в клетках. Раз какую-то птицу принес нам кто-то, но отец увидал ее и велел сейчас же выпустить.
Наконец достали накрошенного хлеба, он взял его в горсть и пошел в переднюю, сказав, что пойдет ставить силки, а мы чтоб смотрели в окна.
Я как сейчас вижу, как он в шапке, обвязав шею своим голубым шерстяным шарфом, в одном сюртуке, увязая по колена в снегу, ставит на поляне эти силки и крошит и разбрасывает кругом хлеб. Мы с сестрой следили за ним в окно, и нам нисколько не жаль, что резкий ветер с поземкой насквозь продувает его и он ежится под этим ветром и никак все не может уставить свои силки как ему хочется.
— Ишь его, затейник, — говорит нянька, которая тоже вместе с нами смотрит в окно, — простудится еще, вот тогда...
Наконец он установил силки как мог, разбросал приваду, взглянул на нас, на окно, в которое мы смотрели на него, и, съежившись весь и утопая опять в снегу, побежал в дом.
— Нельзя, нельзя, не подходи. Погоди, погоди... С холоду, и прямо к детям, — говорила нянька, когда он, весь красный, с красными руками, показался в зале и хотел подойти к нам.
Василий Прокофьич остановился, потирал руки и как-то охватывал себя за бока, за грудь.
Мы издалека вели с ним переговоры: скоро ли насядут птицы, сколько их попадется, куда мы их посадим и проч.
— А клеточки разве нет? Ну, все равно, мы сейчас из сахарной бумаги ее сделаем... Или нет ли картонки какой? — спрашивал он у няньки, — Надо дырочки в ней только провернуть. А потом можно будет и клетку сделать. Это всякий столяр ее сделает, это пустяки.
Мы слушали его, расспрашивали, просили няньку достать какую-нибудь картонку, которых такое множество стоит в коридоре на шкафах.
— Ах, затейник, детей всех перебаламутил только, — бурчит она.
— Няня, голубчик, ну пожалуйста.
Нянька идет доставать и искать ненужную картонку. Обогревшийся Василий Прокофьич подходит к нам, и мы, расспрашивая его, смотрим все вместе в окно.
— Вон он, вон... Василий Прокофьич, смотрите — какой снегирь прилетел... большой...
Снегирь прилетел не один. С ним прилетели еще какие-то две серенькие птички, похожие на него, но только без красной груди, все серенькие.
Снегири расхаживают и попрыгивают, клюют приваду, ходят возле самой палочки с петельками, но всё не попадаются.
— Василий Прокофьич, они видят... они не попадутся?
— Попадутся... Погодите...
— Да вот видите...
— Погодите. Уж попадутся.
— Вот если бы этот... с красной грудью-то.
— Поймаем. Тех и не нужно. Те не поют. Это только самцы поют.
— Такая хороша? — возвращаясь к нам с картонкой в руках и показывая ее Василию Прокофьичу, спрашивает нянька.
Он с серьезным лицом берет картонку в руки, осматривает как знающий человек, вертит и объявляет, что годится.
— Надо только дырочки в ней проткнуть.
— Зачем?
— А как же? А то ведь он, если закрыть его в ней, задохнется, — объясняет он нам.
Он пошел в переднюю доставать, палочку, чтоб проткнуть эти дырочки, а мы обернулись к окнам.
— Попался!.. Василий Прокофьич, попался снегирь! — закричали мы в один голос с сестрой, увидав, как бился и трепетал в силках большой красногрудый снегирь.
— Попался? — закричал Василий Прокофьич, не дойдя еще до дверей передней и возвращаясь к нам.
— Попался, вот смотрите.
— Попался и есть, — сказал он, как-то любуясь на бившуюся птичку.
— Василий Прокофьич, принесите же его. Он вырвется еще и улетит, — говорили мы.
— Нет, теперь уж ему не улететь.
Он поднял воротник у сюртука и поспешно пошел в переднюю. Мы смотрели в окна, ждали, когда он придет, появится на поляне и как он будет ловить птичку, бившуюся в силках.
Он опять появился на поляне в своем голубом шарфе, так же увязая по колена в снегу, шел к силкам. Птичка, увидав его, билась еще сильнее. Но вот он наконец подошел к самым силкам, нагнулся над ними и что-то копается там — нам не видно, что... Наконец он выпрямился, обернулся к нам, широко улыбается, ветер обдувает его, фалды у сюртука треплются по ветру, и он, проваливаясь в снег, спешит в дом. В кулаке у него что-то зажато.
— У, выдумщик!.. Поймал-таки, — говорит нянька.
Мы в нетерпении выбежали на середину залы и ждем его, когда он покажется в дверях передней.
— Куда, куда? — спешит за нами нянька. — Разве можно? Он холодный.
Дверь отворяется из передней, и, выставляя вперед кулак с зажатым в нем снегирем, показывается и останавливается, но не идет к нам Василий Прокофьич.
— Вот, — кричит он, — снегирь! С скворца будет. Я и не видывал таких больших, — говорит он.
— Покажите его, — просим мы.
— Нельзя, выскочит. Лови его потом, — говорил он.
— Немножко только.
Василий Прокофьич, должно быть, хотел взять его как-нибудь так, чтобы мы могли видеть его, как вдруг снегирь у него вырвался и полетел по комнате, начал биться о потолок, бился в окна. Желая поймать его, и мы подбежали к окнам, взлезли на кресло и хотели поймать его. Вдруг сестра закричала:
— Мама, папа едут!
И вслед за тем к крыльцу подъехала и остановилась наша тройка. Выскочивший из передней лакей высаживал из саней матушку и отца, всех занесенных снегом.
— Ну, теперь будет тебе, выдумщик, — говорила нянька вдруг оторопевшему Василию Прокофьичу.
— Да я что ж? — оправдывался он. — Устинья Ивановна, да вы вот что... Вы скажите...
— Ладно, ладно... — отвечала нянька.
— Нет, Устинья Ивановна, вы скажите...
— Да уж нечего, нечего...
Мы с сестрой, переглядываясь, смотрели на Василия Прокофьича, быстро застегнувшего сюртук до самого верха, заложившего руки назад и, откашливаясь, дожидавшегося, у стеночки, возле самых дверей передней, когда войдут отец с матушкой.
Дверь отворилась, и первое, что бросилось отцу в глаза, — это бившийся под потолком снегирь.
— Это откуда? Что это такое? — говорил он.
Все молчали.
— Кто это принес им? — спрашивал отец.
— Да все вот он, затейник-то, — кивая головой на Василия Прокофьича, ответила нянька.
Отец искоса, пренебрежительно, как-то сверху вниз, посмотрел на него и ничего ему не сказал.
— Иван, — крикнул он лакею, — поймать и выпустить сейчас. Мерзости какие. Я терпеть не могу этого...
Мы с сестрой между тем подошли к отцу, он нагнулся, поцеловал нас и пошел в кабинет. Матушка с нами осталась в зале и смотрела, как лакеи полотенцами и салфетками загоняли бедного снегиря в угол, чтобы там поймать его. Снегирь еще отчаяннее бился о потолок, бился в стекла окон. Наконец его поймали совсем уже обессиленного, с открытым ртом.
— Иван, выпусти его, — сказала матушка и пошла.
Мы пошли за ней. В зале остался один Василий Прокофьич, но и он незаметно как-то шмыгнул в переднюю и там исчез.
Мы с матушкой пришли в ее спальню; она переоделась, велела с дороги — она прозябла — поскорее поставить самовар, а когда его подали, вспомнила про Василия Прокофьича, чтобы о чем-то спросить его, и велела позвать, — но его уж не было...
Вот это какой был человек!
II
Верстах в сорока от нас было село Ровное, принадлежавшее двоюродному брату отца, Константину Павловичу, холостому, очень богатому человеку, тогда уже не молодых лет, жившему вместе с своей сестрой Раисой Павловной, совсем уж старушкой, маленькой, худенькой, необыкновенно чистенькой какой-то — все на ней было точно с иголочки, и в комнатах ее все было тоже точно с иголочки, и в то же время какой-то глупенькой. Она жила где-то там, в задних комнатах, и никогда не показывалась, когда кто-нибудь приезжал из чужих. Но мы были свои, родные, и потому, когда мы приезжали, она выходила и в гостиную и в столовую и все время была вместе со всеми. Это случалось, должно быть, очень редко, потому что мы, дети, рассматривая в комнатах разные вещи, когда спрашивали ее — откуда это, что такое и для чего, она не только не могла объяснить нам, но шла вместе с нами и вместе с нами же рассматривала и удивлялась.
— Не знаю, не знаю, — повторяла она, — не видела, первый раз вижу...
А спросим потом кого-нибудь из прислуги — оказывается, что уж около года как эта вещь куплена и стоит тут все на этом же самом месте.
— Тетя, как же вы ее не видали?
— Не видала, не видала...
Но зато у себя, в своих комнатах, — у нее было три комнаты: спальня, угольная (она же и столовая) и гостиная, — она знала не только все свои вещи, до самой ничтожной и пустой, до какой-нибудь коробочки, до перышка, но помнила также — где, на каком месте они у нее лежат.
Бывало, пойдет за чем-нибудь, за портретом каким-нибудь, чтобы показать его, за письмом, которое она от кого-нибудь получила, подойдет к столу — и вдруг слышим:
— Маришка, Маришка!
Прибегает одна из ее девочек — крестьянских сироток, бывших у нее на воспитании.
— Где перышко?
— Какое, сударыня-барышня?
— А вот которое здесь лежало.
— Да вот оно-с, — внимательно всматриваясь в вещичку, вдруг по некотором молчания, вскрикнет девочка.
— Вижу, ступай...
Этих девочек у нее было штук пять, и все они были — так остались они, по крайней мере, в моей памяти — лет десяти — двенадцати. Одевала она их всегда так, как, впоследствии я увидал, одевают воспитанниц: какие-то темненькие платьица и беленькие передники, пелеринки[60] и рукавчики.
Она была воспитанница Смольного института, «смолянка», как любила она называть себя, и, может быть, поэтому завела для них и этот костюмчик, напоминавший ей ее молодые и детские годы.
Кроме этих девочек, шнырявших то и дело по ее комнатам то с медными тазиками для плеванья, то с гусиными крылами — что-нибудь откуда-нибудь смести, то с тряпочкой — что-нибудь и где-нибудь стереть, то с какими-нибудь клубочками, то с кружевцами, и проч., и проч., — у нее в услужении были и взрослые девушки, Марфуша и Елена, попросту Марфушка и Ленка.
Марфушка была толстая, краснощекая неуклюжая девушка лет девятнадцати, с рябоватым слегка лицом и вечно закушенными губами, чтобы не расхохотаться. Чуть что — «ха-ха-ха-ха-ха!» — и пошло. Тут уж ничто, казалось, не могло ее удержать, даже тетенькин гнев.
— Опять? Это что такое? — с непритворным каждый раз удивлением и с гневом говорила тетенька, — Пошла, негодница, на колена стань.
Марфушка, одетая точно так же, то есть в темное платье с белой пелеринкою, фартучком и рукавчиками — все это на ней сидело ужасно неуклюже, — еще более закусывая губы, чтобы хоть как-нибудь удержаться от смеху, чуть не рысью бежала в девичью комнату, смежную с угольной, где были пяльца[61], вышиванья, подушки для вязанья на, коклюшках[62] и проч, и где сидели маленькие девчонки, и поспешно становилась на колени в угол.
Так как это повторялось не только каждый день, но по нескольку раз даже в одни и те же сутки, то все к этому, привыкли и сама она этим нимало не конфузилась.
Постоит она минут десять и посылает какую-нибудь из девочек, тут же, в этой комнате, сидящих за работой:
— Дуня, сходи к барышне, — тетя была барышня, и ее в доме и вообще все так и называли, — скажи, что Марфуша, мол, плачет, смеяться больше никогда не будет, просит прощения...
— Девочка идет и приходит с приказом стоять еще. Через десять минут Марфуша посылает другую девочку: скажи, мол, Марфуша плачет, так и разливается, никогда больше смеяться не будет, просит прощения.
И если не эта, вторая посланная, то уж третья наверно приносила с собой тетенькино прощение.
Через час кто-нибудь чихнул нечаянно, сказал что-нибудь смешное, споткнулся и упал, Марфуша: «ха-ха-ха-ха!» — опять закатилась, на глазах слезы, и опять та же история с таким же окончанием.
Но Рая любила ее за ее открытый нрав и неподдельное добродушие.
— Ведь дура, — говорила она матушке, — отправив Марфушу стоять на коленях, — но добрая девка. За это и люблю — только за это. И потом — не врет. Никогда не соврет. Ни за что, что бы ни было. Разобьёт что, потеряет: «Марфушка, кто это? Ты?» — «Я-с...» Никогда не солжет, не запрётся.
— Раиса, ну прости ее, — просит матушка. — Ну что за беда — рассмеялась! Молодая девчонка... И мы были молоды.
Тетушка улыбается.
— Ну, прости, Раиса, — повторяет матушка.
— Тетя Рая, прости, — просим и мы с сестрой.
— Ну, хорошо. Сходи, скажи ей, чтобы встала. Да скажи, что это в последний раз и что это я только для тебя...
Я бегу. И сколько раз я и сестра бегали туда с этим милостивым манифестом.
Другая — Елена — была какая-то бесцветная, бледная, вялая девушка. Тетя ее терпеть не могла, прозвала плотвой — вероятно, за ее вялый, безответный нрав, но почему-то все-таки не отпускала и удерживала у себя.
— Да отпусти ее, пускай идет замуж, — говорила матушка, — женихи найдутся же.
— Она, Катенька, гладью хорошо шьет, — возражала тогда Рая и не отпускала ее.
Наконец, у тети Раи была еще женщина Анфиса, ее сверстница, ее первая фрейлина, которую к ней определили, как только ее привезли из Смольного. Анфиса была наперсница, поблажница, временщица, ее потатчица, и за все за это она ее и любила и как-то даже будто и побаивалась. Анфиса была вдова, и детей у нее не было.
У тети Раи, в ее обиходе, она заправляла всем, то есть у нее были ее расхожие деньги, ключи от чая, сахара, кофе, варенья и проч. Чего не хватало или что выходило — Анфиса распоряжалась купить, и тетя Рая об этом не спрашивала. Мы с сестрой несколько раз слыхали, как дома у нас, когда заходила речь о тете Рае, матушка в разговоре с нянькой или гувернанткой говорила про нее:
— Ах, и обкрадывает же она Раису Павловну. И у нее большие деньги, наверно, теперь...
Анфиса не сидела все время с тетей Раей, а как-то все пропадала — появится, покажется и опять пропадет, а тетя Рая одна — вот только с этими девчонками да с Марфушей и Еленой-плотвой. Анфиса была почетное лицо на дворе, вся дворня ее уважала. Бурмистр, приказчик, староста, конюший и прочие называли ее не иначе, как Анфиса Матвеевна, и при встрече всегда снимали шапки и раскланивались с ней, хотя не только она, но даже и тетя Рая сама никакого отношения к ним не имела и никакого вмешательства в их дела никогда не делала. Этим всем ведал дядя — один, самолично и единолично. Тетя жила — и больше ничего. И жизнь ее и ее мирка — это был особый совершенно мир от всего остального Ровного, которое жило своей жизнью, своими печалями и радостями, но которое Анфису, настоятельницу тетушкина скита[63], почитало и уважало. Даже священник, когда в церкви у обедни не было никого из господ, увидав из алтаря Анфису, высылал ей непременно с дьячком просфору, кроме той, которую уж обязательно у креста просил передать тете Рае.
— А вот это барышне Раисе Павловне передайте, — говорил он Анфисе и отдавал ей просфору, когда та подходила ко кресту в конце обедни.
Анфиса брала и приходила домой с двумя просфорами — своей и тетушкиной.
Тетя Рая не была особенно богомольна; она была скорей совершенно индифферентна даже. В ее комнатах, по крайней мере, не было никогда ни лампадок, ни киотов с образами, а в углах висели, в каждой комнате по одному, маленькие образочки, кругленькие, в серебряной оправе, на голубеньких ленточках, завязанных бантиком. Все ее внимание и вся ее энергия уходили целиком на поддержание мертвящего порядка и самой педантичной чистоты в ее комнатах. Ни до чего другого ей, по-видимому, не было ни малейшего дела. Чай ей подавали налитый уже в чашку, и она выпивала его, нисколько, кажется, не понимая — хорош он или нет. Ела тоже что подавали, и до еды ей тоже не было никакого дела — хорошо ли, худо ли подали, все равно. И даже ела как-то безвкусно, точно ей никогда не хотелось есть.
Другие «барышни» любят обыкновенно цветы на окнах, птиц в клетках, — тетя Рая ничего и этого не любила: одна была у нее страсть, это — чистота и порядок. За ними она смотрела, и нарушение их, каждое пятнышко, каждая сдвинутая с своего места вещичка — причиняли ей и беспокойство, и огорчение, чуть не боль. Она приходила просто в какую-то ажитацию, когда видела малейший даже беспорядок. Я как сейчас гляжу на нее: стоит она сухонькая, чистенькая перед какой-нибудь вещичкой, сдвинутой с места на ее столике, и удивительно-испуганно-недоумевающими глазами смотрит на эту вещичку. Посмотрит-посмотрит с одной стороны, обойдет и уставится и смотрит с другой.
Она была положительно злая. Несмотря на эту невинность времяпровождения своего, она вызывала какое-то сухое, скучное отношение к себе, и это не потому только, что она была глупа, а в силу именно вот этой чувствовавшейся всеми злобы ее, хотя она и проявляла ее по-детски, как проявляют свою злобу глупые и злые дети. Как они, она, например, от нечего делать ощиплет крылья у мух и пустит их за окно, а самой ей это кажется занятным — смотрит и смеется. Попалась раз мышь ей в мышеловку — вдруг развелись, не было, и завелись, — и она вместе с глупой Марфушкой долго истязали ее, ошпарили кипятком, выкололи ей глаза, так и замучили ее, — не убили, а замучили до смерти...
Все в родне у нас считали ее «глупенькой» и говорили о ней как-то снисходительно. Особенно жалеть ее никто не жалел, потому что у нее были более чем хорошие средства, и, следовательно, — чего же ей еще, в самом деле?
— Но все-таки, — говорила какая-нибудь сентиментальная родственница, — Константин Павлович, как брат, мог бы, кажется...
— Да чего ей недостает? — возражали обыкновенно на это.
— Ну, все-таки, знаете... что же, она ведь как в заточении.
— Да кто же ее держит? Разве он ее не пускает?..
Этим обыкновенно разговор и оканчивался, потому что дальше нечего было и возражать, — он действительно не заключал ее и не стеснял. Она сама забилась и уединилась от всех, точно боясь всех и в чем-то подозревая всех.
В сущности, она была просто идиотка — ничего более, или уж, по крайней мере, почти идиотка. При обстановке полного довольства, при манерности своей, при выдержанной скрытности она не казалась совсем уж кретинкой; но я убежден, если бы, например, предоставить ее собственным силам, лишив этой обстановки и всего, она бы просто умерла с голоду или ее взяли бы в больницу для душевнобольных.
Но она была помещица, и у нее была власть. Она была, как я уже сказал, с большими средствами, и если бы она захотела сделать зло, — ну просто почему-нибудь пришло бы ей это в голову, — она могла бы его сделать, по-тогдашнему, даже и не одним только своим крепостным, но и всякому маленькому человеку... Это всеми как-то чувствовалось, сознавалось, все почему-то ждали от нее только чего-нибудь злого, вреда кому-нибудь, утеснения, — и это всех отталкивало от нее.
Константин Павлович был маленького роста, очень шумливый, необыкновенно подвижный, вертлявый и, подобно сестре, удивительно аккуратный человек, отличавшийся также, подобно ей, чистоплотностью, доходившей у него до смешного. Он раз десять в день мыл руки, умывался, причесывал щеткой необыкновенно густые волосы на голове и расчесывал бакенбарды, которыми у него заращено было все лицо. В качестве отставного военного, он не допускал ношения бороды и для этого пробривал полосочку от подбородка до рта. Он то и дело также осматривал все и если замечал, что платье у него хоть немножко запылилось или есть на нем пятнышко какое, сейчас говорил:
— А ну-ка, Иван, возьми-ка щетку... — почисти-ка меня... вот тут... вот тут... А это что такое?.. Ну, хорошо...
Через час он опять замечал на себе какую-нибудь пылинку и опять звал Ивана.
Кроме этой педантичной чистоплотности, несколько даже смешной в нем, он вообще пользовался общим уважением, никакого другого сходства в нем с сестрой и ни в чем не было.
Совсем напротив: он был очень симпатичен и всеми любим.
Но уж шумлив зато был страх как. Вспылит и начнет... И тут ему все равно было, кто бы это ни был. И не то чтобы он дерзости какие кому говорил в это время, а так, шумит как бы сам с собою, возмущается и шумит.
Он был, вместе с тем, одним из немногих в то время, которые обращались со своими людьми не только не жестоко, но положительно даже хорошо. Вот только шумлив был.
Придет, бывало, оттуда, от него, человек за чем-нибудь к нам с письмом или так почему-нибудь.
— Ну что Константин Павлович? — спрашивает отец. — Здоров?
Слава богу-с.
— Шумит?
— Шумят-с...
И улыбнется. Потому, все знали уж, что души он добрейшей, зла никому в жизни не сделал и не сделает, а уж нашумит, так нашумит, что потом долго этот шум в голове стоит.
Он был женат когда-то, в Польше, где в то время стоял его полк, в котором он служил, и эта женитьба его была какая-то очень неудачная. С женой он прожил всего один день и затем вышел в отставку и уехал из полка к себе в деревню.
Обо всем этом ходили какие-то легенды; говорили, что она была какая-то графиня польская, редкая красавица, очень богата, и во всей этой истории дядя сделался просто жертвой мистификации, очень, однако, недвусмысленной. Он понял, догадался, в чем было дело, но было уже поздно. Тогда он взял отставку и уехал.
Через год он получил известие, что его жена как-то трагически умерла — упала с лошади на всем скаку, катаясь так или на охоте. ...
Но больше он уже не женился и даже как-то избегал женщин, как все про него говорили.
Первое время, то есть первые пять-шесть лет после этой несчастной истории, он жил безвыездно в деревне и, говорят, никуда почти даже не показывался. Но потом, когда вот и я стал его помнить, он ежегодно зимой месяца на два уезжал зачем-то в Петербург и оттуда возвращался с целым запасом новостей, и все каких-то таких, которые в его рассказах выходили как будто и чрезвычайными и очень важными, все их слушали с серьезным видом, а потом все это как-то так само собой и расплывалось, ничего из этого не выходило...
И рассказывал он эти новости всегда таинственно как-то, в это время не шумел и говорил с лицом необыкновенно серьезным.
Я не думаю, как припоминаю теперь его, чтобы он был умный человек. К тому же, он никогда ничего не читал и, кроме календарей, лежавших у него на письменном столе, один на одном, лет за пятнадцать, — во всем доме едва ли были какие-нибудь книги.
Но он был, повторяю, очень добрый человек.
III
Была однажды метель страшная — все окна у нас занесло и залепило снегом. Няньки, лакеи, отец, все выходившие посмотреть, что такое происходит на дворе, возвращались и рассказывали, что метет такая метель, что ничего не видать, все, занесло и холод ужасный.
— Если кто в дороге теперь — беда, — говорили все.
Метель мела весь день и к ночи разыгралась еще ужаснее, ветер так и выл под окном, стуча в ставни, осыпая их снегом.
Мы собрались все в «угольной», самой уютной комнате, и сидели в ожидании самовара. Иван расставлял чашки, блюдечки, звенел ложечками. Вдруг матушка стала прислушиваться к чему-то.
— Постой-ка, — сказала она Ивану, — это никак колокольчик...
Все тоже стали прислушиваться — в самом деле, звенел колокольчик, и вслед за тем послышался скрип саней под самыми окнами.
Все переглядывались. Гость в этакую погоду показался до того любопытным, что и матушка и мы с гувернанткой, все пошли в залу узнать — кто же это такой в этакую метель. Отец в это время был в передней, куда собрались к нему — едва пришли по этакой погоде — бурмистр, староста, конюший и прочие «начальники», и он с ними там толковал. Вдруг мы услыхали, как со скрипом тяжело отворилась намерзшая сенная дверь, потом захлопнулась, и голоса — изумленный голос отца и веселый, громкий, шумливый хохот и говор дяди Константина Павловича.
Через минуту отец привел его к нам всего красного — и лицо и руки, все побагровело от холода.
— Это его бог наказал, — говорил весело отец. — Ты знаешь, — обратился он к матери, — когда он выехал? Третьего дня. Хотел в город и оттуда, не простившись, прямо в Петербург на зиму. Да вот и «попался: сбился с дороги, проплутал весь день вчера и сегодня и вдруг уж какими-то судьбами очутился у нас на гумне. Бог, это прямо бог наказал, — повторял отец.
Дядя смеялся, потирал руки и с мельчайшими подробностями рассказывал, как это все с ним произошло.
— Но мне надо, однако ж, умыться, — вдруг вспомнил он, — я ведь двое суток уж не умывался.
— Братец, да вы хоть чаю-то стакан выпейте, согрейтесь, уговаривала его матушка: водки он не пил.
— Сестрица, благодарю вас, я сейчас... Я не могу... Вы знаете...
Он умылся, переменил белье, причесался и, чистенький, приглаженный, с расчесанными баками, росшими у него чуть не от самых глаз, веселый, довольный, пришел к нам в угольную.
— Ну что, братец, Раиса как, здорова? — спрашивала его матушка, когда он уселся наконец и начал отхлебывать из стакана горячий чай.
— Благодарю, я оставил ее совсем здоровою. Кланяется, зовет. Вы нас совсем забыли — это лето и не были даже ни разу.
Матушка начала жаловаться на недосуг, на нездоровье.
— Она встревожена немножко, — сказал дядя, — у нее маленькая неприятность там вышла... с этой Марфушей... Там, вы понимаете... Ну, а ее это тревожит...
Он не договорил — какая неприятность; матушка, вероятно догадавшись, какого рода неприятность, не стала спрашивать — так разговор этот и остановился. Мы хотели узнать, что такое именно вышло, но не спросили тоже, увидав какие-то их многозначительные взгляды.
— Это очень досадно.
— Ужасно, сестрица, потому это ее так тревожит... Она привыкла к ней и теперь, разумеется, должна будет ее отпустить...
Вернулся отец, наскоро переговоривши с «начальниками», и опять начал подтрунивать, что дядю это бог наказал за то, что он хотел прямо, не заезжая, махнуть в Петербург, и проч.
Так мы ничего и не узнали, что такое произошло у тети Раи с Марфушей...
— Приехал за день до моего отъезда Василий Прокофьич ко мне, — продолжал дядя. — Раечка, вы знаете, любит ого, — он ей там рассказывает все, сидит с ней; ну так я уже его просил, чтобы он пожил у нас пока, ну хоть неделю или две: все-таки это ее развлечет, — добавил он.
— Да, это верно. Она любит его, он такой болтун, это действительно развлечет ее, станет он ей рассказывать — у него ведь это без конца; это развлечет ее, — согласилась матушка.
Дядя у нас, разумеется, ночевал, пробыл весь другой день — погода все не унималась — и наконец на третий, когда прояснело, простился и уехал.
— Этот раз я таки поживу в Петербурге, — говорил он. — Я думаю, до весны придется, пожалуй, там прожить...
— Дядя уехал, а у нас все опять пошло по-старому. Месяца через два матушка вдруг как-то сказала отцу:
— А знаешь, я хочу съездить к Рае, проведать ее. Возьму и детей с собой... А то действительно я уж целый год скоро не была у нее — неловко.
Отец не возражал, и матушка объявила, что завтра мы все, то есть она, мы, гувернантка и нянька, едем на несколько дней в Ровное к тете Рае.
Мы были, разумеется, рады, предстояло разнообразие — как же не радоваться? Начались сборы, укладывание, и на другой день, после завтрака, мы тронулись в возке, увязанные и закутанные, в путь, — предстояла дорога немалая, целых сорок верст!..
Тогда такие путешествия совершались не так, как теперь. Теперь сорок верст проехать — пустое дело, о котором никому и в голову не придет рассказывать. Велят запрячь лошадей, если есть свои, или привести ямских, заложат тарантас, сани или возок, если зимой, — и делу конец. Но тогда, да еще с детьми, — это было целое путешествие.
Так было, разумеется, и в этот раз. Начались сборы, тянулись дня три, — припоминали, как бы чего не забыть, и когда наконец все было кончено, все утомленные, одетые, закутанные с ног до головы, двинулись в переднюю.
Дверь из передней в сени распахнулась перед нами, и мы вышли, пройдя эти сени, на крыльцо. День был ясный, морозный, солнце ярко играет, снег на поляне ослепительно бел... У крыльца стоит возок, позади его сани с ковровой спинкой, запряженной парой, — на них поедет горничная Любаша. На крыльце стоят в ожидании нас другой кучер, Николай, приказчик и несколько человек еще дворовых, случившихся зачем-то тут же. Изо всех людских, кухни, из флигеля, из конторы вышли люди и тоже, без шапок, пристально смотрят на наше усаживанье, которое начнется сейчас.
Вдруг — никто и не заметил вовремя — у самой дверки возка очутилась откуда-то старуха Василиса, старая-престарая старуха, бывшая когда-то — никто даже и не помнит когда — горничной у бабушки, а теперь, и тоже давно, живущая во флигеле на покое, так, без всякого дела. Пришла она к возку совсем согнутая от старости, с палочкой в руках, голова качается: смотрит, кланяется всем.
— Господи, Василиса... — сказала матушка, увидев ее, — ты что, Василиса?
— Матушка... к вашей милости... Не оставьте. Марфа-то ведь внучка моя... Не... оставьте...
— Что такое? — не понимая, в чем дело, спрашивала ее матушка.
— Марфа-то... у сестрицы Раисы Павловны... куда изволите ехать...
— Я ничего не понимаю... Какая Марфа? — все еще не догадываясь, в чем дело, переспрашивала матушка.
— Да Марфа... Что у Раисы-то Павловны... Зять мой вчера был оттуда... сказывал... что уж очень Раиса-то Павловна на нее гневается...
— А-а-а!.. Понимаю, понимаю, — догадавшись наконец, в чем дело, сказала матушка. — Ну что ж, Василиса... сама виновата... разве это можно?
— Обманули ее, матушка, обманули. Она не такая девка, чтобы... Обманули, матушка. Матушка, явите божескую милость, упросите, умолите... словечко одно скажите, для вас они всё сделают, не откажите...
И старуха повалилась в ноги под самую дверку возка. Матушка отступила назад. Лакеи, стоявшие у дверки, кинулись поднимать Василису. Мы с сестрой в недоумении, почти в испуге, смотрели на эту сцену.
Старуху наконец подняли.
Рыдая, она что-то шептала: «Одна она у меня ведь и осталась... матушка... заступитесь и спасите... явите милость божескую...»
— Ну, хорошо, хорошо, Василиса, — повторяла не менее нас смущенная матушка, вообще не переносившая никогда подобных сцен.
— Явите... матушка вы моя... до последнего моего издыхания служить вам буду... пошлите — что угодно делать буду...
— Да уж хорошо, хорошо, — повторяла матушка.
Все выглядывавшие отовсюду из дверей теперь вышли, подошли, кто в чем был, неодетые, с непокрытыми головами, и столпились в некотором отдалении от возка, с любопытством смотря на старуху и на всю эту сцену.
Нас, детей, начали усаживать в возок. Вошла в него и села матушка. Села в возок гувернантка, нянька. В окно нам была видна только фигура отца, стоявшего на нижних ступеньках опустевшего крыльца.
Возок тронулся, все — матушка, нянька, даже Анна Карловна — начали креститься. В противоположном окне мелькнула Василиса и исчезла. Мелькнули людские, флигель, служба, конюшни; мы повернули за сад, туда, по дороге.
— Господи, какая Василиса старая-то! — вздыхая, проговорила наконец матушка.
Нянька ответила ей:
— Да лет ей, сударыня, пожалуй, под сто будет.
— И не меняется... все такая же, как и была... Я уж сколько? Я думаю — уж года три и не видала вблизи-то, а все такая же, — говорила матушка. — Да Марфуша-то ей как приходится?
— Внучка, сударыня... Маринина дочь. Марина-то ведь дочь Василисина была.
И они принялись вычислять родню ее.
Мы с сестрой слушали все это очень внимательно, но все-таки ничего не понимали, в чем дело, что такое сделала Марфуша — наша любимица: она такая веселая — и в чем она так провинилась перед тетей Раей?
Я помню, мне ужасно хотелось узнать это, и прежде чем наконец спросить я решился, я думал: «Спросить теперь или нет. Там приедем, — я ведь все узнаю...» Но нетерпение взяло свое, я собрался с духом и сказал так, как будто это меня вовсе даже и не интересует и даже стороной:
— Да тетя Рая простит ее. Ну что ж такое?..
Матушка взглянула на меня и ничего не ответила.
— Да она что же такое сделала-то? — помолчав немного, опять спросил я.
— Это вовсе не твое дело. И ты, пожалуйста, не в свое дело не суйся, — ответила матушка.
Я замолчал.
— Это до тебя не касается. Ты знай лучше свое дело. А то вот опять вчера плохо писал под диктовку.
И, обратившись затем к гувернантке нашей Анне Карловне, спросила ее:
— А их книжки и тетрадки вы взяли с собой?
— Как же, взяла.
— А то что же они будут там так без дела болтаться.
— Все взяла, — повторила Анна Карловна.
— И вы, пожалуйста, на другой же день, как приедете, садитесь с ними заниматься, так же, как дома. Терять им времени вовсе не для чего. Я взяла их просто так, прокатиться. Заниматься они там могут. Дом теперь весь пустой, выберите какую-нибудь комнату и садитесь с ними, хоть кабинет Константина Павловича — и никто вам мешать не будет.
Я понимал, что все строгости и разговор даже самый о нашем ученье я вызвал своим бестактным вопросом. Я понимал это очень хорошо и потому сидел теперь серьезный. Вместо увеселений всяких теперь предстояло точно так же сидеть за диктовкой, как дома.
Дорогой, на самой середине пути между нами и Ровным, где жила тетя Рая, было какое-то большое село с постоялыми дворами, с высокими колодцами, с каменными большими избами и высокой каменной церковью, про которую говорили, что такой церкви хотя бы в городе быть.
В этом селе мы всякий раз останавливались, подъезжали к постоялому двору, выходили из возка и минут на двадцать или на полчаса входили в большую, просторную каменную избу с запахом щей, печеного хлеба, муки, овса и множеством тараканов по стенам. Вся стена, как войдешь, налево, снизу доверху оклеена лубочными картинками: какие-то генералы, скачущие с саблями в руках, а внизу, под самым брюхом их лошадей, стоят ряды солдат, замазанные красной и зеленой краской, долженствовавшей изобразить красные воротники их и зеленые мундиры. Эти картинки, я помню, мы с сестрой всегда рассматривали, влезая на широкую скамью вдоль стен.
То же самое было и теперь. Пока отпрягали и поили лошадей, что-то поправляли в возке, мы вошли в избу, и первым делом мы с сестрой, разумеется, взобрались на лавку и стали рассматривать эти картинки.
— Ну вот видишь, что ты наделал, — тихонько сказала мне сестра. — Вот теперь нас и засадят заниматься. А все из-за тебя. Ну, для чего тебе нужно было спрашивать? Разумеется, Марфушка что-нибудь нагрубила тете Рае или разбила у нее что-нибудь... Вот ты и доспрашивался. Теперь сиди...
IV
Ровное — имение дяди Константина Павловича, где жила тетя Рая, — лежало на высоком, крутом берегу. Зимой дорога к нему шла по реке, и отсюда, снизу, с реки, оно казалось лежащим еще выше, как на горе. Дом с зеленой железной крышей — тогда еще большая редкость в деревнях, — постройки, раскинувшиеся вокруг дома, и тоже с зелеными крышами, белая церковь, каменная, с железной же зеленой крышей, — все это издали казалось точно маленький городок и было нисколько не похоже на все обыкновенные усадьбы в нашей стороне. Ни потемневших, некрашеных деревянных, из сборного леса, построек, ни соломенных крыш, ни плетневых заборов — ничего этого не было; городок, да и только.
Но зато — такая красивая издали, усадьба была скучная, когда въедешь в нее: чем-то пустым, холодным, неуютным веяло от нее. Особенно, бывало, летом. Везде все в зелени, все в тени, а ровновская усадьба точно и в самом деле часть какого-то уездного города — настроены какие-то каменные дома, флигеля, и всё на солнце, под его палящими лучами. Песчаный, местами даже вымощенный двор — и ни одного деревца, ни одного кустика какой-нибудь бузины, сирени — ничего. Даже трава, кое-где все-таки пробившаяся у строений и по углам, и та какая-то покрытая пылью, забрызганная белой меловой краской от стен и зеленой от крыш. Только и зелени, что эти крыши.
Дом стоял посредине этих построек, которые все, точно из почтения к нему, отступили от него во все стороны и не смели приблизиться.
Сад начинался не сейчас за домом, а тоже точно отступился от этого дома и отошел от него, оставив пустое и какое-то глупое, ни на что не нужное, скучное пространство, тоже, как и двор, все мертвое, без травинки, усыпанное песком и мелким кирпичным щебнем, который так и хрустит и шуршит под ногами и на который ноге так неприятно ступать.
И даже этот сад, такой большой, с такими высокими деревьями, был расположен как-то так, что и в нем, я помню, не было ни одного уютного уголка. Бог знает для чего, все ветви у деревьев были посрублены снизу чуть не до самого верху, и деревья стояли какие-то странные, все на один фасон — разобрать нельзя, что это такое: липа ли, клен ли, дуб ли — необъяснимая дядина фантазия. Вокруг сада шла высокая каменная ограда — плотная стена, стоившая, говорят, огромных трудов крепостных, на которую пошла масса кирпичей. Ограда была тоже выкрашена белой меловой краской, и вся зелень вокруг нее тоже была забрызгана белым. В саду, как в мешке, ни одного никуда выхода, кроме ворот, — никуда, ни в одну сторону посмотреть нельзя было. Ходишь и не знаешь — в какую сторону идешь, что такое там, за этой оградой, высокой каменной стеной. В саду были устроены из дерна скамейки, вероятно для того, чтобы сидеть, но сидеть на них нельзя было, так они были высоки, и не для нас одних, детей, а и для больших. Если взлезть на них и сесть, спустивши ноги, то до земли они и у больших все равно не доставали, по крайней мере, на аршин.
В саду было три «памятника» из какого-то грязного простого камня, давным-давно потрескавшегося и изъеденного, как оспой, черными дырочками. Один в виде урны, другой в виде маленького обелиска, а третий просто плита, треснувшая в трех или четырех местах. Что было погребено или схоронено под этими «памятниками» — никто не знал доподлинно; но ходили рассказы о том, что эти памятники поставлены еще прабабушкой на ее любимых местах, где она любила сидеть. Она была придворная дама, по какой-то интриге высланная в деревню к себе из Петербурга. Это было очень давно, и ее никто почти не помнит.
В усадьбе всегда была мертвенная тишина — и зимой и летом.
— Такая прекрасная усадьба, — говорили все, — и такая, тем не менее, отчего-то скучная. И не то, знаете, чтобы скучная, а этакая какая-то...
И никто не мог подобрать выражения.
— Жениться ему, Константину Павловичу, надобно. Вот она тогда и не будет такая...
И тот, кто говорил это, тоже не договаривал, какая...
Но это было так летом; зимой же — совсем уж чуть не монастырь.
Когда дяде говорили об этом, он, по обыкновению своему, начинал громко хохотать и все повторял: «Тихо? A-а... Ну да... Тишина... действительно, тишина...»
Этот раз, подъезжая к усадьбе, мы знали, что дяди нет дома, что наверху, в своих комнатах, живет тетя Рая, к тому же теперь еще в огорчении, — и рассчитывали тишину там встретить полную, такую, какой никогда не встречали. Но каково же было наше изумление, когда, въехав во двор, мы увидали там несколько экипажей и, по крайней мере, десяток саней, в каких обыкновенно в деревнях ездят попы, кабатчики, содержатели постоялых дворов, деревенские купцы-арендаторы и проч. Все это в беспорядке стояло перед домом и, к тому же, и по внешнему виду представляло что-то странное. Лошади все были убраны в лентах; люди, сидевшие на козлах, с улыбающимися лицами; смех, говор, звон бубенчиков, бряцанье колокольчиков, — что это такое?
Матушка была изумлена и даже не вытерпела — постучала в окно возка, что позади кучерова сиденья. Возок остановился посреди двора между этих троек и саней.
— Что это такое? — спросила она у Ивана, соскочившего с козел и подошедшего к окну.
— Свадьба, говорят, — отвечал Иван.
— Какая свадьба?
Иван начал говорить что-то с ближайшим кучером и потом, снова обращаясь к нам, проговорил:
— Свадьба-с... Василия Прокофьича женят...
— Я ничего не понимаю... Подъезжайте к дому.
У лакеев, выскочивших на крыльцо нас встречать, матушка опять спросила:
— Что это такое? Какая это свадьба?
— Василий Прокофьича... на Марфуше... — почтительно докладывают лакеи, но видно, что они едва держатся, чтобы не рассмеяться, — глаза полны смеху.
Матушка в смущении и недоумении, серьезная, без улыбки, прошла через сени в переднюю; мы за ней и оттуда все в смежную с передней комнату — нечто вроде приемной, где обыкновенно близкие и почетные гости снимали верхнее платье. Из зала слышались голоса, смех, как будто даже песни.
— Анна Карловна! — обратилась матушка к гувернантке. — Вы, однако, с детьми пообождите здесь, — я посмотрю, можно ли нам еще. Это что-то странное... Я прежде посмотрю...
Но в это время дверь в приемную из зала отворилась, и в дверях показалась тетя Рая с холодной, мертвой, по обыкновению, своей улыбкой на лице.
— Рая, что это у тебя? — спросила, идя к ней навстречу, матушка.
— А что? Свадьба, — ответила она.
Матушка начала с ней здороваться, то есть целоваться.
— Да что это, Рая, за фантазия у тебя?
— Любимую фрейлину свою выдаю замуж... За ее честную и верную службу... За дворянина...
Она говорила это вкрадчивым, мягким голосом, улыбаясь и даже как будто желая рассмеяться, но злоба — даже мы, дети, заметили эту злобу, — видно было, так и кипит в ней.
Рая начала нас поочередно целовать, то есть касаться наших щек своими холодными, бледными, сжатыми губами.
— Ну, пойдемте же... пойдемте... Катенька, пойдем же, — позвала она матушку.
— Рая, но мы... может, помешаем? — проговорила матушка, продолжая с недоумением смотреть на нее.
— Нет, это сейчас кончится. Я их всех сейчас прогоню... этих молодых... — не проговорила, а уж точно прошипела она.
В зале мы увидели странное, невиданное нами общество каких-то горничных не горничных, купчих не купчих — В пестрых платках, в ярких шерстяных и шелковых платьях, в чепцах, и между ними не менее странного вида мужчины — тоже не то лакеи, не то мещане, не то приказчики. Два или три попа.
— Ну, довольно, дорогие гости... благодарю вас за честь, какую мне оказали... — резким, звонким голосом проговорила тетя Рая, обращаясь к умолкшей при нашем появлении компании. — Довольно... Угостила чем могла, не взыщите...
И обращаясь к нам, добавила:
— А вот пойдемте, я вам молодых покажу... Их, однако, тоже надо выпроводить... довольно с них...
Она и мы за ней прошли среди этой расступившейся толпы в гостиную. На диване там сидели молодые, вставшие молча при нашем появлении, — Василий Прокофьич и рядом с ним Марфуша.
Я был тогда мальчик лет десяти, но я заметил и ясно, сразу увидел, что здесь идет страшное что-то, происходит какая-то драма, которой смысла я не понимаю, но все-таки я ее вижу, я чувствую, что какая же это свадьба, какое это веселье?!. Я посмотрел на тетку, потом остановился на лицах жениха и невесты и, весь поглощенный вниманием, задумался, прислонившись к какой-то этажерке, и смотрел, не мог оторваться от этого жалкого, маленького лица Василия Прокофьича, поминутно подергивавшегося и старавшегося улыбнуться, но улыбка все не выходила у него никак. Он увидел и заметил меня и мне что-то такое делал лицом, выражал тоже какое-то приветствие... И Марфуша, эта вечная хохотунья, которая или хохотала, или стояла на коленях, — теперь была мертвенно бледна. Она стояла с опущенными глазами, но иногда поднимала их, уставлялась ими в одну точку и так и смотрела...
— Ты что же нейдешь, — называя меня по имени, позвала матушка из другой уж комнаты.
Я и не слыхал, как они все ушли из гостиной...
— Евпраксеюшка[64], — говорила в другой комнате тетя Рая своей наперснице, — ты все это вели убрать, выпроводи их...
— Я понимаю-с, — отвечала Евпраксеюшка. — А молодых во флигель?
— Да, да. Как я сказала... И все-все с нее... до последней нитки...
— Слушаю-с.
— В то же самое платье опять.
— Слушаю-с.
— Дворянку-то эту...
Улыбающееся лицо Раи было ужасно, отвратительно: бледное, искаженное злобой, с горящими как в лихорадке глазами.
Матушка посматривала на нее, оглядываясь на нас, и подолгу глядела, как бы стараясь заметить или изучить, какое все это произведет на нас впечатление.
Евпраксеюшка несколько раз порывалась идти исполнять ее приказания, но Рая ее все удерживала новым приказанием каким-нибудь или подтверждением прежних.
— Все... ну, ты знаешь, как я приказывала, — повторяла Рая.
— Слушаю, матушка-барышня. Понимаю-с. Как изволили приказать, так и будет-с... — повторяла все Евпраксеюшка.
— Ну, иди же, — решительно наконец сказала Рая.
Евпраксеюшка пошла в гостиную к молодым и далее, а Рая, как ни в чем не бывало, обратилась к нам:
— Ну, наверх ко мне пойдемте!
Наверху у нее было все по-прежнему — изумительно чисто, строго аккуратно, точно все замерло, и тихо-тихо, несмотря даже на наши голоса и шаги.
Она осведомилась — не хотим ли мы есть. Нам сейчас собрали целый обед, начиная с супа. Рая сидела с нами, болтала, даже смеялась естественным, а не притворным, как там, внизу, смехом и все посматривала на матушку.
— Да, Катенька... так-то... — несколько раз начинала она и не доканчивала.
Матушка покачивала головой и, задумчиво смотря на нее, вздыхала.
— На свадьбу попала... ты не ожидала? — говорила Рая.
— Кто же этого мог ожидать?
— Так-то...
Матушка, видимо, воздерживалась от разговора, находя, очевидно, неудобным начинать его при нас, и отвечала ей отрывочными фразами.
Мы еще не кончили обедать, как пришла уже наверх Евпраксеюшка и доложила, что все исполнила, как было приказано.
— Всех выгнала их? — спросила Рая.
— Никого нет. Все уехали.
— А ее... все сняла?
— Все-с.
Рая засмеялась.
— Ну и что ж она?
— Плачет.
Рая опять рассмеялась.
— А он что?
— Да он что ж? Он...
Матушка несколько раз перебивала и этот короткий ее разговор, видимо желая замять его, и опять-таки по той же причине, то есть что мы были здесь.
Мы только что кончили обедать, она обратилась к Евпраксеюшке и спросила:
— Что, внизу уж совсем никого нет? Все ушли?
— Все-с. До одного человека все, и убрали всё уж.
— Ну, Анна Карловна, — сказала она гувернантке, — пойдите с ними вниз; пускай они там побегают.
Анна Карловна увела нас. Мы ходили, осматривая эти пустые, обширные, с низкими потолками комнаты, где сейчас только была собрана такая странная компания.
— Анна Карловна, это что же такое она сделала с ними? — спросил я гувернантку.
— С кем?
— А вот с Васильем Прокофьичем и с Марфушей?
— Выдала замуж, и больше ничего.
— Где же они теперь будут жить?
— Ах, играйте лучше с Соней: это совсем не ваше дело. До вас вовсе это не касается...
Вечером, то есть так через час или часа через полтора, за нами пришла горничная сверху и позвала чай пить. Раю мы застали сидящею в кресле с повязанной белой мокрой повязкой головой.
Я посмотрел и ничего не спросил.
Сестра Соня посмотрела на нее и спросила:
— Тетя Рая, что это у тебя?
— Голова болит. Разве ты не видишь? — за нее ответила матушка и добавила, обращаясь к гувернантке:
— А вы, Анна Карловна, как они чаю напьются, ведите их спать. Нынче, с дороги, им надо раньше ложиться.
При прощании, когда нас повели спать, тетя Рая улыбнулась нам каждому, как бы желала этим сказать нам: «Это ничего...»
Я был тогда в заведовании одновременно у трех: у Анны Карловны, заведовавшей нами вообще — ученьем, воспитанием, манерами и проч., у няньки, наблюдавшей за тем, чтобы все было на мне чисто, ничего не разорвано, и у лакея, укладывавшего меня спать и потом утром приходившего подать мне умыться, вычистить сапоги, платье и проч. Вечером поэтому Анна Карловна сдала меня Ивану, и я с пим пошел в комнату, в которой мне была приготовлена постель.
Я живо помню, что мне все хотелось спросить его — в чем тут дело, но меня удерживало чувство стыдливости: я догадывался, что тут что-то такое, что мне будет ужасно стыдно выслушать от Ивана, и я так и но спросил его — духу не хватило. Ужасно хотелось знать, в чем дело, но если бы это я мог как-нибудь узнать стороной — при мне бы кто-нибудь сказал, услыхал бы я случайно, но только не самому спросить и услышать ответ себе...
Ночью меня разбудило какое-то необыкновенное движение, поднявшееся во всем доме. Я стал прислушиваться. Долетали отдельные фразы. Я разобрал голос Евпракееюшки, голос гувернантки нашей, голос матушки. За кем-то посылали, куда-то кого-то отправляли.
— Да поскорей, пожалуйста.
— Слушаю-с, сейчас.
— Чтобы он запрягал и подъезжал к дому, а я письмо сейчас напишу.
Дверь в мою комнату была не совсем плотно заперта, и я мог видеть, что на дворе еще совсем темно. Мои окна были закрыты наглухо ставнями, и в них я ничего не мог видеть.
— Я пяти минут всю ночь не спала, — явственно слышал я голос матушки и голос Евпраксеюшки, вслед за тем отвечавшей ей:
— Бог их знает, что это с ними вдруг сделалось. С утра весь день такиё веселые были.
Ну, это она только так показывала... а ее всю вот как коробило, — отвечала матушка. — Не понимаю я этого... И что это за фантазия... Ну, прогони она ее с глаз долой... Да и что такое? Ни привязана она к ней была, ни любила она ее как-нибудь особенно. Всегда, бывало, истории у нее с ней... ставит ее на колена... Бог знает что... Мало ли что нынче они делают, найди-ка нынче честных!.. Это о каждой-то так тревожиться?.. А вот я — так и знать ничего этого не хочу. Хоть все они разом роди — никакого дела мне нет.
— Да кто ж за ними, сударыня, углядит-то! Разве за ними углядишь? Ведь это что ж? От себя ее не отпускать, что ли? Куда она — и за ней сейчас? — говорила Евпраксеюшка.
— И что она вздумала это за Василия Прокофьича-то ее отдавать? Я уж этого совсем не понимаю, — опять слышался голос матушки. — Я ее и так и этак спрашивала — ни говорит.
— Никому не говорит. И я спрашивала. Это, говорит, вы узнаете все, только после.
— Сам он, может быть, посватался!
— Нет-с... Это вдруг как-то вышло. Уж он у нас с месяц жил. Призовут, бывало, его наверх и заставят читать. А то сидят, свой чулочек вяжут, а он им рассказывает, что у кого как из соседей, кто как живет. Он рассказывает, а оне вяжут и слушают... Только заметно все время было, что «она» у них ни на час из головы не выходила...
— Ничего тут я не понимаю, — повторяла матушка. — Решительно ничего не понимаю. По-моему, она просто...
Матушка не договорила.
— Вот теперь только, если она еще узнает, что та родила... А ей когда родить-то? — продолжала она.
— Да вот-вот... Каждый день... со дня на день.
Я слушал и уяснял себе все понятнее и понятнее, что тут такое происходит.
Они говорили, нисколько не стесняясь, обо всем, и к тому же обыкновенным голосом, громко, не замечая, вероятно, что дверь в мою комнату не совсем притворена, а то и вовсе позабыли, что в этой комнате я сплю.
У них был огонь, так как было очень еще рано, должно быть.
Потолковав еще, они все ушли, унося с собой и огонь. Бледный свет только что начинающегося раннего зимнего утра проник ко мне сквозь эту же неплотно притворенную дверь. Я полежал еще сколько-то с открытыми глазами и опять заснул.
V
Часов в десять ко мне вошел Иван, наш лакей, и, разбудив меня, сказал, что все уже встали и матушка приказала позвать меня наверх пить чай.
— А тетя Рая что ж? — спросил я.
— Оне там-с.
Тетя Рая в самом деле сидела, как ни в чем не бывало, вместе со всеми и, улыбаясь своей мертвой, застывшей улыбкой, пила, по обыкновению, чай из низенькой широкой голубенькой чашечки.
Я внимательно посмотрел на нее, здороваясь со всеми при приходе, и тоже сел пить чай к столу.
— Что это разоспался сегодня? Я два раза посылала за тобой. Вот соня-то! — сказала матушка, смотря на меня.
Я ей ничего не ответил.
За чаем тетя Рая с нами шутила, бросала в нас, но обыкновению, хлебными шариками — это была ее любимая шутка: улыбнется своей мертвой улыбкой и исподтишка бросит шариком. Другой шутки она никакой не знала, и для выражения хорошего настроения и вообще, чтобы выказать свою любезность, у нее, кажется, не было никакого другого приема или способа.
Но она сегодня, когда я все уже знал о ней и понимал, в чем все дело, была и антипатична мне больше обыкновенного и в то же время до последней степени любопытна: я все смотрел на нее и чего-то ждал, вероятно — не забредит ли она опять по-вчерашнему, как рассказывала матушка об этом на рассвете.
Рая несколько раз бросала в меня шариками, и я едва — и то уж потому, что неловко было, матушка глядела, — осилил себя, чтобы улыбнуться. Необыкновенно неприятное чувство зародилось у меня к ней.
— Что ты такой сидишь надутый? — спросила матушка. — Или еще не выспался?
Я опять промолчал. Она тогда повторила вопрос.
— Нет, выспался, — сказал я.
— Тебе нездоровится?
— Нет, ничего.
— Так что ж ты такой? Поди-ка сюда, — позвала она.
Я подошел. Она приложила руку мне ко лбу, потом посмотрела язык.
— Ничего, — проговорила она, совсем успокоенная и, как бы так, между прочим, заметила: — Спать так много не следует — вялым от этого делается человек.
— Я вовсе не так много спал, — сказал я, — ночью, под утро, я с час или больше вовсе не спал.
Она с удивлением обернулась на меня.
— Это отчего?
— Так, — сказал я.
Частичка этого неприятного чувства распространялась во мне и на нее. К тому же, мне захотелось вдруг поинтересничать, показать им всем, что я не то что знаю все, а что-то такое и мне известно, и напрасно они уж меня таким маленьким и ничтожным считают.
Матушка перевела с меня глаза на Анну Карловну, они посмотрели друг на друга; потом матушка, опять глядя на меня, проговорила:
— Ну, а ты с Соней все-таки изволь отправляться и заняться там чем-нибудь. Анна Карловна, вы им там что-нибудь подиктуйте. Читать им дайте. Что ж им так-то болтаться.
Мы ушли.
Перед обедом, «отдиктовавшись» и гуляя с сестрой и рассматривая картины, висевшие внизу по стенам во всех почти комнатах, я, как мог, рассказал ей все, что знал об «этом деле», то есть что я слышал ночью. Я понимал это все, конечно, тогда не вполне и, к тому же, по-своему, но главное-то я все-таки понимал, то есть что-то такое нехорошее сделала Марфуша тем, что стала беременна. Рая об этом узнала и страшно на нее за это рассердилась. Она так зла на нее, что мама даже боялась вчера, что она уж не сошла ли от злости даже с ума. Все это нехорошо, и об этом говорить не следует, стыдно. Это все относится к той категории вопросов, о которых не следует расспрашивать...
Смутное очень, конечно, понятие, но чутье дало верное все-таки представление о факте.
— И зла она на нее, ты представить не можешь, — говорил я.
— Она очень злая, — соглашалась сестра. — Ты когда спал сегодня, я раньше прошла наверх с Анной Карловной и застала там у нее Евпраксеюшку: она ей рассказывала, как Марфуша лежит больная и плачет. С нее сняли вчерашнее платье и надели посконное... И Рая все расспрашивала Евпраксеюшку и радовалась... Я вот только не слыхала хорошо — тут мама пришла и сказала, чтобы я уходила в другую комнату: у Марфуши, кажется, уже родилось...
— Да?..
— Да, — подтвердила сестра.
— Они ждали уж этого. Они и вчера, то есть ночью, я помню, говорили об этом. Рая все посылала эти дни узнавать Евпраксеюшку... и бабку посылали...
— И вот, я не знаю уж, — продолжала сестра, — чему это она, но только ужасно она обрадовалась и все говорила: «Ну, очень рада, очень рада...» А мама ей говорила: «Перестань, Рая, что за ужас...» И наверно даже родилось! воскликнула сестра, вдруг точно о чем-то догадавшись, чего раньше почему-то не сообразила. — Она приказывала, чтоб попа привезли завтра утром и чтобы купель и все было готово... Конечно, родилось — для чего же тогда все это?..
Этот раз вечером, ложась спать, я спросил тихо — решился, преодолев свою застенчивость, — у Ивана:
— У Марфуши что: мальчик или девочка родились?
— Мальчик, — отвечал Иван.
— Его завтра будут крестить?
— Завтра-с.
— Здесь будут крестить? В доме?
— Должно быть, здесь-с. Попа сюда велено привезть.
Иван помолчал немного и, покачивая головой, как бы соображая что-то про себя, проговорил:
— Только чудно это тетенька хочет сделать...
— Что такое?..
— Да как же: они его Иудой хотят назвать... За что же это? Ребенок-то чем же виноват? За что же? Это вот все братец их не знают, дяденька Константин Павлович, нет их здесь, а он за это ей спасибо, тетеньке-то вашей, не скажут, как приедут... Нешто это можно над младенцем так издеваться?..
Это было новое опять обстоятельство, и я совсем его уж не понимал. Неужто так можно назвать? Священник разве согласится?
— Да ты почем это знаешь? Разве она это говорила? — спросил я у Ивана, когда он, взяв мои сапожки и платье, хотел было уже уходить.
— Да говорят-с все. Евпраксеюшка так говорила... Ну-с, почивайте, — добавил Иван, — завтра мы рано уезжаем отсюда...
— Да? Кто? Все или мы одни? — почти вскричал я.
Мне ужасно хотелось все это видеть до конца и знать, чем это все кончится, и вдруг — уедем или нас увезут, и мы ничего не увидим и не узнаем.
Я помню, долго я лежал, не мог заснуть и все думал обо всем, что происходило здесь, вокруг меня, под этой крышей, и все ждал — не придут ли опять, как вчера, в соседнюю с моей комнату и не услышу ли я еще что-нибудь в том же роде. Я так и заснул с этими мыслями.
— Лошадей уже запрягают, — будил меня утром Иван, — маменька приказали скорей одеваться.
Матушка уж встала давно и распоряжалась.
Она обращалась к гувернантке, то к нам, то отдавала какие-то приказания няньке — что-то такое ей прислать, из чего мы могли понять, что оттуда, от нас, кто-то вернется, приедет.
Она точно вдруг вспомнила, что нам пора ехать, заторопила нас; нас одели, повели в переднюю, на крыльцо, усадили на возок — и мы уехали.
— А мы так и не прощались с тетей Раей, — сказала сестра.
— И я очень рад этому, — ответил я.
Гувернантка с удивлением посмотрела на меня.
— Это что такое? Что вы сказали?
Я повторил.
— Почему же вы рады?
— А потому, что...
— Почему?
— Я все знаю ведь, — сказал я.
— Что все знаете?
— Все. И про Марфушу, и про то, что у нее сын вчера родился и Рая хочет назвать его Иудой.
— Кто же это вам рассказал?
— Слышал.
— От кого?
— Не знаю, от кого. Слышал — говорили, а кто — не знаю.
Гувернантка, возбужденная как будто и бог знает отчего, почти воскликнула:
— Я говорила, что он все слышит, не спит — так и есть! Это очень хорошо! Подслушивать у дверей... Фи, какая гадость!
— Я не подслушивал! — вскричал я. — Я просто слышал. Я разве виноват, что вы чуть не во все горло кричали? Я спал, и вы меня разбудили... Это гадость, подлость, что она хочет с ней сделать, — продолжал я почти кричать.
В нашем маленьком мирке, населявшем возок, произошел скандал. Гувернантка, нянька, за исключением, впрочем, сестры Сони, все были смущены и изумлены событием. Я чувствовал себя крайне возбужденным, в горле у меня пересохло, мне было душно, воротник давил мне шею, мешал дышать.
— Да, это подлость. И чем тут виноват ребенок, что он ей сделал? — повторил я.
— Да кто это вам все натолковал? Ничего этого нет. Вы слышали, что говорили что-то, а толком не поняли, не разобрали, — попробовала было со мною хитрить гувернантка, но я ее сейчас же осадил.
— Пожалуйста... я все отлично понял... Все, решительно все. Нет-с...
— Ничего вы не поняли. Ну, что вы поняли?
— Все. Я говорю: все.
Нянька тоже приняла участие в разубеждении меня, но тоже и она потерпела в этом полное фиаско, как и Анна Карловна, потому что не могли же они мне доказать, что все то, что я слышал, мне показалось только будто я слышу, а на самом деле я ничего не слыхал и этого ничего не было.
Об Иване я, разумеется, умолчал.
Событие пустое, ничтожное, в сущности: ну что за беда, что я узнал, что у какой-то Марфуши родился ребенок и его хотят назвать как-то странно — Иудой? Но оно, это событие, по тогдашним понятиям и по тогдашним взглядам на воспитание, бывшим, по крайней мере, в помещичьих порядочных и почтенных домах, где на детей смотрели как на что-то долженствующее быть приготовленным к чему-то чуть не священному, — вдруг все планы и заботы о предохранении от познаний действительной жизни, и познаний притом явно греховных и даже скандальных, рушатся, и так безжалостно, неожиданно, — о, это было огромное событие! Я сам даже смотрел на себя как на приобщившегося уже скверны, я это чувствовал отлично.
Но это бы еще ничего: я был мальчик. Это очень нехорошо, — что я это узнал, — очень это нехорошо, — но вот ужас — это все узнала еще и сестра Соня. Она все это слышала, я все это говорил при ней, и когда гувернантка и нянька останавливали меня и доказывали, что это все, что я говорил, неправда, я стоял все-таки на своем и продолжал утверждать, что Марфуша родила мальчика и что она лежит теперь больная, а его как принесут сегодня — теперь уже принесли, вот теперь, когда мы спорим и толкуем об этом, — и его за то, что Марфуша родила его, — это она сделала нехорошо, это стыдно, об этом нельзя говорить, — его назовут Иудой... Соня — девочка, и она все это слышала!
После этой сцены гувернантка, проникнутая важностью события, как-то сосредоточенно и серьезно молчала, стараясь не смотреть на нас, и для этого усиленно глядела на окна возка, совсем замерзшие и залепленные снегом.
Я несколько раз начинал говорить все по поводу того же, начинал, но дальше двух-трех фраз не шло. Я это делал случайно, в виде оправдания себя. Говорил, что я тут во всем ничуть не виноват — это не моя вина, что я все слышал. Меня уложили спать и потом, когда я заснул, пришли, начали чуть не кричать, разбудили меня, начали бог знает что говорить — и я же теперь виноват во всем этом!
Но гувернантка усиленно сдерживала себя, чтобы не отвечать мне и тем не раздувать неприличного разговора еще более.
Нянька смотрела на меня и только покачивала головой, тихонько вздыхая.
Я попробовал было завязать с нею разговор, и она было поддалась, но гувернантка остановила ее:
— Устинья... Что вы ему отвечаете? Для чего это? Пускай... Приедем ужо, я все и расскажу...
— Что ж вы расскажете? — спросил я.
Она с горьким упреком посмотрела на меня, усмехнулась и опять стала глядеть в замерзлые стекла.
— Я не боюсь, я не виноват, — продолжал я уже сам с собою. — А что до тети Раи, то я ее терпеть не могу. И папа ее терпеть не может. И все ее терпеть не могут.
— Вы замолчите? — не вытерпев наконец, спросила гувернантка. — Вы забыли, о чем вас просила мамаша, когда мы уезжали?
— Она просила не шалить.
— Она просила вести себя как следует и слушаться, — поправила гувернантка. — А вы что делаете? Рассказываете здесь разные гадости, я вас останавливаю, а вы всё продолжаете. Это называется прилично себя вести и слушаться? А? Как, по-вашему?
— Извольте, я не буду говорить, — сказал я. — Я не знал, что говорить то, что вы же сами говорили, неприлично.
— Вам говорят, что это не то самое. Вы не поняли или не расслышали и спорите, уверяете, что это так, стоите на своем... Это называется, по-вашему, слушаться?
— Да не мог же я ошибиться? — опять вскричал я и начал, приводить на память — кто в том разговоре, тогда ночью, говорил. — Вот это мама сказала, это вот вы, это Евпраксеюшка, — говорил я.
Гувернантка злобно слушала и только все повторяла:
— Ну, дальше... дальше... очень хорошо... очень хорошо.
— Да уж это я не знаю, хорошо это или нет, но только все это вы же сами говорили.
— Ну, довольно, довольно...
— Это — извольте.
— Это вам давно бы надо так сделать. Как только я вас остановила в первый раз, вы и должны были замолчать.
В возке у нас водворилась наконец тишина. Мы долго ехали молча, почти до самого того села, которого название я позабыл, — где мы обыкновенно всякий раз выходили, Иван доставал закуски, их мы ели, а этим временем кучер и форейтор поили из больших ведер лошадей, и мы скорей опять садились в возок и опять ехали уже вплоть до дому, нигде не выходя уж и не останавливаясь.
Опять и этот раз мы с сестрой взобрались на лавку, что шла на постоялом дворе вдоль стены, и пока Иван принес и развертывал пирожки, жареных цыплят, яйца и прочие закуски, мы ходили с ней по этой лавке и рассматривали лубочные картины — кота, генералов, змия и проч.
— Вот посмотри, — тихонько сказала мне сестра, — она на тебя нажалуется маме, как та приедет.
— Пускай. Я что ж говорил? Это она говорила.
— Ну, посмотри.
— Пускай.
— Ты видел, у нее даже кончик носа позеленел. Не белый, как всегда это у нее делается, когда она разозлится, а теперь зеленый, — говорила сестра.
Отец был изумлен и даже почти как будто испуган, когда вечером мы приехали домой. Он встретил нас на пороге из зала в переднюю и, не видя матушки, обвел нас всех глазами и остановился с неоконченным вопросом:
— А где же?..
— Я вам сейчас все объясню... Она поручила мне передать вам... — начала Анна Карловна.
— Она здорова?
— О да.
Отец поцеловал нас; нас повели раздеваться с сестрой в детскую, а он сел с Анной Карловной в гостиной, и та, не снимая капора, разных косыночек и шарфиков, принялась ему рассказывать обо всем, что там случилось.
— Ну, очень рад. Доездились наконец. И что там забыли? Для чего это надо было туда ехать? Удивительная необходимость! Сумасшедшая, конечно. Я всегда говорил. Дура, и злая притом. Еще слава богу, что она их не испугала. Уродами могли бы сделаться. Доездились. Очень рад, очень рад...
Он подозвал нас к себе, посадил одного на одну коленку, другую на другую и все еще с волнением спрашивал:
— Ну что, вы не озябли? Она вас не перепугала?
— Ничего, — отвечали мы.
— Только этого еще недоставало.
— Она ужасно злая, отвратительно это, — сказал я.
— Вы видите, — сказал отец, обращаясь к Анне Карловне, — вот и он это понимает...
И потом продолжал уже как бы один, с самим собою:
— Доездились. Дети — и те понимают ее, кто она такая, а мы всё не можем ее разгадать. И для чего это было нужно туда ехать? Я не понимаю — для чего?
— Неужели она его и в самом деле окрестит Иудой? — спросил я.
— Что такое? — не понимая меня, спросил отец.
Я повторил вопрос.
Он обратился к Анне Карловне.
— Да... она ни за что не соглашается... ее все упрашивали-упрашивали — ни за что... И знаете, как начнут ей об этом говорить, сейчас с ней дурно и обморок... — подтвердила Анна Карловна.
— Ну да. От злости, — сказал отец. — Ведь это одна злоба и ненависть. В ней ничего, кроме тупости и злобы, нет. Это идиотка... И злая, бессмысленно злая...
Я торжествовал, смотрел на Анну Карловну. «Что ж, дескать, это, ну что: разве я не правду говорил? Ведь правда. По-моему же вышло. Стало быть, я не ошибался же, когда говорил, что слышал все и знаю?..»
Она взглядывала на меня и делала нарочно равнодушное и безучастное к моему торжеству лицо: дескать, погоди еще торжествовать, ведь это только еще отец... А вот что скажет мать, когда она приедет.
Но для меня было уж достаточно и того оправдания, какое я получил, и в словах отца. О матушке я пока и не думал даже. Это еще пока впереди. Я так далеко в будущее и не заглядывал.
— Ну, а как это было, как это было? — расспрашивал он. — Я думаю, у этой дуры и дом не топлен?
— О нет, тепло, — отвечала Анна Карловна.
— Вы где же спали? — продолжал он.
— Я спал в этой комнате, знаешь, возле дядина кабинета, — сказал я.
— На диване?
— Да.
— Не видали они этих ее притворств-то, обмороков-то этих? — опять спросил отец у Анны Карловны.
— О нет. Она наверху, а вниз и не сходила.
— Да ведь и вы были наверху с ней?
Он указал головой на Соню.
— Да ведь мы наверху только спали.
— Внизу все тихо было?
— Только ночью всё ходили... доктор приезжал, — опять сказал я.
Анна Карловна с упреком посмотрела на меня. Вот, дескать, невозможный-то ребенок. Не может промолчать.
— И тебя будили?
— Я слышал все.
Отец вздохнул.
— Съездили! Я очень рад. Наконец-то!.. Ну, теперь, кажется, довольно уж! — повторял он все.
— Ах да! — вдруг вспомнила Анна Карловна. — Катерина Васильевна (матушка) вас ждет там. Она просит приехать туда, — сказала она отцу. — Я в этих... знаете, волнении в этом совсем было и забыла...
— Это все равно — я и так поехал бы, если бы она б не говорила этого, — спокойно ответил отец. — Это надо кончить.
Он посмотрел на часы и сказал, чтобы позвали с конюшни его кучера — у него был свой кучер, с которым он всегда ездил.
Что-то изумительно быстро Захар подал лошадей, отец простился с нами, сказав, чтобы нас раньше укладывали спать, и уехал.
На третий день к вечеру, только что мы пообедали, приехали отец и матушка.
— Ну что они? — спрашивала матушка у Анны Карловны про нас.
— Ничего особенного... После я вам кое-что расскажу.
— Ничего, кроме того, что я слышал, как вы тогда ночью говорили, — сказал я. — Я разве виноват, что я слышал? Ведь я же не подслушивал...
Матушка ничего ни ей, ни мне не ответила.
Вечером матушка сделалась веселее, разговорчивее; мы сидели возле нее, и она сама даже начала говорить с Анной Карловной.
— Да, она и в самом деле несчастная, больная, — сказала она про Раю. — С ней такой опять припадок был, после, как вы уж уехали.
— Это когда ей сказали, что...
Гувернантка начала что-то и не договорила.
— Да, — ответила ей матушка. — И ничего с ней нельзя было поделать. Мы думали было священника упросить, знаете, чтобы он под каким-нибудь предлогом, — нет, призвала его к себе, уговорила и настояла на своем...
— Так-таки и назвали Иудой? — не утерпел я.
— Так-таки и назвали, — сухо и не глядя на меня, повторила матушка.
И, обращаясь к Анне Карловне, добавила:
— И сейчас после с ней опять припадок...
— От злости, — сказал я.
Матушка обернулась ко мне.
— Папа говорит, что это с ней от злости, — проговорил я, прикрываясь авторитетом отца.
— Папа твой не любит ее и потому не верит, что она больна. А если бы он видел ее, когда с ней бывают припадки, он бы не то сказал.
— Так ее лечить надо тогда... А этак в припадке она когда-нибудь еще велит всю деревню сжечь, — резонно заметил я.
— Это не твое уж дело. Вероятно, знают, что делают.
— Написали к Константину Павловичу? — спросила Анна Карловна.
— Как же. Мы вызвали его. Ее одну нельзя оставить так.
— Теперь кто же с нею?
— Евпраксеюшка... Она совсем лежит. Доктор опять приедет...
Завтра матушка еще что-то проговорилась, потом еще.
Мы составили с сестрой себе понятие о факте как о каком-то крайне тяжелом и неприятном, и к тому же еще и скандальном, и позабыли вскоре о нем совсем.
Прошло недели две. Помню, вечером мы сидели за чаем, вдруг подали отцу письмо.
— От кого это? — спросил он.
— Из Ровнова-с. Константин Павлович скончались...
— Что?!. — вдруг в один голос воскликнули и матушка и отец.
— Посланный их говорит: скончались... в Петербурге... Известие пришло.
Отец дрожащими руками обрывал кончики конверта, достал письмо и стал его читать.
— Господи! — повторяла матушка. — Вот несчастие-то!.. Сестра сошла с ума... он умер...
Они начали обсуждать, как распорядиться, как все это будет.
На другой день отец уехал рано утром, когда мы еще все спали. Мы слышали только колокольчик.
Еще через день от него приехал посланный и привез матушке обстоятельное и большое письмо. Дядина смерть оказалась не вздором. Он простудился там где-то, был болен неделю, сделал сам все распоряжения на случай смерти и даже как его перевезти и где именно похоронить. Теперь его везут, он уже в дороге...
Потом, когда отец прислал второе письмо с известием, что его привезли, ездила туда матушка. Потом они оба вернулись, долго еще говорили и вспоминали все о дядиной кончине, вспоминали при этом похороны его, все подробности и какое-то неожиданное открытие, которое было сделано, то есть найдено в его бумагах. Очень скоро я узнал, однако, а все еще раньше моего знали его и говорили об этом, что Марфушин сын — дядин сын...
— Да, сумасшедшая! Хороша сумасшедшая, — говорил отец про тетю Раю. — Она знала это. Она все это отлично знала... С ней и припадки-то и все делалось от этого. Это она по злобе на него. Это нарочно все...
Матушка возражала ему, утверждала, что этого никогда не могло быть, что она наверно даже и не подозревала ничего подобного, что, напротив, если бы она знала это и даже только догадывалась бы об этом, она совсем иначе относилась бы ко всему этому.
— Нет, именно знала, — утверждал и прочно стоял на своем отец. — Если бы она не знала этого, она бы отдала ее замуж за кого-нибудь из дворовых, за какого-нибудь конюха, пастуха, а то она все-таки вон кого выбрала — такой он сякой, а все же личный дворянин. Нет, она положительно это знала, а сделала это по ненависти к брату: на, дескать, тебе, вот приедешь — сюрприз тебе будет... Конечно, нарочно...
И, я помню, долго у них шли все эти разговоры. Нас они уж не стеснялись, по крайней мере так, как прежде, особенно меня. Я однажды даже спросил: «Где же теперь этот ребенок?»
— Все там же, — отвечал отец.
— И Василий Прокофьич?
— Этот дурак рад. Теперь он обеспечен — живет, сыт, обут...
— И Марфуша там?
— Да как же, ведь она же жена ему теперь...
Я уж, право, не знаю как, но после дядиной смерти имение его досталось все его сестре, Раисе Павловне, тете Рае, и вскоре пошел слух, что она его продает.
Тогда это было как-то туже, чем теперь. Теперь как захотел продавать, только скажи и не держись особенно в цене — сейчас и купят. А тогда это продолжалось как-то долго. С год и больше, бывало, говорят, что такой-то продает свое имение, и все это повторяют, слушают, а никто не покупает. И даже тогда как-то стыдно было продавать. Тот, кто продавал, чувствовал себя как-то обыкновенно неловко, точно он делал что-то не совсем ладное и хорошее. Теперь все это стало гораздо легче и гораздо упрощеннее...
И целый год все слушали, обсуждали слух о продаже тетей Раей Ровнова, никак не понимая, для чего это она делает.
Летом матушка туда ездила как-то, пробыла там у Раи дня три и вернулась. Она ездила туда одна. По возвращении она рассказывала, что Рая не только уж не питает никакой ненависти к Марфуше, но, напротив, опять ее полюбила, и Василий Прокофьич у нее доверенное лицо. Управляющего она прогнала за что-то, и теперь его место занял он. Василий Прокофьич.
— Вот, воображаю, хозяйство-то идет! — слушая ее, воскликнул отец.
— Ну, я там не знаю, как идет хозяйство, а там, на дворе, кругом дома и в саду, все необыкновенно как чисто, усыпано песком, — удивительный порядок.
— Да вот это только и будет в порядке, ох, уж порядки... воображаю, что такое...
— И знаешь, он неузнаваем — просто переродился точно. Шумит, кричит на народ...
— Очень возможно.
— Марфуша такая же, как и была, только еще толще, кажется, стала.
— Разумеется. И это так и должно быть, — соглашался отец.
— Мама, а ты видела этого... ее сына? — спросил я.
— Видела. Мальчик как мальчик.
— И так его и зовут Иудой?
— Когда имя ему такое дали. Есть же такой святой. Это все вздор.
VI
Прошел еще год. Я был уж в гимназии, в нашем губернском городе. За мной прислали к концу экзаменов лошадей, и я на другой день должен был ехать. Кучер, приехавший за мной, принес мне в пансион — я жил в пансионе и ходил в гимназию — письмо от матушки.
— Все здоровы? — спросил я кучера, радостно выбежав к нему в переднюю.
— Слава богу-с, — объявил он.
Я читал письмо, расспрашивал его, опять принимался за письмо и опять начинал его расспрашивать.
— Как мне ехать, тетенька приехала к нам, — сказал он между прочим.
— Как? Тетя Маша?
Я думал, он говорит про нашу любимую тетку, но он сказал:
— Нет-с, Раиса Павловна.
— Да-а-а?..
Я удивился. Я не помню даже, когда она у нас была. Говорят, прежде она бывала, но потом, на моей нам яти, я этого не помню.
— И надолго?
— Не знаю-с.
— Одна она приехала?
— Одне-с... Вот-с только с воспитанником-то своим.
— Ах, с этим... с Иудой-то?
— Точно так-с.
Я помню, мне ужасно захотелось увидеть его, застать еще Раю у нас с ним. Я начал расспрашивать, не знает ли он, зачем она приехала, не слыхал ли, на сколько времени, и проч., но кучер ничего мне не мог объяснить.
Я ее, однако ж, застал. Она была еще у нас, когда я приехал. Я увидел ее и не узнал — до того она переменилась. Это была совсем седая старуха с упорным, задумчивым взглядом, со сдвинутыми, серьезными бровями.
Она очень сухо, как бы совсем не о том думая, поздоровалась со мною, то есть поцеловались мы с ней, и она меня даже ни о чем не спросила.
В детской, куда я пошел здороваться с няньками и прочими старухами, всегда в изобилии наполнявшими наш дом, я увидел какую-то женщину, не нашу, с ребенком на руках.
— Это кто? — спросил я у няньки.
— А это вот и есть... — ответила она.
— Иуда? — тихо проговорил я.
— Да-с.
Я подошел к мальчику и с любопытством стал смотреть на него.
— Не бойся, зачем же боишься? — уговаривала его женщина, державшая его на руках.
— Ведь это Марфушин сын?
— Да-с.
— А она где же?
— Она дома-с.
— Как же вы его зовете? — спросил я опять у женщины.
— Да так-с... Дюдей зовем...
— Дюдя! — позвал я его.
Мальчик посмотрел на меня и опять повернулся к плечу своей няньки.
— Никого ведь не видит... дичок совсем... не привык к чужим.
— Дюдя, поди сюда, посмотри на меня, — позвал я его еще раз, но он упорно уцепился за плечо ее и не хочет повернуться...
Рая, как оказалось, приезжала к нам прощаться. Нашелся у нее наконец покупатель, которому она решила продать Ровное.
Она что-то долго беседовала по вечерам в кабинете с отцом и матушкой и прожила у нас еще с неделю уже при мне.
Я узнал также, что она хочет уехать и поселиться в каком-то монастыре и будет воспитывать там и Дюдю, которого все и у нас уж так называли.
Я не знаю, что это за совещания по вечерам у нее были с отцом и с матушкой, но, кажется, все по поводу того же самого, то есть продажи имения: они ей отсоветывали продавать его, а она стояла на своем — продать и уехать в монастырь.
Так с этим она и уехала.
На другой год, когда я был на каникулах в деревне и когда зашла как-то речь о Рае, она, оказалось, была уже в монастыре.
— А Дюдя где?
— С ней же, — ответили мне. — Она его воспитывает.
— А Марфуша?
— Она в городе живет.
— И Василий Прокофьич?
— И он тоже. У них свой домик там... Рая им купила.
— Все устроилось хорошо, — сказал отец.
После этого лета я все реже и реже слышал о Марфуше, ее сыне и Василии Прокофьиче. Рая давно умерла, и с ее деньгами случилось какое-то странное происшествие. Официально и досконально было известно, что деньги она все держала при себе в каких-то билетах, а между тем, когда она умерла, у нее оказалось всего-навсего что-то около тысячи рублей, билеты куда-то исчезли...
Я помню, об этом тогда все говорили, удивлялись, было даже что-то вроде следствия, но все это так и кончилось ничем.
— Так и должно было кончиться, — говорил отец. — Это всегда так бывает, и этим всегда кончается.
Считали, куда она могла девать деньги, сколько она, по словам монахинь, пожертвовала на монастырь, но это все-таки была далеко не та цифра, которая хоть сколько-нибудь походила бы на действительность.
О Дюде, то есть об Иуде, были такого рода сведения: он в Москве, учится в гимназии, но очень плохо, — совсем тупой мальчик.
— Кто же за него платит?
— А это она внесла за все время вперед за него. Это она еще при жизни сделала. Она и духовную оставила все ему. Вот только денег-то не нашли. В этом и вся беда.
О Василии Прокофьиче пришло наконец известие, что он умер. И только.
О Марфуше — что она пьет и, кажется, собирается замуж за какого-то чиновника.
VII
Прошли годы. Много лет прошло с тех пор — лет двадцать пять прошло. Старики умерли, молодые сделались стариками, а те, кто были тогда совсем еще детьми, смотрят теперь уж серьезными и солидными людьми, которые, когда рассказывают про то, что тогда было, только слушают и улыбаются: да полно, дескать, так ли? Это что-то почти невероятное вы рассказываете... Утешение здесь, впрочем, в том, что в свое время и их будут так же слушать и будут то же самое думать, когда и они будут рассказывать про это свое время.
Года три назад мне пришлось довольно долго прожить в нашем уездном городе. Из старых знакомых никого уже не было, и я, дожидаясь кого мне нужно было, по целым дням просиживал у окна на постоялом дворе, где я остановился.
Моя комната была угловая. Одна сторона выходила на улицу, и я мог видеть ее всю вплоть до того конца ее, который оканчивался прямо полем. Окно другой стороны выходило на площадь — огромный пустырь, поросший травой и всяким бурьяном; посредине этого пустыря стояли присутственные места и двухэтажный, с колоннами, с решетками на окнах, большой каменный дом — городской общественный банк, за год или за два перед тем расхищенный.
Дом этот скучно стоял с заколоченными окнами, без всякого дела, точно оплеванный и выставленный на позор, и только мешал виду из моих окон на монастырь, великолепно раскинувшийся по той стороне реки, за площадью в обширных садах, со всех сторон его окружавших. Я поэтому готов был проклинать этот пустой дом.
Но он, и кроме монастыря, мешал мне еще видеть, как сходятся и расходятся чиновники из присутственных мест.
Он стоял так глупо, что благодаря ему я мог видеть только боковые стены зданий полицейского управления, казначейства, почты и еще чего-то; подъезды же все он мне заслонял.
Это последнее обстоятельство долго меня раздражало но одному пустому, в сущности, случаю, но повторявшемуся каждый день и оттого особенно досадному.
Как я сказал, я целые дни почти просиживал у окна, посматривая на улицу, на площадь. Время было жаркое, я отворю окно, сяду возле него, а то и вовсе лягу на него и смотрю.
Вот кто-то далеко показался — едва видно — и идет; от нечего делать я слежу за ним, как он приближается. Проходит две-три минуты — и я уж начинаю различать. Это знакомый, то есть я его не знаю, но он знаком мне по своему виду: он каждый день здесь проходит, и я заметил уже его, знаю его...
Прошел этот, на глаза попался другой — я слежу и за этим. И этого узнаю, когда он приближаться начнет. Он каждый день тоже тут проходит... Утром он идет вот отсюда, потом заходит, должно быть, куда-нибудь в полицейское управление или в другое какое присутствие — я не вижу этого благодаря выморочному дому — и оттуда, так часа в два, идет назад. И так каждый день.
И этого вот знаю. Этот — господь уж его знает, куда он ходит, но ходит с изумительной тоже аккуратностью, хоть часы по нем проверяй. И я проверял — минута в минуту. Идет ровным, мерным шагом, низы брюк — все равно, хоть и нет дождя и грязи — подвернуты, под мышкой коленкоровый, серо-коричневый зонтик с медным наконечником и белой, порыжелой от времени, большой костяной ручкой. Пальто широкое, просторное, точно чужое. Выражения в глазах — я всматривался, когда он проходил мимо меня, — никакого. Но он почему-то всякий раз, как увидит меня, непременно потупится.
Знаю и вот этого молоденького чиновника, в новенькой фуражечке с новенькой же кокардочкой и необыкновенно блестяще вычищенными сапогами с легоньким поскрипыванием. Он тоже ходит все в какое-то присутствие, но не знаю — не могу видеть, в какое.
И много тогда я узнавал так всякого народа.
Но особенно меня заинтересовал один удивительно странный какой-то господин. По-видимому, это был тоже чиновник — я видел его несколько раз в фуражке с кокардой. Но он не всегда ходил мимо моих окон — иногда вдруг он появлялся на площади совсем с противоположной стороны, хотя и шел все равно туда же, куда и все, то есть в один из присутственных домов. Он даже чаще так ходил, то есть не мимо меня, а откуда-то появляясь, вдруг точно из земли вырастая.
Особенность его, чем он и бросился мне в глаза и почему я и заинтересовался им так, была та, что он шел и все оглядывался назад, точно он кого-то ожидал за собой и этот кто-то, которого он ожидал, или отстал, или совсем где-то застрял и нейдет, а ему дожидаться его некогда. Он и оглядывается все поэтому.
Но один раз я подметил причину этого его оглядывания. Он шел этак, оглядывался и вдруг остановился. Я стал смотреть, кого это он ждет. По улице — он выходил из улицы на площадь — шла маленькая горбатая или, по крайней мере, страшно сутуловатая девочка лет девяти, много десяти. Наконец она приблизилась к нему, он взял ее за руку, и они пошли вместе, туда же все, за пустой дом, стало быть, в какое-нибудь присутствие. Этот раз он шел в форменной фуражке и нес даже какие-то дела — синюю папку с белым ярлыком, какие всегда заключают в себе «дела».
«Но куда же это он с девочкой-то этой? — соображал я. — Впрочем, он, может быть, там живет? Но зачем же он ходит все из улицы, оттуда? Нет, он не там живет», — решил я. И в самом деле, в три часа, когда пошли все чиновники, пошел и он. И девочка с ним, и идут, опять держась рука за руку.
Этот раз они проходили по моей стороне улицы, совсем возле меня, и я мог первый раз хорошо рассмотреть его в лицо. Лицо его было бледное, почти без кровинки; жиденькие русые, едва приметные усики; жиденькие же длинные волосы — мне показалось, напомаженные — ниспадали на воротник сзади из-под фуражки. Глаз я не видал — он их не поднял на меня. Такая же бледная была и его сутуловатая девочка, которую он не вел за руку, но она сама как-то уцепилась за его руку и точно боялась оторваться от него. Девочка мельком взглянула на меня, и мне показалось, что она точно потому так уцепилась за него, что подозревает меня в том, что я отниму ее у него, — враждебно как-то посмотрела.
Вскоре после этого, через день или через два, наскучив сидеть в комнате, я пошел бродить по городу, по пустым улицам. Был вечер, жара уже спала, и мирные обыватели, растворив окна, пили чай. Проходя мимо какого-то домика с растворенными окнами, совсем почти вросшего в землю, вдруг я увидел в окне эту самую девочку. Увидев ее, я стал искать глазами и ее спутника. Но его не было. Она сидела одна на окне.
С этого дня я начал почему-то ходить каждый вечер мимо этого домика и каждый вечер видел все эту девочку одну на окне. Его я не видал с ней ни разу. Не видно его было и в других окнах и вообще совсем не видно — его не было тут. Если бы он был тут, я бы его видел, потому что видел насквозь все, всю квартиру, всю эту жалкую, до невероятия бедную обстановку.
С этого же времени, как нарочно, он начал ходить в должность каждый день мимо моих окон, и всегда с ней за руку.
Меня это дразнило, — конечно, от нечего делать, — но я заинтересовался ими. Что бы это могло значить? Вдовец он и боится ее одну оставить дома? Но она всегда одна. Куда он с ней ходит? Не может же быть, чтобы он ходил с ней в присутствие? Что же она там делает, когда он пишет или переписывает бумаги?
Один раз, увидав их издали, я даже встал, поспешил выйти на улицу — посмотреть, куда он с ней ходит? Он зашел с ней в здание, занимаемое полицейским управлением.
«Пойти разве туда посмотреть, куда он с ней там ходит?» — подумал было я, но сам же сейчас рассмеялся своей глупости и повернул домой.
И после этого по вечерам я ходил гулять — и все она одна на окне.
Один раз она высунулась из окна, куда-то смотря необыкновенно сосредоточенно.
— А вот вы не упадите, — сказал я ей, проходя мимо.
Она точно и бог весть чего испугалась, спрыгнула с окна, отошла в глубь комнаты и смотрела оттуда на меня.
Мне даже неловко как-то стало, и назад я прошел уж не мимо этого домика, а повернул в какой-то переулок и обошел нарочно, чтобы только не встретиться.
На другой день, проходя мимо меня, она, я слышал, тихонько сказала: «Вот этот...»
Но он прошел все также с опущенной головой и не поднял на меня глаз. Я ни разу не видел его взгляда...
VIII
Наконец приехал мой знакомый, которого я дожидался и для которого жил уж здесь больше недели.
В первое же следующее утро мы принялись с ним писать разные проекты. Скоро нам потребовался писарь. Мой знакомый отправился отыскивать его в присутственные места.
— Ну, братец, какого я писаря достал — это удивительно, — сказал он, возвращаясь оттуда.
— Хорошо пишет?
— Я тебе говорю — удивительно, и что самое странное и чего я уж и вообразить не мог — представь, не писарь, а писарьша... Девочка тринадцати лет.
— Горбатая, — подтвердил я.
— Да. А ты знаешь ее?
— Не знаю, но по одному тут обстоятельству догадываюсь...
— Горбатая, да...
— Что же, она придет сюда?
— Завтра утром. Но почерк какой! Совсем мужской и, главное, замечательно красивый.
Но мы прождали ее с ним все утро — она не приходила.
— Надула она тебя.
— Да нет же.
— Ну отчего же нейдет?
— Не знаю, но только не надула. И не могла даже надуть. Мне рекомендовал ее исправник. Она очень бедная и рада работе.
Нечего делать, надо было опять идти доставать другого писаря.
— Да пойдем оба. Я тебя кстати и с исправником познакомлю — прелестный малый, — говорил мой приятель.
Исправник пригласил нас к себе наверх в кабинет и велел подать вина. Он устроил нам целое угощение, и так как беседа наша затянулась несколько, то он все посылал вниз за бумагами, ему их приносил какой-то Матвей Матвеевич, и он их подписывал.
— Дело с бездельем мешай — никогда ничего не испортишь. Вот я с вами беседую, а дела идут. Идут своим чередом — дела ведь тоже требуют движения... — говорил он, подписывая бумаги.
— Барышня-то эта нас надула ведь, не пришла. Обещала и не пришла, — сказал мой приятель.
— Да? — удивился исправник. — Это очень странно. Матвей Матвеевич, Липочка здесь?
— Никак нет-с, она дома занята: я вчера ей дал переписать.
— A-а. Ну так вот в чем дело! Вот кто виноват-то! — засмеялся исправник. — Она когда придет?
— Да теперь должна скоро прийти.
Мы пили уже вторую или третью бутылку, когда опять явился Матвей Матвеевич и доложил, что Липочка пришла.
— Зови ее сюда!
Через минуту Липочка, почти подталкиваемая Матвеем Матвеевичем, показалась в дверях.
— Липочка, — позвал ее исправник, — можешь переписать? Хочешь — хорошо тебе заплатят. Да чего ты? Поди сюда. Сюда, ближе.
Девочка подошла, не спуская с меня глаз.
— Что она на вас все так смотрит? Феномен ведь в некотором роде, ха-ха-ха... — смеялся исправник.
Мы стали ей говорить, что именно нам надо переписать и как скоро может она сделать.
Она посмотрела на Матвея Матвеевича.
— Я не буду ничего тебе эти дни давать, — сказал он, поняв, что она его спрашивает этим взглядом. — Берись, если хочешь, пиши, заслуживай.
— Берись, Липочка. Я уж тебе говорю, — сказал и исправник, — Больше нашего заплатят.
— Да она уж взялась, — сказал мой приятель. — Вот только не пришла-то сегодня.
— Ну, это Матвея Матвеевича вина. Больше он ей, вы слышали, эти дни не будет давать переписывать...
Мы сказали, чтобы она приходила непременно к нам — или вечером сегодня, или завтра утром, но только чтоб приходила наверно.
— Приду, хорошо, — проговорила она и, точно все еще боясь нас, быстро шмыгнула за дверь.
— Феноменальный ребенок! — начал опять исправник. — И можете представить — неизвестно, кто ее мать... Обыкновенно бывает наоборот — неизвестен отец. А тут наоборот: отец у нас же тут, в полицейском управлении, служит, а кто ее мать — никто не знает.
— Это как же так? — удивился я.
— А подите!..
— Может, она умерла?
— Ничего не известно.
— Да отец-то знает?
— Конечно, знает.
— И ничего не говорит?
— Ничего. Не скажу, говорит, и баста... Можно бы, конечно, узнать, да не хочется, знаете... очень-то уж наседать на него...
— Не надо, конечно. Ну, какое кому дело.
— То-то и есть. А человек он усердный и, знаете, этакий аккуратный, непьющий, ну я, признаться, и не трогаю его. Бог с ним. Ну кому какое дело?.. Но ребенок феноменальный! Совсем ребенок — и по мыслям, и по словам, да и так вообще, — но почерк!.. Матвей Матвеевич!..
Матвей Матвеевич явился.
— Есть у нас что-нибудь ею переписанное... девочки-то этой?
— Есть-с. Сейчас только принесла.
— Покажите.
Матвей Матвеевич принес, мы рассматривали все и удивлялись — действительно, удивительно.
— Талант, — сказал я. — У всякого свой.
— А, нет, — возразил опять исправник. — Талант талантом, но и выучка. Вы знаете, он ее с четырех лет начал учить... и выучил. Ребенок — но дни и ночи она у него просиживает.
— Она только болезненная, кажется, — заметил я.
— Болезненная — это верно, но зато и верный кусок хлеба у нее на всю жизнь теперь.
— А что это она... горбатая или сутуловатая, что это у нее?
— Это от сиденья у нее... Я вам говорю, с четырех лет он ее засадил.
— Это уж варварство.
Исправник вздохнул.
— То есть, как вам сказать?.. Вы не знаете их быта. Вы знаете, что писарь у нас получает?.. Ну, как вы думаете?
— Право, не знаю.
— Четыре рубля восемь гривен! А?! четыре рубля восемь гривен!.. Это при нынешней-то дороговизне! Ну-ка, попробуйте-ка, проживите-ка!.. Да еще с семьей! А ведь и он человек. Ну-ка, попробуйте-ка!
— Я видел домашнюю обстановку этой девочки, — сказал я, — я несколько раз проходил мимо окон их и видел. Страшная бедность.
— Это еще что! Это еще богачи. Он получает пять рублей, да она пятнадцать...
— Как? Она больше?
— И-и!.. Это уж так только пятнадцать. Ей по-настоящему двадцать цена. Ведь это, вы видели, разве это почерк — это литография!.. прописи!.. Да я не знаю, у нас и в канцелярии губернатора вы ничего подобного не найдете. Ну, а потом он ведь человек непьющий, расчетливый, даже скупой, ничего уж себе не позволит, копит!.. Прислуги не держит, сам все... Через два дня в третий готовят... Это еще что — это еще богачи!.. Вы знаете, у него деньги есть, конечно небольшие, — какие у него могут быть деньги?.. Ну, а все, я думаю, рублей триста опять уж в эти два года-то накопил.
— Триста рублей!
— Да-с — накопил уж наверно. А вы знаете, — он кивнул головой на видневшийся в окно заколоченный дом бывшего городского общественного банка, — в этой прорве он потерял два года тому назад все, что имел, — последние крохи, можно сказать: накопил в семь лет, как служит, восемьсот рублей и положил их — и лопнули... С ума он тогда чуть не сошел!..
Исправник вздохнул и, заметив, что мы всё уж допили и стаканы стояли пустые, опять крикнул было: «Эй!»
Но мы положительно отказались, распрощались с ним и пошли.
Наутро, в девять часов, мы только что встали и пили чай, пришел этот самый чиновник, которого я видел каждый день, и с ним сутуловатая девочка. Мы пригласили их к себе в номер, просили садиться, предложили чаю. Я стал отбирать бумаги, которые нам нужно было переписать.
— Липа, смотри... сюда смотри, — сказал он ей, когда она на что-то засмотрелась.
Она подошла ближе к столу и пальцы одной руки положила на край стола. Я случайно взглянул как-то на эти пальцы и невольно поднял на нее глаза и посмотрел: я не видывал такой величины рук у ребенка, — у взрослого, и то редко можно встретить такой длины пальцы, у нее же, у ребенка, это было положительное уродство. Она смотрела на меня с выражением какого-то необъяснимо боязливого чувства, точно ждала, что ее будут истязать сейчас, приняла руки и спрятала их под старенькую, светло-шоколадного цвета, накидочку, бывшую на ней.
— Вы садитесь, пожалуйста, — сказал я ей. — Чаю что ж вы?
— Она не пьет, — сухо сказал ее спутник.
— Отчего же? Ну, молока не хотите ли? — предложил я.
— Нет-с, благодарим покорно, — отвечал он тоном, не допускавшим новых предложений в этом роде: дескать, нет, об этом что уж говорить...
Я отобрал бумаги и, подавая, сказал:
— Вот-с это.
Не отвечая мне, он проговорил:
— Липа, смотри.
Девочка приблизилась опять к столу и, приподнявшись на цыпочки, сверху вниз смотрела на бумаги, как обыкновенно смотрят, или, лучше сказать, заглядывают, в какую-нибудь пропасть, провал, бездну.
— Какие вам надо раньше? — опять спросил он.
— Все равно. Все вместе нам будут нужны.
— К какому сроку?
— А как успеете?
— Липа, смотри, — повторил он снова.
Прошло с полминуты в молчании.
— Завтра к двум часам, — мертвым, могильным голосом, вырвавшимся из страшно надорванной груди, проговорила девочка.
— Так скоро нам и не нужно, — сказал я. — Вы не особенно трудитесь.
— Это все равно-с, — отвечал он за нее. — У нее есть еще работа — не вашу, так другую изготовит сперва.
И, обратись к ней, прибавил:
— Верно разочла?
— Верно, — прошептала она.
Они забрали бумаги и ушли.
— Ну, знаешь, — сказал я приятелю, — он ее просто, должно быть, истязает. Нашел какую-то сироту без матери и истязает ее. Ты обрати на это внимание, скажи-ка об этом твоему «добрейшему» исправнику. Это ведь ужасно. Этого видеть просто невозможно... Гарпагон какой-то, и как он запугал ее...
— А я все смотрел на нее и на него, — сказал он, — и она непременно дочь его. Огромное есть сходство.
— Да это все равно.
— Что ж ты тогда поделаешь тут — дочь!..
Мы занимались с моими приятелем опять весь день, весь вечер и кончили довольно уж поздно. Ночь была тихая, теплая; луна высоко стояла в небе, освещая сонный городишко с его жалкими улицами, пустырями, площадью...
— Ты не хочешь спать? Пройдемся! — предложил я.
Не знаю почему, но эта девочка сейчас же пришла мне в голову.
«А что она теперь, спит или сидит за нашей работой и пишет?»
— Пойдем по этой улице — тебе ведь все равно? — сказал я.
— Конечно.
— Вот в конце этой улицы, во-о-он направо низенький домик с высокой крышей — там эта девочка и живет. Посмотрим, спит она или нет?
— Конечно, спит: все спят, весь город спит, — говорил приятель, посматривая на окна домиков. Мы шли по-уездному, как ходят в уездных городах, то есть посреди улицы.
Мы подходили к домику, нас интересовавшему; в окнах, казалось, было темно.
— Спят, разумеется. Это только мы с тобой не спим, — опять повторил мой спутник.
— Нет, вон огонь, — сказал я, когда мы подошли ближе, — только не в этой комнате, не на улицу, а туда, вглубь.
Мы проходили мимо домика и вглядывались в его окна.
— Да, не спят. Оба не спят... Только, кажется, не пишут, а едят что-то.
Мы прошли шагов двадцать дальше и повернули назад.
— Пойдем теперь по тротуару — посмотрим хорошенько, что они в самом деле делают, — продолжал я.
Мы перешли на тротуар, подошли к окнам и приостановились на ходу, заглядывая в них.
Девочка в это время встала, отерла губы своими большими руками — на столе валялись какие-то обрезки, куски, подошла к нему — он сидел к нам спиной — и, нисколько не стесняясь его, без малейшей даже робости, скорее даже приятельски-покровительственно, как любят это делать дети с большими, показывая, что они взрослые, обняла его кругом шеи, коснулась его лица — должно быть, поцеловала — и, опять выпрямившись, рукой, которой она обнимала его шею, начала тихонько гладить его по голове.
Мы только переглянулись и пожали плечами.
В этот момент он начал подниматься со своего места и встал, потягиваясь и поднимая руки, расправляя их.
Мы отошли от окна.
— Что же это такое? — спросил приятель, с недоумением смотря на меня.
— Я уж тут ничего теперь не понимаю. Это...
Мы даже остановились с ним, отойдя от домика шагов десять.
— Да что ты думаешь?
— Я, право, и придумать ничего не могу, — сказал я.
— Да для чего ж ей было притворяться тогда... перед нами-то, что она его боится?
— Не понимаю... Впрочем, ведь она на нас с испугом-то смотрела, а не на него, — сказал я.
— И на него... все равно.
Мы пришли домой, улеглись спать.
Утором к нам явился с визитом исправник. Пришлось угощать его закуской, пришлось опять пить. Мы тоже должны были, по обычаю, удерживать его, когда он собирался уходить, и досидели так с ним до двух часов, когда пришла девочка со своим патроном и принесла готовые и переписанные бумаги.
— Здравствуй, Иуда Васильевич! — как-то радушно-добродушно воскликнул исправник, увидав их. — Здравствуй, Липа. Сработали? Да я знаю, вы — молодцы оба.
Вошедший человек остановился, сделав лишь несколько шагов в комнату. Девочка стояла рядом с ним, несколько отстав от него.
— Покажите-ка! — попросил исправник у меня бумаги, которые протянул мне чиновник.
Я дал их ему.
— Хорошо... Хорошо... очень... — повторял исправник, переворачивая листы и внимательно осматривая их. — И знаешь, Иуда Васильевич, что я тебе скажу? Мельче она еще лучше пишет.
На столе стояли закуски, вино, я и мой приятель стали опять их потчевать. Исправник присоединился к нам.
— Да выпей... Ну что тут... чего тут стесняться? — говорил он.
И, обращаясь к нам, добавил:
— Я вам, господа, рекомендую его и на будущее время. Во-первых, доброе дело, они люди небогатые, и потом — человек-то он хороший. Ведь если вам его историю рассказать — не поверите: это целый роман! Он по-настоящему-то писарем разве должен бы был быть? И-и!.. Это целая история, да еще какая! И в романах-то редко такую найдешь. Тут вот у нас, под самым городом почти; есть село Ровное, — вот где стан теперь, — это его, по-настоящему-то, должно бы было быть... Наследник-то настоящий ведь он...
— Да позвольте! — припоминая все вдруг, почти воскликнул я. — Да ведь мы с вами... Лысогорский. Василий Прокофьич, — вы знали его?..
— Сын его!.. Да как же!.. Это такая история. Да вы разве слыхали о ней? — кричал исправник.
— Вы знаете, я у тетушки Раисы Павловны в Ровном был, когда вы родились, — сказал я, беря Иуду за руку. — Я даже некоторым образом претерпел за вас... Как же, это целая история, я помню, была... И потом я вас, маленького, двухлетнего видел. Тетушка к нам приезжала с вами. Больше, скажу вам, помню: помню, как я еще у тетушки прощения вашей матушке выпрашивал. Она хохотунья ужасная была, и тетушка ее за это на колени все ставила, а мы с сестрой прощения за нее все просили... И та, бывало, прощала. Это в день раз по пяти бывало... Вот не ожидал-то!
Я уж прямо потащил его усаживать к закуске, подошел было и к Липочке, взял и ее за руку.
— Пойдемте, садитесь, что же вы?
Но она плотнее прижалась к нему, совсем закутав и завернув руки в свою шоколадную коротенькую накидочку, и с испугом, чуть не отчаянием, смотрела на меня.
— Иуда Васильевич, да прикажите же ей, ну что это такое? — сказал я.
Он позвал ее:
— Липа, иди... Что ж?..
— Вы знаете, когда мне в первый раз рассказывали эту историю, — говорил исправник, — я не мог поверить, как капитал в триста тысяч рублей, который у вашей тетушки-то был, мог пропасть бесследно. И ведь и в монастыре его нет. Предположить, чтобы его украли у нее, — нельзя. Нет его, и... как в воду!..
— Он найдется-с, — тихо и глухо, как бы сам с собою, проговорил Иуда.
— А, чепуха какая! — воскликнул исправник. — Ну что вздор этот рассказывать!..
И, обращаясь к нам, сказал:
— Уверяет, что если бы у него было три тысячи рублей, он его отыскал бы.
— Да как же это так? — спросил я.
— А уж так-с... Есть... тайна тут одна-с, — сказал Иуда.
Мне показалось, когда он говорил это, что в глазах у него что-то не в порядке, что он как будто сумасшедший.
Я молча вопросительно взглянул на исправника. Он кивнул мне головой в знак согласия.
— Ну что ж? Пей. Выпей же, Иуда Васильевич, — сказал он. — Выпьем с тобою.
Девочка уплетала закуски, крупно жуя всем ртом.
— Это вот-с какая тайна, — смотря на налитую и стоящую перед ним рюмку и как-то хитро — совсем как сумасшедший — улыбаясь, сказал Иуда и начал рассказывать что-то странное, с какими-то пропусками, умолчаниями, поминутно переходя от отчаяния к иронии, — и опять мрачное вдруг выражение в лице.
— А Подкопаев-то, что ж, не дает? — прервал вдруг его исправник.
Иуда молчал.
— Обещал дать денег и назад теперь? Да?
— Нету, говорит, — сказал Иуда. — Не дает.
— Подлецы они — эти купцы, — проговорил исправник.
— Деньги его-с, — ответил Иуда, — власть над ними его...
— Да все-таки подлец. Обещал, и назад.
Иуда, точно что вспомнив и точно боясь забыть это, вдруг встал; девочка, глядя на него, тоже встала.
— Вы уходите? Куда же вы так торопитесь? — спросил я.
— Нам надо-с, — ответил он. — Липа!
Девочка стала выходить из-за стола. Она сидела на диване.
— Прощай, Иуда Васильевич, — прощаясь с ним за руку, сказал исправник.
—В передней, получая от меня деньги и смотря на них, Иуда усмехнулся как-то многозначительно.
— Надо копить, копить... — проговорил он, хитро улыбаясь, и поднял одну бровь...
Он сделал то, что я потом дня два все не мог отделаться от воспоминаний о том времени: Василий Прокофьич, снегири, няньки, Евпраксеюшка, дядя, Марфуша, тетя Рая...
Все это ушло куда-то, остался один он — итог всего.
ПРАЗДНИК ВЕНЕРЫ
I
Недалеко от нашей деревни было большое село Знаменское, тысячи три душ. Нас, детей, отпускали с гувернерами и гувернантками кататься, и мы всегда просили, чтобы кучеру приказали ехать мимо Знаменского. Там, на горе, был большой белый каменный барский дом с колоннами, с бельведером[65] и множеством каких-то беседок и павильонов, очень красиво выглядывавших из темной зелени старинного и обширного сада. К саду примыкал парк, и в этом парке тоже были беседки и павильоны. Дом с усадьбой, сад и парк были на одном — крутом берегу реки, а на другом, на пологом, деревня — длинные и сплошные ряды низеньких, грязных мужицких изб.
Когда, катаясь, мы проезжали по деревне, из изб выходили бабы, мужики, ребятишки, становились в ряд и кланялись нам. Наша гувернантка-немка, Анна Карловна, и гувернер-француз, мсье Рамбо, всегда очень важно и милостиво отвечали им на их поклоны. Ни у нас в деревне, ни у кого из соседей этого обыкновения, то есть чтобы мужики выходили и кланялись, не было, и это нас занимало и удивляло.
— Отчего это только тут так?
— Оттого, что здесь народ вежливый; его учат этому.
Немка Анна Карловна говорила это таким тоном, что можно было понять, что это ей нравится.
В Знаменском никто не жил, то есть дом с колоннами, и флигеля, и все эти павильоны стояли пустые, с заколоченными окнами и дверями. Знаменское принадлежало какому-то Емельянинову — это мы знали, — очень богатому человеку, жившему постоянно в Москве и занимавшему там какой-то важный и почетный пост. Кроме Знаменского, у него были еще и другие имения в соседних губерниях, но на лето он переезжал из Москвы в свое подмосковное, где у него тоже были и дом, и флигеля, и даже свой театр; в прочие имения он не заглядывал. Этими имениями заведовали разные его управляющие и присылали ему с них доходы и оброки.
Знаменское таким пустынным я помню, когда мне было лет двенадцать. Потом, когда мне было уж лет четырнадцать, я помню его оживленным: в усадьбе движение, на дворе видны экипажи, народ, то есть ходят в красных рубашках кучера, конюхи, видны торопливо проходящие куда-то по двору повара в белых куртках и белых колпаках. В доме и флигелях окна уж не заколочены: там везде живут. Я помню даже и то, какие этому оживлению Знаменского предшествовали разговоры. К нам приезжали соседи и рассказывали, что, по слухам, в Знаменское скоро приедет Емельянинов, навсегда покидающий Москву, так как там у него вышла какая-то неприятная и скандальная история, и он поэтому вышел в отставку и поселяется в Знаменском. Он везет с собой свой оркестр, театр, балет.
— Каких это денег стоит!
— Но ведь у него и средства огромные. В Знаменском все с ног сбились. Богдана Карловича (управляющий) узнать нельзя; похудел даже.
Этого Богдана Карловича мы знали. Он приезжал к отцу и проходил прямо в кабинет. Когда мы тоже за чем-нибудь в это время приходили туда, мы его там видели. Он так смешно говорил по-русски. С нами он всегда здоровался по-немецки и спрашивал, как мы учимся. Я помню, все говорили про него, что он аккуратный и честный немец, хотя я помню также, что все говорили, что он страшно наживается. В Знаменском были оранжереи, теплицы, и он нередко привозил что-нибудь выращенное в них; привезет вдруг на масленице свежих огурцов, салат. Матушка очень благоволила к нему, и мы часто слышали: «Он славный немец!» Отец добавлял: «Только страшный плут».
Я как сейчас вижу Богдана Карловича. Лысый, плешивый, из-за ушей торчат белые пушистые волосы, лицо нежного, розового цвета, щеки толстые, жирные, большой подбородок, несколько отвислый, красные губы. На шее всегда белый галстук, на пальцах, толстых и коротких, множество колец. Росту он был небольшого и весь совсем круглый; очень большой был у него живот, а ноги короткие и кривые: панталоны на коленках вытянулись и оттого, по крайней мере на четверть от полу, не прикрывали сапог. Когда он шел, часто-часто семенил ногами, а руки держал растопыренными; казалось, что он боится упасть, и потому вот-вот сейчас упадет. Мы его не любили.
II
Был великий пост. В воздухе уж пахло весной; снег уж не был такой ослепительный, блестящий, как зимой, солнце пригревало, дни стали длиннее; нас чаще отпускали кататься; заложат тройку в большие ковровые сани, мы и едем.
— Мы поедем в Знаменское! Можно?
— Можно; поезжайте — все равно.
Однажды во время катанья, когда мы проезжали в Знаменском мимо усадьбы, оттуда выехал в санках в одну лошадь Богдан Карлович, увидал нас и начал что-то кричать нам. Кучер остановил лошадей. Богдан Карлович подъехал к нам, остановился и вступил в разговор с Анной Карловной и мсье Рамбо. Они говорили, а мы слушали.
— К первому мая непременно приедет. Театр уже приехал; вчера приехали актеры и актрисы, привезли декорации, вещи. Завтра и послезавтра приедет балет, — рассказывал Богдан Карлович. — Музыканты после всех приедут, — добавил он.
— Все тут, во флигелях, будут жить? — спрашивала Анна Карловна.
— Вот тут; в этом вот актрисы, в этом актеры, в этом балетные, — говорил Богдан Карлович, указывая рукой на тот или на другой флигель. — Одна есть какая в балете! — обратился он к мсье Рамбо, сложил пальцы руки в пучочек и поцеловал кончики их.
Мсье Рамбо улыбался. Анна Карловна сказала:
— Фуй, какой вы!
Богдан Карлович рассмеялся и продолжал:
— Что ж тут такое есть? Красива девушка: это очень приятно.
— И большой балет? — спросил мсье Рамбо.
— Пятнадцать девиц, и два балетмейстера при них. Будут ставить такие живые картины; летом в саду, под открытым небом, это очень будет приятно. Все девицы из рязанского имения набраны. Там очень красивый народ, особенно девицы — я там был в прошлом году — очень красивы. Хотите, приезжайте завтра, — сказал он мсье Рамбо.
— В какое время?
— Когда хотите, все равно.
Анна Карловна брезгливо улыбалась и повторяла:
— Фуй! Фуй!
M-r Рамбо и Богдан Карлович смеялись.
— Вот это я все Амалье Ивановне (его жена) скажу, все скажу, — грозила ему Анна Карловна.
— Амалье Ивановне? Да разве я ее боюсь? Амалья Ивановна все знает.
— Хорошо, я ей все расскажу.
— А я скажу ей, это неправда.
— Фуй! Фуй!
Мы все это слушали и, ничего не понимая, тоже улыбались, смеялись: Брат, который был еще моложе меня, тоненьким голоском закричал из саней:
— Богдан Карлович, а когда вы огурцов нам привезете?
— Огурцов? Завтра, душенька, я у папаши буду и привезу вам.
— Вы побольше привозите.
— Привезу много, больших, зеленых.
Богдан Карлович поболтал еще что-то, и мы разъехались.
Когда мы вернулись домой, мы сообщили все эти новости матушке.
— Он нам завтра огурцов привезет, много, много, — говорил брат.
— Мама, он говорил, актрисы уж приехали. Одна, он говорит, такая красавица, такая красавица! M-r Рамбо завтра поедет ее смотреть, — сообщал я.
Присутствовавшая при этом Анна Карловна говорила, что мы ничего не поняли и теперь рассказываем бог знает что. Матушка, однако, я заметил, несколько раз вопросительно посмотрела на Анну Карловну и сказала, что вовсе не для чего было нам останавливаться и разговаривать с «Богдашкой».
За обедом мы опять начали разговаривать про театр и актрис, но матушка сухо остановила:
— Довольно уж!
Следующий раз, когда мы начали проситься кататься, нас отпустили, но кучеру велено было ехать не через Знаменское, а по другой дороге.
— Отчего же не в Знаменское? Там веселее.
— Там вам нечего делать. Поезжайте в Алексеевку.
Мы надулись и поехали с кислыми лицами по скучной дороге. Сидевшая с нами Анна Карловна говорила:
— В другой раз не будете болтать чего не следует...
M-r Рамбо в свою очередь говорил:
— Сидите смирно, не высовывайтесь! На воздухе не следует говорить: можете еще простудиться. Потом еще за вас отвечай...
III
Так через неделю после этого у нас съехалось несколько человек соседей. Дамы сидели в гостиной, мужчины у отца в кабинете. Зачем-то я пошел к отцу и услыхал там такой разговор:
— Каждый день кто-нибудь ездит смотреть их. Две, говорят, действительно красавицы. Совсем как благородные! И манеры и руки. Руки у всех у них хорошие.
— Нет, я ездил с Михайлом Васильевичем, и когда Богдашка повел нас показывать их, я просто ахнул, ей-богу! Точно гувернантки какие. К какой ни войдешь в комнату — обижается. Михайло Васильевич — ведь вы знаете, какой он — одну взял за подбородок, так она как вырвется от него: «Кто, говорит, вам это позволил?» Мы просили Богдашку, чтоб он велел им в трико одеться и что-нибудь протанцевать, — не соглашается, боится, говорит, что, пожалуй, как бы ему за это не досталось; узнает Емельянинов — беда, он, говорят, страшный ревнивец.
— А эту вот, Марью Степановну, я бы у него купил, — сказал один сосед, — тысяч пять бы ему за нее дал. Совсем, я вам говорю, как благородная, ничего этого хамского, рабьего, и держит себя серьезно, скромно, с таким достоинством.
— Может, и продаст.
— Нет, ее он ни за что, говорят, не продаст, это, говорят, у него самая первая актриса; Марию Стюарт так играет, говорят, что хоть бы Рашели[66].
Я знал, кто такая Рашель. Отец получал много журналов, и к одному из них был приложен ее портрет; мы его рассматривали, и когда спрашивали, кто такая Рашель, нам говорили, что это великая актриса. Я поэтому знал, кто такая Рашель.
Они продолжали смеяться и говорили всё о том же и в том же роде.
— А что, господа, — спросил князь Кундашев, наш ближайший сосед, бывший гусар, уже седой старик, — видал кто-нибудь из вас Асенкову[67]? Вот если бы у него была хоть немножко похожая на Асенкову, эту и я бы купил, ничего бы я за нее не пожалел.
Портрет Асенковой, в беленьком платьице, с гладко причесанными волосами, в черной бархатной пелеринке, висел у отца в кабинете, и потому я знал и кто такая Асенкова. Но видавших известную в свое время знаменитую петербургскую актрису никого не оказалось тут...
— И кончится это все тем, что у него их всех растаскают, вот вы посмотрите.
— Это как же?
— Очень просто. Что ж он поделает?
— Ну вот вздор какой!
— Ничего не вздор.
— Конечно, вздор. Ну, вы увезете ее, а потом что ж станете с ней делать, прятать ее?
— И прятать не стану. Выдам замуж ее за своего кучера или повара — вот и конец; нельзя же развенчивать.
— Да, вот так разве...
— Конечно.
Тот, который был в восторге от Марьи Степановны и сравнивал ее с Рашелью, сказал, что она ему так нравится, что он — не отвечает за себя — готов даже сам жениться на ней.
— С ума вы сошли! — возражали ему.
— Устроить мне разве это к приезду его; приедет — и Рашели нет!
В кабинет я приходил за карандашом, за бумагой, давно достал, что мне было нужно, но продолжал рыться на столе, чтобы иметь предлог оставаться в кабинете и слушать разговоры. Отец наконец заметил меня.
— Что ты там возишься? Чего ты ищешь?
— Карандаш.
— Да карандаш у тебя в руках. Иди; тебе тут нечего слушать.
Я прошел в гостиную, где сидела матушка с дамами, и там разговор о том же.
— И вы, Екатерина Петровна, представить себе не можете, что это такое там у него! Миша, брат, ездил туда — ну, молодому человеку все извинительно, — и что потом он рассказывал! Нет, он может их для себя держать сколько угодно; но зачем же позволять, чтобы они принимали к себе посторонних? Этот старый дурак Богдашка, кто ни приедет, водит всех к ним, показывает их. Но что такое будет летом, говорят! В саду, говорят, будут устраивать живые картины, они все будут в одном трико!
— Кто же тогда поедет?
— Все, посмотрите, будут ездить.
— То есть мужчины?
— Понятно, не дамы.
— Найдутся и дамы, поедут... Я понимаю, музыку свою иметь, музыку — это очень приятно; можно, наконец, устраивать благородные спектакли. Но набрать горничных, лакеев и заставлять их перед собою играть — я этого не понимаю! Говорят, ему уж под семьдесят лет.
— Да, что-то около этого.
— И вот вы увидите, выберут еще в губернские предводители; при его состоянии, да они наверно выберут его!
Но мое присутствие тут было замечено и тоже найдено неудобным.
— Что ты тут делаешь? Ты бы пошел в детскую или классную. Где m-r Рамбо? Иди, мой друг, тебе нечего тут слушать.
Я успел, однако, составить себе некоторое представление о том, что такое их возмущает там. «Эти актрисы, — думал я, — должно быть, что-нибудь нехорошее, они там делают бог знает что. Но зачем же ездят туда смотреть их?..»
Вечером нас укладывали спать всегда в десять часов, так что мы не присутствовали при ужине. Сестры приходили прощаться с отцом и матушкой в сопровождении гувернантки Анны Карловны, а мы, то есть я с братом, — в сопровождении мсье Рамбо. Уложив нас спать, и гувернантка и гувернер потом приходили к ужину, и когда они ложились спать, мы давно уж спали. Этот день мне с братом пришлось идти прощаться без сопровождения мсье Рамбо: его не было, он куда-то исчез.
— А где ж мсье Рамбо? — спросила матушка.
— Его нет.
— Где ж он?
— Мы не знаем.
Она спросила у Анны Карловны. Та сказала, что тоже не знает. Начались справки, и стало известно, что мсье Рамбо уехал: за ним прислали лошадь из Знаменского, и он отправился туда, обещаясь скоро вернуться. Этим известием матушка была страшно возмущена. Она все повторяла:
— Это ни на что не похоже! Он еще начнет «их» оттуда с собой сюда таскать! Он туда детей когда-нибудь завезет! Они там бог знает чего, всяких мерзостей насмотрятся! — И наконец после всего объявила: — Я не желаю, если он даже возвратится оттуда, чтоб после этого он ночевал в одной комнате с детьми.
Нам с братом постлали постель в угловой на диване и уложили там спать.
«Отчего это он не может теперь спать с нами в одной комнате. Что ж, он разве оскверненный какой оттуда приедет?»
IV
Весна быстро приближалась. На реках посинел лед. В полях стали большие проталины, и полосы мокрой черной земли становились все шире и больше. Деревья стояли хотя и голые еще, но кора на них сделалась изжелта-зелено-серой, как всегда это бывает к весне. Грачи давно уж прилетели и по вечерам с криком вились над садом, собираясь усаживаться на ночлег. Везде вода, лужи, ручьи.
Прошло еще совсем уж немного времени, и начали рассказывать, что по вечерам слышали свист пролетавших уток.
— Прилетели! Теперь уж того гляди реки тронутся.
— Их не обманешь; раньше времени они не прилетят.
— Теперь скоро; лога уж прошли, дня через два и реки тронутся.
Вечером на реке услыхали шум. Это дед шумит, это река тронулась. Это самое хорошее время в году. В это время все ходят веселые, у всех на лицах надежда, бодрость, все ждут от будущего всего хорошего. Идут реки и в ясные дни, солнечные, идут и в серенькие, с дождем. Но уж как-то так всегда бывает, что через неделю после полой воды дождик, сильный, крупный, пройдет непременно.
— Земля омывается, — говорят мужики. — У хлеба корни омываются. Без дождя нельзя.
И вдруг сразу после этого дождя станет тепло, и все зазеленеет. Третьего дня вечером еще нигде не было зелени, а теперь уж, оказывается, и на земле что-то зеленеет, и на лес посмотришь — тоже зеленый стал, хотя сучья и ветки по-прежнему еще голые.
— Омылись и зазеленели.
В воздухе и на земле тысячи голосов. Слышатся и жаворонки, и воробьиные чириканья, и грачи кричат. На дворе тоже голоса: доносится резкий крик домашней птицы, на скотном дворе мычат коровы. Пахнет сырой, рыхлой, парной землей. Пахнет прелым деревом, сеном, навозом. Откуда-то доносится запах свежего печеного, горячего хлеба. И над всем этим синее, яркое, безоблачное небо.
Весна пришла.
Через неделю было уже совсем тепло. Все зазеленело. Показались листья. В низенькой яркой зеленой траве пестрели синие и желтые первые весенние цветочки. Нас пускали гулять и по цветнику и по саду, где угодно.
Однажды во время такой нашей прогулки, сейчас же после завтрака, мы увидели, что по дороге из Знаменского едет шагом целый ряд экипажей. Дорога у нас проходила через усадьбу, как раз перед домом. Отец в это время ходил по двору с кем-то из начальников — конюший, староста, наездник и проч., — тоже заметил приближающиеся экипажи и, продолжая разговаривать, смотрел на них. Мы наблюдали их из цветника.
— Кто это едет? — закричал я отцу.
— Никто не едет. Это едут в город из Знаменского экипажи за Емельяниновым.
Все мы — брат, сестры, гувернантка, француз-гувернер — стояли вдоль заборчика, окружающего цветник, и смотрели. Впереди ехала громадных размеров карета на высоких рессорах с козлами, отделанными бархатом и позументом с бахромой. Она была запряжена шестериком, с форейтором, вожжи зеленые, сбруя наборная, армяки на форейторе и на кучере зеленые, на запятках два лакея в длинных зеленых ливреях с позументами и с медными пуговицами. За каретой три тарантаса тройками, потом дроги, линейки, несколько телег. Когда весь этот поезд въехал к нам во двор, карета остановилась, и из нее преважно вылез Богдан Карлович и подошел к отцу. Кучера, лакеи и прочие, участвовавшие в поезде, сняли шляпы и шапки и так оставались с непокрытыми головами, пока не заметил этого отец и не велел им покрыться. Мы видели, отец, разговаривая с Богданом Карловичем, подошел к карете, заглянул в нее через спущенное окно, потом осмотрел лошадей. Богдан Карлович ходил за ним, переваливаясь и растопырив руки. Наконец он раскланялся с отцом и полез в карету. Двое лакеев с боков поддерживали его под руки и помогали ему влезть в нее. Поезд шагом тронулся дальше.
Через три дня, уж поздно вечером, этот же поезд проследовал мимо нашей усадьбы обратно. Было темно, разглядеть никого нельзя было. Видны были только фонари у кареты и огромный фонарь в руках у верхового, скакавшего впереди ее.
Емельянинов ехал к себе в Знаменское.
V
Очень скоро после этого к нам приехал «дядя Миша». «Дядя Миша» — двоюродный брат отца, высокий, полный мужчина лет сорока пяти, осанистый, несколько вялый на вид, серьезный, даже строгий, в сущности предобрейший человек, которого все в уезде любили и, как только он вышел в отставку, приехал из Петербурга о деревню и поселился в ней, его выбрали предводителем. Он был очень богат и по жене имел какие-то большие связи в Петербурге. К нам он обыкновенно приезжал всегда дня на два, на три, и в это время, мы, дети, не отходили от него.
Я был его крестником, любимцем, баловнем, и так как у него не было своих детей, то он просил и отца и матушку уступить ему меня, то есть чтобы меня отдали к нему жить, он будет меня воспитывать, потом платить за меня в училище правоведения[68], в которое тогда предполагалось меня поместить, и в конце концов сделает меня своим единственным наследником. Этот разговор начинался всякий раз, когда он приезжал к нам или мы бывали у него. Он ничем не кончался. Но некоторые уступки в этом направлении ему, однако же, делались. Так, например, он пожелал, чтобы я обучался английскому языку, и для этого на свой счет выписал для меня еще одну лишнюю гувернантку-англичанку. Меня отпускали с гувернером, мсье Рамбо, иногда недели на две, на три гостить к нему. По его настоянию, отец и матушка согласились на обучение меня верховой езде, чего они ужасно боялись. Он подарил мне пару пони и выписал из Москвы какого-то немца, который ежедневно между завтраком и обедом, в хорошую погоду, по получасу ездил со мной перед домом, обучая этому искусству. Были еще и другие выражения его любви и внимания ко мне.
Этот раз приехав к нам, «дядя Миша» сказал:
— Я к вам на минутку.
Все удивились.
— Почему?
— Надежда Васильевна (его жена) все что-то хандрит и послала меня, чтобы я непременно привез ей Сережу (то есть меня).
Но дядя все-таки остался у нас ночевать, и только на другой день после завтрака мы все втроем, то есть он, я и мсье Рамбо, отправились к нему в Михайловское.
Дорога шла мимо Знаменского. Подъезжая к усадьбе, я выглянул в окно карсты и увидал над барским домом развевающийся по ветру флаг. Это был первый флаг, который я видел не на картинках, а в действительности.
— Дядя Миша, что это, посмотри, флаг? — спросил я его.
Дядя лениво выглянул в окошко и проговорил:
— Флаг.
— Для чего его выставляют? — продолжал я.
— Это значит, что хозяин у себя, дома. А Емельянинов разве уж приехал? — обратился он к мсье Рамбо.
— Третьего дня, вечером, — сказал француз.
— Ты знаешь, дядя Миша, у него и актрисы, и музыканты, и живописцы, — начал я.
— А ты почем это знаешь?
— Богдан Карлович рассказывал. И все говорят. Ты вот спроси у мсье Рамбо. Как же ты не знаешь? Все знают, все ездят, смотрят их. Они уж давно здесь. Богдан Карлович всем их показывал.
Дядя ничего мне не ответил.
Мы проехали мимо усадьбы, проехали мост, дорога пошла селом. Из низеньких покривившихся избенок, по обыкновению, выходили бабы, мужики, ребятишки, становились в ряд и в пояс кланялись нам. Мы с дядей сидели в глубине кареты на первых местах, а мсье Рамбо перед нами на сиденье, спиной к кучеру; нас не было видно мужикам, но его они видят в окно кареты.
— Мсье Рамбо, будьте любезны, отвечайте им за меня на поклоны, — сказал дядя, — меня они не видят, а вам это удобно.
Мсье Рамбо с достоинством и с серьезной миной начал раскланиваться. Я посматривал то на него, то на дядю.
— На поклоны всех надо отвечать, — сказал мне дядя, заметив мои взгляды.
— Я всегда кланяюсь, — ответил я.
В конце села надо было проезжать плотину. Она была длинная, узкая, и тут всегда обыкновенно отпрягали пристяжных и выходили из кареты. На плотине навстречу нам попались несколько мужиков, остановились и сняли шапки.
— Вы емельяниновские? — спросил дядя.
— Емельяниновские, — ответили мужики.
— Ну что ж, рады барину, что он приехал?
— Известно, как же, рады.
— А видали вы его?
— Где ж его увидишь? Намедни, сказывают, видели, когда он на балкон выходил.
— А на деревне он у вас не был?
— Нет.
— Это самые разоренные мужики во всем уезде, — сказал дядя, обращаясь к мсье Рамбо. — Негодяй этот, управляющий его, совсем их доконал.
— Кто? Богдан Карлович? — спросил я.
Дядя посмотрел на меня и ничего не ответил.
— Вместо того, — продолжал он, — чтобы заводить балеты и театры, лучше бы Емельянинов избы им новые выстроил. Позорит имя дворянина. Половина деревни у него ходит-побирается Христа ради.
Мы прошли плотину. На конце ее нас ожидала карета, пристяжные были опять заложены. Мы сели и поехали.
VI
Я жил у дяди уж около недели. Однажды, перед обедом, когда мы с мсье Рамбо гуляли в парке, мимо нас (дорога в этом месте проходила парком) на полных рысях проехала, запряженная шестериком, уже знакомая нам емельяниновская карета. На этот раз на запятках ее стояли лакеи, расшитые еще более позументами; на головах какие-то, невиданные мною, трехугольные шляпы.
Вернувшись к обеду домой, мы узнали, что у нас гость. Лакей, который сообщил нам об этом, назвал Емельянинова «тайным советником[69]», и я живо помню, что я долго ломал себе голову над этим названием, все связывая его с представлением о каких-то тайнах, прежде чем мне объяснили и я понял наконец, что это так, звук пустой.
Хотя дядя и жил открыто, на широкую ногу, постоянно у него был большой съезд и вообще и сам считался аристократом, но появление Емельянинова вызвало в доме все-таки сенсацию. Тетушку я застал в коричневом шелковом платье со шлейфом, необыкновенно шуршавшим, на голове тоже какой-то необыкновенный чепчик с широкими пестрыми лентами. Даже говорила она и отдавала приказания как-то особенно, совсем не так, как всегда, гораздо торжественнее, величественнее. На меня почему-то тоже надели самую новенькую курточку, голову мне напомадили, причесали, и когда лакей пришел и доложил: «Кушать готово-с», мсье Рамбо, тоже освеживший свой туалет и шевелюру, взял меня за руку и повел в залу. Мне показалось, что и он шел при этом как-то особенно — не шел, а точно танцевал кадриль.
Мы застали дядю, тетушку и «тайного советника» уже сидящими за обеденным столом. Тетушка большой серебряной ложкой наливала из миски суп в тарелки, и мне показалось, что она это делала не так, как всегда, а гораздо торжественнее, как бы совершая какое-то священнодействие — не суп наливала она, а делала возлияние. Возле нее я увидел остроносого, худого, с слезящимися, мутными голубыми глазами старика, совершенно уж белого, с нежно-розовым лицом. Сухая, деланная улыбка его произвела на меня крайне неприятное впечатление.
— Это ваш сынок? — спросил он, увидав меня и повертывая голову то к дяде, то к тетушке.
— Нет, это мой племянник, — сказал дядя, — сын моего брата, вашего ближайшего соседа.
Я шаркнул ножкой и сел на свое место. Мсье Рамбо сделал также какой-то особенный поклон и поместился со мной рядом.
— Я еще никому не делал визитов, — продолжал старик. — У вас я у первого, как у нашего уважаемого предводителя...
В это время салфетка, конец которой у него был заткнут за галстук, свалилась к нему на колени, и я увидал две большие звезды, одна над другой, пришпиленные к левой стороне его фрака. Он торопливо опять закрыл грудь салфеткой и начал есть суп, низко наклонясь над тарелкой. Я смотрел на его розовую лысину, на белые, мертвые, точно на кукле, какие-то отставшие от головы волосы, на худые и костлявые старческие его пальцы с длинными ногтями. Салфетка, должно быть, мешала ему, и он придерживал ее на груди левой рукой; на одном из пальцев этой руки был огромный перстень. Мне не понравилось и то, как он ел. Он часто-часто плескал ложкой суп из тарелки к себе в рот, но суп опять попадал в тарелку. Я с брезгливой гримасой смотрел на него. Дядя заметил это и глазами показал мне, чтобы я не уставлялся так. Когда подали какой-то соус, он опять весь перепачкался.
После жаркого начали разносить шампанское. У дяди его подавали всегда, все равно, был ли кто на обеде посторонний или нет; лакей с бутылкой, обернутой салфеткой, являлся непременно. Когда розлили вино, старик взял свой бокал и, сделав лицо еще более сладким, предложил тост за здоровье тетушки. Потом пили за его здоровье, потом еще, кажется, за дворянство или за дядю, и я заметил, что скоро на розовых, старческих щеках «тайного советника» проступил нежный, юношеский румянец, а глаза увлажнились и посоловели.
Разговор шел о том, как это он решился оставить шумную столичную светскую жизнь и поселиться в деревенском уединении. Он сказал в ответ какое-то четверостишие, где упоминалось о музах, о лире и т. п., и стал объяснять, что высокое положение, которое он занимал до сих пор по службе, все время только лишь тяготило его.
— Музы! Служение музам! Я всегда окружал себя... Поэты, художники, живопись, музыка, театр...
Тетушка умиленно смотрела на него и слушала, точно он говорил что-то необыкновенно умное.
— И здесь, в тиши уединения, вдали от света, от которого я бежал... — продолжал он меланхолично-грустно, то и дело вытягивая паузы и опуская глаза.
Тетушка вздохнула и сказала:
— У вас, мы слыхали, здесь будет театр свой, балет, оркестр?
— О, это единственное, что меня может еще занимать! Искусство для меня все!
Тетушка высказала предположение, что это, должно быть, стоит огромных денег.
— Я ничего для него не жалею, — отвечал он, — никаких расходов. Я одинок. После моей смерти, согласно моему завещанию, все принадлежащие мне музыканты, живописцы, актеры и прочие получат волю. Многие из них несомненные таланты и со временем, я убежден, достигнут известности и даже славы. Я утешаю себя тем, что отчасти виновником этого я могу считать себя.
— О, они этого не забудут, они не забудут того, что вы сделали для них! — воскликнула тетушка как-то особенно восторженно.
Она вообще была, как все это говорили, глупа. Дядя слушал разговор молча, серьезно, даже строго.
— А какие есть между ними способные натуры! — опять воскликнула тетушка. — Конечно, у кого же есть возможность давать им такое образование!
Дядя, поглядывавший все время молча, с какой-то странной улыбкой, то на нее, то на него, при этих ее словах вдруг сдвинул брови и серьезно проговорил:
— А вы, ваше превосходительство, — извините за вопрос, — были вы у себя в деревне?
Старик поднял на него голову.
— Нет.
— Сходите или съездите как-нибудь, посмотрите.
— Я проезжал. А что?
— Так, после обеда я вам кое-что расскажу.
Тетушка с удивлением, почти с ужасом, посмотрела на дядю. Старик, очевидно не понимавший, в чем дело, взглядывал то на нее, то па него, наконец спросил по-французски:
«Они» чем-нибудь недовольны?
— После я вам скажу, — по-французски же ответил дядя.
Я вспомнил его разговор с мсье Рамбо на плотине и был убежден, что дядя будет с ним говорить именно о том же.
VII
Обед кончился; все встали. Кофе дядя велел подавать в кабинет, куда он пошел вместе с Емельяниновым.
— Ах, этот Михаил Дмитрич! — сказала тетушка как бы про себя, провожая их туда глазами.
Мсье Рамбо не расслышал, предположил, что это она к нему обращается, и спросил, что ей нужно.
— Я говорю, что за странный человек Михаил Дмитрич, — повторила она, — Емельянинов у нас первый раз в доме, и он не нашел сказать ему ничего более любезного, как то, что у него мужики разорены. Я ведь знаю, наверно он об этом будет ему говорить.
— Да, и я то же думаю, — сказал я.
Она посмотрела на меня с удивлением.
— Почему?
— А потому, когда мы ехали, дядя говорил об этом мсье Рамбо.
— Дядя думает, что распустить их так, как они распущены у него самого, лучше. Первые разбойники в уезде, делают что хотят! Он все ждет от них благодарности; точно это люди! — добавила тетушка.
Она сделала презрительную гримасу и, шурша своим шлейфом, направилась в гостиную.
— Это совсем не ваше дело было вмешиваться в этот разговор, — сказал мне мсье Рамбо. — Вы еще мальчик, и до вас это нисколько не касается; вы даже понимать этого еще не можете.
Через час или через два после обеда Емельянинов уехал. Проводив его, все собрались на балконе. Тетушка вздумала сделать замечание дяде, зачем он говорил с ним об его мужиках.
— Точно вы не могли найти другого разговора!
— Да? — странно рассмеявшись, спросил дядя. — А я думал, что это для него самый любопытный разговор. Он ведь такой меценат, благодетель: он должен быть мне благодарен, что я указываю ему на нуждающихся в его помощи, тем более что эти люди так близки ему.
— Те, которые получили хоть какое-нибудь образование, — музыканты, живописцы, актеры, — да, они могут еще его понять, он еще может их к себе допустить, приблизить. Но как же это могут быть близки ему эти? Ведь это же животные! Им что ни делай...
Дядя уже привык к подобным замечаниям тетушки, слушал ее рассеянно-скучно и наконец сказал:
— Ну, довольно!
Но она что-то опять начала ему возражать.
— Пожалуйста! Я прошу! Довольно! — уж с досадой сказал он.
Тетушка не унималась и продолжала.
— Да ведь это же старый развратник — и ничего больше! Все эти балеты, театры — все у него для одного разврата! Неужели ты, матушка, этого не понимаешь?
Дядя встал и, ничего не отвечая ей на ее дальнейшие возражения, направился к ступенькам балкона, спустился по ним и, заложив руки назад, пошел через широкий газон в глубину сада. Наступило общее молчание.
VIII
Наконец мне надо было ехать обратно домой. Сам дядя почему-то не мог ехать со мною, как он этого хотел, и меня отправили одного, то есть с мсье Рамбо.
На этот раз он поместился в карете рядом со мною и устроился притом гораздо комфортабельнее: сел поглубже в угол, а ноги протянул на переднее сиденье. Мы проехали несколько верст, и он заснул. Он спал всю дорогу, только поворачивался с одного бока на другой.
Так мы доехали до Знаменского. Перед плотиной карета остановилась. Кучер с лакеем и форейтором, я слышал, держали какой-то совет. Потом лакей Никифор подошел к окну кареты и сказал, что выходить нам незачем: плотину поправили, сделали шире, и пристяжных отпрягать не будут.
— Спит, — сказал Никифор, посмотрев на мсье Рамбо. — И во что это только он спит! Целый день готов спать. Мусье Рамбо. А мусье!
Я остановил Никифора.
— Не нужно, пускай спит.
— Да ведь сейчас домой приедем. Маменька увидит у него заспанное лицо: гневаться, пожалуй, будет, скажет, что никто не смотрел за вами...
Но я все-таки настоял, чтобы мсье Рамбо не потревожили. Мы переехали плотину, от соломы мягкую, как пуховик. Дорога пошла селом. Опять, по обыкновению, из изб торопливо выходили и выстраивались у дверей мужики, бабы и ребятишки и кланялись карсте.
Чтоб кому-нибудь отвечать на их поклоны, я пересел на переднее сиденье и кивал головой направо и налево.
Все Знаменское, я уже сказал, вытянуто в одну длинную улицу. На одном конце его плотина, вот которую мы сейчас переехали, а на другом — мост, переезжать который нам предстояло. Затем уж начиналась барская усадьба.
На этом мосту никогда пристяжных не отпрягали, из кареты не выходили, а проезжали его обыкновенно рысью; мост был отличный. Но на этот раз, въехав на мост, лошади пошли почему-то не только шагом, но еле-еле с ноги на ногу. Я высунулся в окошко, заглянул вперед и совершенно неожиданно с удивлением увидал совсем непонятную мне картину. Впереди нас, в ширину всего моста, шло целое общество каких-то дам в шляпках, в мантильях, с зонтиками, было между ними и несколько мужчин в пестреньких сюртучках и в соломенных шляпах с широкими полями — всего человек, я думаю, тридцать, если не больше. В это время в окошечко кареты, которое позади козел, оборачиваясь и нагибаясь ко мне, лакей Никифор, сидевший рядом с кучером, окликнул меня и сказал:
— Извольте посмотреть: генерал с актерками своими с прогулки идет. В окно извольте посмотреть! Только поосторожнее, не упадите! Мусье Рамбо!
— Не нужно, не буди его, Никифор, — сказал я, высовываясь в окошко и заглядывая вперед.
Все общество было шагах в сорока, в пятидесяти впереди нас. Мы ехали за ним, как едет обыкновенно экипаж за господами, которые вышли пройтись, погулять. Некоторые оборачивались на нас и посматривали. На самом уж конце моста все общество разделилось, остановилось и выстроилось вдоль, перил, очевидно чтобы дать дорогу нам проехать. Между молоденькими девушками или дамами, в боленьких кисейных платьицах, в соломенных шляпках с цветами, я, увидал знакомую уже мне фигуру Емельянинова. Он был теперь в светло-палевом летнем костюме, тоже в соломенной шляпе, и на шее его был повязан яркий, пестрый шелковый платок, концы которого висели большим небрежным узлом. Я сел на свое место, откинувшись в угол, и оттуда посматривал, Мсье Рамбо продолжал спать.
Когда карета совсем поравнялась с Емельяниновым, он что-то спросил у кучера — я это слышал, но не мог разобрать что, — стал смотреть в карету, увидал меня и, очень любезно улыбаясь и кивая мне, послал рукой поцелуй. Я снял мою матросскую фуражку — меня водили моряком — и раскланялся. Емельянинов опять что-то, я услыхал, сказал кучеру, и вслед за тем карета остановилась. Емельянинов шел к нам.
— Мсье Рамбо! Мсье Рамбо! — закричал я, расталкивая француза.
Но было уже поздно: Емельянинов стоял у самого окна.
— Вы куда это, молодой человек, домой возвращаетесь? — говорил он.
Я растерянно что-то отвечал ему, путал. Мсье Рамбо, наконец проснувшийся, со сна ничего не понимал, поправлял волосы, тер заспанное лицо и торопливо повторял:
— Что такое? Что такое? А?
— Успеете еще домой. Пойдемте ко мне чай пить! Вечер такой чудесный! Заходите, мой юный друг! Что я вам покажу! — продолжал Емельянинов.
Я не знал, что ему отвечать, смотрел на него, глупо улыбался. Но, я помню, мне ужасно хотелось зайти, посмотреть, что и как это там у него устроено.
— Пойдемте, мой юный друг! — опять повторил Емельянинов и сам отворил дверцу кареты.
Мсье Рамбо между тем совсем уже очнулся и что-то скоро начал говорить ему, то и дело называя его «вашим превосходительством ».
— Ничего! — отвечал Емельянинов. — Успеете. Скажете, что это моя вина, что это я настоял. Пойдемте!
Мсье Рамбо и я вышли из кареты.
— Поезжай на барский двор! — крикнул нашему кучеру Емельянинов.
Карета поехала, а мы с мсье Рамбо остались с Емельяниновым и его обществом.
— Ну, идемте! — сказал Емельянинов, и мы тронулись. — Вы от Михаила Дмитрича возвращаетесь? — спросил он.
— Мы у него прогостили две недели, — отвечал мсье Рамбо. — Теперь домой пора; ему заниматься надо.
— Ну, уж какие это занятия летом! Летом надо дышать воздухом, кататься, купаться. Занятия — на это есть осень, зима, — говорил Емельянинов. — Так ведь? Правду я говорю? — обратился он ко мне, обнимая меня за талию.
Я что-то отвечал, вроде «конечно», «да».
— Вы чаще приезжайте ко мне. Ведь это так близко! Два раза в неделю у меня театр, балет. У меня много картин, целая галерея, библиотека. У меня много хорошеньких барышень; за ними можно ухаживать. Вам который год?
— Четырнадцать, — проговорил я.
— А какой вы большой! — удивился он. — Я думал, вам лет пятнадцать по крайней мере. Ну, все равно. Вы любите хорошеньких? Ухаживать за ними любите? Вот посмотрите, какие миленькие. Александрин! Нити! Мари! Подойдите сюда, к нам, — сказал он, оборачиваясь назад.
Две-три девушки в беленьких платьицах приблизились, почтительно улыбаясь.
Я был, может быть, действительно и выше и мужественнее, чем обыкновенно бывают дети в этот возраст; но наивен, неловок и застенчив я был до последней степени. Я растерялся, покраснел и не знал, что мне говорить, куда смотреть. Емельянинов же, оставив меня с девушками, пошел вперед с мсье Рамбо, о чем-то его расспрашивая или рассказывая ему. Девушки шли около меня и задавали мне вопросы, люблю ли я гулять, кататься, собирать цветы, люблю ли я музыку, театр.
Я отвечал: «да», «нет».
— А в жмурки вы любите играть?
— Да, — сказал я.
— Вот ужо, после чая, будем играть, — сказала одна из них. — Я вам завяжу глаза крепко-крепко...
— И вы будете нас ловить, — продолжала другая.
Я что-то им отвечал.
— Это ваш гувернер? — спросила меня одна из них.
— Да.
— Француз?
— Да.
— Какой красивый! Катя, помнишь? — уж обращаясь к своей подруге, тихонько хихикая и шепотом почти, сказала она. — Помнишь мсье Ришара в Москве? Я сперва подумала, что это он. Я даже испугалась, когда увидала...
И потом, снова обращаясь ко мне, сказала:
— У нас весело; вы почаще приезжайте к нам.
Мы подошли к саду. Ожидавший нас садовник отворил решетчатые ворота, и мы начали входить в прохладную, густую тень лип, кленов, берез. Вдали, на концах аллей, сквозь зелень белели павильоны, храмы, беседки и самый дом с огромным балконом и множеством толстых белых колонн. Дорожки были усыпаны свежим красным песком. Кое-где стояли зеленые скамейки и белые, правильнее серые, потрескавшиеся и потемневшие от времени статуи и бюсты. Мы шли, направляясь к дому. Перед домом расстилался большой газон, посреди него клумба с цветами и в ней статуя нагой женщины.
Сейчас на балкон подадут чай, фрукты, варенье, конфекты, а потом будем играть в жмурки. Потом, перед ужином, маленький балетик. Вы останетесь у нас ночевать? Скоро станет темнеть, куда ж вам ехать ночью! — спрашивала меня девушка.
— Я не знаю. Нам надо домой, — отвечал я.
— Успеете! Все равно завтра утром приедете.
Мы дошли до газона, у которого уже стояли, поджидая нас, Емельянинов и мсье Рамбо, окруженные женщинами.
— Ах, Катя, какой он красавец! Ну, совсем, совсем мсье Ришар! — всматриваясь в моего гувернера, говорила одна девушка другой.
— Говори, говори! Уж ты договоришься! — отвечала ей подруга.
А ты думаешь, я боюсь? Ни вот на сколько! — и она □оказала ей кусочек пальца. — Ах, батюшки, скажите, пожалуйста! Да нисколько я не боюсь, и все тут!
Мы подошли наконец настолько близко, что спор у них прекратился.
— Нравится вам сад? — спросил меня Емельянинов.
— Очень.
— Теперь пойдемте в дом; я вам дом покажу.
Все общество осталось на ступеньках широкой террасы или балкона, а мы, то есть Емельянинов, я и мсье Рамбо, пошли через широко, настежь отворенную стеклянную дверь в обширный темный зал с колоннами, хорами, люстрами. Вдоль стен стояли низенькие диванчики на золоченых ножках, крытые малиновым бархатом. Темный паркетный пол был навощен до того, что по нем трудно даже было идти. Я с любопытством посматривал по сторонам. Из этого огромного зала прошли в другой, тоже с колоннами и люстрами, но меньший. Потом начались гостиные. Потом какие-то комнаты с диванами, стены их от полу до потолка увешаны картинами, до того темными, что ничего не разберешь, только можно видеть темный квадрат и кругом него золотую раму. И таких комнат мы прошли много, и все они наполнены картинами.
— Здесь есть замечательные вещи, — поглядывая на картины, говорил Емельянинов. — Здесь есть картины, подаренные деду Елисаветой Петровной, Екатериной Великой. Он был ведь лейб-кампанцем[70]. Елисавета Петровна очень благоволила к нему. Но зато Разумовский[71] ненавидел его...
Емельянинов при этом почему-то захихикал.
— Я вам покажу портрет деда; он снят в полной парадной тогдашней форме. Теперь темно становится: надо велеть свечи зажечь.
В комнатах становилось, действительно, уж порядочно-таки темно. Мы шли всё дальше, изредка останавливаясь перед каким-нибудь портретом, резным необыкновенным шкафом, часами, вазами.
— А теперь пойдемте наверх, в библиотеку, — сказал Емельянинов, когда мы подошли к какой-то узенькой, винтообразной деревянной лестнице.
Он пошел вверх, за ним я, а за мной мсье Рамбо.
Библиотека эта была огромная комната, по стенам которой с полу до потолка стояли сплошные шкафы с книгами, посредине комнаты большой, длинный письменный стол, на котором глобус, большая чернильница, перья, карандаши и бумага. Емельянинов, остановившись и обводя глазами шкафы, сказал мсье Рамбо:
— Это редкая библиотека, здесь собрана почти вся французская литература прошлого столетия.
Мсье Рамбо почтительно выслушал и тоже стал смотреть на шкафы.
— Приезжайте ко мне, приходите сюда, запирайтесь, читайте — вам никто не помешает.
Он поговорил еще что-то и, сказав, что теперь поведет нас в театр, пошел опять к лестнице и начал по ней спускаться.
Театр, то есть зала со сценой и с рядами кресел, был внизу, в том же этаже, где и другие залы, с блестящими паркетными полами, с люстрами и проч., которые мы уже осматривали; он и помещался где-то недалеко от них. Когда мы шли, я узнавал знакомые переходы, комнаты. Теперь стало гораздо темнее, почти уж смерклось. Когда мы достигли театрального зала и перед нами распахнулись обе двери, я увидал темное, глубокое пространство, откуда на нас пахнуло прохладой и воздухом нежилой, запертой комнаты.
Я остановился в дверях.
— Тут ступенек нет. Ничего, не бойтесь, идите, — сказал Емельянинов.
Я пошел за ним и за мсье Рамбо, которому Емельянинов что-то качал рассказывать и объяснять, смотря и указывая на потолок зала. Я понял из его слов, что там, на потолке, нарисована какая-то картина, замечательная в художественном отношении, но что ее ложно и ошибочно считают непристойной и безнравственной. Что это была за картина, я ничего не мог разобрать, так как за темнотой виднелись какие-то фигуры, группы — ничего не было видно. Емельянинов объяснял также, показывая рукой в глубь зала, откуда и где выходы, где там, на конце зала, за стеной, помещаются уборные для актеров и танцовщиц и проч. Я с любопытством слушал. Это был первый театр, который я видел в моей жизни. Темнота и тишина, царствовавшие там, произвели на меня сильное впечатление.
— Очень хорошо! Очень! — повторял все мсье Рамбо, оглядываясь во все стороны.
— Да, но это хорошо все при освещении, — отвечал Емельянинов, — а так, никакого эффекта так нет.
Затем мы вышли из театра, причем Емельянинов сказал что-то относительно воздуха и вентиляции лакею, отворявшему нам двери, и мы опять пошли из комнаты в комнату. Но это были уже другие комнаты, которых мы еще не видали, и вдруг очутились в той, из которой дверь вела на террасу или на балкон.
IX
Странная и невиданная картина представилась мне, когда мы снова вступили на террасу. Сначала я ничего не мог понять, так как не разобрал, что это такое. Были уж совсем сумерки, быстро темнело, и я различал только людей внизу террасы на лужайке, но что они делали, я не мог понять. И потом, они в каких-то странных костюмах. Мне показалось, что они даже полуодетые, почти голые — не успели до нашего прихода одеться и теперь бегают. И были тут и женщины, и дети, и мужчины. Но потом, вглядевшись, я заметил, что они бегали и суетились не затем, чтобы поскорее одеться при нашем приходе, — они играли или что-то делали, представляли. На картинках я несколько раз видел танцовщиц, нарисованных в коротеньких юбочках, и мало-помалу стал скоро догадываться, что это и есть представление. Женщины с голыми, как мне это казалось, ногами, маленькими шажками перебегали с одного места на другое, принимали различные позы; мужчины, одетые тоже в какие-то коротенькие курточки и тоже с голыми ногами, подхватывали их за талии, те перегибались и при этом, стоя на одной ноге, другую подымали высоко-высоко. Потом они все собирались вместе, образовывали одну большую группу и опять вновь разбегались по лужайке. В вечерней полутьме, летом, под открытым небом, это было нечто удивительно оригинальное и чего я не видывал до тех пор.
Незаметно, следя за представлением, мы спустились с балкона вниз и присели на ступеньках.
Я очнулся уж, когда сидевший рядом со мною Емельянинов обнял меня за талию и проговорил:
— Вы любите балет? Нравится он вам, мой юный друг? Я вижу, вы поглощены зрелищем...
Шагах в десяти — пятнадцати от нас, на лужайке, полуобнаженные женщины собрались в группы, переплелись руками и, вдруг развернувшись длинным рядом, то наступали на нас, то опять отступали, танцуя и взмахивая ногами.
Я чувствовал, что у меня вся кровь бросилась в голову, щеки горят и я как-то особенно дышу. А сбоку на меня смотрел улыбающийся Емельянинов — я видел эту улыбку ранее на какой-то статуе — и спрашивал:
— Вам нравятся танцы, мой юный друг? А? Хорошо? Ах, что бы я дал за ваши годы! Вам нравится?
— Нравится, — проговорил я.
Я оглянулся и увидал моего гувернера, мсье Рамбо. Он сидел недалеко от нас, тоже на ступеньках, и, следя глазами за танцующими, время от времени слегка глухо покашливал, как бы у него пересохло в горле.
— Мой юный друг, — продолжая не то смотреть на меня, не то любоваться мною, сказал Емельянинов, — вы любили в жизни? Вы испытали любовь? Нет? А?
Я ничего не ответил ему, потому что я не понимал, что со мною он делает, показывая мне все это.
А он продолжал:
— Вы не испытали любовь? Нет?
Он продолжительно, все так же улыбаясь, посмотрел на меня еще, потом вынул из своего бокового кармана платок и махнул им.
Танцы вдруг прекратились. Все танцовщицы, оправившись, медленно пошли к нам; вскоре нас обступило десятка два женщин, тяжело дышавших и оправлявших свои коротенькие юбочки и растрепавшиеся прически. Они, одна по одной, немного погодя все расселись тут же, по ступенькам террасы.
Емельянинов, улыбающийся и радостный, посматривал на них, некоторых гладил по головке, когда они подходили к нему, брал за подбородок, ласково трепал но щекам и проч, и вдруг, обращаясь ко мне, спросил:
— Вам, мой юный друг, больше нравятся блондинки или брюнетки?
И, не дожидаясь моего ответа, продолжал:
— У самих у вас волосы темные, почти черные, стало быть вы должны любить блондинок. Вы молоды, стало быть вы должны любить полных и высоких. Кити!
Сидевшая недалеко от нас танцовщица, с распущенными густыми светлыми волосами, в которые были вплетены листья, и такие же листья были пришпилены и на ее коротенькой юбочке, поднялась с своего моста и, улыбающаяся, подошла к нам.
— Кити, вот молодой человек, мой юный друг, еще не испытавший любви. О, какая это сладость! Я вверяю его вам. Умейте поймать его в ваши сети! — сказал Емельянинов, взял ее руку и положил ее в мою, которую взял у меня почти насильно, и затем, обращаясь ко мне, сказал:
— Вот рыбачка-русалочка, которая вас увлечет и поймает в свои сладостные сети, а вы старайтесь уйти, избегнуть. Идите же, играйте и резвитесь!
И, взяв нас обоих за руки, он как бы оттолкнул нас от себя в глубь сада. «Рыбачка-русалочка» крепко схватила меня за руку и побежала, увлекая за собой. Я упирался, но она с хохотом тащила меня. Мы отбежали от балкона на порядочное расстояние, то есть перебежали всю лужайку, и остановились в темноте под ветвями высоких, раскидистых лип и кленов. Затем она побежала опять, увлекая меня за собой. Наконец мы совсем остановились. Она знала, где тут скамейка, подвела меня к ней, села сама и заставила сесть с собою рядом и меня, затем, не выпуская моей руки из своей, она другой рукой обвила меня вокруг шеи и начала тихо-тихо, точно нашептывая что и передавая мне, целовать меня в губы. Я помню только, что в голову мне в это время пришла мысль о русалках, — не настоящая ли уж эта?
X
В доме и на балконе горели огни. От нас, из темноты, они виднелись так приветливо и красиво. На балконе видно было несколько балетчиц. Они собрались все вокруг большого круглого стола, обступили его, некоторые облокотились на него и о чем-то говорили, спорили; юбочки их высоко оттопыривались, и можно было видеть их ноги, обтянутые в розовое трико. Но ни Емельянинова, ни мсье Рамбо не было между ними, пи вообще па балконе и нигде кругом; балетчицы, несомненно, были одни — они их покинули, ушли от них,
— Где они?
Я заметил это моей «рыбачке-русалочке». Та рассмеялась и сказала:
— А нам какое дело до них?
И она опять обвила меня вокруг шеи рукой, но теперь уже не так порывисто, прижалась ко мне лицом, и мы оба молча сидели. Я слышал, как она дышит.
— Вы уж больше меня не любите? — шепотом спросила она меня.
Я вздохнул.
— Нет? Больше уж не любите?
Она тихо подняла на меня лицо свое и смотрела, как бы дожидаясь ответа.
— Люблю, — проговорил я.
Тогда она потянулась ко мне, пригнула к себе мою голову и опять, так же точно передавая мне что или нашептывая, начала тихо, медленно-медленно целовать меня в глаза, в губы, едва-едва отрываясь, чтобы дышать. Сколько это все продолжалось, я ничего не помнил, не знал.
Но вот вдруг невдалеке послышались какие-то голоса, смех, крики, и замелькали в темноте огни. Мимо нас — мы сидели на перекрестке двух аллей под сенью низко спустившихся ветвей лип — по главной аллее пронеслась толпа балетчиц с факелами в руках, все в цветах, увитые листьями, длинной травой, и за ними, одетые в какие-то невиданные, странные костюмы, мужчины, тоже с зеленью на голове, с тонкими золотыми палками в руках, украшенными лентами и цветами. Впереди всех между ними я увидал в таком же странном наряде старика Емельянинова, а за ним мсье Рамбо. Они тоже имели в руках золотые длинные палки, которыми размахивали, указывая вдаль и как бы предводительствуя. Они пронеслись мимо, не заметив нас.
Я с удивлением смотрел на мою «рыбачку-русалочку», не понимая, что это такое.
— Это праздник Венеры, — сказала она, — и они бегут в храм ее — вон что белеет вдали, на конце аллеи. Этого праздника сегодня не полагалось, и он, наверно, дается в честь вас. Побежим туда! Они нас не заметили, не увидали и будут искать теперь, бегать по всему саду. Побежим!
Она схватила меня за руку, и мы побежали. Я был совершенно в ее власти и повиновался, ничего не соображая, ни о чем не раздумывая.
Впереди виднелся белый павильон, со множеством колонн вокруг, давно хорошо знакомый мне издали, когда мы, катаясь, проезжали мимо Знаменской усадьбы. Павильон, или, как оказывалось, «храм Венеры», был освещен факелами, который держали в руках танцовщицы, собравшиеся вокруг него, вошедшие уже в него и стоявшие на ступеньках между колоннами. Оттуда неслись крики, смех, пение.
Моя «рыбачка-русалочка» положила мне руку на плечо, и мы бежали с ней так, обнявшись. Крики раздались еще дружнее и громче, когда собравшиеся у «храма Венеры» заметили нас. Танцовщицы с розовыми ногами, увитые зеленью, и с ними Емельянинов, за плечами которого висела какая-то беленькая шкурка с шерстью вверх, бросились нам навстречу и окружили нас. Тут сразу все смешалось, перепуталось. Танцовщицы отнимали меня одна от другой, обнимали, тащили одна к себе, другая к себе. Я видел мельком лицо моего гувернера, мсье Рамбо, раскрасневшееся и какое-то обезумевшее; он то появлялся, то снова я его терял. «Рыбачки-русалочки» моей уж не было возле меня. Я искал ее глазами и наконец увидел — она стоит, немного в стороне с Емельяниновым и, поправляя руками растрепавшиеся волосы, смеялась и что-то рассказывала ему, а он слушал ее, радостный, как-то вытянув шею и схватившись за бока обеими руками.
Вдруг снова раздались крики, пение. Мне на голову одели венок из листьев и цветов и под руки, с пением торжественно повели по ступенькам в «храм». Я увидал там Емельянинова; он стоял у возвышавшейся посредине павильона мраморной статуи женщины, перед которой был поставлен жертвенник. Тут тоже все было в цветах и в зелени. И вдруг я увидал возле себя в таком же венке мою «рыбачку-русалочку»; ее тоже держали под руки. Нам — и ей и мне — дали много-много, полны руки, цветов, подвели к жертвеннику и сказали, чтобы мы их положили на него. Потом пение смолкло. Емельянинов, простирая руки к статуе, начал что-то говорить, указывая ей на нас. Он напоминал мне в это время жреца, каких я до того видал на картинках, если бы только не этот его странный наряд. Речь его, — то, что он говорил, — была не то молитва, не то какое-то заклинание. Я вслушивался в слова, но разобрать мог только: «О богиня, прими их! Прими их, этого юношу и эту деву! Они в смущении, ты видишь, не могут говорить. Они принесли тебе в жертву эти цветы, и ты будь к ним благосклонна!» Он говорил долго еще, и когда кончил, все опять запели, закружились. Емельянинов, с своей беленькой шкуркой за плечами, с золотым жезлом, увитым зеленью и лентами, протискался сквозь толпу к нам и, взяв за руки меня и «русалочку-рыбачку», повел нас по ступенькам из «храма». Поющая и скачущая толпа кинулась за нами, обгоняя нас и освещая темную аллею факелами, высоко поднятыми над головой.
Мы направились опять к дому. Емельянинов обнял за талию меня и «рыбачку-русалочку» и прерывистым от усталости и волнения голосом все повторял:
— Ну что, хорошо? Хорошо?
Я отвечал ему что-то — вероятно, «хорошо», потому что мне действительно было так хорошо, как никогда, хотя и страшно и в то же время совестно. Мне приходили в голову на мгновение мысли о домашних, о том, что скажут там, дома, когда узнают все это; но мысли эти опять сейчас же уходили, исчезали.
Впереди ярко горел огнями балкон. На нем виднелся сервированный стол, на котором стояли большие золотые канделябры, с десятками зажженных свечей. Кругом поспешно ходили слуги. Когда мы приблизились еще, я увидал массу серебра и золота — кувшинов, ваз, кубков и проч., расставленных вдоль стола; такого богатства я не видывал еще никогда.
С пением мы приблизились к балкону и поднялись на него. Емельянинов, в своем удивительном наряде, нисколько, по-видимому, им не стесняясь, обратился к лакеям во фраках и делал какие-то распоряжения. Затем мы начали садиться за стол.
Моя «рыбачка-русалочка» теперь не отходила уж от меня, посматривая на меня и держа в своей руке мою руку; время от времени она крепко пожимала ее. Мы сели рядом посредине стола, как раз напротив Емельянинова. Я искал глазами мсье Рамбо и насилу нашел его на конце стола, между двух танцовщиц, которые смеялись с ним, гладили его, по голове, шутя ударяли по рукам и проч.
Что нам подавали, какие кушанья, я теперь не помню, как не помнил и тогда, весь поглощенный происходившим вокруг меня, под впечатлением всего испытанного и пережитого мною в этот вечер. Я помню, что блеск огней, серебра, золота открытых плеч, голых рук, смеющихся, раскрасневшихся лиц, с оживленными и точно пьяными от исступления глазами, производил такое поглощающее, неотразимое впечатление, оторваться от которого и не мог, был совсем не в силах, как не мог и ни о чем соображать и думать. Почти сейчас же, как только мы сели за стол, начали разносить вино в серебряных, золотых и хрустальных графинах и кубках. Ко мне протягивались со всех сторон руки с бокалами, меня поздравляли, и я чокался и пил. Я помню, Емельянинов опять и здесь, за столом, произнес какое-то торжественное заклинание или какую-то молитву, с обращением к богине-покровительнице, после чего опять раздались крики и пение, долго не смолкавшие.
В глазах от блеска и света у меня начало все мешаться. Я всматривался и ничего ясно не разбирал. Голова горела, мне хотелось и самому кричать, петь. Мне наливали еще и еще вина, и я пил, нисколько не заботясь о том, что будет после. И вдруг я почувствовал, — это случилось как-то неожиданно, — что стул подо мною, и стол, и канделябры со свечами, и все сидящие и стоящие за столом как будто двигаются и клонятся все в одну сторону. Я пошатнулся вправо и прислонился к плечу сидевшей со мною рядом моей «рыбачки-русалочки», которая обняла меня руками за шею и прижала мою голову к себе на грудь, как делают это няньки с засыпающими или уснувшими детьми. Мне вдруг сделалось так томно, сладко-сладко, я закрыл глаза и — дальше что было, ничего уже не помню.
XI
Я проснулся от холода. Мне было страшно холодно, и я хотел потянуть на себя одеяло, чтобы плотнее закрыться; но не успел сделать еще никакого движения, как почувствовал нестерпимую головную боль и остановился, боясь пошевелиться.
Вскоре я услыхал какие-то голоса. Я вслушался. Говорил Никифор, наш человек, и с ним еще кто-то. Я хотел открыть глаза, чтобы увидать, и не мог этого сделать. Я чувствовал и руки и ноги мои, но они были до того отяжелелые и лежали как чужие, что я не мог ими двигать.
Немного погодя я услыхал, как Никифор спрашивал кого-то: «Не пора ли переменить?» Другой голос ему что-то глухо ответил. Потом я услыхал стук, похожий на то, когда рубят на кусочки лед и он падает обратно в таз.
Затем я почувствовал, что у меня сняли с головы что-то горячее и на это же место положили холодное. «Это они лед мне прикладывают», — догадался я.
Мне скоро стало легче. Я открыл глаза. Я увидал прежде всего, что было серенькое утро. В комнате совершенно для меня незнакомой, было уютно, скучно, пусто. На низеньком, длинном турецком диване, тянувшемся вдоль всей правой стороны комнаты, сидел Никифор с каким-то неизвестным мне, черным, чахлого вида, лет сорока, человеком, и они шепотом разговаривали. В комнате и вообще кругом тишина была самая полная. Я услыхал, черный сказал:
— Предводитель ничего не сделает. Вы не знаете — сила!
— Михаил-то Дмитрич ничего не сделает? — возражал Никифор. — У него силы-то побольше!
Черный человек болезненно-грустно улыбнулся и, покачав головой, продолжал:
— Он в Москве что делал! Вы не знаете! А у себя в подмосковном-то? Это вы ведь представить себе не можете! Ну, мы крепостные, положим, с нами, что хочешь, все можно сделать. А он ведь с чиновничьими и купеческими дочерьми что делал! Затаскивал их, по неделям, по месяцам у себя держал, и ничего! И полиция знала его и генерал-губернатор... Что с ним поделаешь? Ничего вы с ним не поделаете!.
— А все-таки, я так думаю, если Михаил Дмитрич захочет... — опять начал Никифор.
Но черный не дослушал, махнул рукой, дескать, что тут уж сделает твой Михаил Дмитрич.
Потом они помолчали и начали говорить о воле[72], про которую все тогда говорили, хотя почему-то с опаской и оглядываясь. Они заговорили и о воле так уж уныло и безнадежно: стоит ли уж надеяться, ждать?
— Нет, оно дать-то ее дадут, только не скоро еще — нам не дождаться! — смотря упорно на пол и как бы разглядывая что, говорил черный. — Дать-то дадут ее, это верно, что дадут, да когда?
Он поднял голову и посмотрел на Никифора. Тот молча глядел на него, с выражением, что, дескать, вам это лучше известно.
Я совершенно автоматически слушал их, нисколько не интересуясь их разговором, не зная, где я, что со мною. Все, что я испытал, видел и от чего находился теперь в таком положении, у меня точно отшибло из памяти.
Я опять закрыл глаза. Мне хотелось только полного покоя; я боялся в это время только, чтобы кто-нибудь или что-нибудь не обеспокоило меня.
Я как сейчас помню это странное, полуживое состояние оцепенения, в котором я тогда находился. Потом я его никогда уж не испытывал, и, может быть, потому я его так хорошо и запомнил.
Так же ясно и живо помню я, как явилось у меня потом сознание, и я вспомнил все, все до мельчайших подробностей и сразу. Болезненного вида человек, разговаривавший с Никифором, закашлял, но тихо-тихо, очевидно закрывая себе рот рукой, и никак не мог остановиться. Он мне не мешал, и я открыл глаза, уже сам не знаю почему. Смотря в его сторону, мне показалось, что что-то блестит на стуле возле дивана, на котором он сидел. Я стал всматриваться и увидал, что это длинная сломанная золоченая палка, увитая зеленью и лентами. Увидал я ее и сразу вспомнил все, решительно все, хотя — и странно, в обратной какой-то последовательности: сперва ужин, раскрасневшиеся лица, венки из зелени и цветов, обнаженные руки, груди, плечи, огни, блеск золоченой серебряной посуды, и уж после всего стали развертываться передо мной картины того, что было раньше, перед тем... Я, не отдавая себе отчета, жадно всматривался — именно всматривался — в эти картины воспоминания, до того они были живы перед моими глазами.
Я услыхал опять голос Никифора и болезненного вида человека, шедших ко мне от дивана. Никифор о чем-то расспрашивал меня, но я смотрел на него, ничего ему не отвечая; мысли мои были далеко. Наконец я всмотрелся, вслушался и понял, что они спрашивают меня, как я себя чувствую, что со мной. Картины воспоминаний начали уходить, отступать, и я что-то ответил.
— Теперь бы ведь и ехать можно, — говорил Никифор.
Я смотрел на него, ничего не понимая.
— Домой надо ехать! Пора! — добавил он, как бы в ответ на мой вопрошающий взгляд. — Ох, господи! Господи! — продолжал Никифор.
Между тем болезненного вида человек развязал мне повязанную голову, что-то оправил на мне, — вообще орудовал вокруг меня, давал что-то нюхать, прикладывал ладонь к моему лбу, к темени.
Никифор помог мне подняться с дивана — я, оказалось, лежал на диване — и, поддерживая под руки, хотя этого вовсе не нужно было, повел к окну, к стулу, на котором стоял таз и умывальник. Он заставлял все меня еще и еще умывать лицо, говоря, что вода холодная — это очень хорошо; и на голову он мне все лил воду. Я повиновался, как маленький совсем, не возражая, не рассуждая; он мне говорил, и я исполнял.
Когда я умылся, причесался, оделся, он, смотря на меня, проверяя, все ли в порядке, испытующе и подозрительно спросил:
— Ну что ж, ничего теперь? Ехать можно? А то как было показаться в таком виде!
Я все молчал.
Болезненного вида человек опять подошел ко мне, глухо кашлянул и с серьезным лицом еще раз приложил руку мне ко лбу.
— Ничего, можно теперь, — проговорил он, оборачиваясь на Никифора.
— Мусье Рамбо где же теперь найдешь! — не обращая внимания на удостоверения болезненного человека и как бы рассуждая сам с собою, продолжал Никифор. — Да если и найдешь его, в каком он виде-то теперь! Нет, уж мы одни поедем! Лучше пускай он тут остается, потом приедет.
XII
Никифор, посматривая на меня и переговаривая с болезненного вида человеком, причем я разобрал только, что Никифор сказал ему: «Ужо вечером приезжайте; заплатят вам, поблагодарят», — подал мне мое пальто-накидку, мою матросскую фуражку, и мы ушли все втроем из комнаты; куда, какой дорогой — я ничего не знал и не понимал. Из одной пустой комнаты мы переходили в другую точно такую же, и шли дальше, поспешая, как бы уходя от кого или избегая с кем-нибудь встречи. Наконец мы дошли до комнаты, похожей на переднюю. Никифор отворил дверь из нее, и мы очутились на крыльце, маленьком, довольно ветхом, выходившем в сад. С крыльца мы сошли и направились так же молча и поспешно, направо, вдоль стены дома, между кустов сирени. Потом через какую-то калитку вышли из сада на двор, тоже мне совсем незнакомый, заросший сорной травой, крапивой, лопухами. Никифор крупно шагал, я за ним. Болезненного вида человек исчез, его уже не было с нами.
Через этот двор, через крапиву, лопухи мы добрались до каких-то длинных деревянных полуразвалившихся строений, которые потом оказались конюшнями. Там Никифор оставил меня одного, а сам пошел отыскивать кучера. Они оба скоро пришли и поспешно принялись выводить лошадей и запрягать их в карету. Я смотрел и смотрел на них. Кучер Евграф, отрывочно о чем-то перекидываясь отдельными фразами с Никифором, время от времени, закладывая лошадей, посматривал на меня; и я видел по глазам его, что он смотрит на меня с любопытством и с какой-то тревогой.
Когда лошади были запряжены наконец, Евграф молча взобрался на козлы, Никифор отворил дверцу кареты, подсадил меня, потом захлопнул дверцу, по привычке необыкновенно шумно, и, крикнув кучеру: «Пошел!», на ходу взобрался на козлы.
Мы выехали со двора, никем не провожаемые, никем не останавливаемые; кругом не было видно ни души: было еще очень рано.
Я совсем не знал, где мы ехали. Мы вышли хоть из дома, но с той его стороны, которой я никогда не видывал, потом мы шли двором, которого я тоже не знал, и теперь мы ехали совсем не той дорогой, которой приехали. Это пустое обстоятельство меня почему-то очень занимало, и я все всматривался через окно в окружающую местность.
Когда мы порядочно уж отъехали от Знаменского и вдали виднелся наш сад, наш дом, наша усадьба, лошади пошли шагом, а Никифор, обернувшись с козел ко мне, начал говорить со мной через маленькое окошко, что в карете, позади козел.
— Вы всё как есть, всё говорите по правде, как было: как он нас увидал на мосту, как зазвал к себе, как приказал карете ехать во двор, а сам с вами пошел в сад. Все, все, как было, говорите! Ничего, все равно не скроешь; хуже только напутаем!
Я молчал. Он поговорил мне еще, как бы с намерением успокоить, ободрить меня. Лошади опять пошли рысью, и скоро мы были дома.
На крыльце нас встретил отец. Ему были поданы беговые дрожки, на которых он обыкновенно езжал в поле, и, очевидно, он собирался сейчас ехать. Он с удивлением смотрел па нас.
— Откуда это вы? — услыхал я, как только остановились лошади.
Никифор ему что-то ответил.
— Откуда? — переспросил отец, очевидно не расслышавший или не понявший, каким таким образом мы попали к Емельянинову.
Никифор спрыгнул с козел, отворил карету и выпустил меня. Отец потянулся было ко мне, но вдруг с испуганным лицом становился.
— Что с тобой?
— Я — ничего! — ответил я.
— Он болен? Что с ним? — переводя глаза на Никифора, продолжал отец.
— Теперь отходили... А то, действительно...
— Да что такое было? Я ничего не понимаю! Как вы попали к Емельянинову? А мсье Рамбо где же?
— Они там остались, в Знаменском, — тихим голосом и с печальным видом начал Никифор.
Отец вскинул плечами, дескать, «ничего не понимаю», махнул рукой и, обняв меня, повел в дом.
— Как вы попали туда, к Емельянинову, в Знаменское? — спрашивал он меня дорогой, в надежде, вероятно, лучше и скорее добиться от меня, в чем дело и как все случилось.
— Мы ехали вчера от дяди и встретили его на мосту. Ну, он нас и пригласил, — отвечал я.
— И что ж вы у него делали? Ведь это вчера было? Ты болен! У тебя лицо какое!
— Нет, ничего.
— А что было с тобой?
— Я не помню, что. Мне вина всё наливали.
Отец помолчал и крикнул:
— Никифор!
Явился Никифор.
— Что там такое было? Ты что видел?
— Я ничего не видал-с, — отвечал Никифор. — Это все у них там, в саду, было. Они там с мусье Рамбо были. Мне как же туда было пойти! И потом за ужином...
— Да что же такое было?! — продолжал допытываться отец, очевидно уже начинавший догадываться о том, что такое происходило у Емельянинова и чего мы там были свидетелями и зрителями.
— Там у него представление какое-нибудь было? Что там такое было? — опять обратился он ко мне.
— Было представление.
— Что ж такое?
— Танцы, а потом...
Я замялся. Он с грустным лицом, как будто несчастье или горе какое узнал, смотрел на меня.
— А потом? — повторил он.
— А потом был праздник Венеры, — сказал я и почему-то добавил: — Тоже в саду, в костюмах и с факелами.
— И ты все это видел! — воскликнул вдруг он. Еще участвовал, пожалуй!
— Да, они меня повели...
— Кто они — Рамбо и Емельянинов?
Я хотел было сказать откровенно, как все было с «русалочкой-рыбачкой», но у меня положительно не хватило на это духу. Я чувствовал, что никак и ни за что не решусь в этом признаться, не только не начну сам об этом рассказывать. И потом, как же я так выдам ее, скажу, что это она все сделала, повлекла меня туда, в храм Венеры?
— А вином тебя когда же поили? — смотря на меня с необыкновенной грустью, жалостью и как бы убитый всеми этими известиями, спросил отец.
— Это за ужином, потом.
— Но... а мсье Рамбо что ж? Что ж, он ничего, ничего не говорил Емельянинову?
— Он говорил, — начал было я, но отец перебил меня:
— Он отчего же там остался? Почему он не приехал? Он что тебе сказал?
— Я не видал его.
Отец покачал головой, вздохнул и начал ходить по кабинету из одного конца его в другой. Я молчал, следя за ним глазами. Наконец он остановился перед окном, спиной ко мне, и смотрел на него. Прошло с минуту.
Вдруг дверь в кабинет отворилась, и к нам вошла матушка. Как ни рано было еще, но ее, должно быть, разбудили известием, что я приехал, и она поспешила меня увидать.
Я сделал несколько шагов к ней. Она хотела меня обнять, но по моему лицу, по всей моей фигуре она, должно быть, заметила, что что-то произошло, случилось со мною, и потом это странное, необычное настроение отца, и она остановилась, недоумевающе и испуганно смотря то на него, то на меня.
— Что тут было? Что такое? В чем дело? — растерянно спрашивала она.
Отец вместо ответа только махнул рукой, подошел к письменному столу и сел. Матушка, все ничего не понимая, не зная, смотрела на нас, потом села на диван и начала меня расспрашивать. Я стоял перед ней и повторял те же неясные, отрывочные ответы, что делал и отцу.
Она скоро догадалась, поняла, в чем дело, что за представление устроил для нас Емельянинов. Она задавала мне всё новые вопросы. Я отвечал ей, и с каждой новой подробностью она возмущалась сильнее и сильнее. Обыкновенно тихая и снисходительная, вообще сдержанная, она теперь, когда дело коснулось меня и, по ее мнению, грозила мне какая-то опасность, она не могла совладать с собою. Я никогда не видал ее такой ни раньше, ни позже. Она волновалась, говорила, чтобы отец сейчас же ехал и жаловался на Емельянинова, требовал, чтоб его удалили из имения и вообще отсюда. Она сама хотела сейчас же, ехать и жаловаться, просить, настаивать на его удалении и кончила тем, что разрыдалась, беспомощно упав лицом на диван.
Эта сцена, да вообще вся эта история у меня перед глазами до сих пор, как будто все это было лишь на днях. Я помню до мельчайших подробностей, до малейших оттенков те душевные переходы, которые я тогда испытывал: и стыд, и жгучее, обидное чувство за то снисходительное отношение ко мне, как к не имеющему совершенно уж никакой своей воли, своего рассудка и которого поэтому нельзя ни в чем даже винить. Обидным и оскорбительным было для меня потом и отношение всех за меня тоже к мсье Рамбо, то есть отзывы о нем. (Сам он к нам не вернулся, а прислал через несколько дней за своими вещами.) Наконец, все эти расспросы меня, узнавания стороной, через подосланных к Емельянинову, то есть к его дворне, людей о том, как и что именно было, во всех ненужных и праздных подробностях, причем дознались даже до имени «рыбачки-русалочки», которая тогда, на этом празднике Венеры, была моей покровительницей, и ее бранили. За что? При чем она тут? Были оскорблены этой придирчивой и ненужной мелочностью все мои душевные движения и чувства, и при этом самое обидное — лицемерное отыскивание виновных и оставление совсем в стороне меня, как ни в чем, не повинной жертвы. Точно я не сам согласился зайти к Емельянинову, куда уж давно меня так подмывало любопытство и чему я был так рад. Не будь у меня тогда этого любопытства, желания посмотреть, что такое театр, актрисы и проч., я, конечно, не согласился бы зайти. И как это насильно Емельянинов затащил бы меня к себе или заставил бы меня пойти к Емельянинову мсье Рамбо? Емельянинов такой-сякой, негодяй, бранят его, — я молчу. Он старый развратник, разоритель своих крестьян, и т. д., и т. д., — я согласен. Но начинают говорить неправду, несправедливости, начинают бранить Рамбо, взводить на него всякие небылицы: и Емельянинов подговорил его, когда мы были еще у дяди в Михайловском, заехать к нему, и было это все подготовлено со стороны Емельянинова, то есть что он вышел, под видом прогулки, встречать нас, и, может быть, — почем знать — -Емельянинов, поняв, что Рамбо такой же точно, как и он, подкупил его, заплатив ему. Бог знает что говорили! Когда никого, кроме меня, тут не было, бедную «рыбачку-русалку», оставившую по себе такие живые во мне воспоминания, не называли иначе, как «девкой», да еще с разными вовсе, казалось, но идущими к ней добавлениями.
И я все это должен был выслушивать, ничего не возражать, потому что все считали, что сведения, добытые ими, самые верные, а я ничего но знаю, да, кажется, едва ли и могу что знать в этом случае и понимать.
XIII
Это все так продолжалось долго. На меня все смотрели с каким-то странным любопытством, как на человека, побывавшего в неведомых и далеких странах и видевшего там несказанные чудеса. Я был, вместе с тем, и предметом общего участливого сожаления. Все чуть не оплакивали меня, как если не совсем еще погибшего, то уж, во всяком случае, изломанного, потерявшего все свои добродетели и достоинства. Такое настроение всех последовавшее за взрывом негодования после первого известия, обратилось в какое-то безрассветное, бесконечное томление и скуку, переносить которые, я чувствовал, у меня скоро не хватит сил.
Но вот однажды, недели через две-три после этого события, к нам приехал дядя Михаил Дмитрич, по обыкновению, вечером и, по обыкновению, уже с тем, чтобы и ночевать у нас. Он уже все знал — отец тогда ездил к нему, чтобы обсудить, что можно предпринять относительно Емельянинова, — и, заметив, что у нас всё еще все под впечатлением этой «возмутительной истории», как принято было выражаться, сказал совершенно спокойно, весело рассмеявшись:
— Да что вы, в самом деле, такое значение этому придаете!
Матушка только с удивлением подняла на него глаза.
— Я, ей-богу, не понимаю! Ну, он видел, — дядя указал на меня головой, — плохой балет, пьяного Емельянинова, пьяного гувернера своего, которого я всегда удивлялся зачем вы держите, — вот и все!
Матушка вместо ответа вздохнула. А дядя продолжал:
— В балет возят в Петербурге и детей; и балет он там, конечно, увидит, потому что в известные табельные дни[73] воспитанников возят в театр; и увидит он точно так же танцовщиц в коротеньких юбках, с ногами в розовом трико. Увидит он на улице сколько угодно пьяных стариков и молодых. Ей-богу, я не понимаю, что вы этому придаете такое значение!
Отец начал было для него, а в сущности, чтобы сделать приятное матушке, какое-то длинное объяснение значения печального происшествия, то есть «возмутительной истории». Дядя слушал его хотя и со вниманием, но потом сказал:
— Пустяки все! Ну что такое? Да, наконец, что он, девочка, что ли! Ему, слава богу, пятнадцатый год уж!
Тогда начала возражать ему уж матушка и, находя, вероятно, что дядин снисходительный тон и все вообще его отношение к «возмутительной истории» может нежелательным образом повлиять на меня, сказала мне, чтобы я ушел.
Они долго потом, после меня, говорили всё на ту же тему. Но дядя, очевидно, остался при своем взгляде, потому что вечером, за чайным столом, он шутя при всех обратился ко мне с вопросом, был ли у Емельянинова при нас еще кто-нибудь из соседей, и затем, не стесняясь, продолжал:
— И ведь он в отчаянии просто! Я из письма его это вижу.
Матушка, разливавшая чай, при этом с живостью ему ответила:
— Ах, если бы их всех у него растащили! Вот была бы я рада.
Позже, в тот же вечер, из отрывков разговоров я мог понять, что у Емельянинова двух каких-то актрис его или танцовщиц на днях увезли ночью, неизвестно — кто, куда и где они теперь; что подозревают в этом двух наших соседей-помещиков Доможировых; что по этому именно случаю Емельянинов писал к дяде, как к предводителю, письмо; что дядя никакого значения этому не придает, смеется над этим и вообще ничего в данном случае предпринять не намерен.
— Какое мне до этого дело! — повторял дядя. — Он может жаловаться на них в суд, полиции, при чем я тут, предводитель?
А еще позже вечером, в тот же день, уж совсем перед ужином, я узнал от дяди, который остался в кабинете один, — матушка куда-то ушла, а отец толковал с «начальниками», то есть с старостой, конюшим и прочими в передней, — что одна из этих похищенных у Емельянинова моя «рыбачка-русалочка».
— Эту твою, в которую ты там влюбился, как звали? — вдруг, смотря на меня, спросил дядя.
Я сконфузился, но отвечал ему:
— Кити!
— Ну, простись с ней! Кажется, ее-то с другой еще какой-то Доможировы и увезли.
Сообщением мне этого известия он не то чтобы поразил меня, но вызвал во мне прежде всего какое-то грустное, тихое, больное чувство, которое потом много еще видоизменялось, разрасталось во мне, пока-то наконец выветрилось или умерло...
Этот приезд дяди, его спокойный тон до известной степени повлиял на всех в нашем доме; по крайней мере с этого приезда его совсем, или почти совсем, прекратились все эти вздохи, ахи, перестали уж так непрерывно жалеть меня, считать чуть не погибшим. И потом, много отвлекала внимание эта история с увозом у Емельянинова двух его лучших актрис или танцовщиц. Она, эта история, занимала умы всех, о ней все только и говорили. Она отодвинула на задний план даже такие разговоры, как о предстоящей воле, которые велись нескончаемой скучной канителью, как только, бывало, съезжалось вместе несколько соседей-помещиков. Теперь с этой емельяниновской историей все словно ожило. Теперь только и разговоров было, что о ней. Фамилия Доможировых была у всех на языке...
Подробности всё новые и новые приходили каждый день. Разумеется, событие украшалось в рассказах каждого все разными цветами и объяснениями, но суть была все та же — двух самых лучших, или самых любимых, танцовщиц, или актрис, увезли у Емельянинова, и увезли их братья Доможировы, конечно предварительно условившись с танцовщицами, что приедут и похитят их. Доможировы были небогатые помещики, отставные гусары или уланы, недальние соседи Емельянинова, Они еще до его приезда, при «Богдашке» еще, как только привезли театр и танцовщиц, являлись в Знаменское. «Богдашка» показывал им актрис,: Доможировы в двух из них влюбились и, нисколько не скрывая, тогда же громко говорили всем, что если Емельянинов им не продаст их, они все равно увезут их у него.: Когда наконец приехал сам Емельянинов, они действительно делали ему это предложение, но он, разумеется, отказал им, не польстившись на их деньги, а предложил им бывать у него и любоваться актрисами его на представлениях. Доможировы прибегли к хитрости, прикинулись, что помирились с таким положением, и начали ездить к Емельянинову. Он их принимал, будучи уверен, что предложение это была просто шутка с их стороны, предлог приехать к нему познакомиться, и был очень даже рад компании веселых, сравнительно молодых еще людей, из которых один, к тому же, удивительно хорошо играл на гитаре и необыкновенно задушевным голосом пел русские и цыганские песни.
И вдруг через несколько месяцев разыгралась вся эта история. Утром «Богдашка» узнал, что двух танцовщиц, моей вот «рыбачки-русалочки» Кити и другой актрисы-танцовщицы Александрии, похожей на знаменитую Асенкову, нет, и где они — никому не известно. «Богдашка» сделал все, чтобы хотя узнать, по крайней мере, виновников похищения: он разослал всюду погоню, но ничего не узнал. Посланные никого не догнали, и перед завтраком Емельянинова «Богдашка» должен был доложить ему о случившемся. Емельянинов верить не хотел такой дерзости со стороны Доможировых, — на них все сразу начали указывать, говорить, что это дело их рук, — не мог допустить, чтобы осмелились они это позволить себе в отношении его. Но это, тем не менее, был факт.
И вот, не зная, что предпринять, к кому обратиться, Емельянинов написал письмо к предводителю, то есть к дяде Михаилу Дмитриевичу. Как отнесся к этому дядя, было уж сказано выше. А нового ничего Емельянинов больше не предпринимал, хотя и ходили слухи, что он писал еще и губернатору и жандармскому полковнику. Но что же они могли сделать, если, как вскоре тоже начали рассказывать, Доможировы оба женились на своих пленницах? Закон, даже тогдашний, говорил прямо, что с этим замужеством они стали не только вольными, но и такого же точно дворянского звания, как их бывший господин, сам Емельянинов.
Этот слух о женитьбе братьев Доможировых на похищенных у Емельянинова танцовщицах скоро перестал быть слухом, так как вполне подтверждался. Доможировы возвратились — оттуда, куда они там ездили жениться, — и зажили у себя в усадьбах, к вящему соблазну соседей, особенно соседок, очень интересовавшихся всем, что делалось у Доможировых, но боявшихся, во-первых, за своих мужей, за их верность, а потом еще и того, как бы Доможировы не вздумали с этими женами своими делать им визиты. И то и другое ужасно всех волновало, особенно ближайших соседей Доможировых. Но Доможировы, как ни в чем не бывало, жили себе, поженившись, очень мирно, скромно, по-прежнему бывали у всех одни, без жен, и нисколько не скрывали ни того, что они увезли у Емельянинова любимых его танцовщиц, ни того, что теперь женились на них.
XIV
В августе этого года меня отвезли в наш губернский город и отдали там в гимназию, то есть, собственно, так называемый благородный пансион при гимназии, в котором воспитанники жили, занимались, готовили уроки, а в классы ходили в гимназию. Такие пансионы прежде были при всех губернских гимназиях, и в них воспитывались исключительно, или почти исключительно, дети местных помещиков. Содержались эти пансионы на средства дворянства, так как плата за воспитанников была какая-то самая маленькая. Попечителем, главным местным начальством, был поэтому губернский предводитель дворянства.
Эти пансионы пользовались очень хорошей репутацией, и там были дети богатых и с сильными связями местных помещиков, не пожелавших отдавать детей в лицей[74] или правоведение, чтобы не иметь их так далеко от себя. Как я говорил уже, меня хотели вначале отдать тоже в лицей, в правоведение или в морской корпус, но этому помешала, кажется, вот эта же самая «возмутительная история»; она же, вместе с тем, и ускорила отдачу меня в казенное учебное заведение. Матушка и отец пришли к убеждению, должно быть, что дольше держать меня дома не следует, особенно после того, как я на «все» насмотрелся; и потом, хотя лицей, и правоведение, и морской корпус несомненно хороши и карьера оттуда прекрасная, но мало ли что там, за глазами, может со мною вновь случиться, опять-таки особенно после того, как я на «все» уж насмотрелся.
Меня возил определять в пансион сам отец. Дорога в губернский город наш была мимо емельяниновского Знаменского. Со времени «возмутительной истории» я еще не проезжал тут и теперь первый раз ехал по этой, с детства знакомой мне, дороге, видел места, ставшие для меня по свежим воспоминаниям особенно дорогими и знаменательными. Я смотрел в окно кареты на видневшуюся на высоком берегу знаменскую усадьбу, на дом с белыми колоннами, на выглядывавшие из густой зелени сада и парка белые беседки, храмы, павильоны. Я узнал между ними «храм Венеры» и мысленно прикидывал, отыскивая глазами то место, где мы с «рыбачкой-русалочкой» сидели на скамейке, когда в темном саду раздались призывные громкие крики, замелькали огни и мимо нас пронеслась толпа сатиров и нимф, с Емельяниновым и мсье Рамбо во главе, к «храму Венеры», куда вслед за тем увлекла «рыбачка-русалочка», охваченная общим неистовством, и меня вместе с собою.
Это были, конечно, очень деликатные воспоминания, омрачавшиеся в это время для меня только горьким чувством сознания, что бедная «рыбачка-русалочка» теперь больше уж не свободна меня любить, так как она стала женой Евграфа Васильевича (младшего брата) Доможирова. Я не знал, о чем в это время думал отец, то есть, собственно, как он думал; но он знал и понимал отлично, о чем я, поглядывая на знаменскую усадьбу, в это время думал, потому что он, видимо с желанием отвлечь меня от моих мыслей и воспоминаний, в которых ничего хорошего для моего возраста не могло быть, вдруг спросил меня о чем-то совсем постороннем, не подходящем даже к делу, и раздраженно приказал кучеру ехать скорее, хотя мы и так ехали полной рысью...
Этот маленький случай я запомнил потому, что он вызвал во мне хотя очень доброе, почти благодарное чувство к отцу за его бережливую заботливость обо мне, но он, вместе с тем, в первый раз и показался мне наивным или, по крайней мере, очень уж наивно думающим обо мне, — все равно, значит, не понимающим и не знающим меня.
В гимназию я поступил очень хорошо и легко, потому что был отлично приготовлен. Так как это было в августе, значит, в самый разгар рабочей поры, то отец, покончив со всеми формальностями по определению меня, скоро уехал опять в деревню, повторяя мне на прощание, чтобы я прилежнее учился, потому что это и само по себе необходимо, с каждым годом становится все более и более необходимым, и — что едва ли, пожалуй, не главнее еще — мешает набираться в голову всякому вздору и глупостям.
— Всему будет свое время. А теперь тебе еще рано. Пока тебе нужно учиться — и только, — заключил он.
Я отлично понял, конечно, на что он намекал...
В благородный пансион одновременно со мною привезли и тоже отдали, и в тот же класс, Лукаянова, сына помещика нашей же губернии и нашего же уезда. Лукаяновы жили на другом конце уезда. Фамилию эту я слыхал, но знаком не был, так как ни они у нас не бывали, ни мы у них. Вася Лукаянов был очень милый малый, и так как мы оба поступили в один класс и оба мы с ним были к тому же еще и новичками, то скоро, дальше да дальше, мы сделались с ним друзьями.
Так через неделю, как мы поступили и жили в благородном пансионе, однажды, гуляя с ним о свободное время мы как-то разговорились о домашних, о том, что делается у нас дома, и вспомнили о емельяниновской истории, то есть о, похищении у Емельянинова двух его лучших танцовщиц и проч. Как друг, Лукаянов посмотрел на меня и сказал:
— А ты знаешь, эти Доможировы ведь дяди мне родные приходятся: они братья моей матери. И одну из этих танцовщиц, жену дяди Граши, Катерину Степановну, ли Кити, как зовет он ее, я видел, — продолжал он, — перед самым моим отъездом. Она славная! — добавил Лукаянов.
— А дядя твой Граша любит ее? — спросил я.
— Конечно! Очень! Иначе зачем же бы ему все это делать — похищать ее, потом жениться на ней? — резонно заметил Лукаянов. — Ты знаешь, ведь она была простая крепостная Емельянинова и совсем почти необразованная, она едва-едва пишет. И дядя Граша чудак, — продолжал Лукаянов, — когда он у себя дома и гостей никого, нет, он заставляет ее надевать коротенький костюм, в котором обыкновенно танцовщицы танцуют, на ноги надевать трико — этакое розовое вязанье, как бы тебе это объяснить?
— Знаю, знаю, — с видом опытного знатока перебил я его. — И что ж?
— Ну, и она должна танцевать перед ним. Он садится на турецкий диван, а она в этаком костюме танцует.
Я помолчал и спросил, растравляя в себе больное чувство:
— А она его любит?
— Наверно! — не допуская сомнений, воскликнул Лукаянов и добавил при этом: — Ведь дядя Граша красавец, во-первых, и, потом, он так играет на гитаре и так поет, что его без слез слушать никто не может. За это все в него ведь и влюбляются...
Я ни одним намеком не показал Лукаянову, что знаю его тетку Катерину Степановну Доможирову, то есть эту «рыбачку-русалочку» Кити.
Неожиданное открытие, что Лукаянов родственник Доможирову, конечно сблизило меня с ним еще более.
Лукаянов охотно рассказывал мне о своих родственниках, с интересом слушал мои рассказы о Емельянинове, об его актерах, актрисах, танцовщицах, о театре, обо всем этом, но чтоб это все занимало его особенно, захватывало, как меня, — нет. Он даже несколько раз с недоумением и как-то, странно, спрашивал меня, отчего это я так живо, принимаю к сердцу все относящееся к этой истории, то есть к похищению его дядями емельяниновских актрис или танцовщиц, и почему это так меня возмущает сам Емельянинов. Я ему отвечал на это, что Емельянинов противная личность, отвратительного вида старик, разоритель своих крестьян, что вообще вся эта история, как и сам Емельянинов, возмутительны и характерны и что как же этим не интересоваться. Я даже пускался по поводу этого в рассуждения о предстоящем освобождении крепостных, о чем тогда с каждым днем говорили все громче. И он продолжал оставаться у меня в полном неведении относительно моего романа с женой его дяди.
XV
Великим постом этого года дворяне собирались для выборов в комитеты по улучшению быта помещичьих крестьян[75], то есть, проще говоря, для обсуждения условий, на которых, по их понятию, лучше всего можно было освободить крестьян, — слухи о воле переходили в действительность. Теперь уж никто больше не сомневался, что с крепостными придется расстаться. Весь вопрос был только в том, как это произойдет, то есть как наивыгоднейшим образом это устроить, и если можно, то хоть сколько-нибудь затянуть развязку этого дела. С этой целью готовились выбрать в комитеты и в разные депутации людей, во-первых, несомненно преданных дворянским интересам, то есть самых, значит, мрачных и упорных крепостников, и потом людей со средствами и со связями, так как предполагались поездки их для ходатайств и всяких влияний в Петербурге и проч.
Вопрос был важный и большой для всех, и потому съезд дворян был огромный. Можно сказать, что почти все дворяне губернии съехались в губернский город. Приехали даже те, которые не ездили никогда ни на какие выборы и съезды и безвыездно сидевшие уж лет по двадцати и по тридцати в своих деревнях, все самые дряхлые старики, давным-давно устранившие себя от управления своими имениями, передавшие их своим сыновьям, — и те даже захотели быть на этом собрании и приехали, чтобы сказать свое опытное и веское слово о равномерности и непригодности предстоящей реформы...
Не только все гостиницы, постоялые дворы, все частные даже квартиры были заняты, так как у каждого был хоть кто-нибудь знакомый в губернском городе, и как же бы он не пустил приехавшего издалека и по такому важному делу помещика? Город нельзя было узнать; оживление в нем было небывалое. К тому же, особенно кто были со средствами или могли рассчитывать на хорошее помещение, приехали с женами и даже семействами.
Приехали, разумеется, в это собрание и мой отец и отец Лукаянова, и в первый же праздник, даже накануне, взяли они нас к себе в отпуск. Новостей всякого рода мы наслушались тут множество. Но самая важная новость для меня была, во-первых, та, что приехал на собрание и Емельянинов и что его наверное выберут в какую-то депутацию, или куда там, как человека, несомненно преданного истинным дворянским интересам, богатого и со связями, и потом, что тут приехали также и два брата Доможировы, один из них даже с женой. Я не знал только который. Это последнее обстоятельство — предположение, не младший ли это брат с женой своей, «рыбачкой-русалочкой» Кити, — положительно поглотило все мое внимание, все мои помыслы, я ни о чем другом не думал, ни до чего мне не было дела.
В воскресенье вечером, когда мы собрались из отпуска опять все в пансион, я узнал от Лукаянова, что это дядя Граша приехал, и с ним и его жена. Он рассказал мне, что видел даже ее, так как дядя остановился вместе с его отцом. И опять: «Она славная!» Я расспросил его обо всех пустяках, относящихся до ее приезда, долго ли они тут проживут, и проч., и проч. Я не знаю, как мне хотелось ее видеть, смотреть на нее, говорить с ней; но я и мысли не допускал об осуществлении этого на деле. Я понимал, знал, что я мог бы в следующий же отпуск приехать под каким-нибудь предлогом к Лукаянову и там, конечно, увидал бы и ее. Но у меня никогда не хватило бы духу на такую смелую выходку, я бы сконфузился, растерялся и убежал, если бы меня и насильно привезли к ним и представили ей. Мне хотелось увидать ее так, чтобы никто, решительно никто нас не видал и никто не слыхал бы того, что мы будем с ней говорить, как буду я ее упрекать и как она будет оправдываться...
Случилось, однако, все это, то есть наша встреча, на другой же день, и притом очень просто. Мы только что пришли из гимназии, пообедали и гуляли в зале, когда дежурный вдруг закричал:
— Лукаянов! К тебе дядя приехал.
Я гулял в это время, разумеется, с Лукаяновым. Дежурный не разглядел нас и крикнул громко, когда мы были от него в каких-нибудь трех-четырех шагах. Лукаянов не успел еще оставить меня, — мы ходили, гуляли обыкновенно, положив друг другу руки па плечи, — как в дверях зала показался высокий, красивый мужчина, сильный брюнет, с видной и стройной дамой. Я как увидал их, остолбенел, не двигался с места. Доможиров с женой поздоровались с племянником, остановились, болтали и разговаривали с ним, не проходя дальше, в приемную. Они стояли от меня в нескольких шагах. Все товарищи продолжали гулять, ходить по залу, разговаривали, никто не обращал внимания на приехавших к Лукаянову родственников; один я только стоял и почему-то смотрел на них, не будучи в состоянии оторваться, все позабыв.
Наконец я пришел в себя, очнулся и только хотел было бежать, как Лукаянов позвал меня, взял за руку и начал представлять меня тетке и дяде, говоря им, что я самый лучший его товарищ.
Что в это время было со мною, что я перечувствовал, я не берусь описывать. У меня и сердце билось так сильно, что я, казалось, слышал, как оно стучит, и слезы — не знаю уж, радостные или от горя, — подступили к горлу и душили меня. Что я говорил, отвечал им, я и тогда, разумеется, не помнил и не знал. Но я все-таки заметил, поймал ее взгляд, по которому увидал, что она если не совсем узнала меня, то есть не совсем уверилась, что я именно тот, в матросской куртке и фуражке, с которым тогда, на «празднике Венеры», и проч., и проч., то, во всяком случае, она припоминает, не может только припомнить и догадаться, где и когда видела и познакомилась со мной.
Когда же мы пошли наконец в приемную и уселись там все вместе, я увидал ясно, заметил и понял, что она и припомнила наконец меня и узнала; и понял я это потому, что она начала вдруг стараться не глядеть на меня, не встречаться со мною взглядами. О, если бы я мог избавить ее от тревоги, успокоить ее! Какую бы клятву я ей дал тогда, что никогда никто и ничего не узнает из наших отношений, что тайну эту я унесу с собой в могилу, схороню под гробовой доской, или как это там говорят и выражаются влюбленные...
Но я не сводил глаз с нее. Я сознавал и чувствовал, что не следует мне этого делать, что это невежливо наконец, и все-таки не мог оторвать от нов глаз. Спросит меня о чем-нибудь ее муж, дядя Граша, оказавшийся вообще очень милым малым, — я отвечу ему, постараюсь улыбнуться и в то же время чувствую, что не в силах, не могу не взглянуть на нее. Взгляну — и не могу оторваться. Она была смущена, может быть прямо-таки встревожена этими взглядами, — она, конечно, не знала моей скромности и моей преданности ей — и, не зная, что ей делать, то принималась усиленно расспрашивать о чем-нибудь своего мужа, то начинала говорить с Лукаяновым, смеяться...
Наконец, когда все это кончилось, то есть когда Доможиров с женою собрался уезжать и начал прощаться с своим племянником, он стал звать меня, чтобы я заехал к нему. I
— Ведь мы с вашим батюшкой старые знакомые. Сегодня даже мы виделись в дворянском собрании и разговаривали. Заходите. Я очень рад буду, — закончил он.
А она точно обрадовалась, когда наконец кончилось все и они пошли, чтоб уезжать...
— Ну вот, видел! — сказал Лукаянов, когда мы вернулись в зал. — Вот эта и есть. А другой, жены другого дяди, я до сих пор и сам еще ни разу не видал. Эта славная! Она тебе понравилась?..
На меня в этот вечер нашла тихая грусть. Мне хотелось остаться одному, чтобы никто не подходил ко мне, никто не звал бы меня; я весь вечер этот избегал всех, даже Лукаянова. Мне не хотелось даже и с ним разговаривать и даже о ней разговаривать — мне хотелось быть одному, с собою самим, думать одному о ней и о «бедном» самом себе...
XVI
Видеть мне ее, однако ж, на этот раз больше не удалось.
Съезд дворян, о котором все говорили, что протянется, по крайней мере, месяц, кончился на следующей же неделе неожиданно, и все поспешили разъехаться по домам. Я помню, как отец и дядя посмеивались над некоторыми из помещиков нашего уезда, собиравшимися протестовать, читать какие-то записки на собраниях, и теперь, когда получена была от губернатора какая-то бумага, ранее других уехали, почти бежали в свои имения. В числе так поспешно улепетнувших был и Емельянинов, на которого еще вчера возлагались такие надежды. Он написал письмо предводителю, то есть дяде Михаилу Дмитриевичу, с известием, что болен, и вечером того же дня, в заседании которого была прочитана так подействовавшая на всех губернаторская бумага, уехал в Знаменское.
Отец, дядя и многие другие еще помещики хотя и оставались еще несколько дней в городе, но к концу недели и они тоже уехали домой.
Таким образом, когда настала суббота, нам с Лукаяновым не к кому было идти в отпуск. Грустные, ходили мы, обнявшись, по темному, пустынному нашему залу. То есть, собственно, грустным был я. Лукаянову, конечно, хотелось пойти в отпуск, покататься, погулять; но у меня были причины быть грустным посерьезнее его. У меня пропало, осталось при мне все, что я собирался и приготовил высказать «ей» при свидании, и что я так хорошо обдумал и прочувствовал, и что, как мне казалось, вышло бы так благородно, великодушно и так эффектно... Теперь все это пропало. Точно кто посмеялся надо мной. Было даже что-то обидное во всем этом.
Но время и труд, эти лучшие целители больных, развинченных душ, тем не менее мало-помалу уврачевали и успокаивали и меня...
Зима, так долго тянувшаяся, казалось бесконечная, прошла. Настала весна. Начались экзамены, кончились. Все начали разъезжаться по деревням на лето на каникулы, все строили планы, все торопились. Уехали и мы с Лукаяновым, оба мечтая, как будем ходить на охоту. (Дядя выписал мне из Москвы великолепное ружье со всеми охотничьими принадлежностями.)
В деревне, когда я приехал, в числе первых новостей я узнал, что у Емельянинова в Знаменском ничего уж нет, все кончено, то есть уж нет ни театра, ни балета, ни актеров, ни актрис, ни танцовщиц, — все закрыто, кончено, все распущены. Рассказывая мне об этом, добавляли, что сделал это он не по своей воле, а его заставили — не прямо ему было приказано все это кончить, а губернатор посоветовал ему через предводителя, то есть через дядю Михаила Дмитриевича, который и ездил к нему нарочно склонять его, доказать ему, что теперь заниматься всем этим не время...
— Куда же они все девались — все эти актрисы, актеры, танцовщицы? — спрашивал я.
— Все разбрелись, как тараканы, кто куда. Некоторые здесь остались, а большая часть на оброк ушли, в Москву уехали, надеются там пристроиться...
— Что ж, Емельянинов скоро уступил, согласился?
— И сам он понял отлично, что не время теперь заниматься этим. Это он так только спорил с Михаилом Дмитричем, не соглашался, когда тот доказывал ему, куражился, показать себя хотел. А сам потом скоро за границу уехал.
— Как, его здесь нет? — удивился я.
— Нет; он еще зимой уехал.
— Кто же тут? «Богдашка»?
— Тоже нет. Бурмистр всем заведует, староста, контора.
— Так что дом опять пустой?
— Пустой.
Я решил, что первый же раз, как буду на охоте близко от Знаменского, непременно заеду туда и, если можно, пройду и по саду и по парку, все посмотрю. Теперь я был уж самостоятельный. С поступлением в гимназию это произошло как-то вдруг и вместе незаметно, без слов, без разговоров, объяснений, само собою. На меня смотрели, ко мне относились, и я сам смотрел теперь на себя совсем иначе. К тому же, мне шел теперь уже не пятнадцатый, а шестнадцатый год. Всего только один год прошел, а все удивительно как переменилось...
В тот день, как я узнал, что Емельянинова в Знаменском нет, что он за границей и когда будет обратно — никому не известно, я спросил за обедом отца, по какому случаю уехал Емельянинов.
— Просто из трусости уехал, — отвечал он, — боится.
— Чего же?
— А чего вон Мутовкин, Лязгинцев, Хохлаков боятся, того и он.
— А когда вернется, неизвестно?
— Вернется, конечно, когда все кончится. Да что это тебя удивляет? — добавил он, улыбаясь.
— Так, как-то странно.
— Напротив, так и должно было быть.
Вскоре я был на охоте возле Знаменского — там отличные места — и не нарочно поехал, а действительно случайно очутился там и, нисколько уже не стесняясь никого, заехал на барский двор — дом, флигеля, все стояло с затворенными окнами и ставнями, — отыскал кого-то, спросил, можно ли зайти в сад, сказали, разумеется, что можно, и я пошел туда в сопровождении какого-то дворового человека, предложившего меня проводить.
Я обошел весь сад, прошел по той дорожке, по которой я в таком блаженстве гулял с «рыбачкой-русалочкой», даже посидел на этой же самой скамейке, на которой сидел тогда с ней, дошел до «храма Венеры» на конце сада. Он стоял теперь заколоченный досками, но в щели я все-таки увидал статую богини и перед ней жертвенник, на котором мы тогда приносили жертвы — клали цветы. Постоял я и перед террасой, на которой мы после всего этого ужинали тогда, и с странным каким-то чувством оставил сад...
Дом был заперт, ключи были в конторе или у бурмистра. Провожавший меня дворовый человек предложил сбегать отыскать конторщика и попросить его отворить дом.
— Нет, не нужно, спасибо! — сказал я.
— Барин уехали за границу и когда будут — неизвестно, — рассуждал, провожая меня, дворовый человек.
— Скоро теперь, — сказал я ему в утешение.
— Писать они разве изволили кому-нибудь?
— Нет. А так...
— Действительно, здесь у нас так все говорят...
И он было замялся.
— Что говорят? — переспросил я.
— Насчет... освобождения... Когда, говорят, освободят...
И опять замялся.
— Так ваш барин и приедет?
— Точно так-с. Говорят так: если все, говорят, будет благополучно, тогда сейчас приедут, вернутся...
XVII
Прошло с лишком три года, три томительных года в жизни русского терпеливого народа, пока наконец воля была ему объявлена.
Воля, то есть Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости[76], объявленная в Петербурге в субботу на масленой, в провинции, особенно по деревням, объявлялась долго, в разное время, так что можно было одному и тому же человеку поспеть видеть это объявление в нескольких местах.
Я, например, видел объявление воли в трех местах, строго говоря, даже больше: в Петербурге, потом в нашем городе, у себя в деревне и еще в двух местах по дороге, когда я ехал домой.
Железных дорог тогда почти еще не было, и приходилось ехать на лошадях. Весна в тот год, по крайней море в нашей стороне, была ранняя; пригревы, паводки начались с первых чисел марта; луга, овраги и мелкие стенные речки тоже прошли живо, друг за другом, скоро тронулись и большие реки.
Мне надо было во что бы то ни стало поспеть в деревню не позже пятнадцатого марта, и потому я ехал, невзирая ни на какие преграды, препятствия, каждый день все с новыми и новыми приключениями. Но время тогда было веселое: все ожило, ожидало, надеялось, к тому же и сам и был молод, полон сил, бодро смотрел на будущее и ехал, не замечая неудобств, препятствий, нимало не жалуясь на них, скорее даже радуясь всем этим приключениям, так как они давали простор для самых разнообразных интересных наблюдений. Сцены, и все на подкладке ожидаемой воли, следовали одна за другой, и все, что бы там ни говорили, благодушные и без малейшего признака ожесточения или раздражения...
На одной из станций, уж близко от нашей деревни, — я ехал с казенной подорожной, — скопилось много проезжающих. Все требовали себе лошадей, никто не хотел ждать. Станционный смотритель — теперь уж вымерший тип — метался от одного к другому, объяснял, доказывал, уверял, убеждал, божился, что лошадей нет, а те лошади, которых проезжающие видят, только что пришли, устали после такой дороги, и надо же дать им хоть сколько-нибудь отдохнуть.
От нечего делать, благо, к тому же, выдался теплый, с пригревами денек, проезжающие не сидели на станции в комнатах, а собрались на крыльце, разместились на перилах, на разных скамеечках, кадушках и проч, и вели разговоры, спорили, жаловались на беспорядки, смеялись и проч.
Мне, как последнему из прибывших, приходилось долго ждать; к тому же, я был утомлен ездой с прошлой станции. Я велел поставить себе самовар и пошел внутрь станционного дома. Там, в единственной большой комнате для проезжающих, на казенном желтом диване, какие обыкновенно бывали на почтовых станциях, лежала, подложив под голову подушки в дорожных наволочках, совсем одетая барыня, по-видимому еще молодая, — она лежала лицом к стене, так что, собственно, лица ее я не видал, — очевидно, проезжая жена, сестра, дочь кого-нибудь из заседавших и беседовавших на крыльце. Я думал, что она спит, и, чтоб не разбудить ее, тихонько прошел в конец комнаты, примостился там в креслах и стал ждать самовара. Но она не спала, старалась, может быть, заснуть, но не спала.
Вскоре пришла оттуда, снаружи, ее горничная или какая-то дворовая женщина и начала ей говорить, что наконец дошла и до них очередь: сейчас станут запрягать их возок. Барыня при этом повернулась на спину и усталым, убитым голосом проговорила:
— Господи! Как подумаю, что нам еще семьдесят верст ехать до Доможировки, страх берет. Ведь этакая если и дальше там дорога, мы завтра до дому не доберемся.
Дворовая женщина или горничная ободряла ее, уверяя, что завтра они уже наверное к обеду будут дома.
— Евграф Васильевич теперь с ума небось, сходит, — продолжала барыня, — как это он одну меня пустил... и потонули-то мы теперь... и чего-чего!..
«Горничная ее успокаивала, но барыня, не обращая на нее внимания, продолжала:
— Теперь воображаю, что такое у нас. Это волю объявляют, меня нет, и он как сумасшедший теперь там один.
Наконец барыня и ее горничная решили, что пора собирать вещи, одеваться, так как сейчас лошади будут готовы. Барыня поднялась с дивана. Удивительно знакомым показалось мне ее лицо, хотя оно было заспано, смято. Где я ее видел? Она мельком посмотрела на меня, прищуриваясь и поправляя рукой волосы на голове; потом стала надевать теплые вещи, одеваться в дорогу.
— В Доможировке реки у нас теперь уж прошли, я думаю, — опять начала она.
«В Доможировке! — вдруг припомнил и сообразил я, — Боже мой, да неужели это «она»?» Я начал вглядываться: «она»! Но от нее, от той, какой она была тогда, как мало осталось... Или это я ее, тогдашнюю, сохранил в памяти неверно и неверно себе представлял... Я припомнил, какой я видел ее потом уже, в гимназии; она изменилась уж и тогда. Но что сделалось с ней за эти три года теперь!.. Это была пухлая, вялая, наверно очень добрая женщина, любящая мать, домовитая жена, удивительно типичная по фигуре, по манерам, по разговору помещица.
Наконец она и женщина при ней оделись, собрали свои вещи, картонки, чемоданы, мешки, пересчитали их и пошли на крыльцо смотреть, скоро ли будут готовы лошади. Я тоже вслед за ними вышел на крыльцо.
Там она, госпожа Доможирова, стояла и не спеша, своим ровным, спокойным голосом разговаривала о дороге с кем-то из проезжающих, все еще сидевших и стоящих на крыльцо на солнечном пригреве.
— А вам, сударыня, далеко еще ехать? — спрашивал ее собеседник.
— Да нам еще верст семьдесят до дому будет, — отвечала она.
— В имение свое изволите ехать?
— Да, в имение Доможировку. Знаете, слыхали?
— Не знаю, но слыхал-с.
— Это моего мужа с братом имение...
Собеседник подумал и сказал:
— Гм!.. Да-c... Нынче с имениями тоже неизвестно, как и что будет... У вас волю объявили?
— А не знаю. Я две недели как уж из дому: в Москву по делам ездила. Да, должно быть. Везде уж почти объявлена, — равнодушно отвечала она.
Наконец возок ее был запряжен, подан. Ямщики и какой-то человек, очевидно ехавший с ней дворовый, принесли и разместили чемоданы, умяли и расправили все в возке, и она, бережно поддерживаемая этим дворовым человеком и горничной, полезла в возок. Туда же вслед за ней отправилась эта горничная. Дворовый человек захлопнул дверцу, и возок тронулся.
Я проводил ее глазами и, не знаю почему, почувствовал вдруг себя так легко-легко и вздохнул...
Впереди ожидала меня встреча еще более неожиданная, тяжелая и притом полная какого-то провиденциального смысла.
Я дождался своей очереди ехать уже довольно поздно, так что ямщики и смотритель советовали мне, соображаясь с дорогой, лучше не выезжать, остаться заночевать, а завтра утром по морозцу — благо, стало холоднее — и в путь.
— А то ни к чему, — говорили они. — Дорога — смерть! Засветло не доедете до следующей станции, а вечером и ночью — что это будет за езда!
Но я все-таки настоял на своем: я боялся опоздать. Мне запрягли сани «гуськом», то есть всю тройку вытянули в ряд, одну лошадь за другой, как летают гуси. Ямщик взял длинный-предлинный веревочный кнут, чтобы доставать переднюю лошадь, если она будет лениться, и мы тронулись.
«Гуськом» ездят, когда узки дороги — много снегу, и пристяжные вязнут в нем, или в оттепель — снег талый, и пристяжные проваливаются в нем. Но теперь и «гусек» нам не помогал; проваливались точно так же и посредине дороги и коренная и обе пристяжные, бежавшие впереди ее. Мы добрались до следующей станции чуть не в полночь, измученные, промокшие, так как приходилось то и дело выходить из саней и идти пешком. Я напился чаю, закусил чем-то и завалился спать, велев разбудить себя чуть свет, чтобы ехать дальше.
Следующий день был праздничный. Когда мне в полутьме еще запрягли лошадей, я вышел на крыльцо, чтоб поторопить ямщика. В это время заблаговестили к заутрене.
— Что, как там дальше дорога? — спросил я ямщиков.
— Да такая же, — отвечали они. — Ничего, доедем, бог даст. Вот только разве в Скуратовском логу...
— А что такое в Скуратовском логу?
Вода уж очень наперла. Вчера вечером ехал я оттуда, так там с емельяниновским барином народ мучился-мучился, так и не знаю, вытащили ли его. Потому — махина: ящик с гробом-то во какой! Гроб, опять говорят, медный, свинцом залит. Это и по хорошей, ровной дороге четверику только-только в пору везти.
Я ничего не понимал, какой это Емельянинов, что это за ящик, какой это гроб.
— Что ты говоришь? Какой Емельянинов? — спросил я.
— Барин Емельянинов — нешто не знаете? Из Знаменского.
— Ну так какой же ему гроб везут?
— Его самого в гробу-то, в ящике везут, — искренне рассмеявшись, как невесть какой веселой шутке, ответил ямщик. — Ведь он зимой-то помер; помер там, за границей. Ну, наследники теперь его и перетаскивают сюда. Да вот попали-то они с ним в распутицу.
От станции до Скуратовского лога было версты три. Едва мы добрались до него и только начали спускаться, ямщик опять-таки весело, со смехом, обернулся ко мне и, указывая вперед кнутом, говорил:
— Вон они! С Емельяниновым-то до сих пор сидят. Не выбиться им — где тут!
Я заглянул вперед и увидал внизу оврага, там, где бежала уж вода, какую-то огромную не то телегу, не то повозку, что-то очень большое, громоздкое. И кругом никого и ничего — решительно никого, ни людей, ни лошадей.
— Что ж это такое? — воскликнул я.
— А вот это и есть.
— Да где же люди, лошади?
— А уж этого не знаю.
Мы подъехали ближе. У странного и громоздкого экипажа, оказалось, находился один человек. Он сидел на козлах, как-то примостившись сбоку, свесил ноги и курил. Мы подъехали совсем близко. Огромный экипаж, с своим страшным и тяжелым грузом, глубоко засел в снегу и в воде, и вытянуть его, да еще поднять в гору, нужно было много силы.
— Не вытянули? — спросил ямщик караульного.
Тот что-то буркнул ему в ответ.
— А где ж народ?
— В церковь пошли: волю там сегодня объявляют, пошли слушать...
Ямщик мой вдруг страшно, неистово закричал на лошадей:
— Грабят!
Лошади рванулись, кинулись в воду. Мы с санями погрузились тоже почти по пояс в воду и выскочили почтой стороне ручья, бежавшего по дну оврага.
— Ну, слава богу! Теперь доедем! — радостно говорил ямщик. — Теперь можно и покурить, — добавил он, останавливая лошадей, чтоб они шли шагом, и вынимая из кармана кисет с табаком.
— Ты с ума сошел! — воскликнул я. — Я весь мокрый! Поезжай в село скорей, в избу какую зайдем; обсушиться надо.
— Вона!
Он даже с удивлением посмотрел на меня.
Мне рассказывали потом, что Емельянинов четыре дня «жил», как выражались мужики, в овраге — не до него было. Уж становой вытащил его: собрал народ, лошадей и потом доставил в Знаменское, где кто-то его и похоронил. Наследники даже и не приезжали.
ПРИМЕЧАНИЯ
Впервые название цикла — «Потревоженные тени» — появилось в 1888 г., когда писатель выпустил книгу с таким названием, в которую вошли три рассказа: «Первая охота», «Две жизни — поконченная и призванная», «Иуда». Через два года, в 1890 г., вышел второй том «Потревоженных теней» с рассказами «Дядина любовь», «Тетенька Клавдия Васильевна», «В раю». В эти две книги вошли все напечатанные к тому, времени рассказы этого цикла, за исключением рассказа «Маша — Марфа». Но и этот рассказ, и рассказы, публиковавшиеся в периодической печати после выхода этих двух книг, предварялись общим названием, цикла.
Так что, когда С. Н. Терпигорев готовил для издателя А. Ф. Маркса собрание своих сочинений, состав третьего тома, в который вошли «Потревоженные тени», был уже фактически определен. Осталось только определить последовательность расположения рассказов, что и было сделано писателем.
В основном рассказы этого цикла публиковались в журнале «Исторический вестник» с 1889 по 1894 г.: 1889, т. XXXV, март; т. XXXVI, апрель — «Дядина любовь» (под названием «Актриса»); 1889, т. XXXVIII, декабрь — «Тетенька Клавдия Васильевна»; 1890, т. XXXIX, январь — «В раю»; 1890, т. XLII, ноябрь — «Маша — Марфа»; 1890, т. XLII, декабрь — «Бабушка Аграфена Ниловна»; 1981, т. XLIII, январь — «Вице-королева Неаполитанская»; 1891, т. XLIII, февраль — «Проданные дети»; 1892, т. L, декабрь — «Илья Игнатьевич, богатый человек»; 1893, т. LI, январь — «Дворянин Евстигней Чарыков»; 1894, т. LV, январь — «Емельяновские узницы»; 1894, т. LVIII, ноябрь, декабрь — «Праздник Венеры». Перед названием каждого опубликованного в «Историческом вестнике» рассказа стояло название цикла: «Потревоженные тени». Все это время писатель сознавал, что пишет единую книгу.
Остальные рассказы писались раньше, публиковались в других журналах, и, видимо, их принадлежность к этому циклу была осознана позднее. «Первая охота» — в журнале «Русское богатство», 1883, т. VIII, август, с подзаголовком «Впечатления раннего возраста». «Две жизни — поконченная и призванная» в том же 1883 г, впервые была напечатана в книге С. Н. Терпигорова «Узорочная пестрядь» под первоначальным заглавием «Рафаэль Иван Степаныч (Из семейных летописей)». «Иуда» — в журнале «Новь» с ноября 1887 но февраль 1888 г., с жанровым обозначением «повесть».
При включении рассказов этого цикла в книги, а потом и готовя собрание сочинений, С. Н. Торпигоров обязательно производил дополнительную работу: правил текст, при необходимости делил его ни главы, менял названия произведений. В 1950 г, готовя первое послереволюционное падание в Потревоженных теней, Н. И. Соколов и Н. И. Тотубалин произвели подготовку текста, сверив текст третьего тома собрания сочинений 1890 г, с первыми публикациями, прижизненными изданиями, исправив опечатки и устранив другого рода искажения.
Примечания
1
Важа — большой чемодан, прикреплявшийся к крыше кареты.
(обратно)2
Форейтор — кучер, сидящий верхом на передней лошади и направляющий всю упряжку.
(обратно)3
Басоны — узорная плетеная тесьма, обычно шерстяная, иногда с примесью металлических нитей, употреблялась для пошивок и обивки мебели.
(обратно)4
Юфть — особый сорт мягкой кожи.
(обратно)5
Осьминник — восьмая часть десятины (десятина — старая русская единица земельной площади, немногим более гектара).
(обратно)6
Чуйка — длинный суконный кафтан.
(обратно)7
Аршин — старая русская мера длины, равная 71 см.
(обратно)8
Жуков табак — табак, выпускавшийся знаменитой табачной фабрикой купца и промышленника Жукова.
(обратно)9
Мушкетон — короткоствольное ружье для кавалериста.
(обратно)10
Орлов-Чесменский Алексей Григорьевич (1737 — 1808), граф (у Терпигорева ошибочно — князь) — один из братьев Орловых, способствовавших перевороту 1762 г, и восшествию на русский престол Екатерины II. Впоследствии был назначен главнокомандующим флота, под его руководством было выиграно морское сражение под Чесмою (1770 г.), за что он и получил титул «Чесменский». Выйдя в отставку, занялся коневодством, вывел знаменитую породу орловских рысаков.
(обратно)11
Ломберный стол — четырехугольный стол, обтянутый сукном, для игры в карты. Назван по испанской карточной игре «ломбер».
(обратно)12
...теперь вот только ключ ему... — то есть получить следующее за камер-юнкерским званием звание камергера. Этой должности соответствовал особый знак — золотой ключ.
(обратно)13
Души тебе своей не жаль... — Самоубийство входит в число семи смертных грехов, не прощаемых церковью.
(обратно)14
Предводитель — сокращенное «предводитель дворянства», выборный представитель всех дворов уезда или губернии (уездный предводитель, губернский предводитель), заведовавший сословными делами дворянства, разбиравший мелкие дворянские тяжбы, следивший за соблюдением правил дворянской чести.
(обратно)15
...выбран в ополчение... — Кроме регулярной армии, в ряде войн, в том числе Отечественной 1812 г, и Крымской, участвовало ополчение, офицерами в которое выбирались только дворяне, в основном отставные военные.
(обратно)16
Становой — становой пристав, полицейский чиновник, начальник стана — административно-полицейского подразделения уезда.
(обратно)17
Всенощная — вечерняя служба в православной церкви. В данном случае говорится о службе, которую будет производить дома приглашенный священник.
(обратно)18
Обедня — утренняя или дневная церковная служба.
(обратно)19
Благовест к «достойной» — колокольный звон, производимый одним колоколом, предшествующий одной из церковных молитв.
(обратно)20
«Художественный листок» Тимма... — С 1851 по 1862 г, художник В. Ф. Тимм (1820 — 1895) издавал периодический сборник литографий с небольшим объяснительным текстом «Русский художественный листок», посвященный современным военным событиям и явлениям общественной жизни России. Особенным интересом и успехом издание пользовалось во время Крымской войны.
(обратно)21
...запоминали фамилии... — Здесь перечисляются участники Крымской войны:
Непир Чарльз (1786 — 1860) — английский адмирал, командующий английским балтийским флотом, блокировавшим русские берега и порты Балтийского моря.
Бурбаки Шарль — французский адмирал, отличился в сражении под Иикорманом.
Мак-Магон Мари-Эдм-Патрис-Морис (1808 — 1893) — французский военный и политический деятель. Командуя дивизией, взял Малахов курган. Впоследствии был маршалом и президентом Франции.
Сент-Арно Жак-Леру (1796 — 1854) — французский маршал, командующий французской восточной армией во время высадки в Крыму к сражения на Альме, позже заболел, сдал командование и умер во время морского переезда в Константинополь.
Пелисье Жан-Жак (1794 — 1864) — командовал в Крыму армейским корпусом, на заключительном этапе осады Севастополя начальствовал всеми французскими силами, впоследствии маршал.
Меншиков Александр Сергеевич (1797 — 1869) — светлейший князь, русский адмирал, начальник Главного морского штаба. В Крымскую войну главнокомандующий в Крыму, потерпел поражения па Альме и под Инкерманом.
Остен-Сакен Дмитрий Еремеевич (1790 — 1881) — граф, русский генерал. В Крымскую войну начальник севастопольского гарнизона.
Бакланов Яков Петрович (1809 — 1873) — сын донского казака, русский кавалерийский генерал. Широкую известность получил своими боевыми действиями на Кавказе с 1845 по 1853 г. Во время Крымской войны начальствовал кавалерией левого фланга Кавказской линии, принимал участие в штурме Карса.
Кошка Петр (умер около 1890 г.) — матрос, герой севастопольской обороны.
(обратно)22
Откупщик — человек, откупивший право па взыскание каких-либо государственных налогов или доходов. Здесь имеется в виду откупщик налогов на винокурение. Занятие этим откупом почти обязательно сопровождалось многочисленными взятками.
(обратно)23
...венгерской кампании... — поход русской армии для подавления венгерской революции 1848 — 1849 гг.
(обратно)24
Пустошь — здесь: незаселенное помещичье имение.
(обратно)25
Полевой Николай Алексеевич (1796 — 1846) — русский писатель, журналист, историк, издатель журнала «Московский телеграф», автор 6-томной «Истории русского народа», полемически направленной против карамзинской концепции русской истории, а также других исторических трудов: «История Наполеона» в 5 томах, «История Петра Великого», «История Суворова».
(обратно)26
Тьер Луи-Адольф (1797 — 1877). — французский политический и государственный деятель, историк, один из создателей теории классовой борьбы, автор многотомных трудов «История французской , революции» и «История Консульства и Империи».
(обратно)27
Чтобы не было никаких сомнений насчет достоверности цифр, то есть в данном случае цен на людей в то время, я подарил редактору «Исторического вестника» несколько писем этой тетеньки, в которых покойница очень обстоятельно и аккуратно приводят их. Сомневающиеся всегда могут видеть эти письма у Сергея Николаевича Шубинскиго и убедиться, что рассказываемое мною здесь вовсе не вымысел в этом отношении. — С. Т.
(обратно)28
Куртина — клумба, цветочная грядка в саду, обычно засаженная каким-либо одним растением.
(обратно)29
Дворянский заседатель — выборный представитель от дворянства в земском межсословном суде.
(обратно)30
О да. Он совсем здоров (нем.).
(обратно)31
Линейка — длинный многоместный открытый экипаж с продольной перегородкой, в котором пассажиры сидят во обе стороны перегородки, боком к направлению движения.
(обратно)32
Доезжачий — старший псарь, во время охоты распоряжающийся собаками.
(обратно)33
…о войне, которую все ожидали тогда... — о Крымской войне.
(обратно)34
...по Козловской дороге... — по дорого на г. Козлов (ныне Мичуринск).
(обратно)35
...заштатные дворовые...— дворовые люди, по старости или по болезни не имеющие постоянных, строго определенных обязанностей или вообще отставленные от всякой работы.
(обратно)36
Дворянские выборы... — Раз в три года дворянские общества производили выборы предводителей, исправников, заседателей, уездных судей.
(обратно)37
Кульмский крест. — Так в России называли Железный крест, которым прусский король Фридрих-Вильгельм III наградил отличившихся участников сражения при Кульме (1813 г.) между войсками антинаполеоновской коалиции, возглавляемыми фельдмаршалом М. Б. Барклаем-де-Толли, и французским корпусом генерала Д. Вандама.
(обратно)38
Капрал — старший рядовой в иностранных армиях.
(обратно)39
Ремонтер, ремонтные лошади — офицер кавалерийской части, производящий закупку новых (ремонтных) лошадей вместо убитых и выбракованных.
(обратно)40
Смольный монастырь... — Имеется в виду Смольный институт благородных девиц, первое в России женское среднее общеобразовательное заведение закрытого типа для дочерей в основном небогатых дворян. Основано в 1764 г, при Воскресенском Смольном женском монастыре в Петербурге.
(обратно)41
Михаил Павлович (1798 — 1848) — великий князь, младший брат императора Николая I. В последние годы жизни был главнокомандующие гвардейским и гренадерским корпусами.
(обратно)42
..многотомные воспоминания и записки герцогини Абрантес... — 16-томные «Записки герцогини Абрантес, или Исторические воспоминания о Наполеоне, революции, директории, Консульстве, Империи и восстановлении Бурбонов» были изданы в России в 1848 — 1849 гг.
(обратно)43
Ней Мишель (1769 — 1815) — маршал Франции, один из ближайших сподвижников Наполеона. участник всех его военных походов. Был расстреляй после падения Наполеона.
Даву Луи-Никола (1770 — 1823) — маршал Франции, князь, герцог. Принимал участие во всех наполеоновских военных кампаниях.
Макдональд Этьен-Жак-Жозеф-Александр (1765 — 1840) — маршал Франции, герцог, участник многих военных кампаний Наполеона. После его падения служил Бурбонам, стал пэром Франции.
Латур Мобур Мари Виктор де Фай (1766 — 1850) — французский генерал, участник похода Наполеона в Россию, впоследствии был военным министром Франции.
Мюрат Иохим (1767 — 1815) — маршал Франции, в 1810 — 1815 гг, неаполитанский король. Участник основных военных походов Наполеона, командовал кавалерией в русском походе. Был женат на младшей сестре Наполеона Каролине. Казнен после падения Наполеона.
(обратно)44
Вахмистр — нижний командный чин в кавалерии.
(обратно)45
...несмотря... на вензеля... — Золотые и серебряные изображения императорских вензелей (инициалов) могли быть только у офицеров Преображенского, Семеновского и нескольких других гвардейских полков.
(обратно)46
Карл V Испанский (1500 — 1558) — испанский король и император Священной Римской империи. Пытался под знаменем католической религии осуществить план создания «мировой христианской державы». Фанатичность и жестокость, проявлявшиеся при осуществлении этого плана, вызывали сопротивление народов, входивших в империю. В 1555 г., потерпев поражение от германских протестантских князей, Карл V отрекся от императорского престола, а черев год — и от испанского.
(обратно)47
Дворничиха — здесь: содержательница постоялого двора.
(обратно)48
Генерал-аншеф — во времена Екатерины II чин генерал-аншефа означал полного генерала.
(обратно)49
Весьма важное лицо (лат.)
(обратно)50
Фриштик — завтрак (от нем. Fruhstuck).
(обратно)51
...из мизерецкого сукна... — плохого грубого сукна (от фр. misire — бедность).
(обратно)52
Плетнев Петр Александрович (1792 — 1865) — русский поэт, литературный критик, профессор русской словесности, а затем ректор Петербургского университета, академик. Друг Л. С. Пушкина, после его смерти до 1846 г, издавал «Современник».
(обратно)53
Депре — известный виноторговец.
(обратно)54
Архиерей — так неофициально называли высших сановников церкви: епископов, архиепископов, митрополитов. В данном случае — слава губернской епархии.
(обратно)55
...в сорок девятом году... тревожное время... — После европейских революций 1848 года в России наступил период, называемый «мрачное семилетие» (1849 — 1855), характеризовавшийся усилением реакций, жестокими цензурными стеснениями, почти полным замиранием общественной жизни. Неспокойные губернии были наводнены войсками, отменен закон 1847 г. о праве крестьян выкупаться на волю при продаже имений с аукциона, учинена расправа над членами кружка Петрашовского, произведены аресты среди славянофилов, преследовался всякий намек на освобождение крестьян.
(обратно)56
Уголовная палата — губернская судебная палата состояла на гражданской и уголовной.
(обратно)57
Депутатское собрание — род сословного суда, где проступок или преступление дворянина разбиралось депутатами от дворян уезда или губернии.
(обратно)58
Волостное правление... — В волости, низшей административной единице царской России (губерния, уезд, волость), существовать правление, состоявшее из волостного головы, заседателей и полостного писаря с помощниками.
(обратно)59
Фунт — старая русская единица веса, составляет 409,5 грамма.
(обратно)60
Пелеринка — короткая, до пояса, накидка поверх платья, иногда с капюшоном.
(обратно)61
Пяльца — (или пяльцы) — прибор для рукоделия в форме рамы на подставке, куда вставляется туго натянутая ткань, по которой вышивают.
(обратно)62
Коклюшки — палочки с утолщением на одном конце и с шейкой и пуговкой на другом, употребляются при плетении кружев.
(обратно)63
Скит — в православных монастырях небольшое общежитие в несколько келий, устраивавшееся в отдалении от монастыря для монахов-отшельников. Здесь как указание на то, что Раиса Павловка жила отдельной ото всех жизнью.
(обратно)64
Евпраксеюшка — ошибка Терпигорева, выше он называл ее Анфисой.
(обратно)65
Бельведер — терраса, башенка на верху здания.
(обратно)66
Рашель (1821 — 1858) — знаменитая французская актриса. Гастролировала я России. В ее репертуара была роль Марии Стюарт.
(обратно)67
Асенкова Варвара Николаевна (1817 — 1841) — замечательная русская актриса, первая исполнительница ролей Софьи («Горе от ума») и Марьи Антоновны («Ревизор»). Известно стихотворение Н. А. Некрасова «Памяти Асенковой».
(обратно)68
Училище правоведения — одно из привилегированных закрытых учебных заведений. Учреждено в 1835 г. В него принимались только дети потомственных дворян. Состояло в ведении министерства юстиции, готовило чиновников суда и прокуратуры. Активно боролось с нравами дореформенного суда и помогало проводить судебную реформу 1864 г. Среди ого выпускников — П. И. Чайковский, А. Н. Серов, И. С. Аксаков, А. Н. Апухтин, В. В. Стасов.
(обратно)69
Тайный советник — по Табели о рангах, введенной Петром I, чин 3-го класса, очень высокопоставленный чиновник.
(обратно)70
Лейб-кампанец — солдат или офицер гренадерской роты Преображенского полка, содействовавшей вступлению па престол Елизаветы Петровны. Роте было присвоено название в «Лейб -кампания», всех наградили поместьями, недворян -возвели, в дворянское достоинство, присвоили им особую форму одежды. Через 20 лет Петр III упразднил «Лейб-кампанию».
(обратно)71
Разумовский Алексей Григорьевич (1709 — 1771) — граф, один из русских «случайных людей» XVIII века. Родился в семье украинского казака, попал в придворный хор и стал фаворитом, а потом и тайным мужем императрицы Елизаветы, которая пожаловала ему графский титул и сделала фельдмаршалом. При дворе Елизаветы пользовался неограниченным влиянием.
(обратно)72
...начали говорить о воле... — об освобождении крестьян от крепостной зависимости.
(обратно)73
Табельные дни — праздничные дни.
(обратно)74
Лицей — привилегированное среднее или высшее учебное заведение для детей дворян. Здесь имеется в виду императорский Александровский лицей, открытый 19 октября 1811 г., одним из первых выпускников которого был А. С. Пушкин. К описываемому времени переведен из Царского Села в Петербург. Среди более поздних воспитанников Лицея был М. Е. Салтыков.
(обратно)75
...комитеты по улучшению быта помещичьих крестьян... — образованные в 1858 г, в губерниях комитеты для выработки и обсуждения проектов освобождения крестьян.
(обратно)76
...воля, то есть Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости... — манифест об освобождении крестьян и Положение, подписанные императором Александром II 19 февраля 1861 г., были опубликованы 5 марта. Читались они по церквам, но не одновременно повсюду, ибо власти и помещики опасались стихийных крестьянских возмущений.
(обратно)
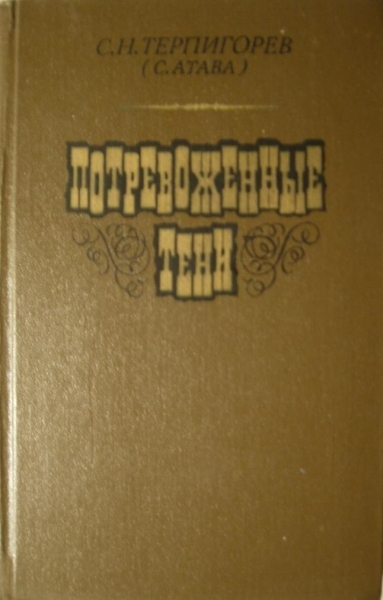


Комментарии к книге «Потревоженные тени», Сергей Николаевич Терпигорев
Всего 0 комментариев