Михаил Алексеевич Воронов Детство и юность{1}
(Из одних записок)
Родился я б пустыне полудикой, Я рос меж буйных дикарей, И мне дала судьба, по милости великой, В руководители псарей. Н. Некрасов.[1]I
Родился я в 18… году, августа 1. Так гласит календарь, на страницах которого мой отец имел обыкновение делать всевозможные заметки и заносить все свои мысли и чувства. Развернув толстую, замасленную книгу на стр. 79, я увидел целый ряд иероглифов, который, по толкованию людей сведущих, означал:
«Четыре часа вечера. Погода хорошая, дождик моросит. Мать (так называл отец свою жену, мою матушку) родила сына, имя: Михаил. Именины его будут праздноваться вместе с другим Михаилом — старшим».
Затем следовала выписка из календаря в таком роде:
«Родившийся под влиянием планеты Сатурн бывает храбр и мужествен, инде зол и вспыльчив, инде добр и мягкосердечен; при умеренной жизни доживает до 85-ти лет. Родившийся в хорошую погоду — сангвиник, в дурную — флегматик или меланхолик (зри: календарь, стр. 476)».
Иероглифы продолжались еще несколько строк, но никто до сих пор, кроме стоящего в средине фразы слова «шельма», ничего не мог разобрать. Подобными иероглифами был испещрен весь календарь, потому что мать моя, женщина тихая и добрая, дарила отцу аккуратно каждый год по ребенку, а иногда даже и сокращала этот срок. Впоследствии из рассказов матери я узнал, что я родился мертвым, так что бабушка, принимавшая меня, пророчила, что я не жилец на этом свете. Что было со мною дальше, как я рос — ничего не помню ясно до самого переезда отца с места моей родины в одну из юго-восточных губерний, где отец мой поступил в гражданскую службу (прежде он служил в военной).
Вот наше родословное древо. За краткость сведений прошу извинить!
Дед мой, как я узнал стороною, был гороховецкий крестьянин (Владимирской губернии). Отец сам не любил рассказывать о своем первобытном звании и о своих родных. «Дети болтливы, — говаривал он, — пойдут толковать да рассказывать, а там, чего доброго, откажутся от всего, и от отца, и от родных, они, дескать, мужики…» Матушка впоследствии говорила мне, что дед был человек богатый и мог бы нанять вместо отца охотника, но отец сам пожелал идти в военную службу. Службу свою отец начал и окончил в кавалерии, прослужил царю и отечеству верою и правдою тридцать лет. «Я до сорока пяти лет был необразованным человеком, — часто говорил он нам в поучение, — а всегда был на виду у начальства и считался добрым служакой. Да если бы не Герасимов, — обыкновенно прибавлял он, — может быть, до сих пор так и оставался бы необразованным». В самом деле, Герасимов (какой-то военный писарь) оказал отцу великую услугу: он научил его читать русские книги (до той поры отец читал только церковнославянские), научил его даже излагать свои мысли начертательно, посредством иероглифов и, может быть, научил бы еще многому, если бы офицерский чин, а за ним женитьба не отбили в нем охоты к дальнейшему образованию. Кто были мой дед и бабка по матери, не могу сказать. Помню только, что раз один из моих братьев, ласкаясь к матери, наивно спросил ее: «Кто был ваш папенька?» Услыхавши такой вопрос, отец резко закричал любопытному: «Как! ты не знаешь, кто были Симеон и Ирина?!» Несчастный вздрогнул и замолк. «Ты не знаешь, — продолжал отец тем же тоном, — кто были Симеон и Ирина, записанные в поминальной книжке?..» — «Дедушка и бабушка…» — со слезами отвечал любопытный. «Ну, так чего же спрашиваешь?» — заметил отец, опуская глаза на лежавшую перед ним псалтырь. Получивши первый офицерский чин и женившись, отец еще с большим рвением принялся за службу и прослужил до штабс-капитанского чина с честью и славой. «Тут пошли новые порядки, — говорил обыкновенно он, — ученых начали везде набирать; пошли эти экзамены разные… ну, и вышел в отставку: вижу, ничего не добьешься…» Строевой службой отец мало занимался; вся его деятельность поглощалась обучением лошадей, ремонтированием и фуражировкой. Общество его состояло по преимуществу из людей, подобно ему добившихся офицерского чина потом и кровью. «У благородных да у разных экзаменованных одно на уме, как бы подсмеяться и подшутить над тобою, простым человеком; а свой брат, дослужившийся, не возгордится… нечем…» — твердил отец. Вышедши в отставку, отец мой уехал на юг России управлять имением, где и прожил шесть лет в сообществе татарского мурзы, большого знатока вина (вероятно, служителям корана разрешается знать вкус в вине), постоянно пьяного лекаря, отставного гусарского поручика и приходского священника, любившего верховую езду. Скучная, бесцветная, а подчас и грязная жизнь, общество, стоявшее гораздо ниже моего отца, умевшего по крайней мере вести разговор о войне и вине, — все это не давало моему отцу ровно никакой возможности выйти из положения полкового вахмистра, понять, что жизнь и потребности семейства стоят несколько выше потребностей конюшенной прислуги и полковых лошадей. На службе отец не успел увидеть порядочной семейной жизни, а вышедши в отставку, он увидел ее в таком виде, что, как человек неглупый, сразу понял превосходство прежней, казарменной, забитой дисциплиною и служебными обязанностями. Грубое, тяжелое обхождение с подчиненными отец перенес в семейство, вовсе не думая о том, уместно оно или нет… Отсюда начинается требование полного подчинения от своей жены, грубое обращение с детьми, которых он судил по-военному, и, наконец, вследствие всего этого, совершенный разлад в семействе, члены которого так и рвутся в разные стороны, лишь бы представилась малейшая возможность к тому. Связанные с семьей одними только преданиями о рождении и непременном условии держаться исключительно ее, они стараются быть по возможности реже в ней — так противен им деспотизм и тяжелое обращение отца!
Проживши шесть лет управляющим, отец решился испробовать счастья в гражданской службе, надеясь получить теплое местечко: притом скучная, вечно будничная жизнь управляющего, видимо, наскучила ему. Недолго думая купил он фургон, в который легко было запихать всю семью, и отправился искать счастья в один из юго-восточных губернских городов. По дороге, как рассказывала мне матушка, заезжали в Воронеж, а оттуда двинулись дальше. По приезде отец стал усердно хлопотать о месте, ссылаясь на бедность и многочисленное семейство и особенно напирая на множество сыновей, «которые (писалось в прошениях) готовы хоть сейчас сделаться усердными слугами царю и отечеству» (старшему было лет одиннадцать). Поиски увенчались полным успехом; открылось место смотрителя тюремного замка, и отец получил его. Нужно заметить, что прежде всего этого, тотчас по прибытии на место, был куплен дом, устройством которого отец мой занимался около года; переезжая в тюремный замок, на казенную квартиру, отец сдал его.
Воспоминания мои, как видно теперь, могут начаться только с этого времени, потому что только с поступлением моего отца в смотрители острога я начинаю помнить себя ясно и определенно; вся же предыдущая жизнь моя рисуется как бы в тумане, и нет ни одного события, которое запечатлелось бы в моей памяти так отчетливо и верно, как все приведенные ниже.
Тюремный замок, смотрителем которого был назначен мой отец, помещался близ заставы, на самом конце города. Он считался самым большим зданием в городе и вмещал в себе более восьмисот арестантов, хотя выстроен был только для двухсот. Каким образом помещались в нем остальные шестьсот человек, я до сих пор не могу объяснить себе… Помню только, что в некоторых камерах сидело человек по семидесяти, между тем как в такой комнате с трудом могло бы поместиться человек тридцать. В самую жестокую зиму в такие камеры вставлены одни только зимние рамы, то есть вторые, — о существовании летних не было и помину… Замок имел при себе три двора: два передних, обнесенных высокою стеною, и один задний, окруженный валом и рвом. На первом переднем дворе помещалась кухня и огороженное высоким забором место, на которое выпускали арестантов прогуливаться; на втором жил смотритель в укрепленном доме с железными решетками; тут же помещались арестантская баня, прачечная и цейхгауз. Женщины и пересыльные арестанты помещались в особых флигелях, выходивших окнами на первый двор. На заднем дворе находились погреба, колодезь, конюшня для рабочих лошадей и огороды для посева различных овощей.
В первые дни после нашего переезда отец был сильно занят приемом новой должности, почему дома бывал очень редко, и то ненадолго. Недели через три, когда все совершенно устроилось, он стал поговаривать о необходимости учить нас; помощником себе в этом деле он выбрал одного из арестантов, дворянина, посаженного в острог «за обман и мошенство», как гласила реестровая книга. Новый учитель был высокого роста, широкоплечий, рябой и с разорванною ноздрею; он с первого же раза навел ужас на меня, двоих братьев и сестру, обреченных на жертву науке. Пылкое детское воображение сейчас представляло себе этого варвара с нагайкою в руке, и глаза невольно застилались слезами при виде такого чудища.
Отец, как теперь помню, сидел на диване в своем кабинете, куда позвали и нас; будущий учитель стоял у двери, вытянувши руки по швам и уставя глаза на отца, который говорил ему что-то. Разговор прекратился тотчас, как вошли мы.
— Вот вам учитель, — сказал отец.
Учитель посмотрел на нас, мы на него.
— Теперь уж я не буду вас сечь, а он, вот и плеть отдам ему, — и отец отдал учителю нагайку.
— А вы-то как же? — робко спросил учитель.
— Не беспокойтесь, у меня есть другая, я себя не обижу, — возразил отец.
— Они меня, надеюсь, и без этого будут слушать, — робко заметил учитель, переминаясь на месте, и положил нагайку на стул.
— Нет, нет, возьмите; с ними без этого не обойдетесь, они уж так приучены, — перебил его отец.
Учитель взял нагайку и начал раскланиваться.
— Так вы будете учить их в комнате около церкви, об успехах каждый день говорите мне, а чистописанье приходите показывать вместе с ними.
Учитель еще раз поклонился и вышел.
На другой день мы отправились вместе с отцом в назначенную для нас комнату, куда позвали и учителя; но вместо одного явилось вдруг двое: бывший частный пристав, посаженный в острог за выпуск арестантов из своей части на разбой, взялся преподавать нам арифметику и грамматику, уверяя, что он знает секрет самого скорого изучения этих наук.
— Молитесь! — провозгласил отец, когда вошли учителя.
Мы начали креститься.
— Ну, теперь, с богом, начинайте!
Мы разместились в следующем порядке: два брата на одной стороне стола, подле арестанта, посаженного «за обман и мошенство»; я и сестра одесную и ошую пристава, выпускавшего разбойников, на другой стороне; отец на третьей.
Нужно заметить, что каждый из нас знал даже писать, а читали мы довольно бойко.
Содержавшийся «за обман и мошенство» и его ученики сразу поняли друг друга и занялись сперва чтением, потом изображением арифметических знаков и, наконец, письмом; но пристав, выпускавший разбойников, никак не мог объяснить нам, что в грамматике главное — предложение и его части: подлежащее, сказуемое, связь, определительные и дополнительные слова, хотя и подкреплял свои доводы, с одной стороны, авторитетом Греча, с другой — угрозою наказания, которому должны подвергнуться бестолковые дети. Сестра и я толковали сквозь слезы «связь», «подлежащее», «сказуемое», но ровно ничего не понимали. Видя, что предложение и его части остаются непонятными, пристав начал толковать об употреблении строчных и прописных букв, на что отец заметил ему, что дослужился до штабс-капитанского чина, а фамилию свою пишет со строчной буквы, следовательно, для детей это совершенно ненужно.
— Лишь бы писали четко да красиво, да бойко читали, да арифметику знали, потому что счеты не всегда под руками, а уж эти мудрости не для них, — заметил отец.
Пристав уступил.
Началось объяснение арифметики и ее тайн, причем сделан был легкий намек на то, что извлечение корней вовсе не такая трудная вещь, как предполагают многие: что стоит только делить и помножать, делить и помножать, отчасти складывать и вычитать, и таким образом исчерпывается вся премудрость. Не знаю, как у сестры, но у меня забегали мурашки вдоль спины, когда грифель, визжа и свистя, изобразил на доске число с крючком наверху.
«Господи! Господи! — подумал я. — Вот сколько нагаек придется получить, прежде чем извлечешь хоть половину такого корня!»
До сих пор не понимаю, зачем ему непременно хотелось учить нас корням, когда мы и четырех правил хорошенько не знали. Это он все отцу пыль в глаза пускал.
— Понимаете? — спросил нас пристав.
— Понимаем, — жалобно произнесла сестра, но так скоро, что я успел проговорить с ней только последний слог.
Дальше рассказывалось нам о дробях, именованных числах, пропорциях, отношениях и проч., причем пристав каждую такую штуку изображал на доске, а отец с любопытством произносил: «А ну-ка, дайте я взгляну».
Часа два тянулся урок; наконец отец торжественно произнес: «Довольно». Он был весьма доволен нашими успехами, почему после новой молитвы с улыбкой заметил, обращаясь к нам: «Да, хорошо-то оно хорошо… только много еще придется вас сечь, пока выучитесь»…
На крыльце нас встретила матушка и очень осталась довольна, когда узнала, что никто из нас не был наказан. Вечером нас засадили учить уроки; хотя мне и сестре не было их задано, но отец настаивал, чтобы мы повторили о корнях; и даже сам попытался изобразить что-нибудь подобное, но, по замечанию няни, «нацарапал только хвост ведьмы».
Следующий урок был на другой день. Пристав, выпустивший арестантов на разбой, не явился, и мы все четверо остались на руках посаженного «за обман и мошенство», который оказался добрейшим и смирнейшим существом. Отец явился в средине урока, спросил, как мы учимся, и, получив удовлетворительный ответ, ушел. Занятия наши с учителем ограничивались «Начатками христианского учения», арифметикой, десятью первыми страничками бестолковой грамматики Греча и чистописанием, — дальше этого мы не заблагорассудили двигаться. Учитель наш, несмотря на свою отвратительную физиономию, отлично писал, так что даже отец приходил в восторг от его почерка.
— Как, каналья, ловко пишет! — говорил отец. — Хоть бы и не эдакой роже, так и то дай бог так писать! — прибавлял он.
Каждый день вместе с учителем мы отправлялись в контору, к отцу, показать свои тетради, причем он делал различные заметки, вроде следующих: «У кого это б так пузо выпятило?» — или: «Отчего ты, Ваня, не стараешься ставить буквы в шеренгу?» — или: «Кто это написал? это ногой написано…» Раз учитель, желая разукрасить мою тетрадь, сделал на обертке ее надпись: «сия тетрадь» и т. д., причем букву с откаллиграфировал на славу. Когда пришли мы показывать свои произведения отцу, он с гневом спросил меня: «Это ты сам так испортил тетрадь?» Я сказал, что это сделал учитель. «Мальчишке только позволительно делать такие глупости!» — резко заметил отец. «Это каллиграфия», — скромно заметил учитель. «Не каллиграфия, а дурной пример… Вы хотите учить моих детей черт знает чему!» — и отец бросил тетрадь на пол.
Так тянулось время нашего учения, скучно и однообразно. Нередко отец, соскучившись такою монотонностью, допрашивал учителя: «Хорошо ли они учатся? не шалят ли? Вы скажите, ради бога, — прибавлял он, — не скрывайте от меня, ведь я им отец… Ведь вы сами знаете, что скрывать этого нельзя: хорошо, так хорошо; дурно — сечь, нечего делать…»
— Они хорошо себя ведут, ей-богу, хорошо! — божился учитель.
— То-то, хорошо ли? — недоверчиво и с грустью твердил отец. Он никак не мог представить себе, чтобы дети, приученные к нагайке, могли обойтись без нее.
Вот и лето прошло. Наступившая осень памятна для меня по двум замечательным событиям, которые спешу передать: первое — знакомство с заплечным мастером (палачом), второе — ночное посещение караульной, в которой наказывали буяна-арестанта.
Мы только что возвратились с уроков, которых, нужно заметить, было два — утренний и вечерний, как нянька, бегавшая неизвестно зачем на арестантскую кухню, сообщила нам, что заплечный мастер «лопает» там говядину. Младший мой брат и я тотчас побежали посмотреть на лопающего палача. Следующее зрелище предстало нашим невинным детским глазам.
В огромной закопченной комнате с кирпичным полом, с громадной русской печью посередине, столами и лавками по стенам, толпилось человек десять у одного из окон. На подоконнике сидел широкоплечий мужчина лет тридцати пяти, с черною бородою и черными курчавыми волосами, в красной рубашке и синем жилете с металлическими пуговицами. Перед ним стояла деревянная чашка с кусками вареной говядины; ломоть хлеба, отрезанный во весь каравай, с кучкой соли на стороне, лежал на мешке из толстой холстины, помещавшемся на его коленях. Заплечный мастер (это был он) быстро уничтожал лежавшую перед ним провизию, посылая в рот огромные куски хлеба и мяса. Завтрак подходил к концу, как из толпы выделился коренастый арестант, лет двадцати пяти, с клинообразною бородкою и плутоватыми серыми узенькими глазками, вертлявый и веселый, и между ним и палачом произошел следующий разговор.
— Так как же твой Николашка? — спросил арестант палача.
— Да что Николашка? Одно слово — ученик! — отвечал тот, отправляя в рот малую толику говядины.
— А он из себя-то видный… — заметил арестант.
— Елова твоя голова! — с упреком отозвался палач. — Я ничего не говорю о том, что из себя-то он видный, а я говорю, что дело свое плохо знает: в кои-то еще веки сделается мастером, — ученик, одно слово! — И палач снова наколотил рот говядиной.
— Да ведь это дело немудреное: долго ли научиться, — заметил парень; он, видимо, старался досадить палачу противоречиями.
— Ну-ка ты, шустрый, — язвительно вскрикнул палач, — ну, на вот кнут: убей человека с трех раз…
Арестант замялся. Такое милое предложение смутило его.
— С десяти не убьешь… — важно продолжал палач.
— А ты убьешь с трех? — спросил кто-то из толпы.
— Не хошь ли? Ложись, попробую, — отвечал палач, обращаясь к любопытному.
Раздался общий смех.
— Да чего тут с вами рассуждать… Дай вон кружок с кадки!
Арестант с плутоватыми глазками отправился за кружком, а палач слез с окна и, взявши с коленей мешок, достал из него кнут.
— Клади кружок вот здесь! — палач указал на средину комнаты.
— Постой, я тебе задачу задам, — сказал арестант, проводя углем черту на кружке. — Вот попади три раза по одному месту.
— Велика задача!.. — с улыбкой заметил палач. — Смотри, ребята! — палач обратился к толпе, — попаду три раза по одному месту не глядя, — он отвернулся.
Раздался свист кнута, и черта вдавилась в кружок. Палач снова отвернулся в сторону, снова ударил — черта вошла еще глубже; за вторым — третий, и на кружке осталась глубокая борозда.
Все бросились к кружку и начали измерять глубину борозды.
— Вот у тебя на спине эдаких канав нароют, — заметил с улыбкой один арестант другому, сморщенному сухому старичку лет шестидесяти.
— Да, повыпрямлю спину-то, — торжественно изрек палач, довольный произведенным впечатлением. — А что, разве конфирмация[2] пришла? — спросил он старичка.
— Да, бают, тридцать пять ударов, — грустно ответил тот.
— Тридцать пять ничего… У меня тридцать пять бабы вылеживают, — хладнокровно заметил палач. — Нет, нынче я, братцы, как-то милостив стал: бьешь не бьешь, как ровно руки не владеют. Лет пяток тому назад — ну, тогда занимался своим делом, а теперь охоты нет.
— А вот Николашку коришь, что плох, — опять заметил арестант.
— Смешной ты человек! Николашка должен быть прилежен к эвтому делу опять потому же, что ученик; должен доподлинно разузнать все, — а то какой же из него мастер выйдет?
— Вот, глянь-ка, смотрителевы щенки там подслушивают, — шепнул кто-то, указывая на нас.
— А подай-ка мне их сюда да положи на кружок, я маленько попарю их! — крикнул палач, обращаясь к нам.
Мы стремглав бросились в дверь и, едва переводя дух, пустились бежать домой.
— Куда это вы бегали? — спросила нас няня.
— Палача посмотрели, — отвечали мы.
— Ах вы, дети, дети! Вы и не знаете, какой вы принимаете грех на свои душеньки: ведь он от отца, от матери отказывается — на него и смотреть-то грех!
Но мы нимало этим не смутились и после, припоминая виденное нами, сильно тужили, что не имеем такой силы, — а то бы в палачи пошли. Брат прибавлял при этом, что своего учителя он бы легко наказал, а кучера Сергеича, который не хочет покатать верхом, высек бы больно-пребольно.
Впоследствии я имел случай лично познакомиться с этим самым заплечным мастером и от него узнал все подробности наказания.
— А клеймите вы как?[3] — спросил я его, зная, что они же накладывают и клейма.
— Это дело нехитрое, — отвечал палач. — В праву щеку како, в лоб живете, в леву рцы, — вот и готов человек!.. Впрочем, — прибавлял он, — вы пожалуйте к нам на площадь, когда наказание будет, так и увидите все, это дело стоит посмотреть.
Прошло недели две после рассказанного мною события. Раз, поздно вечером, мы сидели в кабинете отца целой семьей. Отец, оседлав свой нос большими серебряными очками, читал нам житие св. Кирика и Улиты. Вдруг вбежал в комнату солдат и с ужасом объявил:
— Куров буянит, ваше благородие, дверь вышиб!
— Опять… — проворчал отец и начал натягивать сюртук.
— Пойдем со мной, — сказал он, обращаясь ко мне.
— Не стоило бы ребенка водить на такие зрелища, — робко заметила матушка.
Отец промолчал, но взял меня за руку, и мы отправились.
Пройдя двор, мл вошли в полутемный сырой коридор, под сводами которого глухо отдавались шаги часового, бродившего в противоположном конце. Гнилой, удушливый запах, двери с огромными замками и маленькими окошечками, сквозь которые пробивался тусклый свет ночников, изредка болезненный, глухой кашель, вырывавшийся из чьей-нибудь разбитой груди, — все это навело на меня какой-то ужас, и я плотно прижался к отцу и вцепился в полу его сюртука.
— Чего боишься, глупый? — с улыбкой спросил отец.
— Страшно, папенька! — прерывающимся голосом тихо пролепетал я.
В это время мы поравнялись с пустым номером, дверь в который была полуотворена.
— А вот тут страшно? — спросил меня отец, отворив совершенно дверь.
Но прежде чем я успел ответить, сильная рука толкнула меня вперед, и дверь затворилась. Я совершенно обмер от ужаса. Хотел закричать — голос не выходит из груди. Мороз пробежал вдоль спины, и я чувствовал, что вот-вот упаду. В беспамятстве я прислонился к мокрой и сырой стене, штукатурка на которой совершенно отстала и образовала пузыри вроде опухоли, в которые проскакивали мои пальцы. Миллионы чертей, ведьм и прочей страшной дряни, о которой так усердно толковала наша нянька, готовы были, казалось, сейчас предстать предо мною — как дверь отворилась снова, и отец схватил меня за руку и вывел в коридор.
— Эх, трус! — с упреком сказал он. — Даже позеленел, дурак… А еще хотел я отдать тебя в военную службу: какой же из тебя воин бы вышел?
Я молчал и сильнее прежнего вцепился в полу его сюртука.
Так прошли мы один коридор, за ним другой, потом повернули в третий, маленький, и только после перехода в четвертый очутились перед разбитой дверью, висевшей на одной нижней петле. Несколько человек солдат, с ружьями наперевес, дежурный офицер и дежурный ключник стояли в коридоре в ожидании отца.
— Где же он? — спросил отец.
— Вон, на нарах сидит, — отвечал офицер.
Все вошли в камеру, где на нарах преспокойно сидел коренастый молодец с насмешливой физиономией, подвернувши ноги под себя, и от нечего делать ковырял в носу.
— Что ты делаешь, разбойник! — закричал отец.
— Мне скучно одному сидеть, — хладнокровно отвечал арестант.
— Возьмите его, — сказал отец, обращаясь к солдатам. — Я тебя развеселю! Я тебя развеселю! — задыхаясь от гнева, прибавил он и совершенно машинально взял меня за руку.
Мы прошли два небольшие коридора и вышли на главный вход, налево от которого помещалась караульная. Отец так же машинально поставил меня у самой лавки, на которую должен быть положен арестант, и закричал: «Розог!»
— Раздеть его! — прибавил офицер.
Я стремглав бросился из комнаты и несколько минут простоял за дверью, закрывши глаза и заткнувши уши. Ототкнув их, я ясно слышал, как свистали розги при каждом взмахе, слышал поощрения отца и офицера, — но ни одного крика, ни одного вздоха не вылетало из груди арестанта. Я простоял довольно долго, дрог и от холода и от сильных ощущений; наконец слышу, отец закричал: «Довольно!» Дверь широко распахнулась, и трое солдат пронесли мимо меня что-то закутанное в шинели.
— Несите в больницу, — приказал отец.
— Миша! где ты? — крикнул он. Я подошел.
— Дрянь! — с сердцем заметил отец. — Теперь я никогда не буду брать тебя с собою. А завтра будут наказывать за заставой: возьму кого-нибудь другого…
Я по-прежнему схватился за полу его сюртука, и мы отправились домой опять теми же грязными и вонючими коридорами. Отец по временам заглядывал в небольшие стекла, врезанные в двери, иногда приподнимал и меня, чтобы я мог видеть полуосвещенную внутренность камер.
Наконец мы воротились домой. Матушка спросила меня, что я видел, и когда я рассказал ей, что именно, она со вздохом взяла меня за руку и повела спать.
Утром братья ходили с отцом за заставу смотреть, как гоняли сквозь строй военных арестантов, а меня, в наказание за вчерашнюю мою трусость, отец не захотел взять с собою.
До сих пор я ничего не говорил о своем старшем брате, в то время уже учившемся в гимназии, которому было лет тринадцать. Не говорил я об нем, собственно, потому, что он уже мало-помалу начал отбиваться от семьи, над которой тяготел деспотизм отца, и день проводил в гимназии, а по вечерам, несмотря на брань и побои, уходил из дома бог весть куда; следовательно, он мало принимал участия в общем ходе семейной жизни. Отдавая его в гимназию, отец вверил надзор за ним инспектору, человеку грубому и жестокому, и надзирателю, выслужившемуся из рядовых. В каждый большой праздник он отправлялся к этим двум лицам с поклоном и подарками, прося беречь нравственность своего сына и сечь его за каждый проступок. С какою точностью исполнялась родительская воля, можно судить по тому, что брата секли раза четыре в неделю, по собственному усмотрению, и непременно раза два в месяц с разрешения отца. Мальчик озлобился и начал делать такие вещи, которые скоро доставили ему громкую известность между товарищами, а надзирателей его заставили побаиваться за собственную безопасность. Опасения их действительно скоро сбылись…
В один прекрасный день брат почему-то опоздал в класс на несколько минут. Инспектор поставил его за это на колени в дежурной комнате, где он простоял полтора часа. Начался следующий урок, а инспектор и не думал отпустить его. Так прошло еще полчаса, и инспектор ушел домой, оставив брата на коленях. Выведенный из терпения таким тиранством, мальчик придумал следующую штуку… В комнате, где он стоял, висели единственные в гимназии часы, по которым производились звонки об окончании классов: брат перевел их вперед, а явившийся сторож, увидя, что пришло урочное время, зазвонил. Учителя и ученики вышли из классов и хотя сомневались в такой быстроте времени, однако преспокойно разошлись по домам; вместе с другими отправился и брат. Штука открылась, разумеется, тотчас же, и вновь явившийся в гимназию брат был жестоко наказан розгами и посажен в карцер. Постоянно направляемый розгами на путь истины, бедный мальчик окончательно совратился с него, и явившемуся с увещаниями надзирателю, грозившему запороть его до смерти, дал несколько ударов в лицо и изорвал тщательно сберегаемый темно-синий фрак. Окровавленный и ободранный надзиратель прискакал прямо к отцу и увез его с собою. Что было дальше — неизвестно…
Так прошел месяц, в течение которого мы ни разу не видели брата и ничего не слышали о нем, хотя догадывались, в чем дело. Матушка плакала чаще обыкновенного и все о чем-то шепталась с няней; отец, постоянно мрачный и суровый, теперь сделался еще мрачнее. Нам приказывали ходить как можно тише и не шуметь и постоянно усаживали за книгу или высылали на двор, несмотря на осеннюю погоду.
Наконец как-то поутру, когда мы только что воротились с урока, брат встретил нас с сияющей, хотя значительно похудевшей физиономией. Начались расспросы, и он торжественно объявил нам, что хотя и вылежал больше месяца в постели за «проклятую» гимназию, зато теперь перешел в уездное училище.
— Там, — с восторгом объяснял он, — не то, что в гимназии; там семинария рядом и кулачные бои бывают каждый день; а когда есть свободное время, так даже раза по два…
Мы тоже радовались такому счастью, хотя скоро должны были разочароваться по следующему обстоятельству.
Месяца через полтора, уже зимою, брат воротился домой из училища в ужаснейшем виде!.. Вместо носа у него образовался какой-то нарост, угрожавший заслонить собою все лицо и расплывшийся направо и налево по щекам; на лбу торчали такие ужаснейшие шишки, что не было никакой возможности прикрыть их козырьком фуражки; кроме того, он жаловался на боль в правой руке и спине. Показаться в таком виде отцу значило заранее обречь себя на гибель; потому брат укрывался кое-где, натирая лицо бодягой и упрашивая всех говорить отцу, что он готовится к полугодичному экзамену. Но все эти хитрости были слишком слабы, чтобы скрыть горькую истину. Отец наконец узнал все и только покачал головою, проворчав про себя: «От рук отбился мальчишка…»
Такой оборот дела совершенно ободрил брата, и он рассказал нам все.
— Что же, что он мне шишки набил?.. — говорил брат. — Ведь он зато считается первым силачом в семинарии: вон в воскресенье целую стену калачников разогнал. Да и я бы ему сам рогов наставил, если бы было где повернуться, а то он меня сбросил на кучу кирпичей, да и ну валять! Если б я не упал, я бы его под ножку, да потом вот так!.. потом вот эдак!.. потом вот как!.. — И брат начал показывать нам все хитрости кулачного боя.
Мы смотрели на него с каким-то уважением, видя перед собой такого великого героя, украшенного всеми принадлежностями лучшего кулачного бойца: синяками, шишками, рубцами, фонарями и проч.
Между тем наступившая зима брала свое. Снег шел почти каждый день, и морозы стояли довольно крепкие. Отец купил нам двое салазок, в которых позволялось кататься вечером после урока. Иногда случалось смотреть нам травлю зайцев и волков, которая производилась на огромном поле за острогом, по желанию сидевшего в то время в замке помещика и с разрешения отца. Другой помещик, тоже большой охотник, посаженный в острог «за какую-то засеченную им девку», как говорил он, не хотевшую, как оказалось, сделаться предметом его сладострастия, трубил при этом в рог с таким остервенением, что постоянно перепутывал всех — и собак и охотников. Садки бывали довольно часто, и мы являлись на каждую или официально, с разрешения отца, или тихонько пробирались за стену острога и смотрели оттуда. После одной из таких прогулок, на которую нам не дано было разрешения, отец в наказание запер нас в холодный сарай возле бани, где стояла огромная кадка, служившая резервуаром для воды. Мы уселись на полу и плотно прижались друг к другу, но холод был до того нестерпим и нас продержали так долго, что, позабыв всякую боязнь худшего наказания, мы начали голосить целым хором. Руки и ноги у каждого из нас до того одеревенели, что мы совершенно не могли ими ворочать. Особенно плакала сестра, которая, разумеется, была нежнее и слабее нас. Наконец отец догадался выпустить нас, наказав предварительно за то, что мы осмелились плакать, между тем как сами же были всему причиной. Вероятно, это наказание послужило в нашу пользу, сразу подняв температуру крови, потому что мы не почувствовали ни малейшей простуды.
Ученье мое между тем быстро подвигалось вперед: я уже довольно бойко читал, а писал далеко лучше отца, хотя он иногда и сравнивал мои буквы с своими иероглифами и даже уверял, что он лучше меня пишет; другим же отец меня рекомендовал как гениального мальчика, прибавляя: «Вы посмотрите, как он пишет, точно печатает». Но вскоре моей гениальности суждено было испытать самый жестокий удар…
Комната, в которой учились мы, имела, как все комнаты в остроге, окна с железными решетками. Дело было перед пасхой. Выставили рамы, и мне непременно хотелось просунуть голову сквозь решетку и подышать чистым весенним воздухом. Несмотря на увещания учителя, я вскарабкался на окно и начал приводить в исполнение задуманную мысль. Промежутки между прутьями решетки оказались слишком узкими, так что попытка моя удалась после чрезвычайных усилий. Совершенно довольный успехом, я с жадностью смотрел то направо, то налево и наконец до того увлекся, что начал плевать вниз, стараясь попадать в одно и то же место. Учитель несколько раз советовал мне сойти с окна, но я не слушал. После долгих упражнений я действительно начал плевать в одну и ту же точку, раз за разом, как вдруг услышал позади себя голоса отца и еще кого-то.
— Отлично пишет, ваше превосходительство, — говорил отец. — У ребенка девяти лет совершенно министерский почерк… совершенно… Да где же он? — спросил отец учителя.
— Они вон на окне, — смиренно отвечал тот. Положение ребенка с министерским почерком было совершенно критическое: он упирался и руками и ногами, стараясь высвободить голову из решетки, повертывался то направо, то налево, пятился назад, подвигался вперед, — все напрасно, ничто не помогало.
— Да он к тому же бойкий мальчик, — заметило постороннее лицо и, подойдя к окну, посмотрело на меня сбоку. — Что, мой друг, застряла голова? — прибавило лицо с улыбкой, уходя.
Я продолжал биться и прыгать, как лошадь в кузнечном станке.
— Вы совершенно осрамили меня, — тихо заметил отец учителю. — Оставьте так его до вечера, — прибавил он и поспешил за посторонним лицом, мимоходом вытянув меня чем-то по спине.
Тотчас по уходе отца учитель побежал за мылом; мне намылили уши и щеки и тогда только кое-как освободили голову из добровольного заключения.
Но вот наступило лето, и отец стал поговаривать о том, как бы отдать меня в гимназию. Притом же брат мой, так увлекавшийся сначала уездным училищем, теперь стал упрашивать отца перевести его обратно в гимназию: он понял наконец, что гимназия все-таки лучше уездного училища.
Утром, в один из праздничных дней, отец приказал мне одеваться, чтобы ехать вместе с ним. Я с радостью исполнил его приказание, и мы отправились.
До сих пор я ни разу не видел хорошенько города и с любопытством озирался на обе стороны, расспрашивая отца обо всем, встречавшемся на пути. Чтобы отделаться от моих докучных вопросов, отец объявил мне, что скоро я сам узнаю обо всем, когда буду ходить в гимназию. Мы приехали в гимназию, в квартиру директора, который встретил нас в зале. Это был низенький, толстенький человечек, с порядочным брюшком, по которому он постоянно похлопывал, как бы стараясь дать другим заметить, что вот-де оно какое у меня. После различных китайских церемоний, поклонов, вопросов и ответов о здоровье и погоде, отец наконец представил меня ему.
— Вот хотел бы я, ваше превосходительство (директор был статский советник)[4], определить его в гимназию под покровительство ваше, — сказал отец.
— Что же, что же, можно, можно… — и директор захлопал по брюху.
— Дома-то он совсем избалуется, а у вас все-таки.
— У нас все-таки… у нас все-таки… — и опять хлопанье по брюху.
— Он закон божий, арифметику и грамматику знает, — пояснил отец.
— Больше ничего и не нужно… больше ничего и не нужно… Мы латыни выучим, всему выучим… и всему выучим… — твердил директор, опуская докучную ладонь на брюхо.
— Пишет отлично, — ввернул-таки отец.
— Тем лучше, тем лучше, а то у нас учитель чистописания злой: все уши обобьет линейкой, все уши обобьет линейкой…
Тут отец и директор подались вперед и протянули правые руки, после какового рукоприкладства отец, как человек военный, опустил свою на шов, а директор, как гражданский чин, понес свою сначала в левый карман жилета, а потом уж захлопал по брюху.
— Когда же, ваше превосходительство, приводить его прикажете? — спросил отец.
— В августе, в августе… в первых числах, в первых числах…
— А старшего-то как же, ваше превосходительство?
— Не приму, не приму… Негодяй! — возразил директор. — Начальство не уважает и бьет, начальство бьет…
— Он исправится, ваше превосходительство… — Отец и директор опять совершили рукоприкладство, после чего директор забормотал:
— Хорошо, хорошо… приму, приму… только пусть исправится, пусть исправится…
— Да уж в этом будьте благонадежны — исправится, — поручился отец.
Мы раскланялись с директором и отправились к инспектору, который жил тоже в гимназии. С инспектором (он был поляк) отец обходился гораздо бесцеремоннее, чем с директором, и даже иногда позволял себе подшучивать над ним, уверяя, например, что отдает полную справедливость его уму, но никак не может простить того, что он, вместе с другими поляками, «проспал Варшаву» (известный упрек, делаемый полякам нашим простонародьем). Инспектор сердился и отвечал отцу колкостями. После долгих споров подали водку, и инспектор начал толковать о трудности своей обязанности, за что и получил от отца беленькую…
От инспектора мы поехали домой. Дорогой отец толковал о новой жизни, в которую предназначается мне вступить, и советовал прилежно учиться и хорошо вести себя, уверяя, что инспектор и директор такие люди, которые готовы съесть ленивого и безнравственного ученика.
По приезде домой я рассказал, обо всем братьям и сестрам, которые позавидовали моему счастью; няня при этом объявила мне, что будет звать меня не иначе, как «красной говядиной» или «грачом» (клички гимназистов, чрезвычайно распространенные в то время).
Я был в совершенном восторге. К тому же у меня образовался в это время порядочный альт, и отец позволил мне петь на клиросе в острожной церкви, где мы вместе с гнусавым дьячком и дряхлым ключником, певшим дискантом, отличались на левой стороне, образуя трио. Но счастью моему, как и всякому счастью в сей жизни, суждено было на некоторое время помрачиться… Дело было вот какого рода.
В первый воскресный день, забежав в кабинет отца, я уронил на пол и разбил вдребезги любимый его фарфоровый стакан. Отец окончательно вышел из себя… Но покуда он ходил в детскую за нагайкой — я скрылся. Зазвонили к обедне, и отец, сопровождаемый кучей детей мужского и женского пола, отправился в церковь, приказав няне отыскать меня и привести туда же. Делать нечего — нужно повиноваться. Вошедши в церковь (обедня уже началась), я, по обыкновению, стал пробираться на левый клирос, как был остановлен резким криком отца: «Куда ты?» Я совершенно оторопел. Дьякон, услышав крик, сбился в произносимой им ектении, но, к счастью, скоро поправился и продолжал. Отец между тем подозвал меня к себе и, взявши за ухо, поставил на колени на амвон, против образа богоматери. Я опустил глаза в землю и начал учащенно накладывать на себя крестное знамение и делать поклоны, стараясь хотя сколько-нибудь скрыть от других свое волнение и свое тяжелое положение. Оправившись, я взглянул на левый клирос, где грустные лица дьячка и ключника, сочувствовавших моему горю и убитых тем, что расстроилось трио, глубоко тронули мое детское сердце. Совершенно уничтоженный таким нежданным оборотом дела, я уставил глаза на образ богоматери и на ее святом лике ясно прочел печаль и сожаление обо мне. Это меня несколько ободрило, и я спокойно выстоял на коленях целую обедню, после которой отец засадил меня читать жития святых и продержал в детской за этой книгой целых три дня. Наконец в один прекрасный день я получил амнистию, потому что скоро должен был отправиться в гимназию.
II
А вот и время моего отправления в гимназию наступило. Раз поутру отец разбудил меня часов в шесть и велел готовиться к отправлению на приемный экзамен. Я тотчас оделся, взял в руки арифметику и начал перелистывать ее, вовсе не думая читать, потому что голова моя была занята совершенно иным. Фантазия быстро представляла один за другим различные образы, в которые воплощалась моя собственная персона: то являлся маленький гимназистик, бойко отвечающий свой урок и хвалимый учителем; то рослый, плечистый молодец, побивающий целую толпу своих товарищей; то наконец робкое, забитое, чахлое существо, от которого я с негодованием отворачивался, как от странного порождения праздной фантазии… Подержав в руках арифметику, я принялся перелистывать точно таким же образом грамматику, в которой был гораздо слабее. Пересматривая цифры на страницах, я наконец остановился на самой большой из них, думая, что уж тут непременно должно быть что-нибудь важное. Начинаю вчитываться… Раз прочел — не понимаю; в другой — тоже; в третий читаю — та же история. Я уже хотел бросить мудреную книгу, как вдруг подходит отец и спрашивает меня, что я читаю. Я ответил: «Грамматику». — «Ну, вот ты это место долго читаешь, дай я спрошу: знаешь ли?» Отец взял у меня книгу и громогласно произнес: «Говори отсюда: глаголы начинательные…» Я молчал. «Как же ты учил, учил, а ничего не знаешь?» — спросил отец. «Да этого я не учил, это я так только посмотрел». — «А, так-то ты готовишься к экзамену? — протянул отец. — Стань на колени и учи, что нужно», — прибавил он. Я повиновался и со слезами на глазах начал бормотать какое-то давно мне известное правило. Наконец встали мои братья и сестры и начали бегать мимо меня, стараясь узнать, за что я поставлен на колени. Я уткнул лицо в книгу, читая мертвые и сухие правила, которые едва ли могли пойти в голову, и на все расспросы братьев отвечал только энергическим движением головы. Так выстоял я до девяти часов. Отец не велел мне даже давать чаю, потому что, говорил он, сытое брюхо к ученью глухо… Так отравлена была заря моего счастья!
Часов в девять мы отправились: я, старший брат и отец. Дорогой отец делал наставления брату в таком роде: «Ой, берегись, Миша! ой, берегись делать такие шалости! Ты ведь знаешь, что у меня нет пощады… Я тогда тебе полтораста розог дал, теперь двести дам — и в кантонисты! Я тебе, как перед богом, говорю это!» Брат молчал и нервически подергивал губами, вероятно припоминая «полтораста».
По приезде в гимназию мы пошли в публичный зал, где производились в это время экзамены. Директор сидел у одного стола вместе с вертлявым господином, тонким и изящно одетым, и другим господином, толстым, опухшим, хриплым и грязным; инспектор, на противоположном конце зала, у другого стола, тоже с двумя существами, из которых одно было немецкой расы, другое — русской, с сивушным запахом, как случилось мне заметить, проходя мимо него. Перед обоими столами стояли гимназисты, человек по пяти. Мы направились к директорскому столу.
— Вот, ваше превосходительство, привез детей, — произнес отец, обращаясь к директору.
— Прекрасно, прекрасно, — сказал директор. — Мы сейчас этого маленького проэкзаменуем, проэкзаменуем… — И директор обратился к вертлявому господину, приказав ему проэкзаменовать меня из математики и прочих наук.
— Они-с в первый-с класс? — спросил вертлявый директора.
— Да, в первый, — отвечал тот.
Вертлявый господин не без грации приподнялся со своего места, осторожно взял меня двумя пальцами за рукав и повел к доске. Тут он скорчил серьезную мину и задал мне какую-то задачу, которую я разрешил удовлетворительно, за что и был подарен от моего экзаменатора приветливой улыбкой. Потом он спросил меня кое-что из закона божия, причем не замедлил пуститься даже в различные тонкости. Спросил меня также вертлявый господин и из грамматики, в которой, надобно заметить, он не был таким знатоком, как известный пристав, выпускавший разбойников из части, хотя тоже пробовал пускаться в различные отвлеченности. Тем мой экзамен и кончился. Вертлявый опять схватил меня двумя пальцами за рукав и повел к директорскому столу.
— Они прекрасно-с выдержали экзамен, — с лакейскими поклонами и ухватками сообщил мой экзаменатор директору.
Дальше начался разговор между отцом и директором по поводу брата, причем директор объявил, что принимает его не иначе, как на прежних условиях, то есть сечь четыре раза в неделю по собственному усмотрению и два раза в месяц с разрешения отца.
— Завтра можно в классы приходить, в классы приходить, — сказал нам директор, когда мы откланялись.
На лестнице догнал нас опухший, хриплый толстяк, сидевший за директорским столом, и, схвативши отца за руку, спросил:
— Какую, я забыл, наливку вы мне хвалили?
— Вишневка, вишневка, — отвечал отец. — Приезжайте попить.
— То-то, то-то… А я все сижу да думаю: какую, мол, наливку он мне хвалил? а спросить-то неловко. Теперь приеду, теперь уж не отвертитесь; сыновей в гимназию отдаете, нужно вспрыснуть, — прибавил опухший и захохотал.
— Милости прошу, — отвечал отец, и мы пошли дальше, оставивши толстяка в приятной надежде на изрядную выпивку.
Я приехал домой в совершенном восторге. Экзамен выдержал отлично, завтра пойду в гимназию, стало быть, все-таки реже буду встречаться с отцом, — какое счастье! Ко всему этому, в довершение моей радости, после обеда портной из арестантов принес мне гимназический сюртук и фуражку с красным околышем.
— Вот, ваше благородие, — говорил портной отцу, — никогда не шивал фуражек, а для вашей милости сшил.
Фуражка в самом деле была верх совершенства — на проволоке, картоне, китовом усе и проч., так что представляла собою полый цилиндр с отверстием в одном из оснований, назначенном для всовывания головы. Три четверти края отверстия занимал козырек, чуть ли не из жести, который служил впоследствии ужасом для моих товарищей и набил не одну шишку. По поводу этих вещей между отцом и портным произошел следующий разговор:
— Эх, братец, — говорил отец, обращаясь к портному, — ты бы вверху-то пошире пустил, оно красивее бы было.
— Я пущал, ваше благородие, и много пущал, да как-то не вышло. И как это оно не вышло? — допытывался портной, осматривая фуражку.
— Опять вот воротник у сюртука, — замечал отец, — как ты его сделал?.. Он должен подпирать шею, чтобы прямее стояла голова, а ты вон какой маленький сделал.
— Это ничего, ваше благородие, эдак еще лучше, красивее, — замечал портной.
После таковых рассуждений сюртук был сложен и отнесен в шкаф, а фуражка, не помещавшаяся ни в одну картонку, повешена в зале на гвоздь рядом с каким-то генералом.
На следующий день я отправился в гимназию вместе с братом. Я отказался даже пить чай, утверждая, что никогда не любил его. Матушка и няня напихали мне в карманы разных припасов и долго давали наставления брату, чтобы он присматривал за мною и берег меня. Когда мы выехали из дома, брат дал мне заметить, что вовсе не намерен быть моим гувернером, на что, впрочем, я и не рассчитывал.
— Спиши расписание да узнай, какие книги тебе нужны, вот и все, — объяснил мне брат, — да дома советую поменьше болтать; а то пойдешь рассказывать всем и про себя и про меня.
Я принял все это к сведению, стараясь по возможности следовать добрым советам.
Вот наконец и гимназия, об устройстве которой я скажу теперь несколько слов.
Гимназия находилась в лучшей части города и отличалась необыкновенною ветхостью и грязным наружным видом. Во время моего поступления стали поговаривать об ее переделке, потому что действительно некоторые части здания угрожали падением: с потолков сыпалась штукатурка целыми глыбами, а полы совершенно сгнили. Здание состояло из трех этажей: в среднем помещались классы, в нижнем — пансион и квартира директора, в верхнем — библиотека и физический кабинет. Классы гимназии располагались по обеим сторонам грязного узкого коридора, в одном конце которого помещалась дежурная комната (местопребывание инспектора и надзирателя), в другом — сборный зал. Пансион, занимавший нижний этаж, состоял из нескольких спален, одной столовой, одной гардеробной и одной занимательной комнат. Он назначался для тех из учеников гимназии, которые отдавались на собственный или казенный счет и обязаны были жить в самой гимназии. О гимназической библиотеке и физическом кабинете трудно сказать что-нибудь определенное, потому что в первую никто не допускался, а во второй иногда водили учеников, как будто именно для того, чтобы показать им, что все инструменты находятся в совершенной негодности. О библиотеке ходили слухи, что главная достопримечательность ее — самовар, назначавшийся для директора, который любил иногда выпить чашку чаю с Ломоносовым или Державиным в руках; что на случай приезда ревизоров книги собирались по городу, и тогда полки шкафов совершенно ломились под различными отечественными и иностранными изданиями. Кроме главного здания, гимназия имела при себе несколько флигелей, в которых нельзя было жить по их ветхости, и необходимые надворные строения, в которых помещались кухня, баня, конюшня, сараи, погреба и проч.
Когда я вошел в зал, куда собирались ученики гимназии до классов, меня, как новичка, сейчас окружили и начали расспрашивать, как моя фамилия, в который класс поступил, сколько мне лет, кто мой отец и проч. Я по возможности удовлетворял всем этим вопросам; но так как они сыпались на меня целым градом, то наконец я рассудил не отвечать на них и смиренно уселся за ученический стол, неизвестно зачем стоявший тут. Первою моею мыслью было — спрятать свою фуражку; но, о ужас! — она не входила в отверстие стола. Это сейчас заметили и начали подсмеиваться надо мною.
— Вы видели барабан? — спросил один мальчик другого, подводя его к моей фуражке.
Мальчик вместо ответа постучал по предполагаемому барабану.
— Господа, господа! — кричал первый мальчик, — к нам барабанщика определили! Посмотрите, вот и барабан у него… — Он схватил мою фуражку и бросил в толпу, которая принялась ожесточенно колотить по ней линейками, уверяя, что даже слышны звуки. Вместе с другими в этом приняли участие такие великаны, что я совершенно обмер, считая свою фуражку погибшею. К моему счастью, вошел инспектор, и толпа разбежалась, оставивши мою фуражку на полу среди залы. Инспектор поднял ее и, узнавши, что она принадлежит мне, объявил, что высечет, если я не буду беречь свои вещи. Через четверть часа раздался звонок; все побежали в классы; вместе с другими и я.
Первый урок — арифметика. Знакомец мой, вертлявый господин, важно вошел в класс и, рассевшись на кафедре, торжественно произнес: «Перо и чернила!» Тотчас явилось перед ним то и другое; затем учитель спросил, какое число, и записал его в свой журнал. Все это делалось с необыкновенным достоинством и серьезностью, хотя прямо противоречило с комической фигурой вертлявого господина.
— Что же вас мало? — спросил учитель, важно разваливаясь на стуле.
— Не все еще собрались, — отвечал кто-то.
Подле меня сидел довольно плотный мальчик в изорванном сюртуке, ясно указывавшем на его бойкий характер, и, как я узнал, оставленный в первом классе на четвертый год…
— Это Петька, — сказал он мне, кивнув на учителя, — он арифметике учит. Видите, как он важничает, а ведь прежде мещанишкой был. Нет, вот после, во второй урок, — прибавил он, — придет Митька Сайга, грамматик, тот преуморительный! Посмотрите, что мы будем, делать с ним… просто ужас! — И мальчик от удовольствия стал потирать руки.
Учитель между тем сошел с кафедры, прошелся несколько раз по классу, подпершись в бока и осматривая свои сапоги, снял какой-то пух с рукава и, подняв его двумя пальцами над своим носом, пресерьезно подул, отчего некоторые из учеников принялись фыркать; потом подошел к доске и начал объяснять первые правила арифметики.
— Ведь вы думаете, кто он? — спросил меня сосед. Я вопросительно посмотрел на него.
— Его мать картошкой торговала, ей-богу! А он, смотрите-ка, как важничает.
Сын торговки картошкой, вооружившись мелом, начал выказывать всю силу своего красноречия, с различными словоизвитиями доказывая, что единица есть известная величина и т. д. В самую патетическую минуту, когда он обтачивал вторую половину изящнейшей фразы, имевшей целью сделать переход от единицы к числу по возможности легким, кто-то сильно закашлял.
— Кто это кашляет? — закричал учитель, побагровев от злости. Все молчали.
— Старший, кто кашлял? — спросил он.
— Нет старшего, — был ответ.
— Я вас назначаю старшим, — сказал учитель, обращаясь к рослому мальчику, — а кто закашлял, тот мужик, невежа!
Раздался общий хохот.
Учитель еще больше сконфузился и, обернувшись к доске, вместо арифметики понес такую дичь, что я даже глаза выпучил. Арифметика и ругательства, ругательства и арифметика, — все это до того перемешалось, что выходила какая-то новая наука. Однажды выбившись из колеи, учитель уже не мог обратно попасть в нее, он шипел, кричал — все напрасно.
— Разбазился, — шепнул мне сосед.
По окончании класса учитель поспешно схватил свой журнал и, почти выбегая из класса, закричал нам: «Все вы мужики!» Раздался общий смех, свист и хлопанье в ладоши, и все попрыгали через столы и скамейки на середину класса.
Я смиренно сидел на своем месте, посматривая на товарищей. Большинство из них были оставленные в классе за дурные успехи, новичков было еще довольно немного. Несколько человек развязали свои галстуки и начали хлестать ими друг друга, отчего поднялся ужаснейший крик и шум.
— Макарка! Макарка! — провозгласил кто-то.
Все разбежались по местам, когда вошел в класс пресловутый Макарка, надзиратель. Надзиратель был из дослужившихся; роста он был высокого, одет в виц-фрак, выбрит чистенько, острижен гладко: это был прототип выслужившегося из солдат. В речи его слышались темпы, а для красоты слога к каждому почти слову он прибавлял «ста».
— Что-ста развоевались, поросята! — крикнул Макарка. — Смирно! Кто-ста будет шуметь, голову сорву-ста! — угрожал Макарка.
В классе господствовала мертвая тишина.
Едва Макарка, повернувшись налево кругом, вышел, как шум возобновился. Началась прежняя игра в жмурки, причем казачий сын, вершков восьми роста, сделался целью для ударов. Все кричали: «Бей его! бей его!» — и несчастного принялись колотить со всех сторон, ловко увертываясь от страшных размахов его рук.
— Митька! Митька! Сайга! — опять прокричал кто-то, и в класс вошел довольно пожилой человек с гладко прилизанными волосами и огромным носом.
— Молитву! — повелительно изрек Митька.
Прочитали молитву, и Сайга отправился к кафедре, предварительно приказав стереть с доски какую-то фигуру, под которою было подписано «Сайга». Ему подали чернильницу и перо, на конец которого была посажена муха. Развернувши журнал и справившись о числе, Митька погрузил перо в чернила и потом перенес его на свой журнал, отчего вместо числа появилось огромное чернильное пятно.
— Кто это сделал? — закричал Митька. Все молчали.
— Это ты, мужик, сделал, ты, черномазый дьяволенок! — закричал Митька, обратившись к смуглолицему мальчику.
— Нет, это не я, — отозвался тот.
— Ты, цыганская рожа! ты! ты! — кричал учитель, сбегая с кафедры, и, схвативши несчастного за уши, бросил со всего размаха на пол.
Мальчик закричал, застонал, заохал, — и в самом деле было отчего: по лицу несчастного лились потоки крови.
— Я тебе покажу, как шутить со мной! — задыхаясь от ярости, проревел учитель.
В классе раздался шум, шедший постепенно crescendo[5] и наконец страшный взрыв криков, свиста, лая, мяуканья и проч. наполнил комнату. Прибежал инспектор и, узнавши, в чем дело, повел смуглого мальчика с собою, несмотря на клятвы и уверения в невинности. Беднягу наказали розгами…
— Пошумите, пошумите… каждому то же будет, — самодовольно произнес учитель, направляясь к кафедре.
— Жалко, что инспектор пришел, — сказал мой сосед, — а то бы мы его побазили. А ведь знаете, если бы инспектор не явился, он сам не пожаловался бы: своими руками оттаскает, да и все тут.
Меня, признаюсь, мало порадовало такое родительское обхождение.
— Он мне в прошлом году вон какой клок волос выдрал, — пояснял мой сосед, указывая на голову, — ну, мы за то и базили его, просто ужас!
На несколько минут водворилась тишина, и Митька начал расспрашивать какого-то быстроглазого мальчика, за что он оставлен в классе, потом стал записывать фамилии новичков, причем спросил меня, не брат ли мой был исключен из гимназии за дурное поведение. Я отвечал утвердительно.
— Ну, братишка мой, — наставительно произнес Митька, — советую вам вести себя хорошенько и не следовать по стопам брата, а то мы попорем, попорем, да и вон из гимназии: мы ведь шутить-то не любим…
Я учащенно моргал глазами и молчал.
Записавши фамилии вновь поступивших, учитель начал рассказывать урок, ввертывая по временам различные шуточки и прибаутки, отличавшиеся своею избитостью и пошлостью, например: «Грамматика есть наука, учить ее скука» и т. д. Все, разумеется, смеялись, а учитель, самодовольно улыбаясь, кричал: «Тише вы, уродцы!» Опять поднимался хохот. Митька ввертывал еще какую-нибудь пошлость, приводившую весь класс в неописанный восторг, и потом первого попавшегося на глаза мальчика драл за уши и ставил на колени, причем другие начинали шипеть, свистать и кричать.
Учитель грамматики, собственно, был человек очень добрый. Это случилось мне заметить в нем уже впоследствии, когда отец посылал меня и брата отвезти ему фунт чая и голову сахару; при этом он расцеловал нас и потом долго-долго ставил высший балл — пять. Причину же зверских поступков, подобных вышеприведенному, разъяснило в последнее время весьма точно наблюдение, доказав, что у каждого преподавателя через десять лет службы совершенно расстраивается нервная система, — а учитель грамматики прослужил ровно вдвое.
К концу класса пришел директор, постоял, постоял и вышел. В двенадцать часов нас распустили по домам, потому что в мое время собирались два раза, утром и пополудни.
За нами прислали лошадь. Брат дожидался меня у подъезда, упрекнул за медленность, и мы отправились. По приезде домой я решительно не знал, как отделаться от различных вопросов, подставляемых мне то матушкой, то братьями, то сестрами, то няней. По обыкновению, каждый непременно спрашивал меня: не высекли ли, не отодрали ли за уши, не стоял ли я на коленях и проч. Отец предложил мне вопрос подобного же рода, причем, между прочим, прибавил, что просил начальство сечь меня точно так же, как и брата. Такая перспектива показалась мне на этот раз далеко не завидною.
После обеда нас опять отвезли в гимназию. Мы опоздали минут пять, и классы уже начались. С сердечным трепетом, едва переводя дух, я вошел, не зная, какой у нас урок. На кафедре сидела какая-то ужасная фигура, которая при моем появлении издала рев. Я побледнел, задрожал и стал пробираться на свое место. Фигура опять заревела, и, обращаясь ко мне, начала ударять левою рукою о правую, висевшую без всякого движения.
— Он вас к себе зовет, — закричали мне.
Я подошел к кафедре; рычание повторилось, но я ровно ничего не понимал.
— Он вас спрашивает, говорите ли вы по-французски? — подсказали мне.
Я отвечал, что не говорю, на что фигура забормотала: «Буд-дит! на место!»
Усевшись, я начал озираться вокруг и заметил в одном углу кучку моих товарищей, которые задумывали что-то. Один из них держал в руках фуражку, закрывши ее отверстие книгой. Выждав, когда учитель обернулся в противоположную сторону, он снял книгу, и из фуражки выпорхнуло несколько воробьев. Все закричали, начали вскакивать с своих мест, махая книгами, фуражками и тетрадями, и в классе поднялся ужаснейший шум. Француз тупо смотрел по сторонам, недоумевая, как поступить в подобном случае, и только когда воробьи, один за другим, повылетели в окна и крики мало-помалу начали утихать, он важно произнес, ударив левою рукою о правую: «Silence!» [6] Настала тишина. Учитель сошел с кафедры и начал прохаживаться вдоль класса, заставив одного из учеников читать Сен-Жюльена.
Учитель французского языка был жалкий калека, хромой и сухорукий. Правая сторона его тела была разбита параличом, так что ему стоило, как видно, слишком больших усилий таскать за собою постоянно отстававшую ногу. Личные нервы тоже были сильно расстроены, что замечалось из опустившихся углов рта, широко открытых и редко моргавших глаз и постоянной неподвижности личных мускулов. То же, разумеется, постигло и умственные способности бедняка, расстройство которых он энергически поддерживал употреблением спиртных напитков. Бродя по классу, он беспрестанно бормотал что-то, изредка давая левой рукой щелчки сидевшим на первом месте ученикам, которые марали мелом его фрак. Иногда он останавливался, бил ладонью левой руки о неподвижно висевшую правую и резко кричал: «Silence! laisez-vous!»[7]. На минуту наступала тишина, но потом возобновлялся прежний шум.
О каждом учителе в гимназии непременно ходили различные легендарные сказания, которые, переходя от поколения к поколению, крепко сохранялись в ученической памяти. О несчастном французе, например, рассказывали, что он когда-то был идеалом своих учеников, что, занявши место учителя, он понял необходимость знания русского языка, о котором учитель не имел ни малейшего понятия, что своими рассказами на ломаном русском наречии о красотах швейцарской природы он приводил своих слушателей в неподдельный восторг и т. д. Легенда во всем обвиняла среду, в которую попал бедный иностранец: что он, как и все ее члены, не мог устоять против известной русской пословицы: с волками жить — по-волчьи выть, служившей девизом среды, и он мало-помалу начал втягиваться в пошлую, грязную жизнь кружка, а тут подвернулся паралич… и из идеала вышла грязнейшая действительность, приправленная физическим и нравственным калечеством.
После французского урока следовало черчение, и учитель чистописания, черчения и рисования вместе, какой-то вольный, следовательно не нуждавшийся в образовании художник, вбивал линейкой из красного дерева общие понятия об архитектуре вообще и о капителях, базисах, колоннах, карнизах и фризах в особенности. Директор недаром предупреждал меня, что он строг: действительно, удары сыпались то и дело без всякого разбора по рукам, спине, плечам, голове и проч. Передо мной он положил какой-то базис, с которого я должен был копировать. Я действительно скопировал, но такую штуку, пред которою побледнели все подобные произведения моих товарищей: вместо базиса я изобразил корову, для красоты прибавив внизу масштаб, которым можно было бы измерить ее.
После черчения классы окончились. Вместе с братом я пошел домой пешком. Дорогой я перечитал несколько раз расписание классов, по которому оказывалось, что предметов у нас восемь и между ними я знал только четыре: закон божий, арифметику, грамматику и чистописание, к которому примыкали уже несколько мне известное черчение и совершенно неизвестное рисование, составляя вместе предмет свободных художеств; об остальных я не имел ровно никакого понятия.
В следующие дни я аккуратно посещал классы и в неделю совершенно ознакомился с гимназией.
Из учителей мне особенно нравились учителя закона божия и географии. Священник, учитель закона божия, был кроткий, добродушный и весьма серьезный человек; он не употреблял никаких наказаний для ленивых и шалунов, но всегда старался действовать на них добрым и ласковым словом. И действительно, эта мера была самая лучшая: учились все у него превосходно, а вели себя совершенно безукоризненно. Учитель географии, напротив, не обращал ровно никакого внимания на знания и поведение своих учеников: он видел, что в нем слишком мало сил и уменья к тому, чтобы переделывать таких испорченных детей, хотя, нужно заметить, порча в нас была только кажущаяся ему и его товарищам, в действительности же все безобразия со стороны учеников были вызваны поступками их наставников, и истинно образованный человек никогда бы не стал в тупик перед подобными препятствиями, видя, что исправление их находится в его воле. Но мы искренне любили учителя уже за одно то, что он избавлял нас от всевозможных наказаний, отеческих и официальных.
Не могу вспомнить без ужаса об учителе латинского языка, который, к счастью, учил нас две-три недели. Это был именно тот господин с сивушным запахом, о котором я уже сказал прежде, при моем вступительном экзамене. В мое время поговаривали, что это был умнейший человек во всем педагогическом совете нашей гимназии, но мне не случилось заметить в нем особенного ума, хотя, должен признаться, выкидываемые им штуки могли прийти только в гениальную голову. Вот пример:
Между моими товарищами особенно жалкую роль играл рябой мальчик, лет пятнадцати, сын какого-то бедного офицера: мальчика все били, марали мелом, рвали его платье, — одним словом, это было жалчайшее существо, каких только случалось мне когда-нибудь видеть. В угнетении бедняги и учителя не отставали от учеников: изящный учитель арифметики, например, подшучивал над его безобразием, советуя почаще умывать руки и лицо, и называл его не иначе как «замарашкой», «мужичком, взятым из-под сохи» и проч. (этот учитель был большой острослов!); учитель грамматики входил в класс не иначе, как поставив ненавистного ему ученика в угол носом или выгнав из класса. «Хари его видеть не могу!» — говорил он, морщась; надзиратель Макар бил его собственными руками и ставил на колени на несколько часов; инспектор то и дело сек, — одним словом, бедняку не было житья ни от кого… Но учитель латинского языка превзошел всех… Преспокойно расхаживая по классу, он вдруг с каким-то остервенением бросался к доске, хватал тряпку, которою стирали мел (губки тогда еще не вошли в моду и употреблялись только во время ревизий), и бросал ее в сильно не нравившееся ему лицо ученика; потом топал ногами, кричал, бесновался, давая этим знать, чтобы он вышел из класса. Раз как-то вздумалось этому учителю спросить у мальчика урок, которого тот, разумеется, не знал, потому что его никогда до сих пор не спрашивали, знает он или нет свой урок.
— Поди сюда! — заревел учитель.
Ученик подошел.
— Подставь морду, воронье пугало! — продолжал учитель.
Мальчик, не подозревая ничего, повиновался.
— Тьфу ты, поганая харя! — И латинский учитель наплевал в лицо бедняку.
Мы, разумеется, только надсмеялись над такой выходкой учителя, хотя каждый из нас мог рассчитывать на подобный сюрприз. К счастью, приехал новый наставник латинского языка, немец, педант. Новый учитель имел какой-то свой метод преподавания, по которому, например, латинские склонения, написанные четырехстопным ямбом, не говорились, а пелись. Учитель этот сначала было силился написать стихами всю грамматику (за что, разумеется, получил бы полную демидовскую премию)[8], но стал поигрывать в картишки, женился и, кроме следующего двустишия:
Piget, pudet, poenitet, Taedet atgue miseret[9], —ничего не выдумал больше. Спряжения глаголов выучивались при нем всегда вразбивку, то есть по видам, и тут-то представлялся полный простор рьяной деятельности учителя латыни!.. Он обыкновенно становился на средину класса, провозглашал какой-нибудь глагол в неопределенном наклонении, потом быстро называл наклонение, время, число и лицо, требуя тотчас выразить заданный глагол в предложенной форме. Все это делалось необыкновенно скоро, и, разумеется, никто не мог ответить вдруг; тогда учитель перебегал от одного ученика к другому, от другого к третьему и т. д., до тех пор, пока не получал удовлетворительного ответа. Это была, так сказать, игра на фортепьяно, потому что ученики поднимались и опускались один за другим, как фортепьянные клавиши, издавая в то же время различные тоны, из соединения которых учитель мог сочинять, что ему угодно. Иногда он вытягивал целую дискантовую или альтовую гамму, в которой ухо слышало даже гармонию; иногда, напротив, среди дискантовых и альтовых нот ревел баритон или даже бас, — вообще латинские классы шли весело: ученики были довольны, учитель блаженствовал (много ли нужно немцу?..). Как человек свежий и молодой, учитель латыни мало поддавался господствовавшим тогда между его товарищами привычкам и обыкновениям вроде щелчков, оплеух, зуботычин и проч. Тем же достоинством отличался и учитель немецкого языка, за которого, впрочем, всегда расправлялся инспектор, потому что немец ему сообщал фамилии ленивых и безнравственных мальчиков. Немецкий учитель был большой флегматик, и энергии у него недоставало даже на то, чтобы плюнуть в неприятное ему лицо ученика (он плевал на пол). Это был тип колониста, провонявшего дымом плохих сигар и постоянно жевавшего табак для предостережения от цинготной болезни, а может быть и из других видов. В преподавании он ограничивался короткими возгласами «от сих и до сих», изредка прибавляя: «И все старое повторить», — после чего, разумеется, инспектор получал целый список ленивых и безнравственных. Звали его, как большую часть немцев, Карлом; любил он, как большая часть немцев, сигары и колбасу, пил, как большая часть немцев, пиво; вот до поры до времени и все о нем.
По возвращении из классов отец постояннно засаживал нас учить уроки, что продолжалось целый вечер, так что редко-редко случалось играть на дворе или в комнате с братьями и сестрами. Пользуясь отсутствием отца, мы иногда убегали на задний двор, где предавались различным забавам и играм: дразнили собак, били каменьями стекла в старой прачечной, обливали друг друга с ног до головы водою или плевали в негодный, запущенный колодезь, с удовольствием выслушивая отдаленный звук падавшей в воду слюны. Вообще, действуя в подобных случаях тайно и, следовательно, предоставленные самим себе, мы часто выделывали такие штуки, за которые журила нас даже няня, позволявшая обыкновенно нам очень многое. Но главная наша забава состояла в ловле свиней, в которой мы, впрочем, только помогали нашему кучеру, Сергеичу. Дело было в таком роде.
Так как казенного хлеба было вдоволь, то отец рассудил обзавестись тройкой свиней, одной мужского пола и парой женского. Свиньи жили в сарае, около конюшни, откуда выпускали их раз в сутки погулять. Надзор за прогулкой свиней был вверен кучеру Сергеичу, которому, кроме того, строго было приказано не пускать их на огороды, где они могли бы принести большой вред посеянным овощам. Но, как нарочно, каждый раз нечистые животные убегали уже против воли своего гувернера и принимались с яростью взрывать гряды. Бедный Сергеич, не имея сил обратно вогнать их в сарай, придумал следующее простое, но весьма верное средство: он брал багор и бежал с ним на огород, где, нагнавши одну из беглянок, вонзал крюк в ее тело и с страшными проклятиями оттаскивал жертву в сарай, за ней другую, потом точно так же и третью. Но так как история эта повторялась каждый день, а Сергеич был человек ветхий, то, наконец, совершенно выбившись из сил, он попросил нас помогать ему в этом деле, на что мы, разумеется, согласились с великою радостью.
Кроме такого невинного развлечения, мы нередко пускали змеи, играли в бабки и занимались различного рода гимнастическими упражнениями, то вертясь на колодезном колесе и рискуя быть сброшенными в воду, то прыгая с сеновала на высоте трех-четырех сажен.
Время между тем быстро шло вперед, увеличивая с каждым днем количество приятных и безотрадных фактов: сегодня море забвения уносило вчерашнее, завтра — сегодняшнее. Наконец наступила осень. Утром, в один из ненастных туманных дней, отец разрешил мне и брату отправиться на площадь, где долженствовало совершиться наказание плетьми четырех убийц. Мы тотчас побежали и взобрались на леса, прилаженные к вновь строящейся церкви, откуда могли весьма удобно наблюдать весь ход дела.
Когда мы возвратились домой, матушка и няня были в совершенном негодовании и называли нас жестокосердыми и палачами; отец, напротив того, радовался, что мы наконец видели наказание, уверяя, что «на войне и не того еще насмотришься».
— Эх, Миша, мой батюшка, что ты над собой делаешь? — вздыхая, твердила няня. — А я все, старая дура, думала, что ты у меня добрый да любящий, — с грустью прибавляла она.
Я не обращал на старуху никакого внимания, зная ее привычку на всех и на все плакаться. «Ведь, может быть, эдакую вещь придется видеть один раз в жизни, — думал я, — так отчего и не посмотреть?.. Да притом что ж тут такого? — преступник… ну, и секут…»
В гимназии между тем происходила страшная тревога: ждали ревизора, да еще не одного, а двух разом. У дверей поставили швейцара, лестницу покрыли ковром, полы натерли воском, пансионерам прибавили лишнее блюдо и улучшили остальные, — словом, везде порядок и чистота на диво! После недели мучительных ожиданий, от которых вся гимназия, как говорится, спала с тела, наконец явились ревизоры. Один был толстенький, низенький, с постоянной потребностью сна, другой высокий, сухой, большеголовый, с шишками на лбу и темени, — первый — филолог, второй — математик. Директор и инспектор постоянно стояли в их присутствии и низко кланялись, когда особы обращались к ним с речью; учителя совершенно уничтожались присутствием ревизоров и смиренно выстаивали по нескольку часов позади их кресел, отвешивая пренизкие поклоны в их спины, или бегали то туда, то сюда, согласно начальнической воле. Нас заранее запугали, и с прибытием ревизоров мы находились в таком страхе, что когда один из них вздумал поцеловать моего товарища, хорошо отвечавшего из грамматики, мальчик вдруг заплакал, вообразив бог знает что. Надзиратель Макар, на все имевший свой взгляд, уверял, что дурных учеников ревизоры будут отдавать в солдаты. «Так от правительства приказано», — прибавлял он. Мы мало верили такому предсказанию, однако почему-то побаивались ревизоров. Но так как на этот раз все внимание их было обращено по преимуществу на высшие классы, то нам редко удавалось их видеть: раз только спрашивали некоторых из нас из арифметики да в другой раз из грамматики, — вот и все… Особенно радовался приезду ревизоров брат… Он хорошо понимал, как боятся их директор, инспектор и учителя, и потому не пропускай случая насолить своим прежним врагам, зная, что теперь он свободен от наказания. Одному учителю, прежде слишком угнетавшему его, он даже дал подзатыльник, на что учитель отвечал красноречивым молчанием, выжидая случая отомстить обидчику.
Ревизоры хотя и нашли гимназию в удовлетворительном состоянии, однако почему-то сменили инспектора назначив на его место какого-то бывшего учителя. Новый начальник, в первый раз посещая классы, счел долгом объявить своим подчиненным, что управление свое основывает на розгах и что ленивые ученики не должны ждать от него пощады. «Прилежные и нравственные дети найдут себе награду в своих успехах и поведении, — говорил он, — а ленивцы будут достойно наказаны мною. Указание на такое обращение с дурными учениками, — прибавлял он, — я вижу даже в местной природе, произращающей для того огромное количество березняка», — инспектор улыбался, обращаясь к сопровождавшему его Макару. Приезду ревизоров мы также были обязаны тем, что толки о переделке гимназии наконец осуществились, и нас на время перевели в дом какого-то помещика.
Академический год между тем кончился, я и брат были переведены в следующие классы. В новой гимназии второй класс, в который я перешел, был помещен рядом с третьим, в двух смежных комнатах, отделенных одна от другой колоннадой. Разумеется, мы сейчас воспользовались таким приятным соседством как нельзя лучше… В каждую малую перемену мы производили атаки то тем, то другим классом, а в большую начиналось генеральное сражение, в котором участвовали аматёры[10] из других классов в качестве начальников отдельных отрядов или даже полководцев. Дело иногда доходило до того, что сторожа должны были силою разгонять сражавшихся, после чего, разумеется, виновники боя, а иногда и победы, наказывались розгами. Сначала все дело шло на кулаках, но впоследствии стали употребляться дубовые и березовые палки, и только спустя уже слишком долгое время, когда в свалке избранные храбрецы с той и другой стороны начали резаться на ножах и кинжалах, причем, разумеется, не обошлось без кровопролития, — начальство решилось положить конец развивавшейся марсомании, воздвигнув между классами перегородку. С наступлением весны война возобновилась снова на дворе, где три низшие класса, подкрепляемые содействием седьмого, осаждали гору, защищаемую совокупными силами остальных трех классов. Надзиратель Макар принимал во всем этом самое деятельное участие, командуя осаждающими. Иногда воины той и другой стороны были сбрасываемы с отвесного бока горы, на высоте двух-трех сажен, за что некоторые из них получили к организму прибавки на всю жизнь в виде шишек, рогов, горбов и проч. Надзиратель утешал раненых, уверяя, что на войне стыдно плакать, и страдальцы, забывая боль, снова бросались в отчаянную атаку. Наконец назначен был штурм. Макар ходил по классам и поощрял воинов. В двенадцать часов осажденные уже стояли на горе, запасшись на всякий случай палками и каменьями; осаждающие густыми толпами расположились перед крепостью, имея впереди себя Макара со штабом. По данному знаку войска двинулись в стройном порядке, тихим шагом. Надзиратель шел впереди с свертком бумаги в руке, изображавшим подзорную трубу. Что было дальше?., не могу сказать, потому что сам участвовал в свалке и потерял полу сюртука; но через десять минут поле битвы представляло такую картину: под горою лежали фалды надзирательского фрака и несколько пуговиц, а двое учеников терли медного монетою огромную шишку, вскочившую на лбу главнокомандующего, который утирал пестрым платком разбитый нос; осаждающие и осажденные, перемешавшись вместе, толпились около надзирателя, каждый предлагая свои услуги. Этим незабвенным днем штурма война окончилась, тем больше что через день после него в гимназии произошла следующая история, наделавшая много шума в городе.
Какой-то ученик пятого, кажется, класса пропустил несколько уроков по болезни. Инспектор послал к нему на квартиру надзирателя, которому было объявлено от родителей ученика, что сын их не может посещать классы, потому что нездоров. Надзиратель передал эти слова инспектору, который, не удовлетворившись таким ответом, взял с собою двух солдат и отправился на квартиру ученика, думая привести его в класс силой: к этому, как кажется, побудил его отъезд родителей больного, без которых он считал себя вправе распоряжаться их сыном, как ему угодно. «Ленивец», как называл его инспектор, лежал в постели, когда он явился к нему.
— Почему ты не ходишь в класс? — спросил его инспектор.
— Вы видите, я болен, — отвечал ученик.
— Ты был болен, но теперь выздоровел, а в гимназию не ходишь потому, что лентяй, — возразил инспектор.
— Доктор по крайней мере запретил мне выходить из комнаты, — скромно заметил больной, — то же самое советовали и родители, — прибавил он.
— Доктор дурак и родители твои дураки! — с гневом закричал инспектор и приказал сторожам схватить больного и вести в гимназию.
Услышав такие слова, ученик быстро соскочил с кровати и ударил обидчика, после чего добровольно отдался в руки сторожей. Инспектор приказал связать его и торжественно повел полуодетого преступника в гимназию, крича и ругаясь. Процессия шла лучшими улицами города, причем инспектор, совершенно растерявшийся, задыхаясь от гнева и злости, кричал то на виноватого, то на бежавшую за ним толпу. В гимназии ученика посадили в карцер. Для исследования этого дела была назначена целая комиссия, которая отрешила инспектора от должности, а совершеннолетнего ученика предала в руки правосудия.
Вскоре за тем мы перебрались во вновь перестроенную гимназию, и директор наш, хлопавший по собственному брюху, был переведен в какое-то другое место. Новое начальство (тоже недурное в своем роде) стало энергически заботиться по крайней мере о возможных улучшениях, выбрасывая за борт весь хлам, вроде учителя грамматики, старого учителя латинского языка, французского языка и проч.
В домашней нашей жизни совершился в то же время важный переворот… Отца перевели из смотрителей тюремного замка в брандмейстеры (начальник пожарной команды) на место десять лет тому назад ослепшего старца, известного в городе своим хлебосольством и озорницей женой, управлявшей вместо него пожарной командой.
Отсюда начинается более сложный период моей жизни… С переменою моим отцом должности переменился и обычный ход нашей домашней жизни: завелись различные знакомства, всех нас огулом принялись учить танцам, музыке и французскому языку — одним словом, из нас намеревались сделать полезных членов общества, в котором мы, по выражению отца, «были бы отщепенцами», если бы не учились французскому языку и танцам у отставшего от странствующих акробатов немца и музыке у слепого органиста католической церкви.
III
Теперь мне уже одиннадцать — двенадцать лет, — и почему бы, кажется, период, начинающийся хоть с этого времени, не назвать отрочеством? Да просто потому, что в этот период едва ли хотя на йоту изменился мой образ жизни, мое положение в семействе, мои понятия наконец, закованные в тяжелые кандалы, дома и вне его. Под возрастами я понимаю не одно физическое прорастание, а нравственное едва ли шло в параллель с физическим, как увидим из последующего рассказа (различных обломков знаний и сведений, привитых в гимназии и полученных дома, я не могу брать в расчет при слове развитие — да еще нравственное!). Бывали, правда, добрые, светлые минуты и в моем прозябании, но они так и остались минутами, проблесками, не прибавляя, или почти ничего не прибавляя, в умственную сокровищницу; а без таких подачек уму, что значат все возрасты, как не одно продолжительное детство?
Итак, поведем наш рассказ.
Собственный дом, в который перебрались мы из острога, находился на одной из лучших улиц города и состоял из главного дома, отдававшегося внаем, и небольшого флигеля, в котором и поместилось все наше семейство. Не буду описывать устройства флигеля, но скажу только, что теснота была в нем такая, что даже отец заблагорассудил отделить детей мужского пола в нижний этаж дома, предназначавшийся прежде для кучеров и солдат пожарной команды, находившихся при отце в качестве денщиков, вестовых и проч.
Мы заняли одну комнату, а кучера и солдаты поместились в двух других, смежных с нашею. Такое соседство, разумеется, не осталось без последствий: в непродолжительное время мы научились играть в карты, в так называемую «подкаретную» игру, курили махорку и довольно искусно украшали свою речь такими фигурами и оборотами, что даже сами кучера приходили в восторг. «Тверже нашего заворачивают…» — рассуждали они. Действительно, я никого не знал из своих гимназических товарищей, кто бы развратился так рано и так глубоко, как мы.
Несмотря на жалобы, отовсюду приносимые на нас отцу, на различные наказания, которым подвергались мы, с каждым днем проделки наши делались чаще и циничнее, потому что добрые наставники и руководители, кучера и солдаты, неутомимо подучивали и подстрекали нас. Так мы, по их наущению, ходили ночью красть голубей (голубиная охота была сильно развита в нашем городе), посещали кабаки и другие публичные заведения, ездили на лодке вынимать рыболовные снасти и красть рыбу и т. д. и т. д. Отец, хотя и наказывал нас за все эти проделки, мало обращал внимания на источник, из которого мы черпали все наши теоретические познания и, несмотря на все препятствия, пробовали их на практике.
Таким-то образом я и братья прожили довольно долго в слишком плохом обществе, рано узнав грязную сторону жизни.
Дом наш, как и всякий дом, имел при себе двор, на дворе конюшни, каретник, погреба, баню и проч. Над каретником был выстроен мезонин, а около конюшни сидела на цепи собака, обреченная на вечную неволю и постоянно лаявшая на своих и чужих. Кругом двора располагались различные соседства: направо дьяконов двор, налево дом какой-то старушки-чиновницы, а на задах бесчисленное множество избушек, известных под общим именем Бабушкина взвоза… Дьяконов двор весь был заставлен избушками, расположенными во всевозможных направлениях: одна смотрела маленькими окнами, как бельмами, украшенными бумагой, на средину двора, где росло какое-то дерево и стояла опрокинутая вверх днищем лодка, о которой уже лет пять тянулся спор между наследниками какого-то рыбака. Другая избушка как будто старалась перебежать ей дорогу и, вся наклонившись наперед, вот-вот, казалось, бросится с места; третья стояла весьма прилично, хотя была уже достаточно стара и на крыше своей произращала густую траву и подсолнечники; эта избушка чиновничья, потому что хозяйка ее, Трегубиха, была просватана когда-то в молодости за чиновника. Несколько лачужек стояло вокруг помойной ямы, и злополучные хозяева их только и знай покрикивали, почти вылезая из окошка: «Не лейте, ради бога, дрянь-то перед окнами: все нутро воротит от вони!» И некоторые из них лет по двадцати повторяли этот возглас!.. Над всеми избушками царила баня, не потому чтобы она была лучше их, или больше, или занимала особенно видное место, — нет, она была очень дряхла, мала была до того, что все стены и потолок были исхлестаны вениками, как только может исхлестать православный народ, имеющий неосторожность запариваться до смерти. Что, наконец, баня не занимала особенно видного места — явствует уже из того, что она, то есть ее крыша и стены, служили местом гимнастических упражнений для всех и каждого, а в том числе и для меня; а гимнастика, нужно заметить, не уважалась в то время между отцами и матерями… Итак, баня потому царила надо всем двором, что в ней жил сам дьякон, хозяин… Это был хромой, ветхий старик, живший анахоретом с воскресенья и до вечера пятницы, в которую он выбирался из бани на крышу (крыша какого-то сарая около бани была плоская), если дело было летом, или к родственникам, жившим на этом же дворе, если была зима. Часа в четыре, в пятницу, он обыкновенно собирал всех своих знакомых, и по совершении обильного возлияния бахусу, был уносим ими на крышу или к родственникам. В эти дни мне только и случалось видеть труп дьякона; в остальные он, по уверению благочестивых старушек, «спасался».
Об дьяконовом дворе я распространяюсь особенно много потому, что он служил почти постоянным моим убежищем. Снимается ли нагайка с гвоздя — я сейчас на дьяконов двор; уехал ли отец со двора — идешь на дьяконов двор заниматься гимнастикой на стенах и на крыше бани, или рыться в мусоре, наваленном в огромнейшем количестве повсюду. Так что, когда, вследствие одного печального события, я боялся показаться на дьяконов двор, мне сделалось ужасно грустно, и я долго-долго простаивал у забора, глядя в щель на милый, но недоступный двор.
С Бабушкиным взвозом, расстилавшимся позади нашего дома, я был знаком слишком мало: знал только дворик старика, путешествовавшего когда-то в Иерусалим, и другой — унтер-квартала — постоянно пьяного и уверявшего нас, что он над нами начальник, «потому, — рассуждал унтер-квартал, — сейчас в часть отведу, не посмотрю, что отец — брахмейстер». Что же было делать с таким злым человеком? Лучше уж не ходить на Бабушкин взвоз.
Двор соседки-чиновницы совершенно не привлекал нашего внимания, потому что на нем не было ни мусору, ни бани, но постоянно господствовала тишина. Иногда только сын чиновницы, напившись пьян, нарушал это спокойствие, потому что, желая погонять голубей, до которых был большой охотник, он бросал целые бревна на крышу, стараясь спугнуть какого-нибудь турмана, не имевшего охоты совершить воздушное путешествие. На дворе поднимался тогда ужасный гвалт, после которого рьяный голубятник запирался матерью в чулан — и опять наступала всеобщая тишина.
Широкая река, протекавшая недалеко от нашего дома, привлекала особенное мое внимание, потому что здесь я находился на совершенной свободе; за мной не следил ничей зоркий глаз, и ухо мое не слышало больше звуков родного голоса, тяжело отдававшихся на сердце. Летом я уходил на реку ловить рыбу, зимою — кататься на салазках и, выбравшись из дому, неохотно возвращался назад. Знакома была также мне и привольная степь, расстилавшаяся далеко за городом, куда я уходил гораздо реже, но где был еще счастливее, еще спокойнее.
Получивши место брандмейстера, отец был совершенно очарован новою должностью. Особенно его занимали лошади, а теперь их вдоволь, следовательно было над чем потешиться. Я говорю «потешиться», — и действительно, отец ужасно любил учить молодых лошадей, почему сам обучал вновь или переучивал всех пожарных лошадей. Помощником себе в этом он выбрал пожарного солдата, известного своей силой, и при его содействии целый день занимался выезживанием и наказыванием безответных животных. Для себя он также накупил молодых лошадей, обучение которых принесло немало огорчения матушке, боявшейся, что отец искалечит как-нибудь себя. Матушка пробовала даже передавать свои опасения отцу, но он грубо заметил, что это не бабье дело, следовательно нечего ей и толковать.
По характеру, доброте, мягкосердечию матушка представляла совершенный контраст отцу. Положившая всю жизнь свою в семейство, она отличалась необыкновенною заботливостью о детях, рабскою покорностью мужу и необыкновенною гуманностью в обращении с прислугой, что даже не нравилось отцу, утверждавшему, что, «по ее милости, люди делают, что хотят». Никогда я не забуду ее желтого, худого лица, постоянно озабоченного и печального, ее речей, постоянно тихих и нежных, ее кротких, задумчивых глаз, в которых светилось столько доброты, но доброты подавленной, запуганной. Бедная женщина только тихонько от отца позволяла иногда себе приласкать кого-нибудь из нас, боясь упрека в баловстве. Батюшка и матушка почти постоянно жили в ссоре между собою, то есть отец не говорил с ней ни слова, а матушка боялась завести с ним речь и только по временам долго и пристально смотрела на него своими кроткими, умоляющими глазами. Зная придирчивый характер отца и не желая досаждать ему своим присутствием, матушка по большей части забивалась куда-нибудь в темный уголок и довольно часто плакала втихомолку. За обедом родители поневоле должны были сходиться вместе, и часто случалось, что кроткая женщина, долго сдерживавшая свое горе, наконец разражалась истерическим плачем, к которому и мы присоединяли свои голоса, а отец тотчас уходил в кабинет, бросив с досады на пол несколько приборов и проклиная все и всех. Такие припадки накопившегося горя всегда стоили матушке слишком дорого, потому что после них целые недели она вылеживала то в бреду, то в летаргии. Да, тяжелая участь выпала на ее долю.
Но вот наступал какой-нибудь праздник, в который, по убеждению отца, «нужно было мириться даже с врагами своими». Как радовалась матушка такому дню! Как хлопотала, бегала она везде, стараясь угодить отцу! К обеду приготовит любимые его кушанья, после обеда ходит на цыпочках сама и просит нас делать то же, чтобы не разбудить любимого и простившего ее мужа. Она знает, что таких дней немного выпадает на ее печальную долю, и потому старается по возможности шире развернуться с своею добротою, по возможности больше запастись радостью, которую завтра же сменят горе и слезы. Весело улыбается она теперь, глядя на все, и горячо целует своих детей, едва ли вполне разделяющих ее радость. В самом деле, едва только проходил праздник, отец сейчас же снимал с себя тяжелое обязательство, и опять…
В числе сослуживцев отца по полиции находился один пристав, обремененный подобно отцу многочисленным семейством. Пристав и отец довольно скоро подружились между собою и решились образовывать своих детей совокупными силами. Прежде всего, рассуждали они, нужно научить их танцам и французскому языку, без которых человек — не человек.
Как-то вечером приехал к нам пристав и объявил отцу, что учитель найден.
— Где вы его откопали? — спросил отец.
— Да мне рекомендовал его мой письмоводитель, — отвечал пристав.
— Это хорошо, — заметил отец.
— Письмоводитель говорит, что он ловко танцует; даже, говорит, ему можно екзамент произвести.
— Без этого нельзя: кто его знает, каков…
— Да и дешево берет, — распространялся пристав, — четвертак за урок, только водки, говорит, уж вволю давайте…
— Этого добра нам не покупать стать.
— Он, видите ли, — таинственно начал пристав, — прежде акробатом этим был, ну и все эти штуки отменно знает, потому что они там черт знает что делают: и по канату ходят, и через голову ломаются; следовательно, я полагаю, для танцев он хорош будет.
— Должно быть, хорош будет, — почти утвердительно изрек отец.
— Отличный будет, — с достоинством произнес пристав, и приятели чокнулись. Через несколько дней, часов в шесть вечера, мы отправились к приставу, где долженствовало произойти испытание.
Учитель был низенького роста, лупоглазый, широкоплечий, с одутловатым лицом и красным носом. Отцу он очень понравился, потому что много рассуждал с ним о военной службе и уверял, что военные в танцах «собаку съели».
— Как же вы их будете учить танцам, когда они настоящей выправки не имеют? — рассуждал отец.
— Это ничего, — заметил учитель. — Мы будем в одно время проходить и танцы и выправку; без этого нельзя. У меня теперь каждый ученик, можно сказать, ноги будет на шею закладывать, выворачивать их носками назад и все такое, потому что я, можно сказать, все кости в нем поизломаю и повывихаю.
— То-то, это главное, чтобы подвижность то есть имел.
— Я ведь теперь, можно сказать, прежде всего смотрю, как сложен человек: если у него ноги не годятся для танцев, я должен их переделать: это уж мое дело — на то я учитель.
Объяснения тянулись довольно долго, и так как от времени до времени они прерывались употреблением всевозможных водок, то наконец учитель дошел до того, что начал рассказывать, как он был в Париже первым балетмейстером, а оттуда через океан по железной дороге ездил в Америку. Пристав и отец, чтобы не упустить времени, предложили учителю показать им свое искусство, видя, что через час он уже никуда не будет годиться. Старший сын пристава, юноша лет восьмнадцати, воспитывавшийся в уездном училище, взял гитару и с некоторой застенчивостью начал наигрывать чижика, а учитель, засучив рукава, пустился выделывать такие штуки, что становилось страшно за него. Он держал в руках платок, которым размахивал во все стороны, то медленно переваливаясь с ноги на ногу, то бешено бросаясь из угла в угол, отчего половицы гудели и дрожали, как под конскими копытами. Долго бесновался учитель, прыгая по комнате; долго отец и пристав смотрели на него с немым восторгом, а матушка, жена пристава и мы, дети, с ужасом и недоумением; наконец, сделавши отчаянный прыжок, учитель не мог удержаться и полетел навзничь. Раздался хохот, и торжествующего учителя повели к столу, уставленному графинами и бутылками.
— Ну, а по-французскому научите их? — спрашивал отец учителя.
— Всему научу! Я все языки знаю, даже арабский знаю, — бормотал учитель, беспорядочно болтая руками и ногами.
На следующий же день началось наше ученье. Раза по три в неделю мы обучались отдельно каждым семейством, а по воскресеньям назначались общие танцевальные вечера у нас или у пристава. Французский язык как-то плохо подвигался вперед, потому что учитель, как оказалось, знал только «mon cher, s'il vous plaît»[11]. да и то последнее выражение относил по преимуществу к водке. Кроме различных кадрилей, экосезов, полек и проч., нас заставляли разучивать множество характерных танцев, на которые матушка не могла даже смотреть без сожаления, видя, как пьяный учитель выворачивал наши ноги то туда, то сюда.
Между тем одна из сестер, подвергавшаяся вместе с нами танцевальным мучениям, была отдана в пансион, а для других сестер, старшего брата и меня нанят был учитель музыки, слепой органист католической церкви. Но сколько ни бился с нами слепец, отсутствие музыкальных способностей в нас наконец заставило-таки его отказаться от уроков. Отец был крайне огорчен отзывом слепца о наших способностях и все-таки пригласил нового учителя, который на этот раз присоветовал мне вместо фортепьян заняться скрипкой, уверяя, что руки мои слишком способны для этого. Почти два года учился я на скрипке, и опять в результате — отсутствие музыкальных способностей.
В числе несчастных, учившихся вместе с нами танцеванию, находилась внучка одного купца, содержавшего торговые бани и трактир. Старик-купец жил постоянно в самых патриархальных нравах и отличался необыкновенной строгостью и силой, о которой и рассказывал постоянно. Некоторые опыты его силы я видел собственными глазами: так, он ставил сороковую бочку с маслом на попа (вертикально, на дно), свободно ломал две подковы и проч.
— Я в жизни моей никого не ударил, — обыкновенно рассказывал о себе дедушка. — Да как и ударить-то? Народ мелкий — сразу убьешь. А в торговле, господа честные, без этого не обойдешься: вот и стражду сам от себя!.. Один раз, — продолжал он, — жена меня больно доняла, вот я ей и поднес оплеуху, она так и покатилась. Я в полицию… Прибегаю… Так и так, говорю, жену убил — выручайте. Пошли мы с приставом домой, а она, волк ее уешь, сидит да лается: вот какая, черт, живучая была! Да, пострадал я от нее, покойницы, доняла!..
Часто отец от нечего делать ездил к купцу в баню и брал с собою кого-нибудь из нас. Потом мы отправлялись к старику-хозяину, и начинались рассказы с той и другой стороны: отец все про военную службу, купец — про старинное житье-бытье. Дедушка, подобно главе стоиков Сенеке, ежедневно ходил в баню, с тою только разницею, что древний философ делал это по нескольку раз в сутки, а старик только один раз, кроме субботы: тогда два.
— Да что! ходишь один-одинешенек, инда одурь тебя возьмет, — ну, и пойдешь в баню, да и попаришься, да еще скипидарцем помажешься, вот оно и ладно. А в субботу так зависть тебя одолеет, так бы все и сидел в бане, — вот потому и хожу в субботу два раза.
Старик всегда упрекал отца за неуменье пить водку.
— Вы, молодые люди (отцу было тогда шестьдесят пять лет), дрянь! Как мы были в ваших летах, по четверти выпивали зараз; а вы проглотите десятка полтора, два рюмок, да и с ног долой, это не дело…
Постоянно враждуя с откупом, сильно притеснявшим всех трактирщиков, он сам признавался, что раз даже нагнал на откупщика лихорадку. «Все по ветру сам пускал», — прибавлял добродушный купец.
Большой приязнью отца пользовался также его предместник, слепой старик, выслужившийся из рядовых. У старика была бойкая, сварливая жена, известная в городе под именем «озорницы» и управлявшая в последнее время вместо своего мужа пожарной командой. Семейство старого брандмейстера состояло, кроме того, из сына и двух дочерей, из которых одна только что вышла замуж и поселилась с мужем в главном нашем доме. Семейство брандмейстера посещало нас довольно часто, и в этом-то кругу впервые должны были устанавливаться мои понятия; тут в первый раз я услышал те суждения, выводы и взгляды, которые выработались тогдашним провинциальным обществом.
Старый брандмейстер и его семейство считались тогда далеко не последними членами нашего общества, а между тем из нескольких фактов, которые я приведу сейчас, легко будет видеть, как далеко ушло тогда это общество в своем умственном развитии.
Часто случалось нам скромно просиживать долгие вечера в обществе старого брандмейстера и всего его семейства. Как люди военные, отец и брандмейстер побывали в различных кампаниях, откуда унесли с собою чудесные воспоминания о различных диковинках. Зять брандмейстера, которого судьба бросала и в Малороссию, и в Архангельскую губернию, и в Якутскую область, тоже присоединял свой звучный голос к рассказам отца и брандмейстера; увлекаясь, за ним голосила старая брандмейстерша, а за нею, разумеется, плелись и ее дочки — тоже смышленые девицы. Чего-чего, бывало, тут не рассказывается! И о киевских ведьмах, и о колдунах, и о проклятых, обреченных на вечную скитальческую жизнь, и о громе, и об отводе глаз фокусниками, — одним словом, если бы вы желали получить превратные понятия обо всем, вы бы послушали рассказы наших добрых знакомых.
— Ведьмы, говорят, никогда пешком не ходят, — замечал старый брандмейстер.
Отец и зять брандмейстера, а за ним и мы все начинали хохотать.
— Что вы смеетесь? — возражал слепой. — Я сам не верил прежде, а теперь знаю, что это правда. У нас был солдат Захарченко, так сам видел, как ведьма ехала на курице, ей-богу!
— Нет, кажу, этого не может быть, — вступался зять, язык которого сохранил еще некоторый малороссийский оттенок.
— Бывает, бывает, — прерывал его отец, — многие видели…
— Я потому и говорю, что видел, — утверждал ободренный слепец, — я сам много ведьм видел, — прибавлял он наконец.
— Это ведьмы верхом ездят? — наивно спрашивал кто-нибудь из нас.
— Верхом, верхом, — нетерпеливо отзывался отец.
Матушка боязливо посматривала то на невинного расспросчика, то на отца, начинавшего уже хмуриться.
— А на лошадях верхом ведьмы ездят? — допытывался тот же любопытный.
— Ну, полно врать-то! — резко замечал отец. — Когда же баба ездит на лошади верхом?.. Вечно суетесь со своими глупостями. Вы бы молчали да слушали, что старшие говорят; а эти пустяки у няньки можете расспрашивать!
Ну, и присмиреет любопытный и дожидается, что скажут старшие, а они не заставят долго ждать себя.
— Вон, когда я был в Якутской области, так там все на собаках ездят, — рассказывал зять брандмейстера.
— В Англии, читал я в газетах, на крысах почту скоро будут возить — больно шибко бегают; на птицах уж возят, да теперь новый король народился, так на крысах приказано, — опять рассказывал седой и слепой брандмейстер.
— Там один лорд все на медведях ездит, — ввертывал звучным голосом зять.
— Эх, у нашего полкового командира славный медведь был! — вступался отец.
Разговор на некоторое время переставал быть общим, и только изредка слышалось, как замужняя дочь брандмейстера рассказывала матушке о петербургском деде.
— У него по сту человек генералов одних бывает каждый день — все обедают.
Но, не умея сообразить своих слов с действительностью, тотчас же отпускает такую фразу:
— Богач, одно слово… По шести тысяч на серебро проживает в год: ведь это, сообразите, двадцать с чем-то тысяч, говоря по-нашему.
И опять молчание.
— Нынче облако над нашей крышей так низко прошло, что я испужалась, — решалась наконец выговорить младшая дочь брандмейстера.
— А вот задело бы за крышу и своротило бы напрочь, — резонно замечала ее матушка.
— Нет, не своротит, — вступался зять.
— Как не своротит? Своротит! — утверждала опять брандмейстерша.
— Ну, меня-то вы, кажу, не уверите, я ведь видел облако-то.
Все смотрели на рассказчика с недоумением.
— Когда я был еще мальчиком, — продолжал он, — так у нас облако в поле упало, мы и побежали смотреть: так оно мягкое, как кисель, мы даже палками тыкали в него.
Против такого аргумента, разумеется, никто уже не мог возражать, и все остались в полнейшей уверенности, что облако похоже на кисель.
Слушаешь-слушаешь, бывало, подобные рассуждения старших и придешь наконец к такому заключению, что с кучерами хоть и не толкуешь о подобных возвышенных предметах, а все как-то веселее и отраднее.
Кроме этих знакомых, отец имел еще многое множество чиновников, с которыми водил хлеб-соль вследствие служебных обязанностей, а матушка — целую кучу различных старушек, уважавших ее за доброе сердце и гостеприимство. Из старушек, посещавших матушку, особенно живо сохранился в моей памяти образ одной доброй пожилой майорши, постоянно посещавшей матушку во время болезни, что случалось очень нередко, и искренне сочувствовавшей незавидному положению ее в семействе. Часто проживала у нас тоже по целым неделям какая-то девица, которая знала почти весь город, ходила по делам, разносила сплетни, но никто не знал, кто она такая. Постоянного жилища у ней не было, и она блуждала из дома в дом; и как только наскучало ей в одном месте, она сейчас же сочиняла про него сплетню, распускала ее по городу и, выгнанная за это, отправлялась в другое, обвиняя только что покинутый ею дом в невежестве, грубости и недобросовестности относительно ее. Так кочевала эта бедная девица до самого отъезда моего с родины и все оставалась таинственною и неразгаданною.
Не всегда, впрочем, отец был строг и недоступен; иногда и на него находили добрые минуты, в которые он разговаривал и смеялся с нами, позволяя даже маленьким сестрам трепать свои усы и бакенбарды. В одну из таких минут мы даже сумели как-то упросить его свозить нас в театр. Дело было на масленице, когда в театре давались два спектакля, утренний и вечерний. Нас повезли поутру. В кассе театра отец выторговал, кажется, полтину, и вот мы вошли в ложу. Небольшой, грязный зал освещался десятью или двенадцатью масляными лампами, отчего в креслах и глубине лож царствовала тьма, а в райке (галерее) слышны были только глухие голоса, из которых можно было заключить о пребывании там людей. Кусок дырявой, некогда раскрашенной холстины беспорядочно болтался то туда, то сюда; в оркестре сидело счетом восемь человек музыкантов, в течение целого часа занимавшихся настраиванием своих инструментов, — впрочем, публика не обращала особенного внимания на этот раздирающий душу визг и рев. Занавес заколебался и медленно стал подниматься вверх, и когда совершенно исчез за драпировкой, послышался резкий возглас: «Довольно!» Что давали в то время, не могу припомнить. Могу сказать только, что первое действие прошло совершенно не замеченным публикою и не понятым мною. Но, вероятно, давалась драма, потому что после нового поднятия занавеса и нового крика «Довольно!» на сцену явился господин в каком-то гнедом плаще и черно-бурой шляпе, свирепый и громогласный до того, что маленькие сестры юркнули в глубину ложи и не решались выйти оттуда. Он бродил сначала в совершенной темноте и все чего-то искал, алкая и рыкая. Наконец, остановившись у слабого подобия рампы, гнедой трагически произнес: «Затворите двери!» Дрожь пробежала по моему телу при этом реве. «Принесите свечи!» — опять рыкнул актер, и сестры начали хныкать в глубине ложи. Что дальше было, не помню хорошенько. Помню только, что тут является какая-то госпожа и останавливается в дверях. Герой наш, стоя на авансцене, скрестивши руки, громко произносит, увидевши ее: «Приди в мои объятья!» — «Ах, не обнимай меня так больно!» — взвизгивает госпожа, ухватившись обеими руками за юбку платья, и, делая книксен, продолжает стоять в дверях. После второго акта занавес как-то рухнул, и на сцене послышался опять прежний резкий голос. Раздались было аплодисменты, но голоса будочников скоро заглушили все. Следующие акты драмы прошли совершенно так же, то есть я ровно ничего не понял. После драмы давался какой-то водевиль, который, помню, мне понравился; но сестры никак не могли успокоиться и со слезами просили отца ехать скорее домой.
Должность отца, как брандмейстера, была крайне беспокойна, потому что пожары в то время случались то и дело, днем и ночью, и шестидесятипятилетнему старику нужно было скакать сломя голову куда-нибудь на конец города. Мы почти всегда сопутствовали отцу, тихонько от матушки убегая вслед за ним. Раз, помню, горел винный завод; мы побежали туда. Дело было в конце июля. Пришедши на пожар и достаточно налюбовавшись им, мы отправились во фруктовый сад, принадлежавший тому же винному заводу, воровать яблоки. Нас было несколько человек: одни влезли на деревья и рвали яблоки, другие остались на земле и собирали. Когда мы уже собирались отправиться с захваченной добычей и перелезали через забор, вдруг были остановлены неизвестно откуда явившимися казаками. Кто-то из бывших с нами соумышленников, желая избежать неприятной истории, объявил казакам, указывая на нас, что мы дети брандмейстера. Гонители наши тотчас отвели нас всех к отцу, а сей, отложивши на некоторое время заботу о прекращении пожара в сторону, отвел нас на какой-то двор и с помощью казацких нагаек тут же учинил расправу над своими и чужими. Через несколько времени, когда зашел к нам один чиновник, сын которого был наказан отцом вместе с нами, отец мой очень вежливо извинился перед ним, что распорядился без его спросу.
Каждый день поутру отец ездил рапортовать полицмейстеру о состоянии пожарной команды, а оттуда, вместе с частными приставами, отправлялся куда-нибудь выпить водки; часа в два он обедал дома, затем отдыхал часов до семи, а остальное время дня проводил двояким образом: или читал дома молитвенник и псалтырь, если дело было зимою или осенью, или сидел на скамейке у крыльца, если было летнее или весеннее время. Мы были свободны только в отсутствие отца и, разумеется, делали, что хотели; при нем же, по большей части, укрывались в своих комнатах или усаживались вокруг матери в ее спальне.
Если заболевал кто-нибудь из нас, отец сейчас же принимал в больном живейшее участие и делался его медиком и куратором на все время болезни. Лекарства, даваемые отцом в этом случае, были очень незамысловаты: так, от лихорадки всегда лечил он раковыми жерновками, которые предварительно измельчались и потом давались больному в водке. Корь и оспу ничем не лечили, а только привязывали руки больного, чтобы он не чесался. Случалось кому-нибудь разрезать ногу или проломить голову (а это случалось) сейчас наливали в рану березовой водки и на вопли несчастного коротко отвечали: «А я вот еще высеку, когда рана-то заживет, а то теперь неловко». Рана с божьей помощью заживала, и обещание сдерживалось.
Так и жили мы изо дня в день; иногда только праздники доставляли некоторую отраду. Пасха, разумеется, была самым веселым праздником. На страстной неделе отец, обыкновенно, собственноручно закалывал свинью, истязания и мучения которой прежде смерти тянулись иногда по целому часу. Кажется, все горло изрезано в мелкие кусочки, и отец поворачивает в ране нож то туда, то сюда, но едва только кучера и солдаты выпустят из рук уши и ноги несчастного животного, как оно вскочит и побежит.
— Эту не зарежете в горло, ваше благородие, — рассуждает какой-нибудь солдат, — уж такая попалась, ее надо колоть под леву лопатку.
— Полно врать-то! — перебивает его отец, отряхая с рук запекшуюся кровь, и приказывает снова поймать и привести свинью.
Ее снова ловят, и отец, хотя отвергавший доводы солдата, начинает, однако, колоть «под леву лопатку».
После заклания отец сам же начинает свежить свинью и потом делит ее на части, причем окорока сначала солит, потом коптит в дымовой трубе, после чего никто не решается их есть, потому что они ужасно воняют дымом.
Но вот приходит наконец самый праздник. Отец будит всех к заутрене, наряжается в полный парадный мундир, нас всех одевают тоже в парадные платья, — и мы идем в церковь. Я смотрю в лицо матушке и не узнаю ее: на губах играет улыбка, глаза блещут как-то весело, даже цвет лица как будто переменился. Отстаиваем заутреню, за ней обедню и с радостью, именно «веселыми ногами», бежим домой. А тут стол уже ломится под разными яствами и питиями.
— Ну, Христос воскресе! — произносит отец, крестясь перед образом.
Мы тоже крестимся.
— Ну, Христос воскресе! — опять повторяет он, обращаясь к матушке.
Родители трижды целуются, и я вижу слезу радости, блеснувшую на реснице матушки.
Затем отец и матушка христосовуются с каждым из нас.
Тут уж и пойдет закуска!
— А что, мать, ведь хороши колбасы я изготовил? — говорит отец, — ты пробовала их? — прибавляет он, обращаясь к матушке.
— Хороши, очень хороши, — похваливает матушка, для которой теперь все хорошо — очень хорошо.
— Только слишком солоны да перцу много — горько! — говорит сестра.
— Это ничего… Перец и соль полезны для человека — их много и нужно, — мягким голосом объясняет отец.
Закусишь, пойдешь на качели или просто на улицу, посмотреть, как ездят с визитами, или яйца катать по лубочку вздумаешь, или в козны играть… как все весело теперь!
Рождество Христово также составляло большой праздник для нашего семейства; а накануне крещенья мы вместе с отцом ставили кресты на дверях и окнах, чтобы нечистая сила не ввалилась в комнату. Еще большой для нас праздник был Илья-пророк, потому что этот день считался праздничным в пожарной команде, имевшей образ Ильи-пророка. Все части съезжались на наш двор, где солдаты угощались вином и закуской, а для высших полицейских властей устраивалась закуска или даже целый обед.
Для каждого из нас праздники были величайшей отрадой, потому что тогда мы получали несколько больше свободы и гораздо реже подвергались замечаниям от отца, принимавшего в праздники более доступный и веселый вид.
То, что я говорю о себе, совершалось в такой же степени и относительно моих братьев и сестер, потому что обстановка наша зависела от отца, а для него, как выражался он, «не было ни любимых, ни нелюбимых детей: все одинаково равны». Следовательно, братья и сестры, хотя и отличавшиеся от меня по характеру и наклонностям, в сущности должны были выйти совершенно тем же, чем вышел я, потому что жили при одной и той же обстановке.
Но не пора ли сказать что-нибудь о гимназии, этом светоче науки, блиставшем для меня в юдоли плача и скорби?..
IV
Реставрированная гимназия, с новым начальством и реформами, им произведенными, едва ли далеко ушла от прежней, ветхой, полуразвалившейся, с ее пузатым директором и готтентотскими нравами. Правда, некоторые внешние изменения придали ей более приличный вид; но не этого нужно было для гимназии, требовавшей коренных, глубоких преобразований, на которые новое начальство не было способно по своей недалекости.
Рассказ мой, уже потерявший последовательность, теперь, кажется, должен совершенно отказаться от нее, потому что мне хочется сделать возможно полный очерк гимназии, оставив на некоторое время в стороне домашнюю жизнь, к которой, впрочем, я возвращусь в конце главы.
Новый директор — высокий, сутуловатый мужчина средних лет, с лицом, носящим на себе отпечаток бурно проведенной молодости, отчего и голос его отличался каким-то неприятным, гнусливым тембром, принадлежал к числу провинциальных аристократов-чиновников, имеющих похвальную привычку ничего не делать, на подчиненных смотреть свысока, топорщиться от самолюбия и проч. На гимназию он мало обращал внимания, потому что чин и место не позволяли «вертеться с мальчишками», которых «выпороть может и инспектор»; да, кроме того, и времени не было для этого, потому что клуб, карты и знакомство с высшими городскими властями поглощали все часы дня и ночи, так что бедняжке некогда даже было выспаться. До какой степени был простоват наш новый начальник, можно судить по следующему факту.
В числе членов клуба, в который поспешил записаться директор, находился столоначальник или секретарь какой-то палаты, прежде бывший его учеником. Пересматривая как-то список, новый наш начальник с ужасом увидел, что он поставлен в обществе на одну доску с своим учеником — да по списку членов еще ниже его!.. Тут как-то скоро случилось собрание членов и старшин, и злополучный директор объявил им, что принужден выйти из клуба, «потому что не намерен стоять на одной ступени с человеком, которого порол из собственных рук»… Как ни просты были его слушатели, но такое киргиз-кайсацкое мнение поразило их до того, что кто-то заметил директору, что «клуб ничего не потеряет с его выходом»…
Другой факт.
Одному из моих товарищей случилось проходить мимо дома одного из местных бюрократов, где под окнами сидели хозяин и директор. Ученик почему-то не поклонился. Пришедши в класс, директор разбранил его за такую дерзость.
— Я близорук, — заметил ученик.
— В таком случае ты должен всегда снимать шапку перед домом его превосходительства, потому что ты не видишь, есть ли кто под окном или нет…
Множество фактов подобного рода, прямо вытекавших из субъективной недалекости директора, скоро подорвали даже и то небольшое уважение, каким сначала пользовался он в гимназии, а в обществе он сделался предметом постоянных насмешек, причем, впрочем, по-прежнему сохранял свой гордый, недоступный вид. В гимназии беспрестанно рассказывали о нем различные анекдоты, пародировали его голос и манеры и наконец окрестили незатейливым именем Олехи, поставив его таким образом наряду с Петькой, Митькой Сайгой, Макаркой и прочими.
Совершенно иной человек был инспектор, захвативший в свои руки управление гимназией и производивший различные реформы, долженствовавшие, по его мнению, иметь благотворное влияние на внешнюю и внутреннюю жизнь заведения. Энергии в нем, правда, было довольно много, но что значила она при его взгляде на воспитание? Могли ли привести эти крайние, дикие меры к каким-нибудь добрым, порядочным результатам?.. Прежде всего, увидевши, например, что учителя ничего не делают, он или заставил их заниматься, или вытеснил в отставку совершенно уже неспособных делать хотя что-нибудь. И действительно, многие из прежних наших наставников принялись за дело, но принялись из-под палки, по принуждению, давно уже потеряв и охоту и уменье учить чему-нибудь, почему положение учеников сделалось до крайности тяжелым. Начались строгие преследования ленивцев, для возбуждения которых инспектор употреблял розгу, и гимназия превратилась в какую-то кордегардию, откуда то и дело слышались вопли и крики. Кроме наказаний за уроки, наказывали за всевозможные проделки, о которых инспектор узнавал от различных шпионов, выбранных из сторожей и учеников. С каким варварством и невозмутимым хладнокровием производились эти наказания, можно судить по следующему случаю, — случаю, каких наберется не один десяток.
Мальчик лет четырнадцати, бывший, кажется, в третьем классе, плохо учился из немецкого языка. Инспектору надоело сечь его за каждый невыученный урок, и вот он придумал посадить его на неделю в карцер, где бы он занимался исключительно немецким языком, а между тем, для поддержания в нем энергии, ежедневно давать ему по семидесяти розог. Однажды задавшись каким-нибудь вопросом, настойчивый инспектор не любил отступать от него без ответа, и бедный мальчик действительно вытерпел положенное истязание в течение недели.
Все наказания, однако, приносили слишком мало пользы, развивая в получавших их терпение и упорство, что, впрочем, не мешало-таки безумному инспектору следовать однажды навсегда предначертанному плану.
Здесь нелишне будет сказать несколько слов об учителях, из которых многие, с переходом моим в четвертый класс, были люди почти неизвестные мне до тех пор, потому что цикл изучаемых предметов значительно расширился: из прежде же поучавших, одни преподавали новые науки, другие из лентяев сделались вдруг необыкновенно прилежными и совершенно изменились, то есть по внешности.
В четвертом классе мне приходилось узнать и алгебру с геометрией, и историю с словесностью, и греческий язык, так что поневоле призадумаешься перед такою программою! К этому нужно прибавить, что при тогдашнем методе преподавания, все гимназические предметы до того были отделены друг от друга, что при изучении какого-нибудь нового, имеющего прямую аналогию с только что пройденными, ученик становился совершенно в тупик и бессознательно заучивал мертвые буквы учебника. Учителя мало заботились об истолковании задаваемого урока и ограничивались только коротким рыканием: «От сих до сих…» Помню, например, как учитель алгебры, желая похвастаться ученостью, иногда задавал нам такие задачи, к которым никто не мог даже и приступиться. За одну из таких задач, не разрешенных нами, учитель поставил весь класс на колени. Вошел инспектор и спросил, за что мы наказаны.
— Да вот неопределенное уравнение не умели решить… Лентяи! ничего не делают, — отвечал учитель.
— А вы им разрешите и объясните, — заметил инспектор и сел на стул, желая видеть, как разрешит и объяснит учитель (инспектор был математик).
Лысый, постоянно полупьяный учитель невольно должен был повиноваться. Он подошел к доске, крякнул, почесал лысину и принялся разрешать задачу; обломки мела так и летели в стороны. Написавши довольно много, учитель посмотрел — и стер; опять написал — опять стер. Снова принялся писать, — та же история. Инспектор улыбнулся, встал со стула и, пробормотав: «Мудреная задача!» — вышел из класса, посадивши нас по местам, а находчивый учитель, начисто вытирая доску, громко произнес:
— Итак, эту задачу, которую я разрешил теперь вам, вы должны приготовить к следующему классу.
— Да, приготовить, батюшки, а то всех перепорю! — скрежеща зубами, заревел лысый учитель.
Этому-то существу я обязан моими познаниями в алгебре, физике и тригонометрии, о которых всегда имел и имею самое смутное понятие. Предметов, излагаемых им, он не знал и довольствовался тем, что ученики зазубривали урок свой по учебнику слово в слово. Так, например, один из моих товарищей на вопрос лысого учителя «почему это так?» — всегда отвечал: «О сем сказано в таком-то параграфе», — и учитель удовлетворялся.
Замечательный оригинал был учитель греческого языка. Свой предмет он знал отлично, но, прослуживши около тридцати лет учителем, потерял всякую охоту к передаче своих знаний и постоянно занимался в классе пустой болтовней, рассказывая события из своей домашней жизни.
— У меня сегодня Васса больна (Васса — его кухарка Василиса), — рассуждал он, обращаясь к целому классу и разводя руками. — Вот по той причине и хожу в нечищеных сапогах. (Учитель поднимал ногу; все улыбались.) Батрак (работник, он же кучер) не мог вычистить, сколь я его ни принуждал: «не умею», говорит.
Иногда греческий учитель любил поговорить и о литературе: тогда разговор тотчас же склонялся на Лермонтова и Пушкина, к которым старик за что-то питал глубокую ненависть.
— Что же мне ваши Лермонтовы, Пушкины! — обыкновенно говорил он мягким, как будто суконным языком, — болваны! Дрянь!.. Вон Софокл, Аристофан, Херасков, Капнист — вот это писатели, этих советую читать, а Лермонтов и Пушкин — болваны!
Как только мы перешли в четвертый класс и явились на урок к этому учителю, он сейчас же роздал нам толстый лексикон, некогда сочиненный им.
— За него вы заплатите мне каждый сообразно своему состоянию. А книга хорошая, полезная, без нее не обойдетесь, — рассуждал автор.
Действительно, книга эта впоследствии весьма и весьма пригодилась матушке для различных хозяйственных поделок: при печении пирогов, завертывании различных целебных трав и кореньев, завязывании банок с вареньем и проч.
Особенно забавлял нас учитель, когда, выйдя на крыльцо, кричал: «Батрак! подавай скотину!» — то есть «кучер, подавай лошадь!» Этот оборот речи всегда приводил нас в восторг.
С учителем греческого языка оригинальностью мог поспорить разве только учитель истории, у которого учебник Кайданова считался единственным научным пособием и который простодушно уверял, что римляне ездили на оленях. В классе он постоянно спал, а ученики поочередно вставали и как будто отвечали урок, бормоча всевозможные нелепости; это, впрочем, делалось для инспектора, который, посмотревши в окно, видел бы, что урок идет как следует. В ясные, солнечные дни сладкий сон учителя обыкновенно нарушался его слушателями, имевшими привычку посредством осколков зеркал отражать лучи света в глаза своего наставника: такая забава длилась иногда во все продолжение урока, и учитель уходил из класса взбешенным.
Петька, с которым я имел уже счастье познакомиться при самом поступлении в гимназию, читал в четвертом классе геометрию, которую излагал всегда с удивительным красноречием и совершенно непонятно. С учениками своими он по-прежнему обходился с заносчивостью и презрением, одних считая «мужиками», других «замарашками».
Словесность, прежде преподаваемую каким-то старичком по книжке Кошанского, читал теперь новый учитель, только что окончивший курс в одном из столичных университетов[12]. Это была свежая, молодая натура, полная сил и энергии, человек, обладавший огромными специальными и энциклопедическими познаниями, что и заставило его довольно скоро выбрать более широкую арену для своей деятельности. Но и в то недолгое время, которое учитель пробыл в нашей гимназии, глубоко была потрясена им старая система воспитания и память о нем навсегда сохранилась между его учениками. Учителя тоже помнили и помнят молодого учителя словесности, постоянно упрекавшего их в жестокосердии и неуменье передавать взятого на себя предмета. Все изменилось на время под благотворным влиянием этого умного, гуманного человека. В учениках своих он умел развить охоту к чтению, постоянно прочитывая сам различные книги и, кроме того, снабжая ими желающих. Уроки всегда рассказывались им с такою ясностью и так понятно, что каждый мог повторить их, не прочитывая по книге. Кроме своего предмета, он сообщил нам необходимые понятия почти о всех науках, показав в то же время метод к изучению и степень важности каждой во всеобщем знании. С какой радостью мы встречали всегда этого человека и с каким нетерпением ожидали его речи, всегда тихой, нежной и ласковой, если он передавал нам какие-нибудь научные сведения. В классе господствовала мертвая тишина; даже самые шаловливые мальчики затихали и напрягали слух, боясь проронить хотя одно слово… Особенно полное и глубокое впечатление он произвел на нас чтением Жуковского, к поэзии которого питал тогда особенную наклонность наш детский мечтательный ум. Мы, помню, плакали над сказкой «Рустем и Зораб», прочитанной, правда, с необыкновенным уменьем и чувством. До какой степени было сильно влияние учителя словесности на всех его окружающих, можно судить, например, уже по тому, что учитель греческого языка перестал бранить Лермонтова и Пушкина, а учитель истории отказался от римских оленей и, кроме того, начал спрашивать хронологию различных исторических событий, думая, что теперь уже исчерпается вся наука.
Математики, прежде занятые разговорами о различных пирушках и попойках, в которых принимали живейшее участие, тоже бросились в науку, стараясь отыскать «квадратуру круга», и, может быть, нашли бы, если бы отъезд учителя не вывел их опять на житейскую дорогу. Инспектор смотрел искоса на новатора и по-прежнему продолжал сечь ленивцев, уводя, впрочем, их в нижний этаж, откуда не слышны были уже вопли…
Особенно много приходилось учителю спорить с директором касательно так называемых литературных бесед. Беседы эти назначались для учеников шестого и седьмого классов; на них прочитывалось сочинение, написанное кем-нибудь из учеников, и защищалось им же против возражений, делаемых его товарищами. Директор поставлял каждому в непременную обязанность «возражать»; кто не делал этого, тот или ставился им на колени, или был осыпаем всевозможными ругательствами. Кроме того, темы для сочинений назначались самого возвышенного характера: «о благородстве души», «о воле», «о различии между рассудком и разумом, степени аналогии их между собою и слиянии в одном общем источнике — уме» и проч. и проч. Такая чепуха, разумеется, не понравилась молодому учителю, и он восстал как против дурного обращения с взрослыми учениками, так равно и против тем с философским или психологическим оттенком. Директор противился. Тогда учитель наотрез отказался посещать беседы. Делать было нечего: упорный любитель возвышенных тем и низкой брани принужден был уступить, и беседы приняли живой, осмысленный характер, лишенный парений и коленопреклонения.
Молодой учитель пробыл в нашей гимназии довольно недолго, оставив, однако, добрую прочную память по себе между учениками и преследуемый проклятиями своих товарищей, кредит которых между воспитанниками был подорван навсегда и грубая материальная сила уже не могла служить опорою в отношениях между оставшимися учителями и учениками. Кафедра словесности скоро была занята другим, кротким и умным человеком, не имевшим, однако, той энергии, какою владел прежний учитель.
Тут учителя начали сменяться как-то слишком часто; но ни один из них не отличался особенно похвальными качествами, хотя многие приезжали прямо с университетской скамейки, где, как известно, каждый «кипит, желает…»
Но верно такова уже среда, что, попавши в нее, человек невольно отрешается от всего, что вчера только было дорого его сердцу, что составляло предмет бесплодных мечтаний. Действительно, каждый из только что выпущенных молодых людей как нарочно делался именно тем, к чему он был менее всего приготовлен, но никогда не был тем, чем он должен и способен был быть, к чему он готовился несколько лет. Вместо учителей гимназия всегда имела отличных картежных игроков, великолепных пьяниц, изящных кавалеров и проч.,- но никогда почти не имела опытных и добросовестных наставников, в чем она постоянно нуждалась. Правда, иногда, пожалуй, попадались учителя до того добросовестные в выполнении своих обязанностей, что ученики бегали от их классов, потому что добросовестный наставник гнул бог весть какую ерунду, думая, что этим он развивает своих слушателей. Между ними особенно замечателен был новый учитель истории.
Это была мизерная фигурка, лет двадцати, только что выпущенная из педагогического института с серебряной медалью (отчего же не с золотой?). Педагог на первый же раз застенчиво объявил нам, что он приехал только на время, что его таланты замечены правительством и скоро он будет отправлен за границу, а потом займет кафедру в Иркутском университете (тогда носились слухи об открытии университета в Сибири). Профессорская кафедра была пунктом помешательства нового учителя. Спросивши нас о приобретенных нами знаниях в истории, учитель сказал, что его метод преподавания будет совершенно иной, что он будет читать лекции, а не задавать уроки, почему все мы должны были внимательно слушать его и записывать. У меня где-то еще сохранились отрывки из его лекций, обличающие в quasi-профессоре крайнее тупоумие и неумение даже говорить по-человечески. Наконец наскучило учителю готовить лекции, и вот он принялся прочитывать нам различные эпохи по книгам. Так, например, Тридцатилетнюю войну он читал целый год по Шиллеру, ломка которого производилась при помощи лексикона, отчего постоянно получался удивительнейший набор слов при совершенном отсутствии даже грамматической связи. Римскую историю заблагорассудил он изложить по Нибуру, искажением которого также занимался почти год и тоже при помощи лексикона. Предоставив учителю коверкать великих писателей, мы занимались в это время картежной игрой или каким-нибудь подобным делом, все-таки более интересным, чем лекции.
Особенно выразилась недалекость quasi-профессора по следующему обстоятельству.
Один из учеников гимназии по окончании курса намеревался ехать в университет. Учитель почему-то заблагорассудил протежировать ему и дал письмо к профессору истории в том университете, куда ехал молодой человек. Не доверяя учителю и плохо полагаясь на его благоразумие, ученик вскрыл письмо и, к удивлению своему, прочел в нем следующее:
«Милостивый государь! (писал quasi-профессор). Извините, что я, человек совершенно незнакомый вам, осмеливаюсь рекомендовать молодого юношу, подателя настоящего письма, как способнейшего и даровитейшего из моих учеников. Главная же цель письма, милостивый государь, состоит в том, что я прошу вас извинения за то, что не могу приехать к вам в университет держать экзамен на магистра, потому что считаю более выгодным ехать в университет нашего округа.
Имею честь быть и проч…
такой-то».Письмо быстро разошлось между гимназистами, и по поводу его было сочинено ими множество забавных анекдотов.
Наскучив бесплодными самоубиваниями, да, кроме того, получая постоянно выговоры от директора за дурные наши ответы на экзаменах, учитель решился наконец покориться необходимости и, взяв какое-то руководство, принялся подобно прочим сослуживцам задавать уроки, ограничиваясь скромным замечанием: «от сих и до сих…»; сам между тем пустился в свет, где привел всех в восторг своею любезностью и ловкостью, а там, попавшись в сети какой-то девицы, женился, — ну, и конец всему! Прощай и Иркутск, и Европа, и кафедра! Правда, мысль о профессорстве никогда не покидала бедняка, и долго-долго среди различных соло слышались возгласы молодого человека, что ему предстоит отправиться за границу и потом занять кафедру, но это были уже пустые звуки, а ведь прежде человек трудился для подобной цели!
Вот та двойная эгида, под гнетом которой я быстро вырастал в юношу, готового ежеминутно расправить крылья и вспорхнуть свободно и самостоятельно… Поставленный в дурное положение дома, в гимназии я попадал в положение еще худшее. Ум мой нигде не находил пищи для своего правильного развития и или бесплодно засыпал, или устремлялся со всей жадностью голодного бедняка на первую попавшуюся пищу, отчего прежде всего и сильнее развивались во мне дурные наклонности, заглушая находившиеся в бездействии и сне добрые начала. Кроме «Выжигиных», «Мазепы»[13] и еще кое-какой подобной дряни, я ничего не успел прочесть до пятнадцати-шестнадцати лет, потому что книг достать было негде, денег, на которые я мог бы купить их, не было, а библиотека отца состояла из псалтыря, молитвенника и пресловутого календаря, выдержки из которого я привел в начале записок. Что же оставалось делать в подобном положении? Нужно же куда-нибудь направить молодые, кипучие силы… Разумеется, приходилось делать вещи нехорошие, развивать себя тою стороною, от которой долго-долго впоследствии не может отучиться слабая натура, правда уже узнавшая настоящую дорогу. А между тем я думал ехать в университет, для которого был столько же приготовлен, как портной для сапожного мастерства. Я не знал не только, на что я пригоден, но даже сомневался — пригоден ли я на что-нибудь? Такая мысль по крайней мере пришла мне накануне моего отъезда с родины, и я действительно увидел, что гимназия не только не дала мне ничего, но даже отняла последнюю надежду на собственные силы и сознание своего человеческого я… Но об этом после; теперь скажем несколько слов о нашей общественной и домашней жизни.
Город наш, как и следует всякому городу, имел различные учреждения, из которых об одном — театре — я уже говорил; кроме театра, в нем было также собрание, куда мы иногда отправлялись на так называемые детские балы, в зал, или просто в качестве зрителей — на хоры, откуда с любопытством смотрели на танцующих. Хоры были устроены таким образом, что видно было только из первых мест, а остальные зрители созерцали потолок и люстру, что, впрочем, не мешало приходить им в совершенный восторг. Для того чтобы занять передние места, нужно было ехать слишком рано, когда еще не зажигают свечей, почему любители брали с собой огарки, которые таким образом освещали их среди тьмы. Детские балы, на которых я участвовал и которые мне, не привыкшему к обществу, сильно не нравились, имели, по тогдашнему моему мнению, большое сходство с кулачными боями, до которых я был большой охотник. И действительно, как там, так и здесь сначала выпускаются маленькие, а большие смотрят; потом как там, так и здесь большие мало-помалу разгорячаются и выступают на сцену, оттесняя детей на задний план. — Между большими особенно мне нравился необыкновенно развязный молодой человек, которого к концу вечера постоянно выводили из залы, потому что он или канканировал, или отплясывал трепака среди монотонных и крайне нравственных провинциальных барышень.
Учреждения подобного рода, ясно указывающие на некоторую развитость тогдашнего общества, как-то не гармонировали с его понятиями, в доказательство нелепости которых я приведу некоторые факты.
Летом, в конце июня, явился неизвестно откуда пророк, ясно доказывавший, что на Петров день город провалится сквозь землю. Предвещатель был посажен в часть, и полиция, при всем своем старании, никак не могла убедить жителей в ложности подобного предсказания. Простолюдины вывезли из города свое имущество, а так называемое общество, хотя и не разделяло мнений черни, однако все-таки заблагорассудило выехать в этот день из города, думая, что, «пожалуй и провалится»… Прошел день Петра и Павла, прорицатель получил порядочную порцию розог, беглецы возвратились в город, — и общество опять зажило прежним порядком, выжидая нового пророка.
Но вместо пророка явилось нечто лучшее…
Раз поутру, возвратившись с базара, отец сообщил нам, что «в третью часть взят оборотень», и советовал сходить посмотреть его. Действительно, около части собралось множество народа, между которым виднелись и члены лучшего нашего общества. Мы взобрались на забор и видели только, как будочник бил палкою какого-то мужика, требовавшего, чтобы ему показали оборотня. Потом несколько полицейских солдат принялись разгонять толпу, вокруг которой уже устроилось катанье, и цвет нашего общества, заинтересованный оборотнем, разъезжал кругом части.
Вообще понятия тогдашнего общества были слишком ограниченны; предрассудков в нем держалась целая тьма, и взгляд на вещи обусловливался известными чертами, однажды навсегда привитыми няньками, бабками или переходящими по наследству от отца к сыну, от деда к внуку. Так, например, явилась комета — война будет; а кто поученее да поумнее, сейчас объяснит, что белый и черный араб идут на Россию. Томится в агонии какая-нибудь старуха купчиха, — целый город кричит: «Ведьма! надо конек у крыши поднять!» Под коленкой чешется — голод будет; переносица — набор… Одним словом, все понятия были точно такого же сорта, какими были они несколько лет тому назад во всех провинциях. О газетах и так называемой политике никто не смел и подумать. Политические новости приносились или солдатами, шедшими на побывку, или старушками, приходившими из отдаленных деревень и уверявшими, что все это объяснил какой-нибудь сидень-бобыль, сорок лет не встававший с места. Если же кто-нибудь осмеливался противоречить подобным выдумкам, его называли вольнодумцем, что и случилось с нашим любимым учителем словесности, старавшимся по возможности распространять в обществе здоровые понятия.
И действительно, тогдашняя литература, правда, достаточно уже богатая, но слишком мало относившаяся к жизни, слишком замкнутая в самой себе, не могла заинтересовать общество, для которого литература постоянно служила не пищей, а забавой, развлечением; вот почему в большинстве тогдашней провинциальной молодежи, дурно воспитанной и малоразвитой, литература не могла иметь успеха, потому что была слишком скучным развлечением, слишком головоломной забавой. Бывали, правда, исключения и здесь, но по своей малочисленности они совершенно терялись в тупой, невежественной массе, воспитавшейся на банальных французских романах и отечественных подделках вроде романов Булгарина, Зотова[14] и других.
Перед окончанием мною курса отец потерял место брандмейстера, потому что начальство нашло его устаревшим для отправления этой должности. Старший брат, долго страдавший в гимназии, наконец вышел, не окончивши курса, и при помощи некоторых знакомых и приятелей отца, которые успели убедить его отпустить брата в одну из столиц, уехал для изучения медицины в высшем медицинском заведении.
Тут скоро случилось в нашем городе происшествие: именно похищение и убийство двух или трех мальчиков. Завязалось огромное дело; приехала целая комиссия для его исследования, и отец снова получил место смотрителя при вновь устроенной исключительно для этого случая тюрьме. Здесь собрано было несколько десятков их и вместе с ними туда же посажен один из частных приставов, сослуживец отца. Арестантов содержали очень строго, каждого в отдельной комнате. Отец перебрался в новую тюрьму один, потому что для семейства не было в ней помещения, что, впрочем, весьма обрадовало нас. Дело длилось около года и когда окончилось, то отец снова переселился из тюрьмы.
Между тем подходило время выпускных экзаменов, которых я, впрочем, не боялся, потому что в течение года постоянно был первым учеником. Товарищи мои начали поговаривать об университете, перебирали различные факультеты, советовались между собой и проч. Я не мог принять участия в их рассуждениях, потому что не знал мнения отца об этом предмете. Помнил только, что несколько времени тому назад отец говорил мне, что в военную службу я не гожусь — трус, потому он намерен пустить меня «по штатской». Брат между тем в своих письмах постоянно советовал отцу отправить меня в университет, представляя различные резоны, на которые отец отвечал только помахиванием головы и известною фразой, что он учился на медные деньги — и детей так же хочет образовать.
Экзамены прошли благополучно. Я окончил курс первым учеником и имел, кроме того, право на поступление в университет без экзамена. Выкупивши из гимназической библиотеки несколько негодных книг, раздававшихся тогда всем окончившим курс за довольно повышенную цену в видах очищения подвалов гимназии от этого мусора, и получив аттестат, я явился к отцу и показал ему то и другое.
— Куда же ты хочешь теперь поступить? — спросил вдруг отец, рассматривая мой аттестат.
— Мне бы хотелось в университет, — отвечал я как-то глупо, действительно не понимая хорошенько, зачем я поеду туда.
— Да что ж ты там будешь делать? — спросил отец, глядя на меня.
— Я буду учиться…
— Мало ты еще тут учился всему: и в остроге учился, и в гимназии учился, — возразил отец.
— Все товарищи едут, — ввернул я.
— Вот то-то и плохо, что ты едешь не по собственному желанию, а потому, что другие так делают. А ты скажи, сам-то хочешь ли? — И потом, не дождавшись ответа, он продолжал: — Впрочем, поезжай, с богом!
Я бросился целовать его руки, обрадовавшись чему-то, а почему — этого не мог понять.
В самом деле, зачем я тогда ехал в университет? Имел ли я хотя некоторое понятие о том, что ожидает меня впереди? Чем казались мне науки, которые я должен буду проходить?.. На все эти вопросы я могу откровенно отвечать только одно: ничего этого я не понимал… Я ехал потому, что ехали другие, выбрал известный факультет опять-таки потому, что и другие его выбрали; а эти другие столь же знали все это, как и я. Одним словом, собралась толпа глупых юношей и, ровно ничего не понимая, разрешила все без малейшего затруднения. Были, правда, некоторые споры о том, кому какой факультет избрать, но они прекратились весьма скоро, потому что каждому ничего не стоило взять тот или другой, смотря по тому, как это нравилось большинству.
— Кто на юридический поступает? — спрашивал чей-нибудь голос.
— Я, — был ответ.
— Что тебе за охота быть крючком? — спрашивали юриста.
— Ну, так я на камеральный поступлю.
— Камералы — дураки, — замечали ему. — А ты поступай-ка на медицинский: все поступают на медицинский.
— Ну, хорошо…
Рассуждения при выборе факультетов были, действительно, в подобном роде, и каждый после думал, что он обсудил вопрос со всех сторон, что факультет выбрал вполне соответствующий его способностям и силам и т. д. и т. д.
Вот наконец наступило время покинуть родной город. В роковой день все собрались в зал; отец вынес икону, благословил, поцеловался со мной трижды и предоставил дальнейшие проводы матушке, братьям и сестрам, которые намеревались проводить меня за городскую заставу. Выезжая со двора, я взглянул на наш милый дом, где столько лет тянулось мое детство, — и слезы невольно покатились из глаз. Вот проехали мы мимо гимназии, проехали еще несколько знакомых домов, и на нас вдруг глянул целою сотнею окон острог. Еще грустнее, еще тяжелее сделалось мне.
— Вот, Миша, и острог, — заметила матушка сквозь слезы, — тут мы жили когда-то…
— Да… — мог только ответить я, потому что слезы совершенно душили меня.
За городской заставой мы простояли несколько минут, потому что должны были дождаться ехавших вместе со мной товарищей. Наконец — все готово; я прощаюсь с родными в последний раз, раздается звук колокольчика, и тройка трогается… Прощай, родина!
Да, как ни тяжела моя детская жизнь, как ни мало осталось светлых воспоминаний и как ни безобразны все воспоминания, встающие теперь в моей памяти, — но сердце все-таки тревожно бьется при мысли, что в этом уголке протекли целые одиннадцать — двенадцать лет, что на этом кладбище, где многие погребли целые жизни, и я вижу свежую могилу моего детства! И вот сами собой шепчутся слова поэта:
Родина-мать! . . . Сколько б на нивах бесплодных твоих Даром ни сгинуло сил молодых, Сколько бы ранней тоски и печали Долгие бури твои ни нагнали На боязливую душу мою, — Я побежден пред тобою стою![15]V
Юность, юность! Чудное, магическое слово! Кто без вздоха и боли в сердце вспоминает тебя, лучшее время нашей жизни! Кто решится предпочесть тебе другой возраст и кто упрекнет тебя за те великие невзгоды и за те испытания, которыми ты так щедро награждаешь нас, глупых, забитых и запуганных детей, только благодаря тебе одной едва не пропадающих в этом жизненном смуте? Вижу, ясно вижу тебя, суровое и неумолимое время моей жизни! Вот они, эти голодные дни, эти долгие, бессонные, томительные ночи, эти болезненные, страшные грезы и тревожные, мучительные думы! Но и за это даже я благословляю тебя, моя тяжелая, бурная юность, потому что твои испытания дали мне силу, твои уроки вразумили меня, твои удары и теперь еще болью отдаются в моем сердце и невольно заставляют избегать тех ошибок, за которые когда-то ты так беспощадно казнила меня. Простодушным, доверчивым, слабым я пришел к тебе, моя юность, и ты, как добрая мать, дала мне все, что сделало бы из ребенка мужа, что пробудило бы во мне заснувшие было человеческие силы. Ты первая научила меня уважать человека и в себе самом и в других; ты первая наградила меня и сладкими восторгами любви, и горестью разлуки; ты первая ввела меня в жизнь и познакомила со всеми ее бурями и треволнениями. Всё из тебя, в тебе и с тобою! Вот за что я бесконечно люблю мою безвозвратно улетевшую юность! Вот за что без упрека вспоминаю даже те тяжелые удары, которые когда-то пришлось перенести мне!
Да, золотое, золотое было то время!
Посмотрите: вот они проходят передо мною один за другим, мои друзья, мои товарищи! Вот они, веселые, добрые собеседники!
Но все обычной чередою Здесь под луной у нас идет, И время как поток с собою Печаль и радости несет[16], —дружно запели они. И долго-долго стоят в воздухе звуки старой студенческой песни…
Где вы теперь, мои друзья? Или и вас, так же как меня, перевернула жизнь, и, замотанные ею, вы рано, но прочно очерствели и потеряли и прежние мечты и надежды, и прежнюю веселость, и прежнюю удаль? Вспоминаете ли вы те светлые, юношеские дни, когда были так мимолетны все печали и горести, окружавшие нас, когда долгая задушевная беседа в добром кружке товарищей, а нередко бутылка «влаги пенной» да веселая песня разом отгоняли прочь все черные мысли о нужде, оскорблениях, карцере и других бедах и невзгодах?.. Милые, дорогие друзья! Где же те ожесточенные споры, чуть не до слез, которые мы вели когда-то! Где те надежды, которыми мы когда-то жили изо дня в день, из минуты в минуту? Где они, где те идеалы, которые мы воздвигали, которым мы чуть не молились когда-то? Где же, где все это?!
Что может быть горче слез воспоминания и потери? Как болезненно хватают они за сердце и как тревожат и мучат душу!
Но вот, вижу — проходит другая фаланга — наши бывшие наставники и руководители. Теперь они уже сошли в могилы и не раздается больше их голос в аудитории. Не ораторствуешь уже ты, добрый старик, что такой-то минерал «на поверхности своей якобы жиром повлечен», а такой-то «имеет цвет пера утки-селезень», нет и тебя, европейский ученый, вместо лекций излагавший на ломаном русском языке перевод какой-то старой латинской зоологии; умер и ты, веселый, серенький старичок, объяснявший все «жизненною силою» и наивно лепетавший о себе: «Ми, германский профезор, ми всё знаем»; даже и ты, как кажется, облачился в гробовой саван, краса наших дней, оратор и мудрец, вводивший нас, по собственному твоему выражению, «в храм науки» и советовавший неуклонно следовать за тобою, как за «опытным запевалой»… Все сделались теперь наследием могильного червя, правда, еще и при жизни уже достаточно подточившего и вас самих, и вашу науку… Но как хотелось верить и как верилось когда-то вашим словам! С каким жаром выслушивались ваши смешные и досадные лекции и с какою наивностью заучивались иногда ваши мудрые изречения, ваши полуистлевшие и рутинные доводы и мысли!..
Из родного города я выехал восьмого августа вечером. Я ехал на перекладных, в сопровождении двух товарищей, из которых один был уже студент, а другой только что окончил, так же как и я, гимназический курс. Едва только матушка, братья и сестры, провожавшие меня, скрылись из моих глаз и осталось позади кладбище, стоявшее на самом конце города, — сердце мое невольно сжалось от какой-то тоски и грусти: так и хотелось спрыгнуть с телеги и побежать обратно домой. Мысль, что настала разлука с людьми, с которыми прожил под одной кровлей целые восемнадцать лет, совершенно подавила враждебное чувство, вызванное было прошлой тяжелой жизнью, и горькие слезы так и просились на глаза.
Все мы сидели как-то Насупившись, упорно поглядывая по сторонам.
Так мы проехали в молчании верст десять. Город уже остался далеко за нами и совершенно потерялся из виду, исчезли даже и одинокие избушки, разбросанные вдоль дороги, и побежали мимо выжженные солнцем степи и поля, покрытые только что сжатым хлебом, — а мы всё молчали.
— А не обревизовать ли нам свою провизию? — спросил наконец студент, вытаскивая свой мешок.
Предложение было одобрено, и каждый принялся за свой мешок, вытаскивая оттуда различные булки и булочки, кокурки и лепешки, яйца, яблоки, жареных цыплят, ветчину и проч. и проч. Ревизия несколько развеселила нас, и когда мешки достаточно опустели, мы разговорились.
— Что, жалко родину-то? — спросил нас студент.
— Да чего там жалеть? — спросил я его в свою очередь, стараясь придать своему голосу как можно больше холодности.
— Отчего же ты плакал?
— Врешь, я не плакал!
— Врешь, плакал!
— Да ты сам плакал, — сказал я ему.
— Ну, это уж извини! — с иронией отозвался студент, — вот спроси-ка ямщика: он видел.
— Зато ты в прошлом году плакал, — настаивал я.
— А ты теперь плакал.
— Врешь! врешь! врешь! — с досадою почти закричал я.
— Хорошим хвалитесь! — повернувшись к нам лицом, заметил ямщик, — отца с матерью покинули, да еще хвалитесь, что не плакали! Я вот мужик, а этим не стал бы хвалиться. Нехорошо, нехорошо! — наставительно прибавил он.
Тут и мы поняли, что нехорошим хвалились, почему тотчас же и прекратили неловкий спор.
На первую станцию мы приехали уже после сумерек… Тотчас заложили новых лошадей и отправились далее.
Наступила ночь. Выплыл яркий полумесяц, и заблестели звезды; в воздухе сделалось как-то свежее и тише; изредка лишь слышалось где-нибудь вдалеке тихое стрекотание кузнечика или крик какой-нибудь птицы, не отыскавшей еще ночлега. Тройка медленно тащилась по неровной и пыльной дороге, нагоняя тоску и скуку. Полулежа и как-то невесело посматривая по сторонам, я предался грустным размышлениям о только что покинутом мною отеческом доме.
Вижу я, сидят все за ужином молча: отец на одном конце стола, матушка на другом, а по бокам их — братья и сестры. Вижу даже толстое, какое-то муругое лицо нашей кухарки, советующей детям скорее дохлебывать щи, потому что «тятенька с мамынькой уже отхлебали», — и дети спешат и жгутся, посылая в себя ложку за ложкой. Подали второе блюдо. Опять кухарка торопит детей. Наконец все встали из-за стола, выстроились в шеренгу и хором прочли благодарственную молитву; потом дети поцеловали руку у отца и матушки и остановились, как бы в ожидании дальнейших приказаний. «Пойдемте на ночь богу молиться», — зовет отец. Все переходят в другую комнату, опять выстраиваются в шеренгу перед киотом с образами и хором начинают читать молитвы, заканчивая все это следующим возгласом, заученным каждым со слов отца: «Добра ночь богу, папе, маме, братцам, сестрицам и всем». Дети опять целуют руку у отца и расходятся, причем братья, живущие отдельно, идут в свое обиталище. Раздевшись, они уже готовятся потушить свечу, как вдруг слышится стук в окно и за ним резкий голос отца: «Сеня, каналья! отчего ты не перекрестил подушку?» Сеня приподнимается и трижды крестит подушку. «Да читали ли вы „Да воскреснет бог“?» — спрашивает отец. «Читали, читали, папенька!» — отвечают братья. «Ну, прочтите-ка еще, а я послушаю». Братья начинают читать молитву, а отец, приложив ухо к стеклу, слушает, изредка громко поправляя их. Наконец братья тушат свечу и укладываются спать. Отец, вижу я, все бродит по двору. Вот он набрал охапку щепок, поносил, поносил их с собою, вероятно отыскивая удобное место, и наконец бросил среди двора, проговорив про себя: «Кучер завтра подберет». Вот вижу, гонит он корову в сарай; подошел и к собаке, одиноко сидящей у каретника на докучной цепи. «Что, скучно тебе, Волчок? — спрашивает отец. — Скучно, скучно глупому! — как бы за Волчка отвечает он, — но что же делать?» — со вздохом прибавляет отец и направляется к погребам, попробует, хорошо ли заперты замки, и тогда уже идет спать. Дошедши до двери, он останавливается, думает и потом опять повертывается назад и идет к сараю, в который только что загнал корову. «Нет, ты, буренка, ступай-ка сюда во двор, тут тебе лучше!» — рассуждает отец и опять выгоняет корову из сарая. Чувствуя, что все хозяйственные распоряжения и хлопоты окончены, отец, вижу я, трижды перекрестился на сияющую вдали золоченую главу церкви и тогда уже спокойно пошел спать. Вместе с ним, вижу я, засыпает весь дом; даже и корова перестает шевелить челюстями, переваливая жвачку ив одной стороны в другую; даже сам Волчок, вижу, залез в конуру и успокоился.
«Отчего же это мне не спится?» — думаю я, поглядывая то на спящих товарищей, то на бедные окрестности.
Скучна и бедна вообще русская природа, но особенно убога она в нашем юго-восточном крае. Однообразные посевы, безлюдные и мертвые степи и солончаки, жалкие деревенские избушки из хвороста, покрытые соломой, и полуразвалившиеся станционные дома — вот что приходится на долю проезжающего в тех местах. Редко-редко порадует вас какой-нибудь веселый вид или чистенький домик, еще реже поместится на вашем облучке так называемый лихач-ямщик, певец и балагур, в рваном сером армячишке и с шляпой набекрень, — да и тот поет до того однообразно и грустно, что просто всю душу вымотает своими песнями, а балагурит и того хуже; но главное, все это делает не по внутреннему влечению, а ради гривенника, который надеется взять с вас за эти увеселения.
Грустное явление представляет русский придорожный мужик. Плохо вознаграждаемый за свою тяжелую службу от содержателей станций, он всеми правдами и неправдами старается пополнить этот недостаток в обеспечении на проезжающих, потому он первый попрошайка, первый вымогатель и лихоимец. Он просит с вас за песню, за сказку, за прибаутку, за ответ, который он дал на ваш вопрос, за пребывание с вами в одной комнате, — одним словом, за все, в чем он принимает или не принимает никакого участия, но что по его логике подлежит денежному вознаграждению с вашей стороны. До каких курьезов могут иногда доходить эти просьбы «на водку», свидетельствует следующий случай.
Зашел я как-то в станционную комнату и в ожидании лошадей уселся на диван, тупо посматривая своими полусонными глазами на противоположную стену. Сальная свеча плохо освещала окружавшие меня предметы. Отворилась дверь, и в комнату вошел только что привезший нас ямщик; остановившись у порога, он пристально смотрел на меня. Я молчал.
— А лошадей-то закладывают, — заметил ямщик.
— Это хорошо, — отвечал я.
Наступило молчание.
— Вошь ныне нас ест, — заговорил ямщик, почесывая голову.
— Это плохо, — заметил я.
— И блоха в большой силе: ровно горох крупная, — продолжал рассуждать ямщик.
— И это нехорошо, — вымолвил я и замолчал.
— Старый ямщик, ваше благородие…
— Что же тебе нужно?
— На водочку бы с вашей милости…
— Да ведь я тебе уже дал.
— То за извоз пожаловали…
— Ну, а теперь-то за что? — спросил я.
— Как же, тоже поговорил с вашей милостью! — отозвался ямщик, переминаясь.
Я расхохотался.
— Помилуй! рассказал ты мне черт знает о какой дряни, да еще на водку просишь!
— Многие дают, — заметил ямщик.
Я опять засмеялся. Ямщик между тем принялся рыться в карманах своих штанов.
— Эх, да табаку-то ек! — вдруг воскликнул он, вытаскивая кисет.
Я молчал, ожидая, что дальше будет.
— Ну вот на табак уж с вашей милости следует получить, потому что без табаку не проживешь: без табаку мужик пропасть должен, это верно, — решительно заключил ямщик.
Против такой находчивости, разумеется, устоять было уже невозможно, и я дал ему несколько медных монет на табак.
Во всю первую ночь я не мог заснуть, потому что ехал на перекладных в первый раз. Только поутру, обессиленный и истомленный бессонницей, я наконец задремал, но ненадолго. Проснувшись от сильного толчка, от которого даже слетела фуражка с моей головы, я принялся проклинать все: и дорогу, и товарищей, и даже собственную свою жизнь.
— Ты вот лучше послушай, что ямщик рассказывает о своем отце, — уговаривали меня студент и другой спутник.
— А что?
— Вот послушай…
— А я рассказываю им, как он у киргизов лошадей крал, — объяснил мне ямщик. — Так вот, — продолжал ямщик свой рассказ, — взял он эту свою бурую кобылу, оседлал, да и поехал в путь-дорогу. Ехать ему нужно было примерно вот хоть бы теперь как до В.- верст двести, поболе. «Взял я, говорит, с собой провизию и все как следует. Еду. День ехал, другой ехал, наконец к вечеру прибыл. Степь, говорит, одна кругом, так где-где, говорит, травка колышется, да и та засохла; а где, говорит, эти солончаки, так соль-ат лежит такая белая-пребелая, точно снег, и земля, говорит, в тех местах инда полопалась от жару. Слез я, говорит, с кобылы-то, навесил ей торбу с овсом — не трожь, мол, поест — а сам и пошел по степи. Ходил-ходил, говорит, все следы отыскивал, наконец нашел. Ну, думаю, в этом месте, мотри, недавно были, потому что следы-то свежие на земле. Вот я и пошел дальше. Иду, а сам все на землю поглядываю — не видно ли чего? Только и заприметил я, вдали что-то ровно чернеется, — а уж темно стало: ну, думаю, табун. Смотрел это я, говорит, да как шарахнусь в сторону, да бежать, да бежать…»
— Чего же он испугался? — спросил студент.
— А вот слушайте, что дальше будет… «Отбежал я, говорит, эдак с версту, полегче стало. А я, говорит, чего напужался? Вместо табуна-то да на их кибитки наскочил; и если бы, говорит, они меня узрели — тут бы и конец: так и убили бы как собаку, потому что знают, что не за добром пришел. Тут уж я и смекнул, что табун, значит, близко. Отыскал его. Табунище важный, лошадей в полтораста. Нечего, думаю, делать; нужно утра дожидаться. Поутру, значит, они осмотрят табун, пересчитают да отгонят на другое место; вот тогда, говорит, и буду делать свое дело. Заприметил я место-то, да и пошел к своей лошади. Отъехал на ней эдак версты четыре-пять в сторону, нашел какой-то ручеек, попоил, потом, говорит, спутал ее, да и лег тут же спать на потник. Поутру встал еще где до солнца, покормил, попоил лошадь, умылся, говорит, сам да помолился на звезды небесные и стал ожидать восхода солнышка. Как, мол, взойдет, так я с божьей помощью и отправлюсь; потому что, говорит, знал, что они до зари еще его осмотрят, — произошел, значит, все их порядки. Взошло солнышко. Дал я ему маленько пообогреть — и поехал. Эх, говорит, так меня лихоманка и затрясла, как увидел я табун! Недолго думая отшиб, говорит, от него лошадей двадцать, повертелся-повертелся вокруг них, да как гикну на свою бурую — и пошел, и пошел, только держись шапка! Земля-то, говорит, ровно зазвенела под копытами — так задул! Отъехал, говорит, я верст десять и дал им дух перевести да травы пощипать маленько. Ну, думаю, теперь лови меня: ведь завтра еще только узнаете… И пошел, говорит, спервоначалу все рысью да рысью, а потом и шажком, — боюсь, лошадей-то загоню».
— Что же, догнали его? — спросил кто-то из нас.
— Вы слушайте, до чего дело дойдет. «Проехал, говорит, день, проехал ночь, проехал и другой день — все благополучно; и опять ночь, говорит, благополучно проехал; только уж на третий день, эдак к вечерням, — мне всего-то, говорит, верст семьдесят оставалось до дому, — вижу, говорит, назади ровно что-то чернеется. Погоня, думаю, а сам настегиваю кобылу хворостиной. Оглянусь-оглянусь, а он все ближе да ближе: вижу, один скачет, ровно копна какая на лошади-то сидит. Понадвинул я, говорит, шляпенку на глаза — будь, мол, что богу угодно, потому что вижу, осадить-то мне его нечем; окромя хворостинки, которой бабы коров в табун отгоняют, ничего нет в руках. Как, говорит, он ко мне подъехал — ничего не видел. Свистнул он меня сверху, по шляпенке, этой своей нагайкой, — так я, говорит, и свалился с лошади, ровно малый ребенок. Что дальше было, тоже, говорит, не помню. И открыл я, говорит, глаза только тогда, когда мне на грудь ровно гору какую навалили. Вижу, он упер мне в грудь-то коленом, а сам из эдакого чахла ножик волокет. И призвал, говорит, я всех святых на помощь, собрался со всеми силами, да как трахну его коленом промежду ног-то — он так, как куренок, и перевернулся через меня! Тут я вскочил скорохонько на ноги, да и начал, говорит, сапогами его в сурну-то бить: а сапоги у меня, говорит, на тот случай были с подковами. Мял-мял я ему морду-то, наконец бросил, говорит; не то чтобы, говорит, жалко стало, а так очень уж противно. Так, говорит, он тут и подох!»
— А что же отец-то твой не каялся потом, что человека убил? — спросил студент ямщика.
— Какое не каялся: говел в тот год два раза и епитинью долго держал.
— Ну, а лошадей-то пригнал домой? — спросил другой мой спутник — гимназист.
— Пригнал; а то разве бросить, что ли?.. Эту, на которой киргиз-то его догонял, за пятьсот рублей потом продал, потому что она просто неугонная была, — мотри двужильная али с продухами.
— Как это — двужильная или с продухами?
— Ну, да это долго объяснять… Которая, значит, бывает двужильная, а которая с продухами, — дыры то есть под лопатками и в ноздрях имеет, оттого и легче скачет. Ну, вы, двужильные! — вдруг крикнул он, обращаясь к лошадям, и замахал над их спинами.
— А вот неправое-то богатство не пошло впрок, — заметил студент ямщику.
— Как так? — спросил он.
— Да как же: отец твой поскольку воровал, а ты все-таки вот теперь в ямщики пошел.
— Да тогда время такое было, что нельзя не воровать. Они крали у наших мужиков, наши мужики у них — без этого нельзя было обойтись, потому что где ты на него управу найдешь: поди ищи его в степи-то!
Следующие два дня нашего путешествия прошли довольно скучно. Я, между прочим, стал несколько привыкать к дороге и мог хотя немного подкреплять себя сном.
Наконец поутру на четвертый день мы переправились через реку и въехали на высокую земляную насыпь (дамбу), за которой находился уже самый давно желанный нами город. Радость, наполнявшая в это время мое сердце, едва ли может повториться когда-нибудь. Я чуть не плакал. Я, как невольник южных штатов, счастливо достигший свободных северных, готов был даже целовать эту землю, на которой мне впервые суждено будет почувствовать себя лицом свободным и независимым больше от убивающего до сих пор меня гимназического и домашнего деспотизма. И я и мой товарищ по гимназии, оба мы совершенно засыпали вопросами сопровождавшего нас студента. «Новая жизнь!» — шептал я про себя, чуть не задыхаясь от какого-то сладостного, невыразимо приятного чувства.
VI
Мы остановились в гостинице.
— Ну, теперь нужно несколько привести себя в порядок, — сказал нам студент, развязывая чемодан, — а потом мы отправимся отыскивать своих приятелей.
— А в университет пойдем? — спросили мы его в один голос.
— Да что там делать?
— Хоть посмотреть бы…
— Еще увидите! — отвечал студент.
Умывшись и переодевшись, мы почти выбежали из гостиницы и отправились к землякам.
— Далеко ли еще идти? — нетерпеливо допрашивали мы студента.
Он отвечал нам жестом и продолжал шагать.
— Где они живут? У кого они живут? С кем они живут? — то и дело докучали мы.
— Вот увидите, — таинственно пробормотал студент.
— По крайней мере на какой улице?
— Сейчас, сейчас… Вот здесь! — торжественно возгласил он, входя на крыльцо небольшого деревянного домика. Отворив обитую изорванной циновкой дверь, студент с криком и хлопаньем в ладоши вбежал в большую, но чрезвычайно грязную и плохо меблированную комнату. Мы следовали за ним.
— Вот они! Вот они! — раздалось несколько голосов наших товарищей и земляков: двое из них были одеты в студенческую форму — эти годом ранее нас окончившие гимназический курс, двое носили гимназический вицмундир — это были наши товарищи по гимназии, приехавшие держать экзамен для поступления в студенты. Я и ехавший со мной гимназический товарищ, нужно заметить, окончили курс с правом поступления в университет без экзамена, почему и не торопились ранним приездом.
— Ну, как вы доехали? Что у нас на родине новенького? Когда подали прошения? — допрашивали нас.
Удовлетворивши любопытство наших приятелей, мы в свою очередь принялись расспрашивать их.
— Ну, как экзамены?
— Плохо… нарезывают…
— Кого же нарезали?
— Да вот его нарезали из словесности, — рассказывал один гимназист, указывая на другого, — спросил его профессор, кто был первый сатирик в русской литературе? Он ответил: Кантемир, — а профессор и запалил дубину.
— Это плохо.
— А меня немец нарезал, — продолжал рассказчик. — Я знал, что одну единицу можно получить на экзамене, если баллы из остальных предметов хороши, вот я сдуру и не стал отвечать ему, говорю: «Поставьте единицу, она мне не помешает»; а он взял да и влепил нуль, теперь, пожалуй, и не поступишь.
— Нет, тут как один из истории экзаменовался… — вступился другой гимназист.
— А что?
— Просто умора! Он, видишь ты, так-то хороший человек, этот экзаменовавшийся-то, чуть ли не пешком, говорят, в университет пришел и все предметы отлично сдал, только историю совершенно не приготовил. Досталось ему отвечать об Александре Македонском. Вот он и говорит: «Александр Македонский был герой», — а потом и замолчал. Профессор начал кричать на него, ну он совершенно растерялся и, знаешь ли, до того дошел, что, что бы ему ни подсказали, он то и отвечает. «Ну что же делал Александр Македонский?» — закричал профессор. «Он воевал», — отвечал экзаменовавшийся. «С кем же он воевал? — опять закричал профессор, — да что же мне вытягивать, что ли, из вас каждое слово прикажете? С кем же он воевал?» — злобно спросил профессор. А тут кто-то на смех и подсказал: «С Мамаем». — «С Мамаем», — отвечал экзаменующийся. Экзаменатор расхохотался. «Кто же был Мамай?» — хохоча во все горло, крикнул профессор. Экзаменующийся уже окончательно сконфузился и сквозь слезы пробормотал: «Мамай был протестант». Тот ему сейчас закатил нуль и выгнал вон из зала. Ах, как он, бедный, плакал потом! — с участием прибавил рассказчик. — «Мне, говорит, теперь придется куда-нибудь в дьячки идти, потому что я не окончил курса в семинарии».
— Как же вы тут живете в этой комнате? — спросил я товарищей.
— Да вот вчетвером, — отвечал один из них. — Платим за квартиру пять рублей в месяц, да за обед по рублю семидесяти пяти, потому что здесь на обед дают довольно много и целый обед стоит три с полтиной, так мы берем вдвоем один обед, вот на каждого и приходится по рублю семидесяти пяти. Ну, табак, свечи, чай, сахар, булки, — как ни считай, а на десять рублей едва-едва месяц-то промаячишь, особенно если еще и платье считать. Нет, дорого вообще жить здесь, — рассуждал он.
— А мы, брат, уж тут как-то кутнули, — перебил другой, — одного хересу бутылки три выпили.
— Да вот, если экзамены хорошо окончим, — заговорил третий, — так пирушку зададим: наймем лодку, испечем пирог…
— Позвольте мне, господа, заказать пирог! — крикнул вдруг наш попутчик-студент, выбегая из другой комнаты в сопровождении двух других незнакомых студентов.
— Си! Карнеич! Вот рекомендую вам такого-то, — отрекомендовал меня студент незнакомцам.
Мы пожали друг другу руки.
— Не пейте вы, господа, этого хересу, — увещевал Карнеич, высокий, плотный мужчина, — пейте бальзам лучше: и дешево и сердито. А то, слышу, толкуют — херес… черт знает что такое!
— Вот что, господа, курочку, что ли, или гуся бы тогда зажарить? — рассуждал один из гимназистов.
— Да это еще когда будет, а теперь вот с вновь приехавших нужно выпивку содрать! — заговорил Си, густо откашливаясь в широкую свою ладонь.
— Сдерем! Сдерем! Нынче же вечером! — закричали все хором.
Мы согласились. Но прежде всего просили наших товарищей показать нам город и главное — университет. Те начали одеваться, а мы принялись рассматривать комнату и содержимое в ней.
Комната была довольно велика, в три окна на улицу и в два во двор. У одной стены стояли две липовых кровати грубой работы, а по другим стенам стулья из дуба, с плетеными стенками вместо подушек; вольтеровское кресло без четырех ног валялось в переднем углу, и остатки ваты, которою когда-то были начинены его сиденье, бока и спинка, служили теперь для затыкания папирос. На кроватях, кроме тюфяка и подушек, лежали различные принадлежности туалета, наваленные в сплошную кучу. Грязное белье, старые сапоги, чемоданы, книги и узлы, человеческие кости, химические реторты, склянки и банки, — все это, перемешанное между собою и покрытое толстым слоем пыли, валялось под кроватями. Два стола, сколоченные из крашеных липовых досок, зеркало, разбитое лучеобразно в мельчайшие дребезги, портрет любимого профессора на стене — вот и все, что находилось в этой комнате.
— Кто же это у вас так зеркало разбил? — спросил я.
— Ах, знаешь ли, брат, какая штука! — с восторгом воскликнул один из моих гимназических товарищей. — Тут есть один башкир, силач, в университет поступает, так это он… Вообрази, он одной рукой поднял за ножку три вот этих стула, — ну, тогда и разбил зеркало. Вот силища-то, скажу тебе — просто ужас!
— Нет ли у кого двух листов бумаги? — спрашивал один из студентов, живших тоже в этой комнате.
— Зачем тебе? — спросил гимназист.
— Да разве не знаешь… Давай!
Тот дал ему два листа. Я ожидал чего-нибудь необыкновенного, слушая этот таинственный разговор, между тем дело было очень простое: студент в каждый лист бумаги завернул по ноге, а потом препроводил их обыкновенным порядком в сапоги.
— Зачем вы это делаете? — спросил я его.
— Очень просто, потому что носков нет, — отвечал студент, — и так как таковых носков у меня не существует уже больше полугода по причине недостаточности моих средств, и так как, с другой стороны, занимать таковые у товарищей натурою или деньгами я не считаю удобным для себя, то посему и нахожу отнюдь не предосудительным и даже очень полезным облачать свои ноги таким образом. — И, проговоря эту тираду, студент встал со стула и принялся прохаживаться по комнате, отчего бумага издавала какой-то скрип.
— Ну, а если у вас не будет вицмундира, тогда вы и вицмундир из бумаги сошьете? — спросил его кто-то.
— Отчего же? Можно.
— А зимой-то как же?
— Да ведь, батюшка, это всё басни — теплое платье, носки и прочее, — с запальчивостью обратился студент к вопрошавшему, — нужда все сделает: обует, оденет, согреет, как… — Тут он вдруг оборвал свою речь. Бледное лицо его исказилось, и глаза беспредметно запрыгали по комнате.
— Что, хотел сказать — накормит, да оборвался? Нет, дружище, за нуждой-то ведь голодная смерть, а не кормежки! — заметил ему другой его сожитель-студент.
— Ну, тогда пулю в лоб! — с азартом крикнул он.
— Да где же ты пистолет возьмешь? Или и его опять та же нужда принесет?
— Хорошо, хорошо… пойдемте, — сказал студент в бумажных носках и запел:
Эх, студенческая доля! Эх, студенческая доля! В головах вопросы, В зубах папиросы. То-то воля!..Мы вышли из ворот и повернули направо.
— К университету! к университету! — упрашивал я, перебегая от одного товарища к другому.
Вот мы прошли несколько шагов, повернули налево, и глазам нашим предстал наконец университет. Он был выстроен довольно красиво, в три этажа и с тремя колоннадами; на фронтоне вывеска «такой-то университет»; большие окна и красивые входные двери делали его внешний вид еще привлекательнее, так что на первый раз мне, не видевшему никогда до тех пор порядочных зданий в родном захолустье, университет показался чем-то грандиозным. Я долго не мог оторвать от него своих глаз, рассматривая его то весь, то по частям. «Какие же люди должны жить в таком доме? Что они должны думать? Какие дела должны делать?» — размышлял я, поминутно останавливаясь и глядя на величественное здание.
— Пойдем, пойдем, — тащили меня товарищи.
— Еще успеешь насмотреться.
— Будешь еще бегать от него! — толковали они.
— Вон инспектор идет, — вдруг произнес кто-то.
— Где? Где? — спрашивали мы.
— А ты нечего спрашивать, ты шапку снимай, когда поравняемся, а то он в университет не примет.
Мы поравнялись наконец с каким-то господином с выпятившейся физиономией и отвесили по поклону.
— Позвольте, господа! — остановил нас инспектор.
Все стояли без шапок. Инспектор сначала осмотрел с головы до ног студентов, потом обратился к нам.
— Из какой гимназии? — спросил он.
— Из такой-то, — отвечали мы.
— В университет поступаете?
— В университет.
— Подали прошения?
— Мы подали, — отвечали двое, — а вот они еще не подали: они только нынче приехали.
— Из хорошей гимназии, сейчас вижу, — заметил инспектор, — начальство уважаете… без шапок стоите, это хорошо! Когда будете студентами, тоже снимайте фуражки перед начальством, когда вступаете с ним в разговор, если же в шляпе идете, то нужно приложить правую руку к кокарде, — вот так! — и инспектор показал нам, как прикладывать руку к кокарде. — Правил еще не получали? — спросил он.
— Нет еще, — был ответ.
— Вот в правилах все это изъяснено. Прощайте!
Инспектор удалился. Позади его шел понуря голову какой-то студент.
— Вон уж поймал кого-то!
— Как поймал? — спросили мы.
— Да так… делать-то ему нечего, вот он и ходит по городу да удит: у кого пуговица оторвана, у кого крючок не застегнут, сейчас и тащит в карцер.
— Да как же так? — спрашивали мы. — Этого даже у нас в гимназии не было.
— А здесь бывает. Погодите, еще раз попадетесь к нему на кукан, сволокет он вас в карцер! — подсмеивались над нами студенты.
До обеда мы исколесили почти весь город. Обязательные товарищи с радостью показали нам все его достопримечательности, начиная от вонючего озера, около которого имеют обыкновение прогуливаться горожане, до знаменитой башни, с которой будто бы когда-то бросилась на землю какая-то татарская царевна.
Обедать мы двое отправились в гостиницу, в которой остановились, а остальные все пошли домой. Студент, приехавший вместе с нами, тоже ушел куда-то, обещаясь вернуться к вечеру и привести с собою всех земляков, сколько их есть в университете.
«Как же это так?., инспектор-то… — рассуждал я, лежа на диване после обеда. — Я думал, что с гимназией я совсем уже покончил, а между тем…»
Бедная, несчастная юность! Как горька и грустна твоя доверчивость! Каким шиповником угощают тебя зачастую там, где ты ищешь одних только роз! Как часто тебя, убаюканную сладкими мечтами и грезами, нежданно поражает тяжелый обух действительности! Уроки! тяжелые уроки! — грустно лепечешь ты, прощая все и предавая забвению.
Наконец я заснул. Я проспал до самого вечера. Шум и говор пришедших земляков разбудили меня. Начались объятия, расспросы, возгласы и проч. Компания собралась довольно большая, человек в двенадцать. Тут были и окончившие уже курс, и студенты двух- и трехгодовалые, но большинство все-таки было на стороне так называемых футурусов, то есть вновь поступающих.
Тотчас принялись за чай. Полилась оживленная беседа. Поступающие рассказывали о своих экзаменах, студенты о лекциях, разбирали достоинства и недостатки профессоров, и поголовно все бранили инспектора.
— Ты что «замолк и сидишь одиноко»? — спросил студент филологического факультета другого студента, медика.
— Грустно что-то, — отвечал тот.
— Да о чем грустить-то! — спросил филолог.
— Так…
— Вот, господа, — обратился филолог ко всей компании, — рекомендую вам редкое явление: субъект, заеденный средою. Я вас уверяю, я едва не умер, когда он объявил мне, что он заеден средою.
— Да, пожил бы ты при моих обстоятельствах.
— Какие же такие твои обстоятельства?
— Есть нечего, пить нечего, ходить не в чем! — резко выкрикнул студент и встал с места. Голос его дрожал, слезы так и блестели на глазах.
— Боже ты мой, господи! «Твои обстоятельства»… Да что, его обстоятельства лучше, что ли, твоих? — он указал на студента в бумажных носках, — что, обстоятельства известного нам Петра Федорыча лучше твоих?.. Если бы я хотел, я бы насчитал тебе целые десятки бедняков, которые борются с обстоятельствами далеко худшими, чем твои.
— Тебе хорошо говорить: ты обеспечен.
— Прекрасно. Я обеспечен, я нахожусь в исключительном положении; но зачем же ты-то все хочешь меня в пример брать? Зачем ты не подражаешь тем беднякам, которые подобно тебе стеснены обстоятельствами? Посмотри: вот одни из них согнулись, зачахли под этим гнетом, но все идут вперед, все выбиваются из этого омута, и выбьются! Вот другие, такие же чахлые и исхудалые, если даже еще не больше, — эти стоят неподвижно, обстоятельства давят и душат их с каждым днем все больше и больше, но они ни криком, ни словом, ни движением не указали никому на свое тяжелое положение; они погибнут, умрут, если случайность не выхватит их из этого ада, но никогда не завоют и не пожалуются. Вот это люди! Вот характеры! Вот это энергия! В ту или другую сторону, так или иначе, жизнь или смерть… но когда виден человек — хвала ему! А тряпица… черт с ней! пусть пропадает! — заключил филолог и махнул рукой.
— Было бы чем взяться, и я бы сумел выбиться, — пробормотал его противник.
— Не выбьешься, не выбьешься! — решительно возразил ему филолог. — Ты ведь в своем положении похож на корову, упавшую в яму: если другие не помогут, она сама не вылезет. Ну, корову-то, разумеется, вытащат: ее доить можно, она и на мясо годится, а из тебя какого черта выкроишь?
— Среда заела, среда заела!.. — помолчав, опять заговорил он. — Обстоятельства задавили!.. Нет, вон Петр Федорыч пешком, с одним рублем вышел из родного города в университет, целый год прожил в каком-то хлеве у благодетеля, — черт бы его взял и с благодеяниями! Голодный, больной, замерзший бродил на лекции, успел выучить языки, достал себе работу, сколотил даже деньжонки, которые вам же дает взаймы, помогает родным… Вот это натура! Этот не побоится среды! Он может даже похвалиться, что слопал ее, да еще и не одну свою: он и до вашей доберется… Увидишь, как года через два он будет держать на своих плечах человека два-три таких, как ты, — увидишь!
— Увижу, увижу, — с досадою отвечал противник.
— Да что с тобой говорить! Все вы, заеденные средою, не стоите, право, даже одного из тех лаптей, в которых несчастный Петр Федорыч пришел из дому в университет и над которыми по глупости вы когда-то смеялись. Дайте-ка, хозяева, чего-нибудь выпить, дело-то лучше будет! — обратился к нам филолог.
Явилась водка и закуска.
— Господа, прежде всего: libertas est[17],- заговорил вдруг, вырезавшись из толпы, один из гимназических моих товарищей. — Каждый может проявлять свои наклонности, как ему угодно.
— Разумеется, разумеется! — раздались голоса.
— Но, по моему мнению, сначала необходим некоторый деспотизм: все должны выпить по одной, — предложил филолог.
— Отлично сказано!
— Деспотизм, деспотизм!
— Всем, всем пить! — закричали хором. Компания развеселилась. Некоторые даже начали уж напевать.
— А не грянуть ли хором?
— Можно, можно!
— Только тихонько.
— Что же петь будем?
— «Gaudeamus»…[18] «Стою один я перед избушкой»… «В тени сикоморы»… — кричали с разных сторон.
Составили хор и решили спеть «В тени сикоморы».
— Ты смотри, вот с этой начинай: о-о-о! (регент загудел басом). А вы двое — вот с этой: и-и-и! (регент запел тенором). А вы остальные все за ними. Ну, начинайте!
Раздалась песня. Воодушевление помешало нам заметить даже нестройность нашего хора. Все до того увлеклись, что незаметно перепели весь студенческий репертуар: старые студенты учили нас, молодых, мы слушали их замечания и советы и драли горло с таким усердием, что даже поселили некоторое уважение к себе в прислуге, уверявшей, что «молодые-то господа ловче старых чкалят».
Наконец все было спето, выпито и съедено. Некоторые из гостей, повалившись кто где мог, уже покоились мирным сном, а другие спорили между собою, кто о том, на кого больше похож инспектор: на свинью или борова, кто о том, где лучше жизнь: на Маркизских островах или на Мадагаскаре? Один уверял, что такой-то помощник назвал кислород металлом, другой оспаривал его, крича во все горло:
— Врешь! не кислород, а азот!
— Ну, пойдем, пойдем, господа, домой, — наконец вымолвил кто-то.
— Пойдем! — крикнули несколько человек.
Забрали уснувших, совратившихся с пути истинного повели под руки, и комната наконец опустела.
Чувствуя некоторое опьянение, я тотчас же бросился в постель и заснул. Тревожные сны пробегали один за другим; и вот что я увидел между прочим.
Вечереет. Вижу я внутренность нашего двора. Отец на лавочке сидит у порога флигеля. Постоялец смотрит в окно. Один из братьев стоит на коленях около скамейки, на которой сидит отец. Вдалеке где-то слышатся звуки шарманки. Мимо ворот проходит нищий, чуть ли не последний из проходящих мимо в вечернее время. «Старик, войди сюда!» — кричит отец. Приходит нищий. «Купи у меня сына», — говорит ему отец. «А дорого ли просите?» — «Три копейки», — говорит отец. Брат начинает плакать. Нищий вынимает три копейки и отдает отцу. «Возьми его!» — говорит отец, указывая на брата. Старик приближается к нему. Вдруг брат вскакивает с колен. Вот он растет, растет и наконец становится выше нашего дома. Однако нищий все-таки как-то захватывает его поперек; брат, слышу я, плачет, воет и лает по-собачьи, а нищий, ломая его на куски, складывает все это в свой мешок. Я вижу кровь, слышу хрустение костей; и вот наконец нищий положил туда же в мешок и голову с лицом бледным и страдальческим, с закрытыми глазами и запекшеюся кровью на губах. Нищий ушел. «А не выпить ли нам?» — кричит отец постояльцу. «Выпьем», — отвечает тот и спускается во двор. «Что, продали сына?» — спрашивает постоялец. «Продал», — отвечает отец. «И выгодно?» — «Да, три копейки взял». — «Это хорошо», — говорит постоялец. «Дайте-ка водки», — говорит отец. Вот, вижу я, выпили они водки, посидели, помолчали и расходятся. Отец входит в свой кабинет и садится у стола; матушка с маленькой сестрой поместилась на диване; около нее стоим мы все. «Давайте четью минею читать», — говорит отец. Выходит проданный брат с книгою в руках и садится около стола. «Откуда же, папенька, начинать?» — «Вот начинай отсюда: „Ведомо же буди, яко ин бе“…» — «Да это вчера читали», — прерывает его кто-то. — «Ну так читай отсюда: „В той же день“….» Брат начинает читать. Звонко отдается в ушах его молодой, несколько резкий голос. «В той же день, — читает брат, — страдание святых мучеников Вита, Модеста и Крискентии. В царство Диоклитианово, — продолжает чтец, — внегда Валериан игемон в Сицилии христианы гоняше, бе тамо некий отрок дванадесятилетен, именем Вит» и т. д. В комнате тишина водворяется. Так проходит довольно долгое время. Братья и сестры начинают разговаривать между собою потихоньку, нередко даже слышны взрывы долго сдержанного смеха. «Ой высеку! ой высеку! если не будете слушать, — угрожает отец. — Двоих-троих высеку! всех высеку!» — наконец обобщает он. А голос чтеца все так же звонко отдается. Как колокольчик звенит голос. Вдруг вбегает в комнату кухарка и резко вскрикивает: «Отелилась, барин!» Отец встает с места и уходит. Мы начинаем прыгать и кричать, несмотря на увещания матушки. Заснувшая было на руках матушки маленькая сестра просыпается и плачет. Очертания предметов и лиц, вижу я, сначала как будто грубеют, потом делаются бледнее и бледнее, как-то сливаются между собою и наконец туман наполняет комнату. Опять слышу я плач и лай продаваемого брата, рев коровы, мычание теленка, и наконец сильный, густой голос отца покрывает все. Я проснулся. Сквозь открытое окно свободно врывался в комнату колокольный звон. Было девять часов утра.
Примечания
1
Родился я в пустыне полудикой… — начало стихотворения Н. А. Некрасова «(Подражание Лермонтову)». Приведено Вороновым неточно: в первых двух строчках следует читать:
В неведомой глуши, в деревне полудикой Я рос средь буйных дикарей… (обратно)2
Конфирмация — утверждение приговора.
(обратно)3
А клеймите вы как? — До 1857 года в судебной практике царской России было распространено накладывание раскаленным железом клейма на лицо осужденного.
(обратно)4
…ваше превосходительство (директор был статский советник)… — Назвав директора гимназии — статского советника по чину — «превосходительством», отец рассказчика польстил ему, так как статские советники не имели права на этот титул.
(обратно)5
возрастая (итал.).
(обратно)6
Тише! (франц.).
(обратно)7
Тише! замолчите! (франц.).
(обратно)8
…получил бы полную демидовскую премию — то есть денежное поощрение (в размере полутора тысяч рублей) за сочинение на русском языке, присуждавшееся Академией наук из средств, пожертвованных для этой цели промышленником П. М. Демидовым.
(обратно)9
Бессмысленный набор слов одинаковой грамматической формы.
(обратно)10
Аматер — любитель, охотник до чего-нибудь (от франц. amateur).
(обратно)11
мой дорогой, пожалуйста (франц.).
(обратно)12
…новый учитель, только что окончивший курс в одном из столичных университетов.- Речь идет о Н. Г. Чернышевском, бывшем в 1851–1853 годах преподавателем Саратовской гимназии.
(обратно)13
Кроме «Выжигиных» и «Мазепы». — Романы реакционного писателя Ф. В. Булгарина (1789–1859), написанные в духе официального казенного патриотизма.
(обратно)14
Зотов Р. М. (1795–1871) — автор лубочных исторических романов, сотрудник реакционной газеты «Северная пчела».
(обратно)15
Родина-мать!.. - отрывок из поэмы Н. А. Некрасова «Саша». Воронов опускает часть первой строки и всю вторую и неточно приводит шестую (следует читать: «Вечные бури твои ни нагнали»).
(обратно)16
Но все обычной чередою… — куплет из студенческой песни середины XIX века «Стою один я пред избушкой».
(обратно)17
Свобода есть (лат.).
(обратно)18
Давайте веселиться… (лат.).
(обратно)Комментарии
1
Детство и юность. — Впервые было опубликовано в журнале Ф. М. и M. M. Достоевских «Время» и состояло из двух самостоятельных произведений: повести «Мое детство» (№ 7 и 9 за 1861 год) и повести «Моя юность» (№ 7 за 1862 год). Впоследствии при переиздании их в составе сборника произведений Воронова «Болото» (СПб., 1870) писатель объединил обе повести в одну под новым названием «Детство и юность». При этом Воронов внес в текст некоторые стилистические исправления и несколько сократил вторую часть повести (описание юности героя).
В советское время повесть «Детство и юность» неоднократно переиздавалась: под редакцией К. И. Чуковского в сборнике «Шестидесятники. Избранные произведения», ГИХЛ, М. 1933 (со значительными сокращениями), в сборнике «Рассказы о старом Саратове», Саратов, 1937 (первая часть повести), и в переработке К. И. Чуковского для детей под названием «Хуже собаки», М. 1932.
Учителя Саратовской гимназии, выведенные в повести под тем или иным именем или кличкой, имели своих реальных прототипов. Так, например, прототип Митьки Сайги — учитель русского языка Д. А. Андреев, получивший свое прозвище от названия дикого животного — сайгака. Прототипом учителя французского языка — «жалкого калеки» — был бывший ефрейтор наполеоновской армии Вульфтерт, попавший в плен изувеченным во время Отечественной войны 1812 года.
Прототипом учителя немецкого языка послужил К. А. Гаак. По специальности мастер табачной фабрики в Риге, он совершил уголовное преступление, похитил чужой паспорт и бежал на юг России. Обосновавшись в Саратове, Гаак устроился по протекции учителем гимназии, где его «педагогическая» деятельность продолжалась около шестнадцати лет.
Про директора Саратовской гимназии В. А. Лубкина даже официальный историк города писал, что он не был чужд «слабости своего времени, выражавшейся в форме принятия благодарностей».
Повесть «Детство и юность» печатается в настоящем издании по тексту: М. А. Воронов, «Болото», СПб. 1870.
(обратно)
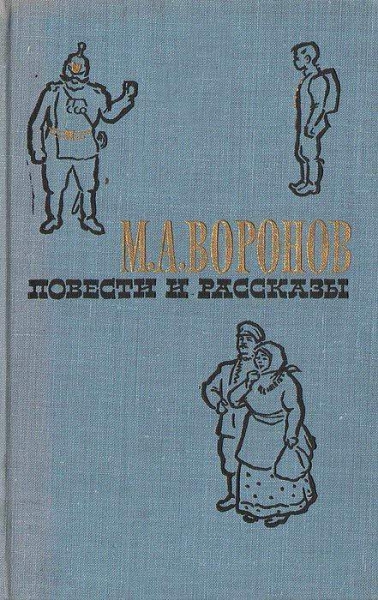

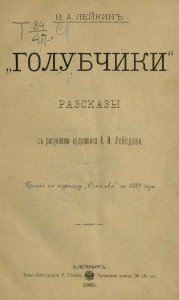
Комментарии к книге «Детство и юность», Михаил Алексеевич Воронов
Всего 0 комментариев