Михаил Алексеевич Воронов Старина стародавняя
(Рассказ)[1]
Летом нынешнего года возвращался я из села Ивановского в Петербург (Ивановское лежит вверх по Неве, верстах в тридцати от Петербурга). Нужно заметить, что пароходы на пути из Шлиссельбурга заходят в Ивановское между тремя и четырьмя пополудни, а так как я пришел на пристань далеко раньше трех часов, то мне, стало быть, приходилось ждать, пожалуй, целый час. Я сел на скамейку и погрузился в созерцание водной стихии. И действительно, если говорить правду, так стихия эта достаточно живописна вблизи Ивановского, потому что выше его Нева суживается и течет как бы сдавленная крутыми высокими берегами, вырвавшись из которых широко и вольно, даже с некоторым шумом несется она мимо села, раскинувшегося направо, и какой-то чухонской деревушки, чуть виднеющейся вдали, налево.
День был хоть куда! Солнце, правда, палило по-летнему, но жар в значительной степени умерялся близостью воды, да еще в таких громадных размерах. Несколько рыбачьих лодок мерно качались на середине реки, на быстрине, поочередно ныряя то кормой, то носом; десяток-полтора резвых стрижей с писком пронеслись за грузной, неповоротливой вороной, уносившей в когтях какую-то жалкую добычу; мартышка кружила у берега, зорко сторожа какого-нибудь оплошавшего пескаря или какую-нибудь несчастную плотву…
— Эй! ежова голова! — раздался вдруг около меня чей-то дребезжащий голос, старавшийся вскрикнуть во всю мочь.
Я оглянулся и увидел старика, грозившего кулаком одному из рыбаков, стоявших на якоре на середине реки, старика до того ветхого, что энергические взмахи собственной руки едва не валили его с ног.
— В город еду, ежова голова! — козлом задребезжал старик, широко раскрывая свой пустой рот, в котором зубов я не заметил ни одного.
— Ладно! — был ответ с реки.
Старик успокоился и с трудом опустился на скамейку возле меня. Я принялся его осматривать.
Бедняк был страшно худ. Глубокие морщины по всем направлениям перерезывали его дряблое лицо, сплошь покрытое мелким седым мохом; желтые кудреватые мочки волос беспорядочно выбивались и ползли на глаза из-под старого разорванного, когда-то военного, картуза, обратившегося теперь во что-то совершенно неописуемое, солдатская шинель, вытертая и в заплатах, еле держалась на плечах старика, непосильных даже и для этой ноши.
— Сколько вам лет, дедушка? — как-то невольно спросил я старика.
Старый служака при таком вопросе быстро вскочил с места, так что от излишнего усердия чуть не полетел за борт пристани, в воду: ноги, как оказалось, плохо служили ему.
— Запнулся, запнулся, — бодрясь, пробормотал он. — А то я крепок на ногах, ваше благородие, — обратился старик ко мне.
— Сколько вам лет? — переспросил я.
— А как вы думаете, ваше благородие? — уставился на меня старик.
— Лет пятьдесят, — сказал я шутя.
— Вот то-то же и есть, — радостно осклабился старина… — А ведь и другие как вы же говорят, ваше благородие. А почему? А потому, что я есть военный человек, — с гордостью заключил он.
Тут старик наш приосанился и принял ту чертовскую позу, в какой живописцы старых времен изображали наших, да и всяких заморских генералов, то есть с головой, свернутой, свихнутой набок, на плечо, и с выпученными, точно у бешеного быка, глазами.
— Вот я какой! — застучал себе в грудь старичина.
— Да вы садитесь.
— Не на то солдат создан, чтобы ему сидеть, ваше благородие. — храбрился воин.
— Ну, да что уж тут рассуждать, садитесь-ка.
Старик послушался.
— Так сколько же вам лет? — добивался я своего.
— А восемьдесят два… Вот каков я есмь мал-несмышленочек, ваше благородие! Восемьдесят два, восемьдесят два, отец мой… Но только опять же скажу, ваше благородие, в гробу, ежели я, примерно, буду лежать, так и тогда всякий скажет: «Эх, скажет, какой бравый солдатище-то помер, успокой господи и его душу».
Я невольно усмехнулся, глядя на этого бравого солдатища.
— Истинно говорю, ваше благородие. Да, при двух императорах служил, при третьем живу, тут годов, надо быть, немало… Тут годов — и-и-и, сколько!
— Ну, а как, дедушка, прежде-то лучше было или хуже нынешнего?
— Лучше, ваше благородие, — нимало не медля, отрезал солдат.
— Чем же лучше?
— А тем лучше, ваше благородие, что прежде было строже: ноне все распущено… воля! Ноне что такое солдат? Что солдат, что мужик — все единственно…
— Ну, а прежде-то?
— А прежде-то солдат в струне ходил — да!
Старик помолчал минуту и забормотал снова.
— Уж при двух императорах служимши, кажется, всего можно было навидеться: не так ли?
— Так, — согласился я.
— А коли так, так расскажу я тебе, ваше благородие, как мы в драгунах служили, — вот ты тогда и раскумякаешь, какова она есть настоящая служба, всамделишная, и какова теперешняя… куцая-то ихняя, прости господи!
Почему старик нынешнюю военную службу величал «куцею», так и осталось для меня загадкой.
— Вы Линдрейха не знавали, ваше благородие? — спросил меня дед.
— Какого?
— Штаб-ротмистра Линдрейха, Карла Карлыча?
— Не знаю, не знаю, да и не знал никогда.
— Так вот он у нас в ту пору эскадронным командиром был, как в драгунах-то мы служили. Ах, и собака же был человек, прости господи! То есть, кажется, этакого другого пса дракуна и свет не производил! Стояли мы по квартирам, — продолжал старик, — в Тверской губернии, в Корчевском уезде, село Раменье есть такое — богатейшее село! Это было — дай бог память! — в девятнадцатом или в двадцатом этак году… при Благословенном[2] еще… Так вот, стояли мы в этом самом Раменье, а Карло-то Карлыч у нас эскадронным был: маленький такой, черненький, худой да костлявый, что твой коровий хвост; но только уж насчет драки — за первый сорт! Ни он тебе слово какое скажет, ни он тебе надлежаще приказ отдаст, — все в морду да в морду!
Дед даже перекрестился в подтверждение своих слов.
— Вот сейчас издохнуть! — уверительно добавил он.
— Так поди бегали много? — спросил я.
— Нет… о! этого нельзя! — решительно замотал головой старик. — Опять же и потому не бегали, что некрутов он не бил; а старый солдат, известно, с чего побежит?.. А некрутов, до году ни-ни — пальцем даже не тронет: «За некрута, говорит, дядька в ответе», — этому, значит, и накладывает во всю руку: у иных спины так и не заживали николи. Ай же и прокурат был человек, дуй его горой! — с усмешкой воскликнул старик, ударив себя руками по бедрам. — Выедем этто мы, бывало, на ученье, в манеж, тут-то мука-мученская! Станет сам, знаете, в середку, в руке этот бич, длинный-предлинный такой, и начнет командовать: «Шагом! рысью! с правой ноги! с левой!» — а бичом-то тебя все в спину да в спину — принимай только! Или видит, что придираться к тебе нечего, что делаешь, значит, ты в надлежащем правиле, по-евонному — сейчас тебя с лошади долой и сам сядет: ты, значит, ему командывай. Ах, и прокурат же был! Сядет, знаете, ваше благородие, этта на лошадь, распустится весь, ноги вывернет, скособочится, сгорбится, — просто хуже он всякого, кажется, некрута-первоученка…
— А хорошо ездил? — спросил я старика.
— Уж что не хорошо… Уж такой ли пес на езду был — первая собака!
— Так для чего же он это делал?
— Как для чего? Для того, что ты его оправил как следует.
— А если не оправишь?
— В морду так и зазвездит с лошади-то!
Старик глубоко вздохнул и продолжал:
— Но ежели захочет он тебя в унтер-офицеры произвести — смерть! Первым делом дает тебе, для екзамента, такую лошадь — только моли угодников, чтобы голову тебе сносить; а уж что, значит, до спины касается, — будешь неделю-другую ровно ошпаренная собака скучать! Али придем мы этта жалованье третное получать, так уж тут держи ухо востро: уж тут как спросит: «Сколько тебе следует?» — так и отвечай доточно: «За такую-то, мол, треть, три рубля восемьдесят шесть копеек, за вычетом канцелярских документов — на писчую бумагу, ваше благородие». («На ассигнации — три-то рубля восемьдесят шесть копеек», — пояснил старик.) Но ежели ты только хоша в одном слове неправильность какую супротив его науки сказал — быть твоей морде битой: ни за что не спустит.
— Ну, а службой больно морил? — спросил я.
— Да уж, одно слово, за первого служаку по всей дивизии считался, так как же и не морить?
Старик поставил зонтиком ладонь над глазами и пристально посмотрел вдаль.
— Не видно пароходу-то, — покачал он головой.
— Да, вероятно, с полчаса еще подождем.
— Подождем, надо быть.
Дед откашлялся и забормотал снова:
— Бывало, вот на покров-то праздник в селе у нас. Сейчас приказ от его, чтобы собраться в церкви в полной парадной форме. Придет, посмотрит всех, — а кому так и в морду ради праздника попадет, — прикажет спешиться и поведет во храм божий; опосля молебна сделает развод, потом опять велит спешиться и по стакану водки каждому: пьешь, не пьешь — пей!.. «Когда, говорит, командир тебе подносит, не смей и в мыслях держать, чтобы не пить: хоть умри тут от одного стакана, а пей!»
— И пьют?
— А то нешто ослушаются?
— Да если кто, в самом деле, не пьет?
— Так ему-то что за дело: хоть умри, говорит, а пей.
— Ну? — спросил я с любопытством.
— Ну, многие, известно, выпьют, голова закружится, так тут же и повалится.
— А он что?
— Ему что? — смеется. Что ему… известно, командир — его воля: как хочет, так и мудрит.
Старик усмехнулся.
— Раз, помню, только что мы, господи благослови, в Раменье-то вступили, только что расквартировались, вижу я, что лошадь-то у меня дюже тоща, — вот и думаю я себе: дай-ка, мол, пойду я на поле — не поживлюсь ли, мол, там чем. Ну, известно, село богатое, как не поживиться… Навязал я вязанку сена, да и пробираюсь, знаешь, ваше благородие, путем-дорогой домой. Тут меня, милого дружка, мужички-то и схапай! Схапали — да к нему, к командиру-то. Запираться, известное дело, нечего-повинился я: уж он мне тут скулы-то гнул, гнул, кажется, чуть не до полусмерти. «Довольны ли?» — спрашивает мужичков. «Довольны, говорят, ваше благородие!» — «Ну, ступайте!» — говорит. Ушли мужики, он сейчас ко мне. «Ну, как же, говорит, тебе, такой ты, сякой, не стыдно: вязанки ты сена в аккурате не мог взять?» — «Виноват, говорю, ваше благородие: нечистый попутал, мой грех!» — «Известное дело, — это он-то мне-то, — известное, говорит, дело, что правдой ноне в миру не проживешь, так человек подобным таким образом и утрафлять должен, чтобы кривда его во всяком разе, как самая что ни на есть всамделишная правда была. Понял?» — спрашивает. «Слушаю, говорю, ваше благородие». — «Да ты, говорит, слышал ли гисторию такую про Правду и Кривду?» — спрашивает меня. «Никак нет, говорю, ваше благородие». — «То-то ты, говорит, дураком по свету ходишь», — а сам в скулу раз, раз! Я, известно, стою, молчу, дело подначальное… «Жили, — говорит мне Карла Карлыч, — на белом свете Правда с Кривдой, и были они, говорит, давно между собою знакомы, да только несколько лет не видались — не привелось, значит. Только, однако, и встретились: идет Правда, худая да тощая, чуть ноги волочит, жалкая такая, а Кривда-то навстречу ей, пузастая да рыластая, что твоя кровь с молоком: идет, тросточкой помахивает. «Здравствуй, Правда!» — «Здравствуй, Кривда!» — «Как поживаешь, Правда?» — «Плохо, Кривда: оборвалась вся, голодом изморилась, холодом истомилась». — «Эх ты, говорит, дура, Правда, — Кривда-то ей, — а ты живи по-моему, так всегда и сыта, и в тепле будешь ходить!» — «Да не умею», — говорит. «Пойдем, говорит, я научу». Пошли. Приходят в трактир. Сели. «Дай, говорит, молодец, нам по пирожку да водочки, да жарковьица». Сидят, едят: ели, ели, кончили. Только собираются уходить, молодец-то, что подавал, и спрашивает деньги. «Как? — говорит Кривда — мне, говорит, еще с тебя сдачи следует, потому как я тебе золотой дала». Молодец так и опешил; а Правда, известно, молчит, потому в такую компанию влезла. Дошло дело до хозяина. Хозяин сейчас послал за полицией. Ну, судили, рядили и решили так, что Правду с Кривдой взять по сумлению, а на право торговли трактирное заведение закрыть, потому что, может, и от него дело-то все произошло. Видит хозяин, что предстоит ему убыток неминучий, давай просить, давай молить, да и кончил тем, что заплатил Кривде не токмо что с полуимпериала сдачи, а своих еще два прибавил — только отвяжись! Да заплатимши-то, с горя как взвоет: «Эх, говорит, где-то ноне Правда?» А Правда-то стоит сзади да думает про себя: «Здесь, мол, я, да сказываться не могу, потому в такую компанию взошла». Так вот так-то!» — говорит мне Карла Карлыч, а сам все меня в скулу да в скулу. Уж и досталось мне в те поры за это сено, чтоб ему пусто было! — заключил старик, мотая головой.
— Так вот он какой был! — заметил я.
— И-и-и! — протянул старичина. — И сам был строг, и от солдата строгости требовал, — добавил он. — «Уж ежели, говорит, солдат да своего хозяина в неповиновении держит, тот мне не служака. А тот, говорит, солдат надлежащий, у которого хозяин по ниточке ходит: от такого, говорит, солдата и мне ину пору, где десяток яичек да цыпленочек, а где и курочка попадет!»
— Так он, значит, любил и цыплят-то и курочек?
— Все такое любил, а уж насчет провианту либо фуражу, так он тебе сокращал, что чем хошь, тем и продовольствуйся.
— Ну, это не совсем ладно, — заметил я.
— А что делать? — служба. Вот теперича сено, положим, — начал было старик, но вдали показался пароход, которому старый служака почему-то обрадовался чисто по-детски и оставил меня, быстро, вприпрыжку направившись на другой конец пристани.
Я, разумеется, не остановил его и не захотел мешать его радости. Через несколько минут мы отплыли из Ивановского.
Примечания
1
Старина стародавняя. — Впервые напечатан в газете «Неделя», № 52 за 1870 год, по тексту которой печатается в настоящем издании.
(обратно)2
…при Благословенном… — то есть при Александре I, (1801–1825), которому царский сенат присвоил титул Благословенного.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
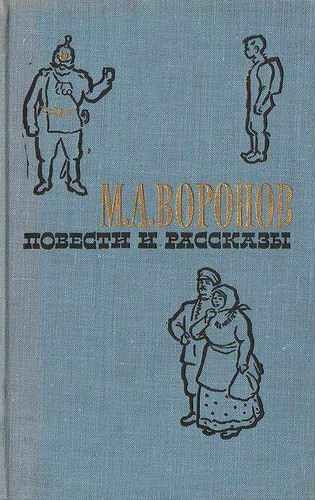
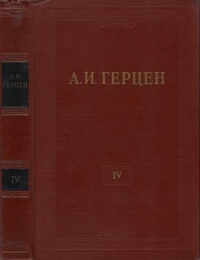


Комментарии к книге «Старина стародавняя», Михаил Алексеевич Воронов
Всего 0 комментариев