Н. А. Лейкинъ МАМКА-КОРМИЛИЦА
I
Рождественскій сочельникъ. Въ богатомъ домѣ молодыхъ супруговъ Колояровыхъ рождественская елка. Елку молодые супруги Колояровы устраиваютъ еще въ первый разъ во время своей семейной жизни. У нихъ двое дѣтей: двухлѣтняя дочка Шурочка (Александра), еле держащаяся на ногахъ, и семимѣсячный сынокъ Мурочка (Михаилъ), находящійся на рукахъ молодой и красивой мамки-кормилицы Еликаниды, статной, бѣлой, румяной блондинки, залитой въ серебро, голубой бархатъ и шелковый штофъ такъ называемаго русскаго костюма. Голубой сарафанъ опушенъ широкимъ серебрянымъ позументомъ. Такого-же цвѣта бархатный кокошникъ блещетъ серебряными блестками, широкіе кисейные рукава рубахи съ буффами и воротъ съ серебряными пуговицами-бубенчиками. Шея мамки-кормилицы украшена ниткой крупныхъ янтарей, въ ушахъ длинныя серебряныя серьги съ мелкимъ жемчугомъ. Находящійся у ней на рукахъ ея питомецъ Мурочка, съ мутными глазами и засунутымъ въ открытый ротъ кулачкомъ, весь въ бѣломъ кашемирѣ. Это не то длинная блуза, не то одѣяло съ рукавами, изъ подъ котораго торчать концы пеленокъ, обшитыхъ кружевами. На безволосой еще головѣ бѣлый кашемировый беретъ. Ребенокъ смахиваетъ немножко на обезьянку, посаженную на шарманку, но мать и отецъ находятъ его похожимъ на ангела, а двѣ бабушки, находящіяся тутъ-же, мать отца и мать матери, увѣряютъ, что онъ вылитый херувимчикъ. Не менѣе умиляются всѣ и на дѣвочку Шурочку, облеченную въ блѣдно-розовый совсѣмъ фантастическій костюмъ, не поддающійся описанію. Это маленькій ворохъ тонкой шерстяной матеріи, кружевъ, прошивокъ и лентъ. Дѣвочка насмотрѣлась уже на блещущую разноцвѣтными огнями елку и, держа въ объятіяхъ большую нарядную куклу, бродитъ съ перевальцемъ по комнатѣ, несмѣло еще ступая на паркетъ ножками въ мягкихъ атласныхъ полусапожкахъ. Ее охраняютъ, слѣдя за ней, молодая бонна-фребеличка, мать и двѣ бабушки. Отецъ два раза сажалъ ее на игрушечнаго барана въ подстриженной овчинкѣ и съ золотыми рогами, стоявшаго подъ елкой, но она ежилась, гримасничала и лепетала: «пусти».
— Совсѣмъ купидонъ! Не хватаетъ ей только крылышекъ, — бормочетъ бабушка — мать отца.
— Шурочка! Тебѣ эта кукла велика. Тебѣ тяжело ее таскать, милая, — пристаетъ къ дѣвочкѣ вторая бабушка — мать матери. — Возьми лучше маленькую спеленатую куколку, бебешку… Эта будетъ легче, а у ней также открываются и закрываются глаза…
— Не… — капризничаетъ дѣвочка, не отдавая большую куклу, и дѣлаетъ нетерпѣливое движеніе плечиками.
— Хочешь зайчика съ барабаномъ? Смотри, какъ играетъ зайчикъ на барабанѣ…- подаетъ дѣвочкѣ отецъ трещащаго на барабанѣ зайчика въ шерсти. — Возьми лучше зайчика. Тебѣ тяжело съ куклой.
— Бяка…
Дѣвочка морщитъ носикъ и крѣпко прижимаетъ къ груди большую куклу.
— Я не понимаю, зачѣмъ было такія большія куклы покупать для такихъ маленькихъ дѣтей, — дѣлаетъ замѣчаніе мужу жена. — Отнять — нельзя, ребенокъ заплачетъ, а оставить — надсадиться можетъ.
— Другъ мой, да вѣдь съ тобой-же вмѣстѣ игрушки покупали, — возражаетъ супругъ. — Ты сама-же и выбрала эту куклу.
— Неправда. Я выбрала Шурочкѣ спеленатую куклу, а эту ты купилъ. Я обдумывала подарки. Шурочка, ангельчикъ, посмотри, какой у меня мальчикъ матросикъ есть, — подавала молодая мать дочкѣ еще игрушку — мальчика въ матросскомъ костюмѣ и дергала пружинку, заставляя мальчика поднимать руку къ головѣ. — Шуреночекъ, смотри, онъ тебѣ честь дѣлаетъ, ножкой шаркаетъ.
Но дѣвочка была влюблена въ большую куклу и ни на какія игрушки не обращала вниманія.
А игрушекъ подъ елкой было такъ много, что ихъ хватило-бы и для полутора десятка дѣтей: куклы, пищавшія на разные лады, животныя, обклеенныя мягкими шкурками, кухня съ посудой, повозки, музыкальные инструменты.
Дабы позабавить Мурочку, отецъ билъ въ барабанъ, трубилъ въ трубу передъ Мурочкой или, лучше сказать, передъ мамкой, такъ какъ самъ Мурочка былъ безучастенъ къ звукамъ и только таращилъ мутные глаза на свѣтъ елки. Пробовала и мамаша показывать ему большого раскрашеннаго пѣтуха изъ папки, производящаго какіе-то неестественные звуки при нажиманіи пружинки, но ребенокъ заревѣлъ и только тогда утѣшился, когда двѣ бабушки разстегнули у мамки рубашку на груди и онъ, припавъ къ груди, принялся сосать ее.
Для компаніи дѣтямъ Колояровымъ и вообще для оживленія праздника елки были приглашены два мальчика и одна дѣвочка, лѣтъ по шести-семи — дѣти прачки и сапожника, проживающіе съ родителями на дворѣ. Пріодѣтыя въ праздничное платье, дѣти стояли, сбившись въ кучу, и робко, исподлобья смотрѣли на елку. Одинъ изъ мальчиковъ распространялъ сильный запахъ новыхъ сапогъ, а отъ льняного цвѣта косы дѣвочки съ вплетенной розовой ситцевой ленточкой отдавало испортившимся деревяннымъ масломъ.
Стараясь оживить дѣтскій праздникъ, мамаша Колоярова сѣла за рояль и крикнула приглашеннымъ мальчику и дѣвочкѣ:
— Ну, пляшите, дѣти! Позабавьте вашу хозяйку Шурочку!
Раздался вальсъ, но дѣти попрежнему стояли, прижавшись другъ къ другу, озираясь по сторонамъ. Дѣвочка, впрочемъ, вынула изъ кармана нѣсколько зернышекъ подсолнуха и принялась ихъ грызть.
— Танцуйте-же! — повторила предложеніе мамаша Шурочки и Мурочки. — Отчего вы не танцуете?
— Мы не умѣемъ, — застѣнчиво выговорилъ мальчикъ — сынъ прачки.
— Да тутъ и умѣнья не надо. Вертись — вотъ и все. Вы обязаны позабавить вашихъ хозяевъ. Мы для этого васъ пригласили, дадимъ вамъ потомъ по игрушкѣ, гостинцевъ.
Бонна-фребеличка схватила мальчика-гостя за руки и сказала ему:
— Ну, прыгай вмѣстѣ со мной, вертись!
Она потащила за собой мальчика и сдѣлала съ нимъ по комнатѣ одинъ туръ, но мальчикъ упалъ и заплакалъ.
— Ну, неповоротливый какой! Тебя пригласили на елку, такъ ты долженъ веселиться, — наставляла его бонна.
Ревъ продолжался. Онъ заразителенъ. Стала, неизвѣстно почему, всхлипывать и гостья-дѣвочка. Хозяйка Шурочка ушиблась большой куклой, начала колотить ее рученкой по лицу и тоже надула губки.
Музыка прекратилась.
— Что такое? Въ чемъ дѣло? — испуганно спрашивала молодая Колоярова бонну, бросившуюся къ Шурочкѣ.
— Ахъ, ихъ и не разберешь. Одинъ упалъ, другая куклой ушиблась.
— Да отнимите у нея эту большую куклу! — кричала бабушка, мать отца. — Развѣ можно ребенку съ пудовой куклой играть!
Большую куклу замѣнили маленькой куклой, но Шурочка бросила ее и стала плакать.
Гости подтягивали.
— И къ чему только вы пригласили этихъ мальчишекъ и дѣвчонку? — говорила бабушка, мать матери. — Шло такъ все хорошо, и Шурочка, и Мурочка радовались, а тѣ все дѣло испортили.
— Да вотъ все Александра Ивановна. Она меня спутала:- пригласи, да пригласи для компаніи, — кивнула Колоярова на свекровь.
— Ну, ужъ она извѣстная фантазерка! Какъ возможно неизвѣстно какихъ дворовыхъ дѣтей приглашать къ своимъ дѣтямъ. Вѣдь это сумасшествіе! — продолжала мать матери. — Дѣти изъ подваловъ. Еще занесутъ, а можетъ быть ужъ и занесли какую-нибудь болѣзнь.
Молодая Колоярова мгновенно поблѣднѣла.
— Маменька, вы меня пугаете! — тревожно прошептала она.
— И надо пугаться. Повторяю: сумашествіе! А теперь повсюду ходятъ корь, скарлатина, вѣтреная оспа, дифтеритъ.
— Господи! Что-жъ это такое! Охъ, не могу! Дайте мнѣ капель.
Молодая Колоярова схватилась за сердце и опустилась на стулъ. Бонна побѣжала за каплями.
Подскочилъ Колояровъ къ женѣ.
— Что такое? Въ чемъ дѣло? Что съ тобой, Катя? — спрашивалъ онъ.
Ему разсказали. При этомъ жена съ упрекомъ прибавила:
— И все твоя маменька, Александра Ивановна. Ахъ, мнѣ совсѣмъ нехорошо! Я вся дрожу.
— Что такое: твоя маменька? — спросила, подходя къ нимъ, бабушка Александра Ивановна.
— Конечно-же вы! — откликнулась другая бабушка — мать матери. — Съ какой стати вы вздумали приглашать на елку неизвѣстно какихъ дѣтей?
— Какихъ дѣтей?
— Да вотъ прачкиныхъ, сапожника, которыя, можетъ быть, ужъ занесли сюда изъ подваловъ тифъ, дифтеритъ, скарлатину и всякую другую дрянь.
— Да развѣ это я? — удивилась старуха Александра Ивановна. — Это Базиль, — кивнула она на сына.
— И не думалъ, и не воображалъ!
Колояровъ стоялъ также весь блѣдный.
— Однако, ты мнѣ сказалъ: хорошо-бы пригласить другихъ дѣтей для Шурочки и Мурочки, — продолжала старуха, его мать.
— Да, я сказалъ, но я не имѣлъ въ предметѣ дворовыхъ дѣтей, я думалъ… Я думалъ про другихъ дѣтей.
— Мало-ли что ты думалъ! Думалъ, да ничего не сказалъ, а я и пригласила дѣтей черезъ горничную Дашу. Но по мнѣ, они дѣти чистыя, прилично одѣтыя…
— Ахъ, вы ужъ извѣстная фантазерка! — кинула упрекъ прямо въ лицо старушкѣ Александрѣ Ивановнѣ мать молодой Колояровой.
— Я фантазерка? Ну, послѣ этого вы совсѣмъ полоумная женщина! — вскричала Александра Ивановна.
И бабушки сцѣпились. Послышались слова: «богадѣльня, сумасшедшій домъ, накрашенная старуха, облѣзлая выдра».
— Маменька, Бога ради, уставьте! Александра Ивановна, умоляю васъ, бросьте! — упрашивала бабушекъ молодая Колоярова. — Вспомните, какой завтра день!
Но бабушки не унимались.
Колояровъ стоялъ растерянный.
— Что-же намъ дѣлать, Катишъ? — спрашивалъ онъ жену.
— Надо скорѣе гнать чужихъ дѣтей. Дай имъ скорѣе гостинцевъ и по игрушкѣ и гони ихъ вонъ! Ахъ, какое затменіе! Ахъ, какой туманъ на насъ нашелъ, что мы пригласили этихъ дѣтей! Вѣдь можно-же такихъ дураковъ, идіотовъ разыграть! Дойти до абсурда и дураковъ разыграть!
Молодая Колоярова хваталась за голову, нюхала спиртъ. Мужъ ея срывалъ съ елки гостинцы, совалъ приглашеннымъ на елку чужимъ дѣтямъ гостинцы вмѣстѣ съ игрушками и говорилъ:
— Только уходите скорѣе домой! Скорѣе домой! Гдѣ ваши пальто и шапки? Уходите домой.
Онъ позвонилъ лакея и велѣлъ скорѣе проводить дѣтей.
— Павелъ! Да потомъ надо здѣсь сейчасъ-же покурить уксусомъ! — отдала молодая Колоярова приказъ лакею.
Дѣти-гости были спроважены. Бабушки сидѣли въ разныхъ углахъ, надувшись и звѣремъ смотря другъ на дружку.
— Я, Катенька, сейчасъ, кромѣ того, попрыскаю здѣсь скипидаромъ, — сказала бабушка, мать матери.
— Не суйтесь. Это не ваша квартира! Это квартира моего сына! — закричала старуха Александра Ивановна.
— Но вѣдь нужно-же принимать какія-нибудь мѣры, — возразила молодая Колоярова. — Я думаю даже сейчасъ послать за докторомъ.
— Я сама попрыскаю скипидаромъ, — вызвалась старуха Александра Ивановна и отправилась искать бутылку и пульверизаторъ.
— Старая вѣдьма! — прошептала ей вслѣдъ мать Колояровой.
— Базиль! Пошли за докторомъ, — обратилась Колоярова къ мужу.
— Безполезно, я думаю, Каточекъ… Вѣдь ничего не случилось. Авось, Богъ помилуетъ, — отвѣчалъ мужъ. — А мы лучше вывѣтримъ эту комнату и затопимъ каминъ.
Онъ опять позвонилъ лакея и велѣлъ топить каминъ.
— Мадемуазель! Уведите-же вы, наконецъ, Шурочку въ дѣтскую! — раздраженно крикнула Колоярова. — Или нѣтъ, погодите… Дайте, я у ней пощупаю головку. Нѣтъ-ли у ней жара? — прибавила она, подошла къ дѣвочкѣ и приложила ей руку ко лбу. — Есть… Есть жаръ. Дождались! Доплясались! Базиль! Надо посылать за докторомъ. Я думаю, надо посылать прямо за профессоромъ Иваномъ Павлычемъ.
— Погоди, Катенька… Такъ нельзя… Надо, что бы выяснилось. Шурочка теперь даже веселѣе, чѣмъ до гостей, — говорилъ Колояровъ. — У тебя, Шурочка, ничего не болитъ? — спросилъ онъ дѣвочку.
— Ничего. Дай мнѣ, папа, пряника съ елки, — лепетала дѣвочка.
— Ну, вотъ видишь! Даже аппетитъ чувствуетъ. А то ужъ и профессора!
— И яблочко, папа.
Дѣвочку повели въ дѣтскую.
— Ничего не выяснилось! — передразнила мужа Колоярова. — Отецъ тоже! Когда выяснится, то уже поздно будетъ.
Она надулась на мужа.
Въ концѣ концовъ, изъ-за приглашенныхъ на елку дѣтей всѣ перессорились. Даже боннѣ-фребеличкѣ былъ данъ нагоняй, что Шурочка ушибла себѣ большой куклой лобикъ, и у ней, будто-бы, вскочила на лбу шишка. Ни въ чемъ невиновная бонна украдкой плакала.
Хорошо себя чувствовала только красавица мамка-кормилица Еликанида. На нее, какъ на источникъ питанія, а слѣдовательно и здоровья Мурочки, смотрѣли, какъ на богиню и прямо покланялись ей. Никто, даже скорая на дерзкій языкъ мать молодой Колояровой, не рѣшалась сказать ей ни малѣйшей колкости въ обиду, чтобъ отъ огорченія молоко не испортилось. Ее мыли въ господской ваннѣ душистымъ мыломъ, ее еженедѣльно осматривалъ домашній докторъ. Кормили ее и поили съ господскаго стола, давали къ каждой ѣдѣ по полубутылкѣ хорошаго пива, утромъ подавали ей какао или шоколадъ.
Вотъ и сейчасъ… Елку давно уже погасили. Мурочка спитъ въ кроваткѣ, а мамка-кормилица Еликанида сидитъ у себя въ дѣтской, не переодѣвшаяся еще изъ своего параднаго фантастическаго костюма, блещущаго серебромъ, и улыбается, любуясь на себя въ большое зеркало. Лакей во фракѣ и бѣломъ галстукѣ принесъ ей на серебряномъ подносѣ большую чашку чаю со сливками и печеньемъ и поставилъ на столъ, на которомъ передъ мамкой-кормилицей уже лежалъ ворохъ всякихъ гостинцевъ, полученныхъ съ елки, и большой голубой шелковый платокъ съ бѣлыми цвѣтами — подарокъ на праздникъ.
Мамка Еликанида взглянула на подносъ и еще больше улыбнулась, умилившись. Она всегда умилялась на серебряный подносъ. Серебряный подносъ былъ предметомъ ея тайныхъ мечтаній еще и тогда, когда она беременная работала на огородѣ, около парниковъ, и молила судьбу, чтобы та послала ей случай поступить въ богатый домъ мамкой-кормилицей, пообчиститься, пообмыться, повеличаться и попить и поѣсть на серебрѣ.
Подавъ мамкѣ Еликанидѣ чай, лакей остановился, улыбнулся во всю ширину лица и произнесъ:
— Совсѣмъ брилліантовая! Красота!
— Уходи, дуракъ, уходи! А то достанется тебѣ,- полу снисходительно, полусерьезно отвѣчала ему Еликанида, а у самой у нея, какъ говорится, любо такъ по губамъ и забѣгало.
II
Сейчасъ только подали завтракъ для Еликаниды — молодой красивой мамки-кормилицы маленькаго Мурочки Колоярова. Завтракъ былъ поданъ въ дѣтскую комнату на серебряномъ подносѣ, застланномъ камчатной бѣлой, какъ снѣгъ, салфеткой съ вензелевымъ изображеніемъ имени Екатерины Васильевны Колояровой. На подносѣ стояли серебряная кастрюлечка съ манной кашей, прикрытая крышкой, говяжій битокъ съ картофелемъ-пюре на одной серебряной тарелкѣ и крылышко пулярды съ брусничнымъ вареньемъ на другой. Тутъ-же лежали два ломтика бѣлаго хлѣба и небольшая груша. Завтракъ былъ составленъ по меню, утвержденному домашнимъ врачемъ Колояровыхъ для завтрака мамки-кормилицы. Въ виду того, что сегодня утромъ Мурочка (Михаилъ) плакалъ, что было приписано будто-бы не вполнѣ здоровому молоку мамки Еликаниды, такъ какъ предполагалось, что съ вечера мамка съѣла что-нибудь лишнее, за завтракомъ ея было сдѣлано наблюденіе. Смотрѣть, какъ и чѣмъ мамка питается, пришла сама молодая мать Екатерина Васильевна Колоярова. Явясь въ дѣтскую, Колоярова прежде всего приподняла крышку кастрюлечки и сказала:
— Кажется, для тебя, Еликанида, этой каши будетъ слишкомъ много.
Красивая мамка улыбнулась и отвѣчала:
— Что вы, барыня! Да тутъ самая малость.
— Понимаешь, манной каши тебѣ прописано не болѣе двадцати граммъ на пріемъ. Я убавлю двѣ ложки.
— Что вы, барыня! Я ѣсть до смерти хочу. Что-же тутъ осталось-то? Хлѣба положено — курица больше съѣстъ. Котлетка самая махонькая.
— Ну, не разсуждай, бери ложку и кушай, — остановила ее Колоярова, заглянула въ записку, которую держала въ рукѣ и прибавила: — Да, манной каши не больше двадцати граммъ. А пшенной, такъ даже всего только пятнадцать. Вѣдь оттого только Мурочка и плакалъ сегодня, что ты нажралась чего-нибудь вчера.
Мамка жадно ѣла кашу и сказала:
— Видитъ Богъ, барыня, ничего вчера на ночь не ѣла, кромѣ сдобной булки съ чаемъ. Чаю, дѣйствительно, двѣ чашки выпила.
— А зачѣмъ?! Тебѣ довольно одной. Это тебя волнуетъ. Чаю нельзя много пить, особливо крѣпкаго. Вотъ оттого сегодня Мурочка и плакалъ.
— Просто такъ плакалъ. Ребеночекъ долженъ плакать. Сдѣлался мокрый — ну, и заплакалъ. Онъ всегда такъ. Вы-то только не слышите. И какъ ему пеленку сухенькую подложишь — онъ и замолчитъ. Нѣтъ, ребенокъ нашъ не блажной. Что объ этомъ говорить. Вѣдь вотъ теперь спитъ спокойно.
— И все-таки, я тебѣ не дамъ больше каши ѣсть. Оставь. Положи ложку. Ѣшь котлетку.
Барыня вырвала отъ мамки кастрюлечку и поставила на край стола. Кормилица принялась за мясную котлетку.
— Вотъ фибрину ты можешь ѣсть больше. Это тебѣ полезнѣе, — проговорила барыня.
— Какого фибрину? — удивленно спросила кормилица.
— Мясо, мясо… Главная питательная его часть — фибринъ.
— Да я, барыня, мясо люблю, а только вонъ какой махонькій кусочекъ его подаютъ.
— Это-то маленькій? Что ты! Впрочемъ, я могу велѣть дать еще котлетку. Но вѣдь въ дополненіе къ фибрину ты имѣешь крахмалистыя вещества, — проговорила барыня, указывая на картофельное пюре, и позвонила.
— А я, барыня, все хотѣла у васъ щецъ кисленькихъ попросить… — сказала мамка и улыбнулась.
— Что ты! Ты въ умѣ? Не смѣй этого и думать! — вскричала барыня. — Докторъ тебѣ строжайше запретилъ кислыя щи. Это развиваетъ газы въ желудкѣ. Ты смотри, не наѣшься у насъ людскихъ щей! Вотъ надо сказать повару и другой прислугѣ, чтобы они не давали тебѣ.
Вошелъ лакей.
— Подайте Еликанидѣ еще котлетку. Спросите у повара, — отдала приказъ барыня. — Но картофелю не надо. А кашу уберите.
— Хлѣбца-бы, барыня, кусочекъ черненькаго… — робко выговорила мамка.
— Хлѣбъ черный ты можешь получать только при молокѣ. Такъ докторъ назначилъ.
— А ужъ какъ мнѣ его, барыня, со щами хочется!
Кормилица вздохнула, убирая за обѣ щеки пюре картофеля.
— Бодливой коровѣ Богъ рогъ не даетъ! — пошутила надъ ней Колоярова и, смотря въ упоръ, прибавила:- Зачѣмъ ты такъ торопишься ѣсть? Не торопись. Это нехорошо, это вредно. Ты должна по тихоньку, по маленьку… Ну, теперь пріостановись и выпей полъ-стакана пива. Гдѣ у тебя пиво? Ты вчера получила бутылку на два дня.
— Извините, барыня, я вчера ее выпила, — виновато произнесла кормилица и опустила глаза.
Колоярова всплеснула руками.
— Это цѣлую-то бутылку? Боже мой! Ну, оттого-то Мурочка и плакалъ. Можетъ быть ужъ онъ ночью плакалъ? Не скрывай… Говори откровенно… — строго сказала барыня и сдѣлала серьезное лицо.
— Да нѣтъ-же, нѣтъ, Катерина Васильевна… Что вы! Онъ спалъ спокойно. Три раза грудь кушалъ и все, все у него въ порядкѣ.
— Пиво ты обязана пить только по полустакану послѣ каждой ѣды, и ни больше, ни меньше. Ну, вотъ тебѣ вторая котлетка… Ѣшь… — сказала Колоярова, когда лакей принесъ вторую котлету.
— Хлѣбца-бы, барыня… Хоть бѣленькаго… — пробормотала Еликанида, красиво улыбаясь.
— Нѣтъ, нѣтъ! Мучнистыхъ веществъ довольно! Павелъ, принесите ей бутылку пива.
Лакей опять удалился.
— Не бережешь ты Мурочку, не бережешь своимъ невоздержаніемъ. Грѣхъ тебѣ… - продолжала Колоярова. — Ну, а ужъ теперь я тебѣ бутылку пива не довѣрю, нѣтъ. Налью тебѣ полъ-стакана и уберу ее… Теперь я буду слѣдить за твоимъ питаніемъ.
— Съ ветчины это вчера, барыня, съ ветчины… Я насчетъ пива. Поѣла я въ обѣдъ ветчины и такъ пить захотѣлось, такъ захотѣлось…
— Не будемъ давать тебѣ ветчины. Замѣнимъ ее казеиномъ молока…
— Нѣтъ, нѣтъ, барыня! Я ее обожаю! — испуганно заговорила кормилица. — А ужъ за пиво извините. Я чай буду пить, кипяченую воду.
Завтракъ кормилицы кончился. Барыня все время сидѣла передъ кормилицей и смотрѣла, какъ она ѣла и пила, и наконецъ сказала:
— Ну, а теперь покорми ребенка, перепеленай его, уложи, а сама пойдешь гулять съ бонной на полчаса. Но прошу не больше получаса ходить. Я замѣчу часы.
Появилась молодая бонна въ мѣховой шапочкѣ и вела за руку старшую дѣвочку Колояровой Шурочку, одѣтую въ смѣсь бѣлаго кашемира, бѣлаго мѣха, бѣлыхъ перьевъ марабу и вязаной бѣлой шерсти, что составляло маленькую копну.
— Мы готовы, — проговорила она. — Пусть мамка одѣвается.
Мамка заискивающе обратилась къ Колояровой:
— Барыня, голубушка, мнѣ сегодня что-то не хочется гулять, да и пошить на себя малость надо. Дозвольте дома остаться.
— Нѣтъ, нѣтъ, ты должно быть съ ума сошла! Ты обязана гулять каждый день. Обязана для здоровья Мурочки. Сейчасъ корми грудью ребенка и одѣвайся! Живо! — закричала на нее Колоярова.
Мамка повиновалась.
III
Бонна-фребеличка, молоденькая дѣвушка, брюнетка, очень недурненькая и франтовато одѣтая, русская съ нѣмецкой фамиліей Бейнъ, спускалась изъ квартиры Колояровыхъ по лѣстницѣ, устланной бархатнымъ ковромъ. Лакей Павелъ въ сѣромъ фракѣ съ металлическими пуговицами сносилъ внизъ маленькую Шурочку. Сзади ихъ слѣдовала мамка-кормилица Еликанида, облаченная въ голубой штофный шугай съ серебряными позументами, надѣтый поверхъ такого-же цвѣта и матеріи сарафана. На головѣ у мамки красовался голубой повойникъ съ серебряными блестками, изъ ушей висѣли длинныя серебряныя серьги съ жемчугомъ, а въ рукѣ она держала свернутый въ трубочку носовой платокъ.
Швейцаръ Киндей Захаровъ, пожилой человѣкъ, увидавъ красивую мамку въ блестящемъ фантастическомъ нарядѣ, осклабился во всю ширину лица, сказавъ мамкѣ въ видѣ привѣтствія:
— А, мамушка! госпожа жаръ-птица! Все-ли вы въ добромъ?..
— Полноте вамъ зубоскалить-то, — скромно отвѣчала мамка и опустила глаза. — Барышня, голубушка, Софья Николавна, — обратилась она къ боннѣ, когда онѣ очутились, на улицѣ и лакей Павелъ спустилъ съ рукъ Шурочку, поставивъ ее на панель. — Милая барышня, пойдемте погулять куда-нибудь, гдѣ народу побольше, а то мы все бродимъ по такой улицѣ, что и извозчиковъ-то не видать.
— А зачѣмъ тебѣ извозчики? Зачѣмъ тебѣ народъ? Тебя не для извозчиковъ гулять послали, а для здоровья Мурочки, — отвѣчала бонна.
Онѣ шли по Сергіевской улицѣ, по направленію къ Таврическому саду, улицѣ хоть и аристократической, но почти всегда пустынной, безъ магазиновъ и торговыхъ лавокъ. Шли онѣ шагъ за шагомъ, еле передвигая ноги, такъ какъ бонна вела за руку двухлѣтнюю дѣвочку Шурочку.
— Одурь меня взяла, барышня, вотъ вѣдь я изъ-за чего прошу… — продолжала мамка. — Никуда одну не пускаютъ со двора и ничего я хорошаго видѣть не могу. Словно я какая монашенка живу…
— Не поступай въ кормилицы, — наставительно замѣтила ей бонна. — Зачѣмъ лѣзла! Сама виновата.
— Да все думала пообмыться и пообшиться, милая барышня. Добра себѣ на сиротскую долю поприкопить, повеличаться, съ серебра поѣсть, а теперь, конечно, хоть-бы ужъ и на попятный…
— А ты звони языкомъ больше! Вотъ тебѣ Катерина Васильевна и задастъ. Мало тебѣ отъ нея достается.
— Да вѣдь я вамъ, барышня, а не ей… Передъ ней, разумѣется, надо другія слова имѣть. Вначалѣ-то думала я, что жизнь хорошая, а теперь такъ сказать можно, что ужъ даже и не жизнь.
Въ голосѣ кормилицы слышались слезы.
— Ахъ, мамушка-то какая писанная! — воскликнулъ стоявшій около подъѣзда молодой извозчикъ. — Вотъ прокатилъ-бы такую мамушку на мериканской шведочкѣ! За дарма-бы прокатилъ.
Кормилица сначала улыбнулась на такія слова, а потомъ прошептала:
— Молчи, паршивый чортъ!
— Еликанида, съ какой стати ты отвѣчаешь! Ты должна молчать, — оборвала ее бонна.
— Да мнѣ, барышня, ужъ хоть огрызнуться на кого-нибудь, такъ и то будетъ легче. Хоть сердце сорвать.
Онѣ остановились. Дѣвочка сказала, что она устала. Бонна взяла ее на руки.
— Давайте, барышня, я понесу Шурочку, — предложила свои услуги мамка. — А сами пойдемъ поскорѣе. Вѣдь и лавокъ-то и магазиновъ въ здѣшней улицѣ никакихъ нѣтъ, чтобъ можно было въ окна на товары посмотрѣть! — плакалась она. — Удивительно, что за жилье господа себѣ выбираютъ! Жила я года полтора тому назадъ на Гороховой, въ судомойкахъ жила — вотъ это улица.
Выскочилъ изъ подъѣзда деньщикъ въ фуражкѣ съ краснымъ кантомъ, увидалъ мамку Еликаниду и даже попятился отъ нея, широко раздвинувъ губы отъ удовольствія и оскаливъ бѣлые зубы. Онъ не удержался, и съ языка его сорвалось легкое восклицаніе полу шопотомъ:
— Вотъ такъ Маша!
— Хороша да не ваша! — оборвала его Еликанида, а у самой любо но губамъ такъ и забѣгало.
— Мамка! Ты опять?! — крикнула на нее бонна.
— А они зачѣмъ задираютъ?
— А ты не должна обращать вниманіе… Отвернись, да и проходи мимо…
Бонна и кормилица шли. Деньщикъ долго еще стоялъ, разиня ротъ отъ удовольствія, и смотрѣлъ имъ вслѣдъ и, наконецъ, произнесъ себѣ подъ носъ, ни къ кому особенно не обращаясь:
— Вотъ такъ пронзительная штучка, муха ее заклюй!..
Еликанида шла, шла рядомъ съ бонной и вдругъ выпалила:
— Барышня! Поѣдемте на Невскій! Полтинникъ у меня есть. Я прокачу васъ.
Бонна посмотрѣла на нее строго и произнесла:
— Да ты никакъ съ ума сошла! Вотъ дура-то!
— А чтожъ такое? Барыня Катерина Васильевна и не узнала-бы… А я публику посмотрѣла-бы.
— Нѣтъ, ты ужъ дерзничать… А я этого не хочу… — сказала сердито бонна. — Пойдемъ домой… Поворачивай… Домой пора… Ты не умѣешь гулять скромно. Да и какъ ты смѣешь такъ со мной?.. Развѣ я тебѣ пара? Развѣ я ровня?
Онѣ обернулись и направились обратно домой.
— Барышня, простите меня… Простите меня дуру… — забормотала Еликанида. — Походимте еще малость.
— Не желаю я съ тобой гулять. Ты съ солдатами перемигиваешься, въ извозчиковъ глазами стрѣляешь, — сердилась бонна и такъ потянула за руку Шурочку, что та упала.
— Видитъ Богъ, барышня, они сами. Чтожъ, народъ глазастый — вотъ они и пристаютъ, — оправдывалась Еликанида и взяла дѣвочку на руки.
— Видѣла я… Довольно съ меня… Съ тобой того и гляди, на непріятности нарвешься.
А на встрѣчу имъ опять солдатъ съ ружьемъ и съ книжкой. Этотъ даже попятился передъ красотой и блескомъ мамки Еликаниды, пропустилъ ихъ мимо себя по тротуару, посторонясь къ дому, и невольно произнесъ:
— Сахаръ!
До Еликаниды донеслось это слово, и она широко улыбнулась. Лицо ея пылало и отъ удовольствія, и отъ легкаго мороза.
Встрѣчали ее улыбками и интеллигентные люди. Офицеръ и статскій въ цилиндрѣ и шинели съ бобровымъ воротникомъ даже остановились и посмотрѣли Еликанидѣ вслѣдъ.
— Какой типъ… Русская красавица… — пробормоталъ статскій. — Говорятъ, въ Петербургѣ нѣтъ здоровыхъ женщинъ… А это что? Вѣдь ужъ тутъ безъ прикрасъ, безъ притираній…
— Грѣха стоитъ… — отвѣчалъ офицеръ.
— Барышня, можно мнѣ въ мелочную лавку зайти купить булку съ черной патокой? — заискивающе спросила у бонны Еликанида.
— Зачѣмъ? Съ какой стати? Вѣдь ты сыта…
— Пища-то у насъ, барышня, такая… Все одно и одно… Супъ жидкій… Ложкой ударь — пузырь не вскочитъ.
— Тебѣ даютъ то, что полезно для молока и не вредно для ребенка.
— Ахъ, барышня! Пожалѣйте тоже и мою жизнь. Глупа была, сунулась…
— Иди, иди… Входи-же въ подъѣздъ…
Онѣ стояли ужъ у своего подъѣзда.
— А орѣшковъ кедровыхъ можно? Я попросила-бы швейцара нашего купить.
— Входи, тебѣ говорятъ! Дома у Катерины Васильевны объ этомъ спросишь. Передай Шурочку швейцару. Онъ ее внесетъ наверхъ.
Онѣ вошли въ подъѣздъ и стали взбираться по лѣстницѣ. Швейцаръ впереди ихъ несъ на рукахъ дѣвочку.
IV
Бонна-фребеличка мадемуазель Бейнъ очень обидѣлась, что кормилица Еликанида сочла ее за ровню себѣ и настолько фамильярничала съ ней, барышней Бейнъ, что даже предлагала прокатить ее по Невскому на свой полтинникъ.
«По своей наукѣ я могу даже не бонной быть, а гувернанткой при маленькихъ дѣтяхъ, а она, эта деревенская дѣвка, предлагаетъ мнѣ вмѣстѣ съ ней надувать моихъ хозяевъ и ѣхать съ ней кататься», — разсуждала бонна, вернувшись домой, и сейчасъ-же пожаловалась встрѣтившей ихъ въ прихожей Екатеринѣ Васильевнѣ, бросившейся къ Шурочкѣ, поднявшей ее на руки и воскликнувшей:
— Нагулялась-ли ты, моя прелесть? Нагулялась-ли, жизненочекъ мой?
Екатерина Васильевна долго цѣловала раскраснѣвшееся отъ легкаго мороза личико дочурки и, наконецъ, тревожно спросила бонну:
— Не долго-ли вы, однако, гуляли, мадемуазель? Я сказала, что можно выйти на воздухъ на двадцать минутъ, но на часы-то не посмотрѣла, когда вы ушли.
— Да вѣдь съ мамкой не сообразишь, — отвѣчала бонна, принимаясь раздѣвать Шурочку. — Зовешь ее домой, а она упрямится и не идетъ.
— Отчего? что такое? — тревожно задала вопросъ Екатерина Васильевна и обернулась на мамку, но та уже ушла къ себѣ переодѣваться.
— Ужасно непозволительно себя ведетъ на улицѣ. Перемигивается со встрѣчными солдатами. И даже отвѣчаетъ на ихъ дурацкіе грубые комплименты.
— Да что вы! Да какъ-же она смѣетъ? Ну, тогда нужно давать вамъ въ провожатые Павла. Вѣдь прежде съ Еликанидой этого не было, вы не жаловались.
— Всегда было… Но сегодня изъ рукъ вонъ. Вдругъ говоритъ мнѣ: «поѣдемте, говоритъ, барышня, кататься по Невскому. Я васъ на свои деньги прокачу, а барыня не узнаетъ!»
— Это она вамъ говоритъ? — ужаснулась барыня. — Она посмѣла?
— Да. И чуть въ мелочную лавку за булкой съ патокой отъ меня не убѣжала.
— За булкой съ патокой? Ахъ, мерзкая тварь! Вѣдь конфетами кормлю, лучшими конфетами. Шоколадъ у ней со стола не сходитъ.
— Солдатъ какой-то встрѣтился ея знакомый… — подкрашивала бонна.
— Ея знакомый, вы говорите? Боже мой! — пришла въ ужасъ Катерина Васильевна. — Надо будетъ Базилю сказать, когда онъ вернется со службы. Солдатъ знакомый! Кататься съ солдатомъ по Невскому!
— Да не съ солдатомъ, а со мной, Екатерина Васильевна.
— Все равно, ей нужно задать гонку. А мужъ пусть еще строже поговоритъ съ ней. Казаться по Невскому! Бѣдный Мурочка! Какое послѣ этого у мамки можетъ быть для него молоко! Нѣтъ, надо вамъ давать въ провожатые Павла. Непремѣнно надо Павла, а то, пожалуй, и въ самомъ дѣлѣ уѣдетъ куда-нибудь кататься съ солдатомъ. Вѣдь она дура, совсѣмъ дура… Лицомъ-то только красива, а сама глупа, какъ пробка… Ее только помани… Бѣдный ребенокъ! Я про Мурочку… Вотъ слѣди послѣ этого за его здоровьемъ по всѣмъ правиламъ гигіены, убивайся! Ахъ, какъ вы меня разстроили, мамзель, этимъ сообщеніемъ! У меня даже руки трясутся и закружилась голова. Фу! Дайте мнѣ мой спиртъ. Пожалуйста.
Екатерина Васильевна опустилась въ гостиной на мягкое кресло и взялась обѣими руками за голову, блеснувъ десяткомъ брилліантовыхъ колецъ. Былъ поданъ спиртъ. Бонна ужъ и сама была не рада, что разсказала барынѣ о катаньѣ по Невскому.
— Ахъ, какъ въ голову ударило! Несчастный Мурочка! — говорила Екатерина Васильевна и ужъ блеснула слезами на глазахъ. — А мамку я разнесу сейчасъ… Боже мой, не послать-ли за докторомъ?
— Но вѣдь ничего-же не случилось, Катерина Васильевна, — утѣшала хозяйку бонна. — Я не допустила.
— Солдатъ… прохожіе… перемигивается съ ними… Булка съ патокой… Боже мой… Вѣдь у ней отъ одного этого можетъ уже испортиться молоко. Она волнуется, ей всякое волненіе вредно. Конечно, Мурочка для нея чужой ребенокъ, но все-таки она обязана… Дайте мнѣ валерьянъ.
— Успокойтесь, Катерина Васильевна… — говорила хозяйкѣ бонна, подавая капли. — Конечно, напрасно я вамъ и сказала-то.
— Обязаны говорить… непремѣнно обязаны. Нѣтъ, надо послать за докторомъ. Пусть онъ осмотритъ и Мурочку, и мамку. Надо предупреждать болѣзни. Боже мой, и какія хлопоты, какая возня съ этой мамкой! Пошлите Павла за докторомъ.
— Екатерина Васильевна, да вѣдь Еликанида не разговаривала съ солдатомъ, а только отвѣтила ему двумя-тремя какими-то глупыми словами.
— Еще-бы она съ нимъ разговаривала или обнималась!
— Оставьте доктора-то. Зачѣмъ докторъ? Вѣдь въ сущности это пустяки…
— Какъ пустяки? Нашъ ребенокъ, а вы говорите: пустяки! — огрызнулась Екатерина Васильевна. — Для васъ пустяки потому, что онъ не вашъ, а для насъ съ мужемъ не пустяки… Нѣтъ, я сейчасъ буду телефонировать мужу на службу! Пусть онъ что хочетъ дѣлаетъ. Пріѣхать ему сейчасъ трудно, у него сегодня докладъ въ четыре часа у министра, но можетъ быть онъ распорядится пригласить даже профессора Ивана Павлыча.
Все еще держась за голову, Екатерина Васильевна направилась къ телефону. Бонна слѣдовала сзади ея и уговаривала успокоиться. Екатерина Васильевна продолжала:
— А ужъ съ прогулками я теперь не знаю, какъ и быть. Шурочкѣ докторъ велѣлъ выходить на воздухъ только на четверть часа, мамкѣ-же предписано для здоровья дѣлать моціонъ полчаса. Посылать ее одну съ Павломъ — неудобно. Онъ начнетъ съ ней разговаривать по дорогѣ, будетъ волновать, а это ядъ для ея молока. Я вотъ что… Я буду васъ посылать кататься съ мамкой на нашей лошади. Это будетъ лучше. Вы, Шурочка, мамка. Кучеръ свезетъ на службу мужа и, вернувшись, повезетъ васъ, а вы вокругъ Таврическаго сада одинъ — два раза… Это мѣсто достаточно пустынное… Около Таврическаго сада можете сойти съ саней и походить, а кучеръ сзади васъ поѣдетъ и не будетъ отставать. Такъ лучше… А то Павелъ… Подозрителенъ мнѣ нашъ Павелъ по отношенію къ Еликанидѣ. За нимъ тоже надо слѣдить.
Катерина Васильевна сдѣлала гримасу и покачала головой.
Она повернула ручку телефона. Звонокъ.
— Номеръ восемь тысячъ первый… Соедините. Алло! Кто говоритъ?
Но мужа не оказалось въ департаментѣ, онъ уѣхалъ уже съ докладомъ.
— Боже мой! Что-жъ это такое! Вѣдь до обѣда, пока вернется мужъ, еще три-четыре часа! А я одна, одна и не знаю, что мнѣ дѣлать, что мнѣ предпринять! — съ отчаяніемъ воскликнула Катерина Васильевна, вѣшая слуховую трубку телефона, и отправилась въ дѣтскую разносить мамку Еликаниду за ея «непозволительное поведеніе».
V
Быстро дойдя до дверей дѣтской, Катерина Васильевна Колоярова остановилась и задумалась:
«Вѣдь если я наброшусь на мамку и буду ей очень строго выговаривать, — соображала она, мамка испугается, станетъ плакать, и молоко ея можетъ отъ волненія испортиться, а это вредно для Мурочки. Да, ему будетъ вредно, и онъ можетъ заболѣть. Ее я не жалѣю, а Мурочка несчастный… Стало быть, надо начать слегка… Безъ выговора ее нельзя оставить, но надо слегка… А вернется мужъ — онъ ужъ ей настоящій разносъ сдѣлаетъ. Но тогда уже это будетъ постепенность, это не отразится на ея молокѣ.
И Катерина Васильевна сейчасъ-же похвалила себя за благоразуміе, за то, что ей пришла такая благая мысль о сдержанности.
Катерина Васильевна тихо вошла въ дѣтскую. Мамка Еликанида успѣла уже снять съ себя глазастый шугай, кокошникъ съ блестками, сидѣла въ не менѣе глазастомъ ситцевомъ будничномъ сарафанѣ изъ розоваго мебельнаго ситца съ громадными разводами и съ бѣлыми рукавами буффами и кормила грудью ребенка, который, оголодавъ въ ея отсутствіе, громко чмокалъ при сосаніи. Картина была умилительная. Катерина Васильевна при первомъ взглядѣ пришла въ телячій восторгъ, но тотчасъ-же замѣтила, что мамка, держа около груди Мурочку, что-то жевала, а правую руку держала въ карманѣ юбки. Екатерина Васильевна вспыхнула и бросилась къ мамкѣ:
— Покажи, что ѣшь! — крикнула она. — Не утаивай, не утаивай, ты что-то жуешь!
Мамка блеснула красивыми, улыбающимися глазами и отвѣчала:
— Сѣмячки, барыня…
— Какія сѣмячки?
— Простыя сѣмячки… Вотъ-съ.
И она вытащила изъ кармана нѣсколько подсолнушныхъ зеренъ и показала на ладони.
— Да какъ ты смѣешь такую дрянь ѣсть! Кто тебѣ позволилъ? — закричала на нее Екатерина Васильевна.
— А что-жъ такое? Я всегда ихъ ѣмъ, барыня…
— Еще того лучше! Какое-же ты имѣешь право ѣсть предметы, не разрѣшенные тебѣ докторомъ! Подсолнушныхъ зеренъ въ спискѣ нѣтъ. Нѣтъ, нѣтъ. Списокъ твоей ѣды я знаю наизусть. Какъ-же ты смѣла? Вѣдь ты можешь уморить ребенка.
— Виновата, барыня… Простите… Я не знала…
— Давай сюда эти сѣмячки… Давай… Вынимай все, что у тебя есть въ карманѣ, и не смѣй больше ихъ ѣсть… Да и вообще ничего не смѣй ѣсть безъ нашего разрѣшенія, того, что не отъ насъ.
Мамка послушно вынула изъ кармана горсточку сѣмячекъ штукъ въ двадцать и передала барынѣ.
— Больше не осталось у тебя? — спросила барыня.
— Ничего не осталось.
— Вывороти карманъ. Покажи.
Карманъ былъ вывернутъ.
— Я не знала, что сѣмячки вредны, и очень часто ихъ ѣмъ отъ скуки… — говорила мамка Екатеринѣ Васильевнѣ.
— Прежде всего, ты не должна разсуждать. Откуда ты взяла сѣмячки? Покупать ты себѣ ѣды не смѣешь.
— Мнѣ, барыня, наша судомойка Акулина дала.
— Акулина? Ну, я съ Акулиной раздѣлаюсь. Чтобы сѣмячекъ у тебя я больше не видѣла! А теперь вотъ что, — сказала барыня, сѣла противъ мамки и сдѣлала маленькую паузу, замѣтивъ, что глаза мамки подернулись легкой слезой. — Прежде всего не волнуйся… Я буду говорить, а ты слушай и не волнуйся. Это вредно для ребенка. И не плачь… Конечно, ты чувствуешь себя виноватой, но слезами ничего не подѣлаешь.
— Да какъ-же мнѣ не плакать-то, барыня, коли вы меня всю затормошили! Того не ѣшь, этого не смѣй… Я уже не знаю, какъ мнѣ и жить, — отвѣчала Еликанида, и нѣсколько слезинокъ упало изъ ея прекрасныхъ глазъ на тонкія съ кружевами пеленки Мурочки.
Барыня опять понизила тонъ.
— Ты должна жить такъ, какъ тебѣ предписываетъ гигіена кормилицъ, — проговорила она. — Поняла? Отри глаза… Ты на Мурочку слезами каплешь. Это неопрятно… Слезы — выдѣленія… Отерла? Ну, вотъ такъ… Слушай… До свѣдѣнія моего дошло, что ты сегодня хотѣла себѣ купить въ лавочкѣ булку съ патокой…
— Наябедничали ужъ вамъ? Ловко! — воскликнула Еликанида.
— Послушай, ты со мной такъ не говори. Ты со мной такъ говорить не смѣешь… — опять возвысила голосъ барыня.
— Послушайте… Да что такое булка!
— Не въ булкѣ дѣло. Булка мучнистое вещество и дается тебѣ отъ насъ въ надлежащемъ количествѣ, но ты ничего не должна ѣсть и даже пытаться ѣсть, что не прошло черезъ наши руки. Поняла? И чтобъ это было въ послѣдній разъ.
— Ахъ, барыня, да вѣдь сладенькаго-то хочется! Я изъ-за патоки…
— Молчи. Патока Богъ знаетъ какая въ мелочной лавкѣ… Тамъ грязная патока… Она можетъ развить у ребенка золотуху… Ну, чтобъ это было въ послѣдній разъ! — стукнула Екатерина Васильевна по столу и, замѣтивъ, что у мамки на глазахъ слезы не перестаютъ капать, прибавила:- Вмѣсто патоки я тебѣ дамъ сейчасъ конфетъ… Ты ихъ любишь. А тянушки тебѣ полезны. Тамъ сахаръ и сливки, есть кофе.
— Благодарю васъ, барыня.
— Но главное-то вотъ что… Какіе это такіе у тебя сегодня знакомые солдаты на встрѣчу попадались?
Задавъ вопросъ, Екатерина Васильевна сдѣлала строгое лицо.
— Солдаты знакомые? Да никакіе, барыня, — отвѣчала мамка.
— Врешь. Не утаивай. Ты съ ними даже перемигивалась, перемигивалась и разговаривала.
— Сплетня, барыня, сплетня. Насплетничала вамъ мамзель. Никакихъ знакомыхъ солдатовъ не было, а развѣ я виновата, что посторонніе солдаты на встрѣчу попадались. Ахъ, ты Боже мой! Вотъ напраслина-то! Офицеръ одинъ, дѣйствительно, мнѣ подмигнулъ, но развѣ я могу офицеру препятствовать!
— Мнѣ доложено, что ты даже разговаривала съ солдатомъ.
— Я разговаривала? Съ солдатомъ разговаривала? Видитъ Богъ, напраслина! Не разговаривала я, а обругала его, когда онъ сталъ на меня глаза пялить.
— Ну, чтобы это было у меня въ послѣдній разъ! Смотри! Я приму мѣры и поступлю строго. Смотри!
Барыня погрозила мамкѣ пальцемъ. Слезы изъ глазъ мамки лились сильнѣе. Барыня продолжала:
— А вотъ еще вопросъ. Какое ты имѣла право подбивать нашу мамзель кататься по Невскому?
— И это ужъ извѣстно?!.- плаксиво воскликнула мамка. — Ну, люди! Это за мою-то доброту? Ловко!
— Ты не должна быть ни добра, ни зла, а о катаніи по Невскому обязана и изъ головы выкинуть! Что ты, кокотка, что-ли? Ты деревенская дѣвушка, несчастно поскользнувшаяся на скользкомъ пути, вотъ и все. Ты попала въ кормилицы къ людямъ, которые о тебѣ заботятся…
— Да ужъ лучше-бы этой заботы совсѣмъ не было! Измучили вы меня своей заботой! — вырвалось у Еликаниды, и она навзрыдъ заплакала.
— На ребенка слезами капаешь! На ребенка! — закричала барыня. — Давай ребенка! Надо его положить въ кроватку. Не реви! Не смѣй ревѣть.
Барыня вырвала изъ рукъ Еликаниды Мурочку и бережно положила его въ кроватку.
— Господи! Что это за жизнь! Изводите вы меня, барыня! Совсѣмъ изводите. Черезъ одни ваши слова я заболѣть могу. Уйти ужъ мнѣ отъ васъ, что-ли!
— Не докормивши ребенка? Да какъ ты смѣешь? Нѣтъ, нѣтъ, и думать не смѣй! — закричала барыня, но тотчасъ-же спохватилась и ужъ мягко сказала:- Ты кататься хочешь? Тебя будетъ нашъ кучеръ катать, катать на нашей лошади, только разумѣется ужъ не по Невскому. Ну, не реви… Отри глаза… Давай, я тебѣ оботру пеленкой. Брось, плюнь, оставь… Вѣдь каждая твоя слеза можетъ отразиться на здоровьи Мурочки. Хочешь тянушекъ?
— Хочу… — пробормотала мамка сквозь слезы.
— Хочешь грушу?
— Позвольте…
Черезъ пять минутъ передъ кормилицей Еликанидой лежали на расписной фарфоровой тарелкѣ груша и тянушки, а барыня Екатерина Васильевна сидѣла противъ нея и утѣшала ее.
VI
Послѣ пяти часовъ пріѣхалъ со службы домой къ обѣду Колояровъ. Лакей Павелъ, вызванный звонкомъ швейцара внизъ, втаскивалъ за Колояровымъ объемистый портфель съ бронзовыми пряжками и замкомъ. Екатерина Васильевна выбѣжала на встрѣчу мужу здороваться. Входя въ гостиную, онъ тотчасъ-же началъ разсказывать ей что-то о министрѣ, у котораго онъ былъ съ докладомъ, но она тотчасъ-же перебила его и воскликнула:
— Что мнѣ министръ, если у насъ дома такая непріятность съ мамкой!
— Съ Еликанидой? Что такое? Что случилось? — испуганно спросилъ онъ и даже слегка поблѣднѣлъ.
Колоярова тотчасъ-же передала ему все и, разумѣется, еще съ большими прикрасами, чѣмъ передавала ей самой бонна.
Мужъ слушалъ и покачивалъ головой.
— Я это предчувствовалъ. Я это зналъ, — сказалъ онъ съ серьезнымъ озабоченнымъ лицомъ. — Естественное дѣло, что для такой испорченной женщины, какъ Еликанида, та монашеская жизнь, которую мы ей предписываемъ, никогда не будетъ по нутру. Я ее называю испорченной потому, что, суди сама: дѣвушка, у ней ребенокъ неизвѣстно отъ кого… взяли мы ее изъ родильнаго дома… Естественно, что ей хочется прежней гулевой жизни… Ей хочется свободы, хочется блистать… Блистать по-своему, въ сферѣ ея своеобразныхъ поклонниковъ, но все-таки поклонниковъ… А этого-то у ней и нѣтъ. Жизнь ея тюремная, хотя и въ золотой клѣткѣ. Но все-таки, если она обязалась выкормить Мурочку, она обязана подчиняться! Я ей выскажу, все выскажу и постараюсь быть краснорѣчивѣе. Я ее пройму.
Екатерина Васильевна испугалась.
— Только ты, Базиль, не очень… Ты не нападай на нее сильно, — сказала она. — А то вѣдь Еликанида сейчасъ въ слезы, а это гибельно дѣйствуетъ на молоко, и потомъ печально отражается на Мурочкѣ. Я давеча чуть-чуть начала упрекать и стыдить ее, и она чуть въ истерику не впала, такъ что мнѣ пришлось успокаивать ее лавровишневыми каплями. А надо вызвать Акулину судомойку, и дать ей нагоняй за то, какъ она осмѣлилась угощать Еликаннду подсолнухами. И вообще запретить прислугѣ. Отъ моей горничной Даши я случайно узнала, что и лакей Павелъ презентовалъ тутъ какъ-то нашей Еликанидѣ медовую коврижку. О, этотъ Павелъ для меня подозрителенъ!
— Будь покойна, Катишь… — сказалъ женѣ Колояровъ. — Я произведу обо всемъ этомъ подробное слѣдствіе… Я по-свойски… Я съумѣю. Вѣдь я когда-то былъ судебнымъ слѣдователемъ.
Лакей доложилъ, что кушать подано. Колояровъ снялъ вицъ-мундиръ и шейный орденъ, надѣлъ домашній пиджакъ и сѣлъ съ Екатериной Васильевной обѣдать. Бонна была тутъ-же. Шурочка сидѣла около нея за столомъ на высокомъ стулѣ, обвязанная подъ подбородкомъ, салфеткой, концы которой поднялись до головы и были удивительно похожи на свиныя уши. Дѣвочка обѣдала за общимъ столомъ, когда не бывало постороннихъ.
Разговоръ, разумѣется, опять шелъ о мамкѣ Еликанидѣ, хотя Колояровъ снова началъ было о министрѣ.
— Представь себѣ, что она мнѣ сегодня бухнула, — сказала Колоярова. — Бухнула и повергла меня въ ужасъ… прямо въ ужасъ… „Мнѣ, говоритъ, до того скучно, что впору даже уйти отъ васъ“… Что-то въ этомъ родѣ…
Екатерина Васильевна взглянула на мужа, взглянула на бонну. Та приняла этотъ взглядъ за дозволеніе вступить въ разговоръ и прибавила:
— И мнѣ то-же самое сказала на прогулкѣ. „Что это, говоритъ, за жизнь! Меня такъ притѣсняютъ, что ужъ я подумываю, не уйти-ли мнѣ“.
— Видишь, видишь, Базиль! Стало быть ужъ у ней есть что-нибудь въ головѣ,- подхватила Колоярова.
— Не посмѣетъ, — проговорилъ мужъ. — Какъ она посмѣетъ? Это своего рода договоръ. Онъ предусмотрѣнъ закономъ, какъ всякій договоръ. У ней нѣтъ разсчетной книжки, но я выдамъ ей разсчетную книжку завтра-же и заставлю подписать.
— Она неграмотная, — пробормотала бонна.
— Подпишутся свидѣтели, и она поставитъ три креста. Законъ ограждаетъ нанимателя, — доказывалъ Колояровъ, ковыряя вилкой рыбу, и вдругъ сказалъ служившему у стола Павлу:- Позвать сюда ко мнѣ сейчасъ Акулину судомойку.
Черезъ пять минутъ Акулина, полная баба, лицо у которой было раздвинуто больше въ ширину, чѣмъ въ длину, стояла въ столовой около дверей и, держа руки подъ передникомъ, кланялась.
— Ты что это нарушаешь порядки, заведенные въ домѣ и нарушаешь спокойствіе господъ! — крикнулъ на нее Колояровъ. — Ты осмѣлилась выдать мамкѣ Еликанидѣ подсолнуховъ, зная, что всякая дача ей чего-либо съѣстного, кромѣ какъ съ господскаго стола, строжайше запрещена. А? Отвѣчай!
— Да вѣдь она проситъ, баринъ, ваше превосходительство. „Дай, говоритъ, мнѣ потѣшить зубы“. Она даже совала мнѣ три копѣйки, чтобъ я купила ей на всѣ три копѣйки подсолнуховъ, но я побоялась взять, — проговорила судомойка, покраснѣвъ лицомъ до степени варенаго рака.
— Чтобъ это было въ послѣдній разъ! Слышишь? Иначе паспортъ и разсчетъ въ руки — и вонъ! И ничего ей не давать изъ съѣстного! Да и вообще ничего не давать. Еликанида не для кухни взята.
— Да вѣдь я думала, баринъ, что если поваръ Калистратъ Иванычъ ей когда даетъ, то отчего-же мнѣ-то?..
— Поваръ даетъ? Что такое ей поваръ даетъ? — закричалъ Колояровъ. — Это для насъ новость! Говори! Что?
— Миндаль даетъ, кедровые орѣхи покупаетъ. Тутъ какъ-то корюшку копченую давалъ.
— Корюшку копченую? — воскликнула Екатерина Васильевна. — Ну, вотъ, вотъ, вотъ!.. Такъ я и знала! Оттого-то отъ Мурочки на прошлой недѣлѣ новыми мужицкими сапогами и пахло! Оттого-то онъ и плакалъ. Корюшку копченую… Вѣдь это ужасъ!.. Мамкѣ копченое! Нѣтъ, это изъ рукъ вонъ… Базиль… Ты обязанъ…
— Съ поваромъ я послѣ обѣда раздѣлаюсь. А ты ступай, — кивнулъ Колояровъ судомойкѣ. — Павелъ! Теперь вы… Когда, въ какой день и въ какой часъ вы поднесли Еликанидѣ медовую коврижку? — обратился онъ къ лакею.
Лакей вспыхнулъ.
— Коврижку-съ? Извините, ваше превосходительство, это дѣйствительно было, — отвѣчалъ онъ. — Но я знаю, что барыня имъ иногда коврижки даютъ, а потому думалъ…
— Барыня и вы — я думаю, это разница. Барыня даетъ столько, сколько не повредитъ ея здоровью, а вы… Объясните мнѣ, пожалуйста, какъ велика была эта коврижка и когда она была преподнесена?
Колояровъ уже прямо впадалъ въ тонъ слѣдователя.
— Въ Николинъ день я ей подарилъ, передъ Рождествомъ, такъ какъ она плакалась, что у ней по деревнѣ престолъ… Престольный праздникъ, значитъ. „У насъ, говоритъ, въ деревнѣ угощаются теперь, а я одна сирота“.
— Скажите пожалуйста, какой сердобольный мужчина! Но не припомните-ли вы, какъ велика была эта коврижка?
— И всего-то, баринъ, полтора фунта.
— Полтора фунта! Но вѣдь это-же ужасъ. Это прямо отрава! — воскликнула барыня. — Сожрать полтора фунта коврижки молоденькой женщинѣ, которая кормитъ грудью нѣжнаго ребенка! Полтора фунта! Боже мой! То-то Мурочка нашъ былъ боленъ въ началѣ декабря и мы посылали за профессоромъ Иваномъ Павлычемъ. Помнишь, помнишь, Базиль? И это было аккуратъ послѣ Николина дня. Боже мой, вотъ иногда бываетъ неразгаданная болѣзнь!
— Павелъ! Слышите, чтобъ это было въ послѣдній разъ! — отдалъ строгій приказъ лакею Колояровъ. — Въ послѣдній разъ. Иначе, какъ я ни привязанъ къ вамъ, мы разстанемся. Идите, и подавайте къ столу дичь!
Колояровъ сдѣлалъ жестъ рукой.
— Представь себѣ, Базилъ, теперь я вижу, что всѣ они влюблены въ нее… въ нашу Еликаниду… — сказала Колоярова мужу. — Влюблены, какъ кошки… Я про мужскую прислугу. Иначе съ какой-бы стати они стали подносить ей подарки! И Павелъ, и поваръ Калистратъ. Теперь я даже припоминаю ихъ плотоядныя улыбки, когда они смотрятъ на Еликаниду. Ахъ, какъ все это непріятно! — вздохнула она.
— Поручи горничной Дашѣ. Надо смотрѣть строже, — отвѣчалъ супругъ.
— Ахъ, и Даша тоже… Она съ ней вмѣстѣ грызла тутъ какъ-то кедровые орѣхи… — махнула рукой барыня.
— И швейцаръ тоже, нашъ швейцаръ, на мамку зубы скалитъ и встрѣчаетъ ее всякій разъ плоскими комплиментами. Вѣдь я слышу, — сплетничала бонна.
— Не подливайте, мадемуазель, масло въ огонь, не подливайте… — остановилъ ее Колояровъ.
— Боюсь я, Базиль, боюсь за Мурочку… — потрясала головой Екатерина Васильевна. — Вѣдь мы иногда уѣзжаемъ по вечерамъ въ театръ, бываемъ въ гостяхъ… Ну, что если вдругъ?..
— Успокойся, Катишь.
— Не бойтесь, Катерина Васильевна, вѣдь я дома… я слѣжу… — успокаивала Колоярову бонна.
Павелъ принесъ изъ кухни дичь и салатъ.
Черезъ десять минутъ Колояровы вышли изъ-за стола.
VII
Послѣ обѣда, во время питья кофе, Колояровымъ былъ вызванъ въ кабинетъ поваръ Калистратъ и ему былъ данъ за мамку Еликаниду строжайшій выговоръ.
— Прошу васъ и въ то-же самое время требую во имя здоровья моего ребенка ничего не давать въ кухнѣ кормилицѣ изъ съѣстного, помимо того, что барыня назначаетъ ей на завтракъ и обѣдъ. Я торжественно требую этого, и если приказъ мой не будетъ исполняться — мы поссоримся и вы лишитесь мѣста, — сказалъ повару Колояровъ, дымя сигарой.
— Да вѣдь она, ваше превосходительство, иногда къ душѣ пристаетъ, — оправдывался поваръ, красивый малый въ усахъ. — То дай ей соленаго огурца, то трески, то кислой капусты… Умоляетъ… Вѣдь вчужѣ жалко… Ну, и…
— И вы давали ей соленой трески и кислой капусты?
Баринъ даже поднялся съ кресла и тревожно уставился на повара.
— Этого не давалъ. Какъ возможно! Я понимаю, что она господское дитя кормитъ. А вотъ корюшки копченой разъ далъ. Вѣдь когда онѣ грудью кормятъ, ихъ словно червякъ какой точитъ… и на кислое тянетъ.
— А вы гоните ее вонъ изъ кухни. Прямо гоните. Ея мѣсто въ дѣтской, около ребенка, а не въ кухнѣ.
— Да вѣдь она не идетъ. Какъ гнать-то? Тутъ вотъ какъ-то къ ней землякъ приходилъ. Нельзя-же его въ дѣтскую…
Колояровъ вздрогнулъ.
— Землякъ? Какой землякъ? Отчего-же мы этого не знали? — спросилъ онъ. — Ей строжайше запрещено принимать кого-либо изъ мужчинъ. Женщинъ можно, но мужчину ни подъ какимъ видомъ… Такъ было условлено.
— Онъ письмо изъ деревни привозилъ и она его кофеемъ поила.
— Даже кофеемъ поила!.. А намъ никто ничего не сказалъ? Ни Павелъ, ни Даша горничная, ни вы… Ну, слуги! Идите! А Еликаниду изъ кухни гнать… Не идетъ — сейчасъ-же доложить барынѣ.
Поваръ ушелъ. Колояровъ въ волненіи ходилъ большими шагами по кабинету и щипалъ бакенбарды.
„Землякъ… мужчина… Оказывается, что мы ничего не знаемъ, что у насъ въ домѣ дѣлается, — разсуждалъ онъ. — Землякъ… И никто недоноситъ. Землякъ… Вотъ это новость! Стало быть Катишь въ это время дома не было. Но вѣдь нельзя-же ей тоже и дома цѣлый день сидѣть… Ей воздухъ нуженъ… Нужно въ Гостиный дворъ, нужно на выставку куда-нибудь, на базаръ благотворительный… Наконецъ, есть и визиты приличія… Нельзя безъ нихъ… Ахъ, какъ все это неудобно! Какъ все это печально! А я на службѣ!.. Я обязанъ служить… Что-же я могу? Катя-же ужъ и такъ сидитъ много дома“.
Онъ остановился посреди кабинета и, все еще волнуясь, сталъ гладить себя по проплѣшинѣ на головѣ.
„Сказать ей? Сообщить о землякѣ? — задавалъ онъ себѣ вопросъ. — Нѣтъ, не буду ей пока ничего говорить. Это ее разстроитъ. Но надо принять мѣры, какія-нибудь мѣры… Мужикъ былъ въ кухнѣ, при всѣхъ… Конечно-же тутъ ничего не могло случиться, и Еликанида только волновалась. Но вѣдь такого рода свиданія могутъ быть и въ другомъ мѣстѣ, если ужъ у ней есть знакомые земляки. Ахъ, какъ все это нехорошо, нехорошо! Но не буду безпокоить Катю, промолчу на этотъ разъ“.
Онъ тяжело вздохнулъ, пошелъ искать жену и нашелъ ее въ дѣтской. Она сидѣла и смотрѣла, какъ обѣдала мамка. Мамка ѣла филе-де-бефъ, приправленный шампиньонами. Онъ остановился. Жена обернулась и сказала:
— Вотъ Еликанида потребовала непремѣнно калача къ обѣду, и я балую ее, посылала за калачомъ. А къ калачу велѣла дать ей малиноваго варенья. Это замѣнитъ ей булку съ патокой, которой она такъ хотѣла.
— Я, барыня, ничего не хотѣла. А ѣшь-ѣшь все одно домашнее, такъ захочется и гостинца изъ лавочки, — отвѣчала мамка.
— Какой-же это гостинецъ булка съ патокой! — снисходительно замѣтила Колоярова.
— Сама купила, на свои деньги купила, такъ ужъ и это много значитъ. Сама… Вотъ что лестно. Я, барыня, только что въ серебрѣ-то хожу, да ѣмъ на серебрѣ, а вѣдь жизнь моя самая каторжная, словно въ тюрьмѣ. Сидишь, сидишь иногда въ заперти, а въ голову тебѣ такъ и лѣзетъ: „а что не убѣжать-ли мнѣ?“
— Что ты говоришь, Боже мой, что ты говоришь! — трагически произнесла Екатерина Васильевна. — Вотъ ужъ на тюрьму-то не похоже. Въ твоемъ распоряженіи квартира изъ двѣнадцати комнатъ, по которымъ ты можешь ходить.
— И все-таки подъ присмотромъ. Со всѣхъ сторонъ кляузы… Чутъ что скажешь — стѣны слышатъ. И одна, одна, одна. Вы мнѣ не подруга, мамзель тоже не подруга… Вѣдь изъ-за этого въ лавочку меня потянуло, чтобъ съ простымъ народомъ повидаться.
— А это-то и не годится. Это было-бы преступно съ твоей стороны. Тебя холятъ, нѣжатъ, чистятъ, моютъ, а въ лавочкѣ простой народъ изъ подваловъ и съ чердаковъ, гдѣ свили себѣ гнѣзда разныя заразныя болѣзни, и ты можешь занести ихъ Мурочкѣ. А заразится и умретъ Мурочка? Вѣдь я съ ума сойду.
Еликанида слушала, ѣла и вдругъ спросила:
— Барыня, нельзя-ли мнѣ какъ-нибудь пирожка съ капустой? Утробой хочется.
Колоярова сдѣлала гримасу.
— Это грубо, грузно для тебя, развиваетъ газы въ желудкѣ и дѣлаетъ отрыжку, — сказала она. — Но чтобы поразнообразить тебѣ столъ — я вотъ что тебѣ предложу. Это блюдо изъ твоего списка и давно тебѣ не подавалось. Хочешь разварную телячью головку съ черносливомъ?
— Охъ, нѣтъ, барыня! Увольте. Знаю я, что это такое… Увольте! — замахала руками мамка. — Тогда ужъ лучше простой бикштесъ съ огурцомъ…
— Нельзя тебѣ огурца. Выбирай что-нибудь другое…
— Тогда купите мнѣ валдайскихъ баранокъ. Это наши родимые. Я вѣдь сама валдайская.
— Выдумала тоже! Гдѣ-же это я буду тебѣ разыскивать валдайскихъ баранокъ!
— А подъ Невскимъ, барыня, въ рынкѣ. Гдѣ продаются кнуты, веревки и валенки, тамъ и валдайскіе баранки есть. Валдайскіе колокольчики продаются тамъ и валдайскіе баранки.
— Простыхъ баранокъ я тебѣ велю купить, — согласилась Колоярова.
— Не то, барыня. Наши лучше. Наши валдайскіе такъ хорошо мужикомъ пахнутъ, — сказала Еликанида и такъ красиво улыбнулась, что слушавшій ее Колояровъ невольно залюбовался ею.
Онъ пришелъ, чтобы сдѣлать мамкѣ „разносъ“ за попытку ея прокатиться на извозчикѣ по Невскому, но тутъ окончательно спасовалъ передъ ней.
„Вѣдь какая красота-то! — думалъ онъ, мысленно раздѣвая и одѣвая мамку и прикидывая ей другой костюмъ. — Если ее одѣть въ платье со шлейфомъ, при декольте, слегка напудрить волосы и научить откидывать ногой шлейфъ, какъ откидываютъ его француженки — какая-бы это прелесть была! Хороша! И сложена прекрасно… — мелькнуло у него въ головѣ. — И какая наивность! Простота. Баранки мужикомъ пахнутъ! — восторгался онъ мамкой. — Мужикомъ пахнутъ… Вѣдь это значитъ — мужчиной. Это показываетъ на ея страстность“.
Онъ походилъ по дѣтской, попыхивая дымкомъ сигары, заглянулъ на мирно спавшаго въ кроваткѣ, закутаннаго въ пеленкахъ Мурочку, и мысленно прибавилъ:
„Но эта страстность опасна для ребенка. Она назрѣла… она готова… Ей стоитъ только прорваться, и тогда ее не удержишь. Надо слѣдить за этой мамкой, надо, какъ говорится, смотрѣть въ оба“.
Мамка доѣла клюквенный кисель и говорила:
— Вотъ кисель я люблю… Киселя я сколько угодно и каждый день готова ѣсть.
Екатерина Васильевна встала и отвѣчала:
— А между тѣмъ крахмалъ тебѣ нельзя рекомендовать съ легкимъ сердцемъ. Жиры и крахмалъ надо вводить въ тебя осторожно. Вотъ казеинъ — дѣло другое. Ты любишь творогъ?
— Обожаю, барыня.
— Ну, вотъ я велю тебѣ завтра дать на сладкое творогъ съ сахаромъ.
Колояровы вышли изъ дѣтской. Колояровъ былъ все еще подъ обаяніемъ мамки Еликаниды.
„Хороша! Дьявольски хороша, чортъ возьми! — думалъ онъ. — Если-бы она не кормила моего сына“…
Онъ улыбнулся и покрутилъ головой.
— И хорошо ты сдѣлалъ, Базиль, что не обратился къ ней съ выговоромъ, — сказала ему супруга. — Дѣлать нечего, надо кое-чѣмъ поступиться изъ ея режима. Она скучаетъ у насъ и какъ-бы въ самомъ дѣлѣ не надумала бросить Мурочку. Сейчасъ, передъ твоимъ приходомъ, она сказала мнѣ: „что-жъ, барыня, если ужъ я такъ для васъ неладна, то подумайте и разсчитайте меня“. Вѣдь это будетъ ужасъ что такое, если она броситъ Мурочку!
VIII
Колояровъ, боясь обезпокоить жену, такъ и не сообщилъ ей, что мамка Еликанида принимала въ кухнѣ земляка, являвшагося къ ней съ письмомъ изъ деревни, но тѣмъ не менѣе надъ ней былъ учрежденъ строжайшій надзоръ, изолирующій ее не только отъ свиданій съ знакомыми, но даже отъ случайныхъ встрѣчъ съ чужими мужчинами на улицѣ. Гулять съ бонной по улицѣ мамка больше не ходила. Бонна наотрѣзъ отказалась и кататься съ ней вокругъ Таврическаго сада, какъ предполагала вначалѣ Екатерина Васильевна, но мамку начали возить кататься на лошади Колояровыхъ въ сопровожденіи горничной Даши. Дабы привлечь Дашу окончательно на свою сторону и сдѣлать ее строгимъ Аргусомъ Еликаниды, Колоярова подарила Дашѣ свое старое шелковое платье, совсѣмъ мало ношеное, и обѣщалась подарить еще пальто, если Даша будетъ передавать ей всѣ разговоры, которые она услышитъ отъ Еликаниды. Горничная Даша поклялась въ вѣрности барынѣ и стала ѣздить по утрамъ кататься съ Еликанидой по пустыннымъ улицамъ, около Таврическаго сада. Но мамкѣ все-таки нуженъ былъ моціонъ, мускульная работа, и Колояровъ далъ ей свои гимнастическія гири, съ которыми Екатерина Васильевна и заставляла ее продѣлывать передъ обѣдомъ разнообразныя движенія въ дѣтской.
Мамка Еликанида плакала, но все-таки размахивала гирями и прыгала. Дабы пріохотить ее къ гимнастикѣ, ей съ разрѣшенія доктора была подана разъ къ столу селянка на сковородкѣ изъ кислой капусты и ветчины, которую она такъ хотѣла и просила.
На одномъ изъ такихъ сеансовъ гимнастики присутствовала и маменька Колояровой, смотрѣла и дивилась.
— Вѣдь вотъ у насъ, когда я васъ воспитывала, ничего подобнаго не было, а были также и мамки-кормилицы, — говорила мать Екатерины Васильевны. — А васъ, дѣтей, у меня было семеро. И вотъ четверо, слава Богу, выросли, повѣнчались и замужъ вышли.
— Тогда былъ вѣкъ другой, мамаша, — оправдывалась дочь. — Да и люди были проще. Мамки тоже были сердечнѣе. А наша мамка Еликанида — да это ужасъ, что такое! Поговорите вы съ ней… О, она особенная. Я мученица съ ней… Да не я одна, а и мужъ… Вы знаете загадку — волкъ, коза и капуста? Какъ перевезти черезъ рѣчку козу, чтобы ее волкъ не съѣлъ и чтобы она капусту не съѣла? Вотъ это точь-въ-точь наша мамка Еликанида. Отпустить ее гулять одну на улицу невозможно. Она будетъ съ каждымъ мужикомъ, съ каждымъ солдатомъ лясы точить или зайдетъ въ мелочную лавочку и нажрется тамъ чего-нибудь самаго вреднаго, въ родѣ соленыхъ груздей. А отпустить ее въ сопровожденіи лакея Павла — что-же это такое будетъ! Вы знаете, маменька, въ нее вся наша мужская прислуга влюблена. Швейцаръ, пожилой человѣкъ — и тотъ… Даже дворники — и тѣ… Всѣ, всѣ, однимъ словомъ.
— Странно… — покачала головой маменька. — Но мнѣ кажется, что тутъ только у страха глаза велики… Очень ужъ ты того…
— Нѣтъ, маменька, вы не знаете. А я ужъ наблюдала за ней. Натирали тутъ у насъ полы полотеры… Ну, что такое полотеры? А она между ними земляка нашла. Зубы скалитъ, глазами блещетъ, а сама — тра-та-та, тра-та-та… Какъ ее выпустишь по улицѣ погулять для моціона? Ну, вотъ искусственный моціонъ и дѣлаю ей съ гирями. Каждый мужикъ для нея что-то въ родѣ того, что для нашихъ музыкальныхъ психопатокъ модный теноръ. Она къ каждому мужику готова броситься на шею.
Екатерина Васильевна удваивала и утраивала надзоръ за мамкой, но это ни къ чему не привело.
Не прошло и недѣли, какъ Екатерина Васильевна поѣхала въ Гостиный дворъ за покупками. Дѣло было передъ обѣдомъ. Сдѣлавъ закупки, она заѣхала за мужемъ въ департаментъ и домой вернулись они вмѣстѣ. Пріѣхавъ домой, Екатерина Васильевна подождала, пока она согрѣлась послѣ мороза, и тотчасъ-же бросилась въ дѣтскую къ ребенку. Мурочка лежалъ въ кроваткѣ и спалъ, а мамки Еликаниды не было около него.
— Гдѣ мамка? — тревожно спросила она бонну.
Бонна улыбнулась угломъ рта и отвѣчала:
— Ушла.
— Куда ушла?
— Можете вы думать, сударыня, въ дворницкую убѣжала. Пришелъ какой-то ея землякъ. Въ кухню его не пустили. Онъ въ дворницкую… Дворникъ увѣдомилъ Еликаниду черезъ парадную лѣстницу, что землякъ ждетъ ее въ дворницкой, и она убѣжала.
Екатерина Васильевна поблѣднѣла и схватилась за сердце.
— Спирту… воды… Скажите мужу… Ахъ, ахъ!.. Капель… А ее вернуть!.. Послать… привести домой… Господи, что-же это такое! — стонала она и опустилась на стулъ въ изнеможеніи.
А Колоярову о кормилицѣ ужъ докладывалъ лакей Павелъ.
— Никакой возможности не было ее удержать, ваше превосходительство… Какъ съ цѣпи сорвалась… Словно удила закусила… Выскочила на парадную лѣстницу и въ одинъ моментъ… Я ужъ бѣгалъ въ дворницкую… А тамъ два мужика и баба… Земляки… Зову — не идетъ.
— Сейчасъ привести ее!.. Сказать, чтобъ не медля шла! Или я самъ за ней явлюсь! — кричалъ Колояровъ. — Силой привести домой.
Лакей побѣжалъ за Еликанидой.
Пришла къ Колоярову бонна и сказала ему:
— Пожалуйте, Бога ради, къ барынѣ. Ей дурно. Она въ дѣтской.
Колояровъ поспѣшилъ въ дѣтскую. Тамъ ужъ около Екатерины Васильевны возилась горничная съ флакономъ спирта и разсказывала:
— Цѣлая орда гостей къ ней въ кухню явилась: два мужика, баба, солдатъ… Поваръ не пускаетъ. Ругаются…
— Ахъ, и солдатъ! — взвизгнула барыня… — Базиль, мы должны что-нибудь предпринять рѣшительное.
— А ужъ потомъ дворникъ вызвалъ ее на парадную лѣстницу, — продолжала горничная. — Павелъ сначала думалъ, что насчетъ паспорта что-нибудь. Переговорила она съ дворникомъ, да какъ пустится бѣжать внизъ.
— Какой дворникъ? — спрашивалъ Колояровъ. — Старшій?..
— Нѣтъ, младшій. Трифонъ.
— Я пойду къ домовладѣльцу и буду требовать, чтобы этого Трифона прогнали. Вѣдь это-же безпорядокъ, наглость, внѣдреніе въ семейную жизнь жильцовъ.
— Охъ, это ужасно, ужасно! Бѣдный Мурочка! — стонала Екатерина Васильевна. — И давно она тамъ сидитъ въ дворницкой?
— Да больше получаса, барыня. Судомойка бѣгала туда, такъ разсказывала, что они ей гостинца изъ деревни привезли: сушеной малины и грибовъ. Земляки, то-есть.
— Господи, только этого недоставало! И она теперь сидитъ тамъ въ дворницкой и все это жретъ. Базиль! Да прими-же какія-нибудь мѣры! Словно ты и не отецъ. Вѣдь твой-же ребенокъ.
— Я послалъ, другъ мой, Павла и приказалъ притащить ее силой, — засуетился Колояровъ. — Но меня удивляетъ одно: какъ могъ выпустить ее швейцаръ на улицу. Вѣдь онъ-же видѣлъ, что она была даже не одѣта.
— Какъ? даже и не одѣта? — взвизгнула Екатерина Васильевна. — Не одѣта… Инфлуэнца… А потомъ перейдетъ на Мурочку. Затѣмъ корь, скарлатина…
— Вы говорите, баринъ, швейцаръ… Швейцаръ влюбленъ въ нее… — говорила горничная. — Онъ вдовецъ и даже сватается къ ней…
— Кругомъ вода… — произнесъ Колояровъ и въ недоумѣніи развелъ руками.
— Но она не идетъ за него… Еликанида не идетъ… У ней есть женихъ… Вотъ этотъ самый, что-теперь въ дворницкой… Онъ-то и привелъ къ ней деревенскихъ земляковъ. Онъ прежній… Еще съ огорода… Когда она на огородѣ въ полольщицахъ жила… Онъ тоже изъ земляковъ… А потомъ его взяли въ солдаты… — повѣствовала горничная.
— Боже мой, Боже мой! — продолжала стонать Екатерина Васильевна. — Что намъ теперь съ мамкой дѣлать? Надо составить совѣтъ… Вѣдь ее придется дезинфицировать… Базиль… пошли за докторомъ, пошли за моей маменькой, пошли за твоей маменькой…
Въ дверяхъ показалась бонна.
— Павелъ мамку привелъ… — доложила она.
IX
Уже издали слышался вой кормилицы Еликаниды, когда вели ее въ дѣтскую. Такъ воютъ въ деревняхъ только по покойникамъ. Велъ Еликаниду Павелъ, держа подъ руку, а она упиралась. Ее подталкивала сзади судомойка. Юбка будничнаго голубого ситцеваго сарафана Еликаниды была оторвана сзади отъ лямокъ, одинъ изъ кисейныхъ широкихъ рукавовъ разорванъ. Волосы были распустившись. Очевидно, была изрядная борьба. Красивое, всегда дышащее здоровьемъ, лицо мамки было заплакано, а нитку янтарей ея, которые она носила на шеѣ, несла въ рукѣ судомойка. Но вотъ Еликанида показалась въ дѣтской. Увидавъ Колояровыхъ, она бросилась имъ въ ноги и завопила:
— Барыня, голубушка, простите! Баринъ, ангелъ, что хотите дѣлайте, а я безъ родни жить не могу!
Екатерина Васильевна не поднималась со стула.
— Безстыдница! Срамница! Губительница ребенка! — вырвался у ней какъ-бы стонъ изъ груди.
— Милая барыня, да вѣдь я только что накормила его передъ тѣмъ, чтобы уйти. Пришли дяденька Селифонтъ Митричъ, земляки… принесли родимаго гостинца, а ихъ изъ кухни гнать стали.
Колояровъ остановился передъ ней въ наполеоновской позѣ, скрестивъ руки на груди, и глухимъ голосомъ спросилъ ее:
— Несчастная женщина, скажи, что мнѣ съ тобой теперь дѣлать?
— Да что хотите, баринъ миленькій, то и дѣлайте… только простите, — плакала Еликанида.
— Поднимите ее съ пола и посадите ее на кушетку!
— Не встану я, баринъ добрый, не встану, пока не простите. Барыня сердечная, заступитесь!
— Отчего ты не шла наверхъ, когда тебя звала прислуга?
— Баринъ, ваше превосходительство, вѣдь кровные, кровные земляки… Родные… Поговорить хотѣлось… о деревнѣ поразспросить. Баринъ родименькій, вѣдь и у васъ есть родня… Охо-хо-хо! О, моя головушка!
— Не корчи изъ себя дуру. Встань и сядь вонъ тамъ на кушеткѣ… Тебѣ надо успокоиться. Тебѣ вредно тревожиться. Ты ребенка кормишь. Не реви… А я объявляю тебѣ строгій выговоръ. Чтобы не было этого! И если это повторится или ты сдѣлаешь хоть попытку къ повторенію, ты будешь лишена подарка къ Пасхѣ, будешь лишена награды послѣ того, какъ откормишь ребенка.
Судомойка и лакей Павелъ подняли Еликаниду и повели на кушетку.
— Не сажайте ее близко къ кроваткѣ ребенка, не сажайте! — закричала Колоярова. — Ее прежде всего надо обчистить, обмыть и привести въ порядокъ. Кто это порвалъ у ней рукавъ у рубахи и сарафанъ? Земляки?
— Да вѣдь не идетъ изъ дворницкой, такъ за неволю… — отвѣчалъ Павелъ. — А драки промежъ ихъ въ дворницкой не было.
— Они это, барыня, они… Наша прислуга… Они оборвали… Бусы сорвали… — стонала Еликанида.
— А ты не упрямься, ты иди… Ты вонъ по дорогѣ даже укусить меня хотѣла… — жаловался лакей.
— Прежде всего тебѣ надо переодѣться, — обратилась къ мамкѣ Екатерина Васильевна. — Даша, уведите ее къ себѣ, перемѣните на ней сарафанъ, а затѣмъ ванну ей приготовьте, — отдала она приказаніе горничной. — Ей необходимо вымыться и надѣть чистое бѣлье, а до тѣхъ поръ я не подпущу ее къ ребенку. Пожалуйста, Даша. Возьми себѣ въ помощь судомойку и сдѣлай все это. А я васъ награжу… Я умѣю награждать тѣхъ, кто преданъ нашему дому и исполняетъ наши приказанія.
— Да я, барыня, съ удовольствіемъ, — откликнулась судомойка. — А только не велите ей брыкаться. Она давеча меня кулакомъ въ носъ. Пойдемъ, Еликанида, — сказала она кормилицѣ.
Та перестала плакать и поднялась.
— Стало быть, барыня, вы меня простили? — уныло спросила она.
— Такіе проступки не прощаются. Но все равно иди. Теперь я удвою надъ тобой надзоръ, и ты ужъ не убѣжишь. А что я не кричу на тебя, не браню тебя, такъ я не тебя, дуру, жалѣю, а ребенка. Поняла? За ребенка я скорблю, скорблю душой, что не могу сорвать на тебѣ мое сердце… Разносить тебя — ты будешь ревѣть, безпокоиться, и вотъ порча молока для Мурочки.
— Спасибо вамъ, барыня, — произнесла слезливо мамка, удаляясь.
— Дура! Она еще благодаритъ! Ведите ее и мойте скорѣе, Даша! Да вымыть ее зеленымъ мыломъ! Зеленымъ калійнымъ мыломъ. А потомъ обтереть одеколономъ. Пожалуйста.
— Слушаю, барыня…
— А вы, мадемуазель, пока мы будемъ обѣдать, посидите около Мурочки, — обратилась Екатерина Васильевна къ боннѣ. — Онъ теперь спитъ, а какъ проснется и заплачетъ — я приготовлю ему немножко муки Нестле. Шурочка, чтобы не мѣшать вамъ, сядетъ съ нами за столъ. А вамъ мы пришлемъ обѣдъ сюда. Ахъ, да… Попрыскайте немножко здѣсь скипидаромъ. Все лучше… Кто знаетъ… съ какими такими земляками она тамъ въ дворницкой бесѣдовала… Можетъ быть, съ заразными.
Супруги Колояровы вышли изъ дѣтской и направились въ столовую обѣдать. Колоярова вела Шурочку.
Колояровъ садился за столъ и говорилъ:
— Нѣтъ, какова женщина! Я про Еликаниду. По пылкости, по мужчинолюбію — это испанка какая-то, а между тѣмъ по паспорту она уроженка Валдайскаго уѣзда. Нѣтъ, тутъ не новгородская кровь, а южная, прямо южная, знойная какая-то. И все узнаемъ новости, новости относительно ея. Теперь ужъ оказывается, что къ ней нашъ швейцаръ сватается.
— Да, да, да… И знаешь, мы не должны ограничиться сейчасъ сдѣланнымъ, мы должны принять относительно Еликаниды какія-нибудь экстраординарныя мѣры, — произнесла супруга.
— Ахъ, другъ мой, я все передумалъ и рѣшилъ, что никакихъ мѣръ мы принять не можемъ. Она чувствуетъ свое исключительное положеніе, знаетъ, что она необходима намъ для ребенка — и вотъ дѣлаетъ, что хочетъ. Ты думаешь, она не видитъ этого? Все видитъ. Она очень хорошо понимаетъ, отчего мы мягки къ ней относительно, отчего не бранимъ ее. Мы бережемъ ее отъ нападокъ, чтобъ не испортить молоко для Мурочки, и она отлично понимаетъ.
Колояровъ ѣлъ супъ. Екатерина Васильевна продолжала:
— Но все-таки мы должны подумать объ изысканіи мѣръ для ея обузданія. Вѣдь то, что она дѣлаетъ — прямо преступно. И мы вотъ что сдѣлаемъ: для изысканія этихъ мѣръ мы созовемъ совѣтъ… Совѣтъ изъ близкой родни и нашего доктора. Твоя маменька, моя маменька, я, ты, докторъ.
— Маменьки опять поссорятся, — замѣтилъ супругъ.
— Пускай ссорятся, вѣдь онѣ все равно ссорятся изъ-за нашихъ дѣтей, но онѣ все-таки выскажутся… За ними опытъ. И у твоей, и у моей маменьки было по многу дѣтей. Въ крайнемъ случаѣ мы пригласимъ на совѣтъ и профессора Ивана Павлыча. А Еликаниду такъ оставить нельзя… Послушай, не послать-ли намъ всю ея одежду, въ которой она была въ дворницкой, въ дезинфекціонную камеру для полнѣйшаго обеззараженія?
— Я думаю, это напрасно… — отрицательно покачалъ головой супругъ. — Вѣдь это не доказано-же, что на землякахъ Еликаниды или въ дворницкой была зараза. А съ дворникомъ Трифономъ я завтра-же расправлюсь!
— Да и со швейцаромъ… Швейцара надо припугнуть, — подхватила Екатерина Васильевна.
— Непремѣнно, — отвѣчалъ Колояровъ, накладывая себѣ рыбы.
X
Мамку Еликаниду вымыли, дезинфицировали, переодѣли во все свѣжее и только послѣ опрысканія ея одеколономъ она была допущена къ ребенку. Мурочка жадно набросился на ея грудь и, проголодавшійся, сосалъ съ особымъ причмокиваніемъ. Противъ мамки и ребенка сидѣли супруги Колояровы и смотрѣли на этотъ актъ. Колояровъ говорилъ кормилицѣ:
— И чего это тебя изъ хорошихъ комнатъ, изъ чистаго помѣщенія, изъ роскошной обстановки понесло вдругъ въ грязную вонючую дворницкую? Понять не могу… И къ чему, къ кому? Къ грязнымъ, закоптѣлымъ мужикамъ отъ чистыхъ, опрятныхъ людей.
— Ахъ, баринъ миленькій, да вѣдь кровь… — отвѣчала Еликанида. — Родня…
— Кровь… Какая тутъ кровь! Дяденька какой-то.
— И братанъ.
— Что это такое братанъ? — спросила Екатерина Васильевна мамку.
— Тетенькинъ сынъ онъ.
— А солдатъ-то? Солдатъ? — задалъ вопросъ баринъ.
— Солдатъ землякъ. Восемь верстъ отъ насъ. Всѣ наши. Они солдата и разыскали, а солдатъ зналъ, гдѣ я живу, и привелъ ихъ ко мнѣ. Они мнѣ письмо и гостинцы принесли.
— Ты этотъ гостинецъ не смѣй ѣсть. Гдѣ онъ?
— Въ дворницкой остался.
— Ну, ты его въ дворницкой и оставь. Я слышалъ, что тамъ сушеные грибы и малина. Тамъ и оставь. А барыня тебѣ вмѣсто малины и грибовъ дастъ плитку шоколада, конфетъ… и… ну хоть пятокъ мандаринъ. Не понимаю, рѣшительно не понимаю, какъ тебѣ, въ нѣкоторомъ родѣ ужъ отполировавшейся, отшлифовавшейся, могутъ нравиться грязные мужики и солдаты!
— Родные… Кровные… — опять тихо и ужъ съ покорностью въ голосѣ произнесла Еликанида.
На другой день утромъ былъ сдѣланъ Колояровымъ большой разносъ швейцару, какъ смѣлъ онъ выпустить на улицу неодѣтую въ верхнее платье Еликаниду. Швейцаръ оправдывался, что это не его дѣло смотрѣть, кто одѣтъ или не одѣтъ и что останавливать онъ обязанъ только воровъ и „подозрительныхъ личностевъ“.
Колояровъ ѣздилъ и къ домовладѣльцу съ жалобой на дворника Трифона и просилъ объ его увольненіи.
— Помилуйте, развѣ это задача дворника сбивать съ пути кормилицъ, внѣдряться въ порядки семьи квартирантовъ и нарушать эти порядки! — раздраженно говорилъ онъ.
Домовладѣлецъ не понялъ сути, улыбнулся и покачалъ головой.
— Позвольте… Развѣ онъ позволилъ себѣ оскорбить ее, какъ женщину? — спросилъ онъ про дворника. — Она жалуется на насиліе съ его стороны или…
— Да нѣтъ-же, нѣтъ! Еще-бы онъ это-то себѣ допустилъ. Тогда есть уголовный судъ. Но мнѣ кажется, и того довольно, что я вамъ объяснилъ. Дворникъ врывается въ квартиру, то-есть въ прихожую, отрываетъ мамку отъ ребенка и тащитъ къ землякамъ въ дворницкую на оргію. Въ дворницкой оргія была… Тамъ пили водку и пиво. Мнѣ кажется, и тутъ составъ преступленія ясенъ.
— Не нахожу, не нахожу… Но во всякомъ случаѣ сдѣлаю ему выговоръ, чтобы угодить вамъ.
— Пожалуйста. Главное, чтобы это не повторялось. Это успокоитъ жену.
Колояровъ уѣхалъ.
Къ обѣду къ Колояровымъ съѣхались двѣ маменьки: его Александра Ивановна и ея Елизавета Петровна и составилось нѣчто въ родѣ семейнаго совѣта. Маменьки тотчасъ-же начали между собой ссориться.
— Я говорила тогда., что не надо брать мамку красавицу. Это очень опасно въ Петербургѣ, гдѣ все кишитъ легкостью нравовъ, — начала мать Колояровой. — Достаточно было взять здоровую солидную женщину. Вѣдь Александра Ивановна вамъ эту мамку нашла.
— Я, я нашла мамку?! Да что вы, Елизавета Петровна! — воскликнула мать Колоярова. — Я была противъ всякой мамки, я говорила, что сама мать должна кормить грудью, а вы доказывали, что ваша дочь слаба грудью, страдаетъ нервами и мигренью. Моего сына я сама выкормила, думала, что такъ будетъ и съ внукомъ поступлено. А вы сунулись и просили доктора Федора Богданыча рекомендовать мамку.
— Такъ вѣдь докторъ-то Федоръ Богданычъ вашъ докторъ, а не мой. Вашъ и вашего сына. Вы у него лечитесь отъ разныхъ недуговъ, а я, слава Богу, здорова. Это у васъ какія-то невѣдомыя болѣзни существуютъ.
— Невѣдомыя! А вы отъ вѣдомыхъ болѣзней крупинки всякія глотаете? Не можете куска съѣсть, чтобы не проглотить какой-нибудь гадости.
— Гадости! Вы удержитесь въ вашихъ выраженіяхъ… Не гадости, а крупинки Матео. Я гомеопатка. А вашего Федора Богданыча къ себѣ на порогъ не пустила-бы.
Бабушекъ насилу успокоили, и онѣ во время всего обѣда смотрѣли другъ на друга звѣремъ.
Вечеромъ пріѣхалъ докторъ Федоръ Богдановичъ, уже старикъ, въ очкахъ, въ вицмундирномъ фракѣ и съ Владимірскимъ крестомъ на шеѣ. Ему разсказали исторію съ мамкой. Онъ покачалъ головой, потомъ осмотрѣлъ ребенка и мамку, внимательно разсматривалъ пеленки перваго и постукивалъ и выслушивалъ вторую и сказалъ, оттопыривъ прежде свою нижнюю губу:
— Ничего особеннаго не произошло, но желудокъ и кишки у нея вздуты. Она чего-нибудь наѣлась неподобающаго. Я ей пропишу березовый уголь.
Супруги Колояровы и двѣ бабушки накинулись на мамку.
— Что ты ѣла вчера въ дворницкой? Говори! — приставали они къ пей.
— Да ничего. Видитъ Богъ, ничего, барыни… — испуганно оправдывалась мамка.
— Малину сушеную жевала, рыжики или грузди поганые ѣла вчера? — спрашивала Екатерина Васильевна.
— Оставьте, — остановилъ ихъ докторъ. — Это вздутіе живота у ней не вчерашняго происхожденія, а болѣе новѣйшаго. Что она сегодня ѣла?
— Ватрушку ѣла за завтракомъ. Пристала съ ножомъ къ горлу, закажи ей ватрушку… — разсказывала Екатерина Васильевна. — Вѣдь не знаешь, чѣмъ ее утѣшить. Даешь шоколадъ — не ѣстъ. Ну, я думала, что казеинъ молока, немного жировъ, мука… Вѣдь скучаетъ, ноетъ…
— Меньше мучного, меньше. Впрочемъ, березовый уголь ее облегчитъ, — сказалъ докторъ и пошелъ писать рецептъ.
У доктора просили совѣта, какъ быть съ мамкой, опасаясь дальнѣйшаго ея неповиновенія. Онъ задумался, нахмурилъ лобъ, почесалъ пробритый подбородокъ и отвѣчалъ:
— Скучаетъ… Это тоска по родинѣ… Бываетъ…
— Но она вовсе и не думаетъ о деревнѣ. Напротивъ… Ей нравится Петербургъ… Но стремленія-то такія… Ее тянетъ въ мелочную лавку, въ чужую кухню, къ чужой прислугѣ, въ дворницкую, даже въ трактиръ. Она это высказывала нашей боннѣ,- повѣствовала Екатерина Васильевна.
— Гмъ… Тоже отъ скуки. Нужны разумныя развлеченія… Веселое чтеніе… — совѣтовалъ докторъ.
— Не грамотна.
— Пусть другой кто-нибудь читаетъ ей. Игра въ карты, напримѣръ, въ дурачки, въ фофаны.
— Надо просить бонну, чтобы она ей читала что-нибудь, а горничная Даша пусть играетъ съ ней въ дурачки, — предложила бабушка Александра Ивановна.
— Не станетъ бонна ей читать. Бонна ее терпѣть не можетъ, — проговорила Екатерина Васильевна.
— Но, милая, ты должна заставить бонну, ты хозяйка, — возразила ей бабушка Елизавета Петровна. — Что за фанаберія такая…
Докторъ продолжалъ:
— Пусть развлекается разсматриваніемъ картинокъ, иллюстрацій, альбомовъ. Въ крайнемъ случаѣ свезите ее въ циркъ на насъ, въ театръ, что-ли… Разумѣется, подъ присмотромъ.
— На выставку картинъ ее не свозить-ли? — предложилъ Колояровъ.
— Отчего-же… Это прекрасно, прекрасно. Вообще, чтобъ ее не тянуло туда, куда не слѣдуетъ. А вотъ уголь давайте глотать.
Докторъ подалъ рецептъ.
Какъ хорошо знакомому человѣку, доктору предложили сыграть въ винтъ. Онъ согласился. Играть сѣли Колояровъ, двѣ бабушки и докторъ.
XI
Прошло недѣли три. Надзоръ за мамкой Еликанидой утроился. Вся прислуга была задарена Колояровыми и слѣдила за каждымъ шагомъ мамки, хотя Павелъ лакей и былъ въ подозрѣніи, что принесъ ей соленыхъ огурцовъ, изъ коихъ одинъ былъ найденъ подъ подушкой у мамки. Мамку совсѣмъ не оставляли одну. Когда Колояровы уѣзжали въ театръ или въ гости, въ этотъ вечеръ слѣдить за мамкой являлась одна изъ бабушекъ Шурочки и Мурочки — или Александра Ивановна, или Елизавета Петровна и ужъ оставались ночевать. Дабы мамка не скучала, мамку развлекали. По совѣту доктора Федора Богдановича съ ней играли въ карты горничная Даша и судомойка, мамку возили кататься на господскихъ лошадяхъ по пустыннымъ улицамъ, вокругъ Таврическаго сада, давали ей разсматривать иллюстраціи, для чего былъ пріобрѣтенъ цѣлый ворохъ иллюстрированныхъ журналовъ. Сама Екатерина Ивановна читала ей книги, тщательно выбирая такіе разсказы, гдѣ не было описанія любви и, наконецъ, мамку свозили въ циркъ, гдѣ была взята ложа для нея, бонны и Шурочки. Въ театръ съ ними вмѣстѣ ѣздила также Екатерина Васильевна. Все это дѣлалось, чтобы развлечь мамку и отучить ее отъ мужиколюбія и солдатолюбія, какъ выражалась Колоярова. Успѣхи въ этомъ дѣлѣ были, однако, плохіе. Лишь только на улицѣ раздавалась военная музыка, а это случалось частенько, мамка бросалась къ окну и съ особеннымъ восторгомъ любовалась солдатами. Она при этомъ тяжело вздыхала, взоръ ея блестѣлъ и сама она была какъ на иголкахъ, бормоча:
— Ахъ, солдатики! Ахъ, голубчики!
Колоярова видѣла все это и слышала и приходила въ отчаяніе.
— Ничто, ничто не помогаетъ ей, Базиль… Въ ней вулканъ какой-то клокочетъ и никакъ она не можетъ успокоиться, — говорила Колоярова мужу, когда тотъ сталъ спрашивать о поведеніи мамки, и сообщала ему свои наблюденія надъ мамкой при проходѣ солдатъ по улицѣ.
Мужъ улыбнулся и проговорилъ:
— Ну, это-то, душечка, я думаю, можно допустить. Ты, кажется, ужъ слишкомъ строга къ ней.
— Но вѣдь это ее волнуетъ. Это портитъ ея молоко. Какой ты, Базиль, странный.
Но въ одинъ прекрасный день Екатерина Васильевна была поражена, какъ громомъ, словами, сказанными ей мамкой. Случилось это во время завтрака, когда мамка Еликанида „вводила“ въ себя казеинъ молока по приказанію хозяйки, то-есть по просту ѣла творогъ съ сахаромъ.
— Барыня, голубушка, что я вамъ сказать хочу… — начала Еликанида. — Только ужъ вы меня, Бога ради, не браните за это…
— Что такое? Что? Опять что-нибудь набѣдокурила? — тревожно спросила Екатерина Васильевна.
— Ничего я не набѣдокурила, барыня, а только ужъ отпустите вы меня на свободу.
— Какъ на свободу? — воскликнула Екатерина Васильевна, и почувствовала, что въ глазахъ у нея что-то мелькаетъ.
— Очень просто, барыня. Я замужъ хочу. У меня женихъ есть.
— Замужъ? Женихъ… Да ты никакъ съ ума сошла!
Екатерину Васильевну ударило, какъ громомъ. У ней потемнѣло въ глазахъ, она схватилась за сердце.
— Да что-жъ тутъ такого? Вѣдь я не каторжная. Меня нашъ швейцаръ Киндей Захарычъ высваталъ.
— Швейцаръ? Ахъ, ахъ! Мамзель! Воды, Бога ради… Капли! — взвизгнула Катерина Васильевна.
Съ ней случилась истерика. Она плакала и смѣялась. Прибѣжала бонна со спиртомъ и каплями, появилась горничная Даша съ водой. Мамка и сама испугалась, видя, что барыня „кликушествуетъ“, и стала помогать расшнуровывать корсетъ.
— Милая барыня… Что это вы? Христосъ съ вами… — говорила она. — Успокойтесь пожалуйста.
— Швейцаръ… За нашего швейцара замужъ выходитъ… ха-ха-ха!.. — истерично хохотала Колоярова. — За швейцара… Вѣдь онъ ей въ отцы годится.
— Да охота вамъ слушать-то, барыня! Она вретъ, она куражится, а вы слушаете. Выпейте водички… Придите въ себя… — успокаивала ее горничная.
— Нѣтъ, не вру..- стояла на своемъ мамка. — Но должна-же я вамъ сказать когда-нибудь… Мы ужъ высватались и у насъ все слажено.
— Охъ, охъ, не могу… Бѣдный Мурочка! Мадемуазель… Скорѣе барину… Телефонируйте ему… Телефонируйте мужу, чтобъ онъ сейчасъ пріѣхалъ… Мамка замужъ выходитъ… — упрашивала бонну Екатерина Васильевна и отъ смѣха перешла къ рыданіямъ. — Къ маменькѣ, къ маменькѣ пошлите.
Бонна дала знать Колоярову по телефону на службу, что его зовутъ домой, что барыня захворала. Посланъ былъ Павелъ къ бабушкамъ Елизаветѣ Петровнѣ и Александрѣ Ивановнѣ.
Колояровъ явился домой черезъ полчаса встревоженный. Колоярова хотя и пришла въ себя, но лежала у себя въ спальной на постели. Она тотчасъ-же сообщила ему о мамкѣ.
— Я это зналъ… Я это предчувствовалъ… — сказалъ онъ взволнованнымъ голосомъ и чувствовалъ, что руки его дрожатъ. — Я предчувствовалъ… Но мнѣ казалось, что претендентъ на нее Павелъ!
— Базиль, что тутъ дѣлать? — спрашивала Колоярова мужа. — Возьмемъ другую кормилицу — перемѣна молока погубитъ Мурочку.
— Надо откупиться. Надо предложить извѣстную сумму швейцару, чтобы онъ не торопилъ свадьбой, а Еликанида докормитъ Мурочку.
— И слушать она, Базиль, не хочетъ. Вѣдь она какъ мнѣ заявила? Въ какихъ краскахъ? Она просится отпустить ее на свободу. Я ужъ пробовала говорить ей, но она отвѣтила мнѣ, что она хоть и въ золотой клѣткѣ теперь, но хочетъ изъ этой клѣтки вонъ. „Что мнѣ обѣщали, говоритъ, отдайте мнѣ только хоть половину изъ моего приданаго — я и тѣмъ буду довольна“.
— Уйдетъ — ничего не дадимъ. Имѣемъ полное право… У насъ условіе было. Такъ и швейцару надо сказать. Вѣдь онъ изъ корысти женится, вѣдь онъ на ея добро зарится… на бѣлье, наряды, перину, подушки, которые ей обѣщаны послѣ выкормки ребенка. А тутъ, кромѣ того, ему отступное на три-четыре мѣсяца. Я вызову его и переговорю…
— Но вѣдь у мамки тогда молоко испортится, потому что она будетъ плакать, ревѣть, неистовствовать, — замѣтила Колоярова. — Ты подумай объ этомъ, Базиль.
— Ну, онъ ее какъ-нибудь успокоитъ. Мы можемъ допустить ихъ свиданія при третьихъ лицахъ. Это, конечно, въ крайнемъ случаѣ.
— Господи! Вѣдь еще только три мѣсяца и кормить-то Мурочку грудью.
Колоярова заплакала.
— Катишь, успокойся. Брось… Вѣдь мы еще ничего не слышали отъ самого швейцара, — говорилъ женѣ Колояровъ. — Я вызову его и переговорю съ нимъ. Можетъ быть, это только вспышка, минутная вспышка съ ея и его стороны. А онъ пожилой, разсудительный человѣкъ.
— Понимаешь ты, мнѣ кажется, тутъ больше она, она… Она свободы хочетъ.
Вскорѣ пріѣхали бабушки Александра Ивановна и Елизавета Петровна. Начались охи, вздохи. Старушки стали уговаривать мамку докормить ребенка, а ужъ потомъ выходить замужъ, но мамка была непреклонна.
Колояровъ послалъ за швейцаромъ.
XII
Швейцаръ Киндей Захаровъ явился къ Колоярову не вдругъ. Ему нужно было замѣнить себя на лѣстницѣ дворникомъ, что онъ и сдѣлалъ. Лакей Павелъ, передававшій ему приказаніе Колоярова, сообщилъ причину, по которой его зовутъ, но сообщилъ не безъ язвины, такъ какъ ему самому нравилась мамка Еликанида и онъ давно точилъ на нее зубы.
— Мамку нашу задумалъ ты сманивать — ну, вотъ теперь и ступай къ нему, — сказалъ Павелъ. — Ступай. Онъ тебѣ ижицу-то пропишетъ. Покажетъ онъ тебѣ, какъ изъ генеральскаго дома мамокъ сманивать.
— Ничего не покажетъ. Не имѣетъ онъ права. Какое у него такое собственное право? Нешто Еликанида крѣпостная? — отвѣчалъ швейцаръ. — А что онъ генералъ, такъ онъ генералъ штатскій, а намъ теперь, когда мы въ отставкѣ, и военные генералы не страшны.
— А вотъ увидишь, что притянетъ на цугундеръ. Пожилой ты человѣкъ, солидный и вдругъ эдакую коварную интригу противъ глупой бабенки.
— Какую такую интригу? Я законъ принять хочу. Да и сама она ко мнѣ склонна.
— Ну, мое дѣло сказать… Поговоришь съ бариномъ, поймешь, что не видать тебѣ Еликаниды какъ своихъ ушей, — подмигнулъ лакей швейцару и побѣжалъ наверхъ.
Черезъ полчаса швейцаръ Киндей Захаровъ стоялъ передъ Колояровымъ въ кабинетѣ, вытянувъ руки по швамъ. Присутствовать при переговорахъ со швейцаромъ очень хотѣла Екатерина Васильевна, а также двѣ бабушки, но Колояровъ этого не допустилъ, сказавъ имъ:
— Нельзя на него нападать нѣсколькимъ лицамъ сразу. Да тутъ нападки и угрозы ни къ чему не приведутъ. Нужны дипломатическіе переговоры и нѣкоторая хитрость.
Бабушки, однако, тотчасъ же подскочили къ дверямъ кабинета, какъ только вошелъ туда швейцаръ, и стали подслушивать разговоръ.
Колояровъ началъ мягко, не волнуясь, и покуривая сигару.
— Ты что-же это, любезный другъ, дѣлаешь? Сманиваешь мамку-кормилицу изъ порядочнаго дома, пока она еще, по условію, не докормила ребенка. Развѣ такъ хорошіе слуги поступаютъ! — сказалъ онъ.
— Не я ее, ваше превосходительство, сманиваю, а сама она, — отвѣчалъ швейцаръ.
— Что сама! Однако, ты, ты къ ней присватался.
— Законъ хочу принять, ваше превосходительство.
— Законъ. Ты принимай законъ тогда, когда она ребенка откормитъ, — продолжалъ Колояровъ.
— Мясоѣдъ коротокъ, ваше превосходительство. Еще недѣля — и постъ, вѣнчать не станутъ.
— Да я тебѣ даже и не о дняхъ говорю, а о четырехъ, пяти мѣсяцахъ.
— Долго ждать, ваше превосходительство. Раздуматься можно. Или она раздумается, или я, а ужъ лучше сразу… Окличка — да и становись подъ вѣнецъ.
— А отдумать придется, такъ это даже и лучше.
— Безъ бабы скучно, ваше превосходительство. Я человѣкъ вдовый, овдовѣлъ недавно… Хозяйство есть… мебель, посуда… послѣ жены покойницы бѣличій салопъ… перина, подушки… и все эдакое…
— Ты знаешь, она тебѣ даже и не пара. Ты пожилой человѣкъ, солидный, а она молодая, вертлявая…
— Учить будемъ, ваше превосходительство, а учить молодую лучше, она понятливѣе.
— А что если-бы мы тебя попросили подождать жениться на Еликанидѣ? — задалъ вопросъ Колояровъ. — Подождать, пока она ребенка грудью откормитъ.
— Долго ждать, ваше превосходительство. Тосковать будемъ, — далъ отвѣтъ швейцаръ. — У насъ ужъ сговорено.
— Удивляюсь, когда это вы могли успѣть при такомъ присмотрѣ! — пожалъ плечами Колояровъ.
Швейцаръ улыбнулся, повелъ усами, въ которыхъ ужъ проглядывала сѣдина, и сказалъ:
— Перемигнулись… перешепнулись — и готово. Мнѣ дворничиха сватала, ваше превосходительство.
„Дворничиха? Все противъ насъ. Но когда Еликанида могла видаться съ дворничихой, если дворницкая была для нея запретнымъ плодомъ?“ — подумалъ онъ и спросилъ швейцара:
— А что если я тебѣ предложу за подожданіе, пока Еликанида откормитъ ребенка, пятьдесятъ рублей?
— Невозможно этому быть, ваше превосходительство. Она-то ужъ очень извелась въ неволѣ. Тосковать будетъ. И такъ ужъ красота-то линять начала.
— Не замѣчаю… И никто не замѣчалъ, — проговорилъ Колояровъ.
— Позвольте… Вчера вдругъ такія слова: „бери говоритъ, меня скорѣй, а то мнѣ впору сбѣжать куда-нибудь“.
— Такъ какая-же это любовь, если она даже куда-нибудь сбѣжать хочетъ?
— Такъ точно, ваше превосходительство. Перевѣнчаться скорѣй надо.
— Не сбѣжитъ. Да у насъ теперь и караулъ хорошій, — уговаривалъ швейцара Колояровъ и прибавилъ:- Ну, а что если я тебѣ дамъ семьдесятъ пять рублей?
— Баба-то ужъ совсѣмъ дороже денегъ, ваше превосходительство!
Швейцаръ осклабился и тяжело вздохнулъ.
— Ну, сто? — возвысилъ голосъ Колояровъ и поднялся въ волненіи со стула. — Сообрази. Вѣдь это для васъ капиталъ. А ждать всего только четыре мѣсяца. Я всего за четыре мѣсяца теперь прошу. Кромѣ того, ты долженъ принять въ разсчетъ то, что она, откормивши ребенка, получитъ все то, что теперь сдѣлано ей по части нарядовъ. Бѣлье, кровать, тюфякъ, подушки. А покинетъ ребенка не докормивши, мы ей ничего не отдадимъ, кромѣ зажитаго ею жалованья по разсчету. Подумай…
Швейцаръ задумался и вопросительно смотрѣлъ въ темный уголъ. Колояровъ молча дымилъ сигарой, пристально смотря на него. Наконецъ, швейцаръ произнесъ:
— Конечно, разсчетъ большой… А съ другой стороны и ждать тяжко… Души этой самой въ ней, ваше превосходительство, и красоты до безконечности…
— Что? — спросилъ Колояровъ, не понявъ.
— Аховая уже очень изъ лица, — пояснилъ швейцаръ. — Опять-же и тѣлесность… А я человѣкъ вдовый… Впрочемъ, дозвольте, ваше превосходительство, съ ней пошептаться.
— Нѣтъ, нѣтъ! Пока она у насъ — вы разъединены! — воскликнулъ Колояровъ. — Рѣшай одинъ.
Швейцаръ сдѣлалъ паузу. Онъ соображалъ, переминался съ ноги на ногу и, наконецъ, произнесъ:
— Да вѣдь вамъ, ваше превосходительство, только-бы докормить ребенка?
— Конечно! Всего четыре мѣсяца… — радостно сказалъ Колояровъ, думая, что уже швейцаръ соглашается.
— Такъ вотъ, извольте видѣть, это можно такъ сдѣлать.
— Ну?!
— Вѣдь перевѣнчавшись-то она со мной жить будетъ внизу, у меня въ каморкѣ. Я про Еликаниду. Такъ когда требуется ребеночка покормить, она къ вамъ наверхъ прибѣгать будетъ, — предложилъ швейцаръ, — А при ребеночкѣ нянька взамѣсто ея.
Колояровъ побагровѣлъ.
— Да ты никакъ съ ума сошелъ! Съ ума сошелъ или дурака строишь! — закричалъ онъ. — Какое-же это будетъ молоко у ней, если она съ тобой жить будетъ? Уморить ты ребенка хочешь? Уморить? Пошелъ вонъ! Я съ тобой, какъ съ хорошимъ честнымъ человѣкомъ разговариваю, а ты эдакія слова… вонъ!
Швейцаръ опѣшилъ.
— Виноватъ, ваше превосходительство… Что-же я сказалъ?.. Я отъ чистаго сердца… — проговорилъ онъ.
— Дуракъ… совсѣмъ дуракъ… Неотесъ… А еще въ гвардіи служилъ, — продолжалъ Колояровъ. — Уходи, уходи… Я вижу, съ тобой нельзя разговаривать, какъ съ порядочнымъ человѣкомъ.
— Виноватъ, ваше превосходительство, простите… Но я не зналъ… — бормоталъ швейцаръ.
Швейцаръ обернулся по военному и вышелъ изъ кабинета.
XIII
Колояровъ перешелъ изъ кабинета къ женѣ въ спальню. Тамъ уже сидѣли двѣ бабушки и наперерывъ передавали ей все, что слышали онѣ, подслушивая у двери кабинета. Жена была въ ужасѣ.
— Никакія увѣщанія не подѣйствовали, — сообщилъ онъ женѣ о швейцарѣ. — Я сулилъ ему сто рублей — онъ остался непреклоненъ. И представь себѣ, что онъ мнѣ предложилъ!
— Я все слышала около двери, все ужъ передала твоей женѣ,- перебила Колоярова мать его.
— И я слышала. Я чуть въ обморокъ не упала при его словахъ, — заявила мать Колояровой. — Онъ будетъ отпускать Еликаниду кормить ребенка, когда ужъ она будетъ жить у него въ швейцарской! Вы не можете его привлечь за эти слова къ суду по какой-нибудь статьѣ? — спросила она зятя. — Вы юристъ.
— Да, но къ сожалѣнію такой статьи нѣтъ.
— Что-же намъ дѣлать теперь, Базиль? — воскликнула почти въ отчаяніи Екатерина Васильевна.
— Послать за докторомъ Федоромъ Богданычемъ и просить подыскать намъ новую мамку, мамку съ молокомъ, соотвѣтственнымъ возрасту Мурочки. А Еликаниду выгнать вонъ, выгнать съ позоромъ.
— Непремѣнно съ позоромъ! — подхватила бабушка Александра Ивановна. — Надо сдѣлать такъ, чтобы она чувствовала. Прогнать въ примѣръ прочимъ.
— Но, Бога ради, говорите тише! — перебила ихъ Екатерина Васильевна. — Нельзя раздражать Еликаниду. Иначе она, узнавъ объ этомъ, Богъ знаетъ, что можетъ сдѣлать ребенку. И наконецъ, мнѣ кажется, надо теперь попробовать еще разъ уговорить Еликаниду остаться.
— Да вѣдь ужъ пробовали. Она-то тутъ главнымъ образомъ и егозитъ, — сказалъ Колояровъ.
— Ты ей еще не предлагалъ, Базиль, сто рублей. Предложи ей больше.
— Безполезно. А впрочемъ, чтобы тебя утѣшить — изволь.
Вся компанія тотчасъ-же отправилась въ дѣтскую.
Еликанида сидѣла у себя на постели и кормила ребенка грудью. Она виновато потупилась при входѣ въ дѣтскую четырехъ лицъ. Она ужъ ждала нагоняя. Супруги Колояровы и бабушки важно разсѣлись на стульяхъ. Екатерина Васильевна дернула мужа за рукавъ и шепнула ему:
— Ты помягче. Ты не раздражай ее. Она грудью кормитъ.
Колояровъ началъ:
— Мы пришли сюда съ послѣднимъ увѣщаніемъ къ тебѣ, Еликанида. Прямо съ родительскимъ увѣщаніемъ… Ты молода, не опытна и, прости меня, глупа…
— Я дура, баринъ, совсѣмъ дура, я это знаю, но что подѣлаешь, коли ужъ такая судьба пришла, — проговорила Еликанида, не поднимая глазъ.
— А дура, такъ должна слушаться старшихъ и умныхъ людей. Здѣсь есть лица, которыя могутъ годиться тебѣ въ матери — вотъ, напримѣръ, моя мать и мать жены моей…
— На этомъ очень мы вами, баринъ, благодарны, даже очень благодарны, но ужъ свадьба…
Колояровъ переглянулся съ женой и подмигнулъ ей: дескать — видишь? и продолжалъ:
— Ты когда хочешь уходить отъ насъ?
— Ахъ, баринъ, чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Вѣдь вѣнчаться надо. Мясоѣдъ нониче короткій.
— Но, однако, черезъ сколько дней?
— Да денька черезъ три ужъ извольте. Я за это, баринъ, вамъ въ ножки поклонюсь. Очень ужъ нудно мнѣ жить у васъ, коли такое я дѣло задумала. Сама-то я здѣсь, у васъ, а сердце-то мое тамъ, внизу у Киндея Захарыча.
— Послушай… Вѣдь это-же не любовь… Онъ тебѣ не пара. Онъ въ отцы тебѣ годится.
— Законъ, баринъ, законъ. Говорила-же я вамъ, что вѣнчаться будемъ.
— Но чтобы тебѣ отложить вѣнчанье мѣсяца на четыре, пока не откормишь Мурочку?
Еликанида подняла глаза.
— Охъ, нѣтъ, баринъ! Я зачахну… Гдѣ тутъ четыре мѣсяца! Ужъ задумали, такъ окрутиться надо, — сказала она. — Окрутиться и за хозяйство приняться.
— Но за отсрочку мы можемъ предложить тебѣ сто рублей. Подумай… Вѣдь это выгодно. Сто…
Колояровъ поднялся со стула и сталъ ходить по дѣтской, косясь на мамку.
Мамка отвѣчала:
— Охъ, баринъ! И сто рублей хороши, да Киндей-то Захарычъ дорогъ.
Киндей Захарычъ отъ тебя не уйдетъ. Ты съ нимъ обнимешься черезъ четыре мѣсяца, — пояснила ей бабушка Александра Ивановна.
— Какъ сказать, барыня? Домъ большой, женской прислуги много… на нашей лѣстницѣ десять квартиръ. А швейцарихой каждой быть лестно.
— Мы тебѣ, Еликанида, дадимъ даже сто двадцать пять рублей, если ты согласишься. Пожалѣй Мурочку, — проговорила Екатерина Васильевна.
— Ахъ, барыня милая! Да вѣдь нашей сестры-кормилицы хоть прудъ пруди, всегда ихъ можно найти въ богатый домъ, сколько хочешь, а другого-то жениха скоро-ли сыщешь, если Киндей Захарычъ отвернется, — стояла на своемъ мамка. — Онъ человѣкъ не пьющій, у него триста рублей есть принакоплено. Вы меня, барыня, пожалѣйте.
— Ну, больше нечего разговаривать, — сказалъ Колояровъ, выходя изъ дѣтской.
За нимъ слѣдовали жена и бабушки.
— Они сговорившись. Это ясно. То-есть мамка и швейцаръ, — бормотала упавшимъ голосомъ бабушка Александра Ивановна.
— Сомнѣнія нѣтъ, — поддакнулъ Колояровъ. — Но гдѣ и какъ они могли видѣться, чтобъ сговариваться!
— Ахъ, другъ мой, у васъ въ домѣ все продажно, все, все… — заключила мать жены.
— Надо новую мамку. Надо обратиться къ Федору Богданычу, — говорила чуть не плача Колоярова. — Ахъ, несчастный Мурочка! Перемѣна молока неминуемо отразится на его здоровьѣ.
— Полно, Катенька, успокойся, — утѣшала ее мать. — У другихъ-то дѣтей мамки по четыре, по пяти разъ мѣняются, да смотри-ка, какія здоровыя дѣти выкармливаются!
— Ахъ, нѣтъ, нѣтъ! Это для меня ударъ… настоящій ударъ. Нервы… мигрень… Я себя чувствую совсѣмъ разстроенною… Я еле брожу… — бормотала Колоярова. — Я угнетена, я больна… Хочется сердце сорвать на этой противной Еликанидѣ — и не могу, боюсь, какъ-бы не повредить ребенку. Разревется и все это отразится на бѣдномъ Мурочкѣ. Вѣдь и у нея проклятые нервы — нужды нѣтъ, что она простая деревенская дура.
— Перемѣнимъ мамку. Больше дѣлать нечего… Все исчерпано, завтра я поѣду къ Федору Богданычу и буду просить его выбрать намъ новую мамку, — рѣшилъ Колояровъ.
— Ты, Базиль, попроси Федора Богданыча, чтобы онъ не очень на красоту-то кормилицы налегалъ, — говорила сыну Александра Ивановна. — Довольно ужъ намъ этой красоты. Показала она себя. Только-бы была здоровая и молочная, а красоты не надо. Такъ ты и скажи.
— Хорошо, хорошо. Теперь ужъ самъ вижу, что красота, кромѣ вреда, ничего не приноситъ.
На другой день Колояровъ поѣхалъ къ доктору Федору Богдановичу.
XIV
Колояровъ зналъ, что доктора Федора Богдановича Кальта застать дома можно было отъ часу дня до двухъ часовъ, когда онъ принималъ на дому частныхъ больныхъ, или въ девять часовъ утра, сейчасъ послѣ того, какъ онъ всталъ съ постели и пилъ свой кофе. Хоть и вполнѣ обрусѣвшій нѣмецъ, родившійся и воспитавшійся въ Россіи, Кальтъ былъ очень аккуратенъ. Ровно въ девять съ половиной часовъ утра онъ уходилъ въ больницу, гдѣ состоялъ старшимъ ординаторомъ, и ради моціона шелъ пѣшкомъ. Въ больницѣ онъ осматривалъ больныхъ, бесѣдовалъ съ младшими ординаторами, назначалъ лекарство, съѣдалъ въ конторѣ казенный завтракъ, въ большинствѣ случаевъ состоявшій изъ бифштекса или телячьей котлеты и, запивъ его чаемъ, въ первомъ часу дня возвращался также пѣшкомъ домой, гдѣ принималъ больныхъ, а послѣ двухъ часовъ уже дѣлалъ визиты, навѣщая своихъ паціентовъ, на своей лошади. Кальтъ былъ вдовецъ и хотя держалъ, кромѣ лакея, и кухарку, но обѣдалъ дома рѣдко, а все больше у знакомыхъ, которыхъ у него было множество, или въ клубѣ. Онъ былъ страстный любитель игры въ винтъ и почти каждый вечеръ игралъ гдѣ-нибудь въ карты. Жилось ему хорошо. Онъ былъ акушеръ, считалъ себя спеціалистомъ по женскимъ и дѣтскимъ болѣзнямъ, но не брезговалъ и другой практикой въ знакомыхъ семьяхъ.
Колояровъ, побывъ съ утра немного у себя въ департаментѣ и перелистовавъ въ кабинетѣ два-три дѣла, пріѣхалъ къ доктору Кальту во второмъ пасу дня. У подъѣзда Кальта уже стояла докторская лошадь, запряженная въ сани съ медвѣжьей полостью и съ кучеромъ на козлахъ, у котораго сзади, на поясницѣ, около кушака, были прикрѣплены часы.
„Дома еще Федоръ Богданычъ, не уѣхалъ“, — подумалъ Колояровъ, увидавъ докторскаго кучера, вошелъ въ подъѣздъ и сталъ взбираться по лѣстницѣ Какъ врачъ-практикъ, Кальтъ очень хорошо понималъ, что ради привлеченія къ себѣ амбулаторныхъ паціентовъ, ему не слѣдуетъ жить высоко, а потому квартира его была въ бель-этажѣ. Лѣстница была хорошая, отлогая, съ каминомъ и статуями. Квартира была меблирована роскошно. Кальтъ и тутъ понималъ, что роскошью квартиры онъ поднимаетъ себѣ цѣну.
— Есть кто-нибудь у доктора? — спросилъ Колояровъ пожилого лакея, который зналъ его.
— Одна дама въ кабинетѣ, а другая дожидается въ гостиной. Вѣдь уже кончаемъ.
— Мнѣ на пять-десять минутъ.
— Да васъ они могутъ и безъ очереди принять. Я доложу, — сказалъ лакей.
— Если только одна больная на очереди, то я подожду. Зачѣмъ-же перебивать.
И Колояровъ вошелъ въ гостиную. Гостиная была мягкая, шелковая, свѣжая. Двѣ-три хорошенькія картинки на стѣнѣ, масляный портретъ самого Кальта, старинные дорогіе бронзовые часы на каминѣ, шкафчикъ-буль съ парой дорогихъ вазъ, піанино, китайскія ширмочки, круглый столъ съ плюшевой салфеткой и на немъ альбомы и книги въ яркихъ сафьяновыхъ переплетахъ съ золотымъ тисненіемъ. Колоярову пришлось ждать не долго. Въ дверяхъ изъ кабинета въ гостиную показался Кальтъ въ вицмундирномъ фракѣ и съ орденомъ на шеѣ.
— А! Василій Михайлычъ! — сказалъ онъ, увидавъ Колоярова и подходя къ нему. — Что такое у васъ случилось? Супруга нездорова или ребенокъ?
— Все есть… — махнулъ рукой Колояровъ. — Принимайте, кто раньше меня пришелъ. Потомъ разскажу.
Кальтъ сдѣлалъ кивокъ сидѣвшей дамѣ съ подвязанной щекой и проговорилъ, указавъ на кабинетъ:
— Прошу, сударыня, пожаловать.
Принявъ даму и выпустивъ ее изъ кабинета черезъ другую дверь, выходящую въ прихожую, Кальтъ снова появился въ дверяхъ гостиной.
— Ну-съ, что у васъ такое приключилось, мой милѣйшій? — спросилъ онъ Колоярова, снова протягивая ему обѣ руки и, прибавивъ: „пойдемте въ кабинетъ“, ввелъ его къ себѣ.
Кабинетъ былъ зеленый сафьянный съ тяжелой рѣзной мебелью. На стѣнѣ двѣ картинки изъ античной жизни и прекрасная акварель дамы брюнетки, нѣсколько бронзовыхъ статуетокъ, англійскіе часы съ курантами на столѣ, заваленномъ книгами, два рѣзныхъ шкафа съ книгами, стеклянный шкафъ съ хирургическими инструментами, между которыми блестѣли двое акушерскихъ щипцовъ, десятичные вѣсы для взвѣшиванія больныхъ, акушерское кресло, большая отоманка, а посреди всего этого громадный письменный столъ.
Колояровъ и Кальтъ сѣли у письменнаго стола. Кальтъ раскрылъ передъ нимъ свой серебряный портсигаръ и предложилъ курить.
— Ужасное происшествіе, Федоръ Богданычъ, — началъ Колояровъ. — Происшествіе, выходящее изъ ряда вонъ.
— Кормилица сбѣжала? — задалъ вопросъ докторъ и улыбнулся.
— Не сбѣжала еще, но уходитъ. Больше трехъ дней не хочетъ оставаться. Она выходитъ замужъ за нашего швейцара. Мы уговаривали ее остаться, сулили деньги, но ничего не помогло. Не знаемъ, какъ теперь и быть. Жена въ отчаяніи. Обращаемся къ вамъ.
— Найдемъ другую кормилицу, сегодня-же найдемъ и предоставимъ вамъ, — сказалъ докторъ.
— Но вѣдь это должно повліять на здоровье нашего сына…
Колояровъ былъ удрученъ.
— Пустяки, — сказалъ докторъ. — Мы подгонимъ съ соотвѣтствующимъ ему молокомъ кормилицу. А вы вотъ выслушайте лучше, какую я вчера игру проигралъ въ клубѣ. Большой шлемъ, батенька, и безъ трехъ…
— Жена до того разстроилась, что даже сама захворала, — продолжалъ Колояровъ, не слушая его.
— А я давно ей брома не прописывалъ. Заѣду и пропишу. Но вы выслушайте… Пришла ко мнѣ карта — тузъ, король, дама, валетъ, тройка червей…
— Если-бы вы могли намъ, Федоръ Богданычъ сегодня или завтра предоставить мамку. За свою кормилицу мы дрожимъ каждый часъ. Поведеніе ея ужасно. Она бѣгаетъ на свиданіе.
— Сегодня вечеромъ у васъ можетъ быть кормилица. Ну-съ, въ прикупкѣ у меня король и дама пикъ. Тузъ съ восьмеркой были на рукахъ.
— Жена голову потеряла… Нервы расшатаны… — не унимался Колояровъ.
— Бромцу, бромцу двѣ баночки… Я заѣду. Образовалась изумительная игра. Не нашъ ходъ… Я объявилъ игру…
— Не можете-ли вы сегодня, Федоръ Богданычъ, пріѣхать къ намъ обѣдать?
— Отчего-же нѣтъ? Съ удовольствіемъ. Сегодня я никуда… Хотѣлъ ѣхать въ клубъ. Повинтимъ у васъ.
— Очень обяжете. Угощу васъ охотницкимъ блюдомъ… особеннымъ. Я заказалъ повару бѣлозерскіе снятки подъ легонькой бешемелью.
— Прекрасная вещь. Но выслушайте, какъ кончилась игра-то.
— Я слушаю, Федоръ Богданычъ… Только Федоръ Богданычъ, мы рѣшили просить васъ на этотъ разъ не выбирать намъ красивую мамку… Богъ съ ними, съ этими красивыми… Одни только грѣхи…
— Вы даже сами можете выбрать себѣ мамку. Поѣдемте сейчасъ со мной къ моей акушеркѣ… Тамъ цѣлый разсадникъ мамокъ… Я ихъ осмотрю, отберу подходящихъ, а вы выбирайте. Это недалеко. Имѣете на это время?
— Ахъ, Федоръ Богданычъ, хоть-бы и не имѣлъ, такъ для такого дѣла надо все бросить.
— Такъ ѣдемте сейчасъ. У меня лошадь давно готова. А игру я вамъ сейчасъ разскажу. Такую игру надо занести въ исторію. У васъ будетъ сегодня кто-нибудь къ обѣду?
Докторъ поднялся, взялъ шапку и позвонилъ.
— Дядя-генералъ хотѣлъ пріѣхать, — отвѣчалъ Колояровъ, тоже поднимаясь и направляясь вмѣстѣ съ докторомъ въ прихожую.
— Нѣтъ, я къ тому, что не особенно долюбливаю я съ дамами играть, — продолжалъ докторъ, одѣваясь въ прихожей. — Прошлый разъ ваша теща… Вѣдь она рѣжетъ вмѣсто того, чтобъ помогать.
— Я самъ не долюбливаю играть съ дамами, — отвѣчалъ Колояровъ, выскакивая на лѣстницу. — Я, вы, дядя-генералъ. За четвертымъ партнеромъ можно послѣ обѣда послать. Братъ жены.
— Ну, вотъ такъ лучше. А то съ дамами — извините. Вѣдь это называется — лапти плесть. Такъ вотъ игра-то… Не нашъ ходъ!.. Казалось, что всѣ пріемы у насъ… — повѣствовалъ докторъ, спускаясь съ лѣстницы.
— Мы, докторъ, при наймѣ кормилицы скупиться не будемъ, — перебилъ его Колояровъ. — Только-бы нашлась подходящая. Всѣ наряды нынѣшней мамки — ей. Нынѣшняя ничего не получитъ.
— И въ результатѣ — безъ трехъ, — закончилъ докторъ. — Каково вамъ это покажется? А на-дняхъ еще была игра…
Но тутъ доктору подали сани и пришлось садиться.
— Ахъ, у васъ тоже конь? — сказалъ докторъ, видя, что и къ Колоярову подъѣхалъ его кучеръ. — Ну-съ, тогда поѣзжайте сзади меня.
Они сѣли каждый въ свои сани и помчались къ акушеркѣ въ „пріютъ для кормилицъ“.
XV
Пріютъ для кормилицъ акушерки Чертыхаевой помѣщался въ одной изъ улицъ, прилегающихъ къ Литейному проспекту, въ большомъ каменномъ домѣ съ вывѣской пріюта на подъѣздѣ. Чертыхаева, кромѣ того, имѣла двѣ комнаты для такъ называемыхъ „секретныхъ родильницъ“.
Выйдя у подъѣзда изъ саней, докторъ Кальтъ и Колояровъ поднялись по лѣстницѣ въ третій этажъ. Швейцаръ внизу далъ уже звонокъ въ квартиру и передъ ними, когда они поднялись, стояла уже открытая дверь, отворенная горничной.
— Скажите Софьѣ Петровнѣ, что пріѣхалъ я. Пусть поскорѣе выйдетъ. Я тороплюсь, — сказалъ докторъ, сбрасывая на руки горничной верхнее платье. — А этотъ господинъ со мной. У васъ есть сегодня мамки? — спросилъ онъ.
— Только четыре пришли, Федоръ Богданычъ, — отвѣчала горничная, вѣшая пальто доктора и принимая шубу Колоярова.
Она впустила ихъ въ гостиную. Гостиная была приличная. Въ бронзовой клѣткѣ сидѣлъ попугай. На стѣнахъ висѣли олеографіи, фотографіи и литографіи.
— Ужасно любитъ пудриться передъ посѣтителями — вотъ отчего я тороплю, — замѣтилъ Колоярову докторъ. — Кокетство одолѣло. Хорошая, исполнительная акушерка, но на лицо три тона краски накладываетъ. А вторая игра была у меня также въ высшей степени интересная, — опять началъ разсказывать докторъ. — Было это на прошлой недѣлѣ у Елатьевыхъ. Я у нихъ годовымъ… Сдаютъ, какъ вамъ это ни странно покажется, восемь пикъ, отъ короля. Развертываю — все черныя карты. Я даже поразился…
Но тутъ показалась акушерка Чертыхаева, дама среднихъ лѣтъ, брюнетка, худощавая и дѣйствительно накрашенная. Она была въ черномъ шелковомъ платьѣ, съ золотыми браслетами на рукахъ и съ часами у пояса, спущенными на большой золотой цѣпочкѣ отъ брошки, застегнутой у самаго горла.
— Федоръ Богданычъ… — начала она, улыбаясь. — Горничная мнѣ говоритъ, а я и не вѣрю. Очень рада…
— За товаромъ пріѣхалъ. Есть товаръ? Вотъ это господинъ Колояровъ, и ему мамка-кормилица къ ребенку требуется, — заговорилъ докторъ. — А это вотъ сихъ дѣлъ поставщица Софья Петровна и великая хлопотунья по своей части.
— Ужъ вы, Федоръ Богданычъ, всегда меня расхваливаете, а я этого даже и не стою, — жеманилась акушерка.
Колояровъ подалъ акушеркѣ руку.
— Люблю, оттого и хвалю, — шутливо отвѣчалъ докторъ, сѣлъ къ столу и сталъ закуривать папиросу, предложивъ такую и Колоярову, усадивъ его противъ себя. — Ну-съ, хвастайте товаромъ. Софья Петровна.
— Сегодня только четыре пришли, но всѣ женщины здоровыя, не отощалыя.
— А намъ только одну надо.
— Прикажете ихъ позвать?
Акушерка сдѣлала движеніе.
— Постойте, постойте. Намъ новорода не надо, — остановилъ ее докторъ. — Намъ нуженъ особый товаръ. У нихъ кормилица уже мѣсяца четыре кормитъ ребенка, но по нѣкоторымъ обстоятельствамъ приходится съ ней разстаться.
— Шестой мѣсяцъ она кормитъ Мурочку, Федоръ Богданычъ, — поправилъ его Колояровъ.
— Будто ужъ шестой мѣсяцъ? А мнѣ казалось, что это такъ недавно, — удивился докторъ. — Ну, такъ вотъ шестой мѣсяцъ. Надо соотвѣтствующую сему и кормилицу.
— Такая именно и есть по пятому или шестому мѣсяцу съ молокомъ, — отвѣчала акушерка. — Двѣ даже такихъ. Одна въ воспитательномъ домѣ что-то не поладила, а у другой питомецъ умеръ.
— Нѣтъ, ужъ мы такую не возьмемъ, у которой питомецъ умеръ. Богъ съ ней, — тревожно заговорилъ Колояровъ. — Можетъ быть, какая-нибудь заразная болѣзнь.
— Нѣтъ, нѣтъ, пустое… Просто хилый ребенокъ… Застудили… Колотье… — отвѣчала акушерка. — Я узнавала… Будьте покойны… Да, наконецъ, вѣдь мы ее, послѣ того какъ вы выберете, вымоемъ въ банѣ. Такъ недавно родившихъ, Федоръ Богданычъ, вамъ не надо?
— Съ какой-же стати?! Я вамъ сказалъ, какой у насъ ребенокъ.
— Ну, такъ я сейчасъ этихъ и позову.
Акушерка направилась въ сосѣднюю комнату и вернулась оттуда съ двумя женщинами. Одна была небольшого роста, одѣтая какъ вообще одѣвается женская прислуга въ небогатыхъ домахъ, черноглазая, миловидная, очень молоденькая съ кудерьками на лбу, другая — деревенскаго типа, въ ситцевомъ платьѣ, лѣтъ на семь постарше первой, скуластая, широкоплечая. Онѣ вошли, встали протизъ доктора и Колоярова и потупились. Та, которая помоложе, крутила кончикъ бѣлаго коленкороваго передника со складками.
— У которой-же ребенокъ-то умеръ? — все еще тревожно спросилъ Колояровъ.
— У меня, баринъ. И такъ я любила ее, такъ любила! — отвѣчала молоденькая женщина, — Дѣвочка… да такая хорошенькая!.. но худенькая… Но вотъ не далъ Богъ вѣку…
— Что-жъ вы въ полъ-то смотрите! Глядите на доктора, глядите на барина. Такъ нельзя… Вѣдь васъ нанимать пришли. Нужно видѣть, кого берешь, — оборвала кормилицъ акушерка. — Да глядите повеселѣе.
Женщины подняли головы. Молоденькая даже улыбнулась.
— Молочность испытывали у нихъ? — спросилъ докторъ.
— Охъ, много! Въ особенности вотъ у этой… — кивнула акушерка на женщину, которая была постарше.
Докторъ поднялся, подошелъ къ кормилицамъ и сталъ смотрѣть у нихъ глаза, оттопыривъ у нихъ нижнія вѣка, сначала у одной, потомъ у другой.
— Разстегнитесь, — сказалъ онъ имъ и сталъ осматривать у нихъ грудь.
Акушерка сходила въ сосѣднюю комнату и принесла доктору чистое полотенце.
— Можетъ быть, выслушивать будете?
— Чего тутъ выслушивать! И такъ вижу, что легкія здоровѣе здоровыхъ. А вотъ когда мы остановимся на которой, то я ее тогда подробно осмотрю.
Въ это время изъ сосѣдней комнаты ворвалась въ гостиную шустрая бабенка въ красномъ клѣтчатомъ платкѣ на плечахъ, блондинка съ льняными волосами, и заговорила:
— Возьмите меня, господинъ хозяинъ, я вамъ въ лучшемъ видѣ потрафлю. Я у купцовъ жила, на ѣду не прихотлива и особыхъ нарядовъ мнѣ не надо.
— Ты зачѣмъ сюда? Кто тебѣ позволилъ? — крикнула на нее акушерка. — Тебя развѣ звали?
— Милая барышня, Софья Петровна, да я ужъ и такъ у васъ больше недѣли безъ прока сижу. Должна-же я, Софья Петровна… Сколькихъ вы поставили, а я все безъ мѣста.
— Не годишься ты къ этому ребенку… Понимаешь, не годишься. Ты только недѣля, какъ изъ родильнаго, а тутъ ребеночекъ полугодовалый. Уходи!
— Баринъ миленькій, грудей у меня хоть отбавляй!.. — вопила ворвавшаяся въ гостиную кормилица, но акушерка протолкала ее за дверь.
Двѣ женщины по прежнему стояли передъ докторомъ и Колояровымъ. Колояровъ разсматривалъ ихъ, вздѣвъ на носъ золотое пенснэ.
— Знаете, докторъ, если вы ничего не имѣете противъ, — шепнулъ онъ Кальту, — то я взялъ-бы правую кормилицу, то-есть скуластую. Во-первыхъ у нея не умиралъ ребенокъ, а во-вторыхъ, она и, изъ лица не казиста. Еликанида кормилица дала намъ такой опытъ, что я теперь боюсь взять въ кормилицы даже и миловидную женщину. Да и жена меня объ этомъ просила.
Докторъ оттопырилъ нижнюю губу, поправилъ очки и отвѣчалъ:
— Что-жъ, возьмите. Эти кормилицы будутъ обѣ молочны и обѣ подходящи для вашего ребенка. Рѣшайте, и тогда я сейчасъ подробно ее осмотрю.
— Такъ эту. Она погрубѣе будетъ и на нее, надѣюсь, никто ужъ не позарится. Какъ тебя звать, милая? — спросилъ Колояровъ скуластую женщину.
— Степанидой, баринъ.
Степаниду тотчасъ-же оставили одну, а другую женщину удалили.
Уходя, женщина воскликнула:
— Вѣдь вотъ счастье-же людямъ, прямо собачье счастье! Сегодня только въ пріютъ къ акушеркѣ записалась и ужъ мѣсто себѣ слопала, а я, несчастная, недѣлю здѣсь сижу.
XVI
Степанидѣ тотчасъ-же были объявлены Колояровымъ условія найма.
— Докормишь ребенка до конца, будешь къ нему внимательна, ласкова — и все наше бѣлье, которое мы тебѣ дадимъ, всѣ наряды кормилицы — все тебѣ пойдетъ, — сообщилъ ей Колояровъ.
— Съ удовольствіемъ, баринъ, съ удовольствіемъ. Я къ дѣтямъ ласкова, люблю дѣтей, — отвѣчала та.
— И тюфякъ тебѣ, и подушки тебѣ отдадимъ, будь только къ своимъ обязанностямъ исполнительна.
— О, онѣ эти правила всѣ знаютъ! — замѣтила акушерка. — Сюда и неученая-то придетъ, такъ сейчасъ-же научатъ. Здѣсь школа.
— Я, милая Софья Петровна, въ первый разъ по мѣстамъ, — отвѣчала Степанида и тутъ-же спросила Колоярова: — А сапоги и калоши, баринъ, тоже, на вашъ счетъ?
— Я не знаю, какъ у насъ теперешняя мамка живетъ. Жена это знаетъ. Но хорошо, пусть будутъ и сапоги съ калошами наши. Только долженъ предупредить, что вѣдь со двора мы тебя одну отпускать не будемъ.
— Ой, баринъ! Такъ какъ-же тогда?
— А ужъ тамъ какъ знаешь! Гулять мы тебя будемъ пускать, но въ сопровожденіи бонны или горничной.
— Баринъ, ваше благородіе! — вырвалось у Степаниды, и лицо ея омрачилось.
— Да вѣдь ужъ это порядокъ извѣстный для тѣхъ, кто въ мамки поступаетъ, — замѣтила ей акушерка.
— А какъ-же ребеночка-то моего мнѣ навѣстить? Вѣдь онъ у меня теперь у квартирной хозяйки.
— Ребеночка должна въ воспитательный отдать! Отдашь и получишь билетъ. Откормишь господскаго ребенка и возьмешь своего, — вразумляла ее акушерка и прибавила:- Да чего притворяешься-то! Ты вѣдь все это лучше насъ знаешь. Ты вѣдь въ кормилицахъ жила въ воспитательномъ.
— Жила, жила, но изъ-за того и ушла, что тамъ воли мало, да и жалованье пустое. Опять-же трехъ кормишь. Свой и два чужихъ ребенка на груди.
— Ты что: замужняя или дѣвица? — поинтересовался Колояровъ.
— Дѣвушка, — отвѣчала Степанида и потупилась. — Гдѣ замужней быть!
— Замужняя большая рѣдкость, — вставила свое слово акушерка. — Онѣ не идутъ въ кормилицы. Да и бракуютъ ихъ. Вѣдь мужъ своими посѣщеніями надоѣстъ. А не пустить нельзя — мужъ.
— Нѣтъ, нѣтъ! чтобъ никакихъ посѣщеній! — воскликнулъ Колояровъ. — Такъ вотъ думай, Степанида, а нѣтъ, такъ мы съ другой уговоримся.
— Нѣтъ, зачѣмъ-же… Я согласна буду. А только кто-же за ребеночка моего въ воспитательный платить будетъ?
— Конечно-же, ты… — быстро отвѣчала ей акушерка. — Ты это должна дѣлать изъ своего жалованья.
— Да велико-ли жалованье, барыня Софья Петровна!
— Ахъ, ты неблагодарная! Да такого жалованья иной писарь-чиновникъ не получаетъ. Зачѣмъ-же ты въ пріютъ записалась? Зачѣмъ-же ты въ кормилицы идешь, если недовольна? — упрекнула Степаниду акушерка.
— Да я довольна, а только вонъ у генеральши одной моя землячка жила, такъ тамъ и за ребеночка ейнаго въ воспитательный платили. За четырнадцать мѣсяцевъ платили, а я-то вѣдь иду на мѣсто на сколько? Ребеночекъ-то господскій вѣдь ужъ подросши.
— На пять-шесть мѣсяцевъ ты поступаешь въ кормилицы къ намъ, — сказалъ Колояровъ и тутъ-же прибавилъ: — Ну, хорошо, хорошо. Я и за ребенка твоего заплачу въ воспитательный, будь только довольна нашими порядками. Недовольство портитъ молоко.
— Много вамъ благодарны, баринъ. Спасибо вамъ. Мерси.
Степанида въ поясъ кланялась Колоярову.
— Напрасно… Балуете вы ее… — шепнула ему акушерка.
— Ну, да ужъ пусть только не жалуется, пусть будетъ привязана къ ребенку и нашему дому, — пробормоталъ Колояровъ. — Я дамъ вамъ деньги, сколько нужно въ воспитательный. Распорядитесь пожалуйста. А когда вы можете ее привезти къ намъ?
— Да пожалуй даже сегодня вечеромъ. Федоръ Богданычъ осмотритъ ее, потомъ я пошлю ее съ дѣвушкой въ баню, а затѣмъ къ вамъ… — дала отвѣтъ акушерка.
— Милая Софья Петровна! — воскликнула Степанида. — Какъ-же сегодня-то? Дайте мнѣ отгуляться малость передъ мѣстомъ, дайте ребеночка моего навѣстить.
— Ребенка ты принесешь сегодня ко мнѣ, завтра я его отправлю въ воспитательный подъ квитанцію, а отгуляться тебѣ не полагается! — строго сказала ей акушерка. — Что ты съ ума сошла, что-ли? Отгуляться…
— Да ужъ пожалуйста, Софья Петровна, послѣдите за ней… и прямо къ намъ… — испуганно проговорилъ Колояровъ и, вставъ съ кресла, обѣими руками пожалъ обѣ руки акушерки.
— Ну-съ, для порядка и успокоенія васъ, я ее все-таки поосновательнѣе осмотрю… Пойдемте, Софья Петровна, — пригласилъ докторъ акашерку и удалился вмѣстѣ съ ней и съ Степанидой.
Колояровъ остался въ гостиной одинъ. Онъ курилъ, взялъ переплетенный экземпляръ „Нивы“, лежавшей на столѣ, и сталъ его перелистывать, разсматривая картинки. Вдругъ скрипнула дверь и на порогѣ ея показалась еще женщина — четвертая: крупная, дородная, чернобровая, молодая. Она была въ свѣтлосинемъ шерстяномъ платьѣ съ желтой отдѣлкой, безвкусномъ и неуклюже на ней сидѣвшемъ. Она улыбалась и произнесла:
— Баринъ, а баринъ! Меня-то вамъ и не показали, а я вотъ какая здоровая — посмотрите на меня. Вѣдь она, здѣшняя акушерка, кого первымъ показываетъ? Кто ей больше халтуры даетъ. Не вѣрите, баринъ? Право слово…
Колояровъ смотрѣлъ на нее и недоумѣвалъ. Наконецъ, онъ спросилъ:
— Вы тоже кормилица?
— Да, да… Тоже наниматься пришла и сижу здѣсь.
— Мы ужъ выбрали себѣ кормилицу.
— Степаниду? Да она, баринъ, вамъ не годится.
— Отчего? Что за вздоръ! Нашъ докторъ за нее ручается.
— Да докторъ не знаетъ, баринъ. И Софья Петровна тоже не знаетъ за ней этой прорухи.
— Что такое?
— Только Бога ради, баринъ, вы не говорите Софьѣ Петровнѣ, что я вамъ сказала.
— Да что такое? Говорите, пожалуйста.
— Выпить любитъ. Изъ-за этого-то, кажется, она и въ воспитательномъ не поладила.
Колоярова передернуло.
„А что если это правда?“ — подумалъ онъ и даже испугался, но сообразивъ, что тутъ можетъ быть и ложь изъ-за наискорѣйшаго полученія мѣста, сказалъ:
— Послушайте, мнѣ кажется, что вы клевещете.
— Зачѣмъ-же, баринъ, намъ клеветать? Она сама намъ разсказывала, что выпила она въ воспитательномъ — ну, изъ-за этого все и произошло. Возьмите, баринъ, меня въ кормилицы. Я два года тому назадъ уже кормила у господъ и знаю все, какъ и что… Меня учить не надо.
— Я взялъ… — растерянно произнесъ Колояровъ. — Мнѣ докторъ выбралъ. А если васъ намъ акушерка не показала, то, должно быть, вы не годитесь по своему молоку. Вы когда родили?
— Да ужъ недѣли двѣ съ половиной, баринъ, — отвѣчала женщина.
— Ну, вотъ видите. А у меня полугодовалый ребенокъ.
Въ сосѣдней комнатѣ раздались шаги. Женщина тотчасъ-же скрылась за дверью.
„Вретъ… Клевещетъ… Не можетъ быть, чтобъ эта Степанида, которую мы взяли, была пьющей… Не похожа она на пьющую. Да наконецъ, у насъ будетъ подъ присмотромъ. Гдѣ ей достать у насъ вина“! — успокаивалъ себя Колояровъ.
Показались докторъ Кальтъ и акушерка.
— Здоровѣе здоровой. Не ладно она скроена, но крѣпко сшита, — отрапортовалъ докторъ Колоярову про Степаниду. — Золото, а не кормилица.
Сходя съ лѣстницы вмѣстѣ съ Колояровымъ отъ акушерки, докторъ Кальтъ опять завелъ разговоръ о винтѣ.
— У меня есть маленькая статистика о моей игрѣ,- говорилъ онъ. — Играю я, какъ вы знаете, въ большинствѣ случаевъ по маленькой, но какая-бы игра ни была, въ четныя числа я почти всегда проигрываю, въ нечетныя — выигрываю. И даже тринадцатое число для меня счастливо.
Колояровъ не слушалъ его. Въ головѣ его сидѣла кормилица.
— А что, докторъ, мнѣ пришло въ голову… — началъ онъ уже совсѣмъ внизу, на подъѣздѣ. — Не пьетъ-ли эта кормилица, которую мы ваяли? Лицо у ней такое подозрительное, видъ такой.
— Никакихъ указаній нѣтъ, — отрицательно покапалъ головой докторъ. — И лицо ничего. Не красавица она, но лицо, какъ лицо. Нѣтъ, батенька, вы мнительны, очень мнительны.
Они стали садиться каждый въ свои сани.
— Такъ вы обѣдаете у насъ сегодня, Федоръ Богданычъ? — спросилъ Колояровъ.
— Обязательно. Составляйте партію. Навѣщу трехъ-четырехъ больныхъ и буду у васъ.
Колояровъ и докторъ поѣхали въ разныя стороны.
XVII
Колояровъ пріѣхалъ домой къ обѣду. Его уже ждали. Жена вышла въ прихожую. Она была взволнована.
— Что такое? Что съ тобой? — сносилъ онъ.
— Да все съ мамкой… Цѣлая исторія… — отвѣчала жена. — Представь себѣ, она опять къ швейцару бѣгала и просидѣла тамъ болѣе получаса. Я останавливала, но никакихъ средствъ… „Не смѣете, говоритъ, удерживать… я къ жениху“… А утромъ, пока мы спали, она, говорятъ, и сундукъ свой къ нему переправила. Наши люди помогали и перетаскивать.
— Успокойся, Катишь, — торжественно сказалъ Колояровъ, цѣлуя жену. — Новая кормилица нанята, и сегодня вечеромъ акушерка привезетъ ее къ намъ. Федоръ Богданычъ и я — мы вмѣстѣ выбирали. Федоръ Богданычъ пріѣдетъ къ намъ обѣдать.
— Да, но Еликанида-то… Вѣдь все-таки до вечера… Не лучше-ли Мурочку до пріѣзда новой кормилмицы на коровьемъ молокѣ продержать, на мукѣ Нестле, что-ли? Ты посмотри на Еликаниду. Я никогда не видѣла ее такой… Глаза блестятъ… рожа красная… Раньте была, какъ овечка, а теперь дерзничаетъ. „Не смѣете задерживать!“ Кольцо ужъ обручальное у ней на рукѣ появилось… Мнѣ кажется, она даже выпила тамъ у швейцара. Отъ нея пахнетъ. Александра Ивановна опрыскивала ее одеколономъ, но все-таки отъ нея отдаетъ. Да и кромѣ вина, новыми сапогами отдаетъ.
— Федоръ Богданычъ пріѣдетъ сейчасъ обѣдать и все рѣшитъ. А пока будь покойна.
Въ гостиной къ Колоярову вышли двѣ старушки-бабушки и засыпали его вопросами о новой мамкѣ.
— Молодая или пожилая? Какихъ лѣтъ? Надѣюсь, ужъ вы красивую не выбирали?
— Красота не принималась въ разсчетъ. Отыскивалось только здоровье и молочность, и Федоръ Богданычъ говоритъ, что она вполнѣ отвѣчаетъ всѣмъ требованіямъ, — сразу удовлетворилъ любопытству бабушекъ и жены Колояровъ. — Но она не уродъ. Такъ себѣ заурядная простая женщина и зовутъ ее Степанидой.
— Степанида и Еликанида! Какъ это пришлось въ риѳму, — сказала бабушка Колоярова.
— А подойдутъ-ли ей наряды Еликаниды? — спросила мать Колояровой, отличающаяся всегда разсчетливостью. — Какого она роста?
— Такого-же, какъ и Еликанида. Развѣ немножко побольше.
— Ну, это даже хорошо, потому Еликанидѣ всѣ сарафаны длинны.
Черезъ полчаса пріѣхалъ къ обѣду докторъ Федоръ Богданычъ. Онъ прочелъ молодой Колояровой цѣлую лекцію о томъ, что перемѣна молока, сдѣланная разъ или два, никогда не повліяетъ на здоровье ребенка, и успокоилъ ее.
Прислуга Колояровыхъ, слышавшая разговоръ о наймѣ новой мамки, тотчасъ-же сообщила Еликанидѣ. Та всполошилась и стала собираться уходить совсѣмъ. Она связала въ узелокъ остатки своего добра, переодѣлась въ свое бѣлье и ситцевое платье и приступила къ господамъ, чтобы тѣ ее отпустили изъ дома сейчасъ-же.
— Пожалуйте, баринъ, мнѣ разсчетъ и паспортъ. Я больше у васъ не могу оставаться. Я сейчасъ къ Киндею Захарычу пойду, — говорила она.
— То-есть какъ это сейчасъ? Не имѣешь права! — воскликнулъ Колояровъ. — Ты должна дождаться новой мамки. Вечеромъ привезутъ новую мамку, она приметъ ребенка, и ты уйдешь на всѣ четыре стороны.
— Не могу я, баринъ, ждать! Сегодня субботній день, и я Киндею Захарычу хоть полъ въ швейцарской къ завтрашнему воскресенью вымою.
— Нѣтъ, какова женщина! — проговорила съ дрожью въ голосѣ Екатерина Васильевна. — И это за всѣ наши попеченія о ней, за всю нашу доброту, за все, что мы дѣлали для нея! Нѣжили, холили…
— Барыня, да вѣдь это вы все для вашего ребенка, а не для меня. Нѣтъ, уже какъ хотите, а вы сейчасъ меня увольте. Я болѣе оставаться у васъ не могу.
— Должна оставаться, должна! Иначе я съ тобой по-свойски распоряжусь! — закричалъ на Еликаниду докторъ и стукнулъ кулакомъ по столу. — Маршъ въ дѣтскую! Отправляйся!
— А вы что на меня кричите? — огрызнулась на него Еликанида. — Не у васъ я служу, да и не крѣпостная ваша. Пожалуйста потише.
— Да она просто разбойница! — возмущалась бабушка Александра Ивановна. — Ее кто-нибудь научаетъ, кто-нибудь подзуживаетъ.
— Никто меня не научаетъ, я просто воли хочу. Изныла я съ вашимъ ребенкомъ, — не унималась Еликанида. — Такъ что-же, баринъ, пожалуйте мнѣ разсчетъ и паспортъ, — обратилась Еликанида снова къ Колоярову.
— Послѣ обѣда разсчетъ получишь. Теперь мнѣ некогда. Мы сейчасъ садимся обѣдать, — сказалъ ей Колояровъ. — Уходи.
— Ну, до послѣ обѣда я, пожалуй, согласна ждать. А только ужъ пожалуйста сейчасъ-же послѣ обѣда, потому у меня въ швейцарской у Киндея Захарыча и щелокъ для мытья пола кипитъ.
Еликанида повернулась и стала уходить задорной походкой.
Бабушка Александра Ивановна посмотрѣла ей вслѣдъ, покачала головой и сказала Колоярову:
— Отпусти ее, Базиль, выбрось ей паспортъ и деньги. Ну, ее… А то не натворила-бы она со злобы что-нибудь ребенку. Я Мурочку покараулю до новой кормилицы, покормлю его мукой Нестле на молочкѣ.
— Да, да, Базиль… Лучше отпустить, — заговорила Екатерина Васильева. — Я сама боюсь… Отпусти… Выбрось ей паспортъ и деньги сію минуту. Вѣдь за столъ еще не сейчасъ садиться. Дяди нѣтъ, дядя еще не пріѣхалъ.
— Какъ вы думаете, Федоръ Богданычъ? Отпустить? — спросилъ Колояровъ, взглянувъ на доктора.
— Да пожалуй… Гоните ее вонъ…
Еликанидѣ были отданы паспортъ и деньги, и она, не простившись съ хозяевами, не взглянувъ даже на ребенка, захвативъ свой узелокъ, тотчасъ-же убѣжала въ швейцарскую.
За обѣдомъ только и разговоровъ было, что о неблагодарности мамки Еликаниды. Припоминалось все ея ужасное поведеніе, разсказывались о ней анекдоты. Бонну фребеличку заставили повторить разсказъ, какъ Еликанида приглашала ее кататься по Невскому, какъ она во время прогулки заговаривала съ солдатами. Докторъ нѣсколько разъ пробовалъ свернуть разговоръ на винтъ, начиная разсказывать, какую одинъ разъ удалось ему выиграть игру, но тщетно, разсказы о Еликанидѣ опять возобновлялись. Бабушки охали и ужасались, называя ее нахалкой, безшабашной.
Александра Ивановна выскочила изъ-за обѣда, не досидѣвъ до конца, и побѣжала кормить ребенка.
Послѣ обѣда Екатерина Васильевна попросила доктора посмотрѣть Мурочку. Докторъ отправился въ дѣтскую, внимательно ощупалъ его, осмотрѣлъ его самого и его пеленки, поглядѣлъ въ ротъ, въ носъ и торжественно повторилъ любимую свою фразу:
— Здоровѣе здороваго.
Екатерина Васильевна засіяла.
Въ ожиданіи новой мамки, докторъ засѣлъ играть въ винтъ, на этотъ разъ уже въ исключительно мужской компаніи. Ему везло и онъ былъ веселъ. Играли съ прикупкой. Открывая прикупку и видя даму трефъ, которая пришлась ему къ масти, онъ назвалъ ее Степанидой.
— А вотъ и новая мамушка Степанида. Дай Богъ, чтобы она пришлась вамъ также къ масти, какъ мнѣ эта дама трефъ, — сказалъ онъ и объявилъ малый шлемъ.
Въ десять часовъ вечера акушерка привезла новую мамку-кормилицу Степаниду. Колояровъ выскочилъ изъ-за карточнаго стола встрѣчать ее. Мамку повели въ дѣтскую къ ребенку и заставили ее переодѣться во все чистое, хозяйское. Игроки сѣли кончать роберъ.
Черезъ десять минутъ Екатерина Васильевна прибѣжала изъ дѣтской къ карточному столу, вся сіяющая и радостно объявила играющимъ:
— Новая мамка Степанида кормитъ Мурочку. Базилъ, докторъ, подите и посмотрите, какъ она кормитъ.
Роберъ былъ конченъ. Колояровъ бросился въ дѣтскую, пошелъ неохотно отъ карточнаго стола и докторъ, а за нимъ и остальные два партнера.
Въ дѣтской сидѣла мамка Степанида и кормила грудью Мурочку.
Докторъ и Колояровъ съ партнерами минутъ пять смотрѣли на эту картину и затѣмъ отправились продолжать игру.
Екатерина Васильевна шепнула мужу:
— Ахъ, дай-то Богъ, что-бы эта Степанида удалась для насъ!
— Удастся. Это съ перваго раза видно. Женщина солидная. На эту никто не позарится. Не красавица, — шепнула въ свою очередь бабушка Александра Ивановна, выходя съ сыномъ въ гостиную.
А докторъ Федоръ Богданычъ Кальтъ ужъ сидѣлъ за столомъ и кричалъ Колоярову:
— Пожалуйте, пожалуйте! Не задерживайте! Вынимайте карту, гдѣ садиться!
1903

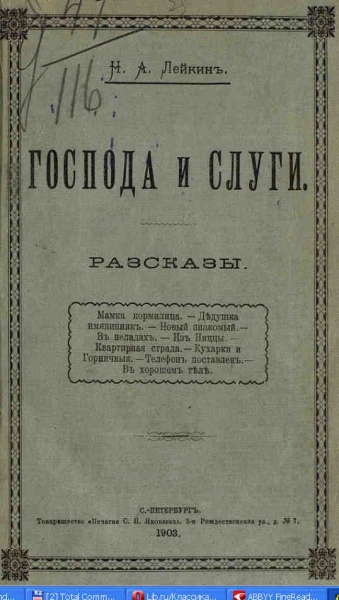



Комментарии к книге «Мамка-кормилица», Николай Александрович Лейкин
Всего 0 комментариев