Набоков Владимир Второе добавление к 'Дару'
"Второе добавление к "Дару"", самое большое из до сих пор неопубликованных художественных произведений Набокова, представляет собой своего рода отсроченный пролог к роману, который часто считают шедевром русской литературы двадцатого века.
Хотя Набоков ненавидел Гитлера и был женат на еврейке, от которой у него был сын, он провел тридцатые годы в Германии, среди последних осколков русского Берлина, и уехал во Францию — куда большинство эмигрантов перебралось уже более десяти лет назад — лишь в 1937 году: он настолько ушел в работу над «Даром», своим последним, самым большим и, быть может, самым лучшим русским романом, что просто не в силах был сдвинуться с места.
В некотором смысле «Дар» представляет собой панегирик русской эмиграции и тому, что сам Набоков и другие изгнанники потеряли, покинув родину. Но, с другой стороны, он принадлежит к европейской литературной традиции и намеренно бросает вызов "Портрету художника в юности" и «Улиссу» Джойса, а также "В поисках утраченного времени" Пруста.
"Дар" — это портрет молодого Федора Годунова-Чердынцева, который созревает как писатель в эмигрантском Берлине. Джойс в «Улиссе» иронически обыгрывает гомеровскую тему поиска отца сыном: Стивена и Блума не связывают ни кровные, ни духовные узы, а в ответ на предложение Блума поселиться у него в доме Стивен уходит в ночь. В «Даре» Федор неустанно ищет своего отца, князя Константина Годунова-Чердынцева, знаменитого лепидоптеролога и исследователя Средней Азии, не вернувшегося из своей последней экспедиции 1917 года, в которую сын просил взять его с собой.
Вторая из пяти длинных глав «Дара» рассказывает о попытке Федора написать биографию своего отца и вызвать к жизни очарование экспедиций за неизвестными науке бабочками. Сначала Федор кажется нам объективным свидетелем путешествия, затем — сыном, которому позволено сопровождать отца, а после этого — самим отцом, описывающим захватывающее дух странствие по незабываемо-странному раю, где он дает имена новым видам — если не на каждом шагу, то каждый раз, когда на глаза ему попадается бабочка, доселе неведомая науке. В каком-то смысле это личная компенсация Набокова за ту лепидоптерологическую экспедицию в Среднюю Азию, куда он, если б не помешала революция, отправился бы после окончания школы в 1918 году, возможно, вместе с великим русским натуралистом Г. Е. Грум-Гржимайло.
Несмотря на кропотливые разыскания, Федор отказывается от идеи написать жизнеописание отца, которая представляется ему "травлей мечты", и через несколько месяцев принимается за другую работу. Когда он писал незаконченную книгу об отце, то чувствовал, что в каком-то смысле его вдохновляет Пушкин, чистота пушкинской прозы, ясность пушкинской мысли. Теперь он неожиданно для самого себя пишет жестоко-критическое жизнеописание Чернышевского, любимого писателя Ленина, предвосхитившего в своем творчестве социалистический реализм, который был провозглашен официальной эстетикой сталинского Советского Союза именно в то время, когда Набоков приступил к «Дару». Федор издевается над эстетическими взглядами Чернышевского, над его непониманием искусства и Пушкина, но при этом восхищается тем мужеством, с которым тот противостоял царскому режиму, ответившему ему ссылкой в Сибирь. Жизнь Чернышевского на севере Средней Азии столь же бледна и пуста, сколь счастливыми и щедрыми были дни, проведенные чуть южнее от этих мест Константином Годуновым-Чердынцевым.
Если осуществленность, которую Федор пытался показать в жизнеописании отца, это — говоря языком Гегеля — тезис, еще не вполне заслуженный, а биография Чернышевского — антитезис, жизнь неосуществлений и разочарований, то рассказанная Федором история собственной жизни, сам роман «Дар», становится синтезом: он соединяет первоначальное раздражение героя эмигрантским бытием с ретроспективным осознанием того, что очевидные неудачи прошлого скрывали благой узор судьбы, которая подарила ему подлинную любовь, Зину Мерц, и позволила его искусству обрести полную зрелость. Перед самым завершением романа он видит жутковато-реальный, вещий сон о своем отце, который, как ему кажется, подает ему знак одобрения его работы и вручает ключи от щедрых даров судьбы. Как и прустовский Марсель, только намного острее, Федор чувствует, что он должен написать историю собственной жизни, понимая, что время отнюдь не утрачено.
Набоков писал «Дар» почти столько же времени, сколько он потратил на шесть предшествующих романов. Через несколько месяцев после его завершения он провел начало лета 1938 года вместе с женой и сыном во Французских Альпах — в местечке Мулине высоко в горах над Ментоной. Ривьера — особенно ее горные районы, расположенные далеко от прибрежной полосы, — тогда еще была недорогим курортом, но не только это привлекало Набокова: Мулине всегда считался среди лепидоптерологов богатым охотничьим заказником. С семилетнего возраста Набоков мечтал открыть новые виды бабочек, и именно здесь, 20 и 22 июля 1938 года, на высоте 4 000 футов он наконец поймал два экземпляра бабочки, которая, как он полагал, не была еще известна науке. Только после того, как в 1940 году он добрался до Нью-Йорка и, изучив книги и коллекции Музея естественной истории, окончательно убедился в этом, он смог опубликовать свое оригинальное описание этой бабочки, которую он назвал Lysandra cormion. Однако долгожданное открытие, сделанное в Мулине, заставило его вновь вернуться к героям «Дара» и к теме любви к бабочкам, которая объединяла Федора с его отцом. Весьма вероятно, что "Второе добавление к "Дару"" он написал весной 1939 года.
Планы продолжения «Дара», которые вынашивал Набоков, не осуществились из-за начала войны, натиска новых замыслов, отъезда в Америку и его решения оставить русский язык и начать карьеру англоязычного писателя. Поскольку заглавие "Второе добавление к "Дару"" было, очевидно, не более чем временной пометой, я предложил Дмитрию Набокову, готовившему перевод этого текста для первой публикации на английском языке, назвать его "Отцовские бабочки", ибо Федор отдает здесь дань любви отцу и его бабочкам. Это же можно сказать и о переводе Дмитрия Владимировича.
"Отцовские бабочки" — не столько повествование, сколько сложно построенное рассуждение вымышленных персонажей: словно прустовский Марсель взялся писать от лица Стивена Джея Гулда или, скорее, — учитывая тон эссе, — от лица Пола Дэвиса; или словно автором-рассказчиком набоковской «Ады», написавшим четвертую часть романа — "Текстуру времени", — был не философ Ван Вин, но его сестра-лепидоптеролог.
В первой половине "Отцовских бабочек" Федор оживляет в памяти волшебные воспоминания о том, как он любил бабочек в детстве и с каким пылом их изучал. Он размышляет о несовершенстве старинных Schmetterlingsbucher или атласов бабочек, среди которых, даже в великолепной отцовской библиотеке, он не мог найти адекватных описаний, пока в 1912 году не вышли первые тома труда Константина Кирилловича "Бабочки и мотыльки Российской империи". Подробно и восторженно описывая этот четырехтомный труд, сравнивая его с другими книгами, грешащими недостатками, Набоков воображает идеальный лепидоптерологический справочник, предвосхищая проект, за который он сам возьмется в 1960-е годы, — "Бабочки Европы". Даже преданный ему книгоиздатель, создавший международный консорциум для издания справочника, испугался, увидев, что Набоков все больше расширяет его рамки, стремясь превзойти по материалу и объему все существующие каталоги. В 1965 году, после двух лет работы, Набокову пришлось отказаться от своего проекта, поскольку вероятность опубликовать труд была крайне невелика. Что же касается Годунова-Чердынцева, то для него деньги не представляли никакой проблемы: отбор и подача материала в его четырех великолепных томах отличаются такой бескомпромиссностью, научной полнотой и богатством иллюстраций, о которых сам Набоков не мог и мечтать. Любовь, с которой набоковский герой рассказывает о трудах своего отца, напоминает волнующие описания воображаемых книг в новелле Борхеса "Тлён, Укбар, Орбис Терциус", с той лишь разницей, что набоковский мир является частью мира нашего, но такой его частью, где природа, наука и искусство сливаются воедино как никогда раньше.
Вторая половина "Отцовских бабочек" посвящена другому труду старшего Годунова-Чердынцева — его сжатому, тридцатистраничному эссе, в котором он обобщил свои мысли об эволюции и видообразовании бабочек. Оно было написано им накануне отъезда в роковую последнюю экспедицию, в порыве вдохновения, словно он знал, что у него не будет другого случая сохранить плоды всей своей напряженной умственной жизни.
В «Даре» Федор спорил с Чернышевским, утверждая, что искусство таинственным образом первично, что за реальностью жизни — "за всем этим, за игрой, за блеском, за жирным, зеленым гримом листвы" — кроется некая искусность. Это убеждение окрепло в нем отчасти под влиянием отца, особенно отцовского живого интереса к "магическим маскам мимикрии" (в 1950-е годы сам Набоков, задумав книгу о мимикрии животных и растений, будет строить планы столь грандиозные, что, как и в случае с "Бабочками Европы", они отпугнут издателя, который эту идею предложил). Константин Годунов высказывает смелые предположения о происхождении видов, принимая концепцию эволюции, но не соглашаясь с дарвиновской идеей естественного отбора.
Позднее, обсуждая трактат Ван Вина "Текстура времени" в «Аде», Набоков заметит, что он пока еще не решил для себя, согласен ли он со своим героем. То же самое он мог бы сказать о научном трактате Годунова-Чердынцева, задай ему кто-нибудь такой же вопрос в 1939 году. Однако в 1940 году Набоков начал свои лепидоптерологические исследования в американском Музее естественной истории, а в 1941 году — в Музее сравнительной зоологии в Гарварде и очень скоро стал специалистом по голубянкам. Изучая бабочек, он обнаружил, что природа еще более изощрена, чем он заставил думать своего героя. Его собственные научные работы, написанные в манере, далекой от умоисступления годуновского трактата, даже в конце 1990-х годов оцениваются специалистами как основополагающие исследования, опередившие свое время. Если бы Набоков провел несколько лет в лабораториях до 1939 года, он почти наверняка придал бы рассуждениям Годунова иной поворот. Однако в своем настоящем виде "Второе добавление к "Дару"" представляет собой наиболее поразительный пример страстного интереса Набокова к физическим деталям и метафизическим обобщениям, сочетания точности естественнонаучного наблюдения и мерцающих сверхъестественных смыслов.
Брайан Бойд
Перевод с английского Г. В. Лапиной
Пресловутые шметтерлингбухи[1], спутники моего детства, отводили главное место красочному tiers-etat[2] в государстве бабочек: популярным, сугубо среднеевропейским тирхенам[3]. Предназначенные как рядовому любителю, так и восторженному новичку (для которого высшее счастье поймать "мертвую голову"), эти крепкие атласы с грубыми лоснистыми таблицами и препошлые карманные определители, представляя из себя косную смесь предвзятости и устарелости, чуждались необычайностей: так, в наших школьных хрестоматиях можно было, пожалуй, найти тютчевскую «Грозу» (правда, без последней строфы), но, конечно, отсутствовало его же «мглисто-лилейное»[4].
Все, что водилось восточнее Венгрии, севернее Ютландии, южнее Пиреней, маленькими атласами игнорировалось (это было бы понятно, кабы они задавались целью заниматься только фауной Германии), а большими, т. е. теми, которым прямо полагалось рассматривать всю Европу, от Исландии до Баку, от Новой «Земблы»[5] до Гибралтара, — если и упоминалось, то кое-как, не вполне и неточно, к тому же вслепую, т. е. без сопроводительного портрета (или же, как в сравнительно лучшем из них, гофманском[6], портрет мелкой редкости был столь же на нее похож, как олеография — на генерала Скобелева). Добро бы еще, если лаконизм и умалчивание были бы следствием неведения или простительной невозможности угнаться за ежегодными открытиями посредством ежегодного пересмотра объемистого труда. Нет, компиляторы просто считали излишним утруждать собирателей, посвящающих летние досуги утехам естествознания, подробным разбором видов и разновидностей, известных специалистам, но легендарно локальных или летающих лишь на окраинах общедоступной Европы, а потому вряд ли могущих броситься школьнику в очки; расчет сам по себе ужасный, — основанный на популяризаторском принципе одновременно возбуждать и обуздывать человеческую любознательность, регулируя ее удовлетворение нормами среднего уровня или требованиями ограничительной системы, — да притом практически ошибочный; ибо в действительности эти каникулярные коллекционеры, мужая и входя во вкус, закатывались весьма далеко, кто в Лапландию, а кто на Сицилию, т. е. в такие края, где прихваченный с собой атлас терял научный вес, постепенно замещавшийся простой тяжестью на дне чемодана. Между тем из доверчивой дали поступали патетические заказы на тип издания, выделываемый почти только немцами; эти шметтерлингбухи иногда даже переводились, причем, — как бывало и с немецкими энциклопедиями, — нерешительные попытки применительной переработки ничего не могли поделать с торжествующим остовом текста.
Случалось еще, что заметка о чрезвычайной бабочке набиралась петитом я же всегда был страстно охоч именно до мелкого шрифта, где бы его ни находил, даже в учебниках химии или истории, а зевалось мне именно над принципиально общедоступным, которое, разумеется, и не усваивалось мною из-за того, что я избирал для мечтаний, часто никак не относившихся к предмету, заповедные чащи петита, откуда впоследствии я вынес и вечерний озноб, и жар-птицыну блошку в ягдташе. Но, — как малолетний сын гения знает невольно толк в кое-каких профессиональных штуках, неизвестных отцовским коллегам, — я в мелкий шрифт шметтерлингбуха вчитывался, не только разжигая себя, а еще испытывая чувства превосходства и досады. Как злило меня какое-нибудь "bis jetzt im Wallis beobachtet"[7] [8], лишенное изображения этой нежно-фиолетовой бабочки, подробно представленной, конечно, в отцовской коллекции, но словно отнятой у меня компилятором, как если бы окно, сквозь которое она могла бы улыбнуться мне, было забрано ставнями, и сколько мне хотелось о ней узнать, начиная с обстоятельств ее открытия и кончая ее table manners[9]!
Однако, что еще больше раздражало меня (и тут я вскрываю становую мысль этих записок, т. е. былую невозможность представить себе фауну России — хотя бы Европейской России — по всем этим "Gross-Schmetterlinge Europas"), это было явно ошибочное представление о самой бабочке, получающееся оттого, что нравы ее ограничивались тем географическим пространством, которое было у немецкого составителя в фокусе. Например: не то что какой-нибудь откровенно примитивный Лампрехт[10] — или тот, другой, забыл имя, столь поэтично и нелепо переведенный Холодковским[11], — но такие сравнительно богато по количеству и абсолютно дешево по качеству иллюстрированные справочники (без которых не могла обойтись ни одна заграничная энтомо-библиотека) вроде знаменитых атласов Гофмана или Берге[12], преспокойно приковывали к горам, и даже к гоx-горам [13], виды бабочек (из рода Parnassius или Plusia), которые запросто встречались на лугах моей русской равнины; но так как воображаемый потребитель, коллекционер-середняк, мог в пределах своего предположительного передвижения встретить данных бабочек преимущественно на горах, то незачем было упоминать о том, что, например под Москвой, альпийский воздух аполлону не нужен.
Те же, в решительнейшей мере, жалобы относятся и к менее значительным по числу и известности оригинально английским и французским трудам «европейского» масштаба; но в обеих этих странах еще вульгарнейшие, чем в Германии, недостатки компиляции (следствие скорее неосведомленности, нежели предвзятости) с лихвой искупались стройностью и глубиной специальных работ — свойствами, мало присущими соответствующим ученым трудам немцев, "превосходных собирателей, но плачевных разбирателей", как однажды выразился мой отец. Кстати, следует отметить, что и всякие "British Butterflies and Moths"[14], призванные дать островному коллекционеру понятие о родной (правда, весьма немногочисленной) фауне, суть значительно полнее и подробнее, чем сборник чисто немецких или чисто французских бабочек. Такого рода атласы бабочек русских, т. е. более или менее сообразные со степенью развития лепидоптерологии в конце девятнадцатого века, не выпускались вовсе, а так как ввиду изложенных причин и условий толстейшие шметтерлингбухи не вмещали России, она оставалась неведомой и незаметной страной, безнадежным пробелом, что, кстати сказать, отзывалось роковым образом на попытках иных монографистов изучить истинную связь между палеарктическими формами.
Впрочем, мы преувеличиваем. Три, по крайней мере, три определенных русских локалитета неизменно приводились в шметтерлингбухах: то Петербург, то Казань, то Сарепта, — чаще всего последняя. Мы бы могли заключить, что, с одной стороны, все это суть места необыкновенно избалованные в смысле бабочек, а что, с другой, — такое определенное, хоть и краткое указание Сарепта, точка, — исключает вероятность нахождения данного вида во множестве других мест. Но все объясняется гораздо милее, — а именно тем, что указанные местонахождения были естественными центрами наблюдений первых немецких энтомологов, изучавших нашу страну и изложивших результаты в тогдашних журналах или давно устарелых обзорах. Со времени надписания их этикеток прошло, может быть, полвека и больше; за эти годы специалисты и простые собиратели (не говоря о страшной породе торговцев бабочками, в эпоху до-радиольную, в минувшую пору моды на лепидоптерологию, буквально вытоптавших иные локальные редкости) давно успели убедиться в том, что петербургская или казанская сирота водится и в Рязани, и на Днепре. Но старые этикетки бережно переносились компиляторами в свои издания… И это относится не только к бабочкам. Так, из пресловутого атласа жуков, соответствующего атласу Гофмана, читатель выносит интересное впечатление, что необыкновенно много редких жуков живет предпочтительно… на Волыни. Из чего выводим, что очень часто штамморт[15] насекомого есть лишь местожительство насекомоведа.
Во дни моего отрочества любитель бабочек ("le curieux", как некогда выражались les honntes gens[16] в рассудительной Франции, "the aurelian", как говорили поэты в богатой дубравами Англии, "доктор мух", как острили русские передовые люди), желающий себе составить по книгам понятие о всей европейской, включая Россию, фауне, был принужден по крохам выцарапывать сведенья из энтомологических журналов на шести языках и из многотомных, малодоступных изданий вроде обертуровских[17], или вел. кн. Николая Михайловича[18]. Отсутствие или совершенная недостаточность «отсылок» в атласах ad usum Delphini[19] [20], кропотливость просмотра указателей названий, приложенных к годовому тому ежемесячного журнала, многочисленность этих журналов и томов (в библиотеке моего отца одних этих последних было свыше тысячи, что приходилось на добрую сотню журналов) — все это нужно было преодолеть, чтобы затравить нужную справку, — если она существовала вообще. Однако даже в моем исключительно благоприятном положении дело шло туго. Россия, особливо <нрзб>, пребывала в тумане, а весьма случайные, скудные и в номенклатурном смысле убийственно неточные локальные списки, рассеянные по журналам, когда наконец я добирался до них, только бесили меня. Мой отец был величайший энтомолог своего времени, притом более чем состоятельный человек, но обыкновенному любителю, не могущему разослать по России своих охотников и лишенному возможности — или не знающему, каким способом дорваться до специальных коллекций и библиотек (причем случайное счастье: торопливый осмотр коллекций в энтомологическом обществе или подвале музея, настоящего любителя не удовлетворяет — ему нужно это счастье всегда иметь под рукой), оставалось только надеяться на чудо. Это чудо и просияло в 1912 году, когда вышел четырехтомный труд моего отца, "Бабочки Российской Империи".
Лично я (хотя в соседнем с библиотекой зале, в темно-красных шкапах, находились богатейшие коллекции отца, состоящие из досконально точно снабженных именем, датой и местом поимки экземпляров) принадлежал к тому сорту curieux, которым для того, чтобы по-настоящему познать и увидеть бабочку, требуются три вещи: художественное ее изображение, сводка всего, что о ней писалось, и включение ее в общую систему классификации. Без слова и живописи, без проникающей и связующей деятельности мысли бабочка оставалась для меня несовершенной; одно только могло бы всецело заменить эти три требования: если бы я сам поймал ее, если бы выражение крыльев данного экземпляра соответствовало бы индивидуальности знакомой местности (с ее запахами, красками, звуками), где я пережил бы все это страстное сумасшедшее счастье охоты, когда скалолаз с искаженным лицом, аxаxая, выкрикивая сладострастно бессмысленные слова, не чувствуя ни терний, ни крутизны, не видя ни гадюки в ногах, ни пастуха, поодаль наблюдающего с раздражением невежества за судорогами безумца с зеленым сачком, добирается до добычи, еще не описанной никем никогда. Другими словами, никак не налаживалось творческое соприкосновение между мной и бесчисленными редкостями, собранными не мной, не зафиксированными в журналах или безнадежно далеко запрятанными в них. И хотя сквозь стеклянную крышку и стеклянное же дно гладчайшиx выдвижных ящиков отцовской коллекции я мог (часами спускаясь взглядом по бесконечным рядам разнооттеночно-черныx в соляных крапинках, с шахматными баxромами, коренастых маленьких гесперид и переворачивая вверх дном ящик, чтобы рассмотреть жемчужные кабалистические значки — бочонки, песочные часы, трапеции — с рябиноватого или серовато-сернистого исподу задних крылец) подробно изучать, в связи с записями на этикетках, локальную переменчивость форм, — однако лишь тогда, когда эти виды и расы я нашел собранными, исследованными и, главное, изображенными в только что вышедших "Бабочкаx Российской Империи", обаятельно-живой портрет выдал мне тайну препарированного лепидоптерона: отныне я им обладал.
Я знал, каких трудов, какой нежности и прилежания стоило xудожникам-миниатюристам, работавшим под руководством моего отца (который и сам участвовал в этой работе: например, обе Triphysa, zemphyra Godun. и phryne Pall.,[21] на таблице 34-й первого тома нарисованы им самим), то воплощение, которое для меня было посвящением в тайну. Я знал, что сначала бабочка прозрачно фотографировалась; что сей идеальный абрис ждал от тончайших кистей груза и бриза красок; что в сильно увеличенном виде проектировалась сама бабочка, как заря, перед художником, который, отделенный магическим стеклом от своих же громадных розовыx пальцев, раскрашивал узор, снятый в нормальную величину, но доведенный стеклом до размеров модели-проекции. Не помню теперь (был всегда до смешного лишен технических позывов) подробностей метода… Может статься, я упустил как раз то главное, что обратило бы призматически сияющий у меня в памяти сумбур света, стекла и красок в осмысленный образ… Как бы то ни было, путем соединения трех факторов: росписи под лупой, особого состава употребляемых пигментов, найденного вследствие опытов над хроматизмом чешуек, и, наконец, демонской искры живописца (у моего отца работали в разное время такие мастера, как Мастаков, Френкель, Иннокентий Петров, Рукавишников[22] и др.) достигалась прямо-таки колдовская красота. Ныне, просматривая снова после многолетнего перерыва эти восхитительные бархатистые таблицы, я не только с большей зрелостью восприятия наслаждаюсь их совершенством, не достигнутым никем другим — от Гюбнера до Кюло[23], этой нежностью красок, шелковистой, цветочно-пыльной, ярко-дымчатой (противоречия внутри последнего эпитета нет для того, кто любовался розовостью только что вылупившегося сфингида или заревым облачком или радугой в начале — второй — главы[24]), но, кроме того, душно, могуче до жужжания в висках переживаю то смуглое зимнее утро с отблеском лампы в лакированном дереве китайскими птицами расписанной ширмы, когда мне, лежащему в постели (поправляющемуся после одной из тех моих детских болезней, в пустынях которых я все догонял караван моего отца), мать принесла мне, особою игрою лица, словно держала, ах, неинтересное, лукаво-любовно отвечая на стон моего вожделения, на дикое шевеление протянутых рук и заранее разделяя всем трепетом, всей гусиной кожей обнаженной души то счастие, которое выбросило бы меня из постели, промедли она еще секунду, великолепно-плотный, заключенный в картонный футляр, только что вышедший первый том "Чешуекрылые Российской Империи".
Драгоценность темно-синей книги, бешено и бережно извлеченной из картона, определялась для меня откровением красоты и поэзией познания, которые она сулила, ибо я наконец получал то, чего хотел, то, что не могли мне дать ни Шпулер[25] (или Ребель [26]), кое-как подновившие Гофмана, ни самые первые (еще сносные) выпуски «Палеарктики» Зайтца[27]. Лепидоптерологическая фауна моего обширного отечества подавалась мне целиком, с классической окончательностью. Даже ординарные европейские бабочки, какой-нибудь адмирал или траурница, приобретали особую прелесть благодаря тому, что портреты их были сделаны с русских экземпляров. Все было преображено новым географическим положением — Азия вносила поразительные изменения в скромные ряды «европейских» атласов. Новые соотношения, неожиданности сибирской фауны, невероятные родственницы испанских, американских, индокитайских форм, таинственно глядели на меня с блистательных таблиц. Неслыxанно-щедрая иллюстрация давала лицевую и обратную сторону не только обоих полов типа, но и его локальных отклонений; тщательные воспроизведения первых стадий, некоторые отдельные детали строения и, наконец, прелестные моментальные снимки в тексте (как памятен вот этот эверсманов аполлон[28], дремлющий на цветке!) дополняли картину. Но, кроме того, все эти русские диковинки теперь заняли свое место в системе, в семье, — и мне смешно было вспомнить мою охоту за ними в дебрях журналов, где они были вырваны из своей среды, где "первое описание" часто обходилось без рисунка, а если он и отыскивался в каком-нибудь другом труде, то оказывался безнадежно аляповатым или экономно состоящим всего из двух правых крыльев без тела, что напоминало жестокости ребенка, пиры пауков, варварскую неряшливость японских препараторов, отвратительно угнетая глаз, не видящий бабочки за ее ярмарочной маской или видящий только ее оторванную половину.
Вот она, вот, эта картинная галерея гениальной русской природы, великолепная синева черного «кавалера», вместе с тигром дающего тропический привкус дальневосточной фауне; оранжевые кончики, почти по моде африканских пьерид, опрятной и стройной «пираты», красы весенних степей; огненный шелк романовской «ольги», столь быстрокрылой, что за ней не угнаться джигиту; мозаика и смуглота «брентиды» с Xайпудырской губы; небесно-наивные волжские голубянки… Развернутая копия так близка к замкнутому оригиналу, что даже случайные недостатки внешности или расправки тут повторены, и меня, которому искусственные оборвыши Зайтца так противны, особенно пленяет точный портрет бесценного, донельзя рваного и потертого, единственного экземпляра "годуновской эребии", когда-либо найденного на Земле, "в густом бору, июля восьмого числа, 1903 года, — цитует отец из письма к нему Мольтреxта, — в душный зной на двадцать девятой версте по старой аимской дороге".
А прелесть замечательных аберраций, встреченных только в пределах России, «копченый» парусник (авиновский "люцифер") или «пафия» со сплошным расплывом жемчужности… А орловская раса тополевой "лименитии"!.. А кружево «суваровской» меланаргии… "Le glorieux chef-d'?uvre du grand maitre des lepidopt<erologues>"[29], — восклицает Шарль Обертюр (столь всегда ратовавший за "la bonne figure" [30]) в X томе "Lepidopterologie comparee". "As far as we can judge, without knowing the language, nothing comparable to this work, especially in respect of the wealth and beauty of illustration, has ever been attempted before"[31], писал Rowland-Brown в "The Entomologist" и приводит наиболее ему понравившийся пример того, что он называет "the iridescence of truth" [32]:
"У многих дневных бабочек черного цвета, когда они очень свежие, замечается поразительный металлический или муаровый, сине-зеленый глянец, который не держится в препарированных экземплярах; между тем иллюстраторы добились того, что не только крылья переливниц-апатур отливают жаркой ("rich") лиловизной при том или другом углу, под которым обращается к свету страница (так что то правая, то левая половина апатуры показывает свой августейший «purple»[33]), но и некоторые черные сатириды вдруг при ударе света заливаются блеском зеленых чернил, и таким образом получается, что мастерский портрет выражает сущность бабочки полнее, чем сама бабочка в коллекции".
Мое посвящение во тайну вида не ограничивалось одним imago[34]; я проникал дальше и видел по соседству с изящной степной «авророй», уже упомянутой, ее тоненькую оливковую гусеницу, впервые найденную моим отцом и нарисованную Петровым с ювелирной тщательностью. Ратуя за работу по установлению метаморфоз, он тонко журил тех, кого называл «гениталистами»: как раз тогда вошло в моду принимать за безошибочный и достаточный признак видовой разности хитиновое строение мужского органа, представляющего собой как бы «скелет» вида, подобие «позвонка». "Как просто разрешились бы всяческие дискуссии, — писал он, — если бы те, кто занимается расщеплением схожих видов по этому единственному признаку, абсолютная устойчивость которого к тому же не доказана, заинтересовались бы, во-первыx, всей радиацией сомнительных форм во всем их палеарктическом аспекте вместо того, чтобы сосредоточиться на нескольких многострадальных французских департаментах, а во-вторыx, попытались бы (как это делали Chapman и <недописано>) выяснить и начальные стадии «извлеченного» вида, чтобы сравнить их с теми же стадиями вида, ранее «содержавшего» его". И действительно, открытие моим отцом гусеницы «терзита» дало возможность совершенно по-новому и весьма неожиданно сопоставить «терзита» с «икаром» и голубянкой Эшера.
Я вспоминаю, как меня сердило в атласах это "Raupe unbekannt"[35] в конце описанья бабочки, — и особенно то, что одним из прямо-таки естественных признаков рода становилось отношение числа этих «unbekannt» к числу видов в роде (иногда даже они совпадали). Для одних дневных бабочек Европы этот процент (около сорока) был понижен моим отцом до пятнадцати и, вероятно, понизился бы на столько же, если б он посвятил два-три сезона специальным западным видам. Я видел, у нас же в деревне, с каким упорством и успехом он, бывало, выслеживал «лешущую» (т. е. ищущую место для яйцекладки) самку, устанавливал кормовое растение и на нем выводил гусеницу, всегда учитывая при этом могущие представиться проблемы возрастных перемен корма, капризов симбиоза и зимования; я знал, как усердно он собирал во время своих путешествий все, что могло касаться биографии той или другой бабочки, причем во всех областях России его собиратели на местах выслеживали, выводили, делали зарисовки и препараты. Поэтому если все-таки в конце того или другого описания в "Бабочкаx Российской Империи" значилось: "гусеница неизвестна", то я понимал, что препятствия были до сих пор действительно непреодолимы (крайняя редкость вида, крайняя недавность его открытия, особо неблагодарные условия и обстоятельства наблюдения), но что при малейшей поблажке, при малейшем ослаблении бдительности со стороны сил, стерегущих тайны природы, воровской свет отцовской лампочки выхватит в росном хаосе степных трав маленькую рыбовидную личинку.
В этой взрывчатой череде возобновляемых впечатлений я ограничиваюсь первым томом, "дневными бабочками". В следующих трех, как и в позднейших выпусках "Lep. Asiat."[36] [37], иллюстрации, может быть, еще совершеннее, пушистость, ворсистость, смазанная полупрозрачность различных семейств «ночных» переданы так, что страшно пальцем провести по бумаге… но первый том всего дороже моей памяти. Как я упивался им в блаженно тягучие дни выздоровления с гренковой крошкой, язвящей меня в ягодицу, и слабостью в плечах, и все наливавшимся мочевым пузырем, и ватным туманом в затылке… Мне нравилась основательность отцовского метода, ибо мне нравились прочные игрушки. Для каждого рода приводился дополнительный список палеарктических видов, в рассматриваемых пределах не встречающихся, снабженный точными «отсылками». Каждой русской бабочке посвящалось от одной до пяти страниц убористого текста, в зависимости от ее малой известности или богатой вариетальности, т. е. чем бабочка была таинственнее или изменчивее, тем большее ей уделялось внимание. Там и сям небольшая карта содействовала усвоению подробного описания распространения вида и разновидностей, как овальная фотография в тексте кое-что прибавляла к тщательному изложению наблюдений над нравами данной бабочки. «Утечка» вида на запад до Андалузии прослеживалась столь же внимательно, как его приключения в среднеазиатских горах. Исправление старых ошибок оживлялось полемическими выпадами, и я вижу смеющиеся глаза автора, когда теперь читаю: "Я застал этот род [Syrichtus] в ужасном состоянии после полувека классификаторскиx потуг", или когда дохожу до добродушного разноса какого-нибудь «открытия» того немецкого путаника, который сыпал названиями напропалую (и все мифологическими, даже вальпургическими), причем создавал бесчисленные местные расы, часто воображаемые, и даже нарушал собственный, какой ни на есть, приоритет вторичным описанием той же разновидности из другого места но все ему прощалось за его энтомологический пыл, за великолепно собранные коллекции.
Перечитывая ныне эти четыре толстых тома (другого цвета, увы, чем синие дары, принесенные моему детству), я не только нахожу в них мои любимейшие воспоминания, не только наслаждаюсь сведениями, которые тогда мне были менее понятны, но самое тело, движение, склад всего труда затрагивает меня в профессионально-преемственном смысле. Я вдруг узнаю в слоге моего отца истоки собственной прозы: брезгливость к замазке и размазыванию, взаимная приспособляемость мысли и слова, геометридно-гусеничное продвижение фразы — и даже зачатки моих скобок. К этим чертам следует еще добавить благосклонность моего отца к точке с запятой (часто — перед союзом, что находится, верно, в связи с языком его университетских наставников, "that scholarly pause"[38], отголосок неторопливой английской логики, — но вместе с тем родственно столь ценимому им Монтеню); и я не думаю, чтобы развитие этих черт под моим часто вычурным пером было актом сознательной воли.
Выписываю следующие полнокровные и плавные периоды (из предисловия к роду "лицэн"):
"Грязь русских дорог служит в палящий полдень между двумя роскошными грозами питейным заведением для самцов голубянок, но не всякое сырое место пригодно; интенсивность посещаемости определяется некоей средней насыщенностью почвы, а также наибольшей ровностью ее поверхности. На таком притягательном месте округло-расплывчатой формы со сравнительно малым диаметром (редко — свыше двух футов) образуется группа тесно сидящих бабочек; если собрание вспугнуть, то оно целиком поднимается, повисает «перебирающим» полетом над данным местом дороги и опускается на него вновь с математической точностью. Только похолодание воздуха к вечеру или наплыв облаков кладет конец пиршеству. Мне приходилось наблюдать присутствие одного и того же экземпляра meleager'а с одиннадцати утра, когда он уже заседал, до без четверти шесть вечера, когда длинная тень от соседних дубов дотянулась до места, где, кроме моего знакомого, да еще нескольких заядлых голубянок, да горсточки золотых «адонай», оставалась (с трех часов дня) небольшая компания боярышниц, общим видом своим напоминающих не то петушков из бумаги, не то регату парусных лодок, так и сяк накрененных. За все эти часы состав и численность собрания менялись; и я не раз нечаянно сгонял моего meleager'а при изъятьи из общей кучи нужной мне бирюльки. Теперь, когда нашла тень, он эластично взлетел и, сделав выбор жердочки, выбор отнюдь не свойственный повадке «лицэн» в состоянии нормальном, но весьма характерный для выжидательного маневра бабочки, покинувшей «питейное» место, присел на лист осины, точно надеялся, что потемнение и холодок суть лишь временное влияние облака и сейчас можно будет вернуться. Через несколько минут я заметил, что он задремал; на сем и прекратилось наблюдение".
Хотелось бы привести еще множество таких художественных и ученых сапфиров, но что выбрать, не знаю — рассказ ли о необычайных трудностях (это из третьего тома), сопряженных с поимкой солончаковой Plusia rosanovi, перелетающей молнией с места на место и всякий раз пропадающей среди камушков, так что единственная возможность ее уловления (свет ее не манит) — воспользоваться той полусекундой, когда перед тем, как прыснуть, она «закипает» у ног подкравшегося охотника. Кстати, как она хороша, как ласкает глаз темно-вишневым передним крылом, пересеченным мальво-розовой линией и украшенным посредине червонным гербом рода, у нее суженным и вогнутым в виде полумесяца — и если цветочная бархатистость фона передается не легко, что сказать о «гербе», который на самой бабочке кажется мазком скипидаром пахнущей позолоты и, значит, должен быть скопирован (и скопирован!) так, чтобы работа художника передавала бы кроме всего прочего и сходство с работой художника! Или такие незабвенные для меня мелочи, как строка, относящаяся к парочке ацидалий нового вида, "в свое время доставленной мне доктором П. П. Парадизовым, который их снял со стены, на вокзале в Астрахани, 11 октября 1889 года"? [39] Или открытие в северной Финляндии поразительной черно-синей арктии в тонких красных кренделях? Или, наконец, эпическую повесть о том, как автор нашел на алтайской скале ту тефроклистию, которая до того была известна только с Приморских Альп да с калифорнийских вершин, — "оконце мадонны", как ласково именуют ее старые охотники в аврелианскиx клубах, когда тайно собираются они и в волнистом дыму плывут обрывки воспоминаний: "Once in Uganda where I was collecting for Rothschild, I saw and missed"[40] — "Und war es schon in Moulinet, Hans — schoner als auf Sumatra?"[41] [42] — "Moi, qui a chasse le Callimuchus dobrugensis avec le roi de Bulgarie"[43] — "Come, come, von Nolte, I'd give a good deal to have seen your face on that particular morning auf dem Campulungo Pass"[44] — "Car je soutiens qu'il existe entre celle de la rave et celle de Mann une espece mediterraneenne, a l'abdomen fin et poudre, non encore reconnue"[45] — "…Вот, Вальсингам, преследователь моли, вид, найденный на острове Чумы, невзрачное, но милое созданье…"[46] — "…А теперь расскажите нам, профессор, про вашу собаку, как это она, сто лет тому назад, под кастильскими соснами сделала стойку перед первой «изабеллой» (сидевшей на пне, — зеленой, хвостатой, рыжеочитой…)".
"Oh, to be dying again in the rich reek of that hot steaming swamp among the snakes and the orchids, and with those dear flies flapping about me" [47] [48]
"Бабочки Российской Империи", вышедшие пятнадцать лет тому назад [писано в 1927 году],[49] тогда же были под наблюдением автора переведены на английский язык, как поступалось с наиболее важными частями "Lep. Asiat."; но автор умер, издание перевода задержалось… и где теперь манускрипт мне неведомо. Самостоятель<ность> и гордое упрямство, заставившие моего отца написать свой труд на родном языке, даже без тех латинских синопсисов, которые ради иностранцев вводились в русские ученые журналы, сильно затормозили проникновение книги на запад; а жаль — она мимоходом разрешает немало проблем западной фауны. Все же, хоть и очень медленно, — и более путем иллюстраций, чем текста, взгляды моего отца на соотношение видов в различных «трудных» родах как-то уже сказались в западной литературе Дело бы значительно ускорилось, если бы наконец вышел английский перевод.
Когда однажды граф Б., управитель одной из центральных наших губерний, товарищ детства и дальний родственник моего отца, обратился к нему с официальной и дружеской просьбой указать радикальный способ борьбы с какой-то весьма энергичной гусеницей, внезапно остервенившейся на губернские леса, отец отвечал: "Сочувствую тебе, но не считаю возможным вмешиваться в частную жизнь насекомого, поскольку этого не требует наука". Он с ненавистью относился к прикладной энтомологии — и я себе не представляю, как бы он теперь работал в сегодняшней России, где его любимая наука сплошь сведена к походу на саранчу или классовой борьбе с огородными вредителями. Этим страшным понижением "высокого любопытства" и гибридизацией с факторами (как, например, социальным) противоестественными объясняется (помимо общего отупения России) искусственное забвение, постигшее его работы на его родине. Немудрено, что и венец его биологических раздумий, та замечательная теория "естественной классификации", которой мы теперь должны заняться, в России до сих пор последователей не нашла, а за границу проникла довольно случайно, в неполном, сбивчивом виде.
Эта теория, которая до сих пор кажется правящим кругам ученого мира беззаконной фантазией, ходом коня с доски в пустоту (вследствие того, что совершенно не усвоены основные положения автора), образовалась у моего отца в последний год его ученой деятельности; сгущенно изложенная всего на тридцати страницах в виде добавленья к последнему им выпущенному тому "Lepid. Asiat.", она сводила задним числом к плоской нелепице общепринятую классификацию. То, что и в своих собственных трудах он машинально удовлетворялся этой классификацией (за небольшими изменениями, весьма, впрочем, отличными по своему духу от изысканий его современников в этой области, занятых с некоторых пор искусственным размножением родовых названий), объясняется тем, что его ученое внимание было сосредоточено главным образом на строении и нравах находимых им в живой природе существ, и тем, что описание поимок, т. е. беспрестанное вселение новых членов в традиционную систему не давало ему задержаться на вопросе, хороша ли эта система сама по себе, хотя требуемое новыми наблюдениями новое распределение иных видов уже намекало на ее недостатки. Вместе с тем длительное соприкосновение с живой природой представляло его уму не только серию картин, но повторение этих картин и их серий — недаром он всегда так интересовался "подражанием соседу, подражанием среде"; что-то таившееся позади тех мысленных способностей, к которым он прибегал для прямого изучения беспорядочно накапливаемых материалов, вдруг явилось к нему, как тишайший служащий является к хозяину с планом, бросающим совершенно новый свет на лихорадочно ведомое миллионером дело, и представило ему некий отбор, некую связь. Другими словами, настал час, когда мой отец внезапно ощутил созревшую истину, к которой сознательно не стремился, но которая гармонически выросла из внутреннего сочетания предметов, собранных им. Таинственным был лишь самый акт сочетания, подобный капельному притяжению, т. е. происшедший как бы вне воли собирателя сведений, вся деятельность которого, однако, была, как теперь открылось, незаметно движима и направляема как раз этой силой, подсказавшей ему в должный срок звездообразно-стройный метод размещения собранных материалов. Свою маленькую, но почти чудовищную по новизне работу, скромно и как бы незаметно подброшенную очередному тому чисто описательного труда, он и озаглавил лишь словом «Приложение», что в общем смысле было определением ложным, ибо высказываемое им на этих тридцати катастрофически-ослепительныx страницах никак не «прикладывалось» к работам его предшественников по эволюции, генетике, классификации и т. д., но было совершенно точным в отношении всей ученой деятельности самого автора, к которой высказываемое прилагалось как прежде недостающий кусок отныне идеально осмысленной складной картины. Чтобы покончить с движением, вызванным этой работой в ученых кругах, скажем, что, во-первыx, в силу политического положения России в то время (8-й том вышел в 1917 [году], уже в отсутствие моего отца), отклик был судорожный и запоздалый; только недавно (в 1923 году) статья была отчасти переведена, отчасти пересказана, с язвительными комментариями заслуженного биолога, в "[The] Zoological Review"; и что, во-вторыx, энтомологов так озадачил и возмутил примерный очерк новой классификации, которым кончалась статья, что впечатление от основных рассуждений автора оказалось ничтожным по сравненью с профессиональной досадой, как бы оттолкнувшей в неразборчивый прах и туман самую теорию, которая таким образом обволоклась разрушительной силой своего же взрыва. На первый взгляд (коим до сих пор ограничились комментаторы), намеченные автором принципы сферической классификации, в данном случае относимые к чешуекрылым, но могущие, как преxладнокровно указывалось в примечании, быть применимы ко всем областям природы, казались бредом и бестолочью, но таким же бредом и бестолочью показались бы, скажем, измерение Земли или законы, связавшие ее с другими планетами, если бы человечество еще не догадывалось о ее круглоте и вращении. Из тех немногих ученых, кто до сих пор занялся теорией моего отца, большинство ее просто не поняло — и действительно, для усвоения ее отправной точки требуется необыкновенный подскок, акробатическое движение ума; лично я заплутал бы в тумане (заодно избежав опасностей дилетантской идиллии и всего того, чем карается самоуверенность, лишенная нужных средств), если бы не вышедшая этой весной «нашумевшая» книга Мурчисона, где этот до сих пор единственный беспристрастный толкователь «Приложения» косноязычно, добросовестно, тупо-популярно, но с какими-то просветами, путеводительными миражами для моей мысли, — объясняет на трехстах страницах то, что отец мой изложил на тридцати. Впрочем, сам автор «приложения» предвидел эту трудность восприятия. Приступая к своему изложению, он предупреждает, что "я вполне сознаю ("I quite realize" принужден переводить обратно с обрывков английского перевода в "Z<oological> R<eview>", ибо как раз восьмой том "Lep. Asiat." в здешних библиотеках отсутствует, а выписать его из Британского Музея пока не удалось), что усилие, необходимое для понимания основных положений этой статьи ("of this paper"), не сразу доступно уму, сотворившему себе наряду с правилами логического мышления известные идолы или навыки мышления, которые, укоренившись и развившись скорее по законам вторичной механики, чем первичного духа, присвоили себе, однако, законодательное право, предоставив логике лишь право исполнительное… …Требуется отречься от навыков, требуется сделать необычный поворот [принять мыслью необычную позу],[50] который может a priori показаться столь же трудно достижимым, как новичку ("tyro") в школе плаванья природно-беспечное шевеленье членами, производимое нетонущим человеком; но коль скоро этот специальный прием ("the knack of the thing") будет схвачен — и ежели он дался автору, то более благодаря счастливой случайности, нежели счастливому предрасположению, — излагаемое ниже сразу прояснится — мало того, станет настолько очевидным и связным, что читатель будет невольно забегать мыслью вперед и корить автора за излишнюю обстоятельность".
Увы, что касается дальнейшего, а именно самого изложения "принципов естественной классификации", то не знаю, правильно ли пересказываю рассуждение автора, правильно ли вскрываю его таинственные (мной пере-переведенные!) фразы. Главное мое затруднение в том, что я недостаточно сведущ по части таких вещей, как, например, палеонтология или генетика, а потому, вступая в кромешную тьму, в ледяной лабиринт, лишен хотя бы лампады. И если я все-таки решаюсь на это приключение, то лишь на основании того заумного родства, той поэтической связи, которые независимо от научной сущности дела соединяют меня с автором.
Начнем же с того, с чего начинает и он, с определения понятия вида. Под «видом» он понимает несуществующий в нашей действительности, но единственный и определенный в идее оригинал существа, который, без конца повторяясь в зеркале природы, образует бесчисленные отражения; каждое из них наш разум, отраженный в том же стекле и свою действительность обретающий только в нем, воспринимает как живую особь данного вида; аберрация, случайные отклонения зависят лишь от менее «верных» мест зеркала, а повторное попадание отражения все на тот же изъян может дать стойкую местную расу, идея которой стремится к периферии круга, чей центр идея вида. Эти расы остаются в окружности вида, покуда пространственная (т. е. имеющая место на земле в данной точке времени) связь между типом (т. е. наиболее точным образчиком вида в данный момент) и местной разновидностью поддерживается промежуточными вариациями (которые могут быть выражены и местными расами, и случайными отклонениями), т. е. покуда круг вида не разрывается. Способность к скрещиванию с типом и постоянство некоторой основной схемы (у бабочек: жилкование, форма чешуек, строение лапок и пр.) намечают пределы, в которых разновидность остается в ведении вида. Точно так же и повторение отражений-особей во времени (ограниченном тем сроком, в течение которого данный вид сохраняет свою видовую суть) может при достаточной длительности процесса создавать некоторые изменения, столь же некоренные, однако, как вариации в пространстве, которым, кроме того, они могут и соответствовать в том случае, если мы застали вид в его идеальный период, т. е. в момент полной гармонии его радиальных частей. При этом за современный тип вида мы принимаем не первую описанную особь (решительно отвергаем этот номенклатурный софизм, вводящий в науку элементы собственности, случайности и мальчишеского первенства), а ту форму, которая либо представляет собой явный центр в вариационных пределах вида, либо (в случае сильного искажения данного видового круга) может быть только определена по аналогии с поведением других видовых пунктов в окружности рода, контролирующего каждый из них. Грубо говоря, если вообразить шар, то его экватор будет означать пространственный цикл вида в его идеальный период, а средний меридиан — цикл возможных изменений типа во времени. В центре же шара находится сердце вида, идея вида, оригинал его.
В этом утверждении сообразности между временным и пространственным циклами вида мы очень далеки от понятий эволюции. И во времени, и в пространстве развитие вариетальныx различий подчинено кругу, в котором вид заключен. Еще один шаг, и мы вышли из круга, попав в область другого вида, столь же ограниченную и самостоятельную. Когда палеонтолог расставляет ряд возрастающих скелетов, долженствующий представить эволюцию «лошади», то обман заключается в том, что на самом деле потомственной связи нет; что понятие вида тут безнадежно смешано с понятием рода и семейства; что перед нами столько-то разных видов животных, которые с другими родственными каждому из них видами составляли в свое время определенный пространственный цикл такого-то рода, которому соответствует такой-то цикл во времени; что все эти шары видов (и родов) давным-давно распались; и что виды Equus, которые мы теперь встречаем на Земле в отнюдь не типический период его видовой гармонии, представляют все же полнее "историю лошади", чем ряд разнородных животных, расставленных на эволюционной лестнице. Мы отнюдь не хотим этим сказать, что работы эволюционистов лишены научного значения. Ценность биологических наблюдений нисколько не умаляется оттого, что выводы из них либо могли бы быть сделаны априори, либо заманивают мысль в порочный круг; подобным же образом ценность для коллекционера, представляемая совершенно черным «госпитоном» или патологическим экземпляром «ависа» с белой андрокониальной миндалиной, не уменьшается оттого, что существование таких еще не встреченных у данных бабочек отклонений может быть безошибочно предсказано. Разнообразие, точность и последовательность опытов, проделанных этой школой мысли, достойны высших похвал. Такие вопросы, как влияние условий среды или математика наследственности, ею разработаны чрезвычайно тонко. Ошибка ее заключается в допущении и даже поощрении чудес, коль скоро эти чудеса согласованы и систематичны: законы, найденные для повторенья их, бессильны объяснить каждое из них в отдельности, уже не говоря о том, что самые эти законы могут быть мнимы, хоть и вполне гармоничны в своем миметическом подражании истине. Эволюциониста хочется сравнить с пассажиром, который, наблюдая через окно вагона ряд явлений, выказывающих известную законообразность (как, например, появление обработанных полей, а затем фабричных строений по мере приближения к городу), усмотрел бы в этих результатах и иллюстрациях движения сущность и законы самой силы, заставляющей перемещаться его взгляд.
И вместе с тем какое-то развитие форм вне сомнения, откуда-то "пузыри видов" возникли, как-то росли, почему-то лопнули… Вот этот путь нам нужно теперь проследить.
Черпая опять из корзины общедоступных примеров, напомним аналогию, замечаемую между развитием особи и развитием вида. Весьма плодотворно в этом смысле рассмотрение мозга человека. Мы вытекаем из тьмы и детства и в детство и тьму впадаем, совершая полный круг бытия. В течение жизни мы научаемся, между прочим, и понятию «вида», понятию, которое предкам нашей культуры было неведомо. Однако не только история человечества пародируется историей развития пишущего эти и другие строки, но развитие человеческого мышления, индивидуально и исторически, находится в удивительной связи с природой, с духом природы, рассматриваемой в совокупности всех ее явлений и всех временем обусловленных изменений их. И действительно, как допустить, что среди великой мешанины, содержащей в себе зачатки <нрзб.> органов (их сейчас представлено до сорока трех), прекрасный хаос природы никогда не вмещал в себе мысль? Можно сомневаться в способности гения оживить мрамор, но нельзя сомневаться в том, что страдающий идиотизмом никогда не создаст Галатеи. Разум человека со всеми его ограничениями и правами, будучи даром природы, и притом даром бесконечно-повторным, не может не находиться на складе у дарителя. Пусть он будет на темном складе столь же отличен от своего вида на солнце, сколь мраморный бог отличен от извилин ваятельского мозга, — но все же он есть. Иные причуды природы могут быть не то что оценены, а даже просто замечены только родственно-развитым умом, причем смысл этих причуд только и может состоять в том, что — как шифр или семейная шутка — они доступны лишь посвященному, т. е. человеческому уму и другого назначения не имеют, кроме того, чтобы доставить ему удовольствие, — речь идет о фантастических изощрениях "охранного сходства", которые в мире, где отсутствовал бы художественным чутьем, воображением и юмором наделенный наблюдатель, были бы просто ни к чему ("lost upon the world"), как томик Шекспира, лежащий раскрытым в пыли беспредельной пустыни; этот факт, хотя бы этот один факт, подразумевает молчаливый, тонкий, прелестно-лукавый заговор между природой и тем, кто один может понять, кто один дошел, наконец, до этого понимания, — духовный союз, заключенный поверх всего кишения, шевеления, темноты блуждающих побудков, за спиной всей органической жизни мира.
Как с усложнением мозга происходит умножение понятий, так история природы показывает в отношении образования видов и родов постепенное развитие у природы самого понятия вида и рода. Мы вправе говорить совершенно буквально, в человеческом, мозговом смысле, что природа в течение времени умнеет, что в такой-то срок она до того-то и того-то додумалась. Единственная придирка, которая может быть тут сделана, это то, что под «природой» или "духом природы" мы подразумеваем неизвестно что. Но, как мы дальше увидим, этот чудовищный икс, на который, пользуясь его бесконечной вместительностью, мы возлагаем ответственность и за наше неведение относительно его истинного лица, не скрывается от нас в какой-либо неприкосновенной дымке, а лишь обращается не в нашу сторону, а это свойство в свою очередь кладет начало характеристике, наносит иксу первую рану вещественной постижимости и обещает нам то, что мы, воспитанники орбит, естественно можем ожидать от всякого удаляющегося обращения: продолжения вращения до поворота к нам.
Пока этого не случилось, мы должны удовольствоваться полуулыбкой отворачивающихся уст, заговорческим знаком, ускользающим взглядом прищур<енныx> глаз<?>. Для уяснения конкретного предмета, интересующего нас, — образования видового понятия в уме природы, — этого знака нам достаточно; но путь мысли, преследующей данную цель, так скользок, так зеркально покат и проходит, как всякий предельно правильный путь, по такому узкому карнизу, над такой пропастью бессмыслицы, что самая его новизна может уже вызвать в нас ощущение падения.
Мы должны представить себе некое весьма отдаленное время на Земле, когда понятие вида (или рода) было столь же природе чуждо, как чуждо оно детству человека или человечества. Трехлетний ребенок полагает, что корова жена коня, а пес муж кошки; Стагирит [51] хотя уже отличал "капустного мотылька" от какого-то летящего на огонь «гениола» (этим, кажется, исчерпывались его лепидоптерологические познания), меньше понимал сущность этого различия, чем сегодняшнее дитя или простолюдин. Однако задолго до зари человечества декорации были природой уже сооружены в ожидании будущих рукоплесканий, куколка сливовой «тэклы» уже загримировалась под птичье испражнение, вся пьеса, разыгрываемая ныне с таким тонким совершенством, была готова к постановке — только ждали, чтобы уселся предвиденный и неизбежный зритель — наш сегодняшний разум (а завтрашнему готовится новая программа). Но в отдаленнейшую пору, которую нам надо теперь себе представить, ничего из этого не было еще задумано. Родов и видов природа не знала; торжествовал экземпляр. Иллюстрируя это положение лубочно, можно сказать, что белка, совокупившись с гусем, рожала жирафу, белугу и крестовика. На самом деле, конечно, столь знакомых животных тогда не водилось, и если дается этот кричащий пример, то лишь для того, чтобы сбить с привычных позиций воображение читателя. Неверность примера еще в том, что зоологическим подбором «видов-экземпляров» предполагается хотя бы установление раздела между царством животных и, скажем, царством растений. Но и этого раздела еще не было. Когда бы современный естествоиспытатель, со свойственными ему навыками классификаторской мысли, был бы действительно перенесен в тот первобытный век, в дошкольную эру природы, то на шевелящейся Земле, где различные формы жизни лишь менялись местами, но не дифференцировались (как волна не может почитаться дифференциацией водной стихии), в жирном и жарком молодом мире, под небом, которое в полдневный час было (по глубоко обоснованной догадке голландского геолога Бунинга [52]) "блестяще-черного цвета с солнцем как пламя отблеска в отполированном эбене", он бы застал миллиарды кишащих существ, каждое из коих оказалось бы принадлежащим к отдельному «виду» (понятие в данном случае пустое из-за точного совпадения числа особей с числом видов), и которые в совокупности своей были бы связаны между собой не только семейным сходством полнейшей их неизвестности и несравнимости с ныне известными существами (как объединены наивностью бреда рисунки душевнобольного), но и обобщающей средой, присущей данному возрасту Земли. Эту схожесть можно себе представить еще как множество различных форм жизни, вырезанных из одного и того же куска материи, имеющей свой нехитрый узор, так что по частям этого узора матерьял каждого создания выдавал бы свое происхождение, как бы ни старался закройщик замаскировать его единство посредством разнообразия очертаний, дабы случайным повторением (вырезкой двух аистов или двух окуней) не намекнуть на однородность состава. Поэтому любые два экземпляра из всех находимых на Земле тем исследователем, который доплыл бы вспять до этих верховий земного времени, оказывались бы по своим признакам настолько различными, что требовали [бы] от него, воспитанного на современных методах классификации, размещения по разным отрядам, но вместе с тем были бы отмечены той ложной схожестью (зависящей от "матерьяла"), о которой нам доносят теперь атавистические явления "охранного сходства" — эти "рифмы природы", по гениальному слову автора. Позволим себе тут некоторое отступление или, вернее, раскрытие скобок — и напомним, что множество собранных наблюдений убедило его, во-первыx, в абсолютной невозможности достижения данных сходств путем эволюции, путем постепенного накопления схожих черт или закрепления магических мутаций (что и заставило его пересмотреть и отбросить наиболее «логические» теории происхождения видов); а, во-вторыx, в абсолютной ненужности (заодно опровергающей тупое lex parsimoniae [53] [54] древних натурфилософов) столь роскошных масок для благополучия мимических форм. Среди многочисленных иллюстраций этих откровенных излишеств природы выберем следующий любопытный пример: гусеница весьма локальной сибирской совки Pseudodemas tschumarae водится исключительно на чумаре (Tschumara vitimensis). Ее очертания, спинной узор и окраска щеток делают ее в точности похожей на пушистые, желтые, с ржавым оттенком соцветия этого кустарника. Курьез же заключается в том, что, соблюдая правила своих семейств, гусеница появляется только в конце лета, а чумара цветет только в мае, так что на темной зелени листьев гусеница, не будучи в окружении цветов, заметна с резкой отчетливостью. Получается впечатление (если придерживаться иллюзорной теории "охранного сходства"), что в исполнении договора случилась неувязка или что природа в последнюю минуту обманула одну из сторон. Можно было бы, например, предположить, что некогда цветение чумары, благодаря другому климату, совпадало с появлением на ней гусеницы, которая таким образом была защищена от какого-то необыкновенно хитрого врага, от которого стоило обороняться путем ответно-xитрого камуфляжа. Помимо того, что это совпадение и последующее расхождение невозможно себе представить (хотя бы потому, что данное насекомое, принадлежащее к чисто полярным типам, органически связано именно с нынешним климатом данных мест со всеми вытекающими из него следствиями в отношении сезонных генераций и цветений), совка должна была бы погибнуть, ставши зримой врагу, как только декорация переменилась. Однако же совка до сих пор здравствует и особых врагов у ее гусеницы нет; птицы до нее, жестко-волосатой, нелакомы, а насчет антропоморфических способностей наездников обольщаться не приходится. Допущение же неизвестного врага, ныне вымершего, вводит в наши рассуждения такой гипотетический элемент, что мысль расплывается — или же возвращается не с того боку и с ненужным эволюционным грузом к положению, отличному от истинного в той же мере, как прикладная наука отлична от чистой, а именно к тому, что злодей пьесы, the villain of the play, было существо разумное (так профессор Dawson [55] в порыве отчаяния, знакомом многим эволюционистам, но по-своему совершенно логично предположил, что мимические ухищрения некоторых полинезийских гусениц направлены против малайцев, спокон веков питающихся ими!). Но оставим в покое пресловутую "борьбу за существование": борцам некогда заниматься искусством. То веселое впечатление очаровательной иррациональности, которое испытывает наблюдатель, видя ряженую tschumarae, — мнимый цветок, цветок невозможный, — вот чего хотела добиться, вот чего добилась природа, наша осмысленная сообщница и остроумная мать.
Обратим еще внимание на то, что мы, по естественному стечению обстоятельств (иначе не могло и быть), попали к главному действию в комедии мимикрии. В сегодняшней природе не замечается таких форм полу-сxодства или четверти-сxодства, которые указывали бы на то, что мы присутствуем и при каких-то промежуточных стадиях данного явления вперемешку с более совершенными. Такими приближениями нельзя, разумеется, считать способность иной гусеницы экспромтом окрашиваться под цвет растений или сетки, которой ее окружил испытатель; совершенство в точности тона достигается тотчас, но вместе с тем это не есть «новое» явление защитной окраски, произошедшее у нас на глазах, а игра все тех же природой одухотворенных возможностей, имманентно присущих объекту опыта и тайны своей не выдающих через принужденный показ. Таким образом, не только «бесцельность» достижения ("бесцельность" чистого искусства!), но и отсутствие переходных форм, финальная отчетливость наблюдаемых явлений возбуждают сильное сомнение в эволюционной постепенности их становлений. Невозможность достижения ложных сходств путем постепенного накопления соответствующих черт, было ли оно делом случая или следствием "естественного подбора", доказывается простым недостатком времени. Если имел место первый способ, то при самой щедрой выкладке, при самом далеком отодвигании в глубь веков даты рождения мима, черта, за которой находятся ископаемые виды, чье существование, ограниченно-гармонично совпадая с существованием других вымерших представителей животного мира, никак не могло бы гармонировать с существованием какого-либо вида (или рода), знакомого нам, ограничивает его историю какими-то рамками, поддающимися какому-то максимальному исчислению, между тем как и триллиона световых лет вряд ли было бы достаточно, дабы путем счастливых случайностей множество разнородных видов загримировать по одному и тому же методу (например, придать сложенной бабочке точный образ определенной породы листа с художественной прибавкой правдоподобного дефекта: дырочкой, выеденной чьей-то личинкой). При втором же способе времени было бы достаточно только с оговоркой, что развивающий "охранное сходство" вид преследовал эту цель сознательно, столковавшись заранее с моделью, что та за все века, нужные труженику эволюции для постепенного достижения сходства, останется неизменной (неподвижность, требуемая художником от модели); процесс бы еще ускорился, если столь же сознательно модель пошла бы подражателю навстречу, меняясь сообразно с изменениями мима, потакая ему, или если самая цель подражателя менялась бы сообразно с эволюционными метаморфозами модели, подобно тому как живописец, принявшись за портрет молоденькой натурщицы, добивался бы сходства так добросовестно, что, безустанно переписывая каждый штрих, он в конце концов изобразил бы ту старуху, в которую модель обратилась за время многолетнего сеанса. Однако понятие эволюции никак не предполагает ни наличия целеустремленной воли со стороны развивающегося существа, ни координации действий между двумя существами или между существом и его средой; а предположение, что природа гипнотизирует выбранные объекты мимического опыта, внушая им определенные роли, должно почитаться фантастическим ввиду отсутствия опорных точек для паутины гипноза. Те же изменения, к которым может привести слепая борьба за жизнь, как бы ни казались реальными их результаты (например, зимняя окраска — причем следует еще доказать, что одноцветность беляка со снегом действительно может обмануть хищника), бесконечно замедляют умозрительный ход данной эволюции, ибо тут вводится опять элемент счастливого случая, основная нерасторопность которого, не уменьшаясь из-за того, что всякий дурак-зверь им пользуется — если действительно пользуется (а более сложные явления подражанья соседу или среде и подавно недостижимы посредством механических маневров на плацдарме природы, предполагаемых соответствующей теорией), — возвращает нас в область столь внушительных цифр, что никакая история Земли их не вмещает. Ко всему только что изложенному следует еще добавить указание на тот роковой ущерб, который терпит сущность данного вида от своего предположительного непостоянства во времени, непостоянства, бесконечно превышающего те колебания, которыми выражаются его пространственные вариации. Между тем (как мы уже вывели из принципа шарообразности вида) для возможных отклонений от типа и во времени, и в пространстве существует кривая — предел, за которым данный вид как таковой уже не действителен. Период вида, его сеанс, его присутствие перед зеркалом природы, не может измеряться такими цифрами времени, которые предполагали бы коренные изменения в нем, несовместимые с сохранением его идеи. Сказать, что в течение веков один вид превращается в другой по генеалогической линии, значит в такой же мере нарушить основную идею вида, как если допустить, что между двумя видами, сосуществующими на Земле, представлены и промежуточные формы. Однако факт появления видов неоспорим; ни на эволюционическое «как», ни на метафизическое «откуда» ответа не может быть, покуда мы не захотим признать, что в природе развивались не виды, а самое понятие вида.
Возвращаясь к вопросу о состоянии природы до зарождения этого понятия и воображая те безмерно-далекие времена, когда "торжествовал экземпляр", мы можем с помощью комнатной поэзии, если не кабинетной науки, смутно увидеть этот волнистый, переливчатый мир и первые попытки природы кое-что закрепить. Ползучий корень, конец лианы, воодушевленный ветром, становился змеей лишь потому, что природа, подметив движение, захотела его повторить, как ребенок, развеселенный полетом древесного листа, поднимает его и подбрасывает вновь, но только в перстах у природы лист превратился бы в «каллиму». Впрочем, вернее будет, если скажем, что действовал не ветер, а некое возбудительное, рождающее мысль вращение, — и не именно вращение Земли, а плавная сила, которая так празднично оживляет вселенную, этот бал планет. Идея вращения, действуя на кишение жизни, вызванное ею же, и завело в природе ту законообразность повторения, узнавания и логической поруки, которой подчинен мыслящий аппарат человека, плод тех же волнуемых древес. Напомним, что все это пока что лишь приблизительный образ, как было бы лишь иносказанием, если бы мы стали утверждать, что первое разделение всех земных экземпляров на две группы произошло, как разъединение двух половин под влиянием силы центробежной и что нынешная двуполость есть оставшийся знак этого первого раздела, который сам по себе не был еще дифференциацией полов.
Мы тут проходим по самому тонкому месту тропы, где потупившаяся мысль, свой путь зная, боится, вследствие лишнего толчка, усилия проверки, заминки именования, оступиться и соскользнуть, как обзор окрестности с крутого пути рискует вызвать вместо движения рассудка и памяти роковое головокружение. Но что все же необходимо себе уяснить — и что заодно выводит нас на сравнительное safe ground [56], — это то, что вся дальнейшая работа природы по распознаванию и уточнению видового (родового, семейного) понятия была, через особое свойство ее возбуждения, обречена следовать законам растущих, распадающихся и вновь развивающихся из элементов распада, сложно гроздящихся шарообразностей. Изучая по отражениям, дошедшим до нас, этот метод природы, мы невольно выносим впечатление, что в послушно-беспечном и вместе с тем тонко-разумном применении его (как художник то посвистывает, то прищуривается) природа находила великое наслаждение, точное качество которого знакомо нам по удовольствию, доставляемому нам остроумной задачей, гармонией, творчеством. Подчас ей было забавно или xудожественно-ценно сохранить вблизи отобранных видов изящный королларий, в родовом отношении никак с ними не связанный, но подобранный с земли заодно с ними еще в те времена, когда стрекоза могла быть и бабочкой, или же ей было жаль разлучить два своих первоначальных создания, которые, несмотря на бездну признаков, разделяющих их, все еще переливались друг в друга: так посмотришь — лишай, этак — пяденица. Какие бы дальнейшие изменения ни претерпели это растение и это насекомое — то зыбко-серенькое, что в глубине веков соответствовало им, удержано было природой (не отказавшейся от мифотворчества ради научной системы, а затейливо соединившей их), и как только дозрело на Земле существо, могущее оценить неожиданность сходства, поэзию его и волшебную древность, явление это было природой ему преподнесено для любования и развлечения, как драгоценный символ той однородности ("oneness"), в которой она некогда нашла состав для создания первых жителей своего kindergarten'а. Замечательно, что при пространственной классификации, предлагаемой ниже, по принципу колец, кольцеобразно расположенных и образующих новые кольцеобразные системы, из ближайших точек между кольцами, относящихся к совершенно различным родам бабочек, явно переглядываются мим и модель, и это наводит нас на мысль, что и в отношении "защитной окраски" можно найти такие же сопоставления, весьма, впрочем, трудно проследимые в виду экстравагантного разнообразия объектов подражания и принадлежности «защищенного» и «щита» (кажется, вполне геральдического в практическом смысле) к совершенно разным отрядам.
Постепенное утверждение видового понятия привело к тем более яркому разнообразию этих новых единиц жизни, что вращение и разрыв колец все усиливались — и тут известную роль могли сыграть и колебания в температуре Земли, и плодотворное взаимодействие между фазами флоры и фауны, хотя, разумеется, основной дух развития никак не зависел от случайных катаклизмов случайной среды. Распад вида, взрыв видового кольца, происходил вследствие обеднения данной видовой идеи, что выражалось в вымирании типа или в ослаблении его связующей силы, а это в свою очередь влекло за собой резкие вариационные скачки периферических разновидностей и исчезновение промежуточных форм. Окончание этого процесса знаменовалась тем, что эти крайние вариации, как бы разлетевшись во все стороны от взрыва видового кольца, начинали развивать свои собственные циклы; те из них, которым удалось удержаться, становились центрами новых видовых идей. Трудность представления себе этих явлений в реальном физическом образе заключается в том, что постепенность развития самого понятия вида в природе обусловливала различную его отчетливость в различные периоды времени, — отчетливость, которая наконец дошла до того, что всякая теперешняя попытка себе представить возникновение одного вида из другого (или, вернее, из той или другой периферической вариации) противоречит той предельности видового понятия, о которой уже говорилось. Посему чрезвычайно важно учесть тот интервал, тот скачок (некоторое подобие которого мы находим при сравнении движения механического и движения живого), который отделяет закат разновидности, еще находящейся в ведении вида, от начала ее самостоятельного бытия. Чем дальше мы углубляемся в прошлое, тем неотчетливее очертание понятия вида, тем незаметнее творческий интервал. Но если рассудку трудно справиться с этим явлением, зато каждому curieux знаком особый оттенок чувственной убедительности, присущий его результату, та похожая на откровение несомненность, которая столь резко нами ощущается как прыжок, как мета при взгляде на два вида бабочек, из которых один только что «выделен» зорчайшим энтомологом; и хотя в продолжение полутора веков со времени Линнея эти два вида сходили за один, теперь, когда признаки их тайной видовой разности разоблачены чужой проницательностью, вдруг глаза у нас раскрываются, и уже не понимаешь, как можно было раньше не замечать ясных признаков, с изящной точностью разделяющих эти две бабочки.
Что касается рода, то его следует рассматривать в современном его аспекте как полный круг, составленный из видовых колец с центральным ядром, выраженным типом рода. Классификатору, научившемуся отличать соответствующие признаки, нетрудно отыскать этот центральный тип, если он застал данный род в период, предшествующий его распаду; при этом удается иногда установить и полностью представленный круг периферических видов, и тогда мы говорим, что застали род в его идеальном образе, по достижении которого отдельные крайние виды (в соответствии с исчезновением промежуточных форм при разрыве вида) могут выпасть или, напротив, в результате повышенного оживления бурно распадающихся видовых колец уступить место новым видам (по методу, намеченному выше), между тем, как исчезает родовой тип, что в свою очередь позволяет действенным видовым кольцам группироваться вокруг нового родового центра. Таким образом, классификатор обязан учесть не только экваториальность рода, но его меридиан, т. е. шарообразность рода (как и шарообразность вида). Это значит, что основой для распределения видов и родов следует признать не только порядок вращения форм вокруг центра, но и порядок признаков родового (и видового) времени; например, для рода необходимо установить, чем же объясняется прерывность данной видовой окружности или отсутствие реального родового типа — тем ли, что родовой центр еще не определился, или тем, что он уже исчез. В центральном месте всей системы будут находиться идеальные циклы родов, т. е. таких, которые, будучи в наше время представлены полностью, достигли (временного) совершенства развития. Любопытно при этом отметить, что вследствие изменчивости вида во времени (а также в неведомой, но, вероятно, меньшей мере вследствие продолжения и в будущем природного развития соответствующих понятий — развития чрезвычайно медлительного, и только к сроку кончины Земли осужденного через все более нетерпимые ограничения вернуться к идее экземплярности) самый порядок (а отчасти и дух) классификации должен будет естественно меняться на протяжении веков, так что энтомолог какого-нибудь N-го века, застав уже другие идеальные циклы знакомых нам родов бабочек, даст им место в системе, занимаемое ныне теми, которые к тому времени будут в горячечном состоянии распада/разрыва. Безумное состязание, наблюдаемое ныне, особенно среди англичан, в расщеплении родов, вплоть до того, что чуть ли не каждому члену рода навязывается свой собственный род, как бы намекает ныне на начало некоторого падения родового понятия, быть может, впрочем, преходящее.
Рассматривая грозди родовых циклов чешуекрылых, ныне представленных на Земле, мы замечаем, что, в подтверждение только что изложенных фейерверочных явлений при разрыве рода, роды, включающие множество видов (Erebia, Lycaena и т. д.), являют некоторые крайне симптоматические признаки распадочного брожения: чем больше видов в роде, тем они (и в общем смысле, и в отношении отделения внутриродовых группок из двуx-треx видов) более сходны между собой и тем богаче вариации в пределах каждого вида; и напротив: наличие немногочисленности видов (например, Libythea) соединено с крайней бедностью вариетальныx (аберрационных расовых) способностей у данных видов. Кстати, отметим, что родовое вращение, достигшее своего пароксизма, получает прямо-таки зримое выражение в том, что интенсивно размноженные виды некоторых таких «лопающихся» родов, как бы давая фотографическое изображение идее своего брожения или как лихорадка выражается сыпью, кажут в смысле рисунка круглые пятна, кольца, глазки. Разительными примерами такого лихорадочного состояния рода (в сопряжении со спазмодическими попытками образовать новые ядра) может служить нынешнее положение таких родов, как Melithea или Syrichtus. Достойно внимания и то, что в каждый данный период есть, по-видимому, характерный предел для численности видов в представленных родах (и родов в семействе), зависящий от степени точности видового (родового и т. д.) понятия. Средняя цифра этого количества дает как бы температуру "болезни развития" данного отряда животных в данное время и может служить базой для плодотворных сопоставлений относительно старшинства разных отрядов, представленных на Земле.
Что касается конкретных признаков, иллюстрирующих периферию и центр рода, автор «Приложения» предостерегает будущего классификатора против опасности того мысленного навыка, который механически ищет прежде всего градацию форм. Если в пределах вида такая градация ("промежуточные разновидности") естественна и очевидна, как простейшее выражение стягивающей силы типа и его владычества, то при соответствующей попытке распределить виды в роде, такая градация (предполагающая нечто как раз несовместимое с идеей видовой разности) в методологическом смысле неприемлема, хотя может встречаться как один из симптомов распада рода. Подобно тому, как центральный вид рода (т. е. ближайший образец идеи данного рода) вовсе не обязан совмещать в себе признаки всех входящих в этот род видов, так и они представляют собой не радугу или гамму родовых признаков, а разнообразное и гармоническое использование тех возможностей, которые заложены в виде-ядре. Установление законов этой гармонии (столь же характерной для каждого рода, как облик каждого его вида), подсчет возможностей, рассмотрение в данный момент представленных их реализаций, взаимных их отношений и пробелов или скучиваний в окружности рода — вот основная задача классификатора. Руководством может ему служить то, что центральный вид есть точная формула данной родовой гармонии, и, так как количество членов этой формулы практически ограничено тем, что все они, символизируя известные признаки, равны между собой по своему классификаторскому значению, а математически недробимы, то в некоторых случаях при достаточной простоте основной схемы можно предсказать число видов, входящих в идеальный состав данного рода. При изучении весьма немногих существующих в наше время идеальных родовых колец (их число по предварительному подсчету, несколько затрудненному искусственным накоплением «подродов», на которое указывалось выше, равняется приблизительно одной восьмой процента числа всех ныне существующих родов чешуекрылых, между тем как количество образующихся и количество распадающихся сейчас как будто находится в состоянии взаимного равновесия) мы видим, что число сателлитов, вращающихся вокруг центрального ядра, выражается четными числами 4, 6, 8 — и, насколько до сих пор удалось выяснить, не превышает последней цифры. В таких кольцах родовая гармония выражается в том, что все периферические виды идеально дополняют друг друга в равной для всех степени дополнения и сообразно с этим показывают равную степень разности; эти дополнения и отличия в точности контролируются соотношением тех признаков центрального вида, которые "диктуют каждому из периферических видов особую роль в пьесе, разыгрываемой всей труппой рода и связующей всех участников посредством гармонии, выраженной в лице ее героя ("within its main character")". Так, например, в азиатском роде Eurythemia каждый из четырех видов, составляющих его окружность, взял и развил ("разыграл") четыре из шестнадцати признаков, характеризующих род в линии его вида; а именно, один из четырех признаков рисунка, один из четырех признаков строения лапок, один из четырех генитальных признаков и один из четырех признаков жилкования. Это распределение ролей настолько отчетливое и исчерпывающее ("satisfying"), что производит впечатление стройности кристаллизации, а ввиду равного отличительного расстояния между периферическими видами и математической гармонии признаков, заимствованных для обработки у центрального вида, нельзя сомневаться в том, что в данное время не существует на нашей Земле какого-нибудь шестого представителя данного рода.
Все это относится к идеальным кольцам. В тех же случаях, когда, несмотря на наличие центрального вида, [виды] периферические неясно развивают основные признаки с пробелами, еще не заполненными, или с местными нагромождениями (т. е. сохраняют некоторые соотношения между собой, свойственные аберрационным отклонениям в пределах вида, как, например, расплытие или уплотнение рисунка), хотя наряду с этим, т. е. с поправкой на «пунктир» или "местное сгущение", располагаются кольцеобразно (например, в сравнительно молодом роде Pyrameis с центральным видом indica), — в этих случаях мы говорим, что род находится в стадии своего образования, и помещаем его в соответствующее место на меридиане семейства. Если же центральный вид неустановим, а периферические сильно размножены и настолько схожи между собой, что иногда десятками лет тот или другой остается "под крылышком соседа", причем бывает и так, что торопливо создаются "пробные виды", не выдерживающие больше треx-четыреx поколений, тогда мы говорим, что род распадается, и помещаем его по другую сторону экватора идеальных периодов. Из этого следует, что умение совмещать временные признаки (степень вращательного развития рода) и признаки пространственные (соотношение единовременных родов между собой и расположение в них видов) прямо определяет степень приближения к правильной сферической классификации, в которой почетное место отводится пузырям родов, наиболее отчетливо и гармонично представленных.
Предварительный очерк такой классификации бабочек кратко и без комментариев приводится автором в конце «Приложения» (причем далеко не во всех семействах раскрыты даже родовые скобки); это лишь иллюстрация к принципам, усвоение которых дало бы читателю удовольствие самому разобраться в причинах, заставивших автора принять именно такое распределение. Тут не поможет мне Мурчисон, лепидоптерологические знания которого весьма ограниченны: работа моего отца интересует его только в ее философски-биологическом преломлении. Но лапидарность этой схемы, вероятно, льстила двум чувствам, сильно развитым в ее авторе: чувству пропорции и чувству юмора. В статье, где (судя по отрывкам) каждая фраза, как дверь с матовым стеклом и дощечкой, останавливающей посторонних, где все насыщено знанием, предполагающим мосты там, где читатель (несмотря на бодрое понукание заблудившегося Мурчисона) вязнет в зыбучем мраке, в статье, наконец, где цель автора была дать минимум слов и максимум мысли, обстоятельное изложение ее выводов было бы неэкономно. Предчувствие же того perplexity [57] и даже раздражения, которые должен испытать консервативный ученый, уткнувшись в проект классификации, завершающий непонятную статью, немало веселило ее автора. Но главное, конечно, то, что он предполагал на досуге посвятить отдельный труд затронутому вопросу, а вместе с тем считал, что если шаткость человеческой жизни, туман, опускающийся на Россию, и опасности новой далекой охоты, задуманной в столь неурочный год, ему этого не разрешат, все же предельно точное изложение принципов такого труда даст умам, их, наконец, понявшим, возможность выполнить намеченный автором план. Хочу думать, что он не ошибся в этом; что со временем найдутся такие люди — посмышленее Мурчисона, пообразованнее меня, талантливее и подвижнее страшных черепах, руководящих учеными журналами, и что разработка мыслей моего отца, записанных быстрым почерком завещания в ночь перед отправкой в сомнительный путь, когда кобура, перчатки и компас на минуту вмешиваются в оседлую жизнь письменного стола, и преследуемых тут в тумане сыновьей любви, набожности, вдохновения и умственной беспомощности, создаст ему достойный памятник, видимый со всех концов естественных наук. Горечь прерванной жизни ничто перед горечью прерванной работы: вероятность загробного продления первой кажется бесконечной по сравненью с безнадежной недоконченностью второй. Там, быть может, она покажется вздором, но здесь она все-таки не дописана; и что бы ни сулилось душе и как бы полно земные недоразумения ни были разъяснены, должно остаться легкое, смутное, как звездная пыль, зудение, даже если причина его исчезнет с Землей. Поэтому я не могу простить цензуре смерти, тюремным властям того мира, запрет, наложенный на работу, задуманную моим отцом. Увы, не мне ее довершить. И вот вспоминаю без всякой связи с этой вечной обидой, — или, по крайней мере, без всякой связи разумной, — как в теплую летнюю ночь, мальчиком лет четырнадцати, я сидел на лавке веранды с какой-то книгой, — которую я, верно, тоже вспомню сейчас, когда все попадет в фокус, — и моя мать, как во сне улыбаясь, раскладывала на освещенном столе карты, лоснившиеся особенно ярко по сравнению с густой бархатной, гелиотропом пропитанной пропастью, куда веранда плыла; и я плохо понимал читаемое, ибо книга была трудной и странной, и страницы казались перепутанными, а мой отец с кем-то, с гостем или со своим братом, не могу разобрать, медленно, судя по тихо двигавшимся голосам, шел через площадку сада, и в какую-то минуту его голос приблизился, проходя под раскрытым окном; и словно произнося монолог, — потому что в темноте пахучего черного прошлого я потерял его случайного собеседника, мой отец важно и весело выговорил: "Да, конечно, напрасно сказал: случайный, и случайно сказал: напрасный, я тут заодно с духовенством,[58] тем более что для всех растений и животных, с которыми мне приходилось сталкиваться, это безусловный и настоящий…" Ожидаемого ударения не последовало. Голос, смеясь, ушел в темноту, — но теперь я вдруг вспомнил заглавие книги.
— -
Текст публикуется по автографу, написанному предположительно в начале 1939 г. и хранящемуся в архиве Библиотеки Конгресса США. Автограф состоит из 5 страниц машинописи (до слов "доктор мух", как острили русские передовые люди) и 47 страниц неотделанной черновой рукописи (чернила, карандаш) с большим количеством исправлений и помарок. На первом листе после заглавия помечено: "Второе приложение к «Дару» в конце первого тома после 5-той главы" и "после первого приложения в том же пятиглавном "Даре"". Эти пометы связаны с неосуществленным проектом издательства «Петрополис», которое в конце 1938 г. согласилось выпустить отдельное издание «Дара» (см.: B. Boyd. Vladimir Nabokov: The Russian Years. Princeton, 1990. P. 505). По плану Набокова в книгу, кроме полного текста романа, должны были войти два приложения к нему: рассказ «Круг» и эссе Федора Годунова-Чердынцева о научных трудах его отца. По-видимому, Набоков прекратил работу над "Вторым добавлением", когда ему стало ясно, что издание книги не состоится, и впоследствии к нему не возвращался.
По просьбе Д. В. Набокова я подготовил для него транскрипт рукописи, по которому он перевел "Второе добавление" на английский язык. Этот перевод под заглавием "Father's Butterflies" ("Отцовские бабочки") был опубликован сначала в журнале "The Atlantic Monthly" со вступительной заметкой Брайана Бойда (которая предваряет и нашу публикацию), а затем, с предисловием переводчика, в книге: Nabokov's Butterflies: Unpublished and Uncollected Writings. Edited and annotated by Brian Boyd and Robert Michael Pyle. Boston, 2000. P. 198–234. Благодаря содействию Брайана Бойда и с любезного разрешения Д. В. Набокова "Второе добавление" теперь впервые публикуется на русском языке.
Рукопись, написанная по старой орфографии, изобилует сокращениями, недописанными словами, а также синтаксическими ошибками. Для журнальной публикации я счел возможным, за немногими исключениями, не выделять пропущенные буквы и знаки, исправить, без оговорок, многочисленные описки и унифицировать употребление кавычек. Кроме того, в текст внесены знаки препинания, которые в рукописи очень часто отсутствуют.
Публикация и комментарии А. Долинина
Примечания
1
I От нем. Schmetterlingsbuch — атлас бабочек.
(обратно)2
II Третье сословие (фр.).
(обратно)3
III От нем. Tierchen — зверек.
(обратно)4
1 Из стихотворения Тютчева "Вчера, в мечтах обвороженных…" (1836): "Вот тихоструйно, тиховейно, / Как ветерком занесено, / Дымно-легко, мглисто-лилейно / Вдруг что-то порхнуло в окно".
(обратно)5
2 Nova Zembla — так, искаженной транслитерацией русского топонима, назывался по-английски остров Новая Земля. В романе "Бледный огонь" Набоков назвал Земблой вымышленную страну на севере Европы, откуда бежит в Америку один из его героев.
(обратно)6
3 Немецкий энтомолог Эрнст Гофман (Ernst Hofman, 1837–1892) был автором двух атласов бабочек: "Die Gross-Schmetterlinge Europas" и "Die Raupen der Gross-Schmetterlinge Europas" (оба 1887). На русском языке был издан его "Атлас бабочек Европы и отчасти русско-азиатских владений".
(обратно)7
IV Наблюдавшаяся до сих пор только в Вале (нем.).
(обратно)8
4 Вале — кантон в Швейцарии.
(обратно)9
V Застольными манерами (англ.).
(обратно)10
5 Явная описка. Курт Ламперт (Kurt Lampert) — годы жизни не установлены. Автор тома "Die Schmetterlinge und Raupen Mitteleuropas mit besonderer Berucksichtigung der biologishen Verhaltnisse". Munchen, 1907.
(обратно)11
6 Николай Александрович Холодковский (1858–1921) — член-корреспондент Академии наук, энтомолог. Переводчик Гете, Шиллера, Байрона.
(обратно)12
7 Карл Фридрих Берге (Karl Friedrich Berge, 1811–1883) — немецкий энтомолог. На русском языке изданы его "Бабочки Европы, их распределение, классификация и ловля". СПб., 1883.
(обратно)13
VI От нем. hoch — высокий.
(обратно)14
VII Британские бабочки и мотыльки (англ.).
(обратно)15
VIII От нем. Stammort — место происхождения.
(обратно)16
IX Порядочные люди (фр.).
(обратно)17
8 Имеются в виду две многотомные серии научных изданий с великолепными иллюстрациями, выходившие под редакцией французского энтомолога Шарля Обертюра (1845–1924).
(обратно)18
9 Великий князь Николай Михайлович (1859–1919), видный историк и энтомолог-любитель, издал девятитомный труд "Memoires sur les lepidopteres" ("Записки о чешуекрылых", 1884–1901) на французском, английском и немецком языках.
(обратно)19
X Букв.: Для наследника престола (лат.).
(обратно)20
10 О текстах, которые подверглись цензурным и прочим сокращениям.
(обратно)21
11 Первая из этих двух бабочек семейства сатиров вымышлена, а вторая реальна.
(обратно)22
12 Последнему из вымышленных художников Набоков дал девичью фамилию своей матери.
(обратно)23
13 Якоб Хюбнер (Jakob Hubner, 1761–1826) — немецкий энтомолог, автор одного из первых атласов бабочек. Жюль Кюло (Culot, Jules, 1861–1933) коллекционер. Прославился собранием «декалькоманий» — отпечатков крыльев бабочек.
(обратно)24
14 Имеется в виду описание радуги в начале второй главы романа «Дар»: "Еще летал дождь, а уже появилась, с неуловимой внезапностью ангела, радуга: сама себе томно дивясь, розово-зеленая, с лиловой поволокой по внутреннему краю, она повисла за скошенным полем…"
(обратно)25
15 Арнольд Шпулер (Arnold Spuler) выпустил трехтомный справочник бабочек Европы (Die Schmetterlinge Europas, 1901–1910).
(обратно)26
16 Ганс Ребель (Hans Rebel, 1861–1940) — энтомолог, занимался микролепидоптерами (мелк. баб.). По-русски не публиковался.
(обратно)27
17 Адальберт Зайтц (Adalbert Seitz, 1860–1938) — немецкий зоолог, был главным редактором многотомного энциклопедического издания "Бабочки Земли" (Die Gross-Schmetterlinge der Erde, 1906–1954), оставшегося незаконченным.
(обратно)28
18 Бабочка семейства парусников, названная именем русского энтомолога немецкого происхождения Эдуарда фон Эверсмана (1794–1861).
(обратно)29
XI Замечательный шедевр Великого Мастера лепидоптерологов (фр.).
(обратно)30
XII Хорошую иллюстрацию (фр.).
(обратно)31
XIII Насколько мы можем судить, не зная языка, никогда прежде не предпринималось ничего подобного данному труду, особенно в том, что касается богатства и красоты иллюстративного материала (англ.).
(обратно)32
XIV Переливчатость истины (англ.).
(обратно)33
XV Пурпур, багрянец (англ.).
(обратно)34
XVI Имаго, взрослая стадия развития насекомых.
(обратно)35
XVII Гусеница неизвестна (нем.).
(обратно)36
XVIII Сокр. от лат. "Lepidoptera Asiatica" — "Чешуекрылые Азии".
(обратно)37
19 Во второй главе «Дара» сообщается, что этот труд К.К. Годунова-Чердынцева в восьми томах выходил отдельными выпусками с 1890 по 1917 г.
(обратно)38
XIX Эта ученая пауза (англ.).
(обратно)39
20 Отсылка к жизнеописанию Н.Г. Чернышевского, составившему четвертую главу «Дара». 11 октября 1889 г. Чернышевский пошел на вокзал в Астрахани, чтобы отправить письмо сыну, жестоко простудился, заболел и в ночь на 17-е скончался. В жизнеописании упоминается товарищ Чернышевского по саратовской семинарии Александр Парадизов.
(обратно)40
XX Однажды в Уганде, где я собирал бабочек для коллекции Ротшильда, я видел и упустил… (англ.)
(обратно)41
XXI Хорошо было в Мулине, Ганс, лучше, чем на Суматре? (нем.).
(обратно)42
21 Летом 1938 г. Набоков с женой и сыном жил во французской альпийской деревне Мулине, в 35 км от средиземноморского побережья, близ которой он открыл новый вид бабочки-голубянки, названный им Plebejus (Lysandra) cormion. См.: Brian Boyd. Vladimir Nabokov: The Russian Years. P. 487–488, и вступительную заметку к нашей публикации.
(обратно)43
XXII Я, который охотился на Callimuchus dobrugensis с королем Болгарии… (фр.).
(обратно)44
XXIII Ладно, ладно, фон Нольте, я бы много дал, чтобы видеть ваше лицо в то самое утро на перевале Кампулунго… (англ. и нем.).
(обратно)45
XXIV Поскольку я утверждаю, что между капустной белянкой и белянкой Манна существует еще один средиземноморский вид с изящным напудренным брюшком, пока еще неизвестный… (фр.).
(обратно)46
22 Травестия пушкинского "Пира во время чумы". Ср. слова Председателя: "И ласками (прости меня Господь) — / Погибшего — но милого созданья".
(обратно)47
XXV Ах, снова умирать в жарком мареве того горячего дымящегося болота, среди змей и орхидей, и чтобы те милые мухи вились вокруг… (англ.).
(обратно)48
23 Аллюзия на рассказ Набокова "Terra incognita" (1931), герой которого умирает (неясно, то ли наяву, то ли в воображении) в мреющем и дымящемся тропическом болоте, где растут цветы, родственные орхидеям, ползают ярко-зеленые змеи и вьются цветные мухи.
(обратно)49
24 Квадратные скобки принадлежат Набокову.
(обратно)50
25 Квадратные скобки принадлежат Набокову.
(обратно)51
26 То есть Аристотель (по названию города Стагира, откуда он был родом).
(обратно)52
27 Личность не установлена.
(обратно)53
XXVI Закон бережливости (лат.).
(обратно)54
28 Закон бережливости, или "бритва Оккама" (по имени английского схоластика XIV в.) — принцип, согласно которому сущности не следует умножать без необходимости.
(обратно)55
29 Возможно, имеется в виду W.G. Dawson (?-1928) — энтомолог.
(обратно)56
XXVII Твердая почва (англ.).
(обратно)57
XXVIII Недоумения (англ.).
(обратно)58
30 Аллюзия на стихотворение Пушкина "Дар напрасный, дар случайный…" и на укоризненный стихотворный ответ ему митрополита Филарета "Не напрасно, не случайно…", с которым в данном случае соглашается К.К. Годунов-Чердынцев. Само заглавие романа, «Дар», подразумеваемое, но не названное здесь, восходит, в первую очередь, к этой стихотворной полемике.
(обратно)

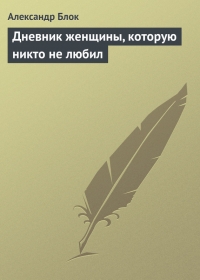

Комментарии к книге «Второе добавление к «Дару»», Владимир Набоков
Всего 0 комментариев