Сергей Минцлов За мертвыми душами
Очерк первый
I
Собирать книги и предметы старины так, как это делается всеми нашими любителями, — неинтересно.
Газетные объявления, аукционы, антикварные магазины — вот все источники, из которых черпают они все свои приобретения. Путь дорогой, не всякому доступный и суженный до последних пределов; в нем нет творчества, это путь бар, привыкших, чтобы жареные рябчики сами валились им в рот.
Между тем, Россия была полна оазисов, где в тиши и в глуши таились такие сокровища, какие весьма редко можно встретить на рынке. А так как не гора пошла к Магомету, а Магомет к горе, то в один августовский вечер я сел в вагон, и он понес меня в глубину России.
Через день, в сумерках, поезд, не признающий по обыкновению на боковых линиях таких пустяков, как расписание, с большим опозданием дотащил меня до станции Ельня.
Моросил дождь; на пустынном перроне одиноко стояла длинная тощая фигура не то Гамлета, не то Мефистофеля в черном кургузом плаще до талии и в черной шляпе с широченными полями. До полного сходства ей не хватало только шпаги и пера на голове.
Это был Ченников, мой приятель, с имения которого я решился начать свое путешествие.
Зоркие ястребиные глаза его сразу отыскали меня в кучке высадившихся пассажиров, и он, бесцеремонно расталкивая всех, поспешил ко мне навстречу.
— Два часа уже тебя жду! — заявил он. — И жена со мной.
— Где же она?
— Устала, в экипаже сидит!
Я забрал свой чемоданчик и плед с подушкой, и мы вышли на другую сторону станции. У подъезда стояла рыжая тройка, запряженная в коляску с поднятым кожаным верхом. Из-под него протянулась маленькая женская рука.
— Здравствуйте, наконец-то дождались вас! — приветливо заговорил знакомый голос Софьи Михайловны.
Чемодан водрузился на козлы, мы уселись, и коляска шагом тронулась с места.
— По городу иначе нельзя!.. — пояснил Ченников, — колдобина на колдобине; выберемся на большак, иная статья пойдет! Вот посмотри, полюбуйся на нашу Венецию! — Он указал рукой на чудовищную, чуть не с Марсово поле, грязную лужу. Кругом нее тянулся ряд низеньких деревянных домиков, безнадежно унылых, темных и мокрых. Скука закрадывалась в душу от их вида.
Коляску колыхало, как лодку в море, и мы поневоле «жали масло» то из маленькой пышки — Софьи Михайловны, сидевшей с одного края, то из мощей ее супруга, помещавшегося с другого. Чтобы не откусить язык, мы ехали молча. Город наконец кончился, коляска пошла ровнее. Ченников подался вперед к спине кучера.
— Ефим, тряхни! — сказал он.
Локти кучера зашевелились. Тройка перешла на рысь, потом взяла полным ходом, и мимо замелькал густой лиственный лес; шумел ветер, чавкали копыта коней, по кожаному верху стучал дождь, а мы, уютно зажавшись в глубине коляски, вели оживленный разговор о далеком Питере, о всяческих новостях и о знакомых.
Десять верст незаметно остались за нами. Ночь окончательно заволокла все кругом. Впереди замигали огоньки усадьбы, раздался собачий лай, и мы скатились в черный зев ворот; коляска остановилась у дома. В освещенной висячей лампой столовой нас ждали с чаем и ужином старик-отец Ченников и три сестры последнего.
Дмитрий Филиппович Ченников — фигура не рядовая. Он был некрасив; на впалых, желто-бледных щеках и змеистой, тонкой верхней губе у него темнели реденькие темные волоски; большой плотоядный рот при разговоре всегда ощеривался, обнажая два ряда неровных крупных зубов; под серыми властными и внимательными глазами всегда лежала синь. Сразу в нем чувствовался себялюбец до мозга костей и что-то хищническое.
И он, действительно, был большой хищник… волк по женской части в своем уезде! Женщина была его альфой и омегой. Жизнь его являлась сплошной охотой на них, циничной и откровенной.
В Питере женщинам он не нравился: в нем было слишком много уездного, начиная с речи, не всегда правильной, чисто смоленской, с его «видитя», «слушайтя» и т. п. Студентом Харьковского института дома на каникулах он производил фурор: грива волос на голове, небрежный костюм, горячие речи и тон а ля Базаров — все это действовало вокруг Ельнинской лужи потрясающе. Ветеринарные студенты ведь всегда сердцееды и «нигилисты»!
Одевался он, как художник: на шее гигантской бабочкой торчал необыкновенный по величине и яркости бант; длинные волосы падали почти до плеч. Но он обладал тем, что у уездных франтов обыкновенно отсутствует: большой наблюдательностью, тонким юмором и умом, делавшими беседу с ним всегда интересною. И когда вы говорили с ним, то чувствовали, что перед вами талантливый человек.
Что в нем было поразительно и неподражаемо — это мимический дар. Иногда среди разговора он вдруг понуривал голову, скрещивал на груди руки — и вы уже хохотали: перед вами стояла живая, метко подмеченная карикатура того, о ком шла речь.
Незадолго до нашей первой революции Ченников зимы стал проводить в Петербурге, где я и познакомился с ним. Он выпустил «Думский Альманах»[1] с карикатурами на события тех дней и на членов Первой Думы. Все вызывавшие такой смех читателей позы действующих лиц художники рисовали с самого Ченникова.
Актер он был великолепный, но сценой почему-то не интересовался. Студентом и позже он увлекался писательством, печатался, но потом забросил перо и взялся за издательство. Года через три он оставил и это, и значительно позже описываемого здесь времени, в сорок лет, вдруг взялся за кисть и за палитру и, не учась, самоучкой, после нескольких плохих картин овладел техникой и так быстро пошел в гору, что последние работы его — пейзажи — уже можно назвать художественными произведениями. И это увлечение погасло… Искрами от костра разбросался и исчез, не создав ничего, большой талант…
Еще крепкий, но уже впадавший в детство добродушный сатир и три безнадежно целомудренных старых сухаря разных форматов, — вот что такое были сестры и отец Ченникова.
Я увиделся с ними в первый раз в жизни, но папаша встретил меня радостно, будто старого знакомого, и обеими руками крепко пожал мою.
Во время ужина он сидел за большим овальным столом против меня и раза два лукаво подмигнул мне глазами. Грозные взгляды — шпаги — всех трех дев заставляли его подымать свои выцветшие зеркала души к потолку и с невинным видом барабанить перстами по столу.
В чем заключалось дело, я понял после ужина.
Выпал миг, когда я один остался в столовой и вдруг почувствовал, что кто-то дергает меня за рукав. Я оглянулся: из-за большого фикуса на меня глядело лицо старика.
— Женский пол любите? — шепотом, но довольно громко спросил он. Не успел я раскрыть рот, как старик отвернулся, замурлыкал и уткнулся в оконное стекло.
— Ах, старый черт! — укоризненно произнес голос вошедшего Дмитрия Филипповича. — Сказано тебе раз навсегда, чтобы не смел приставать ни к кому. Убирайся вон!
Старичок бочком выбрался из зеленой заросли.
— А ты-то, Митечка, сам любишь ведь? — забормотал он с заискивающим видом, — беседка-то, а?
Дмитрий Филиппович помог ему ускоренно достигнуть двери и захлопнул ее.
— Что уж ты так вытолкал старика? — примирительно заметил я. — Пускай себе болтает!
— Субординация нужна! — ответил Ченников, сев на стул и вытягивая длинные ноги до середины комнаты. — Его распусти только — черт знает что натворит. Ах, и развратный же хрен! — Ченников помотал головой и залился тончайшим фальцетным смешком, — раз как-то так случилось, что на Рождество он на три дня один в доме остался. Приезжают потом сестры вечером — весь дом освещен, а в нем Содом и Гоморра: полны комнаты девок, все пьяны, пляшут, поют и среди них папахен в виде Адама па выделывает!
— А ведь и ты, брат, тем же местом ушиблен! — помолчав, сказал я.
— Ушиблен, верно! — с убеждением, комически воскликнул Ченников. — Все под боженькой ходим, планида, значит, такая!
Мы перешли к обсуждению дальнейшего плана моих действий. Об отъезде на другой день нечего было и думать — Дмитрий Филиппович и Софья Михайловна воспротивились этому самым решительным образом. Порешили на том, что я выеду вместе с Дмитрием Филипповичем через два дня к Фирским, в знаменитое когда-то имение композитора М. И. Глинки[2]. Дальше путь мне предстоял уже в одиночестве, на наемных лошадях и по составленному на общем совете маршруту.
У мелких и средней руки помещиков кроме общечеловеческих слабостей имеется еще специальная: по приезде нового гостя все они считают непременным долгом показать ему свое хозяйство. Часа два вас водят по конюшням с Россинантами, по пустым скотным дворам, по вонючим свинарникам, требующим не показов, а чистки, и наконец вас, достаточно унавоженного, приводят в сад и дают возможность отдохнуть в тени и подышать свежим воздухом.
Ченников этою манией не страдал. Утром, минуя все конюшни, мы вышли с ним в сад и обошли его по еще сырым дорожкам. В одном из наиболее глухих углов, среди ольховой заросли, торчала побуревшая от времени беседка-башенка с тесовою кровлей.
Ченников указал на нее костлявой рукой.
— Храм любви!!. — как бы изнывая от воспоминаний, шутовски заявил он, — семейное, так сказать, учреждение… Осматривать не стоит: кроме рваной кушетки, других музейных редкостей в ней нет!
— Я не хозяйничаю!.. — поспешил добавить Дмитрий Филиппович, заметив мое недоумение. — С выговорами обращайся к сестрам: имением занимаются они. Одна ведает молоком, другая садом, третья полем, жена детьми… На мне тяготеют одни высшие соображения!
— А именно? Заклады имения?
— Заклады дело не худое: я на него второе именьице прикупил! — ответил Ченников.
Мы обошли вокруг дома. Он оказался совсем новым, пристроенным к небольшому, старому флигелю. Ни сколько-нибудь старинной мебели, ни бумаг, ни даже книг, кроме самых новейших, в нем не имелось.
— Погоди, завтрашний день тебя вознаградит за все, — сказал мне Ченников в виде утешения. — Узришь и поражен будешь!
Вечером все мы засиделись в столовой до полуночи; шли разговоры о предчувствиях, привидениях и вообще о потустороннем.
Старик Ченников исчез сейчас же после ужина и потом раз пять проходил с озабоченным видом через столовую; интереса к нашему разговору он не выказывал ни малейшего. Огромный зато интерес проявили все остальные; у некоторых на глаза набегали даже особые слезы, проявляющиеся, как известно, у слушателей только при самых жутких местах повествований.
Дмитрий Филиппович в Бога не верил до ярости, не желал даже крестить детей своих, так что каждые крестины стоили добродушной и кроткой Софье Михайловне долгой борьбы с ним. А в чертовщину, оказалось, верил до слез. Историй было рассказано множество, и наконец мы разошлись с зажженными свечами по своим комнатам. Как мне ручалась потом Софья Михайловна, даже сам домашний Мефистофель пробирался к себе, потрухивая в душе; необыкновенно боялся он, как оказалось, трех вещей: возможности заболеть, привидений и мышей.
Я вступил в свою маленькую комнатку, еще не оклеенную обоями и пахнувшую свежей сосной, запер дверь и только что поставил свечу на ночной столик, — в окно слегка стукнули.
Я невольно вздрогнул. Сквозь стекло смутно обрисовалось чье-то прижавшееся к нему сплюснутое лицо. Я поспешил к окну и отворил его; передо мной в виде мокрого и растрепанного перепела стояла фигура родоначальника дома. В спальню мою ворвались свежесть и шум деревьев — был ветер.
— Марья в беседке ждет!.. — зашептал старик, подавшись плечами в комнату. — Лезьте в окошко!
— Какая Марья? — с недоумением спросил я.
— Скотница!.. чего вы там пустяками-то занялись? лезьте скорей, здесь низко!..
— Нет, благодарю вас!.. — ответил я, сообразив в чем дело.
— Папаша?!. — пронесся среди темноты визгливый зов; я узнал тонкий голос вертлявой и маленькой старшей сестры Дмитрия Филипповича.
Старик так и присел, держась руками за край подоконника, и часто заморгал глазами. Только голова и кончики пальцев виднелись мне.
— Папаша-а?! — проверещал, очень похожий на первый, голос второй сестры.
— Идите же, ведь вас ищут! — сказал я.
Старик нырнул и разом исчез во мраке. Шорох быстро кравшихся шагов долетел до меня и слился с шелестом листьев.
— Папаша, папаша, папаша?!! — хором прокричали все три.
— Папаша-а-а?! — покрыл все звуки ночи басок плечистого богатыря, младшей Ченниковой.
Было до того карикатурно похоже на знаменитую любовную серенаду «трех кавалеров», что я засмеялся и высунулся наружу; с заднего крыльца во тьму и пространство тянулись три руки с горевшими свечами. Я подался вперед еще больше и узрел всех трех сестер, сбившихся в тесную кучу; лица и руки их казались совсем белыми.
— Иду, чего там!.. — недовольно отозвался где-то, совсем близко от крыльца, старик.
Я закрыл окошко и улегся спать.
II
На следующий день, после сытного завтрака и горячего прощанья, знакомая тройка рыжих понесла меня и Дмитрия Филипповича по дороге к Фирским.
Имение их расположено на высокой, издалека видной горе, словно нарочно насыпанной среди равнины. Вершина ее вся заросла густым лесом, и усадьбы долго видно не было. Подъехав ближе, я увидел, что то был не лес, а вековой липовый парк; дорога дала петлю и затем стала подыматься к нему. Скоро перед нашими глазами на обширной пустынной поляне, будто старый огромный гриб-шляповик, вырос, еще Екатерининской стройки, деревянный дом с большим мезонином; часть окон его была заколочена досками; стекол в большинстве рам не имелось совершенно. Верхний балкон давно обрушился, и только боковые перила, с частью еще державшихся точеных балясин, точно две беспомощно опустившиеся руки торчали в воздухе. Подъезда не было и помина, но следы его, в виде светлых полос, как бы шатер, рисовались над распахнутой дверью. Крыша на доме кое-где провалилась: доски обшивки местами отстали и сползли со стен, обнажая темные ребра бревен.
Тройка остановилась против входной дыры в дом; там виднелся широкий коридор, заполненный кулями с овсом.
— Да разве здесь живет кто-нибудь? — спросил я озираясь.
— Внук Глинки, член земской управы, потомственный дворянин Фирский[3] собственною своей персоной!.. — с усмешкой, вполголоса ответил мне спутник.
Мы вышли из экипажа.
— Что же, разорен он совершенно, что ли? — продолжал я допрос.
Удивлению моему не было пределов: дом грозил ежеминутным падением, и как могли в нем жить люди — мне казалось непостижимым.
— Нет… — отозвался Ченников.
Дом стоял на довольно высоком фундаменте, и, чтобы попасть вовнутрь, приходилось взбираться по куче крупных камней, оставшихся от развалившегося крыльца.[4]
Только что мы одолели это препятствие и как по тропинке стали пробираться между двумя стенами из кулей, откуда-то сбоку показался деревянного вида господин лет тридцати пяти с необыкновенно узким, точно обтесанным по бокам, лицом и дубовым носом; незнакомца украшала рыжая, французская бородка, одет он был в серый измятый пиджак, из-под которого виднелась подпоясанная шнурком синяя рубаха.
— Здравствуйте, Иван Павлович! — воскликнул Ченников, выступавший впереди. — Сколько времени не видались мы с вами?!
— Здравствуйте… — равнодушно отозвался тот, подвергаясь энергичному трясению руки. Наше неожиданное появление ровно ничем не отозвалось ни на лице, ни в бесцветных глазах хозяина.
Дмитрий Филиппович познакомил нас.
— Со стариной нашей губернии приехал ознакомиться! — сказал он про меня. — Разумеется, ваше имение никак нельзя было объехать!..
— Что ж, милости просим… пожалуйста… — монотоннее кукушки ответил хозяин.
Мы вступили в обширную лакейскую. Вокруг стен ее тянулись новые лари для ссыпки зерна. Фирский открыл высокую дверь с двумя-тремя уцелевшими кусочками золоченой резьбы в верхней части ее и еще раз повторил: — пожалуйста!
Перед нами была огромная и высокая, странная зала — белая, с темным клетчатым потолком. Только несколько минут спустя я сообразил причину ее необычайности: потолок был покрыт старинною крупною подрешеткою, самой же штукатурки на нем давно не существовало.
У стен, точно в магазине, было нагромождено множество старой мебели. У двери имелся уголок, устроенный наподобие гостиной; у стены справа безмолвствовал длинный рояль красного дерева с украшениями из золоченой бронзы.
Хозяин ткнул нам пальцем по направлению кресел, жавшихся кругом овального стола, а сам пошел за женою.
Мы сели. Опускаясь в кресло, я заметил, что сажусь на растрепанную мочалу: обивка на сиденье и спинке отсутствовала и только по клочьям синей ткани, удержавшейся кое-где на гвоздиках, можно было судить, что таковая когда-то имелась. Я перевел глаза на диван и другие кресла и убедился, что все они были в таком же состоянии. Мебель в зале находилась всевозможная: диваны красного и орехового дерева со сломанными спинками, кушетки, стулья, кресла александровской эпохи с перебитыми ножками и т. д. Все это было изодрано и испачкано, и только немногие предметы казались целыми.
— Рояль Глинки!.. — многозначительно проронил Ченников.
Я оглянулся и тут только заметил, что ножек и педали у рояля нет и что драгоценный инструмент стоит на трех толстых и круглых березовых поленьях. Мой спутник откинулся на спинку кресла, вытянул вперед ноги и с видом Мефистофеля закачал острыми носками ботинок. Мое изумление его забавляло.
А я был поражен как никогда! Я ехал в гости к великой тени и был убежден, что наследники и родственники автора «Жизни за царя» и «Руслана и Людмилы» любят и берегут его уголок — и что я найду последний хотя бы в приблизительной неприкосновенности.
— Белый зал!.. — вполголоса отчеканил Ченников. — Посмотри — на стенах остатки золоченых шпалер… Представляешь себе Глинку, гуляющего или сидящего здесь?
— Нет! — вырвалось у меня. — Это хоромы Плюшкина!
Отворилась левая из двух противоположных дверей, и показалась довольно полная блондинка не первой молодости и свежести, в белой, очень похожей на ночную, кофте и в полосатой юбке. За ней понуро шагал глава дома.
— Здравствуйте! — приветливо заговорила она, идя к нам. — Как это мило, Дмитрий Филиппович, что вы вспомнили, наконец, своих соседей!
Ченников представил меня, и хозяйка жестом театральной гранд-дамы указала нам на кресла. Мы опустились на них, и среди рынка начался «светский» разговор.
Хозяйка, видимо, не понимала всей его нелепости и вознеслась в эмпиреи. Ченников порол ей в тон всякую околесицу, а я сидел, как на иголках: хотелось поскорее уйти прочь, заглянуть во все уголки старого дома, пройтись по парку, нашептывавшему Глинке его мелодии…
Ченников понял наконец мое душевное состояние и обратился к хозяйке с просьбой разрешить мне посмотреть дом.
— Да, да, разумеется, конечно!.. — любезно согласилась она. — Только сперва мы выпьем кофе, не правда ли? Я уже распорядилась… Ваничка, поторопи…
Ваничка, все время с видом жертвы рассматривавший свои ноги, встал и ушел торопить. Через несколько минут босая, растрепанная девка, со щелками вместо глаз и рта, ухмыляясь, видимо, необычайному ей делу, внесла большой поднос с четырьмя чашками бледно-рыжего кофе и со всем, что в деревне к нему полагается — с ломтями белого хлеба, маслом и густыми сливками.
Иван Павлович водворился на прежнее место и принялся жевать хлеб и пить кофе.
— А библиотека Глинки у вас сохранилась? — спросил я хозяйку.
— Библиотека? — удивилась та и повернулась к мужу, — Ваничка, где у нас библиотека?
Тот вынул из чашки свой нос и задумался.
— Была в курятнике… — несколько погодя, ответил он.
— В старом?
— Нет…
Должно быть, глаза у меня вылезли на лоб от их мирной беседы; хозяйка приметила мое изумление и поспешила пояснить обстоятельство дела: — Это, видите ли, угловая комната у нас в доме, — сказала она, — библиотечная стала сильно протекать, книги и перенесли в угловую. А потом на зиму пришлось перенести туда кур, они ведь боятся, знаете ли, холода!
— Если эти книги не составляют для вас семейных реликвий… — осторожно стал я подходить к цели моей поездки, — то, может быть, вы не откажете часть их продать мне?
— Он великий любитель книг, — вступился Ченников. — У него замечательная библиотека!
— Да… но какие же книги у нас? — все хлам, старье: ни модных романов, ничего порядочного…
— Чем старше, тем лучше!.. — ответил я.
— Но я боюсь, что мосье испачкается: там пыль, паутина!..
— Это не страшно!.. Разрешите встать и пройти взглянуть?
Хозяйка с любезной улыбкой наклонила голову, и затылок ее показал мне фигу из жидких волос.
— Пожалуйста! Ваничка, проводи…
Ченников остался любезничать с хозяйкой, а я вслед за Иваном Павловичем пересек зал и вышел в широкий коридор.
Слева и справа вели куда-то высокие двери. Коридор заполняли всяких размеров кадушки, пустые и с огурцами; между ними торчали бутылки, валялись пузырьки и даже два задних колеса от телеги. Казалось, что я шел по какому-то «развалу», куда ветошники вынесли для торга всякую заваль и никудышину.
Мой вожатый отворил последнюю дверь справа, и мы очутились в полу сумерках. Свет золотыми полосками проникал в щели между досками двух больших, заколоченных окон.
Иван Павлович подошел к ближайшему и ударом ноги отшиб одну тесину, затем другую, и в комнате стало светло. Справа и слева от входа, наклонившись вперед, темнели два хромоногих, больших комода. Ящики из них были полувыдвинуты и виднелось содержимое — книги и тетради. Поперек комнаты, лестницей, были устроены нашесты для кур, занимавшие всю заднюю половину. Под нашестами аршина на полтора в вышину грудился куриный помет, спекшийся от времени в твердую кору.
— Только и всего у вас книг? — осведомился я, указывая на комоды.
Иван Павлович глубокомысленно придержал себя двумя пальцами за самый кончик бородки.
— А тут-то? — ответил он, показывая глазами на кучу навоза.
— И там книги? — вскрикнул я.
— Ну да. Навозу на них совсем чуть-чуть, разве на четверть. Куры ведь только зимой здесь у нас сидят!
Я забрался под нашест и увидал, что спутник мой был прав. Навоз был совершенно сухой и легко снимался целыми пластами. Я скинул пиджак и долго не мог найти место, куда бы возможно было приткнуть его без риска превращения его в шкуру пятнистого ягуара; стены были в паутине; комоды покрывала, по крайней мере, на палец толщиною, пыль. Я повесил, наконец, пиджак на ручке двери и приставил калеку-стул к левому комоду.
— Нельзя ли щетку или метелку у вас попросить? — обратился я к Ивану Павловичу.
— Зачем?
— Местечко на полу для книг надо очистить — класть их из комодов некуда.
— Да пол-то на что?
— Грязен он очень!
— Какая же это грязь? это пыль… мягко, что им там сделается? Книга пыль любит. Валите к стене и ладно!
Я обтряхнул носовым платком стул, отчего золотистое облако наполнило на несколько минут комнату, затем уселся и с волнением приступил к разборке.
Иван Павлович молча сопел позади меня:
— А я уж уйду?.. — проговорил наконец он. — Если понадоблюсь, покричите!
Я остался один.
Поймете ли вы, читатель, то, что испытывал я в те минуты? Курятника не стало, дом омолодел, зазвенели давно умолкнувшие голоса. В шелесте листов альбомов и писем слышался шелест платьев, чувствовался их аромат, незримые тени плыли мимо…
Но надо было торопиться! Я бережно, на платок, отложил особою кипою письма и рукописи и принялся за просмотр книг. К прискорбию моему, почти все они оказались разрозненными, а главное, испорченными: целые десятки листов были вырваны из них чьими-то злодейскими руками.
Покончив с комодами, я перебрался к груде и принялся отдирать навозные слои.
Впервые здесь я убедился, какой благодетель куриный помет для русских книг и как великолепно они сохраняются под ним! Портятся только самые верхние облицовочные книги и то лишь в том случае, если они без переплетов. Зато ни одна каналья не полезет под нашест, чтобы вытащить «на цыгарки» загаженную книгу, и всегда предпочтет запустить лапу в шкаф или ухватить что ни попало и выдрать наискось столько страниц, сколько захватят корявые пальцы. Книги главным образом были Екатерининского времени, но попадались и издания времен Анны Иоанновны и Елизаветы. Пару книг я выудил Петровской эпохи, а затем несколько масонских, изданных в царствование Александра I.
Раза два ко мне наведывался и что-то говорил Ченников, безмолвно сопел за моей спиной хозяин, звали меня завтракать, но было не до того: как можно говорить о завтраках, когда у тебя в руках «Описание о Японе», увидавшее свет в 1734 году[5]? С пола я встал только тогда, когда перебрал все книги до последней. Отдельно я отложил порядочную кучку книг, рукописей и альбомов.
Выйти в гостиную в виде зебры было немыслимо. Я воззвал в коридоре к Ивану Павловичу и, когда он появился, показал ему чумазые руки и такие же невыразимые, и он повел меня мыться и чиститься.
Та же босоногая девка принесла мне глиняный таз с водой, усердно, как конюх лошадь, со всех сторон поскребла меня стертой донельзя щеткой, и мы направились в гостиную.
И Ченников и хозяйка, видимо, изнемогали от зверской обязанности два часа беспрерывно занимать и приятно улыбаться друг другу.
Увидев меня, оба просияли.
— Ну, что, увенчались ваши труды успехом, нашли что-нибудь интересное? — обратилась ко мне хозяйка.
— О да! — ответил я. — И даже очень много!
— Отдохните, садитесь!.. — продолжала она. — Вы, я думаю, совсем измучились! Вот вы какой любитель… даже странно видеть в наш век.
От отдыха я отказался и выразил желание осмотреть дом и затем погулять по парку.
— В доме смотреть у нас нечего! — ответила хозяйка. — Все, знаете ли, протекает, так мы живем только в трех комнатах, остальное все пусто. Но если вы такой интересан, пожалуйста! Ваничка, покажи!
На этот раз Ченников предпочел наше общество тет-а-тет с хозяйкой и, взяв Ивана Павловича под руку, пошел с ним вперед.
Широко жили наши предки! Об этом свидетельствовала всякая комната, в которую вступали мы. Каждая из них легко могла вместить обычную петербургскую квартиру в три-четыре клетки. Хода наверх не было; вместо него загадочно глянула на нас дыра в потолке: лестница давно обвалилась и исчезла в печах в зимнюю пору.
Обходя дом, я понял, почему зал произвел на меня впечатление мебельного магазина: в него была поснесена обстановка почти из всех комнат; Иван Павлович распахивал одну дверь за другой, и темень и пустота обдавали нас запахом гнили и сырости; вглядевшись, можно было различить висевшие с потолка доски и зеленые и черные пятна плесени, расползшиеся по стенам.
— Протекает… — неизменно куковал перед каждою комнатой хозяин.
— А где же был кабинет Михаила Ивановича? — спросил я.
Иван Павлович молча открыл дверь с противоположной стороны коридора; в два больших окна лился свет, на нас глянул сад; одна из лип в самую комнату вдвинула свою зеленую руку. Рам не было и помина, но окна со стороны сада почему-то стояли не заколоченными.
— Кабинет… — произнес хозяин. — Рояль, что в зале, здесь стоял, а там другой был!
Жилища всегда сохраняют в себе излучения душ его обитателей. И мы, живые станции века беспроволочного телефона, чувствуем эти излучения и переводим их не только во впечатления, но и в ощущения.
И в пустой, высокой комнате я почувствовал присутствие Глинки. В ней впервые прозвучал «Дивный терем стоит»[6]. Пел ее калека-рояль, тогда полный звуков и сил, слушая молодежь, — теперь старые, разбитые стулья и кресла, да эти липы, что глядели и теперь в окно… Как ненужно и чуждо делается все остающееся от ушедшего поколения тем, кто сменяет его! Книги, мебель, оружие, даже монеты — все служит только одному, много двум поколениям. Редко-редко что-либо переходит из века в век! Кому-то нужна смена жизни и разрушения. И как хорошо, что существует детство, юность, осень и смерть!..
Из кабинета мы вернулись в коридор и вышли в сад.
— Пожалуйста, не церемоньтесь с нами! — сказал Ченников хозяину, — у вас, наверное, есть дела и идите себе. Я парк знаю и покажу его Сергею Рудольфовичу!
— Ну, что же!.. — с приметным облегчением согласился Иван Павлович. — Меня, действительно, того… ждет кое-кто!
Он исчез.
Мы вступили точно в тоннель со сводом из зелени: по обе стороны темнели неохватные стволы лип. Аллея густо заросла лопухами и травой, и только по самой середке куда-то в сумерки, в прохладу и даль вилась протоптанная тропочка: казалось, мы попали в сказочный лес; вот-вот впереди должна была показаться избушка на курьих ножках или домик из пряников!
— Видел, где я нашел книги? Под куриным навозом! — воскликнул я; я все еще нё мог прийти в себя от избытка впечатлений.
Ченников вздернул вверх угловатые плечи.
— Неблагодарный! — напыщенно произнес он. — Возблагодари судьбу, что там сидели только куры! Что бы сталось с твоими книгами, если бы в угловой прозимовала корова!
— Но почему же они живут так? — продолжал я. — В долгу они как в шелку, да?
— Отнюдь! Дворянское дно и только! Чувствуют себя оба прекрасно, нигде решительно не бывают и вот уже десять лет все решают, что делать — продать имение или строить новый дом.
Аллея свернула влево; она в виде квадрата окаймляла обширный луг, очевидно, бывший когда-то сплошным цветником. Дом стоял на середине одной из сторон и виднелся отовсюду. Со стороны цветника он опирался на четыре колонны; за ними располагалась длинная крутая веранда.
Мне вдруг вспомнилась чудесная картина — «Все в прошлом»[7]. На заднем плане ее изображен совершенно такой же дом, и мне почудилось даже — уж не с него ли писал свою картину художник?
Мы обошли главную аллею и попали на двор.
Наши выпряженные лошади стояли среди него, поодаль от всех строений, привязанные к задку коляски, и ели сено. Кучер со скучающим и небрежным видом похаживал кругом них и помахивал веточкой жасмина.
— Закладывай, Ефим! — приказал Ченников. — Накормили тебя?
— Сыт-с, — с презрением в голосе ответил тот.
— Что, или плохо?
— Да добросовестно-с. Оно бы при таких хоромах и не шло даже! Я уже коней к стенам близко и не ставил: убьет, хорони Господь!
Мы взобрались в дом и опять мимо кулей с овсом вернулись в зал. Немедленно из дальних показались и хозяева. Отобранные мною книги высокой грудой лежали в «гостиной» на диване.
— Понравилось? правда чудесный парк? — спросила хозяйка. — Конечно, запущен немного…
— Парк дивный! — поспешил согласиться я. — Разрешите теперь закончить дело: сколько я вам должен за эти книги и рукописи?
— За эти? — она взглянула на груду, потом на мужа. Тот пожал плечами.
— Ничего, конечно!
Меня обдало, как холодной водой.
— Как ничего, помилуйте?!
— Разумеется ж ничего… это даже смешно говорить о таких пустяках!
— Да вовсе не пустяки! — Хозяйка не дала мне договорить. — Мы дворяне! — напыщенно произнесла она. — Дворяне книгами не торгуют.
— Но я-то в каком положении перед вами? Мне-то за что вы их дарите?
— На память о Глинке: вы такой поклонник его! Пусть они послужат вам в вашей библиотеке!
Делать было нечего! Пришлось шаркать ножкой, целовать ручку и говорить акафистные слова. Книги были увязаны в пачки, узкоглазая девка вынесла их на двор, и мы стали прощаться с хозяевами.
Оба вышли проводить нас. Я сунул в руку девки на чай рублевку, и она так ошалела от такой диковины, что сперва застыла, разинув рот и глядя на бумажку, и потом со всех ног, словно желая забодать, ринулась целовать мне «ручку». Я едва спасся в экипаже.
— Пошел! — сказал Ченников.
— Доброго пути! — крикнула хозяйка, посылая нам что-то вроде воздушного поцелуя. Мы, махая шляпами, беззвучно покатились по траве. Один поворот, и старый дом скрылся из вида…
III
— Да брат!..
Река времен в своем стремленьи Уносит все дела людей И топит в пропасти забвенья Народы, царства и царей![8] —продекламировал мой спутник. — А посему —
Мертвый в гробе мирно спи, Жизнью пользуйся живущий![9]Я молчал; я еще был в аллее Глинки.
— Так ведь, а?.. — Ченников слегка хлопнул меня по коленке.
— Любопытная вещь, — ответил я, — в библиотеке Глинки отсутствовали французские книги; были почти сплошь все русские!
— Путное что-нибудь осталось?
— И даже порядочно. Я отобрал лишь квинтэссенцию.
— Что ж ты не сказал мне? — вскинулся Ченников, — все бы и забрали дочиста! Даром ведь отдавали!
Я отмахнулся.
— Полно! И так очень неприятно и неудобно вышло!..
Ченников неодобрительно посмотрел на меня.
— Ты вот что, друже, — назидательно произнес он, — коли взялся дело делать, так душевную меланхолию свою оставь! Грабь и тащи все, что ни увидишь — все равно собаке под хвост пойдет! Книги пыль разводят, места они много зря занимают, но и в печку их попросту запихать как-то неудобно, и вдруг является благодетель — твоя милость! Какие же тут могут быть церемонии?! А, во-вторых, — чем ты рискуешь? На тебя — извини за правду — все равно везде будут смотреть как на юродивого, ну какой нормальный человек поедет за сто верст киселя хлебать — за старыми книгами? Ведь это же мертвые души, ты Чичиков.
Меньше чем через час тройка принесла нас на постоялый двор в большое село. Там произошла пересадка.
Ченников, везде распоряжавшийся, как полицеймейстер на пожаре, вытребовал к себе некоего Мирона — рябого и невзрачного белобрысого мужичонку, занимавшегося извозом, и сам договорился с ним о дальнейшем моем путешествии, причем подробнейшим образом перечислил все имения, куда тот должен был меня завезти и на какую станцию железной дороги затем доставить.
Торг окончился к общему удовольствию, и Мирон побежал запрягать.
Я поручил свои книги приятелю, поблагодарил его за хлопоты, и мы распростились.
— Смотри же, будем ждать тебя! — сказал, садясь в коляску, Ченников, — Если не заедешь на обратном пути — клянусь, что не увидишь книг этих, как ушей своих! Помни же: грабь! — крикнул он уже на ходу, и коляска скрылась за воротами; пелена пыли, как дым от паровоза, разостлалась над улицей.
Через несколько минут на двор, звеня и бренча всеми железными частями, вкатилась запряженная парой лопоухих белых лошадок старая бричка с кожаным порыжелым и рваным сиденьем. Я уложил свои вещи, уселся. Мирон задергал вожжами, и мы среди бесновавшихся собак проехали немного по улице и свернули в проулок; кругом открылись желтые сжатые поля с темными линиями лесов на горизонте.
Мирон повернулся в полуоборот ко мне. Голубые глазки его внимательно осмотрели меня, словно взвесили, с сапогов до шляпы.
— К Батенькову едете? — проговорил он, — знакомые, что ли?
— Нет, по делу.
— Вот оно что! Овес, стало быть, покупать у него? Хороши овсы у него стояли, — во, истинный Бог! — Мирон показал рукой аршина на два от земли. — По купецкой части, стало быть, будете?
— По купецкой. А кто такой этот Батеньков?[10]
— Батеньков-то?
— Да.
— Барин. Барин как есть, во всей форме! — с убеждением ответил Мирон.
— Молодой он или старый?
— Молодой. Годов двадцать два ему: опеку года два только как сняли, померши родители-то у него! — Мирон захихикал и закрутил носом. — И прокурат же! — добавил, — как это приедет из Питера с приятелями — киятры в дому, пиры горой… Веселый!
— Далеко до его имения?
— До Вихровки-то? Пятнадцать верстов, вот сколько! — Он глянул на солнце, стоявшее уже довольно высоко. — В шесть часов на месте будем.
Расчет моего возницы оказался математическим: ровно в шесть часов дня мы точно по коридору из подстриженной акации въехали на просторный двор. Справа густой стеной стоял сад, слева, описывая широкий полукруг, отходила строго вытянутая линия хозяйственных строений. Из гущи сада, из-за кустов сирени блестели стекла мезонина барского дома.
Против него, между двух старых яблонь, одиноко росших на самой середине двора, бледно горели два костра; кругом них стояло четверо людей, помешивавших что-то в огне пламени. Тут же находились две большие бельевые корзины, наполненные разноцветными бумагами. Завидев нас, все оставили свое дело и повернулись в нашу сторону.
— Купца привез к тебе, Петра Иваныч! — прокричал Мирон, подъезжая к кострам. — Весь овес заберем!
Бричка остановилась, я слез.
— Могу я видеть господина Батенькова? — осведомился я у человека средних лет, сделавшего несколько шагов навстречу мне.
Одет он был в синюю русскую рубаху, подпоясанную ремнем, в пиджак и в высоких сапогах. По всей его фигуре сразу можно было заключить, что перед вами приказчик; весь он был настороженный, строгий и вместе с тем готовый сейчас же стать слаще акрид и меда.
— Барин в Петербурге, — слегка свысока ответил он, — чем могу служить?
В эту минуту из-за его спины взвились две книги и, растопырив листы как крылья, шлепнулись в огонь.
— Что вы это тут делаете? — спросил я вместо ответа и поспешил к корзинам. Обе они верхом были нагружены книгами, книги же горели вместо дров и в кострах.
— Очисточку производим, — снисходительно пояснил приказчик, — дрянь всякую велел барин посжечь!
Появилось еще двое людей, приволокших новую корзину с книгами.
— Ради Бога подождите, не жгите! — воскликнул я, — дайте сперва мне пересмотреть, может быть, я куплю их у вас?
— Пожалуйста… только смотреть не на что: одно лохмотье!.. А вам по какому делу желательно было видеть барина?
— По личному. Ах, как жаль, что его нет; нарочно ведь к нему приехал!
— Откуда изволили прибыть?
— Из Питера.
Строгая официальность исчезла с лица приказчика: персона превратилась в лакея. Он засуетился.
— Пожалуйте в дом-с! — совсем иным тоном заговорил он, — отдохните-с…
— Но ведь нет барина? — усомнился я.
— Так что же-с? Да они меня со свету сживут, ежели узнают, что я приезжего к ним не принял, пожалуйте-с! Бери, разиня, вещи, неси в дом!.. принц тоже! — крикнул он на облаченного в белый передник долговязого малого, уставившегося на меня, как в столбняке. Тот очнулся, ухватил мой багаж и стремглав побежал с ним вперед. Несмотря на уговоры приказчика, собиравшегося для моего удобства отослать корзины обратно в дом, я остался у костров и пересмотрел все, приготовленное к аутодафе.
Это были, главным образом, журналы: «Москвитянин», «Современник» и другие, но среди них попались мне Снегиревские: «Русские в своих пословицах» и «Простонародные праздники и суеверные обряды», изданные в сороковых годах[11].
— Обидно, что разминулись вы с барином!.. — соболезновал тем временем приказчик. — Всего только третьего дня изволили они отбыть. Досадовать будет!
Неся отобранные мною книги, мы направились к дому.
От двора его отделяла длинная овальная курена, засаженная жасминами и сиренью; свежепосыпанная песком дорога огибала ее и проходила мимо подъезда. Дом был большой, темно-серый, еще александровской стройки, с обычными белыми колоннами той эпохи.
Мне показалось, что я где-то в окрестностях Петербурга: в такой чистоте и порядке все содержалось, начиная от подстриженных шпалер из акаций и кончая массивными медными ручками входных дверей. Контраст с Фирсовским имением был разительный.
Я не мог удержаться и, остановившись перед домом, вслух похвалил порядок, в котором все содержалось.
Приказчик был чрезвычайно польщен.
— Чистота у нас первое дело-с! — ответил он. — И сами барин с утра выйдут, как стеклышко, и с других того же требуют. Нельзя иначе: Европа-с!
Дверь подъезда стояла распахнутой; ее почтительно поддерживал долговязый малый в переднике, очевидно, состоявший в лакейской должности. Плетенная из веревки серая дорожка покрывала несколько ступеней лестницы и вестибюль; мы вошли в обширную лакейскую, обставленную кругом деревянными диванами, на которых когда-то сидели и дулись в носки поколения лакеев. Она была пустынна.
Малый в переднике очутился впереди нас и распахнул, как на сцене для входа короля, среднюю дверь. Мы вошли в похожую на коридор, довольно узкую комнату, всю увешанную портретами. Кое-где у стен стояли небольшие столы из карельской березы, а по бокам их, попарно, так же стулья с твердыми, как кирпичи, небесно-голубыми сиденьями и спинками.
— Патретная-с… — словно по секрету пояснил приказчик; в доме он, должно быть по привычке, стал объясняться только вполголоса.
Со всех сторон из потускнелых золоченых рам — этих окон с того света, на меня глядели напыщенные лица рода Батеньковых. Пудреные парики и разноцветные кафтаны указывали на Елизаветинскую и Екатерининскую эпохи. Выпяченные груди многих украшали многочисленные ордена и звезды.
— Все в рыгалиях-с! — благоговейно произнес мой спутник, — заслужить тоже надо было-с! А вот это папаши нашего нонешнего барина, Владимира Григорьича, — он остановился перед портретом благодушного, тучного старика, одетого в простой черный пиджак, — скончались шесть годов назад и как необыкновенно, — на антресолях библиотека существует, а в ней диван турецкий замечательный-с: лошадь на нем поперек уложить можно! Григорий Михайлыч — это они-с, — он осторожно лбом указал на портрет, — очень этот диван после обеда обожали. Велят завести граммофон, возьмут в руки книжку и лягут. Подержат-подержат книжку и уснут-с. А граммофон им для лучшего сна играет да играет — особый человек для заводу его состоял; ровно час должен был играть! Только однажды легли они, отыграл им граммофон все, что полагалось, стал их человек будить, ан в них уже и дыханья нет: отошли… Так все и осталось там наверху; молодой барин и к граммофону ни разу не коснулись, даже нота на нем лежит та самая, под которую Григорий Михайлыч скончались… Не узнать-с человеку назначения своего! — вздохнув, философски добавил мой спутник.
Из портретной мы попали в зал. Он был наполовину меньше Глинковского, но все же достаточно просторный. Несмотря на день, в нем было сумрачно: густая зелень кустов и деревьев почти вплотную закрывала окна и с левой и с правой стороны. Вдоль темных стен белели стулья с малиновыми, сильно выцветшими сиденьями. У противоположной стены безмолвно прижался рояль. Наши шаги и потрескиванье прекрасно натертого паркета нарушили тишину: отозвалось эхо, точно проснувшееся где-то под потолком.
Мы миновали сиреневую гостиную, наполненную мебелью еще Елизаветинских дней, отразились в высоком простеночном зеркале, с улыбкой проводил нас взглядом бронзовый золоченый амур, опершийся на такие же часы, и мы оказались в небольшой, но весьма уютной комнате; вдоль двух стен ее, в виде буквы Г, тянулся сплошной зеленый диван. Около него лежали мои вещи.
— Диванная-с… — произнес приказчик, — все приезжие господа здесь теперь останавливаются. Угодно помыться будет?
— Будьте добры… — ответил я.
Мой спутник указал на другую дверь.
— Там ход в столовую и в сад, ежели пройтись пожелаете. Может скушать чего угодно?
— Да, не отказался бы! — сознался я.
Приказчик вышел, а вместо него появился тот же малый с белым полотенцем в руке, с тазом и с кувшином воды.
— Как вас зовут? — спросил я, разоблачаясь.
— Гамлетом-с, — ответил он.
Я остановился.
— Гамлетом-с, — повторил тот, переступил с ноги на ногу, потупился и принял позу жеманной горничной. — Схожу я очень с этим принцем-с, барин и приказали так зваться! — скромно пояснил он.
Я не мог скрыть улыбки: передо мной стоял петый дуралей; нос у него был в виде кларнета, с раструбом, глазки удивительно напоминали пару подсолнечных семечек. Белобрысая голова его была густо напомажена, разделена ровным пробором и украшена такой гигантской бабочкой из волос, закрывавшей весь лоб и виски, какой я еще не видывал.
— А Офелия у вас есть? — осведомился я.
Гамлет хохотнул.
— Имеется-с…
— Кто ж такая?
— Девушка-с Глаша она, конечно, ну да барин Офелией кличут-с!
— Веселый барин у вас, как видно! — заметил я.
Гамлет опять похихикал.
— Веселые-с! — согласился он.
Только что я успел вымыться и одеться, вошел приказчик.
— Сейчас самоварчик поспеет, — сообщил он мне, — уж извините, не ждали вас, так кроме яичницы и цыпленка не сообразил ничего повар.
— И великолепно! — ответил я. — А пока до самовара вы, может быть, покажете мне дом и библиотеку?
— С великим удовольствием-с!
Комната за комнатой мы обошли весь низ дома; он казался музеем старинной мебели, нельзя сказать, чтобы роскошной, но все же стильной и выдержанной. Преобладал ампир, но что удивило меня, — ни безделушек, ни бронзы, ни часов, кроме виденного мною уже амура, в доме не имелось.
Я высказал свою мысль приказчику.
— Полно всего этого было! — ответил он. — Опекли только все вчистую. Двое опекунов ведь было, возьмите это в соображение-с?..
Мы очутились перед широкой деревянной лестницей, ведшей на площадку, а оттуда делавшей обратный поворот на антресоли. Ее огораживала дубовая балюстрада.
Мы взошли наверх и, миновав какую-то почти совершенно пустую комнату, вступили в святое святых.
Первое, что мне бросилось в глаза, было действительно необыкновенных размеров сооружение с высоченною спинкой, стоявшее у противоположной стены и более походившее на разрубленный пополам Ноев ковчег, чем на диван.
Три окна, полузакрытые тяжелыми портьерами из пестрой ковровой ткани, пропускали свет на правую стену; всю ее закрывали ряды книг, расставленных на открытых полках; между окнами, у среднего простенка, умещался круглый столик с граммофоном на нем; по бокам возвышались два готических кресла, обитые, как и диван, тою же ковровой тканью. Среди книг царил хаос: местами они лежали кучами, многие были растрепаны и не переплетены. У полок стояла бельевая корзина, наполненная ими же.
— Вы это все намерены сжечь? — с ужасом спросил я приказчика, указывая на полки.
— Зачем же все-с? — ответил он. — Только что без переплетов, то приказали барин изничтожить! Извольте сами видеть — срамота ведь, лавочка на толкучке, а не как в Европе-с!
— Значит, можно будет отобрать у вас кое-что из того, что без переплетов?
— Да хоть все заберите-с, — для нас одно удовольствие! И эту дубину сожгем! — угрожающе добавил он, видя, что я снял с полки одну из лежавших поперек нее книг большого формата. — Хоть и в переплете, а никуда не входит! Что не под ранжир, все, значит, приказали барин похерить!
— Да сам-то он пересматривал книги?
Приказчик даже как будто обиделся.
— Что вы-с? до этого они, извините, не доходят-с! Они что стеклышко всегда, а тут извольте видеть что — разврат-с. Мне приказано: «На эти книжки, — изволили они сказать-с, — только смотреть возможно, а читать их не мысленно-с!» А вот не угодно ли взглянуть на диван: книжечка кожаная на подушках лежит, та самая-с, что покойный барин в ручках перед смертью держивали… Чтобы не соврать, годов двадцать здесь ее помню!
Я развернул ее: то было туманное английское творение Юнга «Плач, или ночные мысли о жизни, смерти и бессмертии»[12], изданное в Петербурге в 1799 году.
— Каждый день он ее читал? — удивился я.
— Нет-с… в ручках только держали, для сну, так я полагаю-с! Однако, самовар, надо быть, уже на столе; пожалуйте откушать сперва, а потом, коли вам в охоту с книжками разбираться, воротиться сюда можно-с!
Мы сошли вниз, в сплошь отделанную темным дубом длинную столовую. Резной, великолепный буфет, словно монумент, вздымался в глубине ее. На овальном столе, покрытом белой скатертью, пускал пары никелированный самовар, имевший вид вазы; поодаль стоял обеденный прибор для одного и фарфоровое плато с нарезанным черным хлебом.
Мгновенно, с той же стороны, откуда мы вошли, вывернулся Гамлет с подносом в руке, на котором помещалась тарелка с яичницей и маленькое блюдо с цыпленком.
— Пожалуйте-с! — произнес приказчик, отодвигая для меня стул.
Я сел.
— Присаживайтесь и вы со мной, Петр Иванович! — сказал я, указывая на свободное место.
Приказчик даже покраснел от неожиданности.
— Что вы, помилуйте-с!.. я и постою!..
— Садитесь, садитесь, — настойчиво потребовал я, — побеседуем, мне одному скучно. Чайку вместе попьем…
После нескольких повторений с моей стороны приказчик откашлянулся, присел напротив меня и стал разглаживать бородку, имевшую вид детской лопатки. Гамлет стоял, как в столбняке, раскрыв рот и не сводя с нас немигающих белесоватых глаз.
Приказчик покосился в его сторону.
— Пшел вон! — вполголоса, внушительно произнес он. Малый встрепенулся и пропал в мгновение ока.
— Уж вы извините, совсем он дурашный! — обратился ко мне приказчик. — Уткнется вот эдак в кого-нибудь глазами — до утра, выпучившись, простоять может.
— А почему его Гамлетом зовут?
— А вы уж знаете-с? Да ведь как же не Гамлет, глуп он очень! — Приказчик вдруг тряхнул головой и усмехнулся. — Барин, конечно, все это произвели: киятер тут со скуки на Рождестве затеяли. Этого самого Ваньку в Гамлеты поставили, а Глафиру, горничную, в Офелии. С тех пор их так все и кличут-с!
— Ну, а что же вышло из этого театра? — заинтересовался я. — Расскажите, пожалуйста. все.
— Оно занятно, конечно-с! — согласился приказчик. — Такое, можно сказать, вышло, что чуть не до самоубийства публика от смеха дошла. По-настоящему все производили, как в заправском театре-с. Костюмы актерам пошили, на Ваньку парик долгогривый нацепили, шпагу на бок ему повесили. Офелию в белое платье обтянули; полная она у нас очень, так будто в трике в каком вышла. Гостей созвали только особых-с, с пониманием которые. Подняли это занавес, первым Ванька отжаривать начал: «либо быть, либо нет» отчитал. Ну, в публике смешок. А как проголосил про стоптанные башмаки — того пуще-с; один гость плакали даже! Потом Офелия вышла, стали вдвоем раскомаривать; он по сцене от ней шарахается, она за ним, ловит его. Бежит она, а фасады у ней спереди и сзади в землетрясении… Он ей: «ты, говорит, мне не нужна!» и все с такой, знаете, с дамской жестикуляцией. «Иди в монашенки, у меня по царству и без тебя всего достаточно!» Ну она — «ах-ах!», конечно, да басом, голосок-то у ней, что у протодьякона. Да цоп за сердце себя — пронзило ее будто очень Гамлетово невежество. А уж какое там, извините, сердце: два дня до него не дорыться; прямо, значит, за молочный бидон себя ухватила, а они у нее бутылок на пять кажный-с! Публика выть начала: как поросята иные визжали, ей-Богу-с! Один барин, как откинулся назад в кресло, так и вымолвить ничего не могли; хотят что-то сказать, а сами «ик» да «ик» — вместо слов только одни пузыри выходили! Такой потехи наделали — трое суток потом в себя прийти не могли; до дрыганья ног доходили!
Смеялся и я, и это придало куражу моему собеседнику. Он нажал грушевидную кнопку электрического звонка, висевшую на лампе, и появился Гамлет.
— Скажи Глаше, чтобы ром к чаю принесла! — распорядился Петр Иванович.
Гамлет исчез. Приказчик деликатно подмигнул мне.
— Нарочно велел Офелии придтить! — сказал он. — Сами взгляните какова!
Приказания в этом доме исполнялись, как по щучьему велению. Очевидно, Батеньковские досуги были велики и обильны и он посвящал их на дрессировку слуг. Не прошло и трех минут — в дверях показалась невысокая, полная девушка лет двадцати четырех. Круглое белое лицо ее с густым здоровым румянцем было миловидно, и только густые, черные брови, крутым изломом сросшиеся на переносице, придавали ей что-то грозное и несколько портили общее приятное впечатление. Из-под них приветливо глядели большие карие глаза.
В обнаженных до локтя белых руках она держала подносик с порядочных размеров хрустальным графинчиком, наполненный темно-красной жидкостью.
— Здравствуйте… — глубоким грудным контральто произнесла она, наклоняя голову так, как давно уже разучились делать это женщины городов. Неторопливо она поставила около меня графинчик и обратилась к Петру Ивановичу.
— Барин где ночевать будут — в диванной?
— Да, — ответил тот, — там сготовьте постелю…
Девушка удалилась.
— Видали? — спросил, выждав с минуту, приказчик.
— Красивая!.. — ответил я. — Очень приятное лицо у нее!..
Я подлил своему собеседнику в чай хорошую порцию рома, и он сделался еще разговорчивей. Из рассказов его я узнал, что барин его недавно окончил Петербургский лицей, и всевозможные подробности из жизни семьи Батеньковых. Молодой хозяин вырисовывался передо мной во весь свой рост: выхоленный, несомненно неглупый, кандидат в чудаки, а быть может, в герои или подвижники: у нас, на Руси, такое «лампопо»[13] водится.
После третьего стакана я поднялся и снова отправился в библиотечную продолжать пересмотр книг. Раскрасневшийся, с блестящими глазами, Петр Иванович, переместивший в свою утробу больше полуграфина рома, увязался за мной. Шел он на этот раз уже без прежней почтительности, крепко ступал на каблук и разговаривал отнюдь не вполголоса. Частица «с», уснащавшая его речь до чая, была им забыта.
Спутником на этот раз он оказался довольно неприятным, так как все время разглагольствовал и отвлекал меня своей болтовней от дела. Я не слушал и лишь изредка подавал ему краткие реплики.
Пересматривал я только книги без переплетов и наткнулся среди них на значительное количество весьма любопытных. Среди таковых имелись: изданная в очень малом количестве экземпляров в 1872 году в Варшаве «Наша семейная летопись» Авенариусов[14], очень редкие воспоминания Бурнашева[15], путешествия в Нижний и в Киев Долгорукого[16] и другие. И вдруг глаза мои наткнулись на две странные, едва затиснутые на полку книги в четверку, с полустертыми натисками на корешках — «Житие и славные дела Петра Великого»[17].
У меня екнуло сердце. Неужели это Феодози? неужто Венецианское издание? — думал я, с усилием высвобождая большие томы. Наконец, я вытащил один и развернул: оно и есть. С титульного листа на меня глянуло: «Венеция 1772 года».
— А эти будете жечь? — спросил я не своим голосом.
Приказчик сидел, развалившись в кресле.
— Эту? — тоном судьи произнес он, принимая от меня книгу и взвешивая ее на руке. — Будем!
— Значит, я могу их взять?
— Всенепременно!..
Я все еще не верил своему счастью.
— Наверное, сожгли бы, правда?
— Не утруждайте себя беспокойством! — небрежно ответил он, — есть о чем разговор иметь?
Я молча отложил драгоценные книги к кучке уже отобранных мной. Немного погодя опять попалась переплетенная книжка, тоненькая и большого размера. Я раскрыл ее. То были письма царевича Алексея Петровича, увидавшие свет в Одессе в 1849 году[18].
— Это тоже не под ранжир? — уже смело заявил я, показывая свою находку.
— Крысиная снедь… в печку! и охота вам соприкасаться, ей-Богу, пылища, паутина!..
Я присоединил и ее к своим.
Становилось уже темно и приходилось отложить окончание моей ревизии до утра.
Приказчик, несмотря на мои протесты, забрал в охапку все отложенные мной книги и сам понес их.
— Уж и не знаю, как благодарить вас! — сказал я, идя с ним по залу. — Такие это все интересные книги, что и сказать не могу; я и не видал никогда даже некоторых!..
— Помилуйте, что вы? — воскликнул приказчик. — Дерьма они стоют! Для вас оно, конечно, лестно, а для нашего барина — тьфу! Эдакую Азию в доме развели — до невозможности! В два дня велено, чтобы все это как стеклышко было… как по ниточке выровнять!
В моей комнате Петр Иванович ссыпал на диван всю ношу, обтряхнулся и подал мне руку с растопыренными пальцами.
— Теперь до свиданьица! — произнес он. — Спокойной вам ночи! А мне еще распорядиться кое-чем надо!
Я остался один со своими спасенными от огня сокровищами. Верите ли, читатель, схватил я оба старые, чуть тронутые червем тома Феодози, прижал их к груди и сочно отчмокал их: такая радость, такой восторг наполняли меня!
День выпал необыкновенно удачный: редких книг и сильных впечатлений набралось множество.
Я пересмотрел еще раз свои находки и решил пойти прогуляться. Через зал вышел я на обширную веранду. Из-за четырех массивных белых колонн глянули темные, местами тронутые золотом купы сада. Широкая лестница сводила в него; у дома раскидывался цветник, еще полный, несмотря на совсем близкую осень, разнообразных цветов.
За клумбами начиналась аллея.
Уже завечерело. Было тихо, так тихо, что ни один листок не шевелился на ветках.
Я спустился в цветник и пошел влево среди георгинов всяких форм и окрасок. Дорожка привела меня к другой — боковой аллее, и я, наслаждаясь свежестью и воздухом, медленно направился по ней. У поворота я остановился и огляделся. Впереди чернела густая чаща: в ней уже стояла ночь. Влево петлями бежала куда-то узенькая тропочка. Вправо пролегала березовая аллея, полная сумерек и белых привидений. Я свернул на тропку и через несколько минут очутился около шпалеры из низко подстриженной акации, служившей вместо ограды. По ту сторону ее, за пыльной дорогой, поднимались серые дворовые строения, справа от них, сейчас же за плетнем, вставала узкая полоса конопли. Из-за нее, словно косматые шапки Робинзона, торчали соломенные крыши крестьянских изб; дальше, на ясном, как бы хрустальном небе отчетливо рисовались зеленый купол и золоченый крест церковки. Стрижи сотнями реяли над нею; доносились звенящие зовы их, такие родные угасанию дня…
Стук двери заставил меня отвести глаза от дали и оглянуться; из крайнего флигеля, вероятно из людской, не спеша вышла Глаша. И только что она показалась, словно из-под земли, из-за плетня выросла огромная, неуклюжая фигура безбородого, здоровеннейшего верзилы в черном сюртуке и голубом галстуке.
— Офелия! О, нимфа! — с пафосом, басом провыла фигура, с размаху ударив себя в грудь кулачищем.
Рядом над плетнем поднялась другая, совершенно такая же дубина, явно семинарского происхождения.
— О, помяни меня в твоих святых молитвах! — на манер ектении проревела она.
Глаша шарахнулась в испуге прочь, но опомнилась и остановилась.
— О, чтоб вас!! — разостлалось ее звучное контральто. — Бугаи!!
Она плюнула от всей души и поплыла к дому.
За плетнем загрохотали как бы две телеги, несущиеся по кочкам: заржали охваченные полным телячьим восторгом семинары. Лицами оба они смахивали на инородческих идолов. Они обменялись друг с другом парой слов и кинулись в коноплю.
Я вернулся к аллее и стал продолжать по ней путь.
Была совсем ночь, когда я, обойдя сад, вернулся в свою комнату.
Я разделся, еще раз пересмотрел книги и с чувством полного удовлетворения задул свечу и растянулся на прохладной, белоснежной простыне. Но сна не было. Напрасно я ворочался с бока на бок на мягком пружинном диване: мысль продолжала оставаться наверху, у неведомых еще книг, и искала там новые драгоценности.
Лежать сделалось невтерпеж. Я сел, зажег свечу и взглянул на карманные часы: была полночь.
Рассчитывать встретиться с кем-нибудь в доме не приходилось, и я, надев лишь мягкие туфли, в одном белье, со свечой в руке вышел из своей комнаты.
Зал казался высоким, громадным храмом. Я поднял свечу, чтобы осветить большее пространство впереди, и шел беззвучно, как привидение; паркет едва похрустывал. Знакомым путем добрался я до лестницы, взялся рукой за перила и вдруг вспомнил, что там, куда я иду, умер человек.
Я не суеверен, но меня пощекотало неприятное чувство; я призадержался. Через какой-нибудь миг я, конечно, поднимался дальше, тем не менее у белой закрытой двери я прислушался, затем нажал ручку, отворил дверь и осветил комнату.
Все в ней было, как раньше. Спящим слоном вытягивался диван; портьеры длинными тенями свешивались от потолка до пола, на полках вкривь и вкось, еще безобразнее, чем днем, торчали натырканные кое-как книги. Было душно.
Неприятное ожидание чего-то непостижимого, гнездившееся в глубине души, исчезло совершенно. Я поставил свечу рядом с граммофоном, распахнул окна и погрузился в работу. Торопиться было некуда, я любовался одними изданиями, пробегал глазами другие, иными зачитывался…
Не знаю, который был час, когда я кончил, — вероятно, очень поздний. Кресло, на котором я сидел, оказалось окруженным валом из отобранных мною книг. Редкостей среди них не имелось, но интересных было много, и оставлять их на жертву огню было бы непростительно.
Свеча моя сгорела почти вся; я встал и почувствовал утомление; давно было пора идти спать, но уходить не хотелось. Предчувствовался рассвет, черное, искрившееся звездами небо начало бледнеть… Где-то далеко, далеко пропел петух, за ним — еще дальше — второй, третий… И опять оковала все волшебная тишина.
Мне захотелось завести граммофон и услыхать звуки, вместе с которыми улетела в это окно душа человека. Стало даже казаться, будто я вижу его лежащим на диване — такого грузного, с большим, облыселым и добро душным лицом, выбритым начисто.
Я покрутил ручку механизма и пустил круг, а сам сел на подоконник. Раздалось шипение, пробежала по невидимому фортепьяно хрустальная прелюдия, и неведомые руки трепанули по струнам гитар и мандолин: зазвенела и завертелась, вся в коленцах и выкрутасах, когда-то знаменитая, развеселая полька-трамблян.
Я слушал, не отрывая глаз от звездного неба. Не думалось, а чувствовалось. И прежде всего было неизъяснимо странно, что хозяина нет, что он ушел навсегда, а в опустевшем доме очнулась и поет и хохочет все та же полька-трамблян…
Хрип и треск сменили музыку; я поспешил остановить круг и, взяв свечу, отправился к двери. Огромная черная тень выросла на стене рядом со мною. Я не хотел ее сопровождения, вытянул вперед руки с огнем, и она исчезла.
Уснул я у себя, как пристреленный.
Утром, только я открыл глаза, первое, что отразилось в них, были приотворенная дверь и выглядывающая из-за нее обеспокоенная физиономия с бабочкой. Бабочка этот раз была весьма встрепанная.
Увидав, что я проснулся, Гамлет вошел в комнату.
— С добрым утром-с, барин! — произнес он, забирая для чистки мое платье. — А мы уж сумлевались, все ли с вами благополучно?
— Да разве ж я так заспался?
Я схватился за часы: они показывали всего восемь.
— Не во сне дело-с! — таинственно ответил Гамлет и слегка нагнулся ко мне, держа на руке мои вещи. — Барин покойный опять этой ночью по дому ходили-с! — вполголоса доложил он.
— Что за чушь?! — воскликнул я.
Гамлет отрицательно качнул головой.
— Ей-Богу-с! — с непоколебимым убеждением подтвердил он. — Вчерась на ночь глядя вам побоялся доложить, а у нас в дому очень нечисто-с.
— Да что же произошло? — все еще не соображая, в чем дело, спросил я.
— На граммофоне ночью упокойник играли-с! — совсем понизив голос, сообщил Гамлет. — Сторож в саду ходил, да вдруг видит свет баринову комнату наверху осиял. Так он и обмер-с! А там вдруг как вдарят комаринского, да в пляс: визг, крики-с!.. упаси Господи! Сторож дубинку шварк, да и домой по цветам без памяти! ума решился, ей-Богу-с! Жена, значит, перепугалась, пытает его — что, мол, стряслось с тобой, а он только ва-ва-ва… по-волчьи зубами лязгает-с! Водки в него вкатили полбутылки — отошел, рассказал, что видел. Истинно страсти!!
Мне стало неудержимо смешно.
Я сел и сделал вид, будто усиленно сморкаюсь в платок.
— Кого-де он видел? — спросил я.
— Барина-с! Нечистых полон дом был: оно понятно-с — без покаяния ведь скончались!..
Разубеждать его не приходилось — такая глубокая вера дышала в каждом его слове.
Гамлет ушел, а я лег в ожидании его возвращения навзничь и закинул руки за голову. Мне вдруг пришла мысль, — что бы я почувствовал, если бы произошло чудо, и вчера в зале, или отворив дверь в библиотеку, я лицом к лицу столкнулся бы с мертвым Батеньковым?
Дать себе отчета я не успел; Гамлет принес платье, помог мне умыться, и я отправился в столовую.
Там меня уже ждала Глаша с кофе, с булочками и чудесными сливками; все было под стать ей — белое, румяное, свежее.
Гамлет бросился отодвигать мне стул. Глаша стала наливать кофе.
Можно было подумать, что я хозяин Вихровки. Все это меня забавляло, и я решил подшутить над Гамлетом.
— Можно будет вас попросить принести мне книги? — обратился я к нему.
— Какие-с? — на лице его написалась готовность немедленно лететь хоть за тридевять земель.
— Сверху, из библиотеки. Они там около кресла лежат, вчера не захватил я их!
Гамлет так и остался стоять согнувшись. Лицо его побурело, глазки все больше и больше стали разъезжать врозь и сделались совсем бессмысленными.
— Сверху-с? — пролепетал он.
— Да…
— День ведь белый! — спокойно, как бы в сторону, заметила Глаша.
Гамлет хмыкнул носом и направился к двери; ни прыти, ни развязности в нем не осталось и следа.
— Что это он как будто боится идти наверх? — осведомился я у Глаши.
— Кто ж его знает? — не глядя на меня ответила она, — опасаются у нас этой комнаты: барин старый там померли!
— Что же, является он там, что ли?
— Я не видела. А что плетут другие, так ведь всего не переслушаешь!
Я поблагодарил ее за кофе и отправился разыскивать своего возницу и приказчика.
Выйдя из подъезда, я услыхал голоса, доносившиеся со двора из-за куртины. Сначала я не разобрал, кто говорит, и только через несколько шагов убедился, что надменный и повелительный голос принадлежал Гамлету.
— Трус паршивый! — с неизъяснимым презрением говорил он. — Чего ты боишься: ведь день белый? Что это пред сопаткой-то у тебя — солнце или нет?!
— Солнце! — ответил голос мальчика. — А ежели там за ногу ухватит кто?
— Как же, на то барин и помер, чтобы тебя за ноги ловить! Э-эх!! тьма деревенская!
— Дяденька, вы сами же сказывали, что вы ерой? Вот вы бы и принесли, — ядовито и вместе с тем чуть не плача возразил мальчик.
— Есть мне время паутину на себе разводить! — отрезал Гамлет. — Марш, коли приказываю! А коли душа у тебя курячья, так Митьку покличь с собой. Ноги в руки и чтобы в секунду оборот сделать! Все до одной забрать, что вокруг кресла лежат!
Гамлет засвистал мотив из оперетки «Мадам Анго» и зашагал в противоположную от меня сторону.
Я вышел из-за куртины; Гамлета уже не было, а по двору, с видом побитой собаки, уныло плелся мальчик в красной рубахе, лет двенадцати. Ни приказчика, ни моего Мирона дома не оказалось: Петр Иванович с раннего утра уехал в поле и его ждали с минуты на минуту; Мирон отлучился на деревню.
Я попросил встретившегося работника прислать ко мне Петра Ивановича, когда он возвратится, а сам прошелся по саду и вернулся в дом.
В столовой меня поджидал Гамлет. Бабочка его была уже прилизана, и на лице отражалось полное самодовольствие.
— Готово-с… все книжки у вас! — произнес он.
— Сами принесли?
— Сам-с, конечно!.. Кому ж поручить! Народ необразованный-с!..
Не больше как через четверть часа появился в запыленных сапогах и в расстегнутом темно-синем кафтане приказчик; в руках его были картуз и нагайка — видимо, человек только что успел спрыгнуть с седла.
— Здравия желаю-с! — весело произнес он. — Как изволили почивать?
— Отлично, спасибо! — ответил я, протягивая ему руку, он пожал ее с меньшей развязностью, чем накануне. — Собираюсь сейчас уезжать, так хотел проститься с вами!
— Что же так мало погостили-с? Поживите еще!
— Никак нельзя: дела ждут! А я без вас докончил просмотр книг, так будьте добры, взгляните, могу ли я их все взять?
— Все и берите-с…
— Нет, а все-таки посмотрите…
— Да где они?
— В диванной.
Приказчик вошел в нее вместе со мной.
— Эти-с? — спросил он, ткнув ногой в бельевую корзину с книгами.
— Да.
— Что же тут смотреть-то? Навоз, навоз и есть. Берите-с, коли нужны!
— Сколько же я вам должен за них?
Приказчик не понял.
— Чего-с? — переспросил он. — Как это вы мне должны?
— Да за книги. Я ведь хочу купить их у вас!
Петр Иванович развел руками.
— Господь с вами, сударь! Да за что же тут с вас деньги брать; в стыд даже такой разговор считаю-с! Ни-ни-ни-с! — решительно запротестовал он, видя, что я собираюсь возражать. — Да за такое дело меня барин в двадцать четыре вздоха выгонят-с!
— Ну, так позвольте поблагодарить вас за беспокойство и любезность! — произнес я, вынув десятирублевку и протягивая ее приказчику.
Он отступил на шаг назад и прижал к сердцу руку с картузом.
— Не возьму-с!.. какое такое было мое беспокойство.
— Вы меня обидите, если не возьмете! — твердо заявил я. — Я же пользовался вашим гостеприимством и прошу это принять, как ответное угощение!
— Да напрасно-с!!
— Нет, не напрасно: это мой маленький знак внимания к вам!
— Ей-Богу, напрасно-с! — пробормотал Петр Иванович, принимая бумажку и пряча ее. — Весьма благодарны-с!.. — он протянул мне руку и почтительно встряхнул мою.
— А это, пожалуйста, вашему барину передайте, — я достал свою визитную карточку. — Скажите ему, что очень сожалел, что не удалось повидать его.
— Беспременно-с… все передам!
— Можно будет попросить вас послать сыскать моего Мирона и велеть ему запрягать? Да, кстати, не найдется ли у вас веревочки, книги перевязать?
— Сию секунду все будет!
Он ушел и прислал Гамлета с клубком толстой бечевки. Я бережно, сам, не доверяя рукам принца, могшим в пылу усердия затянуть книги до пореза полей, перевязал их. Вышло пять больших пачек, всего пудов на шесть весом.
Гамлет ухитрился захватить три связки, Глаша две, я забрал остальные вещи, и мы вышли на подъезд. Лопоухие белячки уже ожидали меня; Петр Иванович и Мирон стояли и беседовали около них.
Возница мой, открыв рот, обозрел пачки с книгами, которые Гамлет принялся размещать в бричке, затем влез на козлы. Я дал Глаше и Гамлету на чай; первая осветилась улыбкой, второй низко раскланялся. Приказчику я пожал руку и, как архиерей, бережно подсаживаемый под ручку Гамлетом, устроился на сиденье.
— Доброго пути!! — проводил меня хор из трех голосов.
— Прощайте, Петр Иванович! — крикнул Мирон, и мы выкатились на двор.
Там уже опять действовала инквизиция: какой-то молодой парень вилами ворошил плохо горевшие книги.
— Фиверки! — вскрикивал он, подбрасывая высоко на воздух кучи пылавших листов.
Сад закрыл дом, потянулись шпалеры из акаций, показались четырехугольные каменные столбы ворот, и мы очутились в поле.
IV
— Ты это что же? — купил? — спросил Мирон, указывая на книги.
В тоне его ни прежней почтительности, ни заискивания не было и в помине.
— Купил, — отозвался я.
— А сказывал — овес покупать едешь?
— Это, брат, ты сказывал, а не я! — поправил я.
— Ну? А хоть бы и я: на дело ведь надоумливал! Дешево бы взял!.. А ты ишь чего набрал!.. — Мирон неодобрительно покачал головой. — То-то думал я: жидок ты для купца!
Некоторое время мы ехали молча.
— На что тебе книжки-то! — заговорил опять Мирон. Мысль о них, видимо, не давала ему покоя.
— Читать.
— Эдакую уймищу? Это, брат, зачитаешься!!
Он опять качнул головой и собрал рот в виде комка.
— А пачпорт-то у тебя есть? — вдруг строго спросил он.
— А тебе на что?
— Да Бог же тебя знает, что ты такой? Может, тебя не возить, а по начальству я представить должон! Один вот возил такого же у нас по уезду с книжками, да до острога и довозился!
У меня было необыкновенно весело на душе; не малую роль в этом, играло и то, что я невольно населил чертями усадьбу Батеньковых; забавен был и мой встревожившийся возница; если бы я вез тигра, вероятно, он был бы обеспокоен гораздо меньше.
— Не сумлевайся, — в тон ответил я ему, — и паспорт есть, и бумагу особую на разъезды имею от начальства!..
— С печатью?
— С орлом даже!!
Мирон просиял.
— Ну, тогда дело свято! — воскликнул он. — А уж я было высаживать тебя хотел, ей-Богу! Долго ли до греха; сейчас тебя урядник за хвост и пожалуйте! По-настоящему, как я понимаю, все книжки собрать, да в землю зарыть следовает: один вред от них! Живет человек, как человек, можно сказать, хозяйственный, а почитает в книжку — и шабаш — сейчас коней воровать, либо пьянствовать почнет! На что ты их, скажи на милость, скупаешь?
— Не одни книжки, я всякую старину собираю: тарелки, чашки фарфоровые, серебро, все что придется…
— Ну, так, так, так!! — совсем успокоившись, сказал Мирон. — Это ничего, это дозволяется!
Он подхлестнул лошадок.
— Теперича к Павлихе, стало быть, едем?
— К Павловой! — поправил я.
— Ну вот и я тоже говорю! Это баба жох! — высокой нотой протянул Мирон. — Этой пальца в рот не клади-и-и! Эта облапошит!!
— А далеко до нее?
— До Павлихи-то? к полудням будем… Э-эх вы, развеселые! — воскликнул он, опять подхлестывая едва тащившихся коньков. Мирон принялся мне повествовать о местных помещиках, я его слушал краем уха и глядел по сторонам.
Кругом было приволье. Подувал легкий свежий ветерок; справа, среди жнивья, вставала семья из трех курганов в зеленых кустарниковых шапках; ни души не замечалось кругом.
Какая радость жить и бродить по свету!!
Солнце перешло за полдень, когда мы шагом перебрались по животрепещущему мосту через неподвижную, как бы застывшую узенькую речонку и въехали в тесный двор усадьбы Павловой.
Двухэтажный господский дом был невелик и более походил на петербургскую дачу, чем на помещичье обиталище.
Мирон остановился у крыльца, с которого нас созерцала босоногая девчонка лет двенадцати.
— Барыня дома? — спросил я, сойдя с брички.
Девчонка не отвечала и не двигалась.
— Ай уснула? — крикнул ей Мирон, — подь, умница, скорей, долож барыне, гость, мол, из Петербурга приехал!
Девчонка, как заяц, шарахнулась в комнаты. Там поднялся переполох: в одно из окон глянуло молодое, очень полное женское лицо, за ним выставилось другое, еще более круглое, потом бесцеремонно уставилась на меня какая-то тощая и носатая старуха свирепого вида.
Я остался около брички, наблюдая за носившимися по комнатам обитательницами дома, и делал вид, что обозреваю двор.
Минут через пять подъезд точно выстрелил тою же девчонкой: взволнованная и пылавшая, что кумач, она вылетела на крыльцо и остановилась.
— Велели иттить! — возгласила она.
Я последовал за нею и, миновав тесную переднюю, попал в гостиную; мягкую мебель покрывали чехлы, высокую стоячую лампу окутывала белая тряпка, картины на стенах были аккуратно закрыты газетами. В гостиной никого не было. Дверь, ведшая из нее в другие комнаты, была затворена, и за нею слышался шорох и неясный шепот: за мной, очевидно, подглядывали.
Прошло еще минут десять, и таинственная дверь наконец распахнулась: из нее сперва выставилась необычайных размеров грудь, а затем величественно появилась дама лет сорока, подрумяненная и с подведенными бровями. Видно было, что ее только что затянули в корсет и едва-едва втиснули в давно ставшее узким светлое платье; руки ее у плеч походили на окорока, и она несла их на манер борца, шествующего на парад.
За ней, взявшись под руки, скромно выступали две виденные мною девицы: обе обещали перещеголять телесными статьями маменьку, и обе, по-видимому, испытывали те же неприятности от корсетов и платьев. На пухлых устах мамаши играла приятная улыбка, но серые холодные глаза в плутовстве губ не участвовали, имели определенно неприятное выражение. Я представился и объяснил цель моего визита.
— Очень рады, очень рады, — любезно произнесла она. И в то же время глаза ее старались проникнуть не только в мою подоплеку, но и в мои карманы.
— Разумеется, у нас всего множество; мы не знаем даже, куда деваться от всех этих книг и безделушек! В старых дворянских фамилиях всегда, знаете, накапливается бездна интересных вещей!
— А книг у вас много?
— О, Господи, чего у нас нет! Они у меня такие любознательные, — она кивнула головой в сторону своих двух граций. — И фарфора сколько угодно. Удивляюсь я людям: теперь ведь, знаете, мода на фарфор, то и дело кто-нибудь приезжает покупать его. И деньги платят безумные, я этого не понимаю: странно, не правда ли? У нас и монеты есть замечательные: вы интересуетесь?
— Да, — ответил я, — и даже очень! Разрешите взглянуть на ваши собрания?
— Лили, Аннет, — обратилась хозяйка к дочерям, — приготовьте в столовой фарфор и коллекцию монет: она знаете где?
— Знаем! — сочно отозвались обе девицы. И они гуськом, потупясь и поджав бутонами губки, выбрались из гостиной.
У нас начался светский разговор. Всякий жест Павловой, даже повороты головы, сопровождался легким потрескиванием обоев; прислушиваясь, я сообразил, что обои здесь ни при чем и что эти звуки исходят от платья моей собеседницы, очевидно, собиравшегося разлететься в лоскутья. Не без опасения я ожидал свершения этого события и лицезрения во всей красе новой Евы.
Пока я соображал все это, хозяйка успела поставить меня в известность, что покойный муж ее происходил из семьи, «оставившей видный след в нашей литературе», что они записаны в шестой книге[19], что она певица и обворожила как сирена пением какого-то губернатора, что у дочерей ее чудесные голоса и т. д.
В голове у меня началась стукотня; я кивал головой, делал приятное лицо, подмыливал, а сам искоса посматривал на дверь, откуда должно было прийти избавление.
Она наконец отворилась, и показалась Лили — старшая дочка, раскормленная немного менее сестры. Не входя в комнату, она заявила:
— Готово, мама…
— Прошу! — благосклонно вымолвила хозяйка. Мы поднялись с мест, и я очутился в зале, где чахли два фикуса, отражался в длинном, потускневшем трюмо старый рояль.
Первое, что мне бросилось в глаза, была высокая и еще прямая ведьма, стоявшая опершись потемнелой, что мощи, рукой на рояль; на ней, как на огородном шесте с перекладиной, висел засаленный донельзя малиновый капот; седая голова ее тряслась, в другой, опущенной, руке она держала табакерку и платок, состоявший из одних табачных пятен.
Ходить в столь чумазом виде — привилегия только хозяев, а потому я поклонился ей на ходу, но она не ответила даже кивком и проводила меня испытующим взглядом. В зеркало я увидел, что старуха сделала за моей спиной знак внучкам, и те подались к ней.
— В оба глядите: еще стянет что-нибудь! — явственно и злобно прошептала ведьма.
— Ш-шть!! — шикнули те разом, подняв руки и оглядываясь.
— Ой, что-то лопнуло у меня! — с испугом проговорила младшая, хватая себя за подмышку.
Я сделал вид, что не слыхал и не видел ничего. В столовой на обеденном столе словно только что играли дети: он был покрыт множеством фарфоровых дешевых статуэток, слонов, пастушков и пастушек, среди них выделялось несколько стенных тарелок и разрозненный японский чайный сервиз. Все было самое заурядное, и самой старой вещи было разве лет двадцать.
С разочарованием окинул я взглядом весь этот хлам.
— А чего-нибудь поинтереснее нет у вас? — обратился я к владелице.
— Интереснее? — изумилась та. — Но ведь это же все первоклассные вещи! Взгляните, какая прелесть! — она схватила и подала мне какую-то статуэтку из тех, что по сию пору заполняют оконные выставки посудных магазинов средней руки. — Ведь это же старина: она еще с Екатерининских времен у нас хранится.
Барыня, очевидно, решила, что я новоиспеченный собиратель, и вознамерилась поправить свои финансы самым бесцеремонным образом. Спорить о степени действительной древности статуэтки я не стал и попросил показать мне коллекцию монет.
— Вон она! — произнесла старшая из девиц, высвобождая из-за своей спины руку и протягивая коробку из-под конфет.
Я открыл ее. На меня глянули полустертые Екатерининские пятачки, несколько таких же, ничего не стоящих рублей Анны и Павла и разная мелочь. Я поставил коробку на стол.
— Никуда не годятся! — сказал я. — И это все, что у вас есть?
— Не понимаю, что вам тогда надо? — заявила недовольным тоном хозяйка и обвела рукой стол с расставленными на нем богатствами. — Кажется, все редкие, ценные вещи!..
— А во сколько вы их цените? — полюбопытствовал я.
Хозяйка испытующе поглядела на меня.
— Лили, сколько здесь предметов? — обратилась она к старшей дочери.
— Фарфоровых ровно пятьдесят, мама, — ответила та.
— Ну вот видите… Если считать самым грошовым образом, ну, скажем, хоть по десять рублей, выйдет пятьсот рублей! Дешевле пареной репы.
Я усмехнулся.
— Ваши вещи мне не подходят, — сказал я, — но разрешите мне сказать, что это цена невероятная!
— Невероятная! — маменька смерила меня глазами с ног до головы. — А вы знаете, почем теперь любители платят за фарфор: тысячу рублей за штуку!
— Штука штуке рознь. Но не забудьте, что фарфор не золото и цена на него начинается с двугривенного!
— Какая же ваша цена?
— Не цена, а оценка! — поправил я. — На любителя, вместе с сервизом, рублей тридцать.
— Лили, убирай все прочь! — грозно приказала Павлова, отвернувшись от меня.
Я счел дальнейшее свое пребывание излишним.
— Прошу извинения, что обеспокоил вас! — произнес я. — Имею честь кланяться.
— Вы же собирались еще книги посмотреть? — сердито бросила она мне через плечо.
— Пожалуйста, покажите…
Аннет сотворила дверцы низенького шкафика, стоявшего тут же, против стола. На три четверти он был полон всякого рода учебниками, остальное население его состояло из бульварных романов, изданий Ахматовой[20], Библиотеки для Чтения[21] и даже Света[22].
Я мельком окинул взглядом полки и не прикоснулся к книгам.
— Не подойдут и они, — произнес я. — Всего хорошего.
— Прощайте, — ледяным тоном ответила Павлова. — Очень жаль, что вас не интересуют редкие вещи. Разумеется, в старине понимать надо, не всякий ее знает!
Я с усмешкой согласился с этой истиной и, не провожаемый никем, пошел из столовой.
В передней меня нагнала Аннет.
— Мама отдает за четыреста! — быстро выговорила она.
Я пожал плечами:
— Мне такие вещи не нужны!..
Аннет с оскорбленным видом вскинула назад голову и осталась стоять, выпятив вперед шею, как индюк, собирающийся забормотать.
Мирон сидел, согнувшись на подножке, и поджидал меня.
— Что, ай ничего не купил? — спросил он, увидав, что я иду с пустыми руками.
— Ничего! — ответил я. — Дрянь все, а уж цену хотят!! — я только махнул рукой.
Позади послышался топот и на крыльце появилась, вся расколыхавшаяся и запыхавшаяся, Лили.
— Хотите за двести? это самая крайняя цена! — воскликнула она, остановившись у ступенек.
— Нет!
Лили совсем как мать вздернула плечи, повернулась и с невыразимым презрением вихнула мне задом.
— Ах, мать честная?! — изумился Мирон. — Смотри какая мода пошла — заместо головы задом кланяется?
Бричка двинулась. Не успели мы отъехать и двух десятков сажень — позади послышался визг.
И я, и Мирон обернулись: за нами во всю прыть неслась босоногая девчонка.
— Стойте! стойте! — верещала она поросячьим голосом.
Мирон остановил лошадей.
— Велели воротиться! — едва переводя дух, выкрикнула она, примчавшись к нам. — За тридцать рублей отдают!
Я засмеялся:
— Скажи, что и даром не возьму!
— Да что ты покупал-то у нее? — вмешался Мирон.
— Куколки детские фарфоровые хотела она всучить мне…
— За тридцать рублев?! — ужаснулся Мирон. — Нако-ся, выкуси!! — вдруг решительно возгласил он, сложив всероссийское троеперстие и несколько раз потыкав им чуть не в самый разинутый рот девчонки. — Что мы, деньги-то бреднем в реке что ли ловим?
— Э-эх вы, особливые!! — он зачмокал на лошадей, и те затрусили рысцою. — Сказывал я тебе, жмот баба! — заговорил Мирон, когда усадьба осталась за нами.
— Кулак в юбке! — отозвался я.
— Верно! Вот ты и слушайся меня вдругорядь; я то знаю, куда тебя везти, куда нет! Зря только время на нее извели! А что, ваше благородие, пора бы лошадок покормить и самим пообедать?
— Что, иль плохо угостили тебя у Павловой? — пошутил я.
Мирон пренебрежительно сплюнул.
— Там угостят: мордой об стол рази?.. А тут за бугром скоро село будет, трактёр там, — ну, я тебе скажу, в Питере такой поискать! с машиной, ей-Богу!
— Едем в трактир! — согласился я.
Мирон откинулся назад и задергал коньков. — Но, но, развеселые!!! — крикнул он с довольным видом. Лошадки прибавили ходу, и скоро со взгорка открылось большое село, вытянувшееся вдоль широкого большака, обсаженного дуплистыми березами еще Екатерининской посадки. Будто зеленая река протек он по желтым полям между двух черно-синих морей-лесов, облегших горизонт слева и справа.
V
Почти посередине села подымался пятиглавый красный каменный храм с отдельною колокольней. Село, видимо, было из богатых.
Мы спустились в низину и через проулок попали на улицу. С обеих сторон вставали просторные, высокие избы: многие были крыты тесом, а иные даже железом. С крыш глядели разные коньки; белыми и синими заплатами пестрели раскрашенные ставни.
Мы миновали старый, обширный дом с приколоченною над шатровым крылечком доской с надписью «волостное правление», обогнули церковь и остановились в конце села у крыльца нового двухэтажного дома. Над входом в него красовалась синяя вывеска: «трактир и с крепкими напитками».
Под окнами нижнего этажа во всю длину его тянулась коновязь; у нее стояло несколько крестьянских телег и лошадей. Я сошел с брички, а Мирон подъехал в упор к бревну и стал привязывать лошадей.
— Книги здесь оставим? — нерешительно спросил я.
— А то с собой таскать?! — откликнулся Мирон. — Кто на них польстится-то?
Он отправился во двор за сеном, а я взошел на грязное крыльцо и попал в сени; наверх вела лестница; распахнутая слева дверь как бы приглашала войти в просторную комнату с некрашеными, затоптанными полами; стены ее были оклеены грошовыми розовыми обоями. В глубине комнаты виднелась стойка с ведерным бочонком на ней, с кучкой бутылок пива и несколькими тарелками с какими-то закусками. За ней дремал желтолицый, обрюзглый и длиннобородый человек лет сорока, в русской рубахе с мушками и в надетом поверх нее жилете.
Трактир наполняли деревянные столы разных размеров; за двумя из них располагались компании мужиков человек с десяток; перед ними находились большие деревянные миски, бутылки с водкой и горы нарезанного ломтями черного хлеба.
Запах щей обдал меня приятной густой волной. Не успел я перешагнуть за порог, дремавший открыл глаза и уставился на меня. Повернулись в мою сторону и обедавшие.
Я поздоровался и подошел к прилавку. Из-за него, опершись обеими, широко расставленными руками, тяжело поднялось, словно налитое водой, огромное тело с отекшим лицом и бесцветными глазами.
— Нельзя ли у вас пообедать? — спросил я.
— Отчего же нельзя, можно-с, — глухо, утробой ответил хозяин. — Пожалуйте наверх на чистую половину; сейчас я к вам паренька пришлю-с!
Я вернулся в сени и поднялся по деревянной лестнице во второй этаж.
Чистая половина состояла из двух небольших горенок и отличалась от нижней тем, что на столах в ней были накинуты грязные скатерти розовато-кирпичного цвета; вместо скамеек стояли простые деревянные стулья.
Из задней горенки на меня выглянуло румяное, круглое лицо в овале из темно-русой бородки, принадлежавшее какому-то молодому духовному.
Я сел около окошка, заказал прибежавшему вихрастому половому яичницу и селянку и стал смотреть на улицу. Проезжих не было; на противоположной стороне горячо беседовали о чем-то две бабы с коромыслами на плечах; пара мальчишек с криком и смехом гонялись за третьим; тот метался из стороны в сторону как заяц, но преследовавшие настигали его.
— Не утекешь! не утекешь! — визжали они в полном восторге.
Вдруг визг мальчишек оборвался, и они прыснули по дворам; бабы оглянулись в их сторону и, приняв чинный вид, заспешили прочь, покачивая боками и ведрами: из-за угла проулка показался седогривый великан в сером подряснике. Он шел, опираясь на толстую дубинку со светлым, должно быть серебряным, набалдашником.
Завидев его приближение, игравшие кое-где около изб ребята шарахались прочь; встречный мужик торопливо скинул картуз и метнулся благословляться. Великан высоко поднял руку для знамения и сунул ее к губам мужика.
То же самое проделала и баба, поспешно бросившая для этого коромысла и ведра.
— Видали? — с упоением произнес за моей спиной приятный тенорок.
Я оглянулся: около меня стоял виденный уже мною духовный, карие глаза его искрились от удовольствия.
— Богатырь! — ответил я. — Кто это такой?
— Неужто не знаете? — удивился духовный. — Персона-с! — отец протоиерей Алексей.
Мы познакомились. Собеседник мой оказался дьяконом из соседнего уезда, ехавшим в город к тестю.
— Не угодно ли мне компанию составить? — обратился ко мне дьякон, — та горенка посокровеннее, эта на нору как-то!
Я согласился, и мы перебрались в нее. Горенка действительно оказалась сокровеннее и уютнее. В дальнем углу ее на столе лежала гора съестных припасов, завернутых в просалившиеся газетные обрывки; среди них, словно наполненная рубинами, ярко пылала в лучах солнца бутылка.
— Пожалуйста, присаживайтесь! — приглашал дьякон, отодвигая к одному концу свои свертки. — Неопалимая купина-то моя как светится! — он подмигнул на бутылку. — Вкушаете?
— А что такое? — осведомился я.
— Вишневка, домашняя, — благоговейно ответил дьякон, бережно, обеими руками беря бутылку. — Такую наливку разве у архиерея в подвалах сыщите! Пять годов выдержана: свадебная!
Он осторожно, стараясь не пролить, налил стаканчик и поднес его мне.
— Откушайте, сделайте одолжение!
Я попробовал; свадебная наливка, действительно, оказалась превосходною. Дьякон стоял, держа бутылку в руках словно орарий во время ектении, и глотал слюнки, глядя, как я отпиваю понемногу из стаканчика.
— Сама в горло течет… истинно мед и елей!!
— Очень хороша! — похвалил я.
Дьякон принялся разворачивать свертки.
— Полну торбу дьяконица мне всего наклала: на день езды, на неделю еды — такое уж правило у нее! Ах, и заботливая же она у меня!
Из свертков появилась жареная курица, кусок копченого сала, вареный язык и т. д.
— Угощайтесь, пожалуйста. Мастерица дьяконица у меня: на свете второй такой не сыскать! В пути сущем и в посту разрешается!
Я поблагодарил и отказался; как раз в эту минуту половой внес заказанный мною обед.
— Это вот напрасно! — с искренним сожалением произнес дьякон, — с собою надо возить — дорогое все такое в трактирах! небось рублевку отвалите?
— Вероятно.
Дьякон вдруг радостно рассмеялся:
— А мне дьяконица денег на руки ни-ни, не дает! Харча всякого — сколько угодно, а денег — нет, тубо! Рупь на всю поездку отпустила! — Он опять залился смехом. — В пузырьке содержусь у нее. Не вздумайте, что жадная она, — нет, а так, для порядку, чтобы не растратился!..
И язык и белые зубы дьякона работали неутомимо; я убедился, что дьяконица была воистину мудра, наготовив мужу на два дня пути гору провизии.
— А почему вы с таким восхищением отозвались о здешнем благочинном? — полюбопытствовал я.
Дьякон широко раскрыл глаза и отнял ото рта куриную ногу.
— Вы и не слыхали, стало быть, ничего про отца протоиерея? — несказанно изумился он.
— Нет…
— Ну да как же это?! — воскликнул дьякон. — Знаменитое лицо, воистину пастырь, — на всю губернию, можно сказать, единственный!
— Чем же он знаменит, проповедями?
Дьякон отмахнулся рукой.
— Что там проповеди! всякий эти хляби словесные разверзать может. А вот паству держать в руках как он — это уж извините! — дьякон вытянул перед собой руку и сжал кулак. — Весь уезд вот где у него.
— Каким же образом?
— Убедителен очень! Сами изволили видеть — без вершка сажень в человеке, силища — жеребца за передние ноги на дыбки ставит! Мы если с крестом обход делаем — настоятель у нас как пупырышек, старенький, слабый — ну какое же причту уважение? кланяйся, если корчик ржи тебе в мешок всыплют! А отец Алексей идет — загляденье: Синай-гора; риза золотая, в сиянии весь, за ним целый поезд телег едет; кто же такому пастырю меньше меры дать осмелится? Да еще если мера с краями не вровень — глянет и слова не вымолвит, а только кулаку воздвиженье сделает — и уж весь двор как ошалелый за добавкой бежит! Нам яичко — ему десяточек.
— Да-с!.. А кулачище — из других уездов нарочно приезжают, чтобы его обозреть: в арбуз!
— Дерется, стало быть?
— Зачем? И кого ж ему бить-то, помилуйте? Да он только в лоб когда для назидания кому безымянным перстом постучит — шишка вскакивает! И без битья почитают! Русскому человеку ведь биться не надо: только бы палка всегда наготове стояла — вот тогда он все понимать может!
Дьякон со смаком опорожнил еще стаканчик свадебной и со стуком поставил его на стол.
— Возьмите хоть бы такой случай. Сект у нас по губернии, по деревням — сколько угодно. Беседы всякие мы по приказу преосвященного ведем, прения. Ну, да что же из этого выходит? ты дураку слово, а он тебе в ответ десять; ты ему текст, а он тебе три! Семь потов стечет, а он все свое долбит; зря только словесами воздух сотрясаем. А у отца Алексея ни словопрений, ни проповедей, а расколу — ни Боже мой, и духу нет; благолепие, порядок!!
— Чем же он этого достиг? неужели тем же воздвиженьем?
— Зачем? словами! слово умеет сказать! Да вот приведу я вам пример: гусь тут неподалеку один завелся, в соблазн стал вводить мужиков. Ярмарка подошла. Отправился отец Алексей пройтись и видит — у церковной ограды толпа стоит, а среди нее гусь этот разглагольствует.
Подошел отец Алексей. Расступились все, а он прямо к сектанту.
— Ты это о чем же здесь умствуешь? — спрашивает.
Смутился тот. — Да так, — говорит, — промежду себя мы тут…
— Слыхал я, будто ты в естестве Бога Сына сомнение имеешь?
Тот туда-сюда, а отвечать надо: народ стеной стоит, слушает!
— Имею! — отвечает.
Отец Алексей цоп его за загривок, да на воздуси в вытянутой руке и вознес, как змия в пустыне.
— За мной все! — приказал. И зашагал в церковь, а Ария[23] этого самого над народом, как на шесте повешенного, несет. Тот и не шелохнется, скрючился, скис со страха! Ярмарка, понятное дело, валом за ним; полна церковь набилась. Остановился отец Алексей среди храма, указал знак вокруг себя свободною рукой и спрашивает, — православные, кто это такие на иконах изображены? Голосок-то у него как рык львиный, так и загремело по всем углам!
— Святые, — отвечают.
— А мощи чьи в церквах и монастырях нетленные почивают?
— Святых же…
— А как они верили? отметали ли они Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя?
— Нет! — кричат кругом.
— Как же ты, паршивец, отметать его осмеливаешься? — да как тряхнет его — у того руки и ноги чуть прочь не поотлетали. — Умней ты их, святее? — Да опять позвонил им как в колокольчик… — Братцы, свят сей или нет? Кому верить: роже этой или угодникам?!
Смех, конечно, кругом! Поставил отец Алексей сектанта на пол, а того уж и ноги не держат: на четвереньки пал! К-э-э-к зыкнет на него — вон из храма, поганый пес! Попадись еще раз мне в руки — башку об колесо расшибу! Да носком сапога подцепил его под чрево и метнул к дверям: верите — через полхрама как нетопырь перелетел; вскочил с полу, едва в двери попал, пулей вынесся! И вот вам и все, и собеседованию конец; с тем и ересь вся кончилась!
— Уверовал после этого Арий?
— Да еще как! Первый говельщик и церковник теперь. С отцом Алексеем не наговоришь!.. Иоанн Златоуст, воистину!
Я потребовал себе чаю, а дьякону пива — и пара бутылок разморила его окончательно.
…Внизу неистово и хрипло, будто пьяный, заорал какую-то песню граммофон.
— Машина! — Дьякон наклонил голову, послушал и засмеялся. — Ах ты, дьяконица какая… — промолвил, — вот уж воистину умна! Рупь дала! Что я на такой капитал сочинить могу? И не дома, а опять, значит, в пузырьке сижу!!!
Граммофон сыграл торжественный марш и смолк. Время было ехать.
Я расплатился, простился с моим занятным собеседником и спустился вниз.
Мирон сидел за столом близ стойки и разглагольствовал на весь трактир. Его снисходительно слушали два почтенного вида мужика и хозяин.
Перед Мироном стояла совершенно пустая полубутылка от водки и стакан зеленого пузырчатого стекла. Что Мирон отобедал на славу, свидетельствовали обширная лужа на столе с капустными частицами и остатки хлеба.
— Пора ехать! — сказал я.
Мирон вскочил. — Верно, что так! — воскликнул он. — Огребай с меня кровные, хозяин! — он полез в карман и стал расплачиваться. Я отправился к лошадям. Развеселые стояли понурившись и развесив по-ослиному уши. Через минуту выбежал Мирон, собрал разбросанные остатки сена в бричку и стал заворачивать ее. Я уселся, и мы выехали на большак.
— Ты здешнего благочинного знаешь? — спросил я.
Мирон повернулся ко мне; водка, видимо, действовала на него скверно, лицо его стало бледным, оспины выступили резче, на щеках пятнами горел малиновый румянец.
— Во-то-а?.. Да кто ж его не знает? — ответил он. — У, ерой, чистый Скобелев, одно слово!
— Чем же он герой?
— Строг. Ну, до чего строг — рассказать нельзя! Исправника мужики так не боятся, как его, ей-Богу! А уж бабы! — Мирон махнул рукой. — Однова он шасть невзначай в избу к здешнему мужику, а навстречу ему невестка — молодуха и попадись! Так ведь что ж бы ты, голова, думал? бяк об пол да и родила с перепугу!
Я засмеялся.
— Чего смеешься? — истинный Господь, не вру! Спрашивали ее потом: чего ты, дура, испугалась? — Думала, говорит, что это медведь взошел… Так-то! Тут, друг, не то что у нас: здесь в церкву явился — стой и не пикни, Богу молись, как следовает! Шу-шу-шу заведешь, отец Алексей из алтаря поглядит, да так те отчехвостит — в щелку заместо дверей от стыда полезешь!
— А уважают его прихожане?
— Уважают! — убежденно ответил Мирон. — Как же не уважать: четверть вина человек выпить может! Попробуй-ка, не уважь его!
— Ну, а с бабами он так же распоряжается, как и с мужиками?
— А ты думал в зубы глядит им? Не-ет! Самому окаяшке не спустит! Ты бы на великом посту поговеть сюда приехал, вот бы тогда и поглядел на баб! На исповедь идут — с лица спадают, лихоманка бьет! Однова молодайка одна — она из соседнего села сюда замуж только что вышла — впервой исповедаться к отцу Алексею пошла. И так-то мозгу у баб самая чуть, а тут напугали ее и совсем уму помутнение сделалось! Что ее отец Алексей ни спрашивает — дрожит как лист, да все — «не грешна» — твердит! Он ее и о том и об этом, отцу-матери не грубила ли, худых слов не говорила ли — не грешна да и все тут; все грехи растеряла! Взял он ее легонько сзади под ушки за шею, отодвинул ширму, выставил к исповедникам да и кличет дьячка: — Михалыч, подь-ка сюда.
Тот тут как тут.
— Вот, — говорит, — поставь поди ей свечку: новая святая явилась! — и ширму закрыл. Так без причастия баба и осталась: еще неделю грехи вспоминать пришлось! Поп необыкновенный…
VI
С большака мы свернули на проселок и заныряли со взгорка на взгорок. Часа через два показалась убогая деревушка, Мирон въехал в нее и остановился у крайней избы.
— Кума, ваше благородие, повидать надоть! — заявил он мне, как бы извиняясь. — В секунд ворочусь! — И он исчез в воротах.
Пропадал он минут десять, и когда вернулся, нос у него пылал, как дьяконская бутылка со свадебной; разило от него на всю улицу. С блаженным видом, не без труда, взобрался он на козлы, и мы тронулись. Я молча наблюдал за ним, его, что называется, развезло; он что-то бормотал сам себе, усмехался и поматывал головой. Развеселые, очевидно, учли это обстоятельство и пошли совсем шагом.
— А ведь ты назюзился, брат? — сказал я. — Еще заплутаешь, смотри!
— Я?! — ужаснулся Мирон. — Да никогда в жисти! хоть на тот свет тебя предоставлю!
— На тот свет не хитро, а вот ты меня лучше к Каменеву поскорей доставь: гляди, какая туча сзади заходит!
Мирон оглянулся:
— В Каменку поспеем!.. — уверенно ответил он.
Не отъехали мы и версты — стало накрапывать. Сразу стемнело; край черной тучи начал таять и осыпаться: будто гигантский парус встал от земли до неба, выгнулся и быстро гнался за нами.
Я наскоро уложил вплотную кипы моих книг, застлал их сверху сеном и открыл зонтик.
— Погоняй, погоняй!.. — приказал я Мирону.
Тот вытащил из-под себя коричневый армяк, облачился в него, запахнулся и принялся хлестать коньков концами вожжей. Особого впечатления на них это не производило, но все же бричка покатилась намного быстрее.
— Выручайте, кульерские!.. — восклицал Мирон, ерзая на козлах и с размаху лупя веревкой сперва меня, потом коньков.
— Легче, легче!!. — воскликнул я. — Я ведь не лошадь, меня-то за что хлещешь?
Мирон с недоумением повернулся ко мне.
— Рази и тебе попало? ну, ничего, оно пользительно… Сыпь, развеселыя!! — он так разошелся, что чуть не сорвался с козел.
— Ты тише воюй-то! — заметил я. — Слетишь того гляди!
— Нив жисть! — воскликнул Мирон. — Сказал — в Каменку вперед дождя поспеем, и поспеем — мое слово аминь!
Только что успел он разразиться этим торжественным обещанием, — по моему зонтику забарабанили первые крупные капли. Положение получилось трагическое: сена было немного и надо было спасать либо книги, либо собственную персону. Я предпочел первое и втиснул зонтик между мной и спиной Мирона.
Тот оглянулся. Дождь уже порол нас, как розгами.
— Ай ты в уме?! — воскликнул Мирон, видя, что я сижу весь открытый и меня сечет дождь. — Ты куды, голова, зонтик-то запихнул? Промокнешь ведь!
— Ничего, высохну!.. А книжки намокнут — испортятся!
Мирон принялся опять погонять лошадей. Струи холодной воды текли у меня по лицу, забирались сзади за воротник пальто и расползались по всей спине; ощущение было не из приятных, но я скоро притерпелся к нему.
— Ну, теперь мне с тебя водку пить! — недопускающим возражения тоном заявил Мирон. — Это уж беспременно!
— Почему так?
— А потому! в трактире надо было сидеть, а ты. — поезжай да поезжай! Вот и поехали. Ты уж меня слушайся: я-то знаю что говорю!
Я не стал восстанавливать истину.
Приблизительно через час впереди показался тронутый осеннею позолотой небольшой березовый лесок. Ярким пятном зеленела среди гущи вершин его железная крыша.
— Каменка!!! — произнес Мирон, указывая на крышу. — Барский дом это!
Лесок оказался реденькою рощей; сквозь нее виднелся плетень, а за ним стены сараев и конюшен. Мы въехали через настежь открытые воротца на двор; в глубине его, прижавшись спиной к саду, темнел длинный и низкий дом, как бы начавший врастать в землю. Над серединой его в виде высокой четвероугольной башни подымался мезонин.
Бричка подкатила к подъезду. Я выбрался из нее и первым делом принялся вытаскивать и ставить на крыльцо под защиту навеса кипы с книгами. К великому моему удовлетворению, они оказались совершенно сухими. Мирон усердно помогал, т. е. совался мне под ноги, суетился, чуть не уронил связку книг в грязь, наконец забрался на мое сиденье в бричке и стал отирать лицо после трудов своих.
— Говорил, предоставлю и предоставил!.. — бормотал он.
Двор и строения вокруг него не подавали и признаков жизни: отсутствовали даже собаки.
Я поискал звонок, но его не имелось; пришлось постучать в дверь, но и это ни к чему не привело: кроме шума дождя, никаких иных звуков слышно не было.
— А ты лезь в дом-то!.. — посоветовал мне Мирон. — Чего тырчешься как овца, — прямо сыпь!
Я последовал его совету. Дверь оказалась незапертой, и я вошел в сени, а оттуда попал в переднюю. И там меня встретила тишина и безлюдие. С меня текло, как из губки. Идти в таком виде дальше я не решался и, не зная что предпринять, громко покашлял.
Из соседней комнаты глянуло молодое женское лицо со вздернутым носом и бойкими, черными глазами. Увидав меня, обладательница его ступила в переднюю; белая наколка на голове и такой же передник обнаруживали ее положение в доме.
— Кого вам надо? — спросила она.
Я с трудом расстегнул пальто и извлек из недр пиджачного кармана свою визитную карточку и письмо Ченникова.
— Передайте это вашему барину… — ответил я.
Горничная скрылась. Где-то в глубине комнат послышался разговор и затем поспешные мужские шаги.
— Милости прошу, милости прошу!.. — еще из соседней комнаты радушно произнес высокий, худощавый человек, быстро идя ко мне. Мы обменялись рукопожатием. — Да что же это вы не раздеваетесь? Поля, помоги барину снять пальто!..
Оно так прилипло ко мне, что его пришлось скорее сдирать, чем снимать: пиджак, брюки, белье — все оказалось мокрым насквозь.
— Есть у вас во что переодеться? — заботливо спросил хозяин.
— Белье есть… — ответил я, — а верхнего ничего нет.
— Поля, достань скорее мой теплый халат и принеси в угловую!.. Да самоварчик чтоб дали! Идемте переодеваться!
— На подъезде мои книги, — произнес я, — можно будет попросить вас приказать принести их сюда?
— Конечно, конечно… все сделают!
Я захватил свой чемоданчик и последовал за гостеприимным хозяином.
Непогода ли, время ли сказывалось, но комнаты казались сумрачными. Прежде всего в глаза мне бросилось обилие гравюр на стенах; кое-где имелась старинная мебель, и среди нее я вдруг увидал бесценный диван-ампир из красного дерева с выгнутою спинкою, встречающейся весьма редко. Его украшали золоченые розетки великолепной чеканки. Я не мог не восхититься им и остановился.
— Какая прелесть! — сказал я, указывая на диван.
Каменев усмехнулся.
— А вы действительно любитель, я вижу!.. — ответил он. — Но идемте сперва переодеваться, потом найдется что посмотреть вам!
Через зал мы прошли в угловую комнату, глядевшую обеими наружными сторонами в сад; хозяин пропустил меня вперед и деликатно оставил одного; я принялся разоблачаться. Через несколько минут Поля приоткрыла дверь и подала мне пушистый, как мех ангорского кота, темно-серый халат с зелеными выпушками и такими же кистями на шелковом поясе.
Приятно было завернуться в него и ощутить тепло и негу после ледяной шкуры, только что сброшенной с плеч.
— Готовы? — спросил из-за двери голос Каменева.
Я вышел, и хозяин повел меня в кабинет. Навстречу нам с широкого кожаного дивана поднялось огромное круглое брюхо с как бы приделанным к нему сзади небольшим человеком.
— Знакомьтесь, господа!.. — сказал Каменев.
Толстяк протянул мне короткую руку, широко раскрыл рот и как отрубил:
— Марков! — Голос у него был хриплый и грубый.
— Мой большой приятель и сосед… — пояснил хозяин.
Мы уселись, и начались расспросы о моем путешествии и его цели.
Я подчеркнул, что мною руководит не жажда наживы, так как торговлей я не занимаюсь, а исключительно желание разыскать и спасти хотя бы часть тех богатств, которые безвестно гибнут у нас на Руси или же уплывают за границу.
— Прекрасная задача!.. — сказал хозяин. Он сидел в кресле, сгорбившись и охватив руками колено одной ноги, закинутой на другую. Лицо его было заурядно и некрасиво; над невысоким лбом в беспорядке свисали густые темные волосы с сильною проседью; он то и дело откидывал их назад рукою. Но серые глаза его были полны мысли и мягкости и несомненно принадлежали незаурядному человеку.
Марков хранил молчание и только храпел, как старый мопс. Крупный выпуклый лоб, сильно расширявшийся к темени череп, вытаращенные бесцветные глаза с мешками под ними, складки у плотно сжатого рта, узкая бородка, напоминавшая желтый моржовый клык, свисший вниз, — все свидетельствовало, что человек этот упрям и тяжкодумен.
— Я сам собирал что мог всю жизнь… — продолжал Каменев. — И очень рад, что судьба привела нас встретиться! Правда, это удовольствие только для меня одного, — с улыбкою добавил он, — ибо приобрести у меня вам ничего не удастся…
— С вашим собранием я хотел только ознакомиться, — ответил я, — оно в надежных руках и в спасении не нуждается!
Хозяин наклонил набок голову и остался в этом положении.
— Это как сказать?.. — немного погодя отозвался он. — Все мы, собиратели, стоим перед одним и тем же трудным вопросом: что будет потом, после нас, с нашими библиотеками и коллекциями?
— Разве у вас нет наследников? — спросил я.
Легкая тень промелькнула по лицу Каменева.
— Дочь есть… — ответил он. — Но ведь именно наследники в большинстве случаев и являются самыми опасными врагами для коллекций…
Марков сердито крякнул.
— А собирать всю жизнь… — продолжал Каменев, — и знать, что все, на что ты потратил столько забот и времени, как дым, бесследно разлетится после твоей смерти, — это грустно!.. утрачивает смысл жизни. И я иной раз думаю, что приобретая я совершал большую ошибку…
— Ясно! — хлопнул, точно выстрелил, Марков, опять широко раскрыл рот. — Говорил тебе: жить надо, а не собирать!
— Жизнь — понятие неопределенное… — отозвался Каменев.
— Позвольте? — вмешался я. — Но ведь есть же другая возможность сберечь ваши сокровища: пожертвуйте их в музей!
— Я не так богат, чтобы позволить себе это: не могу обездолить семью. И собирал не я один; я больше берег то, что осталось от предков…
Появление Поли с докладом о самоваре прервало наш разговор, и мы перешли в просторную столовую; в ней словно под шатром, под огромным латунным колпаком горела висячая лампа; крупные зеленые, синие и красные стекла, вставленные в него, светились среди полутьмы, наподобие драгоценных каменьев.
На покрытом белою скатертью овальном столе кипел самовар, стояли стаканы и бутылки с коньяком высокой Мартелевской марки. Было тепло и необыкновенно уютно. А в окна и стеклянную дверь недвижно смотрели увитые диким виноградом колонны веранды; за ними затаилась почти ночь; медленно осыпали листвою дорожку мокрые деревья… Было так приятно сознавать себя отделенным надежной стеной от этого насквозь промокшего лона природы!
Поля разлила нам чай, Каменев добавил в него мне и Маркову — одному в лечебных целях, другому за компанию — по хорошей дозе коньяку, сам же ограничился одним чаем, но необыкновенно крепким, почти черным.
Разговор опять вернулся к моей поездке, и я упомянул, что в числе намеченных мною для посещения лиц имеется сосед Каменева — купец Чижиков, пять лет назад купивший имение у старинной дворянской семьи.
Услыхав фамилию Чижикова, хозяин усмехнулся; Марков повел на меня выпученными глазами и продолжал пить чай, с шумом схлебывая его с блюдечка и отдуваясь после каждого глотка.
— Мне говорили, что он великий оригинал? — заметил я.
— Больше пьяница, чем оригинал, — ответил хозяин.
— Хам!.. — вдруг до того похоже на большую собаку гавкнул Марков, что я чуть не выронил свой стакан. — Зажрался, с жиру бесится!
— Вы попадете к нему в самую интересную, с бытовой точки зрения, пору… — продолжал Каменев. — Жену он только что на этих днях отправил на консоме и теперь орудует на свободе. Это у него называется — моцион души!
— Как вы сказали? — переспросил я. — Куда он жену отправил?
Легкая улыбка тронула губы хозяина.
— Не бойтесь, ничего страшного нет!
— Он, видите ли, любитель иностранных слов. Консоме — это по его лексикону не что иное, как консультация. Жена до некоторой степени держит его в узде, а потому, когда на него находит стих развернуться вовсю, он тонко выпроваживает ее в Москву, якобы для совета с докторами. Дама она мнительная, двенадцатипудовая…
— Сидит она, например, за столом, а он гуляет по комнате. Походит, остановится, поглядит на нее, вздохнет, покачает головой и опять начинает ходить. Раз так сделает, два — ту уже оторопь берет.
— Чего ты, — спросит, — Пал Палыч, вздыхаешь все надо мной? — Нехорошо, мать, выглядишь… — ответит, — боюсь я за тебя! — Та так и всколыхнется вся. — Да что, что такое? — На себя стала не похожа! Вчера еще сумнение брало, глядя на тебя, а сегодня ты и вовсе сдала! — Анфиса Ивановна к зеркалу, щеки себе мнет, в глаза всматривается.
— Больная… — пальнул Марков. — Мурло — аршин в поперечнике…
— Начинает ей казаться, что прав муж. — А и впрямь я с лица спала, что бы этому за причина была, как думаешь, Пал Палыч? — Да не иначе, как нутряная!.. думается мне, — не рак ли у тебя на нутре завелся? С доктором бы тебе с хорошим посоветоваться надо!
Анфиса Ивановна чуть не в обморок валится. К вечеру ей уже совсем худо: и нутро болит, и рак чувствуется — шевелится. А на другой либо на третий день она уже летит в коляске в город. Муж жену обожает, а потому в Смоленск ее не шлет: доктора плохи; в Москву посылает, а то и в Крым: воды морские там от всех болезней пользительны…
Каменев, не повышая голоса, так тонко и неподражаемо хорошо передал всю сценку, что передо мной как живая встала чета Чижиковых. Я смеялся от всей души.
Марков храпел, поводил глазами и поглощал чай стакан за стаканом. Чета эта, видимо, была у него на черной доске.
— А вы как по винной части? — вдруг обратился ко мне Каменев. — Пьете?
— Да. Не пьяница, но пью! А почему вы меня об этом спрашиваете?
— А потому, что если не пьете, то к Чижикову и ездить незачем: никакого дела не сделаете!
— Стало быть, это зубр еще времен Островского?
— Да ведь типы не вымирают, а только видоизменяются… — ответил Каменев. — Разве понемногу облагораживаются!
— Он? рыло такое? облагородился! — окрысился Марков.
— Ну, перевоспитываются временем, — уступил Каменев, — но, вообще говоря, в провинции типы очень живучи.
Мы окончили чаепитие, и я с хозяином отправился в обход дома. Марков пролаял, что он должен подумать в кабинете, и отделился от нас.
В доме были зажжены все лампы. Мы миновали какую-то довольно пустынную комнату с самым заурядным письменным столом у окна, и Каменев слегка толкнул следующую дверь.
Были времена, когда человечеству снился волшебный сон. Жизнь и сказка сливались в одну гирлянду; дни и ночи являлись праздниками красоты и изящества; будней не существовало. И все, к чему ни прикасался человек той эпохи — рукой, взглядом, или мыслью, — все — от книги до стен дома, донесло до наших дней отпечаток гения.
В ту эпоху утонченный Верен создавал мебель; ее прихотливо гнул Буль; Буше и Ватто отражали на ней свои светлые грезы; смелые и изящные Альконе и Клодион из бронзы создавали поэмы — часы и статуэтки; Жермен на серебре запечатлевал химеры, а Гобелены и Бове, как мечтой, завешивали коврами-картинами целые стены комнат…
Первое впечатление получилось фантастическое. Будто волшебством меня сразу перенесло в грот из белых снегов, из синего льда, из золотистых лучей солнца — так были подобраны тона гобеленов, мебели и гиганта ковра на полу.
Если существует сказочная царица-зима, она уходит весной грезить в подобный уголок.
Меня окружало подлинное прошлое: даже трюмо с характерными золочеными завитками на верхней части вышло из рук Опенора.
С правой стороны, из-за кресел глядел белый уголок клавесин; их украшали овальные, бледно-голубые щиты с какою-то нежною живописью.
— Да ведь это Клод Жилло?[24] — воскликнул я, подойдя вплотную.
Каменев молча наклонил голову. Ему было приятно мое восхищение.
— Знаете, ведь они должны войти сейчас сюда — дамы в фижмах и кавалеры в париках и кружевах! — я даже схватил Каменева за руку.
— Да… — ответил он. Голос его звучал убеждением. — Я их жду. Но они приходят только тогда, когда здесь нет никого!
— Вы разрешите мне сесть на этот драгоценный диван? — спросил я.
— Пожалуйста.
Мы опустились на него почти рядом. Я не знал на что смотреть.
— Честь вам и слава за эту гостиную! — заговорил наконец я. — Вы выполнили то, о чем я мечтал и за что всегда ратовал! Все наши музеи надо разметать по камню и снова создать их; ведь это пока склады старьевщиков и только! В них нет настроения, они утомляют мозг, не дают и тени представления о жизни в прошлом. Нужны не сараи, где как бирюльки собраны в кучу сотни подсвечников, туфель, бюстов, тарелок, шпор, табакерок и чего угодно. Необходимо иное — вот это! Каждый век должен иметь свои апартаменты. И чтобы ничего лишнего не было в них: должно быть только то, что действительно находилось в них в свое время. И когда создадут такие уголки — вот тогда мы будем иметь настоящие музеи. Всякий сможет прийти и разом перенестись в желаемую эпоху!
— Вы правы… — проговорил Каменев. — Вполне согласен с вами.
— А клавесины у вас действуют? — спросил я. — Я очень люблю их звук… голос прошлого!
— О, да!.. как же их не любить? ведь Гайдна, Моцарта и Рамо надо играть только на клавесинах — они писали для них, а не фортепьяно. У них совершенно иной звук: в фортепьяно по струнам бьет мягкий молоточек, а у клавесин за струны задевают металлические перья. И струны совсем иные, тонкие…
Мы умолкли.
— Вы не чувствуете, что мебель говорит? — заговорил Каменев. — Я иногда часами сижу здесь и слушаю. Из нее истекает как бы шелест, какие-то воздушные волны… мы не знаем еще языка тишины, но он существует несомненно.
— Предметы так же излучают из себя энергию, как и человек, — сказал я. — Это те же электрические аппараты, но гораздо более слабые, чем мы. Их речь доступна только нервам.
— Правда! — воскликнул Каменев. — И лучшее доказательство этому тот факт, что можно нагипнотизировать вещь и послать ее куда угодно: она произведет то же действие, что и сам гипнотизатор. Есть злые вещи и добрые вещи, как это ни звучит странно!.. И предки были правы, когда верили в колдовство: мы только изменили его название… Чудо есть, но оно естественно.
— В воздухе уже носятся очередные великие открытия… — ответил я. — Мне кажется, что вот-вот должны изобрести аппарат, который заставит заговорить стены и все неживое. Жизнь человека — это непрерывное излучение энергии. Ее воспринимают и ею пропитываются все здания и все вещи… они должны заговорить!
— Вы верите, что есть места, где человека тянет к самоубийству или убийству? — вдруг спросил Каменев.
— Безусловно!
— Да… это магнит своего рода!.. — он долго, не отрываясь смотрел на угол камина, потом очнулся и мягко опустил свою руку на мою, лежавшую на диване, и тихо пожал ее.
— Рад, что вы приехали!.. — как бы пояснил он свое движение. — Вижу, что есть на свете еще такой же чудак, как я!..
Мы прошли в следующую комнату и попали в наполеоновские дни. Все кругом было светло-зеленое; обивку стен и мебели покрывали как бы разбросанные, вытканные, тугие лавровые венки. Огромный диван поддерживала пара золоченых грифонов… До полного сходства с Фонтенбло не хватало только наполеоновских вензелей. Справа близ двери стояло небольшое старинное фортепьяно с инкрустированной перламутровой каемкой вокруг крышки.
— Единственный анахронизм!.. — заметил Каменев, указывая на него рукою, — Зильберман 1762 года, один из первых инструментов, вышедших из его рук. Фортепьяно ведь изобретено только в 1760 году.
— Немец и здесь первый обезьяну выдумал? — сказал я.
— Не совсем, — возразил хозяин, — фортепьяно почти одновременно появилось и в Англии; там их работал Цумпе. Он у меня стоит в кабинете, и мне кажется, что Цумпе глубже и певучее Зильбермана.
Следующая комната оказалась типичной музейной галереей с двумя рядами невысоких шкафов-витрин вдоль стен. Слева тянулись сплошные ряды всевозможного фарфора, справа — фаянс и терракота.
Я не стану описывать собрания Каменева: для этого нужен был бы целый том. Там находились редчайшие статуэтки из Танагры, этого города утонченного вкуса, изящества, красавиц и… петушиных боев; две Клодионовские вакханки, кормящие сатира виноградом, чайный сервиз для влюбленной парочки фабрики Сен-Клу самого начала восемнадцатого века и т. д.
Сколько времени провели мы, принимая ванну красоты, — не могу сказать. Нас свела на землю Поля, явившаяся с приглашением к обеду.
— Как, обедать? — удивился я и вынул часы. Стрелки показывали девять.
— Я очень поздно ложусь и так же встаю… — пояснил Каменев. — Для меня этот час обеда нормальный. А вы считайте, что вы ужинаете… все дело ведь в воображении!..
Марков уже восседал, как Будда, когда мы вошли в столовую. На животе у него, как на столе, была разостлана салфетка, заткнутая одним углом где-то между тремя подбородками. Суп был разлит по тарелкам, и Марков приготовился к бою: в одной из рук, лежавших по сторонам тарелки, он держал кусок хлеба, в другой ложку, пикой торчавшую вверх из его кулака.
— Вздремнул? — спросил его Каменев, садясь между нами.
— Умом подумал!.. — прохрипел Марков, и на лице его появилось что-то вроде улыбки: предвкушение обеда, видимо, смягчило его сердце.
За обедом продолжались разговоры о старине. Говорили мы с хозяином, Марков только мычал и изредка как холодным душем окатывал нас крутым словечком. Еда поглощала его всецело, и он истреблял ее в неимоверном количестве.
Каменев то и дело подливал ему в хрустальную чашу баккара подогретого лафита, этой вечно молодой крови Франции; яркие, алые пятна лежали на снежной скатерти у тонких ножек наших чаш. Обед состоял из трех блюд и сладкого крема. Марков наглотался до того, что едва пыхтел; покончив с последним куском, он повращал глазами, затем потер себе ладонью печень.
— Есть чувствительность!.. — прохрипел он. — Поешь чуть-чуть и уже дуется, анафема!.. Надо с кем-нибудь посоветоваться!
— Я же тебе рекомендовал профессора! — сказал Каменев.
Марков отмахнулся, как от мухи.
— Ну его!.. терпеть не могу обращаться к знаменитостям!
— Обратись тогда, мой друг, в Петербург к своему старшему дворнику… — мягко и даже участливо ответил Каменев.
Я улыбнулся. К моему удивлению, Марков не рассердился, а раскрыл, как пушечное жерло, рот и прохохотал: будто три камня прокатились друг за другом по полу.
После обеда я и хозяин отправились осматривать последнее, что оставалось, — библиотеку. По пути мы задержались в небольшой комнате, увешанной портретами предков хозяина; в числе их был и известный фельдмаршал[25].
— Посмотрите на этого… — проговорил Каменев, остановившись против одного из портретов. На меня глянуло худощавое, бритое лицо с поведенным в сторону длинным носом. Над небольшими, хитро высматривавшими зеленоватыми глазами в виде двух желтых кустов топорщились только у самого переносья росшие брови, что придавало владельцу их изумленный вид. На прилизанной голове, над узким, но высоким лбом торчал кок, свидетельствующий, как и покрой платья, что изображенный человек жил в начале тридцатых годов.
— Это брат моего деда, Павел Павлович… — продолжал Каменев. — Он был изумительно скуп и, как говорят предания, где-то здесь в саду зарыл большой клад из золотых пятирублевок.
— Вы не искали его?
— Искал отец, но тщетно. Эта комната пользуется дурной славой: уверяют, будто по ночам Павел Павлович выходит из рамы и отправляется в сад к своему золоту.
— Вот бы посмотреть, куда он ходит! — шутя сказал я.
— Был опыт… — ответил Каменев. — У нас жил еще при отце лакей Федор, человек лет тридцати пяти, очень серьезный и положительный. Он и взялся выполнить эту затею. Усадили его на ночь вон там… — хозяин указал на полинявшее зеленое кресло, стоявшее в самом дальнем углу, — и оставили одного. Мы никто не ложились и решили просидеть в столовой до рассвета. Двери все в доме были отперты.
— Ну, и что же дальше?
— Сначала Федор заснул, «не стерпел тишины», как он пояснял потом. Среди ночи он очнулся: ему почудилось, что он в комнате не один. Всмотрелся в темноту и видит, что на раме белеют две руки и из нее, как из окна, нагибается и в упор глядит на него Павел Павлович. Не шевелясь, точно по воздуху, отделился он от стены и встал около пустой рамы. Потом мысленно погрозил Федору пальцем и пошел к двери, на пороге снова обернулся и опять погрозил. Федор окостенел, прирос к месту. Через минуту опомнился, вскочил и бросился за видением: выбежал даже на двор — но там царила темнота и никого и ничего видно не было…
— Жуткий, однако, сон!.. — вымолвил я.
— Не сон! — твердо выговорил хозяин. — Как раз в ту минуту все мы услыхали, что на дворе обеспокоились и завыли собаки. Вой этот стоит по сих пор у меня в ушах!.. собаки чувствуют то, что нам недоступно. И когда вслед за воем ворвался к нам в столовую Федор, — мы поняли, что присниться ему ничего не могло!
Я чувствовал себя странно: хозяин говорил с глубоким убеждением, а между тем рассказ его выходил за пределы неведомого, допускаемого мной. Каменев, видимо, пришел в некоторое возбуждение, и я удержался от оспариванья рассказанного им и только спросил: — На этом опыт и кончился?
— Нет, кончился хуже… Федор с той поры стал каким-то тревожным и рассеянным. Его заставали днем стоящим перед портретом и даже говорящим ему что-то. Его тянуло, как он сам признавался, к портрету. В те времена у наших соседей пятнадцатого августа происходило большое торжество, и мы все уехали к ним на обед и на бал, — чуть не на круглые сутки. Федор воспользовался этим случаем и забрался на ночь в портретную. Горничные проследили, как он пришел туда с мешком и лопатою, но близко подступить не решились.
В полночь опять все слышали, как взвыли собаки, а утром на зорьке сторож наткнулся на Федора. Он словно загнанная лошадь лежал в аллее; мешок и лопата отыскались потом в разных концах сада. Что с ним случилось, что он видел, — добиться так и не удалось…
— Он сошел с ума?
— Не вполне, а почти что… не двигаясь пролежал целый день в своем чулане и ни звука не отвечал никому. В сумерки сорвался с места, похватал свои вещи и без расчета, без единого слова исчез неизвестно куда…
Мы перешли в зал.
Там, заложив короткие руки за спину, делал послеобеденный моцион Марков. Лафит, видимо, привел его в хорошее настроение и он даже рычал какой-то невообразимый марш. Слышно было только «ррам-ррам-тара-рам», и, не будь зал освещен, я бы дал голову на отсечение, что по нему разгуливает цепная собака.
На наши шаги он даже не оглянулся.
Вход в библиотеку был из зала.
Четыре огромных шкафа со стеклянными дверцами у двух стен, пушистый персидский ковер на полу, четыре мягких, сплошь кожаных кресла вокруг овального стола из темного дуба среди комнаты, старинное, главным образом восточное, оружие на всех свободных простенках — вот что представилось моим глазам в библиотечной.
Каменев настежь открыл дверцы всех четырех шкафов. Книги вытягивались на полках стройными рядами; все они были в отличных переплетах.
— Пожалуйста, — произнес хозяин, — все к вашим услугам! Если угодно — займитесь чтением или приходите ко мне: я ложусь только с рассветом. А если устали — в кабинете вам, вероятно, уже постлана постель; у меня правило не стеснять никого…
Я поблагодарил.
— Буду рад, если останетесь поскучать со мной несколько дней… — добавил Каменев. — У меня погостит еще и Валерьян Павлович Марков, он, наверное, понравился вам…
Должно быть, на лице у меня отразилось сомнение. Каменев уловил его.
— Он еж и материалист, — ответил он на мою мысль, — но доброты он необыкновенной.
Я остался один и стал осматривать содержимое шкафов. Два левых сплошь были заняты французскими изданиями XVIII века, этими милыми томами-крошками в нежных, почти бархатных переплетах из кожи. В двух правых помещалась русская литература; я заметил, что время Каменева как бы остановилось лет десять назад: книги этого последнего периода отсутствовали совершенно.
Как описать то, что испытывает человек, оставшись наедине в большой библиотеке?
Он в огромном обществе старых знакомых. Он медленно продвигается среди толпы их, улыбается одним, делает вид, что не узнает других, радуется и восхищается встрече с третьими… Попадаются любимые, дорогие друзья, слышится полузабытая, милая речь, оживает то, что давно ушло, заколыхнулось туманом…
Был час ночи, когда я закрыл тоненький квадратный томик, в который был погружен.
Время было ложиться. Я поставил на место книжку — первое издание «Кузнечика-Музыканта»[26], автор которого сам не понимал, какую великую вещь он создал, — и вышел в зал.
К удивлению моему, он по-прежнему был ярко освещен; на всех стенах горели лампы. Казалось — вот-вот должны были впорхнуть наряженные по бальному гости… но в окна смотрела тьма, в доме не слышалось ни звука; зал был пуст.
Портретная сияла тоже. Павел Павлович испытующим, хитрым взглядом проводил меня. Я вступил в наполеоновскую комнату[27]… и она была освещена, пуста и безмолвна.
Приходилось ли вам бродить в одиночестве ночью по огромному, вымершему, наполненному светом зданию? Уверяю вас, что в потемках идти гораздо приятнее: в темноте вы только слабо чувствуете близость чего-то странного, при освещении же вы, кроме того, ждете и его появления. Свет солнца — это в своем роде тончайшие, бесчисленные нити из шелка: они изолируют наши нервы и делают их днем невосприимчивыми к окружающему; ночь свободна от этой предохранительной паутины, воздух делается электропроводнее. Ночью поэтому мы чувствуем резче и яснее, и искусственный свет усиливает нашу восприимчив ость.
Рядом, в гроте зимы, раздался неясный звук: будто задели струну какого-то инструмента. Мягким шелестом провеял аккорд, другой… лесом и всплесками волн зашумела соната Моцарта.
Я беззвучно подошел по мягкому ковру к приотворенной двери и заглянул в щель.
За клавесином сидел Каменев. Мне видна была только спина его и голова, слегка откинутая назад: он играл по памяти.
Звук клавесина — это дуэт гитары и мандолины, и надо слышать его, чтобы оценить всю его нежность и прелесть. Рояль страстнее и могучее, но там, где нужны воздух, ясность и грация, не танго, а менуэт, — там клавесины незаменимы.
Каменев играл артистически.
Прозвенел и замер последний всплеск звуков. Каменев встал, выпрямился и закинул руки за голову. Лицо его показалось мне побледневшим, брови были сдвинуты, волосы находились в беспорядке. Ночное освещение, видимо, и на него действовало возбуждающе.
Я вошел к нему.
Каменев опустил руки, и лицо его приняло прежнее приветливое выражение.
— А… вы не спите! — произнес он.
— Я слушал вас… — ответил я. — Какой восторг эти клавесины и ваша игра!
Я произнес это от всей души. Каменев улыбнулся одними глазами.
— Скажите — каждую ночь ваш дом так освещается, как сейчас?
— Да… А как же иначе? — Каменев несколько удивился. — Лампы действуют до выгорания и гаснут сами… как жизнь.
— А вам не вредят эти ночи без сна?
— Что значит вредить? И во вреде есть польза, и в пользе есть вред… — Мы перекинулись еще несколькими фразами, и так как я чувствовал себя усталым и неспособным поддерживать беседу, то попросил разрешения отправиться спать.
Хозяин проводил меня до середины соседней комнаты.
— Скажите?.. — вдруг произнес он, остановившись. — Вы не чувствуете здесь ничего особенного? — он слегка оперся на письменный стол пальцами правой руки. Сукно близ того места точно лужей было залито большим чернильным пятном.
— Нет!.. — отозвался я, тоже остановившись. — А что?
— Так… — загадочно ответил он. — Здесь злые вещи. Эта комната зла и смерти!
— Значит, зло легко уничтожить!..
— Прошлое не уничтожается… — проронил Каменев, покачав головой. — Оно живет кругом и правит нами. Мы только пешки…
Мы расстались.
— А ведь ты спятишь!.. — думал я, идя к себе. И мне представилось, какое жуткое и странное зрелище должен был являть собой со стороны этот дом, сияющий по ночам среди леса огнями и в то же время безмолвный и мертвый, в окнах которого то здесь, то там появляется одинокая тень. В кабинете на двух кожаных диванах были приготовлены постели; на ближайшей к двери уже спал Марков.
Этот человек, видимо, был создан для отпугивания всего сверхъестественного, и приподнятое настроение, владевшее мной, сразу улетучилось от вида этой будничной туши, храпевшей самым сокрушительным образом.
Я разделся, задул лампу и улегся, но заснуть никак не мог — мешал сосед.
Вообразите, что рядом с вами настраивают оркестр или, вернее, что кто-то принялся вертеть скрипучую ручку совершенно разбитой шарманки с перепутанными валами, и вы поймете, чем являлось для меня соседство этого человека. Он бурчал, храпел, свистал, причмокивал, — словом, издавал все звуки, какие только возможно себе представить. Несколько раз я зажигал свечу, обозревал эту невероятную музыкальную машину и соображал, чем бы остановить ее, но придумать ничего не мог и проворочался до рассвета.
Мне приснилось, будто я нахожусь в глухом лесу, а кругом меня, с характерным фрррр… взлетают тетерева. Я открыл глаза и первое, что увидал, — был Марков, усиленно терший себе лицо мохнатым полотенцем. Звук фррр исходил от него. Он стоял в одних брюках, красные подтяжки резко выделялись на его белье. В окно глядело ясное солнечное утро.
— Пора просыпаться! — прохрипел Марков, опустив полотенце; глаза у него, казалось, были налиты вчерашним лафитом. — Здоровы вы спать!
— А вы храпеть! — ответил я. — Я напролет всю ночь глаз не смыкал!
— Да неужели? — удивился Марков. — Я храплю? и громко?
— На всю губернию!
Марков открыл свое пушечное жерло и опять пустил камнями по полу.
— Вот так чудеса! — проговорил он, перестав хохотать. — Прошу прощения! А теперь время кофе пить!
Он повернулся ко мне жирной спиной и отправился из кабинета.
Платье мое, высушенное и разглаженное, лежало на стуле около двери. Я быстро оделся, умылся и вышел в столовую. Марков находился уже там; перед ним стояла огромная чашка, вроде полоскательной, наполненная кофе и накрошенными сухарями. Он возил в этой каше ложкой и чавкал на всю комнату.
Поля налила мне стакан.
Меня потянуло поскорее уехать: все, что меня интересовало, было осмотрено, и дальнейшее пребывание в Каменке казалось мне бесполезным. Главное же, не знаю почему, но несмотря на уют и полную симпатию к хозяину, на нервах у меня остался какой-то легкий, неприятный осадок. Дом, душный воздух в комнатах от горевших всю ночь ламп, — все действовало определенно неприятно.
— Чудесная погода! — проговорил я. — Нужно б воспользоваться ей и пораньше сегодня уехать.
— Жарьте!.. — хрипнул Марков.
— Неловко: я не попрощался с хозяином! Он когда встает?
— Перед вечером. Вздор; надо и уезжайте: все так делают!
— Вы серьезно находите, что это не будет неудобным?
— Разумеется. К Чижикову торопитесь?
— Да…
— Дело. Вечером он пьян!
Я обратился к слушавшей нас Поле и попросил ее велеть моему вознице запрягать.
Поля удалилась.
— Странный обычай у хозяина, — заметил я, — ночь у него превращена в день!
Марков повел в мою сторону глазами, но так как рот у него был битком набит тюрей из сухарей, то ответа не последовало.
— Больной человек!.. — проговорил, наконец, он, прожевав и отправив заряд в свое чрево. — Вам разве не ясно?
Я опешил: — Как больной? Душевнобольной, вы хотите сказать?
— Почти… на проволоке балансирует…
— Но позвольте, тогда, значит, и я тоже душевнобольной? Я разделяю многие из его мыслей!
— Не знаю-с… вам с горки виднее, — отрубил Марков.
— В чем же вы видите его болезнь?
— В сыне. Сын его несколько лет назад застрелился.
— Здесь?
— В Петербурге. Видели паршивый письменный стол у окна: сюда привезли… сидя за ним застрелился.
Черное пятно на зелени сукна, виденное мною ночью, всплыло перед моими глазами.
— Почему? по какой причине?
Марков выкатил глаза, как яблоки, и постучал себя по лбу: — Вот по этой — дурак! — Он так отпихнул от себя пустую чашку, что та опрокинулась на блюдечко; лицо и шея его побагровели.
— Мальчишка!.. — продолжал он. — Студент — и «жизнь надоела»! Только «я», да что «я» у деток, а что с отцом будет — плевать! Себя убил — скатертью дорога… ко всем чертям! Болван! А отца за что искалечил?! Вот-с ночь за день и пошла. Безвыездно с той поры здесь сидит!
Я невольно поник головою. Слова Маркова сразу, совсем по-иному осветили мне внутренний мир этого бесконечно одинокого человека, блуждающего по ночам по освещенным хоромам.
— Знаете?.. — сказал я. — Вы бы как-нибудь удалили отсюда этот стол? Он, действительно, злая вещь для него!
— А что? опять говорил? Злая вещь, да? — встрепенулся Марков.
— Да. Я вчера не понял смысла этих слов!
Мой собеседник забрал в горсть усы, потом отпустил их.
— Знаю, что надо… не дает!
— Какая грустная история… — проговорил я, — такой он умный и интересный человек!..
— Колоссальный ум!.. талант, композитор… а уж… — Марков оборвал речь и отвернулся. В хрипе его, нежданно для себя, я уловил горечь и нежность, и передо мной разверзся просвет в душу этого человека: он принадлежал к породе ершей, у которых все слова звучат как ругательства и у которых много любви и тепла под наружными колючками.
Я попросил его передать хозяину привет и благодарность за приют и так интересно проведенный у него день, простился и отправился собираться в путь.
Когда я вышел на двор, лопоухие беляки уже дремали у подъезда. Мирон с ублаготворенным лицом ждал у дверей; увидав меня, он приподнял шапчонку и ухватил мой чемодан. Меня точно окатило водкою.
— Уж ты без меня никуда!.. — заговорил Мирон, запихивая вещи на козлы. — Ну, что бы ты без меня делал? пропал бы, как гусь под Рождество!
— Разговариваешь много, ракалья! — раздался позади знакомый сердитый голос.
Мы оглянулись.
Марков вышел меня проводить и стоял на верхней ступеньке подъезда. Лицо его было свирепо, руки торчали в карманах брюк, голова казалась совсем вросшей в плечи.
Мирон молча, проворно, точно опасаясь подзатыльника, взобрался на козлы. Я убедился, что книги мои уложены все полностью, и уселся на свое место.
— Желаю успеха! — хрипнул Марков и не без грации сделал мне ручкой наподобие балерины.
Мирон, выпрямившийся и подтянувшийся, как солдат на смотру, зачмокал и заработал вожжами. Развеселые, тоже, видимо, довольные Каменевскими харчами, взяли дружно; бричка быстро миновала двор. Один поворот, и нас окружила березовая роща; листья, точно желтые бабочки, садились на меня, на бричку и на белых коньков. Темный, загадочный дом потонул среди золотистых куп.
Мирон полуоборотился ко мне и принял свою обычную вольготную позу.
— Иль он не ел еще? — сердито спросил он, мотнув головой в сторону усадьбы.
— Кто?
— Да барин!.. господин Марков. Ах, уж и пес же! Человека видеть не может, чтоб не облаять!
— Злой, что ли, очень?
— Да не злой, добрый; в морду ежели кому даст — сейчас трешку вынимает, ей-Богу! Водкой, бывает, поит, вот что! Карахтер только такой ругательный. Ину пору такое загнет, что ах ты, Господи: дух из человека словом вышибить может… большого выражения господин!
В голосе Мирона сквозило почтение.
— А когда мы до Чижикова доберемся? — спросил я, невольно усмехнувшись.
— До Мартьяновки? Да тут верстов пятнадцать всего!
Я вынул часы. Мирон тоже заглянул в них.
— Это сколько же теперь времени?
— Семь.
— Ну вот и по солнышку столько же выходит!.. предоставлю в плепорцию! Э-эй вы, знаменитые! — и он принялся нахлестывать коньков.
Дорога вилась лиственным лесом. Он царственно окутался в золото и пурпур, и синева небес над ним казалась еще бездоннее, еще удивительней. Было свежо. В воздухе, как снежок, плыли белые паутинки.
Лес — это грезы земли… Ей снятся мрачные и светлые сны и тихо, будто туманы, вырастают шатры елей, кудри берез, зовущий в небо тополь.
Лес — место выхода подземных сил. Вот почему он страшен и загадочен для человека, давно оторвавшегося от этих сил…
Голос Мирона вернул меня из хоровода отрывков мыслей, неясных грез и Бог весть чего-то прекрасного и светлого, что, как гашиш, опьяняет всегда путешественника.
— Эва, Мартьяновку видать! — возгласил он, нацелив вперед заскорузлым перстом.
Лес кончился. За небольшим оврагом, на дне которого блестел ручеек, начинались бесконечные поля, частью уже перепаханные, частью отдыхавшие под паром. Они, как приподнятая за два угла пестрая турецкая шаль, подымались к горизонту, и на самом гребне белел среди совершенной пустыни дом, сразу отметный по своей стройке. Из-за него показывало желтый купол какое-то огромное дерево; больше кругом не виднелось ни кустика.
Я изумился; старина любила окружать себя густыми садами и парками, и отсутствие их вокруг такого истинно барского дома казалось непонятным.
— Что ж, он так спокон веку и стоял на юру, как голый в бане? — спросил я.
— Зачем? парк кругом дому раньше был, огромаднеющий. Вырубил его господин Чижиков.
— Для чего?
— Вот те здравствуйте, для чего! Для виду! Ишь, теперь дом за сто верстов со всех сторон видать! Что толку в лес-то лезть? Едешь, бывало, мимо и не миганет оттоль ничто; не знай, леший ли там, или живая душа! А теперь всякий видит — господин Чижиков проживает в свое удовольствие! Опять же липа в парке была хороша: сколько он за нее с токарей денег снял?
Я стал расспрашивать о новом владельце.
Происходил он из местных, мелких купцов; занимался подрядами и сумел нажить большие деньги. «Мельон, ей-Богу», — как заверял Мирон. Человек он, видимо, был очень честолюбивый и пошел по дороге пожертвований; это принесло ему звание попечителя местной гимназии, орден и даже какой-то значительный чин.
Мирон повествовал о нем чуть не с благоговением.
— Ума необыкновенного! — с самим губернатором за ручку здоровкается. В чилиндре ходит, в перчатках желтых! Все ему «ваше происходительство» говорят, ну то есть орел, во всей форме!
Я слушал своего болтливого возницу и поглядывал на дом. Это был настоящий двухэтажный дворец, хранивший отпечаток гениальной руки Растрелли[28]. Со стороны дороги его отделяла невысокая, сквозная железная решетка. В значительном удалении от дома, позади него привольно раскинулись флигеля и службы.
Только что мы подъехали к перекрестку, из соломенного шалаша, стоявшего у самой дороги, вылезла грузная лохматая фигура в тулупе и подняла вверх руку на манер городового, останавливающего движение где-нибудь на Невском проспекте.
Мирон остановил коньков.
— Куда Бог несет? — лениво спросил мужик.
— Да к вам, не утруждайся, лезь назад, на покой! Будь здоров, добрый человек.
— Здорово, — отозвался тот, — ну, поезжай, коли к нам! И он полез обратно в шалаш.
Мирон свернул влево, и беляки доставили нас через открытые настежь ворота к шатровому подъезду.
— Книжки твои я уж сберегу! — вполголоса заявил мне Мирон. — Не робей, вали прямо в дом, там холуи доложат! — И он заторопился отъехать по направлению к дворовым постройкам.
Рядом с подъездом помещалась новая собачья конура; с нее свисала цепь, валявшаяся другим концом на земле; собака отсутствовала. Я поднялся по ступеням; парадная дверь была открыта, открытой оказалась и вторая дверь. В высокой передней было полутемно, вдоль стен ее шли коники для лакеев[29]. Против входа стояли большие английские часы конца XVIII века; они показывали девять. Около них в виде изваяния фараона сидел, выставив реденькую русую бородку, какой-то простоватого вида человек в засаленном сюртуке и в грязной ночной рубашке без воротничка. Руки его были положены вдоль колен, голова запрокинута назад; спиною он опирался на стенку, из раскрытого рта вырывалось похрапывание.
Ни души кругом больше не было. Я подошел к спавшему и тронул его за плечо.
— М-м… да! — проговорил он во сне. Я потряс сильнее. По векам его пробежала дрожь, они раскрылись, и на меня в упор уставились два, еще ничего не видящих бессмысленных глаза. Любопытно было видеть, как сознание искрами стало вливаться в них. Человек вскочил и, будто умываясь, потер лицо ладонями.
— Что, что угодно? — забормотал он.
— Павла Павловича могу видеть? — спросил я.
Человек окончательно пришел в себя.
— Отчего нельзя… можно! — ответил он, окинув меня принявшими серый цвет проницательными глазами. — Вам по делу, что ли?
— По делу…
Я выбрал из визитных карточек самую торжественную, на которой были поименованы все ученые учреждения, членом которых я состоял, и дал разговаривавшему со мной.
— Вот… пожалуйста, передайте! Павел Павлович уже встал?
— Встал. Шампанское пьет… — ответил человек и с некоторым недоумением повертел мою карточку. — Обождите тут!
Он ушел, а я осмотрел великолепные часы, вот уже два столетия важно и точно отсчитывающие время, прошел раза два по людской… посланный все не возвращался.
Наконец он показался в дверях.
— Пожалуйста! — пригласил он.
Я направился за ним. Мы пересекли какую-то длинную комнату и вошли в большую гостиную.
— Подождите тут! — заявил мой вожатый. — Сейчас выйдет: убирается…
— Как убирается?
— Раздемшись хозяин был… в одних подштанниках… припараживается теперь!
Я остался один.
Гостиную наполняла далеко не изящная мебель шестидесятых годов; на полке у большого простеночного зеркала сияли новые золоченой бронзы часы, изображавшие двух возлежавших головами друг к другу необыкновенно носатых дев с неизвестно почему обнаженными грудями.
Я посидел в кресле, потом походил, опять сел… хозяин не показывался.
Дверь в дальнейшие комнаты была затворена. За ней послышались какие-то шерхающие звуки: будто щеткою чистили платье. Я сообразил, что там готовился парад.
Я встал и в ту же минуту две неведомо чьих руки — одна в розовом рукаве, другая в синем, проворно распахнули обе половинки двери и исчезли. Передо мной предстал, будто поставленный в раме, портрет во весь рост какого-то бритого господина в черном сюртуке с необыкновенных размеров Станиславом на шее. Голова портрета была несколько склонена к правому плечу, глаза прищурены, руки скрещивались одна с другой ниже пояса, причем на левой, приходившейся сверху, желтела перчатка. Волосы на голове этого господина были встрепаны и, видимо, только сейчас наспех кое-как приглажены. «Элегант с крулевской псарни» — мелькнула у меня в голове польская поговорка.
Секунд пять мы глядели друг на друга, как зачарованные. Первым ожил портрет.
— Не узнаю? — с величаво-приятной улыбкой, немного нараспев, выговорил он. — Но рад вас видеть под своими пенатами!.. — Голова его приняла естественное положение, глаза раскрылись по-настоящему и оказались мутными и осоловелыми; мы сделали несколько шагов друг к другу навстречу и поздоровались.
— Прошу садиться! — Чижиков с вывертом указал мне рукою на кресло, раздвинул фалды сюртука, опустился на диван и привольно раскинул по бокам себя руки. Запах вина распространился по всей комнате.
— По делу, стало быть, изволили пожаловать?
Я приступил к изложению:
— Дом ваш принадлежал родственникам Потемкина…
— Как же, как же! — Чижиков закинул ногу на ногу, выставил вперед довольно округлый живот и забарабанил по дивану всеми десятью пальцами. Обвислые щеки его и шея раздулись. — Не то что Потемкин, а и Екатерина Великая здесь у меня хаживала[30]. И этот, как его… Орлов; мелкоты-то всей этой сразу и не вспомнишь!
— Так вот я хотел познакомиться с вами и с вашими владениями. Вы разрешите их мне осмотреть, и описать потом?
— Как это описать? — хозяин несколько обеспокоился.
— В статье… в журнале напечатать?
В тусклых глазах моего собеседника показались искорки; видно было, что мои слова пробудили затаенное желание, давно гнездившееся в его душе.
— А!.. можно, отчего же… с нашим удовольствием!.. Вы, стало быть, из газетчиков?
— Если хотите…
— Ну, ну, вижу теперь! А я было думал, что вы из сенату.
Я изумился: в карточке моей решительно ничего относящегося к юстиции не было.
— Как из сената?
— Да в карточке вашей напутано всякое. Я и подумал — не иначе как вы из сенату. Очень приятно, будем знакомы! — он привстал и опять подал мне руку.
— Статью я хочу иллюстрировать рисунками, поэтому позвольте попросить также ваш портрет?
— В газетах напечатаете?
— Да. С портретами Екатерины II и Потемкиным…
Павел Павлович не понял моего затаенного умысла: Екатерина, Потемкин и рядом с ними — Чижиков со Станиславом, — разве это не великолепно? Он приоткрыл пухлые губы и с блаженным видом прогоготал, как гусь.
— Здорово!!! дам… последнюю самую дам: в форме! Во всех чинах и орденах я там снят! — внушительно добавил он и даже потрогал на шее страшенного Станислава, на кресте которого хоть и с трудом, но можно было бы распять младенца.
Мое предложение оживило хозяина.
— Да чего ж это мы с вами лясы зря точим? — произнес он, встав с дивана. — Эй, Митька, Ванька?!
Никто не отзывался. Павел Павлович подошел к открытой двери и заглянул в нее.
— Ванька! где вы, дьяволы?! — заорал он на весь дом.
Послышалась топотня, и к нам ворвались два белобрысых подростка — один лет пятнадцати, другой — поменьше — лет двенадцати. Оба были в сапогах и в жилетках, надетых поверх синей и розовой рубахи; волосы обоих были обстрижены в кружок, смочены квасом и разделены пробором. Это они распахивали дверь перед своим повелителем.
— Закусочку попроворнее… пшить!! — Хозяин сделал похожий на щелчок жест указательным пальцем. Подростки вынеслись, как листки со стола от сквозняка.
— Очень это вы хорошо надумали, что ко мне приехали! — обратился ко мне Павел Павлович. Он потер было руки, но заметил, что одна из них в перчатке, и принялся ее стаскивать.
— Ученому человеку окромя меня в губернии податься некуда! — с самодовольством сказал он. — Екатерина по нашим местам иначе как ко мне ни к кому не ездила!!! Ну-с, прошу покорно!
У двери Павел Павлович остановился, склонил голову набок, слегка изогнул талию и вытянул вперед руку. — Пожалуйте!..
Мне захотелось подурачиться.
— Нет, уж пожалуйста вы! — серьезно произнес я, став по другую сторону входа в совершенно такую же позу маркиза восемнадцатого столетия.
— Нет, уж вы первый… вы гость!
— Нет вы: вы хозяин!
— Да будьте столь любезны! — Павел Павлович положил свою десницу мне на талию и стал выпихивать меня вперед; я сделал то же самое; руки наши переплелись, и мы, точно обнявшись, одновременно втиснулись в соседнюю комнату.
Хозяин даже залоснился от удовольствия: хороший тон был соблюден полностью.
Комнаты были чрезвычайно высокие, с расписными потолками; на одних хороводами свивались амуры, на других, среди цветов и виноградных лоз, порхали птицы и бабочки. Но земля не соответствовала небесам, внизу глаз только кое-где отыскивал изящный старинный диван или пару кресел — все остальное казалось лишь вчера прибывшим из гостиннодворских складов. Зато позолоты везде было сколько угодно.
Павел Павлович шел, до того раздув щеки и полный самодовольства, что мне казалось, что он вот-вот, как индюк, скажет — ффык и распустит скрытые крылья по полу. Искоса он поглядывал, какое впечатление производит на меня столь золоченое убранство.
— Это все вы покупали? — спросил я, указывая на мебель.
— Я. А хороша?
— Делает честь вашему вкусу. Но куда же девалась прежняя?
— Да лом, дрянь была: не смотрели раньше здесь ни за чем, я только один и заботился — на чердак велел все постаскать!
Мы вошли в длинную столовую. Я неожиданно попал в Венецию эпохи Возрождения. Это была комната замка, владельцы которого привыкли садиться за обед со свитой не меньше как человек в сорок. В ней вытягивались два темных дубовых стола, опиравшихся каждый на четыре крылатых, сидячих льва; друг от друга столы разделялись широким проходом; тяжкие, черные стулья с высокими резными спинками тесным рядом окружали их. Громада-буфет, весь покрытый резными сценами из быта средневековья, черной горой занимал один из простенков. Против каждого из столов, как бы башни, увенчанные зубцами, выступали две четырехугольные русские кафельные печи темно-зеленого цвета XVII века, с рисунками. Над столами спускались две люстры из разноцветного стекла. Люстры были одного происхождения и времени с мебелью.
— Да!! — не удержавшись, произнес я. — Это комната! Будто в капитуле в каком-то мы с вами!
— Понятно! — поддакнул, не поняв, Павел Павлович. — Капитал всегда при нас!
Мы уселись за столом справа. На угол его была накинута грязная синяя салфетка из разряда трактирных, и на ней стояли два прибора.
Одна из многочисленных дверец буфета была приоткрыта, и в нее, как в прорубь, то и дело ныряли Ванька и Митька, вытаскивая из таинственных недр то бутылку, то балык, то икру, то грибы; все это пихалось ими на стол как попало.
— Уж вы извините за прием! — сказал Павел Павлович, когда мы уселись. — Хозяйки в доме сейчас нет: больна, в Москву, на консоме, знаете ли, пришлось отправить; по-холостому вас угощу, чем Бог послал! Православную-то пьете? — он взялся рукой за бутылку монопольки.
— Нет, предпочту рябиновку! — ответил я, заметив среди доброго десятка бутылок эту последнюю. — Да не рановато ли только?
— Вот придумали! Доброе дело всегда твори смело! — Павел Павлович ухватился за длинное горлышко произведения Шустова с сыновьями и налил мне и себе по рюмке.
— С приездом! здравствуйте! — произнес он, протянув ко мне руку.
Мы чокнулись и выпили. Закуски частью были разложены на тарелках, частью оставались в прозрачных магазинных бумажках.
— Сижу я здесь один в столовой, в безбилье; сомневаюсь, знаете… и вдруг докладывают — господин приехал! Господь, значит, радость послал: это вы обнаружились! Очень это жоли с вашей стороны! За ваше здоровьице… Здравствуйте!
Рука хозяина протянулась ко мне с полной рюмкой; оказалась налитой и моя. Мы выпили по второй.
— Хорошо действуете! — восхитился Павел Павлович. — По писанию; сразу видать, что православный человек! Может канканировать со мной желаете?
— То есть как канканировать?
— Ну, вперегонки пить, кто больше?
— Нет, где уж мне, увольте!
— Правильно! Дара ежели нет — и не лезь! А вы тут чего выпялились? — вдруг грозно вопросил он пареньков, застывших у буфета. — Пшть!! — он сделал тот же жест пальцами, и оба подростка бросились вон; слышно было, что они остановились и притаились за дверью.
— Стало быть, вы питерские?
— Да.
— А моего протяже там знаете?
Опять мне пришлось превратиться в знак вопроса.
— Ну, князя Голицина, Василья Михайловича? Он же меня в генералы вывел, важнющий вельможа… губернатором раньше у нас был!.. О-о-очень обожал меня!
— Не знаю…
— Жалко!.. а то бы поклон ему передали! Одначе, что же это мы оконфузились? — он опять схватился за рюмку, — за это время люди-то уж по пятой бы пропустили! — здравствуйте!
— Будет, довольно! — запротестовал я.
— Да никогда в жизни! Здравствуйте! — хозяин продолжал держать на весу руку с рюмкой.
— Не могу!..
— Здравствуйте! здравствуйте! — настойчиво твердил Павел Павлович. Пришлось проглотить еще одну.
— Рюмки у вас уж очень большие, — заметил я, ставя свою подальше от Павла Павловича.
— Да ведь я ж женатый человек… нельзя иначе! — ответил он, — у меня все двухспальное!
Лицо Чижикова раскраснелось; рябиновка, видимо, лилась на старые дрожжи, да еще поверх шампанского; в нем все больше стал чувствоваться Тит Титыч. Глаза его обыскали строй бутылок.
— Ванька! — рявкнул он всею грудью.
Из дверей точно как в шею вышиб подростка побольше, в синей рубахе.
— А шенпанское, идол, где?!
Ванька рванулся к буфету, исчез и вынырнул с парой Редерера в руках. Павел Павлович принялся за откупорку. Я придержал его за локоть.
— Бросьте вы это дело, пожалуйста, рано еще!
— Рано? — ужаснулся хозяин, — да вы верующий или нет? Писание-то вы читали?
— Читывал!
— Так где же в нем значится, чтобы утром пить нельзя было? В Премудрости сына Сирахова что говорится: «утро вечера мудренее». Это вот вы раскусите! Дьякон мне недавно один навязался, так все Писание мы с ним прошли: по текстам выходит, что с утра надо пить и чем раньше, тем лучше. Так уж ау, не поперечить!
Павел Павлович оборвал вилкою проволоку, наклонил бутылку и нацелил ее в зазевавшегося на меня Ваньку. Раздался выстрел, пробка хлопнула Ваньку в живот, тот екнул от неожиданности, весь вспыхнул и кинулся наутек.
— Пшть!! — шикнул вслед ему Павел Павлович и захохотал. — Ловко попал. Уж беспременно я ему пробку в рот загоню, чтобы не зевал, шельмец!
К ужасу моему он налил шампанское в стоявшие перед нами чайные стаканы.
— Павел Павлович?! — взмолился я. — Когда же мы дом-то будем осматривать? Ведь я сегодня еще на станцию, к поезду, поспеть хочу!
Хозяин, тянувшийся ко мне со стаканом, опустил руку. Шампанское расплескалось по скатерти.
— Что? — произнес он с таким видом, будто я предложил ему лезть на луну. — Не расслышал я: ехать сегодня собираетесь?
— Да.
— Н-нет!! — с глубочайшей уверенностью сказал он и замотал головой. — В Сыне Сираховом этого не значится! Через неделю, вот что-с! А теперь — здравствуйте!
Я отнекивался, но хозяин схватил оба стакана и так пристал, что я должен был осушить свой. В голове у меня зашумело.
— Ну, спасибо! а теперь идемте! — решительно произнес я и встал со стула. — Какие, однако, они тяжелые! — добавил я.
Поднялся и Павел Павлович.
— Не нравится мне эта горница! — заявил он с недовольным видом. — Неподходящая!
— Чем?
— Да что ж это: похоронная бюра, а не столовая! одна чернота кругом разведена. Сидишь за обедом — тут бы машина должна стоять, с музыкой, а перед тобой катафалк этот идет! — он указал пальцем на буфет. — В рот тебе, вместе с куском, мысли о смертном часе лезут. Под вечер взойдешь — чисто на кладбище: ишь надгробие-то какое, по первой гильдии!.. Черти в нем прячутся, ей-Богу не вру! Дьякон змия ловил на нем, да нет — уполз!
Думал ли художник, пять веков тому назад создавая свои чудесные произведения, что на них будет чертей ловить русская душа?!
Мы обошли дом; кроме столовой да залы, в других комнатах старины почти не сохранилось. Стены везде были заново выкрашены масляной краской, и лишь потолки свидетельствовали о минувшем.
Зал опять очаровал меня.
Мы шли, отражаясь в огромных зеркалах, по великолепному паркету цвета крем из карельской березы… на нас глядели бледно-розовые кресла и диваны для двух персон… веяло невыразимой прелестью! Мощь и грация сплетались кругом. Изящны были и хоры для оркестра, как бы гнездо, свитое из золоченых прутьев; в прошлом, несомненно, их обвивала зелень растений.
Хозяин повествовал о своих трудах по ремонту дома и о том, что он, как дворянин, собирается «запалить» такой бал всему дворянству, что предводитель перевернется через голову от зависти.
Я рассеянно слушал его.
Девять десятых комнат, если не больше, были нежилыми и служили только «парадными». Хозяева ютились в трех самых маленьких: там царили саженные перины, горы подушек в цветных ситцевых наволочках и грязные скатерти… Я поспешил уклониться от обзора этих достопримечательностей и попросил разрешения отправиться на чердак.
Сопровождать меня в эту экскурсию Павел Павлович не пожелал; был вызван Петр, оказавшийся тем самым человеком, которого я разбудил в лакейской, и я был поручен ему.
— Мне еще пообмозговать кое-что надо! — объявил Павел Павлович. — Дела — вот! — он резанул себя пальцем по горлу. — В парадной, в золотой гостиной я буду!
VII
По скрипучей двухколонной деревянной лестнице мы поднялись на чердак.
Он оказался бесконечным сараем. Благодаря слуховым окнам там царил полумрак; глаза скоро притерпелись к нему, и я различил, что горы чего-то непонятного, достигавшие до железа крыши, суть не что иное, как сваленная в груды старинная мебель… Пыль и паутина, как мох, покрывали все. Елизаветинские громады-диваны из карельской березы в виде широких лир, с украшениями из черной резьбы, Екатерининские и Александровские кресла и стулья, — все это было изорвано и нагромождено друг на друга. Не было сомнения, что главнейшая ломка произошла во время переноски, от безобразной и неосторожной уборки «хлама».
Я видел свежеперешибленные ножки и резьбу, видел осколки их, глубоко воткнувшиеся, как рог, в сиденья и спинки своих соседей.
Отжило свой срок — и брошено… участь всего на свете, от вещи до человека!
Кое-где встречались окованные железными полосами старинные сундуки. Я приподнял крышку одного из них и увидал разноцветные, шелковые и суконные камзолы Екатерининской эпохи, коротенькие брючки, чулки и т. п.
Я вынул лежавший сверху нежно-розовый камзол, обшитый по воротнику, бортам и рукавам кружевами, и развернул его. Он весь был точно иссечен; из второго — зеленого — тучей поднялась моль.
Петр внимательно следил за моими действиями.
— Один навоз! — проговорил он. — Все моль погубила!
— Люди, брат, погубили! — отозвался я.
В других сундуках оказалось то же самое, и только один был наполнен пакетами с какими-то бумагами. Я бегло просмотрел их: то были счета и приходно-расходные книги за девятнадцатое столетие.
— А других книг здесь где-нибудь нет? — обратился я к своему молчаливому спутнику.
— Да есть, — ответил он. — Вон, в том конце навалены.
Под самым слуховым окном лежала довольно порядочная груда книг в кожаных переплетах; сбоку стояли два раскрытых сундука, битком набитых ими же и связками бумаг.
С час, должно быть, разбирался я во всем этом. Часть книг, ближайшая к окну, не имевшему стекол, была безнадежно испорчена дождями и снегом. Другая, уцелевшая, состояла главным образом из переводных романов и оригинальной беллетристики XVIII и самого начала XIX века.
Там отыскался «Бурсак» и «Два Ивана» Нарежного[31], этого предшественника и предвестника Гоголя, маленькие милые книжечки — «Алберт, или Стратнавернская пустыня», увидавшая свет в Орле в 1822 году; «Замок в Галиции», 1802 года; «Лангедокская Путешественница», 1801 года; любимая гадательная книга тех дней «Волшебное Зеркало великого Альберта»[32] …милые томики, увлекавшие наших прабабушек, наполнявшие их мечты и досуг!
Шелестели страницы; ожило прошлое, со мной говорили деды. Их платья, их мебель, их книги обвивали теплом и радостью, я был во дворце… как передать вам свои чувства, читатель?
Среди бумаг отыскались письма Разумовского, Энгельгардтов и каким-то чудом — графа Аракчеева[33].
Я отобрал целую кучу всякой всячины и когда покончил и встал, то заметил, что перепачкался до невероятности.
Петр молча сидел позади на сундуке, курил и изредка цикал слюной сквозь зубы.
Я попросил его помочь мне связать все отложенное. Веревочки под рукой не попадалось. Петр огляделся, затем подошел к груде мебели и оторвал от Екатерининского дивана обвисший толстый шелковый шнурок. Мы связали книги в две пачки, и меня в это время осенила мысль попытаться вовлечь в заговор моего спутника и уехать тем же вечером из-под слишком гостеприимного крова. Я намекнул об этом Петру.
— Никаким манером нельзя! — деловито возразил он.
— Почему?
— Пьян потому что ваш извозчик: лыка не вяжет!
— Где же это он напился? — воскликнул я.
— Здесь, по положению. Как приехал кто, — кучера сейчас в доску напаивают: гостю, значит, ни тпру, ни ну, — ночевать извольте!
— Да зачем это вашему хозяину надобно?
— Для конпании. Скучно одному по таким хоромам слонов водить, вот и пленяет людей. По неделе, бывает, таким родом гащивают!
— Однако?! — не без испуга проговорил я. — Слушайте, вы уж, пожалуйста, больше моего Мирона не напаивайте, на чай от меня получите! Я непременно должен завтра ехать!
Петр качнул головою.
— Не от меня зависит!.. пораньше ежели встанете, тогда еще можно!..
Мы вошли в комнаты.
— Часто ваш хозяин так запивает? — начал я опять разговор.
— Случается… из двенадцати месяцев в году тринадцать пьянствует.
— Как так тринадцать?
— По лунному календарю, говорит, действует. Пока по купечеству состоял, всего раз-два в год захлестывало, а в дворяне попал — и календаря под запой не хватило!
— Он меня уверял, будто из-за столовой пьет: черна очень! Почему он не продаст ее?
— Не может! Он бы ее давно изничтожил, да нельзя: губернатор слово с него взял, что не тронет ее! Вот он и обижается. Да не столовая тут причиной, так уж это зря он на нее валит!
— От чего же он дурит?
— От капиталу. Возомнил о себе очень. Прежде какой делец был, а нонче все в забвении. Глядеть не на что!
— А вы кем у него служите?
— Прежде по купеческой части ходил, в приказчиках, а нынче и сам не знаю в чем. В дармоедах, я так полагаю!
Мой спутник заинтересовал меня своим юмором и серьезностью: улыбка ни разу не появилась на лице его.
Я остановился около лестницы и стал выпытывать его дальше.
— Да что ж я могу сказать? — ответил Петр. — Хорошего нет ничего! По-моему, так: мужик ты — мужиком умирай; купец — купцом оставайся. А уйдешь от своих — и к чужим не пристанешь: не в свои сани не садись, говорят люди! Не так давно, ах какое благодатное дельце подвертывалось: баш на баш можно бы было взять! пошел ему говорить, а он с дьяконом тогда хороводился: Сына Сирахова с ним изучал.
— Откуда он его взял?
— Да с дороги: нешто не приметили — застава на ней стоит, проезжих господ и духовных в дом заворачивает. Как гнездо Соловья-разбойника!
— Что же они с дьяконом творили?
— Ищу это я их — нет нигде, как провалились. Заглянул в залу, а они там кадрель вдвоем разделывают! Грива у дьякона дыбом, подрясник что крылья вьет! Наш орет, брыкается, как телок… ужасть смотреть! Дельце-то и прокадрилили!
— И долго у вас дьякон прожил?
— Неделю. А ведь по спешному делу, по вызову к благочинному ехать! Ну, как все сроки пропустил — в отчаянность впал: тут что было — и рассказать нельзя! Все патреты в доме личностью к стенам попереворачивали!
— Зачем?
— За пронзительность: не гляди так строго! А как же им иначе глядеть, когда такое безобразие? Винища вылакали — корову в нем утопить можно бы было! Посуды набили — две корзины бельевых черпаков потом выкинули.
— Так!.. значит, Павел Павлович и потанцевать не прочь?
— Как же!.. по образованности эта премудрость требуется, — с иронией ответил Петр. — Учится; на балы собирается зимой выезжать. Председатель управы мазурке насоветовал ему обучиться, все, мол, генералы ее пляшут. Будку у крыльца видели?
— Видел.
— Для лаю поставлена.
— Для какого лаю?
— Как все градусы перейдут — Павел Павлович на крыльцо садится, а компаньон на него из будки по-собачьему гавкает. Первое это удовольствие; деньги даже за это платит! Намедни станового трое суток хороводил, и тот в будку залез. И не хотел, а влез! Ну, уж он нашего из будки-то заместо лаю такой моралью обкладывал, что у-ух! Не всякому кучеру выговорить! И выходить не хотел — до приезду губернатора решил лежать: наш его уж сотельными бумажками из будки выманивал!
— Каким родом?
— Да положил перед будкой бумажку, посвистал и кричит: тю ее! пиль! Тот головой мотает: нет, мол! Пал Палыч вторую поодаль положил, потом третью… только по пятой выполз. Коммерция хорошая вышла: на пятьсот целковых матюков купил!
Мы спустились вниз и направились в «золотую» гостиную. Павла Павловича в ней не оказалось.
— Не иначе он как в зале! — решил мой спутник.
Он был прав. У открытых дверей в зале я остановился: против одного из средних зеркал, спиной к нам, в позе галантного кавалера, приглашающего даму, прижав обе руки к сердцу, стоял уже совершенно всклокоченный Павел Павлович. Его пошатывало.
— Мадам, пермете ангаже? — сладчайшим голосом произнес он. Затем, будто получив согласие невидимой дамы, выпрямился, закинул назад голову, левую руку заложил за спину и вдруг, как гирями, грянул об драгоценный паркет каблуками, взбросил на высоту головы ногу и тяжело понесся по залу, яростно лягаясь во все стороны.
— Выдра — там! выдра здесь! — сипло заголосил он на мотив мазурки из «Жизни за Царя», на вторых словах он приседал, словно садился на карачки, и ухал; лицо его было багрово. На повороте с ним приключилось что-то вроде родимчика: он сплел из ног ножницы, подскочил в таком виде, как медведь, потом раскис от любви к даме, закатил глаза, замотал головой и прижал к груди левую руку.
— Алле-гале-сильвупле! — исступленно заорал он в полном упоении, как бы почувствовав прилив новых сил. На втором повороте он вздумал было припасть на одно колено, не удержал равновесия и шлепнулся на бок; рвения его это не умалило: он перевернулся на четвереньки, сделал бесплодную попытку встать, затем поднялся, распростер руки, протопал, как иноходец, и поскакал, брыкаясь, дальше.
Я выступил ему навстречу, и Павел Павлович увидал меня и пошел обыкновенным порядком.
— Моцион делаю! — проговорил он, запыхавшись. — Доктора велели: от одних умственных-то занятий геморрой ведь приключается?
— Отлично танцуете! — заметил я. — Прямо хоть в Петербург, на бал!
Бурые зубы Павла Павловича оскалились. — Придется скоро потрудиться, барынь наших потешить! Ну, а вы на чердаке что сыскали?
— Да ведь у вас богатства там лежат! — воскликнул я.
— Какие-с? — несмотря на хмель, хозяин насторожился.
— Мебель! Ведь ее только починить, и она опять хоть куда!
Павел Павлович с презрительным видом поджал губы, отчего кончик его носа приподнялся кверху.
— Н-ну!! — протянул он. — Эта коммерция мелка для нас… не подходящая! Пущай лежит!
— Там и книги есть, — продолжал я, — кое-что я выбрал. Может, не откажете продать мне это?
Я указал на свою связку и на ту, которую держал Петр, стоявший позади нас. Павел Павлович перевел глаза с одной на другую.
— Можно-с.
— Сколько же вы желаете за них?
Хозяин опять поджал губы, взял одну связку и взвесил ее на руке. В нем проснулся купец.
— Две красненьких!
С купцом и я заговорил по-иному.
— Одной довольно: все равно у вас мыши съедят!
— Это как сказать!.. Полторы. «Стра… шная пу… стошь»[34], — по складам прочел он, переврав притом надпись на корешке одной из книг.
— Ишь, самую квинтвивисекцию выбрали!
— Ровно десять!
Павел Павлович, ломавшийся только для виду, махнул рукой.
— Получи деньги, Петр! — приказал он. — Для хорошего человека не жалко; только для вас уважение делаю!
— Ну-с, а теперь сделочку вспрыснуть надо! — добавил он, когда я расплатился с Петром и забрал обе пачки. — Пожалуйте-с!
— Какие вспрыски, Христос с вами, ведь мы только что пили!
— Позвольте, когда ж это было? Да вы время утратили: пока вы на чердаке действовали, я уж и этой… ну как ее… — он пощелкал пальцами, помогая памяти, — ну, клептоманией успел призаняться и моцион сделал!
— Чем занимались?
— Клептоманией! — внушительно повторил хозяин. — Руки свои изучаю, очень занятная штука! чтоб судьбу свою узнать, человек, ляд его знает куда лезет, на кофе гадает, а она нате вот: вся как есть у него же на ладошке изображена!
Я понял, что речь шла о хиромантии.
— Кто же вас научил ей?
— Дамы наши губернские!.. любят они со мной хороводиться, — сделав небрежный жест, ответил он, — талант по руке, сказывают, большой я имею!
Павел Павлович чуть было не упал, но успел ухватиться за дверной косяк.
Мы опять очутились в столовой. На том же конце стола была постлана чистая белая скатерть и приготовлены два парадных прибора из английского фарфора. Бутылок всяких калибров и видов выстроено было несть числа. В стороне от них стояла громадная миска для крюшона со скрещенными на ней двумя длинными, блестящими ножами. Эта часть просвещения, видимо, была известна хозяину лучше иностранных слов.
Было около часа. На обед нам подали щи из баранины, жареную свинину и необычайных размеров индейку. Все это было вкусно, но безмерно жирно. Павел Павлович ел мало, зато усердно опрокидывал в рот рюмку за рюмкой; мне на тарелку он наваливал горы всего; свою рябиновку я только пригубливал, и хозяин, заставив меня выпить пару полных рюмок, перестал замечать мои уловки. Его захлестывало. По мере питья он делался все молчаливее и сумрачнее. Вместо обычного своего «здравствуйте» он стал произносить «просят», чокался, проглатывал, затем начинал коситься по сторонам.
Я сообразил, что это «просят» есть не что иное, как «прозит», вероятно, слышанное им где-нибудь на пирушке.
Только что я принялся за индейку, воспалившиеся глаза хозяина недвижно уставились в мою сторону; он нагнулся, нахмурил брови и осторожно сощелкнул что-то с моего плеча.
Через минуту он повторил то же самое.
— Что там такое? — спросил я, оглянувшись.
Павел Павлович сидел крепко сжав губы и не сводил с меня глаз.
— Слаб ты пить! — уже на «ты», вполголоса произнес он. — Чертики по тебе прыгают. Брось, больше не пей! — В голосе его слышалась забота обо мне.
— Да и вы бы перестали! — ответил я.
Несколько раз в жизни мне приходилось наблюдать сумасшедших людей и начинавших впадать в водобоязнь животных. Сумасшествию людей предшествуют волнение и напряженность всего организма; собакой в первом периоде овладевает радость, восторг, даже экстаз. И я всегда бывал поражен совершенно одинаковым, особенным сиянием глаз и тех и других, его необыкновенным сходством с сиянием святости; разум как бы претворяется в лучи и уходит через глаза… потом и мозг, и они умирают. Глаза сумасшедших начинают отливать тем синеватым огнем, который заревом покрывает зрачки здоровых собак, когда они теряются и перестают понимать в чем дело. Это сигнал о берущем верх безумии зверя, всегда таящемся в нем и в человеке рядом с разумом.
Этот огонек я вдруг подметил в глазах моего собутыльника; предвещание было плохое.
— Учи ученого! — возразил он. — Сокрушон тебе нужен: мозгам от него легче, его пить можешь!
Он встал и поволок за собой скатерть; тарелка его грохнулась на пол и разлетелась в куски. Павел Павлович ничего не приметил, обошел стол, придвинул к себе миску и стал лить в нее что попало под руку: рябиновку, ром, коньяк, всякие вина, водку.
На звон тарелки из дверей вывернулись Ванька и Митька и принялись проворно откупоривать бутылки и подавать хозяину. Шампанское Павел Павлович откупорил сам, обдал как из пожарной кишки пенистою струей блюдо с индейкой, затем справился с прицелом, и шампанское полилось в миску.
Ванька водрузил на ножках верхушку головы сахара; Павел Павлович окатил ее спиртом и чиркнул спичкой. Синее пламя охватило сахар, миску и ту часть стола, где происходило священнодействие. Я набросил на огонь салфетку и затушил скатерть. Признаюсь, в ту минуту я подумал лишь о спасении великолепной столовой, а не об особе ее владельца!
Павел Павлович вернулся на свое место, налил в наши стаканы новоявленный крюшон и, не изменяя своей мрачности, сделался необыкновенно заботлив и нежно-внимателен ко мне, как к больному. Он то и дело легонько трепал меня по плечу, заглядывал мне в глаза и произносил — Ну, ну, ничего… обойдется!.. не бойся: маленькие ведь они, паршивцы!.. Это ты, милый, в катькину яму попал!
— Катцен-яммер! — поправил я.
— Ну вот, вот!.. в нее. Отойдет, ничего! Ну, как себя чувствуешь? — немного погодя обратился он опять ко мне. — Не лазят больше по тебе?
— Кажется, нет.
— Ну вот и верно: и я не вижу! — обрадовался Павел Павлович. — Да ты на этого идола не гляди, там самое гнездо у них! — воскликнул он, заметив, что я гляжу на буфет. — Тебе не от вина, а от этой анафемы почудилось! У, идолище поганое! Разряжу! — вдруг освирепев, крикнул он и ударил кулаком по столу. — Лупи его, сатану! — он вскочил и ухватил тяжелую бутылку из-под шампанского. Я едва успел удержать его размах.
— Давайте лучше уйдем мы с вами отсюда! — сказал я. — На чистом воздухе теперь хорошо б побыть, под липой под вашей?
Павел Павлович, тяжело дыша и сверкая глазами, опустился на стул.
— Пойдем!.. — проговорил он. — Ванька, Митька, сокрушон за нами волоките!
Мы встали и пошли из столовой. В дверях Павел Павлович вдруг остановился, повернулся назад и харкнул в буфет через всю комнату.
— Вот тебе!.. У-у-у, жулябия!! — заявил он при этом.
Я взял его под руку и повел дальше. Павел Павлович огруз, отяжелел, его мотало из стороны в сторону.
Под густовершинной, вековой липой была устроена скамья, охватывавшая ее в виде квадрата с четырех сторон. Там же имелся врытый в землю стол; многочисленные окурки папирос, огрызки яблок, бумажки и т. п. свидетельствовали, что это место не раз избиралось для кутежей хозяина и его собутыльников.
Миску и несколько бутылок водрузили на стол, и мы расположились на свежем воздухе. Главной моей задачей явилось поскорее напоить Павла Павловича до положения риз, затем как-нибудь вытрезвить Мирона и во что бы то ни стало удрать из этого винного царства. Чижиков был уже так пьян, что доконать его, казалось, можно было одним, двумя стаканами.
Павел Павлович зачерпнул из миски крюшон огромною серебряной разливательной ложкой и наполнил стаканы. Половина ложки была, конечно, разлита при этом по столу.
— Просят, — произнес хозяин, чуть не расшибив свой стакан об мой.
Я отхлебнул и поставил крюшон на стол; он оказался способным заставить взвыть любого носорога.
— Просят! — так пей! — мрачно заявил хозяин, — что ты усы-то купаешь? Видишь, как надо! — он показал мне свой пустой стакан. Я поспешил налить его и, злорадствуя в душе, потянулся чокнуться. Черт с тобой, думал я, выпью пару стаканов, зато уж ты у меня ляжешь!
Но сосед не лег. Пришлось выпить сверх двух еще по одному; мне показалось даже, что Павел Павлович как бы посвежел и повеселел от них. Я хотел встать и к ужасу своему почувствовал, что я пьян: ноги мне почти не повиновались! А главное — я с полною ясностью ощущал, что по лицу моему, несмотря на все усилия противодействовать, расползается блаженная улыбка. Было обидно и досадно, а улыбка продолжала раздвигать мне рот.
Я собрал всю силу воли, сдвинул брови, затем оперся на край стола и поднялся.
— Будет! — строго сказал я и явственно услыхал, что выговорил: «бурдет».
Я махнул рукой, и кто-то другой засмеялся моими губами; я хотел уйти.
— Куда? — завопил благим матом Павел Павлович, облапливая меня железными ручищами и шмякая назад, как куль муки; скамья подо мной крякнула.
— В Сыне Сираховом что сказано: пей до дна! не оставляй зла в дому своем! А тут гляди, сколько еще осталось? Истребляй. Штурм! Ура, бей его! — он схватил бутылку и запустил ею в ствол липы: нас обдало брызгами вина и стекла.
— Не-не х-хо-чу! — ответил мой двойник. Тем не менее в руках у меня очутился полный стакан. Павел Павлович обнимал меня, целовал, чокался, причем мы полили друг друга крюшоном. Пил и я. Он объяснял мне место из Сына Сирахова, где значится, что сокрушон назван так потому, что этот напиток сокрушает главу змия и что этого змия упустил дурак дьякон. Потом Павел Павлович спел арию Париса из Прекрасной Елены и «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан», причем шлепал ладонью по луже на столе и плакал… кажется, затем мы спели что-то дуэтом… дальше я ничего не помню!
VIII
Когда я открыл глаза, я увидал, что лежу одетый и в сапогах на диване в высокой, совершенно мне не знакомой комнате. В окна глядели сумерки. Со стены насмешливо взирал портрет каких-то вельмож в звездах; среди них я узнал Потемкина. Голова болела нестерпимо. Я сел и никак не мог вспомнить, где я и как попал сюда. Горло саднило, пить хотелось до невероятия.
— Проснулись, — произнес позади меня знакомый голос. Я оглянулся и увидал Петра, стоявшего у отворенной двери.
— Да… — ответил я голосом Маркова.
В памяти сразу вспыхнуло все происшедшее. Мне сделалось совестно.
— Скажите, который час? Поздно уже должно быть? — спросил я; язык ворочался во рту как суконный.
— Нет, рано еще… семь часов утра всего!.. Вам спешное письмецо и посылочка есть, взбудить я вас из-за них собирался… — Петр приблизился к дивану.
Я изумился:
— Письмо? откуда? какое?
— Верховой пригнал из Каменки. Неблагополучно у них там… — он подал мне конверт и небольшой пакет.
— Что такое? — меня вдруг наполнило неприятное чувство.
— Господин Каменев с собой покончил…
Я вскочил; у меня задрожали руки и ноги.
— Неужели?! Да правда ли?!
— Правда! верховой рассказывал.
Я торопливо порвал конверт, прихватил часть письма и вытащил лист почтовой бумаги. На нем почерком потрясенного человека, вкривь и вкось было намарано следующее: «Вчера вечером выстрелом из револьвера покончил с собой Борис Михайлович. Сначала он принял яд и сел играть за клавесин, но яд не подействовал, и он пустил в сердце пулю. По выраженной им в оставленной записке воле, спешу послать вам, так как не знаю вашего петербургского адреса, книжку и тетрадку с записками покойного. Погребение состоится по прибытии семьи. Марков».
— Какой ужас! — проговорил я. — Где это произошло, вам не рассказывал верховой?
— За письменным столом порешили себя. А отчего — не объяснил ничего. Да и как это узнаешь? чужая душа потемки…
— Где верховой? нельзя ли его увидеть?
— Уехал уже.
Я прошелся по комнате. Петр стоял не шевелясь и водил за мною глазами.
— Дайте мне ради Бога пить! — обратился я к нему. — Надеюсь, мой Мирон еще трезв?
— Наливается уже понемногу!
— Так прикажите не давать ему! — воскликнул я. — Чтоб не смел больше пить, пусть запрягает, я сейчас еду!
Нервы мои были так взвинчены, что я чувствовал себя в состоянии бросить все и уйти пешком. Чижикова и Мирона я в ту минуту ненавидел.
— Понятное дело, надо вам к ним ехать! — одобрил Петр. — Хороший господин были!
Он вышел из комнаты. Я развернул посылку. В ней лежала довольно толстая переплетенная тетрадка, исписанная мелким бисерным почерком. На первом листе тою же рукой, но разгонисто, была сделана надпись: «Родственной душе С. Р. М. в привет и на память от уходящего». Подпись, кроме буквы К, была неразборчива.
Я уперся горевшим лбом в стекло и стал глядеть на двор, но не видал его: передо мной открылся голубой грот, клавесины и играющий на них последний гимн жизни высокий человек с глубокими, умными глазами. Какую силу воли надо было иметь для того, чтобы, приняв яд, сесть за инструмент? что думал, что импровизировал он в эти минуты? А что делал ты вчера, когда так умирал этот человек?.. — с укором спросила совесть. Мне стало казаться, что я как будто чем-то виноват в его смерти: может, ничего и не случилось бы, если бы я был более чуток и внимателен и остался бы в Каменке на пару дней и тем отвлек его от преследовавшей его мысли. Но мог ли я предвидеть близость катастрофы? И тем не менее было обидно и больно…
Понемногу мысль перешла на драгоценные коллекции Каменева и на ожидавшую их судьбу; не было сомнения, что Каменев имел основание говорить о наследниках, как о врагах их. Нужно вернуться, выбрать кое-что, купить!.. — мелькнуло соображение, но вся душа восстала против этого: в Каменке я был чужой, ненужный, там предстоял слет коршунов, и мне казалось преступным принять участие в разрушении красоты.
Нестерпимо захотелось поскорей очутиться в своем кабинете, среди книг, подальше от разгромленного прошлого, от генералов Чижиковых, и вообще от людей… во мне трепетали все нервы.
— Кушайте! — произнес Петр.
Он принес мне большую эмалированную кружку, наполненную холодным квасом, и только тут я понял, почему Русь, веселье которой есть пити, изобрела и любит этот напиток!
— Закладывает ваш! — говорил Петр, глядя, как я жадно припал к кружке. — Только как же вы голодный уедете?
— Это ничего. Я есть совсем не хочу! — возразил я.
— Сейчас не хотите, потом захочется! Коль теперь аппетиту нет, дорогой закусите.
Он ушел. Я отправился вслед за ним и наткнулся на Ваньку.
— Нельзя ли помыться? — обратился я к нему.
Ванька опешил; по-видимому, гости в этом дворце Растрелли умывались не часто.
— Мыться, так это на двор надо идтить! — ответил он.
— А умывальника у вас разве нет? — сердито спросил я.
— Так жестяной есть, да он у барина стоит.
— А барин что делает?
— Спит еще.
Сообщение было приятное: не нужно было опасаться досадных приставаний и, может быть, даже ссоры из-за моего отъезда.
Мы вышли через кухню на двор, я скинул пиджак, и Ванька стал поливать мне на руки из ковшика. Генерал Чижиков накупил полон дом золотой мебели и только не счел нужным обзавестись хоть одним умывальником!
Я поручил Ваньке принести из столовой мои книги, а сам, с посылкой Маркова в руках, пошел пройтись вокруг дома.
На месте парка раскидывалось картофельное поле и огород; далеко тянулись длинные ряды пышной капусты.
Где прежде процветала Троянская столица, Там в наши времена Посеяна пшеница— вспомнились слова песенки.
Я обогнул дом и увидал свою бричку, приближавшуюся к нему. Петр и Ванька стояли у подъезда и ждали меня; в руках у Петра виднелся большой сверток. Мирон подъехал к нам. Лицо его было красно и измято, он с недовольным видом чуть приподнял шапчонку и поздоровался.
— Это на дорогу вам! — сказал Петр, показывая сверток. — Тут что от обеда осталось, я вам сложил. А это опохмелиться! — он сунул под козла между кипами книг бутылку.
— Зачем? не нужно! возьмите назад, пожалуйста! — запротестовал я. — Видеть не могу вина!
— Нельзя этого! — деловито возразил Петр. — Все поначалу так-то говорят; а без запасу нельзя! — Он скрестил руки и отступил назад.
— Понятное дело, понадобится! — поддержал Мирон. — Все время пьяные ездим, так как же без похмелья возможно?
Ванька уложил купленные мною у Чижикова книги, я простился и дал всем на чай.
— Павлу Павловичу скажите, — обратился я уже из брички к Петру, — что никак не мог больше оставаться… случай такой вышел!..
— Как же, передам. Всего вам доброго!
Бричка тронулась. На перекрестке у заставы Соловья-разбойника Мирон натянул вожжи.
— Ну, куды ж теперь? — сердито спросил он.
— На станцию! — буркнул я. — Да живей, к поезду поспеть надо!
Суровый тон мой произвел на Мирона некоторое впечатление. Он повернул коньков налево, и они запылили по хорошо накатанной дороге.
Я взглянул на высившуюся позади громаду-дом, и мне сделалось легче: свежий воздух и полная воля действовали благотворно.
Мирон покряхтывал, косился на меня, затем не выдержал.
— Ты чего же это от Чижикова сорвался? Иль тебя в шею гнал кто?
— Нужно, значит, — сухо ответил я.
Мирон поглядел на меня.
— Люди по неделе здесь гостят, едят, пьют, а ты, э-э-эх!! Харч вольный, водка тоже… благодать! Жил бы себе, да жил!
— Ну, довольно! — вскинулся я на него. — Не мели зря!
Мирон обиделся и умолк. Мне сделалось смешно: ведь оба мы с ним злились по одной и той же причине: «катькина яма» — вспомнилось мне!
Я стал глядеть вдаль, и мысль унеслась туда, в лес, в ночь, в освещенный дом с башней… теперь и он угас навсегда!
С час мы ехали, не обменявшись ни словом. Мирон начал кряхтеть и схватываться за живот.
— Что тебя корежит? — спросил наконец я, заметив его проделки.
— Жгет! — ответил он изнеможденным голосом. — Замучило вчистую!..
— Что такое замучило?
— Да я ж не опохмелился еще, а тебе ехать приспичило! — совсем как здоровый воскликнул Мирон. — Вот и жгет… душа вымоталась! Дай Христа ради из бутылочки из твоей хлебнуть… хочь глоточек, — голос и вид у него опять сделались самыми жалобными.
Я достал бутылку, сунутую Петром, развернул бумагу и увидал, что то был коньяк; имелось его в ней больше половины.
— На! — сказал я, протягивая бутылку. — Но сейчас дам только один глоток — остальное получишь, если вовремя доставишь на станцию!
— Доставлю! — обрадованно и совсем выздоровев ответил Мирон. — Это аминь, мое слово камень!
Он запрокинул бутылку себе в рот: коньяк забулькал, и хоть я и поспешил отнять посудину, но он успел проглотить добрую половину.
— Важная водка! — произнес он, вытирая усы и бороденку. — Не иначе как графья на свадьбах ее пьют! Нуте-ка вы, беспардонные! — он принялся за коньков; лицо его оживилось, язык замолол без умолку.
Дорога бежала все лесом; приблизительно еще через час перед нами за поворотом, точно из-под земли, выросло низенькое, маленькое здание станции. Она казалась спящей.
— Вот и поспели! — воскликнул Мирон, очень беспокоившийся под конец пути и все погонявший своих беляков: боязнь лишиться графского напитка заполонила все существо его. — И поезда еще не слыхать!
Бричка загремела по вымощенному камнями дворику и остановилась. Я отправился покупать билет, а Мирон со сторожем принялись таскать на перрон мои вещи и книги. Мирона, оказалось, так разобрало, что он едва держался на ногах.
— Ну, уж мне на чай с тебя получать!! — заявил он, чуть не свалясь мне под ноги вместе со связкой книг. — Этого, брат, так спустить нельзя, — споил ты меня! Неделю я с тобой езжу и всю неделю пьян! Вот ведь история, братцы мои, какая? — добавил он, сев на мои книги и неизвестно к кому обращаясь.
Вдали показался дымок. Из дверей станции медленно вышло начальство: заспанный дежурный в красной фуражке и пожилой жандармский унтер-офицер.
— Ладно, ладно, тащи скорее остальное! — приказал я; Мирон встал, заспешил, заплетаясь ногами, и сейчас же возвратился: сторож уже нес последнюю пачку.
— С тобой ездить беда-а!! с тобой запьешь!! — возгласил Мирон, вернувшись ко мне. — Ишь, книжищев-то, братцы мои, сколько набрал: горе! — Он ударил себя об полы руками и закачал головой.
Я расплатился, и трехрублевка на чай заставила моего возницу сорвать с себя шапчонку и отвесить мне поясной поклон.
— Вот это спасибо, господин! — сказал он. — Еще приезжайте к нам. Всю губернию изъездим!..
Мимо нас, пыхтя, прошел паровоз, за ним замелькали и остановились вагоны. Спустя минуту я уже сидел в совершенно пустом купе; мои книги загромоздили все сетки.
— С досвиданьицем, господин! — крикнул с перрона голос Мирона. — Ворочайтесь поскореича!
Я выглянул в окно.
Паровоз тяжело вздохнул, выбросил клуб белого пара, и вагон двинулся. Будто густой молочный туман заволок всю станцию. Через миг он рассеялся, и я опять увидал взлохмаченного Мирона, обеими руками державшего у груди шапчонку и глядевшего нам вслед; за углом здания открылись запыленная бричка и спавшие «кульерские»… Еще секунда, и все утонуло в бесконечном желтом море березняка.
Очерк второй
I
Яркое утро.
Я в саду, на высоком яру в имении Дашковых. Жарко; я в летнем костюме, но все бело кругом, всюду волны чуть розоватого снега. Им заметены расселины и кручи горы; бездонно внизу плещется о берег мутная равнина моря. Водная даль впереди — необъятная; ее замыкают темные линии лесов, на ней всюду сотни мелких островков… но нет, это тянут из воды к небу черные руки безлистые громады деревьев. Это не море — это Волга в своем сорокаверстном разливе! Не снега кругом, а фруктовый сад в цвету, заливший уступы берега, сбегающие к реке. К югу и к северу цепью раскинулись красноглинистые крутые горы; справа, на самом горизонте, на них, будто в тумане, мерещится белый венец; над ним на небе тусклые, золотые отсветы: это далекий-далекий Нижний Новгород и главы Печерского монастыря.
А глянешь назад — засмеешься от радости! Нет деревьев, нет листвы — везде намела весна холмы и сугробы из одних цветов. Нет и дорожек, — одни сплошные триумфальные арки весны, все разубранные, все засыпанные белыми и розовыми цветами, с просветами ввысь голубого бархата.
Воздух пьянее вина.
Охмелела от него и вся безмерная пернатая рать; тысячами голосов где-то на воде томятся и стонут дикие утки, флейтами заливаются кулики, победно трубят гуси, только что совершившие далекий перелет из заморья. Век не поднялся бы с этой скамьи над обрывом, с которой видишь полмира!.. Но часы показывают девять, меня ждут хозяйки пить кофе.
Я встаю и по извилистым дорожкам иду среди цветочных снегов по царству Снегурочки.
Показываются два великана — две темно-зеленые ели, задумавшиеся на страже над двухэтажным, коричневым домом. Целое столетие шестнадцатью окнами в ряд глядит он на Заволжье. Длинная веранда полузаслонена картинами с густо разросшимися сиренью и жасминами; кусты их только что опушились нежною зеленью. Между колоннами веранды, в виде портьер, белеют длинные холщевые занавеси с пурпурной каймой. За ними виднеется стол, накрытый ярославскою синею скатертью, на нем серебряный самовар и кофейник на никелированной спиртовке. За столом, лицом к саду, в плетеном кресле сидит седая полная старушка в темном капоте; черноголовая дама лет сорока, худенькая и маленькая, стоит в белом летнем платье и следит за кофейником.
— С добрым утром!.. — произношу я, подходя к веранде.
Лица обеих хозяек поворачиваются ко мне и освещаются улыбками.
— А вы уже на яру побывали? — говорит брюнетка Анна Игнатьевна, жена давно покойного сына старухи, Варвары Павловны.
Я целую ручки обеих дам и сажусь пить душистое мокко. Выдержанный, чисто выбритый лакей в белых гамашах и в перчатках подает легкий завтрак — Дашковы живут на английский лад. Их всего четверо: отсутствуют два сына Анны Игнатьевны, еще не приехавшие на каникулы из Оксфордского университета. Это будущие кавалергарды и миллионеры: кроме громадного имения в нижегородской губернии, Дашковым принадлежит свыше двадцати тысяч десятин земли на Урале и несколько заводов.
За кофе продолжается разговор о Волге и о моем путешествии: я только накануне вечером приехал на пароходе из Ярославля. В нижегородском имении я в первый раз; впервые же я познакомился и с Варварой Павловной, безвыездно живущей в нем.
Лицо ее — лицо старой няни, белое и добродушное. Но, вглядевшись, улавливаешь в нем барыню еще крепостных времен: в складе губ, в выцветших, водянисто-голубоватых глазах есть что-то властное и упорное; они определяют — наш ты или чужой, стоишь ли чести разговора с нею. Чувствуешь, что весь мир для нее — классная доска, с которой стерли давно решенную арифметическую задачу и на которой уцелели лишь две-три цифры — ее близкие.
Анна Игнатьевна — подвижная и нервная. Она курит папиросу за папироской, и лицо ее, угловатое и некрасивое, отражает ее мысли и настроения: игра мускулов на нем беспрерывная. Но проявляет настроения только лицо, но никогда не слова и не жесты: Анна Игнатьевна в высшей степени выдержанна и корректна. Свекровь она не любит, но полна внимания к ней; воспитанность заменяет любовь, и холодная, каменеющая старуха, кажется, даже предпочитает ровное внимание беспокойным чувствам.
После кофе Варвара Павловна берет меня под руку и спускается со мной в сад. По другую сторону ее идет Анна Игнатьевна. Медленно мы движемся по аллее из кленов и тополей: воздух напоен густым смолистым ароматом. За нами, храпя и сопя, вперевалку плетется жирный черномордый мопс с висящим на боку языком. То и дело попадаются уютные уголки, и из них выглядывают, как бы зовя на свиданье, искусственные гроты и камни-скамейки, заросшие кустами.
За поворотом аллеи открывается что-то странное — часть небольшого лужка покрыта как бы игрушечными памятничками из белого и черного мрамора.
«Кроткая Мими. Умерла 5 мая 1856 г.», — читаю я потускневшую золоченую надпись на ближайшем; «Пуль-пульчик. Умер 3 сентября 1860 г.»
Это фамильное собачье кладбище.
Мы останавливаемся обозреть его, а мопс вперевалку направляется к памятнику кроткой Мими, обнюхивает его, затем решительно подымает ногу и оказывает собачьи знаки внимания покойнице.
— Попка, глупец, сюда! — сердито кричит Варвара Павловна и дергает рукой сверху вниз так, как будто бы стучит палкой — «сейчас сюда»!!
Но Попка занят выполнением долга уже на чьей-то другой могиле и лишь после этого с деловым видом возвращается к своей повелительнице.
Парк невелик и занимает вершину горы: с нее, будто каменные водопады, спадают с террасы на террасу лесенки; от них разбегаются дорожки по фруктовому саду; вид на Волгу из боковой аллеи поразительный.
— Ну, устала… домой!.. — произносит Варвара Павловна, пройдя две аллеи, и мы возвращаемся, но другим путем, мимо большой оранжереи. На веранде Варвара Павловна высвобождает свою руку из моей.
— Мы обедаем в час, по-деревенски! — заявляет она. — В пять пьем чай, а в восемь ужинаем. У нас обычай таков, — и гости свободны, и хозяева. Читайте, гуляйте, делайте что вам нравится. Нас не занимайте, и мы вас занимать не будем!
Я попросил разрешения осмотреть дом, и Анна Игнатьевна пошла вместе со мною.
Варвара Павловна — вдова генерала и, вместе с тем, сектанта, когда-то известного в аристократическом кругу Петербурга. Одно время он был даже выслан из России.
Учение генерала заключалось в отрицании церкви и духовенства. Признавалось им одно евангелие. На собраниях его последователи слушали речи, пели духовные стихи, а злые языки уверяют, будто бы и поплясывали на манер хлыстов. Книга их песнопений под заголовком «Любимые стихи» вышла в свет в разгар Дашковщины[35] в Петербурге, в 1880 году, но вскоре же подверглась запрещению и уничтожению. Генерал ли кропал эти духовные вдохновения, другой ли кто — не знаю. За границей, кажется в Лондоне, им было издано особое, карманное евангелие; отличие его от обыкновенного заключалось только в том, что на полях против некоторых текстов, казавшихся генералу особенно многозначительными, были по-средневековому натиснуты красные указующие персты и сделаны красные же отметки. Впоследствии полиция отбирала и эти евангелия.
Генерал усердно вербовал себе последователей, и для окрестных крестьян самым убедительным тезисом в его учении были разные щедрости и льготы, изливавшиеся только на «уверовавших». По Дашковскому евангелию выходило, что помощь надлежит оказывать только кучке своих людей. Интеллигентная публика попадала в ряды Дашковцев либо от безделья, либо в чаянии протекции.
Старичок жил в полное удовольствие — поплясывал и поучал в своих сорока аппартаментах, как просто надо жить по евангелию… картинка, словом, получалась та же самая, что и в Ясной Поляне; имения нищим ни там, ни здесь не раздавали, а приумножали, и только более тонкое чутье подсказывало Дашкову, что шлепать босиком по дворцу как-то не так, и он ходил в штиблетах.
Варвара Павловна являлась его ярой сторонницей и последовательницей: память покойного в ее глазах была окружена апостольским ореолом, и никто из семьи не смел в ее присутствии всуе, без должного благоговения, упомянуть имя генерала.
Обходя дом, я заметил, что чуть не в каждой комнате имелись фотографии или писанные пастелью и красками портреты какого-то очень пожилого господина в штатском платье, с бритым лицом. Везде голова портрета была чуть-чуть склонена к правому плечу, в глазах и в складках виднелось деланное стремление к небу, и в то же время по всему лицу растекалось умиление перед своими добродетелями и предвкушение, что его вот-вот возьмут живым на небо. Вся эта прокислая святость делала лицо фальшивым и неприятным. Уж не Дашков ли? — подумал я.
— Кто это? — обратился я к своей спутнице.
— Мой свекор! — крепко прикусив папироску, ответила Анна Игнатьевна.
В доме повешенного о веревке не говорят, и я, сделав пару попыток вызвать свою спутницу на разговор о генерал-сектанте, прекратил их: распространяться на эту тему она, видимо, не желала, но по тону ее голоса и игре лица я вывел заключение, что от своего святого свекра она далеко не в восторге.
Мы обошли весь дом. Миллионы и поколения собрали в его сорока комнатах множество ценных и старинных вещей, но дара творчества и артистического чутья Каменева у обладателей не было. Эти комнаты не уносили души ввысь от земли: наоборот, они прочно привязывали к ней. Я шел среди еще живых Александровских времен, затем в тридцатых, в сороковых и в шестидесятых годах…
Мебель разных стилей в значительной своей части вышла из рук собственных крепостных мастеров и была несколько тяжелее и увесистей заграничной. И это шло к дому земли, придавало ему особый уют.
В последней комнате — в библиотеке — Анна Игнатьевна оставила меня одного.
Три стены были вплотную обставлены огромными ореховыми шкафами со стеклянными дверцами. Три окна, полузакрытые тяжелыми портьерами густого малинового цвета, глядели поверх сада на Заволжье.
Среди комнаты располагался длинный стол, до полу покрытый сукном; на нем грудами лежали разные иллюстрированные журналы. Матовые обои, скатерть на столе, глубокие, удобные кресла вокруг него и у окон — все было малиновое.
Шкафы были не заперты. Одну за другой я растворял дверцы и пробегал глазами надписи на корешках книг. Преобладали английские, затем французские; русских имелось совсем мало — только беллетристика самых последних годов и первой четверти девятнадцатого столетия: остальные три четверти этого века были отмечены только случайными книгами.
Как и следовало ожидать, книг мистического и религиозного содержания оказалось много, причем опять-таки преобладали английские. Американцы были представлены чуть ли не полностью, и нельзя сказать, чтобы с приязненным чувством рассматривал я украшавшие книги снимки с иезуитски смиренных лиц заокеанских пустосвятов, в таком изобилии, как нигде, произрастающих на благодатной почве Нового Света.
В боковом маленьком шкафу находились картонажи, набитые письмами и рукописями; их я, не зная, — тайна они или нет, — не рассматривал.
Певучий звон гонга вызвал меня из библиотеки к обеду. Я вышел из нее с тем неприятным состоянием в мозгу, какое несомненно бывало у средневековых богословов после долгих важных прений и соображений о количестве херувимов, серафимов и о райских распорядках.
— Ну, как вам у нас нравится? — задала мне трафаретный вопрос старая генеральша.
Я отозвался в восторженном тоне. И нельзя было ответить иначе: казалось, что мы сидели на зеленом острове над белыми облаками из цветов. Легкий ветерок наносил на нас неизъяснимые ароматы. Мир с его людьми, шумом, лесами и водным простором был где-то далеко внизу…
— Нашли в библиотеке что-нибудь интересное для себя? — продолжала Варвара Павловна.
Она, видимо, ожидала, что я немедленно впаду в умиление от подбора столь назидательных книг, произведенного, надо думать, покойным апостолом. Но в моих глазах все они являлись лишь грудой жеваного сена; зачисление себя в ряды апостолов якобы новой веры в Северной Америке есть нечто иное, как один из способов делать карьеру и создавать благополучие на человеческой глупости. Разумеется, от ответа в таком духе я воздержался.
— Есть очень интересные вещи, — сказал я, — у вас довольно много сказок, легенд; имеется даже такая редкость, как «Поэтические воззрения славян на природу» Афанасьева![36]
Черты лица старухи окаменели.
— Вас интересуют такие пустяки? — проронила она ледяным тоном.
— А что на свете не пустяки? — спросил я в свою очередь.
— Душа!.. — был раздельный ответ.
— Да не легенда ли и она?
— Вы не верите в Бога?!
— В какого?
Варвара Павловна даже подалась назад.
— Как в какого? Бог, кажется, один!
— В Бога Апокалипсиса, в бога-зверя, не верю. Но что в пространстве существует какая-то неизмеримая сила — в этом я убежден. Истинный Бог еще неведом.
— Плохо же вы читали евангелие!.. — проронила моя собеседница.
Не с указующим ли перстом? — мелькнула во мне насмешливая мысль.
— Возможно… — согласился я, чтобы не вовлекаться в спор: это занятие по меньшей мере нелепое, так как споры никого не убеждают, а только раздражают.
Анна Игнатьевна, сидевшая как на иголках, бросила на меня благодарный взгляд за своевременное отступление с поля бесполезной битвы. Разговор перешел на более безопасные темы, но Варвара Павловна уже почти не принимала в нем участия.
Ели дамы чрезвычайно мало, и порции, соответственно их аппетиту, были крохотные. Я, между тем, чувствовал себя в состоянии съесть полмира и с грустью увидал, что и обед в этом доме был на английский лад: супом были покрыты лишь донышки тарелок — правда, из великолепного фарфора; дичи мне досталась ножка бекаса в ноготь величиною, а бараньи котлетки оказались в половину самого скромного по размеру вареника.
Я нацепил свою на вилку и уже собирался сразу отправить ее в рот, да вспомнил, что это шокинг, и разделил ее на две почти невидимые части.
— Не хотите ли еще? — любезно осведомилась Анна Игнатьевна.
Если б была возможность стрясти себе на тарелку всю ту горсточку котлет, что находилась на никелевом блюде, — можно было бы заморить червячка, но брать одну было бесполезно. Я отказался.
За кофе я поднял вопрос о продолжении моего путешествия; выехать я решил на следующее же утро.
— Не знаю, кого бы вам указать из окрестных помещиков… — раздумчиво сказала Анна Игнатьевна, — мы ни у кого не бываем! Впрочем, вот Алябьевы?.. у них, кажется, найдется то, что вас интересует… как вы думаете, маман?
Варвара Павловна неопределенно качнула головою.
— Ну, — произнесла она, — интересного там теперь только стены…
— Меня главным образом тянет туда, где можно купить что-либо… — заметил я, — дворцов я навидался на своем веку достаточно, и меня гораздо более занимает упадок и разрушение…
— В таком случае объезжайте все дворянские имения подряд! — проронила Варвара Павловна. — В ином виде их почти не найдете здесь… да и по всей Руси!
— Мы вам дадим кучером старика Михайлу: он знает весь уезд!.. — сказала, крепко затягиваясь дымом папиросы, Анна Игнатьевна.
— Нет, ради Бога не надо! Это совершенно невозможно!
— Отчего?
— Во-первых, я неизвестно сколько времени буду плутать по уезду, а затем, не могу же я на ваших великолепных рысаках ездить скупать старые книги! Ведь я насмерть перепугаю кого-нибудь: подумают, что это сам губернатор за недоимками прикатил!
Анна Игнатьевна усмехнулась: — Пожалуй, верно!..
— Да и покупки вам из-за лошадей вдвое дороже обойдутся: лишнее везде требовать будут! — решила практическая старуха.
— Как же вы сделаете? — спросила Анна Игнатьевна.
— А найму себе мужичка! Позвольте мне приказать кому-нибудь из людей нанять мне толкового человека поденно?
— Но ведь у них же имеются только телеги… как же вы поедете в ней?
— Чудесно поеду: вся тайна в количестве сена для сиденья!
Анна Игнатьевна опять улыбнулась:
— Пусть будет по-вашему… попробуйте!
Я отправился бродить по саду.
В трех местах на краю обрыва из зелени вставали легкие белые колоннады полукруглых греческих беседок. Ниже белым прибоем безбрежного моря вскидывался на береговые уступы фруктовый сад.
Я спустился по каменной лестнице и забрался в самую гущу его…
Каким ограниченным человеком надо быть, чтобы думать о проповедях, о мистере Смите, о сапогах всмятку, когда перед тобой настежь развернуто все, до краешка чего лишь коснулся ум человека; философия, знание, религия, наслаждение, счастье, — все, что как мир под радугой сливается под одним понятием — красота?!. Один взгляд на нее более просветляет душу, чем пуд философских творений; это отчетливо сознавали отшельники и созерцатели.
Как хорошо мне думалось, как легко дышалось!
Мягкий, теплый ветерок стал подувать сильнее; запушил снег из лепестков. Не прошло и получаса — началась метель. Земля, дорожки, стволы деревьев, горы — все скрылось в белом, душистом вихре, обрызнутом каплями золота от лучей солнца. Нет-нет и белые завесы взвивались, размахивались, и вдруг вспыхивала яркая синь неба, разверзался вид на горы или на Заволжье. Через мгновение все опять задергивалось хаосом.
Метель цветов!.. Кто мог бы выдумать тебя, повторить?!
Мне, как зимою, занесло голову, плечи, грудь… по щекам текли нежные прикосновения лепестков. Такого волшебства я уже больше не видал в жизни!
По белому ковру выбрался я из сада в парк, и меня окружила зелень; вершины аллей шумели, внизу же не ворохнулась ни травка.
За кустами у одного из гротов я услыхал голоса, — мужской и женский, — и остановился. Нежничал тенор, старавшийся сахаром пропитать каждое свое слово. Ему отвечало конфузившееся сопрано.
В имении никого посторонних, кроме меня, не было, и парочка, забравшаяся на свиданье в чужой парк, заинтересовала меня. Я осторожно выискал местечко, откуда можно было взглянуть на нее, и увидал, что у грота сидит на скамье пожилой, раскормленный донельзя повар в белой куртке и в белом переднике. Жирное лицо его украшали черные эспаньолка и усы, имевшие вид коротких, толстых жгутов. Волосы на голове были прилизаны и разделены прямым пробором. Как все толстяки, он сидел, широко разведя колени; руки его были сложены на живот, и он вертел мельницу перстами, украшенными золотыми кольцами. Черные, масленые глаза его были скошены на соседку.
Рядом с ним, чуть поодаль, сидела, вся подобравшись и потупившись, несколько раз уже виденная мною в доме миловидная горничная Варвары Павловны — Ариша. Лицо ее все пылало, губы и ноги были поджаты, руки находились под передником; русую голову увенчивала в виде дворянской короны накрахмаленная наколка.
— Нет, уж этому номеру с вашей стороны не пройтить!.. — говорил повар, — это уже антанде с гарниром-с!
— Я и не понимаю, что вы такое говорите?.. — ответила не подымая головы Ариша.
— Разговор обыкновенный-с, петербургский, как у нас по-столичному полагается-с! Вы, значит, барышня, можно сказать, цветочек, а я бабочка-с… вот вы меня своим амбре и должны осчастливить!
Ариша слегка подбросила фартук на своих коленях и прохихикала.
Туша повара вдруг всколыхнулась: он сделал попытку обнять соседку, но та вовремя уклонилась и отодвинулась.
— Этого уж и не надо совсем, Никанор Ильич!.. — недовольно сказала она.
— Вот это так апельсин?! — воскликнул повар. — Как же не надо?! Разве я вам не кавалер? Посмотрите вашими замечательными глазками, что кругом делается? А-а-ах-с!!. — он завел под лоб глаза и задергал из стороны в сторону напомаженной головой.
— Где делается? — Ариша выпрямилась и оглянулась.
— Да во всем естестве, на всей планиде-с!.. — Никанор Ильич описал нечто вроде широкого круга обеими руками. — Весна, любовь-с… свинья и та чувствует, а уже что же в человеке вершится? Как бульон на огне вот здесь кипит-с!.. — Он словно в подушку постучал кулаком в грудь. — Должны вы меня полюбить, верьте чести!
— Почему же это я должна?
Туша придвинулась к ней ближе.
— Это мы вам сейчас, как на ладони, докажем. По-французскому вы соображать можете?
— Слышала, как говорят господа…
— Знаете, как нас с вами по-французскому обозначали? — заметьте это себе на память! — он с многозначительным видом поднял вверх толстый указательный палец с перстнем-печаткой на нем. — Вы риша, а я повар! — Он откинулся назад, и с торжествующим видом упер руки в бока.
— Какое же тут французское: вы по-русски сказываете? — разочарованно возразила девушка.
— Заблуждение ума! — Никанор Ильич потряс головою. — По-русски выйдет — вы богатая, а я бедный: опять, значит, в ту же кастрюльку въехали. Вы риша, а я повар!! — с наслаждением, нараспев повторил он, закатив глаза и прижав руку к сердцу. — Вот за это за самое вы и должны меня полюбить!
— Какие же мои богатства, Никанор Ильич? — смущенно произнесла девушка, не понимавшая высокой мудрости своего обожателя. — Ничего у меня как есть нет.
— Гм!.. А личико, а все прочее?! — толстяк пошевелил в воздухе всеми десятью пальцами, словно желая забодать ими Аришу. — А я бедный, я сирота… и вы не хотите меня осчастливить! — голос его окончательно перешел в млеющее воркованье. Казалось, весь этот студень в куртке вот-вот растечется в виде сиропа.
Ариша молча и медленно, но все больше и больше поворачивалась к сладкопевцу: ее, видимо, завораживало медовое журчанье чепухи, которую нес ее кавалер.
— Значит, судьба моя горькая такая!.. один мне теперь конец остается, — на обрыв и брык с него в Волгу!..
Этого сердце Ариши уже не могло выдержать. Она вдруг вскинула обе руки на плечи безнадежного самоубийцы и припала к нему головой.
— Не надо… что вы?!. — шепотом заговорила она.
Началась перестрелка поцелуев. Я отпустил ветку и пошел своей дорогой.
Кругом все пело и ликовало: заливались скворцы, урлюлюкала иволга, сотни птичьих голосов наполняли истомой парк…
Около десяти часов вечера я и хозяйки разошлись по своим комнатам. Мне не спалось. Я долго читал, лежа в постели, затем встал, раздернул закрытые гардины и отворил окно.
Словно серебряный щит, на меня глянул месяц; синь и тишина наполняли мир. Из моей комнаты видны были только темные, недвижимые купы парка; все словно бы прислушивалось и ждало чего-то.
И вот, чуть не под самым окном у меня щелкнул соловей. Ему отозвался другой, третий… зарокотал весь парк: далекие трели донеслись и из-под обрыва… Ночь давала концерт. Звуки сверкали и гасли. Величайшие певцы мира пели свой гимн…
Я лег, когда стали расти туманы, когда бесшумные привидения, вздымавшиеся над кустами и деревьями, слились в одно белое, колыхавшееся море и коснулись моего окна. А соловьи все рокотали… Душа росла вместе с туманом… Будто бесчисленный рой ночных бабочек мягко трепетал крыльями где-то в глубине груди, по струнам скрытой там арфы… было неизъяснимо радостно, свежо и волшебно-смутно…
Рано утром я уже катил на телеге по проселку, вившемуся среди зеленей. И впереди и по бокам синели леса.
Вез меня Никита — почтенный, чернобородатый мужик лет сорока пяти, плечистый и рослый, с внимательными глазами и суровым лицом. Пара рыжих сытых лошадей бежала бойко. Я сидел на «грядке» — доске, положенной поперек телеги, и думал обо всем виденном у Дашковых и о власти звука.
Звук всесилен… Он может убить человека, может потрясти его, исцелить, раздражить и утешить. Он разрушает здание, взрывает порох, убаюкивает и нежит. Огромнейшее количество наших переживаний есть результат детонации звука. Звук еще неведом, но он несомненно не есть только результат сотрясения воздуха.
Я слышал о любопытном опыте, произведенном в 1900 году знаменитым протодьяконом Исаакиевского собора — Малининым.
Среди стола, на самоваре, ставили пустые стаканы тонкого стекла разных тонов. При произнесении Малининым многолетия стаканы звенели, но не падали и не разбивались. Тогда взяли по камертону точный тон каждого стакана и то же многолетие, возглашенное в заданный тон, разбивало их по очереди, как камнем.
Значит, не внешняя сила разрушала стекло, а пробужденная внутренняя, еще неведомая нам… Голос Никиты — ровный и внушительный, отвлек меня от моих размышлений.
— Как же, барин, куды надумали — в Алябьево или в Кручи?
Этот вопрос остался у нас невыясненным со вчерашнего дня, когда Никита был подробно посвящен мною во все мои планы и намерения.
— Ежели в Алябьево, так скоро влево сворачивать надо будет!
— Да говорят, что в Алябьеве нет ничего, что мне нужно?.. крюк ведь туда большой?.. — ответил я.
— Крюк, это как есть!.. — отозвался Никита. — А кто сказывал вам, что там ничего не найдете?
— Варвара Павловна.
— Знакомая хорошая она, стало быть, ваша?
— Нет, в первый раз видел ее.
— Что же, купить здесь чего ни на есть думали?
Мне показалось, что возница мой держался как будто настороже и задавал свои вопросы неспроста. Я решил выведать от него кое-что в свою очередь и для этого отчураться от знакомства и с Анной Игнатьевной.
— Да.. — сказал я. — Только не продали ничего; зря время потерял!
Никита усмехнулся.
— Чего захотели!! нетто в эдаких палатах что продают? Тут мельоны в сундуках позасыпаны!!! На что им продавать? А с молодой с барыней знакомые были?
— Нет. Знакомый был бы, разве на телеге от них я уехал бы?
Этот довод сразил Никиту и разом покончил с каким-то подозрением, таившимся в нем.
— Это конешно!.. А вы не из духовных будете? — вдруг быстро добавил он; в глазах его мелькнули веселые искорки.
Я удивился. — Нет! Да разве я похож на духовного, что ты спрашиваешь?
— Да не то что похожи, а так это я… не потому ли, мол, коней вам господа не дали, что из кутейников вы?
— А разве Дашковы духовных не любят?
Никита махнул рукою и засмеялся.
— Беда!..
— Почему?
— Да уж так!.. По евангелию, сказывают, надо жить!
— А попы по-каковски живут?
— Попы грабители: с живого и с мертвого берут!
— Да и мы с тобой не даром работаем; тоже за все деньги берем!..
— Оно что говорить…
— Ну, а в хоромах в таких жить — это тоже по евангелию указано?
Никита сдвинул картуз на лоб и слегка почесал затылок. Он, видимо, еще не знал, как ему со мною держаться.
— Оно конешно… на то господа…
— С жиру ваши господа бесятся, вот что!.. — продолжал я. — В евангелии что сказано — раздай все имение свое нищим! Вот бы они и роздали его, да тогда и плясали бы — босиком да в сарае! А то, небось, вместо раздачи-то — пару бревешек на починку избы из десяти тысяч десятин лесу дадут, да еще требуют, чтобы в Бога верили, как они хотят; радуются, ах, мол, какие все дураки, а мы христиане!
— Верно… — отозвался Никита. — И мы так же вот про себя смекаем!
— А почему ж молчите?
Никита оборотился ко мне. — А вы вот у них были — сказали им так-то?
— Да какое мне дело до них? Меня они не учили, как надо жить, а вас учат!
— Э!!! — возразил Никита. — Бог-то эва где, за облаками, а своя шкура вот она! Покрыть да пропитать ее тоже чем-нибудь надо! Вы их, своих расчетов, им не сказываете, а мы, стало быть, по своим: все на одной веревочке ходим! Я так полагаю: умный думай, а дурак говори!
Ответ был житейски правильный и возразить на него было нечего.
— А у них и теперь собрания бывают? — спросил я.
— Нету, давно покончились; как старый барин помер, так и шабаш! Еще старая барыня, бывает, обмолвится когда с кем придется словом-другим, а уж чтобы по-прежнему — того нет; теперь строго, урядник в оба глядит!
— А молодая? она тоже вас учила?
— Ну, где же, нету! При свекре она и рта не раскрывала. Молодые ни при чем — старые тут всему заводчики были!
— А уважали старика мужики, скажи по правде?
Никита помолчал.
— Человек хороший был, — ответил, — добрый! худа про него не скажешь… а так дурашный только… по душам ежели открыть.
— Чем дурашный?
— Ну да ведь как же: попа не надо, в церковь не ходи, заместо обедни стих пой! А без попа человеку ни тпру, ни ну: Рождество, скажем, или Паска придет — как тут без попа обойтись? бабы загрызут. Опять же по человеческому естеству — родится кто, помрет ли, — как попа не звать? Не окрести, попробуй, младенца — сейчас к тебе урядник шасть: а когда, мол, друг милый, на крестьбины в гости к себе звать будешь?.. И старика огорчать опять же невмоготу было: вот тут и крутились мы: к попу с задворков лазили да в сумерки, чтобы до господ не довел кто! Греха да смеху было — не обобраться!
— Надували, стало быть, барина?
— Зачем надували? Для него же старались, уваженье ему сказывали!.. — убежденно ответил Никита. — Что ж ты с ним сделаешь, коли расслабел человек? Говорить, бывало, на собранье зачнет, а у самого под носом мокро, слезы по щекам текут. Пустяки самые говорит, а в три ручья плачет!
— И хорошо говорил?
— А кто ж его знает? Руки к грудям прижимал, должно быть хорошо, с чувствием…
— Ну, а плясали на собраньях? Я слыхал, будто как у хлыстов раденья у него бывали?
— Слыхали и мы, а только сам не видывал… с господами, сказывают, поскакивали!..
Никита вдруг затпрукал и остановил лошадей: мы были у перекрестка.
— Ежели в Алябьевку — сворачивать надо?.. — произнес он.
Я огляделся. Влево расстилались всхолмленные, зеленые поля; местность почему-то показалась мне неприглядною.
— Нет, едем прямиком в Кручи!.. — решил я.
Никита соскочил с телеги и оправил шлейки на лошадях. — А я вот что надумал, барин, — сказал он, взобравшись опять на свое место. — Заедем мы наперед всего к батюшке к здешнему. Только, смотрите, нашим господам не сказывайте! Он нам дело распределит настояще! А что барыни вам наши насоветовали — на то плюньте: нешто они могут понимать, что нужно?
Я успокоил своего возницу насчет своего молчания и осведомился об имени священника.
— Отец Спиридон… — ответил Никита. — Он всю округу, как свою церковь, знает: примечательный поп!
— Дело!.. — обрадовался я. — Валяй к Спиридону!
Мы тронулись дальше.
— Чем же этот отец Спиридон примечателен? — спросил я, немного погодя.
— У-у!!. — Никита потряс головой. — Муха где пролетит — уж он знает. А насчет того, что у кого в доме есть, — окромя его спрашивать некого! Умнющий поп!.. неужели не слыхали про него?
— Нет.
— Чудно!.. Супротив староверов он здесь первый. Режет их а-ах как!
— Как же? Все из писания?
— Чего там из писания! Умом берет. В сенате бы ему заседать, ей-Богу! Однова супротив него староверы такого начетчика выставили, что и не бывало еще такого: все книги как есть назубок отшпаривал! Схватились это они, значит, на собеседовании. Отец Спиридон учтет из книги, а тот ему из целых трех жарит; поп отмахнется, а тот того пуще — ну в угол загнал, забил, как есть! — до того договорились, что пар от обоих валил, ей-Богу! Наш-то послабже, поменьше, голосу у него настоящего нет, сдал, а тот здоровенный, морду не обхватить, такую наел, голосина что труба!.. Отца Спиридона и не слыхать стало. А народу кругом — что вербы в ящике под вербное воскресенье: руки не поднять — полная церква! Раскольников тьма, радуются, гомонят — видят, их сторона верх берет. Смекнул отец Спиридон, что, значит, как топор по воде плывет. А начетчик чешет, начетчик сыплет, — и из евангелия, и из апостола, и шут его знает из какой еще требухи! Вдруг это наш как вскричит, как замашет руками — стой, стой! Что ты, грит, зря книги святые тревожишь? С умом надо из них честь; чти их подряд, а не надергивай откуда пришлось: это тебе не хвост конский! Так я тебе что хошь докажу!
— Что ж ты мне докажешь? — это начетчик спрашивает. И гордо так, руки в боки упер — посрамил, думат, попа вчистую!
— Да все! Хошь по евангелию докажу, что ты сейчас удавиться бежать должон?
Удивились все.
— Я? — начетчик это фордыбачит: — а ну-ка, грит, попробуй?
Ухватил поп Спиридон евангелие, чик-чик листы, нашел место и чтет: — «пошед Иуда и удавися». — Потом чик-чик опять листами: перекинул их с полсотни назад да и чтет: — «И ты сделай такожде!» — Что тут сталось — и-и! смех, грохот: как быки ревели, ей-Богу! Начетчику рожу ровно фуксином облили; лопочет что-то, да уж чего тут лопотать! Он из церкви ходу… драть поскорей, а ему вслед кричат — торопись, торопись, брат, не опоздай, гляди, удавиться-то!
Никита залился смехом.
— Вот он каков отец Спиридон! А из себя мозгля, — дунь на него — перекувырнется.
Что может быть лучше езды на лошадях по необъятному простору русской земли?
Дант не знал еще железной дороги, иначе он непременно на ней объехал бы свой ад и чистилище!
В экипаже вы вольная птица, в вагоне вы раб. В купе вы входите с тем же чувством, как в узкий коридор, где по обоим сторонам привязаны бульдоги; пробираетесь бочком, садитесь с опаской да с оглядкой, — не укусил бы сосед. Лица у всех злые; для всякого вы враг, приближающийся к границам владения.
Совсем иное дело экипаж. Там вы один или с избранным вами попутчиком. Везде вас встречают приветливо. Вы где хотите обедаете и ужинаете. Вам не надо, давясь пирожком, выскакивать с ополоумевшим видом из буфета и лететь, держа котлету в руке, вслед за тронувшимся поездом. Спите без всякого опасения, что вам наступит на нос слезающий с верхней полки пассажир. Встаете с зорькою, дышите свежестью…
Дружно подхватывают с места кони; вьется, бежит под голубым небом на край света дорога; звенит, поет под дугой колокол, заливаются где-то жаворонки… Катятся по ржи зеленые волны, несутся за ними Бог весть куда думы… А воздух? пьян от него человек без вина, рад без радости!..
Мы въехали в село и в одном из закоулков остановились у закрытых ворот небольшого деревянного, крытого железом домика, четырьмя окошками глядевшего на улицу; он был обшит тесом и выкрашен в кирпичную краску.
Я слез с телеги и вошел в калитку; Никита направился вслед за мной, отворил ворота и стал вводить во двор лошадей: места, видимо, были ему знакомы хорошо.
На низеньком крылечке стоял в темном подряснике совсем маленький худенький священник с лукошком в руках. Жидкие волосы его и такая же борода казались пегими от чередовавшихся прядей седых и русых волос; на затылке у него торчал пучок из них, связанный обрывком белой тесемки. Около крыльца шевелящимся пестрым ковром теснилась огромная стая кур, уток, индеек. Священник словно сеял на нее овес, и пернатое население как град стучало кругом него по земле клювами. Сбоку, прижавшись спинами к тому же крыльцу, сидели на корточках четверо растрепанных, белоголовых ребятишек; старшему было лет восемь, младшему года три. Они раскачивались как маятники и пели, подражая колокольному трезвону.
…«Денег дай!.. денег дай!..» — будто большие колокола гудели басы-малыши, раздув шеи и румяные щеки. Вид у всех был необыкновенно серьезный.
— Цыц, вы!.. — прикрикнул на ребят священник. Он вытряхнул на спины птице остатки зерен из лукошка и сделал несколько шагов мне навстречу. На меня вопросительно установились маленькие голубые глаза; лицо у него было старческое, заурядное.
Мы познакомились, и я сообщил о цели моего путешествия и заезда к нему.
— А пожалуйте в горницы, прошу покорно!.. — сказал о. Спиридон. Голосок у него оказался соответственный росту — слабый и жиденький.
Мы стали подыматься по ступенькам. Притихшие ребятишки задрали головенки, раскрыли рты и провожали меня недоумевающим взглядом.
— Сюда пожалуйте, в залец!.. — говорил священник, растворяя передо мною дверь из передней в небольшую комнату, почти половину которой занимал продавленный старый диван с обязательным овальным столом перед ним, покрытым в виде белой сетки плетеною скатертью.
— Садитесь, прошу покорно!.. чайку я сейчас велю нам подать… Машенька, а Машенька?.. — громко позвал он, вернувшись к двери.
— Здесь я!.. — отозвался из кухни сочный женский голос, и мне так и представилась стоящая среди своего царства обладательница его — грудастая, пышная попадья с руками по локоть в муке.
— Слышь-ка, чайку нам сострой?
— Сейчас!.. — приплыл звучный ответ.
— Дочка это моя!.. — с легкой, довольной улыбкой пояснил отец Спиридон, возвратившись ко мне и садясь в кресло. — Погостить с детишками приехала, балует меня… вдовый ведь я!.. Ну-с, так о чем же мы с вами речь поведем?
— Буду просить, батюшка, ваших указаний. Куда и к кому посоветуете мне направиться?
— Есть, есть здесь где побывать! — ответил священник. Езживали уж вы в наших краях или впервые?
— Впервые…
— А мужичка своего, Никиту, вы до меня только подрядили или поденно взяли?
— Поденно.
— Ну, так я ему накажу, куда вас везти: он мужик надежный, знает уезд. Первым делом Лбова купца надо вам посетить: он тут много у помещиков всякого добра поскупил — и книг, и чего хотите! А откудова сами вы припожаловали сюда?
— Из Петербурга. А к вам прямо от Дашковых.
— Знавали и раньше их?
— Нет. Анну Игнатьевну встречал несколько раз в Петербурге, а стариков не знал.
Дверь из кухни отворилась, и из нее, как с лотком, выступила с большущим подносом в руках старуха в темном платье. Чья-то белая полная рука, принадлежавшая, очевидно, неведомой мне Машеньке, протянулась из-за стены и затворила дверь. Старуха поздоровалась, поставила на стол поднос с чаем и вареньем и отвесила мне почти поясной поклон.
— Кушайте во здравие!.. — проговорила она и удалилась обратно, мягко шаркая стоптанными войлочными туфлями.
Хозяин придвинул ко мне стакан и вазочку с вареньем, и началось чаепитие и беседа.
— Много у вас в приходе раскольников? — задал я вопрос.
Отец Спиридон налил чай на блюдечко и отхлебнул с него.
— Много… — ответил он. — Наша губерния по расколу впереди всех стоит.
— Отчего так?
— Да глухая деревня, лесистая; скиты здесь со времен Никона повелись, постоянный притон расколу был. Читывали, вероятно, Мельникова-Печерского?.. хорошо описаны у него наши места!
— А вы, батюшка, не замечаете в народе упадка религиозности?
— Да ведь как на это дело посмотреть? — отозвался о. Спиридон. — Ежели с внешней стороны, — да, на убыль пошла религиозность: не ходит народ в церковь. Бабы — те еще держатся, а мужики редко когда заглядывают, старики разве… А ежели про суть самую говорить, так куды ж вере уйти из души человеческой? Она, что гнездо малиновки, — не видать только его в кустах! — Говорил о. Спиридон медленно, с чувствовавшейся легкой одышкой. В слабом голосе его нет-нет и прорывалась такая нотка, что казалось, будто где-то далеко-далеко, за ржами, то позванивает, то замирает колокольчик.
— Не во всяком кусте малиновка живет!.. — возразил я. — Пожалуй, на свете больше пустых кустов.
— Да вы о чем: о вере или об религиозности говорите?
— Разве вы их разделяете?
— Еще бы! большая разница между ними! Вера — часть самого человека, сердце души нашей: нету людей без нее! А религиозность — дар! Ну вот как бывает литераторский, художничий либо музыкантский. Не все ведь Бортянскими могут быть, так же не всякий может и Сергием Радонежским стать. А веруют все!
— Что вы, батюшка? Да разве мало мы знаем и видим кругом совершеннейших атеистов?
На лице о. Спиридона показалась улыбка; он покачал головой.
— Нету таких!.. — с глубоким убеждением произнес он. — Форсят они все, верьте мне старику! Так вам скажу: тот, кто клянет Господа, — тот в существе своем больше всех верит в него! Ежели Господь — пустое место, так о чем же тогда разговоры разговаривать. Стало быть, не пуста душа, а шевелится в тебе что-то, коли говоришь о нем! Без веры нельзя живым быть! Во всяком человеке она, что уголек под пеплом, теплится. Снаружи глядеть — все погасло будто. А дунь — и вспыхнет огонек. Умеючи дунуть только надо! Нет человека без такого уголька… вот хоть вы, извините меня…
О. Спиридон осторожно дотронулся концами пальцев до моей руки: — Вы атеистом себя считаете, или нет?
— Не знаю, батюшка… — откровенно сознался я. — И верить я не могу, и не верить тоже не приходится!
Священник тихо засмеялся.
— Ну вот, вот, вот!.. начитались Штраусов да Бюхнеров[37] и не стало в вас религиозности, да и не дана она вам была, может быть! Но с верой не путайте ее: от себя самого никуда не уйдете! Верой наша душа светится! Мережковского с Философовым не знавали вы в Петербурге?
Мой собеседник поражал меня все больше и больше: захолустный попик-простец вырастал в глубокого и своеобразного философа.
— Нет… — отозвался я. — А почему вы о них спросили?
— Да как же: богоискатели ведь, богостроители… вот и вы, подумал я, тоже, может быть, ищете Бога!.. — Он опять засмеялся детским, светлым смешком.
— Ищут Бога, а со стороны глядишь, и знаете что видится? занавесили люди Господа простыней да и шарят по горнице, притворяются, будто не видят его: в жмурки играют. А он — вот он, на виду сидит и искать его нечего!
— Я, по крайней мере, его не вижу…
— Так… стало быть, если мы чего-нибудь не видим, оно, значит, не существует?
— Нет, конечно. Есть какая-то величайшая сила вне нас — это я знаю и в это верю. Но в Бога Иегову-Израиля — извините, нет!
— Ну, вот, вот, вот!.. — сказал, весь сияя, о. Спиридон. — Путь-то богословов и скрестился с вашим, с путем науки. И на перекрестке — Бог. И вы в него веруете, и мы, и не можем не веровать: мы часть его самого! Стало быть, дело-то все в звуке в пустом — в имени, какое мы даем ему! Вот хоть бы к нам с вами приложить — пусть нас кличут одни Сидором, другие Петром, третьи Иваном — разве мы с вами от этого в своем естестве изменимся?
— А как вы к ученью Толстого и Дашкова относитесь?
О. Спиридон помолчал.
— Не их ума это дело!.. — проговорил он.
— Толстой не умный человек, по-вашему? — воскликнул я.
— А так!.. — подтвердил священник. — Толстой как зверь, чутьем силен, не разумом. Где у него не ум одолевал, а чутье, — там рукой не достать его; а где он филозоф — там он в вершочек… махонький. А Дашков — что же… говорить-то о нем надо как о пустом месте!
— Значит, вы не одобряете отлучение Толстого от церкви Синодом?
Старик опустил на минуту голову, потом поднял ее и глянул мне прямо в глаза.
— Религиозность — дар!.. — повторил он. — Как же осуждать человека за то, что ему не дадено!
Дверь в переднюю приотворилась, и из-за порога выставилась головенка стоявшего на четвереньках самого меньшого карапуза. Волосы у него были подняты дыбом, измазанная рожица имела испуганно-напряженное выражение, глаза вытаращились, брови забрались на середину лба. За ним виднелись выпихнувшие его вперед остальные трое братьев, усевшиеся в виде Будд полукругом.
— Денег дай… денег дай… — оторопело выговорил бутуз сиплым баском.
— Дай-дай-дай!!. — густо зазвонили и закачались в передней Будды.
О. Спиридон быстро обернулся к ним.
— Кшить вы, разбойники! — произнес он. — Нет вам денег!
— Денег нет… — пятясь раком, повторил малыш, не изменяя выражения своей рожицы.
— Денег нет — денег нет!!! — подхватили вперебой два звонких голосенка.
— Денег дай — денег дай!!! — загудел басовой колокол. Концерт получился, совсем как на колокольне под большой праздник.
И вдруг все разом смолкло; трое старших певцов исчезло во мгновение ока, и в ту же секунду две белые руки подхватили стоявшего на четвереньках неповоротливого малыша, перевернули его в воздухе, быстро и звонко отшлепали по месту, противоположному голове, и исчезли с добычей, задрыгавшей ногами и руками.
— Ярмарка завтра у нас в селе! — пояснил, посмеиваясь глазами, старик, — вот и пристают внучата-озорники!..
Поднялся и я и стал прощаться.
— А может, церковь нашу желаете посмотреть? — сказал о. Спиридон. — Старинная она, XV века…
Я с удовольствием согласился. О. Спиридон взял с приткнувшегося у стены ломберного столика выцветшую скуфеечку и насунул ее почти на брови. Мы вышли на двор.
Никита с кнутом в руке стоял и внимательно рассматривал пару огромных кохинхинских кур; лошади лениво жевали сено. Увидав нас, Никита сунул кнут в телегу и стал сгребать корм.
— Тут близенько, пешочком дойдем… — сказал священник. — Езжай к церкви, Никитушка!
Мы направились к калитке, миновали проулок и, загнув за угол, очутились у трактира. На открытом крыльце его, как на троне, восседало необычайных размеров бланманже в женском розовом платье. На темно-русой голове его, в виде короны, тугими жгутами были скручены косы; ниже, будто все увеличивавшиеся круги сыра, поставленные друг на друга, шли ярусы жира. Самый верхний круг был поставлен на ребро, и на нем надменно торчал вверх дубовый нос, свидетельствуя, что перед нами была владелица заведения.
На земле, у крыльца, в виде бело-розового бугра, в истоме раскинулась невероятных размеров свиньища; около нее стояло ведро с дымившейся, теплой водой и двое половых окунали в нее швабры и усердно мыли ими свинью. Та жмурилась от наслаждения, покачивала слюнявым ртом и роняла от полноты блаженства — «ох-ох».
— Хорошенько ее трите, хорошенько!.. — поощряла с крыльца владелица. Лицо ее тоже отражало полное удовольствие, и мне бросилось в глаза необыкновенное родственное сходство между этими двумя кузинами — лежавшею и сидевшею. Какая это была бы чудесная картина, если бы двое других половых принялись тут же на крыльце мыть швабрами и хозяйку!
— Свинку парите? — добродушно молвил священник, обходя сторонкою белую тушу.
— Доброго здоровья, отец Спиридон!.. — приветствовала его вместе с молодцами купчиха. — Любит она у нас помыться, балуем! И она нас побалует на Рождестве!
И сыры на крыльце стали подскакивать друг на друге от смеха.
Церковь открылась сейчас же за углом на небольшой площади.
За невысокой кирпичной оградой подымалась колокольня и низенькая, вросшая в землю церковка; ее увенчивали пять зеленых крохотных главок; маленькие окна были заделаны толстыми ржавыми решетками в виде многочисленных восьмерок. На карнизах и наличниках выступали скульптурные разноцветные украшения.
Мы вошли в ограду. По ту сторону колокольни к стене ее прилеплена была деревянная построечка, больше походившая на сарай; дощатая, чуть покатая крыша его почти сплошь, как бархатом, была затянута плотным густозеленым мохом. Единственное окошечко было открыто и уставлено гераньками; из-за них глядело молодое девичье лицо.
— Дома Наум? — спросил, подходя к окну, мой спутник.
— Здесь я, о. Спиридон, здесь!.. — отозвался из лачуги глухой голос. — Сию секундыю!..
Из двери выскочил, оправляя руками встрепанную, бурую бородку и такие же, связанные пучком волосы, маленький, как и настоятель, кривой на один глаз пожилой человек в сером балахоне. Лицо его было заспано; видимо, наш приход разбудил его.
Он торопливо сунулся под благословение к о. Спиридону, чмокнул его в руку и побежал к церкви, высвобождая огромный железный ключ из вывернувшегося дырявого кармана.
Мы вступили под граненые низкие своды, опиравшиеся на тяжелые четырехугольные столпы. С правой стороны сумерки были пронизаны наклоненными, дымно-золотыми полосами солнечных лучей; вверху и с левой стороны была почти ночь, и из него глядели неясные, но будто живые, суровые лица. Я бывал в величайших соборах мира — в России, в Англии, в Риме, в Испании и т. д. и всюду ощущал одно и то же: в них нет Бога, нет мистики. В них можно дивиться гению человека, можно учиться архитектуре, живописи, ваянию, истории, но молиться в них никак нельзя. Эти храмы в своем роде дворцы царей: цари не живут в раззолоченных парадных громадах-залах; они обитают где-то там, далеко позади, в куда меньших комнатах. И эти комнаты Бога — не соборы св. Петра или Павла, а древние русские церковки, припавшие к земле.
И для меня нет сомнения, что новейшие храмы, лишенные, как тело души, мистики и тайны, превратились только в музеи и понизили уровень религиозности людей.
О. Спиридон не мешал мне. Он показал несколько достопримечательностей и ушел с Наумом в алтарь, оставив меня одного бродить и думать…
Когда мы вышли из храма, Никита уже ждал с лошадьми у ворот ограды. О. Спиридон дал ему подробное наставление о дальнейшей поездке и простился со мной. Лошади резво подхватили с места, и едва успел я приподнять шляпу, как и о. Спиридон и стоявший с ним рядом Наум, глубокомысленно взиравший на меня единственным мутным оком, остались далеко позади и тотчас же скрылись за крайнею избою.
Колокол под дугой захлебнулся звоном; рыжая пара лихо понесла меня по улице мимо кланявшихся мужиков и баб и разинувших рты ребятишек, долго провожавших меня взглядом. За околицей сейчас же начался реденький сосенник; стволы его, будто красные свечи, вставали со всех сторон из совсем низенькой сплошной зелени еловой и березовой поросли.
II
Скоро стали показываться пески; лошади пошли тише.
Я заговорил с Никитой о Лбове, к которому мы держали путь.
— Купец башковитый!.. — ответил Никита. — Этот на воде обожгет. А вот гляди ж, что с человеком бывает: на бабе и сам обжегся!
— Как?
— А так… жену с происхождением взял!
— То есть как с происхождением?
— Да на дворянке женился. Вот она теперь и вывертывает верты, мудрует над ним. Коль бы ему из плетня выдернуть, да с плеча поучить ее раза два — дурь-то бы как рукой сняло! А он что дурачок при ней: слюной исходит!
— Что ж, приданое большое, что ли, взял за ней?
— При-да-ное?.. — пренебрежительно протянул Никита. — Кошку серую принесла ему, а больше не слыхать что-то было… И добро бы еще собой хороша была, а то ведь шкилет чистый, ей-Богу! Идет — костьми гремит!
— А собственной земли у него много?
— Земли, окромя как под усадьбой, нету. Про Воронцовку слыхали?
— Нет.
— При станции она. Местность важнеющая: одних купцов, по гильдии которые, человек семь живет! Вот и Лбова там дом!
— А скоро до него доберемся?
Никита повел глазами на солнце.
— Да как сказать — песок тут одолел очень!.. Часика через два, надо быть, дотянемся!..
Дорога, действительно, делалась все тяжелее. Начались бугры; желтый, а местами совсем белый песок глубоко всасывал колеса, и рыжие с напряжением тащили телегу.
Никита соскочил с нее и зашагал рядом. Я вылез тоже и пошел сбоку по утоптанной тропочке. Сосны становились выше, начался настоящий бор, редкий, но мощный; еще не разомлевшие как следует от тепла деревья почти не давали аромата.
Мы спустились в неглубокий, но круглый овраг, заросший орешником. По дну его пробирался ручеек, через воду был перекинут жиденький мостик, весь запрыгавший, будто клавиши, под копытами лошадей.
— Самое это разбойное место в старые годы было!.. — промолвил Никита, указывая кнутом на овраг. — Что тут всякого добра у проезжих посрезано!..
— И убийства случались?
— Всего бывало!.. Года два тому берег вон там осыпался, кости человеческие из него выпали, а пастухи и нашли их. Голова, черепок костяной то есть, весь как есть расшиблен был: видать кистенем хватили. И чудно: волосы в сохранности оказались, рыжие, как огонь были! Да от портков все низы уцелели — и ни комара больше, даже креста нательного не было; дочиста, надо полагать, обобрали беднягу!
— И что же сделали с находкой? Приезжала полиция?
— А как же? без этого не полагается! Начальство приезжало, смотрело, дохтур был, исправник; потом опять закопать велели: за незапамятность, значит, происшествия на волю Божию положили. Лет за пятьдесят, сказывали, убийство приключилось — эва когда!
— Где же закопали кости?
— А тут же хотели, в овраге, да отец Спиридон не дозволил. На кладбище похоронил!
— Почему? А вдруг убитый-то татарин был?
— Вот так-то и исправник рассуждение имел. А отец Спиридон восстал: Бог-то, — спросил, — нешто не один для всех? Он и разберет, кто какой веры! Что, мол, лучше: татарина отпеть или православного как собаку зарыть? Исправник и так и сяк, да нет: с шила у отца Спиридона не соскочишь!
— А по-твоему, прав был отец Спиридон?
— Его правда, его! Отчего ж татарина не отпеть? от этого ему одно удовольствие. Крестют же их, так почему и не похоронить! Очень тогда мир отца Спиридона одобрил!
— Почему?
— А потому на своем поставил! Хоть ты и полиция, а мимо его дел проезжай сторонкою! А второе — нечисти не допустил завестись в округе!
— Какой нечисти?
— А как же? Нетто неотпетый-то человек будет смирно лежать? Тут бы ни проходу, ни проезду не стало по ночам людям!
— Почему же до находки убитого ничего подобного не случалось?
— Да кто ж его знает, случалось ли, нет ли?.. сказывают люди, что бывало…
— Что же именно?
— Мало ли что!.. страсти разные чудились… вой, опять же, слыхали!
— И ты веришь в такие сплетки? Ведь их бабы плетут от нечего делать!
— Да оно что говорить… но, одначе, не все бабы выдумывают: кое дело и вправду приключается!..
— А например?
Никита помолчал и глянул по сторонам. Лес делался гуще; пески понемногу сменялись суглинком; стали попадаться шатровые ели. Безмолвие нарушал только дятел, где-то крепко и четко стучавший носом.
— Всяко бывает!.. — повторил Никита. — Опять же в писанье про нечистую силу сказывается: стало быть, есть она! Да вот недалече ходить, — добавил он, — будете в Воронцовке, сами увидите; дом проклятой там есть!
— Кем проклятой?
— А кто ж его знает? Ну только жить в нем нет возможности. Так заколоченный и стоит!
— Почему?
— Нечисть в нем, от этого! Днем еще ничего, всякий входи и выходи слободно, ну а ночью не дай Господи! В нем свет, в нем голоса, в нем крики! камнями пуляют, палками, чем ни попадя! А людей нет никого — ни комара, сказать!
— Ну, что ты за басни рассказываешь?
— Истинную правду говорю: зря-то ведь дом крысам не бросят! Вот ужо приедем, поспрошайте у других — то же вам скажут!
Долгий свисток паровоза вдруг нарушил тишину; лес весь наполнился гулом идущего поезда.
— Пассажирский, должно!.. — проронил, прислушиваясь, Никита. — Воронцовка рядом совсем! Ну-ка, вы, милыя?.. — Он взялся за свободно висевшие вожжи и подбодрил лошадей. Опять трелью залился колокольчик, замелькали мимо сосны. Мы быстро миновали остаток леса и застучали колесами по выстланной щебенкою коротенькой улице, сейчас же разворачивавшей, как рога, линии своих домов и превращавшейся в небольшую площадь, пыльную и усеянную остатками сена и конского навоза. По другую сторону ее, прямо против улицы, белел небольшой домик станции.
Никита свернул с улицы влево и въехал в ворота двухэтажного, выкрашенного в темно-желтую краску деревянного дома.
Нас встретило гоготом целое стадо гусей; на просторном дворе бродили куры, на куче мусора спала старая черная шавка. Она вынула из-под живота поседевшую морду, подняла ее кверху, хрипло пролаяла раза три и, исполнив свои обязанности, опять сунула нос под брюхо.
На стук телеги на крыльцо высыпала целая куча людей; впереди стояли два босых, совсем молодых парня в красных, кумачовых рубахах; из-за них выглядывали три юных, румяных женских лица; позади всех, опершись толстыми руками на чьи-то плечи, тянулась, став на цыпочки, не дошедшая ростом, зато взявшая другими двумя измерениями стряпка. На всех лицах изображалось любопытство.
Никита приподнял шапку.
— Здравствуйте! — произнес он, остановив лошадей у крыльца. — Дома хозяин, что ль?
— Дома, дома!!! — отозвалось шесть голосов.
— А по какому делу надо его? — спросил один из парней.
— А про то хозяину спрашивать, не тебе!.. — сурово ответил Никита. — Поди доложись, барин, мол, из Петенбурха приехал!
— Из Петербурга?!.. — радостно воскликнул где-то в воздухе женский голос.
Я поднял глаза и увидал выставившуюся чуть не до пояса из окна второго этажа даму в высокой необычайной прическе из одних черных кудерьков, делавшей ее похожей на пуделя. Кудерьки колечками падали ей на лоб и на щеки; среди них шильцем торчал напудренный красный носик.
— Беги, беги, Сенька!!! — заговорили на крыльце, подталкивая парня с разных сторон. — Пожалуйте, барин, в горницы!..
Сенька бессмысленно поглядел вокруг, потом на чернявую даму и вдруг стремглав бросился к двери.
Я выбрался из телеги и поднялся на крыльцо. Никита отъехал под навес и стал там привязывать лошадей.
— Пожалуйте!.. пожалуйте!.. — засуетились на крыльце, давая мне дорогу.
Я двинулся было вперед, но стряпка вдруг раскинула обе руки, словно желая принять меня в объятия, и перегородила вход.
— Куда ж вы, черти невежливые, барина-то через куфню ведете? — воскликнула она.
Все спохватились, заахали и вперебой стали просить меня перейти на соседнее крыльцо. Пришлось покориться, и только что я ступил на него — из «паратной» быстро вышел хозяин — еще молодой человек лет тридцати в черном сюртуке и грязноватой ночной рубашке без воротничка; на ней посвечивала медная запонка. Вид у него был деловитый; карие глаза смотрели внимательно и умно.
Мы поздоровались и познакомились; я сообщил хозяину о цели своего приезда. Дама в кудерьках высунулась из окна до такой степени, что угрожала ежесекундно вылететь в виде птицы, и, наклонив ухо, старалась расслушать, что мы говорили. Все кухонное население столпилось у края своего крыльца и жадно внимало тоже. Даже старую шавку разобрало любопытство, и она приковыляла к нам и села у ступеньки, жмуря полуслепые глаза и сочувственно постукивая хвостом.
Со второго этажа слышно нас было, по-видимому, плохо; дама нервничала, направляла на нас то одно, то другое ухо, наконец, не выдержала и закричала: Мишель, да проси же в дом! что ты на дворе разговариваешь?! Лбов встрепенулся.
— А милости просим, пожалуйте, в самом деле, в дом! — произнес он.
Через переднюю, увешанную вместо пальто всякими юбками и кофтами, мы вошли по посконному коврику-дорожке в «залу», два окна которой выходили на площадь; хозяин предложил мне сесть, а сам исчез — вероятно, делать доклад обо мне жене.
Я полюбовался двумя тощими олеандрами, торчавшими в кадках у окон и имевшими вид хлыстов, обозрел украшавшие стены открытки и писанный красками портрет какого-то военного, — ни дать ни взять майора из «Сватовства» Федотова, — и только что хотел сесть — из соседней комнаты выступила, еще издалека протягивая мне длинную высоко поднятую руку, как бы жалуя ею, высокая, худощавая дама в кудерьках. Щеки и нос ее были только что вновь припудрены, глаза подведены.
Лбов шел за нею. На шее его уже красовался белый воротничок, из рукавов виднелись манжеты. Он то и дело как бы высвобождал из них то голову, то руки, свидетельствуя этим, что городской убор для него не совсем привычен.
— Как я рада, вы из Петербурга?.. здравствуйте!.. — скороговоркой понеслась хозяйка. — Садитесь, я ведь тоже петербургская!.. Ну, что у нас там делается?!
Я пожал костлявую руку и сел в кресло; хозяйка опустилась на диван.
— Все по-прежнему!.. — ответил я. — Суета, суматоха, театров развелось, что грибов…
Хозяйка всплеснула руками.
— Ах, ах!!! Слышишь, Мишель? — обратилась она к мужу, стоявшему за одним из кресел и опиравшемуся на его спинку руками. — Я говорила тебе? В этом теперь вся жизнь! Непременно, непременно у нас спектакль устроим!
Мишель постукивал пальцами и кивал головою.
— Надолго вы в здешние края приехали? — продолжала хозяйка.
— Нет!.. я по небольшому делу к вам!!. — поспешил я прекратить попытки заговорить о «нашем» Петербурге. — Я слышал, что у вас скопилось много книг из разных помещичьих библиотек?
— Есть!.. — ответил Лбов.
— Ах, ничего в них интересного нет! — вмешались кудерьки. — Все лучшее я взяла себе — Эжен Сю, Конан-Дойля…
— Разрешите мне посмотреть? — обратился я к хозяину.
— А пожалуйста!
— Нет, нет, нет!.. — запротестовала хозяйка, — сперва выпьем чайку, поговорим о нашем милом Петербурге, а книги эти потом!..
Я встал.
— Нет, уж позвольте сперва заняться книгами: позже будет темно!
— Верно!.. — поддержал меня хозяин.
Кудерьки поджали губки и надулись.
— Ну, идите, идите!.. — недовольно произнесла она тоном обиженного ребенка. — Вы упрямый и злой…
— После визита к книгам я бываю добрее!.. — отшутился я.
— Смотрите, скорее возвращайтесь, — только с этим условием я вас и отпускаю! — произнесла она нам вслед, — наглотаетесь там пыли и перепачкаетесь — вот и все, чем вы будете вознаграждены за ваше непослушание!
Мы вышли на двор и стали пересекать его; хозяин вел меня к длинному кирпичному амбару, находившемуся против дома. Все обитатели последнего, начиная с хозяйки, высунулись; кто из двери, кто из окон и наблюдали за каждым нашим движением.
— Во многих имениях скупили вы библиотеки? — осведомился я.
— Библиотеки? — удивился хозяин. — Да я их не скупал совсем!
— Как же они у вас очутились?
— Имения я покупал, а не книжки… в старинных поместьях ведь они везде важивались!.. в придачу и шли. А потом к себе свозил сюда помаленьку.
— Самые имения, значит, перепродавали?
— Да что ж с ними больше делать? Хозяйство нонче хлеба не даст. Да и разоренные больше имения приходилось брать. Поустроишь его, приведешь в вид — и с рук долой! Хлопот с ними много!
— Какие же особенные хлопоты?
— А как же? Иной раз к строенью-то и подойти нельзя, не только что жить в нем: почешись об него — все завалится! Опять же парки разные в старые годы любили разводить; у иного помещика, глядишь, всего полтораста десятин осталось еще не проеденных, а под парком гуляет сорок. И это, значит, образумить надо: вырубить да выкорчевать!
— А почему же не оставить?
— Да кто же нынче с такой дебрей купит? — возразил Лбов. — Ни тебе лес, ни тебе поле — лешего только тешить! Чтоб под гулянки себе по сорок десятин отводить — на это бальшие капиталы надо иметь, не нонешние!
Мы остановились у спуска в подвал, и хозяин указал мне пальцем на низенькую, приоткрытую дверь.
— Тут… — проговорил он.
Вниз вели четыре каменные ступени. Я спустился по ним первый и очутился в низком, но довольно большом сводчатом каземате. Два маленьких квадратных окошка, заделанных железными решетками, пропускали слабый свет. От пола и приблизительно до высоты моих плеч весь подвал, как кирпичами, был наполнен плотно сложенными книгами всяких форматов, главным образом в старинных кожаных переплетах. У стен груды их достигали до потолка; между ними, посередине, имелся проход. Нас обдало банным воздухом; пол по крайней мере на палец был покрыт слякотью.
Против двери валялось десятка два томов с оторванными переплетами и со всклокоченными остатками страниц.
— Это что же такое? — спросил я.
Лбов равнодушно сплюнул в сторону.
— На цигарки рабочие берут!.. — ответил он, как о самом обычном деле.
— Я бы хотел пересмотреть их все… как это устроить?.. — проговорил я.
Лбов вопросительно глянул на меня.
— Да где ж тут в них рыться? Берите гуртом, все сразу. Мне, кстати, и подвал очистить требуется!
— Куда мне они все? Я ведь не торгую ими. А сколько бы вы хотели за все?
Лбов измерил глазами подвал.
— Тут их пятнадцать тысяч… по гривенничку на круг… за трех Петров желаете[38]? Дешевле грибов!
— Некуда мне с ними деваться! И пятнадцать тысяч томов здесь не будет — тысяч пять, не более!
— Пущай по-вашему — пять! Вы объясните вашу цену?
— Не могу! Наконец и провоз до Петербурга станет дорого!
— Что вы?! даром обойдется: книжки теперь ни по чем железная дорога возит, только посылайте! За тысячу бумажек угодно взять?
— Позвольте, да ведь это же не дрова! разве можно их не рассмотрев покупать? Может быть из них ни одна не нужна мне?
— Это из пяти-то тысяч? что вы, помилуйте! Да тут на всякого любителя товар сыщется: и с картинками, и длинные, и маленькие!.. Вот пожалуйте?..
Лбов взял первую приглянувшуюся ему книгу, поколотил ее об угол двери, чтобы выбить из нее пыль, и подал мне.
— Извольте, первый сорт: одной этой книжкой человека пришибить можно!
Кирпич оказался «Историей» князя Щербатова[39]. Я развернул несколько ближайших книг — попались «Ежемесячные Сочинения» 1758 г[40]. Лбов взял еще один том, опять шлепнул им об дверь, раскрыл и, шевеля губами, что-то прочел про себя.
— А вот вам и дамская!.. — он поднес книгу к носу и понюхал — с запахом! Говорю — берите все; самые замечательные найдете!
Он протянул мне свою находку: то был Дамский журнал, издававшийся почти сто лет тому назад князем Шаликовым[41].
— Не могу!.. — повторил я.
— Как вы питерский, — из-за дальности расстояния скидку вам сделаю: семьсот целковых! В убыток себе продаю, верьте совести!
— Да ведь вы говорили, что в придачу, даром их получили?
— Ну да как же даром, помилуйте? за имения-то я ведь чистые денежки на бочку выкладывал! Последнее мое слово — пятьсот!
Лбов сделал решительный жест рукой.
Искушение закрадывалось в мою душу все глубже и глубже. Разборка подвала требовала по крайней мере двух суток и помощи стольких же людей. Покупка огулом особого риска не представляла: то, что могло оказаться разрозненным, или ненужным — у меня немедленно расхватали бы букинисты…
— Ну, так и быть! — тоже твердо сказал я. — Сто целковых хотите?
— О, Господи!!! — Лбов даже отшатнулся от меня. — Да ведь тут одной бумаги пудов триста?!
— По двугривенному за пуд — шестьдесят рублей… — докончил я за него. — А я вам даю больше!
— Вот что: триста и по рукам будем бить! — Лбов размахнулся под самый свод правой рукой и, растопырив пальцы, держал ее в воздухе.
— Полтораста!
— Двести пятьдесят!
— Ни гроша больше!
— Сейчас умереть — не могу!
— Бог даст выживете! Полтораста!
— Да накиньте, Господи: жену-то как обрадуете! моды ведь тут есть всякие! Ни на журналы подписываться не будет: большую экономию сделаете!
— Вот что — распоследнее мое слов: двести!
— С четвертной!
— Полкопейки не накину!
— Э! пропадай нажитые! Владейте! — воскликнул Лбов и ладонь его треснулась об мою. Сделка была окончена.
— А теперь айда чай пить! — вдруг заторопился он. — Вспрыснуть сделочку нужно!
Я едва сдерживал радостное волнение. Купить за двести рублей тысяч пять томов, т. е. по четыре копейки за том — это удача редкая! У меня даже возникло опасение, как бы Лбов не раздумал, и я остановился у крыльца и передал ему деньги.
Лбов поставил ногу на ступеньку и пересчитал их.
— В аккурате! — заявил он, спрятав кредитки в большой, толстый бумажник и сунув его в карман. — Оченно вам благодарны! Он подал мне руку.
В оклеенной синими дешевыми обоями столовой уже кипел ведерный, давно не чищенный самовар. За столом кроме хозяйки сидели две гостьи, несомненно явившиеся поглазеть на невидаль — неизвестного проезжего. Обе были полные, обе круглолицые и походили друг на друга, как пара двухпудовых гирь.
Хозяйка с любезной улыбкой познакомила нас.
— Это мосье… — она запнулась.
— Минцлов!.. — подсказал я.
— Ну да, из Петербурга! А это соседки наши — Марья Мироновна и Арина Фоминишна.
Тумбы привстали, поклонились гладко причесанными головами, сунули мне словно одеревенелые руки и опять сели. Мы с хозяином расположились около них.
— А нам бы закусочки?.. — просительно обратился Лбов к жене. — Сделочку нам надо оформить!
— Покричи в окно, — отозвалась та.
Лбов подошел к окну и выглянул наружу.
— Софья?!. Агаша-а?! — разнеслось по всему двору.
— Чево вам? — отозвался снизу женский голос.
— Тащи селедочку, да колбасы московской! Да стой, полудурья, куды сорвалась. Балычка с икоркой захвати, грибков! Водочки-то, водочки графинчик!! — прокричал Лбов всем горлом и высунулся из окна до пояса.
— Эдакая анафема!.. — проговорил он, возвращаясь к столу, — никогда терпенья у ей нет, чтоб до конца дослушать!
— Ну, расскажите, расскажите о нашем Петербурге, — начала хозяйка. — Я так его обожаю! Вы Семена Петровича Бохрева знаете?
— Нет. А кто он такой?
— Мой крестный. Ну как же так? Очень видный человек.
В столовую, толкнув дверь большим подносом, вошла румяная девушка с веселыми карими глазами.
— Сюда, сюда ставь! — распорядился Лбов, указывая на свободное место среди стола.
Девушка подняла поднос выше и стала опускать его прямо через голову моей соседки. Как это приключилось, я не успел заметить, только поднос накренился и на стол, как салазки с ледяной горки, одна за другой начали съезжать и перекувыркиваться тарелки с закусками.
— Агашка!.. дура?!. — визгнула хозяйка, тряся в воздухе, словно обжегшись, всеми десятью пальцами.
Виновница катастрофы обомлела, побледнела и, раскрыв рот, еще более наклонила поднос. По столу заскакали тарелки, запрыгали грибы… хозяин успел подхватить на лету только графин с водкой.
— Свинья ты опосля всего этого, и ничего больше!!! — с негодованием заявил Лбов, вылавливая пальцами со своих брюк скользкие грибы и складывая их опять на тарелку.
Гостьи и хозяйка повскочили с мест и принялись приводить все в порядок. Агаша, пылавшая что закат перед ветром, стояла у стены, прижав к груди поднос.
— Не огорчайтесь, милая Елена Марковна, не волнуйтесь!! — утешали огорченную хозяйку гостьи, сбирая перстами на тарелки кусочки селедки, колбас и все прочее. — У вас еще на скатерть, слава Богу, все вывалили, и такое, можно сказать, все необидное. А вон у Марфы Даниловны щей горячих покупателю на плешь налила этакая же вот дуреха — это уже похуже!
Живописный винегрет был наконец убран со скатерти, превратившейся из белой в мраморную разных цветов, осколки разбитых тарелок удалили, закуски классифицировали и разместили по-прежнему. Меня пучило от смеха, но приходилось делать серьезный вид. Агаша постояла, постояла и вдруг опрометью бросилась из комнаты.
— Угощайтесь, прошу покорно!.. — произнес хозяин, придвигая ко мне груду селедочных кусков. — Грибков отведайте; очень хороши! Ах, идол-девка, что сделала! — Он налил водку в пять рюмок и расставил их перед каждым из присутствовавших.
— За ваше здоровьице!.. С покупкой! — он взял свою рюмку и позвонил ножкой ее во все остальные.
— Да чтой-то вы придумали? — запротестовала моя соседка Арина Фоминишна. — Мы чай уже пили!
— Чай в животе посторонится! — возразил хозяин. — А отказываться вам не приходится: гостя нашего обидите!
Марья Мироновна не протестовала, а, поджав губы сердечком, раза три повела из стороны в сторону тройным подбородком и воздохнула.
— Что уж с вами поделаешь, — произнесла она, берясь за рюмку. — Вы у нас уговорщик известный!
Все по-мужски, дружно опрокинули рюмки и принялись закусывать.
— А вы нас, сударь, не осудите, — молвила, наклонясь слегка ко мне, соседка, — здесь не Петербург, здесь дамы все пьют, не одни мы, грешные!
— Ах, в Петербурге все дамы пьют! — воскликнула хозяйка.
— Кокнем поэтому по второй! — сказал хозяин, наливая водку.
Гостьи прикрыли ладонями свои рюмки.
— Уж это нет! — заявили они. — Будет и по одной!
— Да Господь с вами! — ужаснулся Лбов. — Что же вы, охрометь что ли желаете? Кто же об одной ноге ходит! Нет, уж будьте любезны, не нарушайте компанию!
Марья Мироновна отняла руку и покачала подбородком: в глазах ее блестел лукавый огонек:
— Ну, что ты тут будешь делать! — нараспев протянула она. — Опять ведь уговорил: такой уж у меня характер бесхарактерный!
Закусив и выпив стакан чаю, я поспешил на двор; двое хозяйских молодцов и Никита принялись вытаскивать из подвала книги и сваливать их на траву. Из кухни принесли мне табурет, и я начал просматривать том за томом, день был безоблачный, и этой операцией я мог заниматься под открытым небом без всякого риска.
Хозяин постоял около меня, потом засунул руки в карманы и, насвистывая сквозь зубы, обошел раза два вокруг все выраставших куч книг и удалился обратно.
Я быстро пересматривал свое приобретение и интересные книги откладывал особо; отдельными рядами, корешками вверх, выстраивались журналы и многотомные сочинения для проверки комплектов.
Стали часто попадаться экземпляры с настолько истлевшими листами, что, как только я разворачивал книгу, — из нее сыпалась труха. Я отбрасывал такие в сторону, и число их росло все больше и больше. Труха усыпала землю у моих ног, будто снег. Скоро каждая охапка, вынесенная из подвала, стала оказываться сплошным гнильем.
— Тамотка прель одна, и носить не стоит! — заявил Никита, подойдя ко мне. — Неужели за этот навоз деньги платить станете?
— Уж заплатил!.. — ответил я. Радостное настроение от счастливой покупки исчезло без следа.
— Много ли дали?
— Двести рублей.
Никита недоверчиво поглядел на меня. — Да вы вправду, что ль?
— Вправду.
— Ло-овко!.. — протянул мой спутник. — Дали бы трешку, либо пятишницу — и то бы ему кувыркаться надо было от радости! Эка, какое дело вышло!
Не отвечая Никите, я поспешил в подвал. Осмотр оставшейся большей половины книг окончательно угасил зародившееся было во мне самомнение о моих коммерческих способностях: вся масса книг оказалась слипшеюся, и при отдирании одной от другой расползались не только листы, но даже кожа переплетов. Спасти что-либо из этого гнилого, пропитанного насквозь водой пласта нечего было и думать.
Я остановил очистку подвала и вернулся к вынесенным ранее книгам. Неиспорченных оказалось всего 6775. Около пятисот из них были журналы; как я ни рылся в них, но неразрозненных комплектов подобрать не мог: в каждом году не хватало одной — двух, а то и более книг. Убедившись в этом, я бросил разборку журналов и перешел к другим книгам.
Из дома показался и направился ко мне хозяин.
— Ну, как дела? — весело произнес он, подойдя ко мне.
— Очень скверно!.. — отозвался я. — Весь ваш подвал одно сплошное гнилье!
— Да ну? — удивился он. — Скажите пожалуйста, какая неприятность! И шибко попрело?
Я молча взял за край переплета один из огромных томов и потряс его; из него, как из лукошка овес, посыпались кусочки листов.
— Ах какая штука-то?! не подвезло вам! — Лбов с соболезнующим видом покачал головою. — Всегда смотреть наперед надо! — в голосе его послышался даже укор мне.
Я опешил от такого оборота дела.
— Мне кажется, мое смотренье здесь ни при чем! — возразил я. — А вот вам такого добра продавать бы не следовало!
— Почему? — опять удивился Лбов. — Отчего же не продать? Да я все продам, — он обвел рукой всю усадьбу, — покупайте, что хотите!
— Да ведь я-то у вас книги покупал, а не труху?
— Ну вот вам, здравствуйте! Я-то почем знаю, что вам требовалось: и труху берут люди! Весь подвал покупали, на счастье, а там кто ж его знал, что у него внутрях; нам это ни к чему!
Оба малых и мой возница стояли неподалеку и внимательно слушали наше пререкание. Ничего не ответив Лбову, я подозвал Никиту и велел ему связывать и сносить в телегу только то, что было особо отделено мною — книг около двухсот: это было все, что стоило взять с собою.
— Сенька, веревочек тащи, живо! — скомандовал Лбов одному из подростков, и тот бегом пустился к дому.
— Книжки хорошие! — продолжал хозяин, развернув одну из них. Его, как мукой, обдало трухою, но это обстоятельство ничуть не смутило его спокойствия. — Книги первый сорт!.. — продолжал он, будто и не замечая ничего. — А эти не возьмете, что ль? — он указал пальцем на журналы и на груды испорченных.
Нет.
— Напрасно бракуете: в доме-то оно все, знаете ли, пригодится! Опять же и книжки, будем так говорить, совсем непорченые!
— Совершенно верно… очень хорошие! — отозвался я.
— Да уж верьте совести! Не так вы поступили, вот они и сыплются. Ведь ежели хоть человека, скажем, подмочить, что за вид у него будет? а ведь это же бумага! Бережненько надо было их из подвалу выносить, на солнышке просушивать, вот и шабаш, и окрепла бы, еще бы сто лет прослужила!
Шпагат был принесен, и мы принялись за увязку; Лбов, засунув руки в карманы, ходил кругом и поощрял и поучал двух своих парней, как надо обращаться с книгами. Наконец все было окончено; Никита подъехал с телегой, и мое приобретение было взгромождено на нее.
— Дорогая покупочка!.. — заметил я. — Ну-с, благодарю вас за выучку! — Я прикоснулся к шляпе и, не подав руки Лбову, стал влезать в телегу.
— Не на чем-с!.. Вы не обижайтесь — дело коммерческое. А насчет дороговизны тоже напрасно: дорогие книги не по подвалам, а особо стоят!..
Я снял с облучка уже занесенную на него ногу.
— Дорогие? Какие?
— Да разные имеются. Не пожелаете ли взглянуть?
— Покажите!
Лбов вытащил из кармана ключ и вернулся вместе со мной к амбару. Мы поднялись на крыльцо, он отомкнул большой висячий замок и отворил дверь. Мы попали в пустое помещение; множество овса, рассыпанного на деревянном полу, свидетельствовало, что в нем хранились кули с зерном. У противоположной стены, близ небольшого, высоко пробитого окна, стояла довольно порядочных размеров полка, сплошь набитая книгами, главным образом в старинных переплетах.
Я начал пересмотр их. Передо мной проходили церковные, старопечатные книги, Петровские издания и, наконец, весьма редкие книги по расколу середины XIX века.
— Это вы тоже огулом продаете? — небрежно спросил я, указывая на всю полку.
— Что вы! Да нешто это картошка?! — ответил Лбов. — Тут что ни книжка, то, можно сказать, золото. В подвале, конечно, всякий хлам складывался, а здесь все отборное!
Старопечатные и петровские книги меня интересуют мало, но, имея дело с таким жохом, как Лбов, заговорить прямо о том, что хотелось приобрести, было нельзя. Я стал прицениваться к петровским изданиям, которые покупать не собирался.
Лбов не моргнув глазом заломил цены, не слыханные даже питерскими антикварами.
— Да, дороговато!.. — протянул наконец я. — Видно ничего больше купить у вас не придется… разве что-нибудь из дешевенького? — Я снял с полки редкие книги.
— Ну, а за эти сколько возьмете?
Лбов взял их у меня из рук, и по одному тому, что он стал вникать в заглавия, я увидал, что в книжном деле он бредет наобум и руководствуется только годом издания.
— За этот пяток? — он закрыл книги и поглядел на корешок переплетов. — Четвертной билет! — решительно объявил он.
Я отмахнулся рукой: — Полноте! Пять целковых — это так.
Лбов принялся ставить книги на прежнее место: — Пущай стоят!..
Я смотрел на другой конец полки с самым равнодушным видом.
— Ваше дело!.. ну, до свидания, когда так!..
— Всего доброго…
Я направился к двери.
— За две красненьких можете получить! — произнес позади меня Лбов.
Я остановился. — За красненькую — это еще туда-сюда! Ведь это по два рубля за книжку выходит!
— Да нипочем не достанете их нигде! Давно все пораспроданы! — он снял одну, раскрыл и щелкнул по дате. — Шестьдесят лет назад тому издано, где же ей в продаже быть? Опять же с рисуночками… берите, господин, за пятнадцать; ей-Богу, только за вашу симпатичность уважение делаю!
— То-то вы меня подвалом уважили!
— Да ведь помилуйте, на то коммерция! Ну, однако, чтобы вы не обижались — извольте: берите! только чтоб вам удовольствие сделать, отдаю!
Он достал намеченные мною пять томов и подал их мне. Я взял и стал тщательно перелистывать каждый.
— Уж будьте благонадежны: все словно сейчас отпечатаны! В подвале, оно, конечно, дух посперт чуть-чуть, вроде банного, книжки и порасстроились маленько, а здесь воздух вольный!.. Простор! — Лбов широко распахнул руками.
Я расплатился, подержал предупредительно протянутую мне хозяйскую руку и, крепко прижимая к себе новокупленные книги, поспешил к Никите.
Лбов вышел из амбара вслед за мною.
— Будьте знакомы! заезжайте опять!.. — сказал он, когда я уселся в телегу. — И окромя книг у меня разные оказии из вещей случаются. На днях барина одного надо будет выручить: покупочку у него сделаю!..
Никита зачмокал на лошадей, и телега тронулась.
Из окна второго этажа дома, этого наблюдательного поста хозяйки, высунулись и замахали две длинные руки: между ними чернели кудерьки. — До свиданья! до свиданья!.. — долетел до меня голос мадам Лбовой.
Я приподнял в ответ шляпу, и мы выехали на площадь.
III
Никита повернулся ко мне. — Куды ж мы сейчас, барин? К Раеву не поздновато ли будет?
Я глянул кругом и только тут заметил, что наступил уже вечер; дома отбрасывали сплошные, густые тени, небо сделалось совсем прозрачным; до заката солнца оставалось не больше какого-нибудь часа.
— А далеко до Раева?
— Далече. Разве к полночи поспеем!
— Это неудобно! — ответил я. — Если так, надо где-нибудь заночевать. Нет ли тут постоялого двора?
— Ну, как не быть: есть! То-то и я смекаю так, что лучше нам здесь пристать!
На одном из самых больших домов имелась огромная выцветшая вывеска. Надпись на ней гласила — «трактир». Ворота во двор его были распахнуты, и там виднелся навес и коновязь.
Мы свернули во двор, и через несколько минут я уже мылся в большом номере, оклеенном светло-зелеными вспузырившимися и полопавшимися обоями. Простенок между двумя окнами занимал серый, давно продавленный диван и два таких же кресла. У стен в виде ухабов стояли две железные кровати; на подушках были надеты розовые ситцевые наволочки далеко не первой чистоты. Было грязновато и душно; пахло табаком, въевшимся в стены и мебель.
Я заказал себе чаю и яичницу, распахнул окно, уселся около него на диване и занялся книгами.
Восклицание знакомого, слегка певучего голоса, донесшееся снаружи, заставило меня сперва прислушаться, а затем и выглянуть в окно. Номер мой находился во втором этаже; внизу зеленел молодой садик, отгороженный от видневшейся из-за угла дома части двора низеньким палисадничком. Под одним из тополей, почти у самой стены дома был врыт в землю круглый стол; на нем стояла бутылка с монополькой, пара тарелок с закусками и ведерный самовар красной меди; кругом восседала небольшая компания из двух пожилых купцов в сюртуках и двух женщин. В одной из них я узнал Марью Мироновну: она усердно угощала всех остальных, и в ней чувствовалась хозяйка. Слева от нее помещалась худощавая старуха, еще прямая и бодрая; плечи ее покрывала пестрая турецкая шаль — такие шали были в большой моде среди дворянства в сороковых годах.
— Да неужели? — пропела Марья Мироновна.
— Истинный Господь! — ответила старуха. — То есть ну до того они хорошо теперь живут, до того хорошо, что нельзя лучше! Цельный день у них гости — ну что комары толкутся, самовар со стола не сходит и все, милая моя, с закусками!.. такие уж восприимные, такие восприимные — и не видала я таких больше! Дача у них под Москвой в Сокольниках, своя собственная, гирлянда застекляненная вдоль улицы; небили полным полно и все такая веселенькая, прямо из магазину; ну прелести, прелести!..
Рассказчица нагнулась к хозяйке и слегка ткнула ее пальцем в сдобную руку.
— Пса завели!.. — совсем другим тоном, как бы с укоризною добавила она. — В углах-те иконы, а под ними на диване — пес. Да с дивана-то ты его не тронь — укусит. Он лежит, а ты стой, радуйся на него. Да еще, невежа, такое сделает — не продохнешь!..
Купцы неодобрительно мотнули головами.
— Это к чему же пса-то завели? — спросил один из них с широкою и густой русою бородою.
— Мода!.. — ответила, слегка разведя руками, старуха. — У господ у всех псы в дому, вот и они себе завели. Да здоровущий, большой, как есть модулянский! Брутом зовут, а подлец он, а не Брут!..
— Нда!.. — протянул другой гость, с бородкой поменьше и поуже. — За эту самую моду юбчонку бы хозяйке на голову завернуть да по ее бы степенству… — Он сделал жест, как бы шлепая кого-то ладонью.
— Уж вот как бы надо! Милые мои, да ведь что у них делается-то: встала это я на другое утречко, выхожу на гирлянду, а там уже и стол скатерью белой накрыт и крендельки на нем свежие и булочки — к чаю к утрешнему, значит, все приготовлено. Гляжу, — милые вы мои, — людей нет никого, а Брутище этот на дыбках стоит, лапы грязнучие на столе — и крендельки хомякает; кои зубми не достанет — язычищем подтягивает! Вскипело сердце во мне — туда-сюда, палка мне под руку подвернулась. Ухватила я ее, да на него — вон, мол, ах ты, окаянный! А он башку-то повернул, да — рррр!.. на меня: зубища, как у тигры, — по вершку, так и ощерились! Я назад. Да ведь клокочет во мне все, не могу же я так уйти, замахнулась опять, хочу ударить, а он опять — ррр!.. Я назад: ну страсть, страсть; рыло, как у сатаны у какой! И ведь не уходит, стоит, глядит на меня. Собаке, псу, это значит, я уступать должна? Да я мужу покойнику и то никогда не уступала, а псу стану? Размахнулась я, да к нему, а он как гавкнет! Я прочь. Что ты тут будешь делать? ну рвется душа на части, сама бы его зубами ухватила, кажется, а не смею подойти, не смею, — милые мои! И хоть бы завиноватился Искариот, а то ведь нет: как правый мордой толстой поводит! Ну да отвела-таки я себе душу: забежала по другую сторону стола, наплевала ему, подлецу, в глаза и ушла!
— А хозяева что? — задал вопрос бородач. — Опосля собаки булки сами докушивали?
— А хоть бы что они! Я огорчаюсь, рассказываю им, а они те за бока берутся, смеются! Совсем она своего муженька, как наша Лбиха, к рукам прибрала, — и ни-ни, милая моя, и не пикнет! — последнюю фразу она произнесла оглянувшись и очень понизив голос.
— Да чтой-то вы, гости дорогие, вокруг посуды нечи-то ходите? — спохватилась вдруг Марья Мироновна. — Заслушались приезжего соловья, Прасковью Петровну, а рюмки полные стоят?
— Продал ведь Лбов-то книжки из подвалу!.. — поведала Марья Мироновна, когда все выпили и принялись тыкать вилками в закуски.
— Да нуте?! — удивился узкобородый. — За сколько?
— За двести.
Купцы переглянулись и оживились; на степенных лицах обоих появились улыбки.
— Шутите вы!.. — усомнился бородач.
— Для чего мне шутить? Вот истинный крест, не вру! — толстуха перекрестилась.
Купец откинул назад голову, изобразил из губ сомовую пасть и пустил густой смешок.
— Хе-хе-хе! — как эхо, тоньше отозвался узкобородый. — Ловко! Ведь это он его уже в четвертый раз никак продает?
— В третий! — пропела Марья Мироновна. — И деньги на этот раз сполна вперед получил!
— Хо-хо-хо!.. Не доглядел, стало быть, покупатель?
— Так только, сверху две книжки потревожил…
— Хе-хе-хе!.. — перекатилось по другую сторону стола. Какой же дурак купил у него?
Я невольно отодвинулся от окна.
— Питерский какой-то. И уж так там обрадовались, что продали, — ума даже решились: заместо того, чтоб закуски на стол подать, на голову их покупателю все повысыпали!..
Последовал рассказ, вернее целая феерия о моем пребывании у Лбовых, из которой я узнал, что селедка и грибы, как град, прыгали у меня по маковке, что меня ошарашило графином и что с носа у меня долго, будто слезы, капала водка.
Слушатели помирали со смеху. Улыбался и я — с таким юмором передавала все рассказчица.
— Умственный человек Михал Степаныч!.. — проговорил, перестав наконец смеяться, узкобородый купец. — Без метлы чистит!
— Я так смотрю, — деловито произнес второй, — милослив еще Михайло Степаныч, дешево за выучку берет! В другом месте с такого остолопа тыщу за его глупость сняли бы!
Вихлявый и испитой половой, парень лет девятнадцати, с шумом растворил дверь ко мне и с вывертом поставил на стол заказанный мною ужин и чай; дослушать лестные соображения насчет своих умственных способностей мне не удалось. Я занялся яичницей; из сада тем временем раза два долетели взрывы дружного хохота.
Начало темнеть, и компания внизу скоро разошлась. Когда, кончив пить чай, я подошел к окну — под тополем уже никого не было: сиротливо посвечивал в сумерках еще не убранный самовар; на горизонте узкой полоской — будто трещина в иной мир, где вечная жизнь и радость, — червонела заря. Я постоял, подышал свежестью, рождающейся из смерти дня, и, несмотря на ранний еще сравнительно час, стал укладываться спать.
Только что я успел задремать — как будто в самой комнате у меня выстрелили из пистолета. Я привскочил и сел. В номере было темно, сквозь дверные щели пробивался свет, в коридоре раздавался голос Марьи Мироновны.
— Ты опять грубить? Тебе что было сказано, а? — пропела она, будто в дружеской беседе.
— Да кому же я?.. помилуйте, я ничего!.. — испуганно пробормотал знакомый мне половой.
— Ничего?
Треснула вторая, сочная оплеуха.
— Да за что же?!
— А за то: за буфетчика! В струне ходи! Болтаешься только зря, как сопля у индюка, да грубишь? В секунду выгоню, да еще коленкой напинать велю, ежели еще раз возмечтаешь о себе! Смотри ты у меня, грубиян… Лев Толстой еще какой выискался!..
— Сами они, Иван Микитич, зря на меня накинулись!
— Заткнись!..
Половой шарахнулся назад.
— Распустились вы тут у меня без хозяина. Только вот характер у меня бесхарактерный, а то следовало бы тебе морду так набить, чтоб и отец с матерью не признали! Ах ты, Господи, что за народишко-подлец пошел: слова ему поперек не скажи!.. — последнюю фразу она пропела уже удаляясь. Шаги ее стихли.
В коридоре с сердцем плюнули. — Черт пузатый!.. — вполголоса отвел душу побитый. Слышно было, как он подошел к зеркалу, висевшему по ту сторону, на моей стене. — Хорошее слово… вся рожа от него растрескалась!.. — проворчал он, должно быть исследовав свою физиономию.
Я опять задремал, но заснуть не удалось: начало то здесь, то там почесываться все тело.
Уж не клопы ли? — мелькнула мысль. Я поднялся и торопливо чиркнул спичкой. То, что озарил слабый огонек ее, — не поддается никакому описанию: вся постель двигалась, как разворошенный муравейник. Подушка, простыни — все кишело тысячами клопов. Я как ошпаренный соскочил на пол, зажег свечку и стал озираться в поисках убежища. Кроме проломленного дивана, ничего иного не имелось. Я попробовал расположиться в его ухабах, но только что задул свечу, меня опять атаковали клоповьи полчища.
Единственное средство против всякой нечисти в мире — свет, и я опять зажег свечку и оставил ее гореть около себя на столе. Клопы скрылись, и я, выждав еще с полчаса, прилег снова, но гнусные твари, хотя и не так нагло, но продолжали свое дело. Терпеть не стало мочи. Я оделся, захватил плед и подушку и, раздраженный и разморенный усталостью и жаждой уснуть, спустился вниз.
Трактир был еще открыт и действовал. У двери в него я нос к носу столкнулся с моим половым, летевшим куда-то с грязною салфеткой на плече. Щеки его пылали, как две розы.
— Сеновал у вас есть? — сердито спросил я.
— Как же-с… а зачем вам?
— Спать в вашем номере нельзя, вот зачем: клоповник сплошной!
— Клоповник? — малый обомлел от изумления и даже сдернул с плеча салфетку и расставил руки. — Да какие же там клопы? Комары это… сезон комариный теперь!..
— Поди ляг там, узнаешь тогда, какие это комары!.. — ответил я. — Веди меня на сеновал.
— Сюда пожалуйте! — он предупредительно распахнул передо мной другую, боковую дверь, и я попал на заднее крыльцо. — Да дозвольте подушечку я понесу?.. — он вытащил ее у меня из-под мышки. — Напрасно беспокоите себя, господин!.. — продолжал он, семеня позади меня. — Неудобно на сене вам будет… со сну это показалось вам: ваш номерочек три дня подряд гулял, так я на вашей постелье спал — и хоть бы клопик-с!..
Я остановился, чтобы выругаться; половой отскочил в сторону.
— Рази что вчерась купец один проезжий ночевал в нем, так развел их несколько?.. — поспешил он признать мою правоту.
Мы подошли через двор к навесу. На одном из четырехугольных дубовых кряжей, поддерживавших его, горел фонарь.
— Иван Сидорыч!.. — крикнул мой спутник.
— Ась? — отозвался из черной глубины приятный, бархатистый голос, и между двумя кузовами телег обрисовалась высокая, бородатая фигура в длинном тулупе и в меховой шапке. — Чего надоть?
— А вот барина на сеновал устройте: ночевать там будут!..
— А в номерах-то что ж? Неужели полны?
— Клопами они полны; заели насмерть!.. — пояснил я.
Мужик покачал головою.
— Беда!.. — проговорил он, начиная от одного напоминания почесывать у себя бока. — И зловредная эта насекомая, не дай Бог! А может вам сюда сенца снесть, здесь устроитесь?
— Где здесь?
— А в телеге в порожней: самое это святое дело!
— Ну что ж, тащи сюда!..
Половой пожелал мне доброй ночи, вильнул, как угорь, всем телом и побежал обратно. Минут через пять из темноты выдвинулся целый стог сена и шурша проплыл мимо меня.
— Сюда, барин, идите!.. — глухо позвал из него голос Ивана.
У одной из пустых телег сено повалилось на землю, Иван отряхнулся и принялся готовить мне первобытную постель.
— Так-то оно лучше!.. — говорил он. — Тут и покурить можете слободно и все прочее…
— Я не курю!.. — отозвался я, влезая в телегу.
С наслаждением улегся я на душистом сене и покрылся пледом.
— Вот и доброе дело!.. — произнес Иван. — Спите с Богом!.. ваш Микита тоже так-то спит давно…
Где-то долго и бессмысленно лаяла собака. Мне виднелась темная масса дома; окна его почти все потухли; за одним из них мерцала в углу перед киотом лампадка… рядом мерно жевали овес и изредка фыркали лошади… Я уснул мгновенно.
IV
Ранним утречком следующего дня я выезжал из ворот трактира. Было пасмурно. Площадь перед станцией лежала пустыней. Никита взял влево: в доме Лбовых еще спали. Утица в ту сторону состояла всего из четырех домов, и за ними изумрудным ковром лежало небольшое поле. Горизонт закрывал лес; на синей опушке совсем вблизи рисовался серый двухэтажный деревянный дом.
— Вот он!.. — молвил Никита, указывая вперед кнутом.
Я не понял.
— Да дом-то проклятой!.. — пояснил он. — Вчера я вам о нем сказывал!
— Мы мимо него поедем? — спросил я.
— Как есть рядом. У самой дороги стоит. Чаю в трактире не пили еще? — Ну так здесь напьетесь: баушка Арина нам знакомая!
— Чаю я не хочу, молока бы лучше?
— И молоко найдется!..
Через несколько минут мы свернули в ворота усадьбы. Ворот, собственно говоря, не было: от них оставались только два кирпичных столба; к ним примыкала развалившаяся деревянная ограда. Мимо густых, задичавших зарослей смородины и крыжовника, задевавших нас с обеих сторон, мы въехали на узкий и длинный двор; слева открылся из-за деревьев заурядный деревянный дом бурой окраски; нижние окна его были забиты досками. Против него вытягивался низенький, почернелый флигель с навесом над крылечком; дальше по линии его отходили такие же усадебные строения. Все было запущено и казалось давно вымершим.
Никита остановил лошадей у крыльца; из сеней выглянула голова старухи, повязанная серым платком.
— Здорово, баушка Арина, — произнес он, приподымая картуз.
Старуха вышла наружу и взялась одной рукой за столб навеса, а другую приложила ко лбу в виде козырька. Оказалась она маленькой и худенькой.
— А, Микита Михеич? — отозвалась она, узнав моего возницу. — Откуда Бог несет? — Она перевела внимательный взгляд на меня.
— Из дому; барина к Раеву везу. Молочка вот они желают напиться у тебя: в трактире спят еще все!
— А сейчас, сейчас!.. — заторопилась старушка. — Залазьте в дом-то, пожалуйте…
— Нет, уж нельзя ли сюда нам дать, на свежий воздух? — возразил я, сойдя с телеги и усаживаясь на лавочку у крыльца.
— И сюда, можно и сюда!.. — старушка юркнула в черный провал входа.
Не успел Никита завернуть и привязать лошадей, она уже вернулась с большою крынкою холодного, густого, как сливки, молока и с парой краюшек свежего черного хлеба. Все это она водрузила на табуретку и поставила ее передо мною.
Я пригласил Никиту разделить со мною трапезу. Он еще более преисполнился чувством собственного достоинства, огладил бороду, сел на краешек скамьи, снял картуз и перекрестился. И молоко и хлеб были великолепные. Арина стала чуть поодаль и, сложив руки, следила за нами живыми глазами.
— Не живет что ль никто в доме? — спросил я.
— Нет, — коротко обронила старушка.
— Почему?
— А уж так… помер хозяин давно! А наследники — неизвестно!.. — она не договорила и поежила одним плечиком.
На крыльцо медленно, словно из могилы, выдвинулся сгорбленный, совсем древний старик, со старчески бледным лицом и как бы выпученными большими светлыми глазами; под ними пятнами краснели, будто бы чем-то налитые, мешки. Он с трудом повернул голову в нашу сторону, оглядел меня и Никиту и снял приметно дрожавшею рукою измызганную баранью шапку.
— Дедушке Ивану Семенычу наше почтение, — приветствовал его мой возница.
— Здравствуйте!.. — выговорил старик. — А, это ты, Микитушка? — на лице его показалась улыбка. Старик взялся рукой за поручень и опустился на лавочку крыльца позади жены.
— Вы в сторожах здесь? — спросил я.
— А так, в сторожах, батюшка!.. — ответила Арина.
— Можно будет посмотреть дом?
— Отчего же, если желаете?.. Уж не купить ли хотите, батюшка?! — лицо старушки оживилось.
— Нешто такие дома купляют? — внушительно проговорил Никита.
— Отчего ж? Что стар он, так подправить можно!
— Нет, уж такой дом не поправишь!.. — также веско сказал Никита.
— Весь его развалить да сжечь, да место, на коем стоит, вспахать, — вот что с им надо сделать!
Старушка промолчала.
— Правда, будто в нем нечистая сила водится? — спросил я.
— Не знаю, батюшка, — недовольно молвила она, — кабы я ведьма была, знала бы, а то не знаю!..
— Ты баушка Арина, не обижайся, — вступился Никита, — про тебя с дедом слов нет, вы люди настоящие, хорошие! А про дом не скроешь, про него может вся Рассея знает! — Никита обратился ко мне — Кто им ни владал — все смерть неуказанную принимали! Старики сказывают, пятеро душ здесь так-то покончились…
— А годов-то сколько старикам?.. — она кивнула в сторону деда. — Вон у него памяти-то за сто лет назад хватит!
— Да хоть за все двести! Первый хозяин… — Никита опять обратился ко мне и стал загибать негнущимся указательным перстом правой руки пальцы на левой, — Иванов господин удавился. Трещенкова на охоте застрелили. Третий, как его… еще такой толстый, что бочка, был, ну Васильков — ему бы пузырем плавать, а он взял да почитай в луже утоп. Бурмистова кони убили.
Нонешний годов пять тому с тройкой в метель под лед ухнул… Это какой же такой закон выходит?
Старушка опять пожала одним плечом: — На все воля Божья… — отозвалась она.
— Знамо дело! — воскликнул Никита. — Ну, только при таком законе и без черного не обходится!..
Я покончил со своим молоком и поднялся. — Покажите, пожалуйста, дом, — попросил я.
— А пойдемте, пойдемте!.. — старушка достала из глубин кармана связку ключей и как покатилась по протоптанной тропочке к дому. Мы с Никитой пошли за нею.
— Не любит!.. — шепнул мне Никита, подмигнув на старушку.
— Чего?
— О доме-то говорить! К ночи оно, понятно, молчать надо: долго ли здесь беду накликать? В эдаком месте ведь живут!.. — он покрутил головой. — Бедность, конешно…
Мы поднялись на обветшавший, открытый балкон, перешагнули через несколько провалившихся гнилых половиц, Арина нашарила замочную скважину и вставила в нее ключ. Высокая дверь медленно и важно отворилась, и мы вступили в темную, небольшую переднюю. Арина открыла следующую дверь; нас охватил нежилой, затхлый запах. В комнате, куда мы затем вошли, стояли сумерки; день проникал полосами сквозь широкие щели между досками, и глаз быстро освоился с таким освещением.
Обстановки почти никакой не имелось, и лишь по нескольким стульям с высокими спинками и по большому желтому столу можно было догадаться, что перед нами столовая. Казалось, из дома только что выезжают владельцы: стулья стояли в беспорядке, стол был сдвинут углом к стене. Из столовой мы попали в зал. И он был опустошен; кое-где торчали и даже валялись опрокинутые стулья; с середины потолка спускалась недурная люстра с подвесками и длинными нитями из хрусталя, густо покрытыми пылью; большая часть его осыпалась и лежала разбитой на полу. В углу чернел рояль старинного типа.
Я тронул клавиши. Стонущий, дребезжащий звук раздался в воздухе. И откуда-то из анфилады комнат донесся явственный, еще более жалобный и сильный стон.
Я нажал две другие — стон повторился.
Странная акустика зала меня поразила. Строившие дом люди, очевидно, нечаянно соблюли какое-то условие, неведомое уже нам, но хорошо известное древним, и дом оказался награжденным тем же изумительным свойством, как, например, круглый храм в Байях, близ бань Нерона, где даже тишайший шепот четко слышен в любом конце храма.
— Ау?.. — крикнул я.
Оцепенелый дом как бы очнулся. Будто сотни стороживших его людей и чудовищ вдруг проснулись в дальних комнатах и с хохотом и воем ринулись к нам.
Никита попятился и перекрестился. — Свят, свят, свят!!! — забормотал он, озираясь. Арина не шевельнулась — свойство дома ей, очевидно, было хорошо известно. Все стихло. Мы двинулись дальше; старый, рассохшийся пол трещал, и казалось, будто и в соседних комнатах, прячась и прислушиваясь, крались, сторожа нас, люди. Мы обошли весь нижний этаж. Везде нас встречали запустение и беспорядок; мебель была почти вся повывезена, и оставалась лишь незначительная часть ее, плохая и попорченная. На выцветших обоях стен имелись темные следы от картин и ламп; в гостиной висел забытый портрет какой-то пиковой дамы — морщинистой и сердитой старухи в облупившейся и потемневшей позолоченной раме. Одета она была в зеленое платье с пестрою шалью на плечах.
Я остановился против него, и вдруг все мы явственно услыхали звучный удар чего-то об пол: «ах»! — раздался нежный и серебристый вскрик. Откуда он донесся — было неведомо. Никита оглянулся и опять перекрестился; с лица его все время не сходило напряженное выражение.
— Подвеска с люстры упала?.. — высказал я предположение.
Никита глянул на меня и недоверчиво мотнул головою: знаем, мол, какая это подвеска!
Во второй этаж вела довольно широкая, коленчатая лестница.
— А не стоит туда лазить, батюшка!.. — проговорила Арина, заметив, что я уже поставил ногу на ступеньку. — Там пусто; все как есть вчистую повыбрано!
— А на чердаке что-нибудь есть?
— Да чему там быть? — удивилась старушка. — Известно, что на чердаках держать: дрянь там всякая!
— Вот на нее-то и взглянуть бы мне?
— Коли хотите, так что ж!.. — Арина пожала по своему обычаю плечиком. — Паутина только там, грязь, измараетесь…
Она пошла вперед. Один поворот — и мы как-будто из загробного странствования попали в свой родной мир, полный света и жизни: в окна глядел день, виднелись тянувшиеся по небу белые облака, кивали зеленые ветви деревьев; нас обдало дыхание ветра, врывавшееся в разбитые стекла.
Ход на чердак вел из первой же комнаты. Мы взобрались на него по приставной лесенке, и опять нас окружил полумрак.
То, что я рассчитывал увидеть, то и увидел: двумя грудами лежала сваленная старинная и всякого рода ломанная мебель; я пригляделся к ней, но редкого и ценного приметно не было. Дальше стояли разбитые и полурассыпавшиеся пустые сундуки; в одном из них сиротливо белела пачка бумаг. Я вынул ее; в руках у меня оказалась связка писем.
— Нельзя ли это купить у вас? — спросил я старушку.
— Да возьмите, коли нужны… — ответила она. — Разве ж это вещь, чтоб ее куплять?
Немного дальше, в пыли, нашлось около двух десятков книг, разбросанных по полу как попало. Интересного среди них ничего не встретилось, и я оставил их мирно почивать на своих местах.
Сойдя с чердака, я поспешил к окну, развязал выцветшую голубую ленту и наскоро перебрал письма. В каждом из них лежал засушенный цветок. «Моя прелесть Таня», «Мой милый ангел Таня» — так начиналось почти каждое из них. «Твой навеки Жан» — стояло в конце. А еще ниже — 1839 год…
В старом доме стало как будто светлее от этих писем, когда я их нес на обратном пути. Глаза скользили по хаосу и пустоте, но я уже не чувствовал их; привиденья не сторожили нас — Жан и Таня, веселые, счастливые и молодые, незримо шли рядом со мной… Не заметив как, я оказался со своими спутниками на дворе.
Данная мной бабушке Арине пара рублевок привела ее в несказанную благодарность и умиление.
Никита отвязал лошадей, и мы уселись в телеге по своим местам.
— Прощайте, батюшка; еще заезжайте когда!.. — говорила Арина, держась рукой за облучок и идя рядом с тронувшеюся телегой. — А про дом не сумлевайся, купи, хороший дом! Ну, счастливого тебе пути!.. — она отстала и отвесила мне вслед поясной поклон.
Мелькнули мимо заросли смородины и заколдованный дом заслонился гущей деревьев; сад сменился бором; в вершинах стоял глухой гул от ветра.
— Заработать хочет старуха на дом!.. — проговорил Никита. — Сто рублев, сказывают, обещали ей, коль покупателя найдет, наследники. Ну дом, — он мотнул головой, — даром дадут — так не возьмешь… на дрова рази?
— Любопытный дом… — рассеянно ответил я, не желая вдаваться ни в какие рассуждения.
V
Не проехали мы и десятка верст — сразу наступила тишина; бор как бы оцепенел. Примета была плохая!
Никита оглянул засумеречившее небо и подогнал лошадей.
— Не прихватило бы дождем?.. — поопасился он.
Мало погодя он опять посмотрел назад:
— А ведь всполосует нас!..
Я вытащил из-под себя бурку, которую, наученный опытом, стал всегда возить с собой, надел ее и прикрыл полами пачки книг.
За нами, едва не цепляясь за вершины, неслось, не шевелясь ни одной паутинкой краев маленькое, белесое облачко, скорее клочок тумана. Полет его при полном безветрии был удивителен! Я сидел в полуобороте к дороге и наблюдал за ним.
И вдруг в нем, или позади него, ярко сверкнул огонь, и я невольно припал грудью к колонам: облачко взорвало как бомбу, взлетели и разметались белые клочья и трахнул оглушительный удар грома. Никита опрокинулся назад, и мне почудилось, что молния попала в него. Я подхватил его под плечи и помог подняться. Кони с храпом осели на крупы, затем рванулись вперед. Я хотел взять вожжи, но они выскользнули из рук Никиты и волочились по земле между колесами. И почти в то же мгновение справа у самой дороги наклонилась верхушка сосны, с шорохом и треском навалилась она на своих соседок, прорвала толщу их и зеленой горой рухнула позади телеги. А на расщепленном высоком остатке ствола, словно пролитый спирт, синим языком вспыхнуло пламя. Все это произошло в одно мгновение.
Обезумевшие кони несли нас во весь опор. Оправившись от испуга, Никита сделал попытку поймать вожжи, но телега прыгала по выбоинам, так моталась из стороны в сторону, что он чуть не свалился под колеса; я, едва держась сам, еле-еле успел схватить его за армяк.
Захлестал ливень. Гроза будто разом, в одном ударе, израсходовала все свои заряды и ни молний, ни грома не повторялось: все заменил ураган, ринувшийся на бор. Над дорогой кружились ветки и целые суки; сосны и ели, словно желая сорваться с мест и улететь, с яростным воем и ревом бешено мотались из стороны в сторону.
— Крепче держись, барин!.. — едва разобрал я крик Никиты, обернувшегося ко мне. — Повороты сейчас пойдут!!.. — Облитое струями дождя лицо его казалось восковым.
Не успел я как следует ухватиться за ободья телеги, она наклонилась и оба правые колеса очутились на воздухе. И я, и Никита навалились на их сторону; телега выровнялась и понеслась опять — первый поворот миновали благополучно! Мимо стремглав мелькали стволы деревьев; дорога вилась узкая, не больше двух сажень шириною, и вылететь из телеги значило разбиться о первую же сосну. Я все закрывал от дождя книги и, выпростав на всякий случай из пачек их ноги, зорко следил за изгибами пути. К счастью, лошади не сворачивали с дороги, и через несколько минут впереди открылся выгон, а за ним деревня; ветер рвал и разметывал со взъерошенных крыш целые тучи соломы. Околица была открыта. Мы влетели в нее; коренник вдруг замотал мордой, потом пригнул ее вправо, к самой дуге и стал описывать полукруг: правая вожжа закрутилась в колесо и заставляла его делать поворот. Еще миг, и лошади тяжко, всей грудью, ударились о почерневшую, бревенчатую стену какого-то сарая, он весь дрогнул; оглобли треснули и перелетели пополам, хомут вскочил коренному на самые уши. И я, и Никита соскочили с телеги еще до толчка и с разных сторон бросились оглаживать и успокаивать лошадей. Они дрожали, озирались и водили боками. Никита размотал вожжи и, как только кони несколько опомнились, взял их под узды.
— Ах ты, какой грех!?. — бормотал он, еще не придя в себя. — Истинно Господь спас!! Вы в волость идите, посидите там! — он указал мне головой на длинное и низенькое строение, примыкавшее к сараю.. — А я к Митрию… дождь переждем, да за оглоблями схожу!..
Я укутал буркой книги и бегом бросился к крыльцу.
Дверь в сени стояла отворенной. Я нагнулся, вошел в них, открыл боковую дверь и очутился в большой, как бы прокопченной комнате; ее переделяли на две половины перила, положенные на точеные балясины. В первой половине, у самого входа спал, сидя на скамье и уперев в стену голову, пожилой сторож; у дальней стены, за длинным столом, заваленным какими-то чудовищными книжищами, под старыми олеографическими портретами царя и царицы помещался белокурый человек лет тридцати пяти с подстриженными в виде котлеток бачками, как бы наклеенными на бритом и совершенно круглом лице; широкие брови его казались повторением тех же бачек; под ними торчал несоответственно маленький и как бы отполированный красный носик. Перед владельцем его лежал целый ворох серых пакетов, и он надрывал их один за другим. Поодаль, у обоих концов стола в темных курточках сидели два юнца, низко склонившихся над бумагами; лет им было по пятнадцати, не более.
Услыхав мои шаги, все трое разом подняли головы; старший судорожно отсунул от себя пакеты, оперся руками на стол и медленно поднялся. На меня уставились два мутных, оловянных глаза. Встали и вытянулись и оба подростка.
— Что вам угодно? — не без труда выговорил писарь, видимо, стараясь придать лицу выражение значительности и достоинства. Он выпрямился, заложил правую руку за борт своего клетчатого серого пиджака, но потерял равновесие, повихнулся и тотчас же опять должен был оказать себе помощь руками: на четвереньках стоять ему, видимо, было удобнее. Сделал, впрочем, он это очень галантно и оперся только на кончики пальцев с видом, ясно говорившим, что стоять на двух ногах ему ровно ничего не стоит. Пьян он, по-видимому, был вдребезги.
— Лошади разбили… — ответил я, поздоровавшись, — разрешите, пожалуйста, переждать у вас дождь, извозчик мой за оглоблями побежал!..
На припухшем блиноподобном лице господина с бачками появилось покровительственно-снисходительное выражение.
— Пожалуйста… садитесь!.. — произнес он, картинно указав рукой на пустое место против себя. — Мишка, стул!
Он хотел сесть, как полагается важной особе, но не удержался и шлепнулся всей тушей в обширное кресло. Один из юнцов бросился к стене, схватил старый, обитый какою-то рванью стул и поставил его передо мною. Я сел.
— Откуда изволили прибыть? — Писарь взялся опять за письма.
— Из Петербурга.
Руки, поднявшиеся было с пакетом, упали на стол.
— Из Петербурга?.. не на ревизию-с?.. — с некоторым замиранием спросил мой собеседник. Он как будто стал даже протрезвляться.
— Нет… еду по своим делам!.. — отозвался я.
— А где служите-с?
— Нигде…
— A-а… вот что!.. вояж, значит, совершаете? — писарь успокоился, и хмель опять начал свободно бродить в нем. — Извините, заняться я должен: нынче у меня почта!.. нашлют всякой дряни, а ты разбирайся!..
— Пожалуйста, не стесняйтесь!
Писарь вытащил из конверта бумагу, откинулся на спинку кресла, развалился, насупил рыжеватые, густые брови и стал читать.
Чем не директор департамента?.. — мелькнула у меня насмешливая мысль. Но оказалось, что я отмеривал мало.
Мой визави небрежно откинул бумагу в сторону.
— Под сукно!.. — выговорил он и взялся за другой пакет.
— Матвей, чаю!.. два стакана.
Подростки оглянулись на спавшего мужика, но тот вместо ответа громко икнул во сне, пробормотал «Господи Иисусе»… и храпнул на всю комнату.
— Жживотная… всегда спит!.. — процедил писарь. — Миша, распорядись: скажи жене, гость приехал, чтоб чай дала… жживо!!.
Мальчик исчез.
Наступило безмолвие, прерывавшееся только дробью дождя об окна, посапываньем сторожа, да скрипом пера строчившего что-то подростка. Писарь вскрыл еще пару пакетов, помотал головой и с видом человека, хватившего по меньшей мере уксусу, опять пошвырял бумаги в сторону.
— Что это вам так много пишут? — осведомился я, заинтересовавшись незнакомою мне обстановкой.
— Приказы… хе-хе!.. — горько, с иронией отозвался писарь. — Каждую почту… и все спешные, все экстренные!.. — Он взял за уголок один из пакетов и, как черепок по воде, пустил его ко мне через стол: — от военного министерства… — он пустил второй — это от министерства земледелия… от внутреннего министра… от губернатора… И каждому чтобы в трехдневный срок все было исполнено, иначе вон в двадцать четыре часа!
На лице его вдруг изобразилась ярость: он сгреб всю оставшуюся еще не распечатанную кучу писем, смял ее и принялся запихивать под рваную клеенку, покрывавшую стол.
— А я их под сукно!.. — заорал он на всю комнату и пришлепнул кулаком шишку, образовавшуюся на столе. — И шабаш, крышка! Н-не желаю!
Сторож проснулся, протер глаза и вскочил. Писарь поднялся, упер руки в бока и так воззрился на меня, как будто бы именно я был автор всех этих спешных бумаг.
— Две руки у меня или сто?! — опять завопил он на всю комнату. — Один я на всю волость или нет? — он указал обеими руками на своих помощников, делавших вид, что они усердно пишут и ничего не замечают.
— Я троичен в лицах, но один как перст! А деревень у меня тринадцать! — Он сложил на груди руки по-наполеоновски. — Что же, разорваться мне на части и в каждую деревню по куску послать сведения собирать?
— А старшина зачем же существует? — осведомился я.
Писарь опустил руки и сострадательно поджал губы.
— Да дурак же он, и ничего больше! Что я ему поручу? бумаги подписывать?
— Ну, а земский начальник?
Писарь ухватил себя за волосы, и джентльменская прическа его с тщательным пробором сразу превратилась в разъерошенный шалаш. Он выпучил мутные глаза, безмолвно поглядел на меня несколько секунд, потом, как коршун, вцепился в одну из бумаг и стал совать ее мне. — Вот ихняя работа, вот!!
Я взял ее и прочел вслух: — «в дополнение к приказу моему от такого-то числа за номером таким-то, предписываю не придираться к мелочам и выдать Ивану Панкратову документы немедленно».
Я поднял глаза на писаря.
— В чем же дело?
— А в том: хоть она и мелочь, а ты мне ее через ять не пиши — она в «Положении о Крестьянах» через «е» значится! Хоть весь приказ из одних ятей пришли, а я на него — фук… — он поднес возвращенную мною ему бумагу ко рту и дунул. Она чуть взлетела и мягко опустилась на пол.
— Законом воспрещено такие документы нам выдавать!.. — он назидательно поднял вверх указательный палец. — Статья 62, примечание третье, литера «А». Не приказы писать, а законы знать надобно… — Он протянул мне через стол руку. — Пожалуйте, ручку поцелуйте, что вас под Губернское Присутствие не подвел! Вот какая ихняя работа: нянькой еще будь!
— Что же такое экстренное могут вам чуть не каждый день писать? — продолжал я расспросы.
Писарь пошатнулся и нацелился в меня указательным перстом.
— А! — возопил он. — вот, вот где точка! Умный человек, сразу видать! Что каждый день экстренного может быть? Нихтс, чепуха… от хорошей пищи вся экстренность. Одному в обед за кофеем важная мысль пришла — узнать, сколько веялок потребуется на губернию. А зачем — никому неизвестно. Почему не крема-бруле и не пряников? у нас недород и веять нечего! Чик — и предписание летит! Он уж и забыл на другой день, а писарь несись, сходы созывай, тыщи людей тревожь, опроси, запиши, перепиши! У другого пищеварение требует, чтобы землеустройство как на курьерских скакало: вмиг чтобы все на отруба бросились! А мужики — нон с пардоном — не желают!
А тебе новый приказ: немедленно выясни, сколько тебе бланков для укрепляющихся потребуется, да чтобы точно было, потом больше не вышлем! Да черт вас задери — и не надо! Третьему донеси — сколько мужиков и баб в отхожие промыслы ушли. А сколько ворон пролетело — этого еще не желаете?!
Он мотнулся к стене и хлопнул рукой по висевшему на ней исписанному листу:
— Вот-с еще, табель; пожалуйте — к какому сроку, о чем и кому доносить надобно — о всходах, об урожае — писарь все повышал голос, — о пожарах, о судимости, о количестве дел в суде, о запасных магазинах, сколько бабы рожают… о черте, о дьяволе!!! — неистово прокричал он, бешено застучав кулаком по расписанию. — Недоимки собирай, подати распределяй, торги производи, рекрутов считай и сдавай, дела в суде веди, старост учи… Дышать некогда, а они с экстренными глупостями лезут!! Автомобиль я им, или нет?!
— Михаил Степанович, успокойте себя… — произнес позади меня женский голос.
Я оглянулся. За моей спиной стоял умиленно улыбавшийся сторож, бережно державший в растопыренных руках большой черный поднос, на котором стояли два стакана с чаем, вазочка с вареньем и лежала горка белого хлеба.
С порога глядела из сеней невысокая, но полная, молодая женщина с румяным лицом и с туго замотанной вокруг головы пышной русой косою.
Писарь сразу притих.
— Да я ничего!.. — отозвался он. — Это мы с господином по душам беседуем; мы по-хорошему. Пожалуйте чаю… сюда ставь, сюда!.. — Он опять шмякнулся в кресло.
Сторож благоговейно опустил на указанное ему передо мной место свою ношу, потом пожелал мне здравствовать и, исполненный удовольствия от исправно выполненной трудной задачи, утер ладонью рот, отошел к балюстраде, остановился у нее и наставил в нашу сторону ухо.
Чай был подан в серебряных подстаканниках, ложечки тоже были серебряные.
— Какие славные вещи!.. — заметил я, принимаясь за свой стакан.
— Инда!.. — небрежно и самодовольно ответил писарь. — Кровное, заработано все… благодарное население поднесло! Я не хвастун, а вам прямо, как умному человеку, доложу: генерал-губернатором, министром мне надо быть; образованный человек, а я писарь! Из Жуковского могу, из Лермонтова… Горько это, мизинца они моего не стоют; а жалованья мне 55 рублей и 33 копейки идет!.. приказы каждый день пишут!! — Он вдруг закрыл широкими ладонями лицо и заплакал.
— Полноте… — произнес я, — все перемелется, мука будет!
Плач прекратился. Писарь отнял от мокрого лица руки и принял вызывающую позу. — Сам я лучше всех знаю, что нужно делать, сам и распоряжусь! А это — лежи!.. — он потыкал пальцем в бугор под клеенкой. — Хоть ты и через ять, а лежи… и без разговоров, аминь!
— Смотрите, не вышло бы у вас чего-нибудь с земским!
— У меня?! А статья 62?! Ннет, шалишь! Обожай меня, вот что!..
Язык у моего собеседника заплетался все больше и больше.
— А это что за книги? — поинтересовался я, указав на переплетенные чудовища, башней возвышавшиеся на столе.
Писарь глянул на них и махнул рукой.
— Статистика!.. — с непередаваемым презрением ответил он. — Вот еще тоже, трижды анафема, где у меня сидит проклятая! — Он постучал себя кулаком по шее.
Волостная статистика — это база государственной. И, разумеется, мне захотелось познакомиться с тем, как она ведется в деревне. Я встал, развернул одну из книг и стал просматривать ее. Писарь скосил воспаленные глаза и наблюдал за мной; на еще не обсохшем от слез лице его появилось какое-то странное выражение, будто он ожидал что-то.
— Ого, как много свиней?! — вслух удивился я, заметив в соответствующей графе одной деревни огромную для нее цифру.
Юнцы подняли взгляды на писаря и вдруг оба фыркнули; у их патрона рот стал разъезжаться к ушам.
— Чего вы смеетесь? — спросил я подростков: те улыбались, переглядывались и молчали.
— Сказывай, Мишка… — разрешил развеселившийся писарь.
Получивший приказание мальчик встал.
— Михаил Степанович все население деревни к свиньям приказали присчитать!.. — скороговоркою ответил он.
Писарь даже завсхлипывал от схватившего его смеха, задубасил рукой по столу и опрокинул свой недопитый стакан.
— Как же так? — вымолвил я. — Почему?
— А потому что свиньи! — воскликнул писарь. — Чтобы чувствовали!..
— А если проверка будет?
— Кто же это станет проверять? Никогда! Ну, да я уже простил их, — снисходительно добавил он, — мор свинячий у них в этом году по ведомостям показываю…
— Какой мор?!
— Эпизоотию… — пояснил писарь. — Ветеринару знакомому командировку надо состроить… просил. Мне не жалко… все в моих руках. Но проси, а не приказы пиши! Уважай!
Я закрыл книгу и перестал интересоваться статистикой.
Стукнула дверь, и показался мой Никита. Он перекрестился на образа, поклонился писарю и подошел к перегородке.
— Готово, барин!.. — произнес он.
Тут только я заметил, что о дожде нет уже и помину: в задние окна глядел солнечный день. Я стал прощаться.
— Да помилуйте, куда же?! — взволновался писарь: — в винтик мы сейчас сыграем! Компания великолепная: фельдшер, урядник… Игроки — он чмокнул кончики своих пальцев — первый сорт!..
— Никак не могу: к полдню непременно надо к Раеву поспеть…
— Да чхать!.. завтра он все такой же будет… А мы сыграем!
— Не могу. Благодарю вас за приют…
Я пожал писарю руку и направился к двери. Он попытался было последовать за мной, но зацепился за ножку своего кресла и грузно повалился грудью на стол. Ноги у него разъехались циркулем.
— Проводить!!. — прохрипел он, весь побагровев от усилия встать. Оба его помощника вскочили и поспешили за мною.
Телега уже стояла у крыльца. Только что я взялся за облучок, сторож и оба юнца подхватили меня со всех сторон и как архиерея вознесли на телегу. Не успел я опомниться от этого сюрприза, — волостное правление оказалось далеко позади; я повернулся и увидал живую картину: на крыльце, крепко обняв столб, стоял писарь и махал мне вслед свободной рукой; трое остальных кучкой застыли в двух-трех шагах от него.
VI
Мелькнула старая, деревянная церковка с пятью зелеными главками, мелькнули два прохожих мужика, лица любопытствовавших баб в окнах изб, и опять кругом раскинулись зеленя и пашни, побежала Бог весь куда дорога.
— Сплоховали мы!.. — произнес Никита, оглянувшись на оставшееся позади село. — Свечку бы Миколе угоднику надо было поставить, а мы мимо церквы проехали! Впервой я в такую страсть попал!.. — добавил он, несколько спустя — а-я-яй!!! — Он покрутил головой: — Вот не верили вы про дом: с того и случилось так, что побывали в нем! Нет, уже теперь шабаш: тыщу рублев дай, не войду в него!..
— Ось-то не треснула у нас? — спросил я.
— Ось железная, что ей делается! А кореннику задние ноги ссадило телегой. Ну и гроза была!.. — он опять мотнул головой. — Прямо ведь в нас молонья метила…
Часа через полтора дорога опять втянулась в бор, по-видимому заповедный. Неохватные сосны купались вершинами в самой сини неба; кое-где мрачными громадами выступали столетние ели. Весь бор незримо дышал испарениями; густо пахло смолою и какими-то травами.
— Раевский бор… — сообщил мне Никита. — Таких лесов по всей губернии поискать!
— Богатый, что ль, этот Раев?
— При капитале, понятно! Сурьезный господин: кряж, сказать!
— Семейный, или холостой?
— Вдовый. Сынок есть в Москве.
— Учится, что ли?
— Сын-то? Отучился уже: в остроге сидит!
— Как в остроге, за что?
— Понятно, не за хорошие дела! Его в ниверситет послали, а он с товарищами в бунт. Ну их, сказывали, мясники ввели в резонт. А потом коих и посадили.
Дорога заметно побежала вниз. Стали попадаться ольха и березы, и скоро бор сменился густым чернолесьем. Сделалось гораздо свежей, послышалась перекличка птиц. Справа, рядом с дорогой, открылась узенькая недвижная речка, покрытая кувшинками; противоположная сторона ее заросла кустами и плакучими березами. Мы ехали почти по самому краю берега и то и дело отражались в воде, словно выныривали откуда-то из темной глубины.
Впереди заслонила небо довольно высокая гора; с вершины ее, из густой зелени на нас смотрели окна длинного, почернелого дома; мезонин его опирался на четыре низеньких колонны; весь скат горы к воде покрывал цветущий фруктовый сад: виднелись перекрещивавшиеся зигзаги дорожек, сбегавших к купальне.
— Раевка… — коротко молвил Никита.
Река омывала гору с трех сторон и терялась в кустах среди зеленых поемных лугов; показался мост на высоких деревянных сваях, огражденных свайными же ледорезами.
Мы прогремели по мосту и начали огибать гору по довольно пологой дороге. Кругом встали вековые ели; в одном месте парой блестящих глаз глянули окна боковой стороны дома, и опять он скрылся за косматыми, черно-зелеными великанами. Чудилось, будто мы где-то в дремучем лесу, а там, на вершине горы залег стан разбойников, ухоронившихся среди вечных сумерек.
Мимо двух красных каменных верстовых столбов мы въехали на большой четырехугольный двор. Первое, что мне бросилось в глаза, была стоявшая середи него, расставив ноги и опершись на суковатую палку, сутуловатая, приземистая фигура в серой велосипедной фуражке блином и в холщевой куртке с таким же широким поясом.
— Барин сам!.. — вполголоса предупредил меня Никита и остановил около него лошадей. Раев не шевельнулся.
Я спрыгнул с телеги и отрекомендовался. Глубоко запавшие в орбиты маленькие карие глаза не мигая глядели на меня из-под низкого, круто выгнутого лба.
— Очень рад!.. — отрывисто, сиповатым басом ответил Раев, протягивая мне не в меру длинную, орангутанговую руку. Силы он, должно быть, был непомерной. «Сурьезный господин», вспомнились мне слова Никиты.
— Прошу откушать, обед на столе…
Мы двинулись к дому. Он был одноэтажный; окна так низко начинались от земли, что легко можно было бы переступить со двора прямо в комнаты. Через крытую веранду мы вошли в переднюю, обставленную по-старинному, кониками, Раев повесил на олений рог фуражку-блин, я сделал то же. Миновали длинный, пещероподобный зал с зеркалами в потемневших и облупившихся рамах в простенках, растворенная дверь ввела нас в столовую. Из нее выглянула взъерошенная, давно не бритая физиономия и скрылась.
На четырехугольном столе, накрытом только прорванною в двух местах сиреневой клеенкой, белел одинокий прибор.
— Стул и еще прибор!.. — отрывисто бросил приказ Раев. — Прошу покорно! — он сунул на подоконник палку и указал рукой на тяжелый дубовый стул, пододвинутый взъерошенным лакеем. Последний был тощ, сер из лица и казался плотно запеленутым в замасленный, наглухо застегнутый сюртук; на шее его под синим воротничком висел узкий, черный галстух.
Мы сели. Раев взял с тарелки далеко не свежую салфетку, вскинул вверх темную бородку-клинышек, заткнул краешек салфетки за воротник и уставился на меня.
Сходство его с гориллой выступило еще разительней: этому способствовали необыкновенно большие, мясистые уши и густые, коротко остриженные волосы, дыбом щетинившиеся на квадратной голове; в них серебрилась седина.
— И не лень вам из-за каких-то книг сотни верст колесить? — заявил он.
— Наоборот, это чрезвычайно интересно! — ответил я. — Мои поездки — калейдоскоп красоты и впечатлений!
— Хороши впечатления! — с насмешкой произнес Раев. — Постоялые дворы, клопы, грязь… Или вы еще сей прелести не вкусили?
— Вкусил. Но ведь это же мелочь, пустяки, на следующее утро все забывается!..
— Ну, ну!.. — Раев отправил в рот большую круглую ложку с супом.
— А вы не коллекционер, не собираете каких-нибудь вещей? — осведомился я.
— Я? — удивился Раев. — Нет, не грешен! И зачем, для кого собирать: для благодарного потомства? — в голосе его прозвучала явная насмешка.
— Разумеется, прежде всего для себя, для собственной радости! А потом, может быть, сложится польза и людям.
Раев покончил с супом и отодвинул от себя тарелку. Лакей принял ее; он все время стоял облокотившись на выступ дубового буфета и пялил на нас немигающие и тусклые, совиные глаза.
— Для себя — это я еще понимаю!.. — сказал Раев. — А что касается потомков, то думать о них — занятие праздное!
Лакей поставил перед нами блюдо с большим, отлично зажаренным куском телятины. Мы занялись ею.
— Почему праздное? — поинтересовался я.
— Да они уж во чреве матери о собственных благополучиях думать начинают! Нам-то еще чего сдуру из себя удобрения для этих будущих жуликов изображать? Нет-с, этот лепет не для меня!
— Ну уж это вы очень резко…
— Резко?
Раев уставился на меня. — А вы в каком веке живете?
— В начале двадцатого…
— Новый символ веры знаете?
— Не слыхал о таком.
Раев слегка поднял короткий указательный палец: — «Подложи свинью ближнему твоему!» — заповедь первая и главнейшая. — «Тащи, что можешь», — заповедь вторая. Остальные все подходящие!
Я улыбнулся. — С такими заповедями далеко не уедешь!
— Не знаю-с… А что мы едем на них во всю прыть, факт бесспорный!
Раев говорил с полным убеждением, без малейшего следа шутки в голосе.
— А еще десятка два лет — и совсем по каторжному кодексу жить будем!..
— Вы, я вижу, большой пессимист!.. — заметил я.
— Отнюдь нет! Жизнь люблю и приемлю. Но жизнь, а не разные мерехлюндии. Не человечество ненавижу, а любовь к нему: фарисейские слюни это, и ничего больше!
— Вы что же, сторонник Эпикура?
— Сторонник я прежде всего свой собственный: философов я не признаю и не читаю! Я практик-с и ничего полезного в толченьи воды в ступке не вижу…
— А христианство вы признаете?
— Еще бы. Разумеется!
— Так ведь и оно же философия?
— Оно — боговдохновение!.. — внушительно произнес Раев.
— Не грабьте землю в пользу Бога: он в этом не нуждается!.. — возразил я. — Чем лезть прямо на небо, поищемте сперва, нет ли на земле корней христианства? И увидим, что оно не что иное, как мозаичная икона, дело рук, может быть, десятков величайших философов!
— Ну, это тоже уже философия! Представим расхлебывать ее попам!.. — прервал меня Раев. — А в лошадях вы толк понимаете?
— Не особенно.
— Жаль! А то бы я вам свой конный завод показал: моя гордость!
— Я бы предпочел посмотреть вашу библиотеку.
— Ничего в ней особенного нет: лошади у меня лучше; выписывал книги не для подбора, а то, что лично мне требовалось.
Обед кончился, и хозяин поднялся вместе со мной в мезонин, состоявший всего из одной обширной, двусветной комнаты. У двух глухих стен ее стояло четыре больших шкафа; сквозь стеклянные дверцы их виднелись плотные шеренги переплетенных книг. Середину комнаты занимал квадратный лестничный люк, обнесенный желтою оградой; по обе стороны его, у окон располагались мягкие кресла и пара круглых столиков, заваленных газетами и свежими номерами журналов. Над ними спускались две висячие лампы с абажурами из тонкой зеленой бумаги.
— А рукописи у вас имеются? — спросил я.
— Есть… Там они, в крайнем шкапу! — отозвался хозяин, кивнув вправо.
Я отворил указанные дверцы. На нижних полках лежали запыленные картоны и связки с бумагами и письмами.
— Эти не интересны!.. — проронил Раев, увидав, что я взял в руки один из картонов, — там мои маранья…
— Вот как? так вы писатель? в каком роде? — заинтересовался я.
— В прошлом. Есть возраст, когда все люди писатели!
— Но все же, беллетрист вы были, поэт или ученый?
— Просто дуралей: мечтал одно время о такой глупости, как слава!
— Почему же слава глупость?
— А что же она иное? Вы можете мне разъяснить, в чем именно она заключается?
— В том, что вас будут помнить и знать десятки поколений…
— Да чхать я на них хотел! Мне-то какой прок от того? Я буду гнить и ничего ощущать уже не буду! И что значит помнить? Что назовут моим именем скакового жеребца или борзого кобеля? Слуга покорный, благодарю за честь!.. Вон у меня на конюшне Дон-Цезар-де-Базан[42] стоит, а кто такой был настоящий де-Базан и чем он знаменит — ни одна душа в губернии не знает: жеребец, мол, раевский и все тут! Раев грузно опустился в кресло и вдавился в него. — Вздор-с, химера!.. — закончил он. — Вечности нет ни для чего; земля и та исчезнет в свой черед!
— Так-то оно так, но ведь если эту мысль принять за исходную точку — всему бы конец пришел, и цивилизации, и прогрессу!
— Да разве они существуют? — как бы изумясь спросил Раев.
Я с таким же изумлением уставился на него. — Как, по-вашему человечество не прогрессирует?
— В чем же вы этот прогресс приметили? Скульптура — что за две тысячи лет до Рождества Христова, что теперь — одна и та же, даже хуже стада; зодчество греков, римлян, Ассирии и Египта не превзойдено; писатели их тоже; философы не вашим Соловьевым чета, «оправданий добра» не писали; общественное устройство — да где оно выше греческого? Законы — им весь мир до сих пор у римлян учится! Даже Пушкин — разве он выше Гомера, или хотя бы автора «Слова о полку Игореве»? В коем же черте прогресс-то ваш сидит? Жизнь видоизменяется, но не улучшается!
— А пар, электричество, а телефоны, наконец — самое главное — взаимоотношения людей и их правовое положение в государстве?
Раев вытянул вперед ноги, положил на них длинные руки, задрал вверх бородку и загоготал.
— Ох, и чудак же вы! — ответил он, перестав смеяться. — Это вы про эгалитэ, фратернитэ и либертэ что ли?
— Вот именно!
— Да где же вы их в действительности-то видели? В рай, что ли, на черте верхом съездили? Ведь это все только для дураков на пятифранковиках начеканено! А ваш телефон и электричество потому не были выдуманы древними, что надобности они в них никакой не ощущали!
— Ну, а насчет науки вы какого мнения? И в этой области по-вашему ничего не сделано?
— В науке сделано, верно, и именно в ней одной! Но ведь она удел десятков человек, в своем роде гастрономия и в примере для всего человечества идти не может. Это как бы иней от дыхания мозга человека: накопление его — дело времени.
— И все-таки нравственный уровень людей значительно повысился! — возразил я.
— Хо-хо-хо!.. — раскатился Раев. — А ежегодные сотни томов справок о судимости видели? А воровство кругом, от министра до приказчика? А разбойники пера и мошенники печати? А окружающие друзья-приятели? Рубля никому в долг поверить нельзя!
— Согласен, все это прежнее! И все же человек перерождается духовно: уже нет ни рабства, нет цирковых убийств, нет мученичества…
Раев поднял руку ладонью ко мне, как бы останавливая меня.
— Стоп, стоп, стоп! Прежде всего мучеников нет, потому что нет желающих изображать их, нет идеалистов. Христос был, а вот теперь есть ли он? знаете вы их? Прежде на человека была надета петля веревочная, а нынче она шелковая, в этом весь прогресс ваш… А рабство цветет и будет вечно цвести: меняются формы, а не суть. — Раев крепко шлепнул себя ладонью по колену. — Человек человеку волк был, им и будет!..
— Что же в таком случае вы скажете о столь модном теперь мнении, что человек уже подошел к рубежу, за которым для него начинается сверхчеловечество? — спросил я усмехнувшись.
Раев пожал плечами.
— Очередная глупость зазнавшегося невежества!.. — ответил он и поднялся. — Ну-с, прошу извинения: я привык всхрапнуть после обеда…
— Одну минуту!
— В чем дело?
— Я бы хотел узнать, могу я рассчитывать что-либо приобрести из ваших книг и рукописей, или нет? Если да, то разрешите кое-что отложить при просмотре…
Раев пошевелил густыми бровями и подумал несколько секунд.
— Хорошо-с. Из старья только: его я не читаю!.. Подохну, все равно раскрадут. — Он сделал мне нечто походившее на жест ручкой и стал спускаться по лестнице.
Я погрузился в мир книг.
Не знаю, сколько прошло времени до той минуты, когда мне почувствовалось, что в комнате я не один. Я оглянулся. Из люка торчала вихрастая голова лакея; на меня глядели немигающие совиные глаза.
— Вы ко мне? — спросил я.
— Чаю не прикажете ли? — глухим голосом ответил лакей.
— Спасибо, не хочу.
— Барин на конюшне: там их искать надо, если желаете…
— Нет, я еще занят…
Мне показалось, что лакей ушел, но когда я оглянулся во второй раз, он стоял на прежнем месте, только как бы вырос из-под пола до колен и облокотясь на перила, следил за мною.
— Библиотека любопытная!.. — произнес его глухой голос. Говорил он медленно, с явною одышкой.
— А вы почем знаете?
— Читывал-с… Оченно много пользительных книг!
— Что же именно вы читали? Божественное?
— Божественного у нас мало. А вот насчет спиритизму и хиромантии достаточно.
— Вы спирит? — чуть не вскрикнул я.
— Медиум-с!.. — с удовлетворением подтвердил лакей. — И барин Николай Михайлович тоже…
— Вот так история?! — я даже растерялся от неожиданности: до того не вязалась в моих глазах со спиритизмом фигура Раева. — Кто же еще участвует в ваших сеансах!
— Помещики соседние: Латкин господин и Григоров, потом дьякон наш. Большого одарения все.
— Как вас звать, скажите, пожалуйста?
— Онуфрием-с. Которые господа знакомые — Онуфрием Авдеичем именуют…
Слова эти были произнесены деликатно, но вразумительно.
Он так заинтриговал меня, что я сунул назад в шкаф только что взятую книгу.
— Идите сюда, Онуфрий Авдеевич, побеседуем!.. — сказал я.
Он вышел из загородки и не торопясь направился ко мне. Я сел в кресло и пододвинул к себе соседнее:
— Присаживайтесь!
Онуфрий подогнул колени, полузакрыл глаза и молча занял указанное ему место: сидеть с господами, видимо, было ему дело привычное.
— Что же вы, столы вертите?
Он поднял тяжелые коричневые веки и перевел на меня немигающий взгляд.
— Столы вертеть — занятие детское!.. — выговорил он. — С духами мы через письмо сообщение имеем.
— Как через письмо?
— Через карандаш. Кто-нибудь его держит в руке, а дух водит ею.
— А почему он сам не берет карандаш и не пишет?
— А чем же ему взять-с? Внушением он через чужую плоть действует.
— Ну, знаете!.. эдак чужая плоть что угодно от себя понаписать может!
Мой собеседник покачнул головой.
— Ежели для пустяков люди садятся, оно конечно… А ежели люди сурьезные — никакого обману им не надобно…
— Вот как? Но мне приходилось слышать, что духи почему-то все больше глупости разные отвечают?
— Люди всякие есть и духи так же… А бывает и от непонимания нашего иное глупостью показывается.
— Например?
— Примеров сколько пожелаете… — Он помолчал, потом заговорил снова. — Помещица здесь живет неподалеку, Иващенкова госпожа. Сын у ней ученье кончил и в офицеры вышел. И только кончил — войну с Японией объявили. Уехал он на войну, а через полгода извещение пришло из полка: убит в сражении. Мать, то есть госпожа Иващенкова, понятно, ума чуть не решилась: единственный ведь был. Сейчас она в полк телеграмму, чтобы тело ей выслали. Полк выполнил, выслал. Через два месяца прибыл сюда гроб, похороны богатые мамаша устроила, на поминки весь уезд съехался; памятник на могиле замечательный из белого мрамору поставили. Покончила дела с похоронами — сон ночью госпоже Иващенковой приснился: видит, подходит будто бы к ней незнакомый, эдакий красивый из себя молодой офицер и кланяется: «спасибо, говорит, что с заботой с такой, хорошо погребли меня»! Та отвечает — «да я вас не знаю и вас не хоронила»! А тот опять: «нет, это меня вы погребли. Ваш сын скоро назад будет»! Во вторую ночь опять тот же сон ей привиделся. Страх на нее напал. Приехала она к нам, к Николаю Михайловичу, плачет, рассказывает: как, мол, такое понять? А у нас в ту пору господа Латкин, Григоров и дьякон в сборе были. Подумали все, решили на том, чтобы дух того, чье тело погребла госпожа Иващенкова, вызвать… Вон в угольном шкафе толстая книга с красным корешком виднеется — в нее каждый раз мы свои протоколы за всеми подписями вписываем: можете убедиться, ежели желаете: никак я вам ничего соврать не могу!.. — Он сделал движение, чтобы встать, но я удержал его.
— Не надо, я и так верю!.. Что же произошло?
— Забоялась, конечно, госпожа Иващенкова: дамы они богомольные… ну, да ведь и мы все в Бога веруем, уговорили ее! Села она от нас поодаль, а мы цепь составили, Николай Михайлович карандаш взяли; сразу как толконуло всех. Видим — побежал карандаш, пишет. Пописал немного и стоп: нет движения. Стали читать, а на бумаге написано: — «я не он. Я приехал, а он в пути ко мне. Две недели будет дома».
Прочли это, глядим на госпожу Иващенкову, а она из лица изменилась, пополовела. — «Что же это»? — говорит — «неужто я чужого человека похоронила? А бумага из полка, а письма от его товарищей как же? Они его своими руками в гроб клали»? — Судим мы все и так и эдак, думали-гадали, ничего не надумали: очень все непостижимо выходило! Даже так. порешили, что скорей всего вздор, подшутил какой-нибудь дух. Уехала, значит, госпожа Иващенкова к себе, а через три дня — гость к ней пожаловал: сынок, живой и здоровый! Подъехал он к дому, а навстречу ему горничная выскочила, узнала его в лицо — назад без памяти кинулась. Он в комнаты. Экономка встрелась, — посуду несла, — как закричит, да тарелки об пол! Мать увидала — в обморок хлоп. Он ошалел: не понимает ничего, что за прием такой ему сделали? Ну, пришли наконец все в себя, объяснилось дело: ранен он был и остался на поле сражения; японцы его подобрали и увезли куда-то. А полк после второго бою сбил с того места японцев и похоронил убитых, да какого-то неизвестного офицера за господина Иващенкова и посчитали: похож был и изуродован к тому же осколком… А от японцев ему в Шанхай удалось сбежать: он и не знал ничего, что дома делается. Написал, что едет; письмо это не дошло — пропало.
Онуфрий остановился и перевел трудно дававшееся ему дыхание.
— Дальше, дальше?..
— А дальше все непонятное скоро понятным стало. Пожил он дома с матерью, знакомых, конечно, объехали всех… разговоров и переговорить не могли. А на четырнадцатый день верхом захотел покататься: подали ему коня, а конь неезженный давно был, позастоялся. Только он сел верхом — конь на дыбки, да во весь опор в конюшню. Двери-то в конюшнях низенькие — лбом о притолоку господин Иващенков и пришлись. Сшибло его навзничь с коня; побежали к нему, подняли, — а у него и дыханья нет. Пришлось госпоже Иващенковой через три дня новые, уже настоящие, похороны делать… Положили его рядом с неизвестным и памятник на середку между ними передвинули… Вот тогда и поняли мы, про какой путь его сказывал дух…
— Неужели так все и было? — спросил я. — Это что-то невероятное!!
Онуфрий встал, молча достал толстую книгу с красным корешком, развернул несколько листов и подал ее мне.
— Извольте-с… — проговорил он, остановившись передо мной.
Я взял книгу, и глаза мои быстро забегали по крупно и четко написанным строкам. Среди протоколов 1905 года под номером пятнадцатым от седьмого июня кратко было отмечено следующее: «Вызывали духа лица, погребенного под именем убитого подпоручика Иващенкова. Ответил: я не он. Я приехал, а он в пути ко мне; две недели будет дома». Дальше следовали подписи всех лиц, названных Онуфрием; последнею подписалась Иващенкова; почерк ее был неровен и свидетельствовал о большом волнении.
Еще ниже были сделаны отметки другою рукой: «четырнадцатого июня сего года подпоручик Иващенков вернулся домой, бежав из плена». «Двадцать восьмого июня с. г. подпоручика Иващенкова убила лошадь».
Затем шли протоколы № 16 и т. д.
С недоумением и даже со странным чувством я поднял глаза на безмолвствовавшего Онуфрия.
— С 1890 года ведется!.. — проронил он, слегка постучав пальцем по принятой от меня книге. — Двадцать лет-с… Многое можно отсюда узнать! Тут уж лжи нет и быть не может!.. Что евангелие!
Он бережно, держа обеими руками, понес ее обратно и осторожно, и действительно, как какую-то святыню, вдвинул на место.
— Изумительный случай!!. — сказал я.
— Да, по незнанию ежели, конечно, изумительный… — отозвался Онуфрий, — многое еще удивительней случается!
— Что же именно?
— Да мало ли что? Виденья бывают.
— Вы видели что-нибудь?
— Случалось.
— Что такое? да садитесь же, расскажите, ради Бога!
Онуфрий сел и помолчал. — Императора Павла Петровича видел-с…
— Как так? где?
— Здесь-с, в этой комнате.
— Как же это произошло? когда?
— Четыре года назад. Бессонницей я, надо вам доложить, издавна страдаю. Проснулся однова середи ночи, ворочался, ворочался — нету сну и кончено! Дай, думаю, книжку почитаю?.. шарю рукой — нету книжки, забыл ее где-то. Встал я, вижу ночь светлая, месячная, летом дело было, я и пошел босиком сюда. Свечки не взял с собой: Николай Михайлович чутко спят, так чтобы случаем не обеспокоить… мимо ихней комнаты проходить надо, а дверь у них всегда открыта. Прокрался я к лестнице, поднялся сюда, а вот в эти окошки, — он указал в сторону сада, — месяц глядит, вся комната будто в синем дыму стоит. Подошел я к шкапу, достал, что мне требовалось, а на уме свербит, будто подсказывает что: «возьми соседнюю, возьми соседнюю»! — Наклонился я — на корешке ее четко так видать натиск золотой: «Павел Первый». Вынул ее из ряду, положил на приступочку у полки и только открыл — показалось мне, будто совсем светло в комнате стало. Обернулся — лампа вот эта горит. А под ней, эдак низко нагнувшись над книгой, человек в мундире за столиком сидит. И не мерещится — въявь его, вот как вас, вижу! Замер я, понятно, дух занялся! Гляжу на него, пячусь, а он, эдак тихо, голову подымает… Сразу и признал его: император Павел были-с! Тут я с лестницы оступился и грохнулся!
— Кто же это сидел под лампой?
— Докладываю вам, что император Павел.
— Что же вы, расшиблись? Дальше что было?
— Без памяти пролежал с час должно быть… Весь дом переполошился, понятное дело!
— А наверху никого не оказалось?
— Никого. Да и быть не могло!..
— И видение повторялось?
— Нет. Не ходили, то есть больше после того, сюда в ночное время. А сторожа зеленый свет в окнах по ночам часто видят.
— Как, и теперь?
— И теперь-с. Николай Михайлович духа императора Павла вызывал после этого. Подтвердил, что он персонально был и велел все книжки, какие о нем понаписаны, в библиотеке иметь и на стол их по череду выкладывать…
— Николай Михайлович исполнил это?
— Как же-с. А как вышла впервые книжка — «Цареубийство 11 марта», — положил я ее вон на тот столик, так до петухов две ночи подряд зеленый огонь светился: император о своей кончине читали…
Мне сделалось жутко. И голос и глаза Онуфрия свидетельствовали, что я нахожусь в обществе ненормального человека, вернее — человека, только что вернувшегося из потустороннего мира и еще не очнувшегося от потрясения. Надо было переменить разговор.
— Скажите, отчего вы начали заниматься спиритизмом? — спросил я. — Что вас натолкнуло на него?
Онуфрий неопределенно пошевелил пальцами.
— Как вам доложить?.. планида такая вышла-с!
— Что за планида?
— Судьба-с, по-иному сказать… Жил я годов пятнадцать тому у одного вдового барина в городе, лет пятидесяти они были, а из себя небольшие — с длинными волосами, с сединой, вежливые; мало и слыхать их в дому было — все писали, либо книжки читали. Уйдут, бывало, утром на службу, а в доме тишина… муха пролетит слышно, ни живой души, окромя меня, в комнатах наверху не было. Скучно было сперва, задумываться я от этой тишины начал. А потом за книжки взялся: много их, побольше чем здесь было. Помалу и затянулся, пристрастие к чтению получил. Уйдут барин, а я сяду в кресло, книжку в руки и так чуть не до самого звонка ихнего провожу время. Здоровьем я с детства не пользовался, ну меня на кухню, или еще куда из дому и не тянуло — народ везде серый, какое от него удовольствие можно получить?
Весной дочка баринова единственная из Москвы приехала, институт там кончила. В доме, понятно, все вверх дном пошло! Веселые они были, голосистые, а уж из личика хороши, таких я еще и не видывал: самое малое — ну вот касаточка белогрудая, как есть!.. Горничную для них, понятно, наняли. То оне в гости, то в киятр, то у нас народ. Барин на дочку, как на цветочек какой, надышаться не мог, помолодел, повеселел; книжки нам обоим позабросить пришлось — не до чтения стало. Куда ежели идут барышня — в город ли, в гости ли, — все я их сопровождаю: без этого ни-ни, не отпускал никуда барин. Лето таким родом минуло, зима встала. А на святках, как сейчас помню — на второй день Рождества, — проснулся я еще до свету, а дверь из моей каморки я на ночь открытой всегда оставлял — барин могли позвать, так чтобы слышно было. И вижу я — горничная в коридоре пол метет — а это дело мое было, совсем не ее. Ну, думаю, вот спозаранку вскочила! с чего ж бы так вдруг мне усердствовать стала? Поднялся я с кровати, оделся, вышел в коридор — никого в нем нет, пусто. Прошел я к комнате к ейной, отворил дверь — гляжу, спит горничная. Тронул ее за плечо — вы это, спрашиваю, сейчас коридор мели? Та глаза на меня выпучила: — нет, говорит, откуда вы взяли, Онуфрий Авдеич? Я сказал, что привиделась она мне. Испугалась она, села на постель и говорит: — к худу ведь это, Онуфрий Авдеич? Я рукой махнул, ушел, не стал разговаривать, а и у самого на душе неладно стало: помилуйте, въявь ведь я призрак, как живого человека видел!
Встали все в доме — ничего, все веселые, благополучные. А к вечеру недомогаться стало барышне; к утру хуже. За доктором меня послали, потом за другим, — нет легче. В Москву телеграмму дали, профессора наилучшего оттуда вызвали. Барин как ума рехнулись: головой о стенку бился, плакал, я их водой с каплями отпаивал. Осмотрел профессор — «не знаю, — сказал, — будет ли жива: кризису ждать нужно; завтра известно все будет!» Часа в три дня он это сказал, а в четыре я уже знал, что произойтить должно: сел это я в зале у входа, а дверь в барышнину комнату напротив была, слушаю — не понадоблюсь ли на что. Сумерки были. Тишина опять такая же была, как в прежнее время. И вдруг вижу дама высокая, вся в черном, в трауре на пороге из передней стоит. Я вскочил. Кого — спрашиваю — вам угодно? и рукой так вот путь ей вперед загородил. Дама ни слова мне — и в зал: рука моя сквозь нее прошла, так холодком только овеяло. У меня и голосу не стало; гляжу ей вслед и вижу, что не человек это, туман черный облачком к барышниной комнате близится, коснулся дверей и пропал — сквозь них прошел. Оледенел я, понял, что смерть это мимо меня прошла!.. Утром барышня уже на столе лежали… Барин как застыл. Заперлись у себя в кабинете и весь день как есть из угла в угол его мерили. Родственники посъехались, утешать стали, а он как и не видел их будто. Ответит что-нибудь: «да, да», мол, — и уйдет к себе. А ночью как поопустел дом, выйдет из кабинета в зал, к покойнице, отодвинет подсвечник, снимет с личика кисейку, облокотятся о гроб да так и стоят до утра. Жалко их было, душа рвалась, мучаюсь на них глядя, а помочь чем же? ничем не мог! Пробрался к ним в кабинет, отыскал револьвер — он в среднем ящике, я знал, всегда лежал, и спрятал за книги: думал — не состроил бы чего над собой человек? Бритвы две английские были, и их убрал. Но барин и не приметили ничего!
С ног я смотался совсем за то время: днем толчея отдохнуть мешала, а ночью дума покою не давала: только приляжешь одетый, а через минутку как толкает тебя с постели — бежишь подсмотреть, что барин делает: шнурком от шторы и тем ведь задавиться можно. На третью ночь сломил-таки меня сон: уснул, как утоп. И вдруг чувствую, теребит меня кто-то за рукав. Открыл глаза — барин надо мной стоит: дверь-то открыта была, а в коридоре всю ночь лампа горела, хорошо видно мне бариново лицо было.
Поднялся я. Что вам? — спрашиваю. А они за борт сюртука меня ухватили и держат. — Онуфрий… — шепчут, да с такой заботой — как же мы ее на тот свет одну отпустим?
Мне будто ножик в сердце воткнули! Как заплачу я, обнял их за плечики: — Полноте, говорю, лягте подите! Божьих дел не перерешать нам! Разжали они руки. — Божье? — спрашивают — да разве это Божье дело?.. Онуфреюшка, зачем же она померла?! Да вдруг как вырвутся из моих рук, как затопают ногами; голову назад запрокинули, как закричат в голос — дьявол ты, дьявол, а не Бог! Будь ты проклят, проклят! убийца!! Я их ухватил, уговариваю, сам трясусь весь — на эдакие ведь слова человек осмелился! Повел их в спальную, уложил на кровать как были, в платье; ничего, смирился, стих, ослабел будто. Легли и глаза закрыли.
Утром вынос. Народа набилось — весь город. И барин в церкву пошли, а сначалу не желали того, едва родные уговорили. Отстояли обедню, попрощались с покойницей, плач, конечно, кругом, барин только один как сухое дерево стоит — ни слезинки на лице! Вынесли на кладбище, опустили гроб в яму, землей могильщики взялись засыпать. Барин глядел и как не видал ничего. Только как застучали комки по крышке, дрогнул он, ахнул, озирнулся на всех: — что ж это такое? — проговорил. Бросился было к могиле, тут его удержали, под руки взяли и к карете увели. Дома заперся он опять в кабинете и не допустил никого до себя. Я несколько раз подходил к двери, припадал к ней ухом: слышно было, что дышит человек, и ровно так. Ну, думаю, слава тебе, Господи, заснули они наконец!
Пообедал я с людьми внизу на кухне, вернулся наверх и лег в своей комнате: голова прямо как свинцом была налита! Проснулся — сумерки уже на дворе, снежок пушит. Вскочил я, чтобы к кабинету поскорее бежать, метнулся за дверь, а в зале шаги встречные слышу: барин идут.
— Онуфрий?.. позвали меня. Я выступил из коридора к ним. Вижу, брови у них сдвинуты, на лице забота обозначена, из себя бледные.
— Шубу мне!.. приказали. А в лицо мне не. глядят, бродят глаза как потерянные.
— Куда вы, барин? спрашиваю.
— Как куда? к Соне.
— Да ведь кладбище теперь закрыто?.. отвечаю — не пустят на него вас!
— Разве?
— Да верно-с!
Поднял барин на меня глаза.
— Сто рублей дам, пропустят!..
— Да зачем это вам: ночь ведь на дворе!..
Помолчали барин, лобик потерли. — Холодно!.. проговорили.
Я не понял. — Сейчас затоплю!.. — ответил. — Может самоварчик прикажете?
— Не мне… сказали: — Сонечке!.. в платьице в легоньком она?..
Я молчу.
— Страшно ей на кладбище!.. Первую ночь всего страшней одному под землей проводить!..
— Ничего оне теперь не чувствуют!.. — ответствовал я, — не беспокойте себя такими мыслями… Взял их осторожненько под локоток и повел назад. Как дитя малое послушался. Чаем их напоил; выкушали они стакан и сухарь скушали — впервые за три дня; потом раздел я их, в кроватку уложил. И только я вышел и дверь за собой притворил — слышу, визгнули эдак надрывно они, заплакали и подушку зубами рвать стали. Ну, думаю, легче им от слез станет! И так это меня утешило, что и изъяснить не могу! Прошел я на кухню душу с людьми немного отвести, посидел, побеседовал, поужинал и назад вернулся. Прошел я в переднюю на дверь на входную посмотреть, глядь — а она отперта и крючок висит без дела. — Что за притча? думаю, как это я так запереть ее забыл? Наложил крючок, а на мысль и вспало — уж не барин ли сбежал? Швырнулся к вешалке — слава Богу, и шуба баринова и шапка котиковая на местах висят! Успокоился я, поприбрал, что надо было, и сам спать лег. Утречком встал и прямо к спальной. Послушал у двери — тихо, спят как будто. Притворил легонечко дверь, чтобы, значит, платье в чистку взять, подошел на цыпочках к кровати — глядь, а она пуста! Хвать — и платья нет! Я в переднюю: дверь заперта, шуба и шапка дома, стало быть и барин не мог уйти никуда! Давай искать его; туда-сюда мечусь, да вдруг по лбу себя и хлопнул: окромя шубы у барина пальто теплое так же висело и шапка каракулевая на подзеркальнике лежала! И как я этого сразу не вспомнил — понять нельзя! Кинулся я в переднюю — нет пальто и шапки! Вразумился я, что еще вчера ушли барин. Что тут делать?! Побежал я на кухню, оповестил всех, а сам шапку в охапку, да на извозчика, на кладбище. Соскочил с санок у ворот, бегу по дорожке, завернул за поворот и вижу пятно на снегу чернеется; подбежал ближе — барин это у могилы сидит: пальто расстегнуто, сам без шапки, голову промеж рук на насыпь положил, а ветерок у него волоса белые шевелит…
Онуфрий смолк.
— Живой, или нет? — спросил я.
— Мертвые…
— Замерз, значит?
— Нету-с. Вскрывали их, осматривали; нашли доктора, что сердце не выдержало, разрыв его произошел.
— Какие у вас все жуткие рассказы!!. — проговорил я. — Но какое же отношение имеет эта история к тому, что вы стали спиритом?
— А через нее и сделался… — ответил Онуфрий. — Не кончилось ведь дело со смертью барина: в ночь на их похороны во сне явились мне. Отворили будто бы нараспах мою дверь и веселые такие вошли, довольные. Поздоровались со мной, а сами помолодевшие, красивые. Я будто бы их и спрашиваю — хорошо ли вам, барин?
— Очень даже хорошо!.. — отвечают. — С Сонечкой вместе мы!.. Я вот к тебе зачем пришел: пройди ты в день моих похорон ровно в полдень в кабинет и возьми себе ту книгу, что на полу лежать будет: это тебе от меня награда за службу!
Проснулся я утром и не утерпел — до сроку заглянул в кабинет: никакой книги там на полу не валялось. Потом вынос начался, суета и все прочее — сон мой у меня за хлопотами и из головы вон! В церковь мне не довелось пойти — по дому надо было убраться. Остался я один, вытираю пыль со столов и вдруг часы в столовой будто на башне на какой загудели. А часов у нас много было, в каждой комнате имелись. По всему дому трезвон пошел и необыкновенный такой-то… много раз я его слыхал и такого сильного, да с протяженностью и не помнил! Посчитал я — двенадцать пробило. Сон мне разом и вспомнился! Забилось у меня сердце, пошел я к кабинету, а у самого душа мрет: верите ли — ночью никогда такого страху не знавал, как тогда, в светлый день. И попомните мои слова: завсегда полдень страшнее полуночи. Не дай Бог в полдень одному купаться хотя бы идтить: всегда в полдень топнут люди!
Дошел я до кабинету и встал: боюсь вперед ступить, все чудилось — вот, вот сейчас барина покойника встречу… Однако одолел себя, открыл дверь, глянул… никого нет, а на полу и впрямь у полок книга лежит переплетенная! Корешок у нее вверх, распушилась, что курица на гнезде. Задрожал я весь, как книгу эту увидал: понял, что не сон то мне был, а видение! Поднял я ее с полу, хочу прочитать озаглавленный лист, и не могу: буквы в глазах прыгают! Попридержал себе рукой сердце и разобрал слова — книга медиумов господина Аллана Кардека. Унес я ее к себе, читать взялся: темно, половины в толк не возьму! Спрятал я ее в сундук к себе. А вскорости я на другое место, к Николаю Михайловичу определился. Увидали они у меня книжку, принялись расспрашивать, откуда она у меня да почему. Я и рассказал, конечно, как вам. Вот с той поры и стал я с ними в спиритизме участвовать… полного откровения всех тайн удостоился!..
— А давно вы у Николая Михайловича служите?
— Четырнадцать лет скоро. Здесь и помру-с!.. — добавил он.
— Почему вы так уверены в этом?
— Открыто мне… знаю потому что!..
Внизу раздался громкий голос Раева. Онуфрий услыхал его, оперся обеими руками на боковины кресла и поднялся.
— Николай Михайлович пришли, — проговорил он, — извините-с, может меня ищут зачем-нибудь?..
Не торопясь он скрылся под полом. Разговор с Онуфрием взвинтил меня. Желание продолжать возиться с книгами пропало совершенно. Я машинально перелистал еще с десяток томов, сунул на место последний и отправился вниз.
Николая Михайловича я нашел на середине двора. Он стоял, опершись на свою суковатую дубинку, и наблюдал, как перед ним гоняли на корде великолепного вороного рысака. Пышная грива и хвост коня развевались по ветру, зрелище было красивое.
— А-а?.. — приветствовал Раев мое появление. — Просмотрели книги?
— Да, но не все. Устал. Да и с вашим Онуфрием Авдеичем забеседовался…
— О чем?
— Да диковинные разные истории он мне рассказывал… Никак не ожидал встретить здесь оккультистов!!.
— Есть многое на свете, друг Горацио!.. — пробурчал Раев. — Ходу, ходу!!. — прикрикнул он на конюха и поднял палку. Молодой краснорожий малый в жилетке, из-под которой белела рубаха с синими мушками, щелкнул бичом, и лошадь разостлалась по земле еще больше.
Мы досмотрели «проминку» рысака до конца и воротились домой. Хозяин разговора об оккультизме не подымал, и начинать его вторично я считал неудобным. Мы прошли через дом и расположились на балконе, выходившем в сад.
Солнце садилось. Внизу синела река; за ней изгибалась дорога; весь горизонт закрывали леса.
— Нашли для себя что-либо в библиотеке? — спросил Раев.
— Да, кое-что… Разрешите велеть принести сюда и показать вам?
Раев грузно повернулся, взял со стола колокольчик, и густой звон разлился по всему дому. Отворилась стеклянная дверь и показалось мертвое лицо Онуфрия.
— Книжки надо сверху сюда снести!!. — распорядился Николай Михайлович.
— Они на окне лежат… — дополнил я.
Онуфрий ушел и через несколько минут вернулся с книгами и положил их перед нами на стол. Николай Михайлович мельком переглядел их.
— Сколько я вам за них должен?
— Не знаю… оцените сами!
Я терпеть не могу таких оценок, так как в результате их всегда приходилось платить втридорога. Я сказал антикварную стоимость книг и упомянул, что за эту цену могу купить их на Литейном в Петербурге. Общая сумма выходила что-то рублей за двести.
— Значит их надо считать рублей в пятьдесят?.. — проговорил Раев. — Это не будет дорого?
Я поспешил его успокоить и расплатился. Раев сунул кредитки в боковой карман, я встал, поблагодарил его и начал прощаться. Раев не принял протянутой ему руки и замахал на меня.
— Что вы, что вы?! — заявил он. — Куда это на ночь глядя поедете? переночуйте, а там и с Богом!..
Торопиться и деваться мне было некуда, и приглашение Николая Михайловича я принял с удовольствием. Через некоторое время босоногая горничная в красном платке стала накрывать на стол; появились сморчки в сметане, жареные караси, а затем важно воссел на край стола пузан-самовар, весь окруженный облаками пара. Онуфрий стал поодаль, оперся плечом о столб веранды и ждал — не потребуются ли его услуги, и в то же время внимательно слушал нас.
Мы заговорили об археологии и о курганах, виденных мною кое-где по дороге.
— И на моей земле имеется тройка!.. — сказал Раев. — В народе их зовут тремя братьями.
— Где же они? — заинтересовался я.
— Да у самого сада, в бору в заповедном.
— А почему их зовут братьями?
— Рассказывают, будто бы три тут брата разбойника жили. В самом большом похоронен будто бы старший брат, в среднем — средний, а в самом маленьком — младший.
— Вы их не раскапывали?
— Нет. Жалко; лес на них чудесный стоит: сосны обхвата по три! Да и что там искать? кости да дрянь какую-нибудь ржавую?
— Находок не случалось около них?
— Бывали… монету мне однажды пастух принес треугольную, серебряную. Показывал я ее в музее — четвертак Алексея Михайловича оказался. Большой-то курган крут очень, осыпается после дождей, вот в осыпи и находят иногда разную чепуху.
— А легенды нет какой-нибудь об этих курганах?
— Ну как не быть?.. уверяют, будто там клад необыкновенный зарыт и его мертвые братья караулят. Видят их будто бы по ночам.
Мы замолчали. Николай Михайлович мешал ложечкой чай в стакане и задумавшись глядел в даль.
— Любопытная вещь, — заговорил он опять, — древние обладали каким-то даром прозрения истины! Мы это уже утратили, и нужны тысячелетия, чтобы мы опять открыли и поняли их знания.
Я попросил пояснения.
— Да вот мы заговорили с вами о курганах… — ответил он, — ведь древность сжигала своих мертвецов? Она утверждала, что мертвый быстро и легко переселяется таким путем в вечное царство света!
— В чем же тут ее прозрение?
— В том, что и наука пришла теперь к тому же выводу!
— В первый раз слышу!
— В первый раз слышите? — протянул Раев, — последнее достижение ее в том, что все в мире может быть превращено в лучистую энергию и что лучистая энергия тоже может быть превращена в любой предмет или существо. Говоря грубо — полено превращается в свет и свет может быть превращен в полено!
— Да, — возразил я, — но ведь в науке речь идет только о материи, вы же говорите о духовном?
— Завтра откроется и духовное!.. — пророческим тоном произнес Раев.
— Возможно!.. — согласился я. — Именно теперь наука вступает в область чудес.
— И как жаль, что она профанируется! — проронил Раев. — Она должна быть, как в древности, достоянием лишь немногих, самого верхнего кружка, самой замкнутой касты. Толпа ученой никогда не будет, и лишние сведения — вред и ничего более!
Мы пробеседовали долго. Раев, оказалось, тщательно следил за всеми новинками в области самых различных знаний, много читал и думал. И я чувствовал, что об оккультизме он не заговаривает потому, что смотрит на меня как на неверующего в их тайны и не желает снисходить до моего посвящения.
Мы наконец простились, и Раев ушел к себе. Я задержался на балконе, любуясь ночью. Онуфрий молча убирал со стола.
— Онуфрий Авдеевич? — обратился я к нему. — Не будете ли вы добры сводить меня к курганам?
Онуфрий повернул ко мне лицо.
— Сейчас?
— Да. Они ведь близко тут?
— Близко… извольте, коли угодно.
Мы сошли с ним в сад и стали спускаться вправо по дорожке в сторону леса. Через несколько минут мы пересекли аллею, перебрались через канаву с валом и очутились на небольшой полянке. На ней очерчивались озаренные луной три насыпных кургана; средний из них был самым высоким и казался гигантским шлемом, поставленным на землю; над ним, будто отблеск длинного языка огня, чуть краснел ствол громады-сосны. Густо-синяя шапка ее утопала в сизой мути неба. На двух других соседях сошлись целые семьи сосен-богатырей.
Мы обошли курганы кругом и остановились перед обрывистой серединой самого большого. Песок посвечивал, будто золото. Подувал ветер; сосны шумели и гул, словно отдаленный говор множества суровых голосов, расходился по черной глубине бора.
— Стан разбойников!.. — мелькнула во мне мысль.
— Следовало бы покопаться здесь!.. — промолвил я, кивнув на курганы.
Неподвижно стоявший Онуфрий встрепенулся. — Никак нельзя!!. — отозвался он.
— Почему?
— На заклятье они стоят: тринадцать душ человеческих загинуть должно, прежде чем клад в руки дастся!
— А тут, вы думаете, клад есть?
— А как же! Неполно вам давеча Николай Михайлович сказывали: пещера глыбокая под всеми тремя курганами имеется, а в ней бочки и сундуки с золотом и камнями самоцветными навалены и на цепях подвешены. А братья по чередку на сторожу выходят о полночь… видывали их люди. Синие, что утопленники; рубахи на них железные, колпаки тоже и копья в руке!
Не торопясь мы пошли обратно.
Месяц светил прямо на дом, темною массой залегший среди кустов; река внизу и два окна мезонина отливали одним и тем же тусклым, мертвенным светом. Дом спал. А кругом его сквозь сон цикотали кузнечики, кричали внизу коростели; ночная птица бесшумно провеяла совсем низко над нами.
Онуфрий провел меня в угловую комнату, где на широком диване белела приготовленная постель, пожелал мне доброго сна и удалился так же бесшумно, как совка над садом.
Я проснулся в шесть часов утра. Комната была полна свежести и аромата цветов: окна стояли распахнутыми всю ночь. Солнце еще не освещало мою сторону дома, но лучи его уже наполняли весь сад.
Я быстро оделся, умылся и вышел на балкон. Раев в парусиновой куртке сидел за столом и пил молоко. И на нем, и на столе, и на полу балкона было накинуто кружево из живых смеющихся пятен, теней и бликов солнца; лучи его проникали сквозь зелень дикого винограда, стеной отделявшего балкон от сада.
— А?.. воскресли!!. — приветствовал меня Раев. — А я думал заспитесь!
— Нет, я рано встаю!.. — ответил я, здороваясь.
— Кофе, или молочка? Есть и то и другое!
Я предпочел молоко и после основательного, чисто деревенского подкрепления, простился с хозяином.
Он вышел проводить меня на двор. Онуфрий укладывал с Никитой новоприобретенные мною книги.
— Попадете опять в наши края — заезжайте!.. — сказал Раев: — буду рад!
Онуфрий несколько смутил меня. Прощаясь, я хотел сунуть ему в руку бумажку, но он отступил назад и заложил руки за спину.
— Этого не нужно!.. — проговорил он.
Раев молча наблюдал за нами; брови его чуть сдвинулись.
Я спрятал деньги и протянул Онуфрию руку.
— Спасибо за то, что вы возились со мной!.. — сказал я.
Онуфрий поклонился и подержался за мою руку холодными пальцами.
— Не на чем-с, сударь!.. — с достоинством ответил он, помогая мне влезть в телегу. — Благополучного вам пути!..
Глаза Николая Михайловича опять сделались приветливыми. — С Богом! — крикнул он, и Никита дернул вожжами. Сейчас же нас обступил бор; сразу стало теплее, дышалось смолой, воздух не шелохнулся; казалось, далеко кругом нет человеческого жилья и одни сосны да ели обдумывают здесь в тиши важные думы.
VII
Мы держали путь к последнему намеченному мной месту — в имение Сталинских, купленное лет пять тому назад купцом Ватрушкиным.
Трое последних Сталинских чуть не три четверти века подряд были предводителями дворянства, и дом их считался одним из первых в губернии. Но праздники и хлебосольство сильно пошатнули дела их, и после смерти последнего Сталинского дочери-наследницы продали Ватрушкину гнездо предков и переселились в Питер.
Как я слышал, в руки купца вместе с домом перешла и большая библиотека; мебель была вывезена в Питер.
О Сталинских мне рассказывали чудеса. Дом их всегда был полон гостями, и для приезжих имелся даже особый флигель в саду.
Парк состоял из кленов и лип; вдоль главной аллеи, от самого дома по обеим сторонам тянулись уцелевшие еще от времен Александра I белые постаменты для живых картин и отдельных людей, расставлявшихся на них вместо статуй во дни шумных съездов гостей. Терраса дома, цветник, аллеи — все иллюминовалось тысячами разноцветных бумажных фонариков. Близ дома, начинаясь среди цветника, раскидывался большой искусственный пруд с островком посредине; на последнем находился грот, сделанный как бы из скал, с подобием сталактитовых колонн внутри него… С островка пускались фейерверки, на нем же гремел домашний оркестр, услаждавший публику отрывками из Калифа Багдадского и других модных опер. Вокруг этого уголка Версаля двигались живые гирлянды разодетых нарядных гостей. В сумерках аллей завязывались романы, происходили желанные встречи… С падением крепостного права праздники сделались значительно скромнее: своего оркестра уже не было — вместо него играл приглашавшийся из города, большею частью военный. Пьедесталы опустели, уменьшилось число гостей. И все же эти миниатюры прошлого были пышны для своего времени и гремели на всю губернию.
Замечательны были, по рассказам, ворота, ведшие в усадьбу: на двух белых каменных колоннах сидели два черных льва, державших в лапах щиты с гербами владельцев.
Имение это находилось всего верстах в десяти от имения Николая Михайловича, и понятно, с каким нетерпением я всматривался вперед, ожидая из-за каждого поворота увидать этот дом, обвеянный сказкой. Бор тянулся бесконечно. Мы пересекли по другому мосту опять ту же сонную речку и поднялись на взгорок. Зеленя ржи и овса сменили лес. Впереди, верстах в трех на небольшой возвышенности темнел какой-то длинный дом; кругом него лежали свежеподнятые пашни.
— Ватрушинская земля пошла!.. — проговорил Никита.
— А дом где же? — спросил я, оборачиваясь то в одну, то в другую сторону.
— Да это-то что ж?! — удивился Никита и указал пальцем на темный дом. — Самая это усадьба и есть!
На душе у меня захолонуло.
— А парк где же?
— Парк вырублен!.. овсы на его месте в прошлом годе вот какие стояли!.. — Никита провел рукой по своей груди. — А нонешний год картошку собирался Ватрушкин на нем садить…
Молча мы доехали до ворот усадьбы. Две облупленные круглые колонны с выглядывавшим из-под осыпавшейся штукатурки кирпичом пропустили нас на пустырь громадного двора. Львов на них не было: вместо них торчали только погнутые железные стержни. Штук пять собак залилось лаем и черными и белыми шарами покатилось под ноги лошадям. Справа лежало поле, усеянное толстыми пнями; правильные линии их указывали, что то были остатки аллей; кое-где виднелись полурассыпавшиеся кирпичные пьедесталы. Ближе к дому залегала обширнейшая, в добрые полдесятины, довольно глубокая и сухая выемка, с причудливо очерченными берегами; среди нее возвышался бугор; на нем грудились кучи набитого щебня и несколько нагроможденных друг на друга крупных камней; это было все, что осталось от пруда, от парка, от грота, от волшебных снов, когда-то витавших над этими местами…
На гам, поднятый собаками, на простецком крылечке, видно недавно переделанном из барского подъезда, появился молодой простоволосый малый в жилетке и в смазных сапогах-, выбеленных мукою. Никита остановил лошадей.
— Егор Митрич дома? — обратился он к малому.
Тот тряхнул русыми волосами и скользнул по мне серыми, проницательными глазами.
— Дома; чай на балконе пьет! А на что вам его?
— Купить кое-что у него хочу!.. — ответил я, выбираясь из телеги.
— А!.. ну что ж, заходите!.. Да цыц вы, ироды! — прикрикнул он, топнув ногой на бесновавшихся собак. — Идите за мной!..
Мы направились не в дом, а стали огибать его по бывшему саду.
— А почему мы не через дом идем? — полюбопытствовал я.
Малый оглянулся на меня. — Да ведь лабаз у нас там, мука сложена, — ответил он, как бы удивившись моему незнанию такой простой вещи, — позабиты все хода внутри!
— А хозяева где же помещаются?
— И они тут же живут! Домина огромаднеющий, про все его хватит!
Мы завернули за угол, и место бывшего пруда открылось передо мной полностью. Следы куртин между ним и домом и пни аллей свидетельствовали о красоте, которая развертывалась некогда с балкона перед глазами уже ушедших из этого мира людей. Я остановился, стараясь восстановить прошлое; мой проводник поспешил тем временем вперед с докладом хозяину. Шаги позади заставили меня обернуться: на балконе, положив на перила волосатые руки и навалясь на них всем телом, стоял полный, пожилой человек — очевидно сам Ватрушкин — в пестрой рубахе навыпуск и в жилетке. Все у него было длинное и несуразное: явно еще не мытое и измятое лицо с коричневыми, припухлыми мешками под глазами, нос в виде дули, лоб, сплюснутый с боков, и даже волосы — реденькие, желтые на бороде и пыльного цвета на голове, кончавшейся острием вроде крыши. Свинцовые глаза купца внимательно обозрели надетую на мне русскую рубашку, высокие сапоги и велосипедную фуражку.
Я приподнял ее и поздоровался. Он ответил наклонением головы.
— Приехал к вам по делу!.. — начал я, подходя к балкону.
— Заходите! — лениво проговорил Ватрушкин.
Я поднялся по нескольким ступеням и оказался перед большим, крашеным столом; на нем стоял почти потухший самовар и допитый до половины стакан чаю с молоком. На блюдечке горкой лежал облепленный мухами сахар; один кусок был обгрызен и положен на краешек того же блюдечка. Мы сели. И тут я сделал ошибку: почему-то пустился пояснять цель моего странствования по губернии.
Ватрушкин сначала внимательно слушал меня, затем на опухшем лице его все явственней стало проступать какое-то недоумение, потом недоверие и, наконец, пренебрежение. Он вытянул ножищи с неимоверно большими ступнями, засунул палец в свою дулю и принялся копать ее; затем придвинул к себе стакан, откусил кусочек сахару, положил огрызок на прежнее место и стал громко прихлебывать с блюдечка свое мутное пойло. Мне чаю им предложено не было.
— Я слышал, что вы вместе с имением купили и библиотеку: может быть разрешите ее осмотреть и затем продадите всю, или часть ее?
— Чего ее смотреть? — отозвался, сдувая пенку, Ватрушкин. — Книжки книжками и есть!..
— Но ведь как же покупать или продавать товар без показа?
— Да я и не собираюсь продавать! — ответил хозяин.
— Отчего?
— Да так. Не желательно нам!
— Но почему же?
— Пущай лежат! — Ватрушкин поставил блюдечко, помолчал, набрал слюны и плюнул через весь широкий балкон прямо в сад, отчего у него студнем всколыхнулось все чрево. Занятие это, видимо, нравилось ему чрезвычайно.
— На что же это вам книжки требуются?
— Для пополнения библиотеки, для чтения…
— Тек-с! — Ватрушкин покосился на меня углами глаз и опять стал смотреть в сад. — Намедни у нас одному хвост за это самое чтенье пришпилили!..
— Как это хвост пришпилили?
— Да так… распушил его очень не к месту!..
— Я что-то вас не понимаю! Уступите, в самом деле, книги: хорошее дело сделаете!
— Мы в эдакие дела не путаемся!..
— Ведь у вас их все равно мыши съедят.
— Пущай едят… муке меньше порчи будет!..
— Все-таки, может быть, продадите? пусть лучше ими люди попользуются!
Ватрушкин икнул, перевел глаза на посев из пней и, как бы не замечая меня, молча, стал постукивать по столу пальцами.
Невоспитанность этого животного стала меня раздражать, но желание добыть что-либо из погибающего хранилища заставляло меня сдерживаться. Ватрушкин подманил к себе пальцем стоявшего неподалеку от нас малого и что-то пошептал ему на ухо. Тот иноходцем протопотал с балкона.
— Вам ведь книги совершенно ни к чему? — продолжал я свои уговоры. — А я дам хорошую цену!
— Не нуждаемся мы! — так же пренебрежительно-равнодушно и не глядя на меня повторил купец. Указательный палец его опять погрузился в нос.
— Это ваше последнее слово?
— А то какое же еще? Самое распоследнее!
Я встал.
— Жалею, что приехал к вам; я полагал, что вы несколько любезнее!..
— Этим мы не торгуем! — процедил Ватрушкин.
Я, не прощаясь, молча, повернулся и пошел с балкона. Ватрушкин даже не пошевельнулся.
Никита стоял около телеги и разговаривал с каким-то, словно только что выкупанным в муке, человеком, в картузе.
— Едем! — отрывисто сказал я, влезая в телегу.
— Что так скоро? — Иль не поладили?! — удивился Никита.
— Разве с такой свиньей поладишь? — сердито вымолвил я. — Собака на сене: сам не ест и другим не дает!
— Не продает что ли книжки?
— Нет. И разговаривать даже не желает, морду воротит!
Человек в муке усмехнулся. — На цигарки мы их берем — сообщил он. — Коли угодно, на дорогу парочкой ссужу вас?
Я махнул рукой и мы покатили обратно. Собачий хор залился еще неистовей. У ворот я оглянулся на дом: одноэтажный, высокий, с огромными окнами он казался сурово умиравшим отшельником. Видная мне часть окон была выбита и наглухо заколочена изнутри щитами; мезонин весь был обнесен когда-то, как верх Румянцевского музея, легкими колоннами; — из них с каждой стороны уцелело лишь по несколько штук, да и те покосились и грозили падением; флагшток был сломан и над крышей торчал лишь осколок его. Не было сомнения в том, что еще год-два и старый дом будет разобран и на его месте водрузится что-либо вроде трактира с крепкими напитками!
От ворот сейчас же начиналась довольно большая деревня. Мы лихо пронеслись по ней, и за околицей Никита придержал разошедшихся рыжих.
— Теперь куда же? — спросил он.
— На станцию, — ответил я, — будет с меня на этот раз! Поспеем к поезду?
— У, за глаза; времени много! — отозвался Никита. — Отсюда верст семь всего до нее!
Мы сделали приблизительно половину пути, когда и мне и Никите почудилось, что позади нас кричат. Мы оглянулись и в облаке пыли увидали какого-то всадника в черном, махавшего рукой и во всю прыть доспевавшего за нами на пегом коньке. Никита прикрыл глаза от солнца ладонью.
— А ведь это урядник скачет? — проговорил он.
— Стой!.. Стой!.. — донеслось до нас.
Никита натянул вожжи и лошади стали. Урядник подскакал к нам и спрыгнул с тяжело водившей боками пегашки. Держа повод в руке, он подошел к нам и положил левую ладонь на облучок. Загорелое усталое лицо его было красно, фуражка сбилась от скачки на затылок, темные, коротко остриженные волосы, торчали щетиной.
— Кто таков? — строго спросил он, нахмурив густые брови и уставив на меня карие глаза.
— А вам какое дело? — спросил я в свою очередь.
— Прошу не распространяться: я при исполнении служебных обязанностей! видите, кто перед вами стоит? — он указал на свой мундир и погоны.
— Паспорт есть?
— Есть.
— Дозвольте сюда!
Я открыл чемодан и стал рыться в нем; урядник ждал с начальственным видом, Никита, приоткрыв рот, взирал на нас с недоумением. Мне сделалось смешно. Паспорт отыскался скоро, и я протянул его уряднику вместе с бумагой губернатора, в которой предписывалось всем местным властям оказывать мне всяческое содействие и помощь. Урядник важно начал читать бумагу, и, по мере того как подходил к концу, строгость исчезала с лица его, брови разъехались по местам; он часто заморгал глазами и растерялся. На выпуклом лбу его крупными каплями выступил пот.
— Виноват-с, ваше высокоблагородие! — произнес он захлебнувшимся голосом, опустил руку с документами вдоль ноги, а другую поднес к козырьку вместе с поводом. — Извините великодушно!
— Ничего, ничего!.. опустите, пожалуйста, руку! — ответил я. — Только объясните мне, почему вы помчались за мной в погоню?
— Да дурак этот Ватрушкин во всем виноват, ваше высокородие. Приказчика прислал ко мне: скорей, говорит, беги к нам сицилист приехал!
— Почему социалист? — изумился я.
— Да как же — в рубахе, говорит, и книжки скупает, пропагандист, явно! Ну я за вами! Уж простите, Христа ради, на беспокойстве! Из-за глупого человека все вышло! — урядник вытер рукой лоб.
— Пустяки, всяко случается! — ответил я. — Вы исполняли вашу обязанность.
— До начальства не доводите, ваше высокородие, — заискивающе заглядывая мне в глаза, попросил урядник, — оно хоть и обязанность исполнял, а попадет!
— Никому не скажу, успокойтесь! Ну, а теперь больше от меня вам ничего не надо?
— Помилуйте-с!.. может сопроводить вас прикажете?
— Нет, спасибо, ничего не нужно! Ну, Никита, трогай! До свиданья!
— Счастливо оставаться, ваше высокородие! — по-солдатски гаркнул урядник, опять вытянувшись и отдавая мне честь.
Пыль закрыла блюстителя порядка. Я сидел и улыбался; Никита загибал себе бороду в рот и посмеивался.
— Вот ведь что выдумал Ватрушкин: — ах, скажи пожалуйста, вредный человек какой! Ведь ни за что ни про что забрать могли? А бумага-то, видать, у вас хорошая, — с заметным почтением добавил он, — в пот его, идола, от нее сразу ударило!
Я наизусть передал Никите содержание ее. Он выслушал с напряженным вниманием.
— Вот бы и нам такую, — промолвил он, — житье, помирать бы не надо было. — Он вздохнул и подогнал лошадей.
Впереди, среди ровных полей, показались водокачка и кирпичные здания станции; рельсовый путь, этот безмолвный зов в беспредельность, исчезал в синей дымке дали.
Мир прошлого остался позади!
Очерк третий
I
Орловская губерния — гнездо моих предков. В ней особый воздух, особые нравы. И я решил поколесить по некоторым, неизвестным мне уездам, чтобы ознакомиться с ее многочисленными старинными усадьбами и с тем, что сохранилось в них.
На одной из станций близ Орла жил мой давнишний приятель, купец Титов, имевший мелочную лавочку, в которой хозяйничали две его дочери; сам он «этими пустяками» не занимался и вел довольно крупные лесные дела. Познакомился я с ним случайно, в Петербурге, в доме у одного из своих друзей. Приехал я как-то к тому вечером и мне сразу бросилась в глаза новая, очень приметная личность: высокий и сухощавый гость в наглухо застегнутом сюртуке и в длинных, хорошо начищенных сапогах; с продолговатого лица его падала на грудь узкая, темная борода. Волосы на голове незнакомца были причесаны а-ля мужик; маленькие, карие глаза глядели из-под точно углем проведенных бровей спокойно и чуть насмешливо. От него так и дышало рассудительностью и невозмутимостью. Лет ему можно было дать около пятидесяти.
— Пров Иванович Титов!.. — назвал его хозяин. — Наш, орловский купец; лес приехал у меня покупать… Рекомендую особенному вашему вниманию!
— Очень рад, — ответил я, пожимая сухую, жилистую руку Титова, — но, увы, лесов у меня нет!
— Это археолог и большой любитель старины! — добавил хозяин, похлопав купца по плечу. — Потолкуйте с ним, друзьями станете!..
— Какой уж я археолог? — несколько тягуче ответил Титов. — Архиолух разве… — так, придерживаю, что само в руки плывет!
Мы присели к сторонке и разговорились. Титов оказался действительно любителем и собирателем старины; говорил он не торопясь, немногословно, характерным языком, четко обозначая свою мысль. Какой-либо неловкости или стеснения, обыкновенно испытываемых людьми, попавшими не в свое общество, в нем не чувствовалось совершенно. Через десяток-другой фраз Титов стал говорить мне ты; «тыкал» он решительно всех, даже собственного губернатора. Титулованных и чиновных особ именовал при этом «ты, ваше сиятельство» или «ты, ваше превосходительство».
Я долго стеснялся употреблять по отношению к нему это местоимение — вероятно года два, пока Титов сам не заметил и не сказал мне с некоторым удивлением — Да чего это ты меня все выкаешь? Я ведь тебе не родитель!
Титов так заинтересовал меня, что я пригласил его к себе, и с тех пор он постоянно посещал меня, наезжая по делам в Петербург, что случалось довольно часто. И должен сознаться — редко среди лиц интеллигентных я встречал таких деликатных и таких трезвых умом людей, каким был этот, писавший каракулями и не то чтобы шибко разбиравший грамоту, вчерашний мужик.
Он постоянно тянул меня в Орел, соблазняя раскопкой курганов, имевшихся на его земле. Иногда он привозил мне кое-какие предметы XVII века. Я несколько раз собирался побывать у него, и каждый раз случалась какая-нибудь помеха.
Наконец накануне Петрова дня в 1907 году я сел в вагон и почти через двое суток уже шагал рядом со встретившим меня на станции Провом Ивановичем по разомлевшей от зноя, пыльной улице поселка к небольшому коричневому дому, из-за которого выглядывали верхушки деревьев садика. Вещи мои — чемодан, подушку и бурку — сопя тащил позади нас рябой станционный сторож.
— Ну вот и хорошо, что надумался, наконец, и приехал! — говорил с довольной улыбкой Титов. — Получил вчерась твою телеграмму, уж так обрадовался! вполне праздник вышел!
По невысокому крылечку мы поднялись и вошли в тесную, деревенскую лавочку, где можно получить все, что нужно для незатейливого обихода: ситец и чай, деготь и сахар, керосин, грошовые пряники и леденцы в аляповатых бумажках и т. д. За прилавком стояли две принаряженные, уже несколько пожилые девушки — дочери Титова.
— Хозяйки мои!.. — сказал Титов, кивнув на них, — Марья и Пелагея!
Он отворил другую дверь и пропустил меня в небольшую столовую, тесно заставленную мебелью. Нас ожидал кипевший самовар и стол, весь уставленный закусками. Над столом опускалась с дощатого потолка керосиновая большая лампа с белым колпаком; на двух оконцах висели белые же тюлевые гардины; сквозь них зеленела герань.
Девушки вошли за нами.
— Прошу, гость дорогой, — говорил хозяин, — садись где любо, хлеба-соли откушай!
Мы разместились, и Пров Иванович принялся потчевать меня то тем, то другим из обильно наготовленных яств.
Мы побеседовали о железной дороге, о питерских новостях, и разговор перешел на дальнейшую цель моей поездки. Пров Иванович задумался.
— Времечко ты не больно ладно выбрал! — промолвил он. — Покос теперь везде, лошадей трудно доставать будет!
— Как-нибудь устроюсь! — ответил я. Если бы отложить отъезд — и совсем бы никуда не выбрался в этом году!.. Ну, а ты как поживаешь, Пров Иванович?
— Да я что ж? — он слегка развел руками. — Слава Богу, живем открыто — три раза в день чай пьем!
— Лавка хорошо ли идет? Ишь, помощницы-то у тебя какие отличные!..
Девушки обе потупились, а Пров Иванович качнул головой.
— Не помощницы они у меня — хозяйки: сами дело ведут. Кажному человеку надо занятье себе иметь: не одни же семечки весь век лущить? Ничего себе, бредут, как богомолец с клюкой!..
— А сынок как живет в Орле? Хорошо учится?
— Какое нонче ученье? Нонче гимназисты учителей учат, яйца умней курицы стали! — недовольно ответил Титов. — Взять его думаю из гимназии!
— Что так? Ведь ты его в университет хотел пустить? Дома к университету не подготовишь!
— Нонче подготовка одна: прямо в арестантские роты! И что это творится — понять нельзя: ослепли, ровно, люди! А насчет университету Митькиного я уж мысли бросил: ни к чему это дело теперь; так я тебе скажу — не в университет нонче поступай, а в острог. Получишь диплом с бубновым тузом заместо орла, что в остроге сидел, — везде тебя, распростерши руки, примут! Я на днях в вагоне ехамши такой разговор слыхал; один гост подин — и порядочный такой, в пальте в хорошем, говорит другому: устроить такого-то надо, замечательный человек, на Карийской каторге десять лет был. И тут же о другом речь пошла: — ну, этот дрянь, говорит, из лицею он! вот тут и смекай, куда нонче сыновей определять — в лицей, или в арестантские роты. Нет, возьму малого, пущай в приказчиках при мне по лесному делу ходит!
— Жаль… А у кого он живет в Орле? может просто присмотра нет за ним настоящего?
— Да есть! У знакомых у хороших живет: комнату с моралью ему нанял, все честь-честью… Не в присмотре дело!..
Мы покончили в закуской и отправились в кабинет хозяина осматривать его собрание старины. Титов шел впереди, и, когда он отворил дверь в заднюю угловую комнату, мне показалось, что я вхожу в настоящий музей. Все стены были покрыты картонами с прикрепленными к ним всевозможными нательными крестами, бляхами, серьгами, бусами и прочими вещами из могил. Картонки чередовались с шишаками разных сохранностей, ржавыми кольчугами и разным оружием. Красный угол и часть стен около него занимали старинные иконы и наворотные медные кресты.
Среди комнаты стоял письменный стол с большими фикусами перед ним; два книжных шкафа, набитых книгами, отделяли уголок, в котором ютилась кровать хозяина. Комната блестела чистотой и порядком. Письменный стол оказался складом старинных монет и всяких более ценных предметов. Пров Иванович оседлал кончик своего длинного носа очками в оловянной оправе и стал раскладывать передо мной свои драгоценности. Многолетнее собирание дало ему практический нюх и он довольно верно определял степень редкости вещей.
Разборка и осмотр их заняли порядочно времени. Особенно ценных могильных предметов мне не встретилось, но среди монет и икон имелись редкости: рубли с крестом Петра I, портретные Александра I, вензельный медный гривенник Екатерины II и т. д. Среди икон две были XV века с почернелою серебряной басмой кругом. Нельзя было оторваться от лика Богоматери — до того строго и проникновенно написал его неведомый художник.
— Хороши? — с гордостью осведомился Титов, увидав, что я не отвожу от них глаз.
— Да уж что говорить?! — отозвался я. — Изумительны!
— То-то!.. сам Рублев писал.
— Может быть… манера его!
— Не на манеру гляди — на лик: душа в нем скрозь краски светится! Ни у кого, окроме Рублева, не найдешь этого!..
— Откуда они у тебя?
— У барина взял у одного… князек такой разорившийся был!..
— Только иконы одни купил?
— Зачем? с имением взял их, в придачу. Висели они по углам; я их, признаться, споначалу и во внимание не взял! А потом как разглядел — ахнул! Староверы ко мне приезжали — по две тысячи давали за каждую, ну да не отдам и за пять: очень уж душе от них радостно!
Знавший великолепно свой уезд Титов наметил мне маршрут поездки. Должен добавить, что в коммерческом отношении он считал меня за младенца, и когда, случалось, я хвастался ему в Петербурге своими новыми покупками, то он не без недоверия во взгляде взвешивал мою драгоценность на руке и спрашивал: — а сколько сняли с тебя за нее? Как бы дешева ни была покупка, мой ответ никогда не удовлетворял его. Он поджимал губы, чуть поводил носом, отдавал мне назад вещи и произносил: — дорого дал!.. я бы за половину взял!
Первыми в числе намеченных лиц значились какой-то Бонч-Брудзинский и затем Петровы. Имение его находилось верстах в семи от дома Титова. Пров Иванович назвал его и затем обеспокоился.
— Нажгет тебя этот! — сказал он. — Напрасно, пожалуй, и помянул я его!
— Почему ты думаешь, что нажжет? — спросил я, несколько задетый его тоном.
— Да тебя, кому не лень, всякий нажгет! ну, какой ты купец? Нет, одного тебя пущать туда не рука!.. видно и мне с тобой к нему ехать!
— Да полно!.. не беспокойся, я и один обойдусь!
— Что за беспокойство? Для дружка и сто верст не околица! Бонч ведь не простой: иезовит настоящий. Он тебя форсом барским сразу возьмет — все и отдашь ему, что ни захочет.
— Ну это дудки!..
— Да дудить-то в них ты будешь, поверь слову! Заведет это тебе сразу шарманку: мы, мол, дворяне, мы не торгуемся, у нас честь дворянская… вот ты и скис, торговаться-то тебе с ним и неловко! А до цены дойдете — такую загнет, что живот вспучит! Честь-то тебе его боком и вылезет! Да еще в одолженье тебе поставит, что продать снизошел — вот ведь, какой! А меня на это не возьмешь: честь у купца известная — подешевле купить, подороже продать… Едем вместе!
— Очень рад! — ответил я.
— Ну, только ты книжки отбери и шабаш: торговаться уж буду я, ты в это дело не всовывайся! Жаль — обличьем ты не вышел, а то я бы тебя за приказчика за своего по уезду повозил, — добавил он, оглядев меня. Я засмеялся.
— Да ты не смейся, дело говорю! Помни: иезовит он; глаза у него в небеса, а руки вот как по земле шарят! Да вот что: назову-ка я ему тебя своим конпаньоном по книжному делу; магазин, мол, в Питере с тобой затеваем! Идет?
— Идет!
— Ну, только уж ты молчок, как воды в рот набери, не проговорись! Понял?
Смеясь, я согласился. Мы выпили еще «по посошку для сну» — по стакану вина и разошлись по своим комнатам.
II
Утречком, после чаю и плотной закуски мы заныряли из оврага в овраги, сплошь залитые лиственным лесом. Бричка наша то и дело катилась под горку, гремела по живым мосткам и во весь дух взлетела со дна на противоположный берег.
— Хороши коньки у тебя! — похвалил я саврасок.
— Ничего себе, добрые! — ответил Пров Иванович, похвала моя была ему, видимо, приятна. Он был молчалив и о чем-то думал: на лбу между бровями его обозначилась глубокая, словно ножом просеченная складка… Черный картуз его с большим козырьком был надвинут на самый нос.
— Нет, ты мне скажи, отчего так на свете устроено, что ежели отец бережлив — дети расточителями будут; ежели отец мот — дети бережливы? — вдруг спросил он немного погодя.
— Закон равновесия, должно быть, — ответил я, глядя по сторонам.
Титов отрицательно мотнул головою и замолчал снова.
— Пороть нонче перестали, вот отчего! — проронил он через некоторое время.
Я сообразил, что философия эта касалась его сына, и не ответил.
Не успел я вволю надышаться свежим воздухом леса, березняк отрезало как ножом; впереди зажелтели поля ржи. Подувал ветерок и миллионы колосьев, столпившиеся по сторонам дороги, шептались и кланялись нам; кругом бежали волны. Приблизительно в версте от нас, среди полей возвышался зеленый островок.
— Сад Бончевский! — молвил про него мой спутник. — Дома не видать отсюда… Он нагнулся и сорвал пару колосьев. — А рожь-то уже и косить скоро пора, — добавил он, потерев их на ладони.
Лай двух пестрых, худых как скелеты и лохматых шавок приветствовал наше появление на дворе усадьбы.
Дом был совершенно новый и сохранившиеся около него, заросшие кустами шиповника, линии старого кирпичного фундамента указывали, что новый дом построен лишь на небольшой части прежнего.
«Масштабы прошлого и настоящего!» — мелькнула во мне мысль.
— Дома что ль Платон Федорыч? — спросил Титов босоногую горничную, выглянувшую на нас из сеней господского дома.
— Дома! — отозвалась та и сейчас же нырнула обратно.
Мы вылезли из брички, и Пров Иванович с никогда не оставлявшими его уверенностью и спокойствием вошел на крыльцо и потом в сени. Я следовал за ним. Мы миновали маленькую переднюю и попали в зал с тремя небольшими окнами; в одно время с нами из другой двери показался представительный белокурый господин с роскошными бакенбардами и откинутыми назад густыми волосами. Лет ему было под сорок. В меру полную фигуру его облегала чесучевая пара; от воротника белой, мягкой рубашки спускался к широкому поясу, заменявшему жилет, бронзового цвета галстух. Вид у Бонча был по меньшей мере директора департамента. При виде Титова лицо его приняло приветливое выражение.
— А, Пров Иванович! — мягким баритоном воскликнул он, подходя к Титову, и поднял ладонь как бы для удара. — Вот кого рад видеть! — Мой спутник подставил руку и хозяин сочно шлепнул по ней своею; последовало крепкое и долгое пожатие.
— А это компаньон мой, Сергей Романыч! — представил меня Титов.
— Очень рад! — повторил Бонч и крепко сжал и потряс мою руку. — Садитесь, господа. Какими ветрами вас Господь ко мне занес?
— Ветры обнаковенные… коммерческие! — не торопясь ответил Титов, усаживаясь в кресло.
Лицо хозяина продолжало приветливо улыбаться, но светлые глаза насторожились и в них мелькнула какая-то искорка.
— Все с вами рад вести, Пров Иванович, и коммерцию и знакомство! — мягко ответил он и обратился ко мне. — А вы чем торгуете, Сергей Романович?
Должно быть, выражение моего лица сделалось глупейшее. Врать я не хотел, но и выдавать головой Прова Ивановича не приходилось тоже. Я беспомощно пошевелил пальцами и только хотел что-то сморозить, вмешался Пров Иванович.
— Со мной он! — выручил он меня. — А к тебе вот какое дельце будет — овес хочу у тебя взять!
— Овес? — удивился Бонч. — Да разве ж ты и хлебом стал заниматься?
— Отчего ж человеку от хлеба бегать? — возразил Титов.
Я сразу отгадал план моего приятеля: никакого овса покупать он не собирался и заговорил о нем, что называется, для отвода глаз. Но лицо не выдавало его ни единым мускулом и было, как всегда, невозмутимо и серьезно.
— Ну, конечно, конечно! — согласился хозяин и опять перевел на меня внимательные, светлые глаза. — Вы, значит, по хлебной части?
Я кашлянул в кулак и скосил глаза в угол: мне представилось, что я уже встретился с Бончем в Петербурге у знакомых в качестве «хлебника»…
— Говорю — компаньон мой! — повторил Пров Иванович. — Так как же насчет овсеца?
Я для безопасности потупился и передвинулся на кончик стула.
Хозяин закинул ногу за ногу, покачал ею и взялся холеной левой рукой за бакенбарду. На лице его изобразилось раздумье.
— Цены в гору пойдут… — вымолвил он, приняв за чистую монету предложение Прова Ивановича; это заключение он явно вывел из нашего нежданного приезда. — А какая твоя цена, Пров Иванович?
— Ты хозяин, тебе и цену ставить!
Бонч взялся уже обеими руками за кончики бакенбард и в раздумьи потянул их в разные стороны.
— В гору цены пойдут!.. Подожду!
— Ой не прошибись, смотри!
— Подожду! — еще тверже сказал Бонч. — Овса не продам, а чайку выпить милости прошу! — он встал и движением руки показал на соседнюю комнату, где помещалась столовая.
На покрытом синею ярославскою скатертью столе лежали разбросанные по разным местам остатки хлеба, стояло несколько чашек и полузаглохший самовар; чаепитие, видимо, только что было кончено.
— Прошу покорно! — хозяин указал на стулья и сел против нас. Босоногая горничная принесла пару приблизительно чистых стаканов и налила и подала нам жидкое и чуть теплое пойло.
— Не желаешь коммерции со мной вести — твое дело! — выговорил Пров Иванович.
— Всегда рад ее с таким тузом, как ты, вести! — мягко возразил хозяин и слегка прикоснулся к колену Титова концами пальцев. — Обожди немного; никому овса, кроме тебя, не продам!
— Ну, ну!.. С овсом ты меня не уважил, другое я вспомнил: библиотека-то твоя еще цела или нет?
— Цела, а что?
— Обещал я приятелю одному питерскому книг прислать — торговлишку думает ими открыть. Не уступишь ли?
— Отчего же, можно!
— Велика ли?
— Томов за тысячу будет!
Пров Иванович скривил губы. — Много!.. И, чай, хлам все?
— Почему хлам? Книги прекрасные, собирали их знатоки, просвещенные люди!.. Хозяин даже как будто немного обиделся; Пров Иванович равнодушно прихлебывал свой чай.
— Как смекаешь? — минуту погодя обратился он ко мне, — гуртом брать или нет?
— Гуртом многовато будет!.. — ответил я. — Впрочем, посмотреть сперва надо!
— А, пожалуйста, — предложил хозяин.
— Сходи, погляди! — распорядился Титов.
— Да уж лучше вы! — возразил я, выдерживая тон.
— Стану я с дрянью пачкаться! — с пренебрежением отозвался Пров Иванович. — Погляди поди, не маленький!
Я встал. Поднялся и хозяин и через полутемный коридор провел меня в дальнюю комнату, очевидно служившую местом складам всякой рухляди; там под самый потолок стояли друг на друге сундуки разных размеров, лежали матрасы и перины; на хромом столе грудилось несколько венских стульев с продранными сиденьями. У трех стен стояло по большому черному шкафу.
Бонч достал из кармана связку ключей и отомкнул их.
— Вот вам книги, просматривайте! — сказал он. — А я пока к Прову Ивановичу пройду!
Я принялся за работу.
Библиотека состояла главным образом из беллетристики на разных языках; преобладали французские романы. Я отобрал около полусотни томов и вернулся в столовую.
— Уже кончили? — удивился хозяин. — Ну, что же, всю библиотеку берете?
— Нет, — ответил я, — там все иностранные книжки. Русских отложил несколько!..
— Надоть посмотреть, что ты отобрал, — проговорил Пров Иванович и поднялся со стула. Все втроем мы вошли в комнату со шкафами. Хозяин задержался зачем-то в коридоре, и Пров Иванович воспользовался этой минутой, нагнулся ко мне и быстро шепнул: — Какая цена?
— Сто рублей… — также быстро ответил я и только что успел отвернуться, появился хозяин.
— Эти ты отобрал? — спросил Пров Иванович, указывая на книги, стопками положенные мной на хромой стол, с которого я убрал стулья.
— Эти!.. — И я отошел в сторону, к шкафу, и начал перелистывать какую-то книгу с картинками.
Пров Иванович вынул из бокового кармана порыжелый очешник, достал из него большие оловянные очки и надел их. Потом оглядел книжную груду, похлопал по ней рукою и сдвинул очки на кончик носа.
— Сколько? — обратился он к хозяину.
— Сейчас… надо посмотреть, что здесь такое… — Бонч наклонился и по натискам на корешках быстро пробежал названия. Потом выпрямился и подумал. — Двести рублей! — решительно произнес он.
— Две-ести? — как бы с глубоким недоверием повторил Пров Иванович. — Да что они у тебя из серебра, что ли?
— А ты посмотри, какие это книги. — Бонч взял одну из верхних и раскрыл ее. — Эта например: Тит Ливий[43], а?! — он протянул ее Прову Ивановичу.
Тот отстранил ее рукою.
— Что ж что Тит? — возразил он. — Вон у меня кум Тит, а пьяница!
Бонч слегка опешил и уставился на Прова Ивановича, не зная что ответить. Тот невозмутимо глядел на него поверх очков.
— А это что? — Бонч открыл другую книгу — Ламартин, история жирондистов[44]! Драгоценная вещь!
— И Мартын не диковина!.. Ты именами-то не пугай, а давай дело говорить! — Пров Иванович стукнул костяшками кулака по книгам. — Четвертной билет кладу!
— Мой друг, я не базарный торговец и запрашивать не привык! — с достоинством и вместе с тем как бы с грустью произнес хозяин.
— Запрос худа не делает! — ответил Пров Иванович. — Только цену назначай не зря, а по вещи глядя!
— Я не зря и назначаю! Помилуй, один Ламартин чего стоит?
— Да что ты за Мартына-то уцепился? Хотя бы и раз-ля-ля Мартын он был, все единственно! Это не лафит: тот — что ни го-го, то дороже!
— Вот что, Пров Иванович, не будем больше разговаривать! — заявил Бонч. — Сто целковых и ни гроша меньше!
Титов молча снял очки, уложил их в футляр и спрятал в карман.
— Всякий, стало быть, при своем остается, — молвил он, — мы при деньгах, а ты при Мартынах! Ну, нам пора, едем?..
Мы возвратились в столовую и там стали прощаться.
— Бери книги, Пров Иванович! — сказал Бонч, не выпуская из своей руки руку Титова. — Даром ведь отдаю; тебе только!
— А мне-то что? — равнодушно отозвался Титов — не для себя торговал, для знакомого!
— Прибавь, не скупись; знакомый твой благодарить тебя будет!
— Благодарить? Гляди, как бы не обругал! Двадцать-то пять — это нонче ох какие деньги!
Мы проходили уже по передней.
— Ну, Бог с тобой, Пров Иванович! — вдруг решил хозяин и остановился. — Тридцать целковых и бери книги; на овсе потом ты мне за них прибавишь! Мы, дворяне, не торгуемся!
— Уважить его, что ли? — обратился ко мне Титов. Я молча пожал плечами. — Ну, будь по-твоему! — заявил он и с безнадежным видом махнул рукой, — твоя взяла! Греби деньги.
Пока Пров Иванович рассчитывался с Бончем, я вернулся назад, с помощью горничной связал книги в пачки и мы перенесли и уложили их в бричку.
Бонч вышел с нами на крыльцо, и, заложив руки за спину, смотрел, как мы усаживались. На лице его проступало снисходительно-величавое выражение и, как мне показалось, просвечивало и тайное удовольствие.
— Будь здоров! — произнес, приподняв картуз, Пров Иванович.
— До свиданья! — долетел до нас приятный баритон. Мы выехали за ворота.
Пров Иванович повернулся ко мне.
— Видал, как покупают? — спросил он, уставившись на меня из-под козырька. Вот ты и учись, как жить! Без меня бы ты ему все двести оставил!
— Двести не двести, а сто отдал бы!
— Двести бы дал! — с убеждением повторил Титов — ох и жох же! Пущай-ка теперь меня с овсом подождет! — с улыбкой добавил он. — На всякую, брат, доку дока живет!
— Как спросил он меня, чем я торгую, — меня в пот бросило! — сказал я. — Вы уж, пожалуйста, меня за хлебника больше не выдавайте, того и гляди скандал выйдет!
— Зачем? Петровы люди хорошие, там этого не надо! Сынок у них шер-маман, а старики почтенные!
— Что такое? Что за шер-маман?
— Ну, гарлатан, сказать! Хлыщ совсем… сызмальства, ведь я его знаю!.. вертится, кобянется, как змей без головы! Не в примету только было — приехал ли, нет ли на побывку теперь: офицер он морской, в Питере служит. Ходит из угла в угол, пальцами щелкать и из оперетки поет: только и делов у него!
III
Дорога понемногу втянулась в лощину, густо заросшую орешником; начались такие глубокие колеи, что задние колеса брички погружались в них по ступицу; яма следовала за ямой и нас перетряхивало как зерно на решете.
— Эка дорога подлая! — заметил я, держась правой рукой за край спинки; левую я продел под локоть Прову Ивановичу.
— Это еще хорошо! — ответил тот. — Мы накренились в его сторону вместе с бричкой так, как будто намеревались нырнуть вниз головами.
— А ты бы в грязь сюда сунулся — коней утопил бы!
Саженей через двести дорога выбралась из лощины на более высокое место; нас опять окружили желтые поля ржи; лошади взяли рысью, густой клуб пыли встал за нашими спинами.
— Это тебе не питерский трамвай! — проговорил Пров Иванович. — Благодать у вас — сел в него, а он поднял себе хвост и едет!..
Опять впереди показался зеленый остров, но на этот раз большой и четырехугольный; сейчас же из-за опушки его виднелась зеленая крыша дома.
— И до Петровых, Бог дал, добрались! — промолвил Пров Иванович. — Это сад их видать, фруктовый; большой старики развели… Хороший доход им дает!
Мы миновали ржаное поле и свернули вправо; дорога расширилась и сделалась ровнее; по обе стороны ее вытянулись линии давно не стриженных кустов боярышника. За поворотом открылся дом — деревянный, одноэтажный, с обычным мезонином, но с оригинальным подъездом, выступавшим так далеко, что под навес его можно было подъезжать в экипаже. Из-за трех зеленых овальных куртин, отделявших дом от двора, смотрели кровли хозяйственных строений.
Мы подъехали к дому и только что сошли с брички, дверь распахнулась и из нее выглянула бойкоглазая черная, как жучок, девочка лет четырнадцати.
— Дома господа? — обратился к ней Пров Иванович.
— Дома… — ответила та.
— Пров, мол, Иванович с господином приехали, доложь поди!..
Чернушка исчезла, а мы вступили в довольно просторную и полутемную от навеса переднюю; из нее попали в гостиную; мебель в ней была покрыта холщевыми чехлами, у стены стояло пианино.
Только что мы сделали еще несколько шагов, противоположная дверь отворилась и из нее в виде пухлого, белого шара выкатился нам навстречу небольшой, полный старичок с совершенно обритым, розовым лицом и коротко остриженными седыми волосами. Грудь и живот его как передником были прикрыты салфеткой; углы ее в виде длинных белых ушей торчали по обеим сторонам шеи; старичок, очевидно, вскочил из-за обеда. За ним катился другой шарик, немного пониже, но поплотней первого, — сереброволосая, румяная старушка в холстинковом платье. Позади виднелась остановившаяся на пороге, недвижная фигура моряка в белоснежном кителе, брюках и в белых же ботинках. На совсем молодом, довольно свежем лице его с тщательно подстриженными а-ля Петр Великий усиками стояло какое-то неопределенное — снисходительно-милостивое выражение. Нечего и говорить, что темные, нафиксатуаренные волосы на голове его разделял прямой, великолепный пробор. Сразу в нем чувствовался избалованный, единственный сынок, привыкший к поклонению домашних и взрастивший в себе привычку милостиво разрешать любоваться собою. Лет ему, однако, было около двадцати семи.
— Пров Иванович, драгоценнейший?! да как я рад! — завосклицал старичок, протянул обе ручки — полные и белые, — как все в доме, — навстречу моему спутнику.
Пров Иванович нагнулся и они облобызались.
— Вот вовремя поспели: мы только что за окрошку принялись, чудесная сегодня у нас окрошка!! — говорила в то же время старушка; румяные личики обоих супругов цвели самым искренним удовольствием и радушием.
Пров Иванович представил меня, и я удостоился от хозяев таких горячих рукопожатий и привета, словно я сделал им Бог весть какое одолжение тем, что попал к ним. Сынок раскланялся изящно, но совершенно равнодушно и не обмолвился ни словом.
Гурьбой мы вступили в столовую; проворная чернушка добыла из белодубового буфета еще пару тарелок и прочих принадлежностей, и все расселись кругом стола. Около хозяйки возвышалась монументальная белая миска, и я с великим удовольствием принялся уничтожать поданную мне, действительно чудесную, свежую окрошку, в которой плавал большой, прозрачный кусок льда.
— А я тебя как манну небесную ждал, Пров Иванович! — заговорил хозяин. — Советец нужно у тебя по хозяйству спросить! Он ведь у нас оракул… — обратился он ко мне и кивнул на Прова Ивановича, — чуть что, мы все к нему.
— Мартын Задека… — проронил офицер.
— И мне вы очень нужны, Пров Иванович! — подхватила хозяйка. — Знаете, ведь, это он нас научил сад из одной антоновки насадить! Как выгодно оказалось!
Пров Иванович улыбался углами рта.
— Ну, захвалили! — произнес он. — И я к вам не без дела. Помните, как имение я вам продал, книжки наверху были; целы они у вас?
Розовые старички переглянулись.
— Часть там и осталась — ответил Петров.
— Для чтения — пояснила его жена.
— А прочие где?
Петров перевел круглые глаза на нее. — Где, Сонюшка, прочие?
— Не помню что-то… да не в сарае ли? Ну, конечно: когда шкапы для Андрюшиного платья поставили, убрали их; места они много занимали!
— А я вам покупателя на них привез! — Пров Иванович указал на меня.
Хозяин не понял.
— На что это «на них»? — переспросил он.
Я вмешался и поведал все обстоятельства дела. По мере моего рассказа наивные глаза Петрова вытаращивались все больше, нижняя пухлая губка отвисла и обнажила довольно хорошо сохранившиеся зубы: он, очевидно, совершенно не постигал ни смысла, ни возможности поездок по такого рода делам. Изумление отразилось и на круглом личике старушки; оба они так сжились друг с другом, что все воспринимали и чувствовали совершенно одинаково.
— Так-таки все и ездите? — спросил Петров. Кажется, я предстал в его воображении в качестве вечного жида, кружащегося по свету с книгами под мышкой. Я не мог удержаться от улыбки.
— Да, каждый год!..
Просияли, глядя на меня, и старички.
— Хе-хе-хе!!. — мягким смешком залился Петров; ему завторил тихий, но более грудной смех хозяйки. Всем стало весело.
— И пришло же вам в голову такое… — он затруднился выговорить, какое-то просившееся на язык слово — занятие?
— Может быть, вы уступите мне некоторую часть ненужных вам книг? — осведомился я.
— Да понятно дело отдам!! — воскликнул Петров. — Только не съели ли уж их мыши?
Обед кончился и мы поднялись из-за стола. Все нагрузились вплотную, да иначе было и невозможно у таких радушных хозяев, беспрерывно потчевавших то тем, то другим, и потому моя просьба о разрешении пойти осмотреть книги была встречена новым удивлением.
— Да не вздремнете ли лучше немножко? — сказал Петров, оглаживая обеими руками круглое брюшко свое: книжки, ведь не волк, в лес не убегут! Плюньте на все и берегите свое здоровье, как говорили у нас в гимназии! хе-хе-хе.
Я отговорился тем, что никогда не сплю после обеда и меня поручили заботам чернушки, которой дали подробное наставление, куда вести меня. Старички укатились по обеим сторонам Прова Ивановича во внутренние комнаты, а я в сопровождении своей шустрой компаньонки направился через просторный двор к сараям. Моряк, мурлыча что-то из «Риголетто», с газетой в руке, поднялся к себе в мезонин.
Чернушка лучше своих хозяев знала, где что лежит у них и без всяких поисков, сразу привела меня в большой каретный сарай; там в дальнем углу, за старыми санями и коляской стояло друг на друге семь больших незаколоченных ящиков; из трех верхних торчали книги.
Я отпустил девочку, а сам оттащил немного вперед коляску и сани, освободил себе поле действий и в буквальном смысле слова погрузился в книги. На них густейшим слоем лежала пыль…
Покончил с работой и, вымыв руки у колодца посреди двора, я вернулся в дом. Гостиная и столовая были пусты; сквозь раскрытые двери виднелась веранда, и я направился туда. С нее доносились голоса: беседовали Пров Иванович и офицер. Незнающий человек мог бы подумать, что разговаривающие передразнивают друг друга: оба говорили тягуче, но голос Прова Ивановича звучал естественно, тогда как второй еле ворочал языком, цедил слова сквозь зубы и произносил всякое «о» как «е» и каждое «е» как «э».
— Ну, это еще вопрос… — говорил офицер, — литература права, мужик — до сих пор еще не разгаданный сфинкс…
— Ничего он не сфинкс, а жулик!.. — равнодушно и как всегда уверенно возразил Пров Иванович. — Тут и разгадывать нечего!..
Я вступил на балкон и увидал, что моряк полулежал, развалясь в плетеном, японском лонгшезе, а Пров Иванович, как всегда, прямой и строгий, сидел поодаль в кресле. Проворный жучок опять накрывал на стол; хозяйка хлопотала около нее и, кажется, больше мешала, чем помогала; хозяин гулял по балкону, заложив толстенькие ручки за спину.
— А-а!! — приветствовал он меня радостным восклицанием, — ну как, устали достаточно, навозились?
— Надо спрашивать — достаточно ли унавозились?.. — процедил моряк.
Мое появление заставило его принять несколько более приличную позу.
— Все сделал, даже вымыться успел! — ответил я в свою очередь, невольно улыбнувшись Петрову: добродушие заразительно.
— Нужное-то что нашел? — спросил Пров Иванович.
— Нашел. Целую кучу книг отобрал!
— Кучу?! — ужаснулся Петров и даже головою потряс. — И в Петербург ее повезете?!
— Если вы разрешите — да.
— И жена вас не выгонит с ними с квартиры?
— Нет, она давно уже с этим примирилась!
Петров совершенно по-детски зажал себе ладошкою рот, фыркнул и закатился добродушным смехом.
— Ах чудак!.. ах чудак какой!! — восклицал он, сотрясаясь всем телом.
— Чудак, чудак! — смеясь и покачивая с легкою укоризною головою, подтверждала хозяйка. Оба они ни дать ни взять походили на пару белых, раскудахтавшихся кахетинских кур… Я начал смеяться тоже; глядя на нас заулыбался и невозмутимый Пров Иванович.
— Ну и насмешили вы нас — до слез!.. сказал Петров, вытирая влагу, обильно смочившую его щеки.
— Папан прямо трогателен!.. — заявил со своего лонгшеза моряк. — Всегда при слезе — и в горе, и в радости!..
Хозяйка оглянулась на забытый ею стол и всхлопоталась: — Господа, варенец подали, пожалуйте полдничать скорее!..
Офицер поднялся с лонгшеза, защелкал пальцами и довольно громко, но невнятно замурлыкал какую-то песенку. Ни голоса, ни слуха не было у него ни малейшего.
— Папенька с маменькой Небиль всю продали, Деньги все пропили, Тру-ля-ля-ля-ля!..Ясно и громко пропел он.
— Что это ты, Андрюша, все эту глупость поешь? — с некоторой обидой обратилась к нему старушка. — И вправду, ведь, кто-нибудь подумает, что мы какую-то мебель пропили!..
Белые зубы офицера блеснули. Он запрокинул голову назад и захохотал.
— Ужасно люблю, когда маман обижается!.. проговорил он, — это же теперь весь Петербург поет!.. модная песенка!..
— Ну, уж моды эти ваши!.. старушка отмахнулась рукой и стала раскладывать по тарелкам желтый варенец.
— Блестящий офицер все должен знать, мамань!.. — назидательно произнес Андрик. Трудно было понять — шутит он, или говорит серьезно.
— Давно ли это ты блестеть-то стал? — спросил Пров Иванович.
— С детства, мой дорогой, с пеленок… так, по крайней мере, маманя уверяет!
— Никогда и не думала! — воскликнула старушка. — Все сочиняет!
— Разве что в пеленках? — протянул Пров Иванович. — То-то, не в примету мне все было!
— Зрением ослабели, Пров Иванович!
— Да углядел бы, будь покоен; глядеть-то только вот не на что: делов-то за тобой особых еще, словно бы, не числится…
— Мой старый друг, вы не знаете падежов, оттого вам все в таком мрачном свете и кажется…
— Андрик?!! — воскликнула старушка и даже подняла вверх ручки.
— Это они всегда так! — обратился ко мне Петров, уже подвязавшийся салфеткой и приготовившийся к битве с варенцом. — Как сойдутся, так и давай друг дружку клевать! А ведь любят друг друга!
— Любят, любят!! — подхватила старушка, — пятнадцать лет все ссорятся!
Пров Иванович насторожился, как конь на звук трубы.
— Чего это? — переспросил он, видимо не поняв иронии моряка. — Чего я не знаю?
— Падежов драгоценнейший, падежов, не в укор вам будь сказано!
— Да тьфу я на твои падежи!! И без них, слава Богу, всю жизнь прожил — не великая, стало быть, они штука! А вот ты с падежами да без папенькиных рук проживи, вот тогда и поговорим с тобой!..
Петров сочно, с аппетитом чавкал, склонившись над тарелкой. Варенец так поглотил все его внимание, что, когда я назвал его по имени, он не расслышал. Я повторил свое обращение.
Толстяк перестал чавкать: А? — проговорил он, подняв лицо, — пухлые губы его, как у детей, кругом были запачканы сметаной.
— Это вы со мной говорите?
— Да. Я вас хотел просить пройти со мной после полдника в сарай посмотреть отобранные мною книги.
— Да зачем мне на них смотреть?
— Чтобы определить, сколько я вам за них должен!
Щеки Петрова раздулись; он собрался прыснуть со смеху, но рот у него уже был наполнен варенцом; он выпучил голубые глаза, побагровел и стал издавать губами глухое пу-пу-пу…
— Папаня, вы лопнете и всех забрызгаете! — заявил моряк, слегка отодвигаясь от него.
— Ах, и чудак же! — едва выговорил Петров, проглотив наконец весь свой заряд варенца. — Он все про свое! Ничего вы не должны!..
— Как же так? — возразил я. — Это неудобно!..
— Почему?! — хором изумились оба старичка.
— Не шебарши! — строго вмешался в разговор Пров Иванович, заметив, что я хочу спорить. — Дают — бери, а бьют — беги, говорит пословица! Старые-то люди мудрей нас с тобой были!
Продолжать разговор на ту же тему оказалось невозможным: старички махали ручками, а сам Петров даже зажал себе уши. Пришлось благодарить, извиняться и испытывать неприятное чувство. Зато был очень доволен скрытый виновник всего, Пров Иванович.
После полдника и последовавшего за ним чая мы начали прощаться. Разумеется, нас упрашивали остаться ночевать, но мы были непоколебимы: Прова Ивановича ждало дома спешное дело и наши отговорки были признаны уважительными.
Старички провожали нас с трогательною заботливостью.
— Книжки-то, книжки не так положили: ноги они вам на низине поломают, плашмя их, Иван, поверни!! — кричал работнику Петров, размахивая ручками, как белыми крыльями.
— Сенца сверху постели! — хлопотала хозяйка, заглядывая в бричку с другой стороны. — Каблуками переплеты можно попортить!!.
Наконец все было приведено в исправность и мы приступили к самым последним рукопожатиям: русские люди, как известно, сразу не прощаются и по пути к выходу жмут и трясут друг другу руки в общей сложности раз по десяти.
Петров облобызался с Провом Ивановичем и затем распахнул объятия и для меня. Губы мои, как в пуховой подушке, утонули в его подбородке.
— Приезжайте опять, непременно приезжайте! — проговорил он. — Купаться с вами пойдем, рыбку половим! А какие караси у нас сегодня жареные будут!!. Он чмокнул кончики собственных пальцев и полузакрыл глаза — может останетесь, а?..
— Великое спасибо!.. — ответил я, — но никак не могу, времени не имею!
Мы уселись. Моряк стоял, облокотившись спиной на колонну подъезда и слал нам ручкой что-то вроде воздушных поцелуев.
— Аддио!! — крикнул он, когда бричка уже тронулась. Сирень разом закрыла от нас дом и его обитателей.
Мелькнула над куртиною длинная крыша и началась аллея боярышника.
— Хорошие люди! — проговорил Пров Иванович. — Понравились тебе?
— Очень! — отозвался я. — Старозаветные еще. А сынок не дурак!..
— Кто говорит, что дурак? А только никчемный… Дрянь, я тебе скажу, молодежь нонче пошла!..
— Все поколения так говорят!.. — ответил я.
Разговор перешел на сына Прова Ивановича, затем на разруху, наблюдающуюся во всех семьях, и неприметно как пара саврасок донесла нас до села, находившегося верстах в семи от Петровых; оттуда должно было начаться мое самостоятельное путешествие.
— К Силычу! — приказал работнику Пров Иванович.
IV
Бричка остановилась у большой избы, щеголявшей новыми, раскрашенными ставнями и красным коньком на тесовой крыше. Забор, ворота около нее — все было прочное и основательное; из окон глядели гераньки, место вдоль заваленки было чисто выметено.
— Здорово, Марьюшка!.. Силыч дома ли? — спросил Пров Иванович выглянувшую из окошка молодую, румяную бабу с точно нарисованными черными бровями.
— Здравствуйте! Дома, дома, пожалуйте!.. — отозвалась она, скрываясь обратно.
Мы вылезли из брички и через калитку вошли во двор. Навстречу нам торопливо шагал коренастый мужик с русою бородкою лопатой, с коротким, толстым носом и зоркими, светлыми, как у рыбы, глазами.
— Добро пожаловать, Пров Иванович! — сказал он, кланяясь на ходу.
Волосы свесились ему на лоб, и он взмахом головы откинул их на свое место.
— В добром ли здравии?
— Милует Бог! Ты как живешь?
— Да перевертываемся…
— Вот что, милый человек… — Пров Иванович остановился у крылечка, — раздобудь-ка ты мне сейчас возчика!.. вот их… — он указал на меня, — в Мотовиловку свезти надо.
Бородач внимательно глянул на меня.
— Их, стало быть? — переспросил он.
— Да. К Морозову, к Ивану Николаевичу…
— Так, так!..
— А ему скажи, что ты от меня: он тебя как родного примет!! — обратился ко мне Пров Иванович.
— Да не лучше ли будет где-нибудь на постоялом заночевать? — сказал я.
— Вот еще придумал?!
— Грязно в избах-то, ваше степенство, — поддержал Прова Ивановича Силыч — клопы, дети!.. У Иван Миколаича на что лучше… Только вот насчет лошадок-то… покос ведь, деревня-то как вымерла.
— Знаю порядки. А надо: расстарайся для меня!
— Для вас завсегда рад услужить!.. Разве вот Михей дома?.. — воротился он, будто, с покоса.
— Какой Михей? Не Полканов ли?
— Он самый.
Пров Иванович покачал головой. — Дурашный он!..
— Да что ж, что дурашный, довезет! — возразил Силыч. — Тут и езды-то нет ничего, от силы через два часа в Мотовиловке будут. Ни, Боже мой, никого больше в деревне нет!
— Ну хоть его, что делать!.. — согласился Пров Иванович.
— Машка? — крикнул Силыч, обратясь к двери. Из нее высунулась смышленая рожица девочки лет девяти.
— Беги-ка ты к Михею, да покличь его: Пров, мол, Иванович требуют! Да живо!
Девочка поправила красный платок, повязывавший ее белобрысую головенку, степенно сошла с крыльца и, потупившись, прошла мимо нас.
— Здравствуйте!.. — истово, как большая, сказала она на ходу и поклонилась нам. У калитки степенность ее исчезла: замелькали босые пятки, и девочка во весь дух понеслась по улице.
Мы вошли в просторную, чистую избу. Хозяйка уже расставила на большом крашеном столе стаканы и крынку молока; у большой печки шумел ведерный самовар. По одну сторону его сидел в одной рубашонке годовалый ребенок, по другую котенок и оба внимательно гляделись в начищенные бока его. Тут же бродил довольно уже большой, видимо только что брошенный матерью, серый цыпленок и изредка жалобно спрашивал — «где? где?»
Не успела хозяйка подать на стол самовар, в избу шмыгнул наш гонец — Машка.
— Сичас идет!.. — проговорила она, взбираясь на лавку у противоположной стены. Девочка уселась, сложила на коленях руки и с деловитым видом стала глядеть на нас.
Минут пять погодя дверь опять отворилась, и через высокий порог неуклюже, боком вступил в избу белокурый, щуплый мужичонко лет тридцати пяти. Он перекрестился на красный угол, затем отвесил два поясных поклона — один иконам, второй нам — и присел на краешек скамьи у двери близ девочки.
— Вот что, Михей… — заговорил хозяин: в голосе его чувствовалась покровительственно-пренебрежительная нотка. — Их милость… — он кивнул в мою сторону, — господина купца к Морозову свезти требуется?
— Вот она, какая штука-то?.. — тенорком проговорил Михей и с озабоченным видом взялся за давно не чесанную бороду, висевшую у него в виде полос войлока. — Отчего не свезти?.. можно!!
— Дорогу знаешь? — спросил Пров Иванович.
— Господи, да ведь, сто лет по ей ездим! — воскликнул Михей. — А только к какому же это Морозову?
— Да к Ивану Миколаичу, к кому же больше? — ответил хозяин. — Знаешь, чай.
— Вот она, какая штука-то?.. — опять повторил Михей. — Знаю, понятное дело!
— Берешься довезти? — спросил Пров Иванович.
— Можно, говорю!
— Цена?
— Вот она, какая штука-то?.. — Михей поскреб затылок. — Цена пять целковых!
Пров Иванович строго поглядел на него.
— Да ты бы уж ровно сто спрашивал! Крест-то на тебе есть?
— Имеем, как же!
— А имеешь, так и помятуй о нем! Трешку — и никаких больше.
— Ведь покос, Пров Иванович? Время-то какое?
— Ты ж откосился, что тебе до покосу? Запрягай ступай!
— Вот она какая штука-то!.. — раздумчиво произнес Михей и поднялся с лавки. — Стало быть закладать пойду.
Он призадержался на пороге, словно бы не решаясь переступить через него, затем обратился к хозяину:
— Иван Силыч, ты бы мне хомутика ссудил? мой-то лопнумши!
— А чего не чинишь? — сердито спросил тот.
— Времени нету, ей-Богу! Вот она какая штука-то!
— Халда ты! У настоящего хозяина на все время сыщется, а у тебя все из рук ползет! только вот для Прова Ивановича даю хомут! Как обернешься, так чтобы тем же духом назад его!..
— Да уж сейчас принесу, будь надежен!.. Он снял со стены один из хомутов поплоще и уже хотел выюркнуть за дверь, но оклик Прова Ивановича остановил его.
— Дорогу твердо знаешь? — спросил он.
— Господи, да уж будь спокоен! тыщу разов, может, по ей ездил! — воскликнул Михей, держа перед собою хомут, как икону. — Знаю!!.
— Ну, то-то же! Смотри, чтоб в исправности их доставить!
— Да уж понимаю… Это как на каменную стену положись — доставлю! Вот она, какая штука-то!.. — Михей опять бочком как бы вывалился через порог из избы.
Пров Иванович стал прощаться со мной и делать последние наставления. Книги мои он увозил с собою. Выполнив тщательно составленный им маршрут, я должен был вернуться к Прову Ивановичу и уже от него ехать в Питер.
Мы расцеловались, и я вместе с хозяевами вышел на улицу проводить приятеля.
— Ну, будь здоров! — проговорил с высоты брички Пров Иванович и приподнял картуз. Строгое лицо его мелькнуло мимо, и клуб пыли сразу вырос за бричкою; до самого конца деревни над нею виднелась прямая спина и картуз Прова Ивановича.
В избу, несмотря на приглашение хозяев, я не вернулся и присел на завалинке в ожидании Михея. Минут через пятнадцать слева послышалось дребезжанье — словно бы мальчишки палками гнали по улице железные обручи. Я повернул в ту сторону голову и увидал рыжую клячонку и телегу, на которой восседал Михей, размахивавший кнутом. Колеса телеги вихлялись из стороны в сторону, словно руки и ноги расслабленного.
— Едет… уж и балалайка же! — проронил Силыч, прервав беседу со мной.
Михей подъехал к нам, откинулся назад, натянул вожжи и усиленно затпрукал на и без того остановившуюся лошадь, как будто бы имел дело не со смиреннейшим одром, а с заправским рысаком.
— Гляди, убьет!.. — с насмешкой сказал Силыч.
— Да довезешь ли ты меня на такой телеге? — усомнился я, поглядев на обрывки разнокалиберных веревочек, заменявших тяжи и почти всю упряжь, кроме хомута. — Впрямь ведь, не телега у тебя, а балалайка?
— Господи, да куда угодно на ней свезу! — заявил Михей, — позванивает она — это точно!
— Веселая!.. — опять сыронизировал Силыч.
— Да хоть в Москву на ней катить, вот она какая штука-то, ей-Богу!
Выбора не имелось и пришлось взгромоздиться с вещами на эту «веселую штуку».
— Тут близко, пятнадцать верстов всего!.. к сумеркам как раз поспеете!.. — утешал меня Силыч. — Ну, будьте благополучны!..
Михей зачмокал, завертел вокруг собственной головы кнутишком, и мы затрюхтрюхали и зазвенели по улице всеми гайками и скобками.
Она, действительно, казалась вымершей. За околицей начались хлеба, затем дорога нырнула в овраг и пошла среди низеньких кустов орешника и совсем реденькой березовой поросли.
Через некоторое время Михей повернулся ко мне.
— На пересеке надо взять: напополам ближе выйдет, вот она какая штука-то!
— Что ж? — отозвался я, — не заплутайся только!
— Да уж Господи? тыщу разов здесь ездил!
Мы поднялись на зеленый косогор и попали в лиственный лес; проселок вел в самую гущу его.
Стало садиться солнце, и в лесу делалось все свежей и сумеречней. Небо посветлело. Мы минули один перекресток, затем второй и свернули влево на третьем.
— Завсегда на третьем сворачивай! — поучительно обратился ко мне Михей, — запомни, коли опять тут поедешь… вот она, какая штука-то!.. — Я попробовал разговориться с ним, но сделать это оказалось трудно: я чувствовал, что мои самые несложные вопросы только с трудом, как сквозь какую-то броню, проникали до сознания Михея, изумляли его, будили что-то, как вспышку, в мозгу и заставляли отвечать — вот она какая штука-то?..
Стемнело. Я вынул часы и, едва различая циферблат, увидал, что уже десять часов; выехали мы ровно в семь.
— Далеко ль еще до Мотовилихи? — спросил я, — что-то уж больно долго мы тащимся? Подгони коня-то!
— Да рядом она, Господи!.. Сичас за лесом! — отозвался Михей. — Но, но, порченая! — и он задергал и застегал лошадь своим игрушечным кнутиком. Но «порченая» тотчас же перешла на шаг и стала изъявлять желание остановиться совершенно.
— Вот ведь какая животина карахтерная?.. — заявил Михей, — чем ты с ей круче, тем она хутче, ей-Богу! Так уж выезжена, вот она какая штука-то!
— Сам выезжал? — сыронизировал я, но Михей принял вопрос за чистую монету.
— Сам! кому же больше? — воскликнул он с некоторой гордостью. — Без нас тоже не обойтись!
Он с увлечением задергал вожжами, и лошадь остановилась совершенно.
— Видал? — обратился ко мне Михей и спрыгнул с телеги. — Теперь ау: хочь оглоблей ее гвозди, с места не сдвинется!..
— Что ж теперь, мы ее с тобой повезем? — спросил я.
— Зачем? Сноровку я с ней знаю! Теперича три раза обойду вокруг, оглажу, ухи поправлю, вот как опять пойдет — кальером!
Михей действительно трижды обошел вокруг телеги и лошади, похлопал ее по бокам и по шее, подергал за развесившиеся, как у осла, уши и влез опять на облучок. Лошадь без всяких понуканий двинулась вперед и затрусила прежней рысцою.
Михей повернул ко мне лицо.
— Видал? — спросил он с затаенным восхищением. — Этого, брат, коня конокрады уж не уведут, нет!! вот она какая штука-то!..
Проехали мы еще с час — конца лесу не виделось.
— Еде же Мотовилиха? — спрашивал я чуть ли не на каждом повороте.
— Да, Господи, где же ей быть? На своем месте стоит! Сичас будет! — утешал меня Михей.
Зачувствовалась сырость; дорога, видимо, спускалась куда-то в низину; сплошной лес превратился в островки, черными пятнами выступавшие среди луговин. У опушек начинали вздыматься с земли туманы; седые клоки и клубы их бесшумно, чуть шевелясь, вырастали то здесь, то там среди прогалин. Скоро сплошное молоко аршина на два в вышину залило все кругом. Казалось, я попал в облака; на белесом фоне впереди можно было различить только дугу, голову лошади и верхнюю часть спины ее — все прочее казалось поглощенным загадочною, беззвучною белой стихией. А вверху на чистом небе ярко, как зимой, сверкали звезды.
Лошадь вдруг сразу остановилась и, словно испугавшись чего-то, попятилась и стала садиться на круп.
— Тпру, тпру!! чего ты?!. — закричал Михей и опять соскочил с телеги; сразу он превратился в какое-то неведомое существо, имевшее только верхнюю часть груди, плечи и голову — все остальное скрылось в чуть поколыхивавшемся тумане. Через миг потонула и голова Михея.
— Вода тут… — донесся до меня его как бы несколько приглушенный голос.
— Что за вода?
— Да река!.. вот она какая штука-то?..
Я вдруг рассердился.
— Куда ж ты меня к черту завез?!. — крикнул я, — я тебя в Мотовилиху нанимал, а не к водяному!
— Чудеса!.. — с глубоким недоумением отозвался из тумана голос Михея. — Откуда же бы это вода здесь взялась?
— Значит, не должна была река встречаться нам?
— Понятное дело, нет!..
— Сбились с пути мы, стало быть?
Ответом было молчание. Минуту спустя впереди зашевелилось черное пятно, и из него выявилась фигура Михея. Молча он стал влезать на облучок.
— Что ж теперь будем делать?
— Тыщу разов здесь ездил и николи реки не бывало! — с суеверным чувством в голосе бормотал Михей, — обошло нас!.. свят, свят, свят! — Он несколько раз перекрестился. — Прямо было с бугра в омут угодили!
Он принялся заворачивать лошадь.
— Да куда ж ты? — спросил я. — Опять ведь куда-нибудь угодить можем?
— Вот ведь она, какая штука-то?! тпру, тпру!!. — закричал он на лошадь. — Впереди раздался треск; около головы лошади показались мохнатые руки в широких рукавах — мы вперились прямо в густой кустарник, среди которого росло какое-то дерево.
Туман делался все гуще и выше; минутами он как бы расколыхивался и показывались верхушки ближайших деревьев; звезды скрылись. Волосы на голове и усы у меня сделались совершенно влажными; бурка покрылась как бы изморосью. Оставаться до утра в этой сырости было не заманчиво, надо было придумывать какой-либо выход. Я слез с телеги и почувствовал, что под ногами у меня трава: значит, мы ехали не по дороге.
— Поезжай за мной! — сказал я. — Я вперед пойду, может, дорогу сыщем!
Щупая, как слепой, землю впереди себя палкой, я начал медленно, наугад продвигаться влево. Михей ехал позади.
Сделав десятка два шагов, я наткнулся на кусты и стал огибать их: такие пассажи сделались непрерывными — очевидно было, что мы направлялись в гущу леса. Я круто забрал еще левее и встречи с кустами сделались реже. Дороги все не было. Куда я шел — вперед ли, назад ли, сколько времени — было неведомо!
— Э-э-эй?! — долетел до меня, словно из-за стены, оклик Михея.
Я отозвался.
— Вертайтесь!! — кричал Михей, — дымом пахнет!
Я потянул воздух носом — никакого запаха слышно не было. Тем не менее я пошел на зов. Телега стояла; фигура Михея возвышалась над нею; действительно пахло дымом.
— Откуда же это тянет? — сказал я, оглядываясь.
— Не иначе, как ночное здесь! — ответил Михей. — Огня только вот не видать. Ау?!.. — вдруг крикнул он во все горло. Но звук размяк в тумане и как бы осел близ нас на землю.
— Садись, купец! — вдруг решительно произнес Михей. — Пущай конь по своей воле идет — ен вывезет!
Совет был разумен. Я взобрался на телегу, Михей задергал вожжами и, должно быть, забыв в пылу увлечения про свою выездку, несколько раз вытянул лошадь кнутом. Та сделала с десяток шагов, замотала головой и стала как вкопанная. Пришлось Михею соскакивать и опять колдовать около нее. Наконец животина надумалась и потянула телегу.
Михей, привязав к-грудке вожжи, шел рядом, держась левой рукой за облучок.
Запах дыма делался все явственней; впереди показалось тусклое желтое пятно.
— Не костер ли? — промолвил я.
— Больно высоко!.. — отозвался Михей. — Месяц это всходит!
Совсем рядом с Михеем обрисовалась какая-то неимоверно огромная тень; тень подняла голову и фыркнула; почуялся запах конского пота.
— Ночное и есть! — проронил Михей.
Желтый свет делался все ярче. Скоро впереди, как бы над облаками, обозначился высокий, черный выступ берега оврага; на нем горел костер, освещавший несколько крестьянских мальчиков, сидевших по одну сторону его; позади них пещерой глядел большой соломенный шалаш. Две белые собачки подскочили к краю обрыва и с ожесточением залаяли на нас.
— Ей, ребятки?! — прокричал Михей, остановив лошадь.
Трое мальчиков в накинутых на плечи длинных тулупах поднялись с земли и подошли к собакам.
— Кто там?.. — спросило два голоса.
— Да мы!.. Михей Полканов с господином. С дороги сбились!
— А куда ехали-то?..
— В Мотовилиху, к Морозову к купцу!
Наверху свистнули.
— Во-та-а?! — произнес голос побасистее. — Да до Мотовилихи-то верст двадцать отседа! Совсем в другой стороне она!
— Да ну те? — изумился Михей. — Вот она, какая штука-то?..
— А где дорога? — вмешался я.
— Какая дорога?
— Да какая-нибудь, чтоб к жилью проехать?..
— Дорога рядом, за нами сейчас!..
— А где взъехать к вам?
— Погодите, сичас!! — прокричал сверху тоненький голосок, и четвертый, совсем маленький на вид мальчуган вскочил с земли, скинул с себя тулуп и прыжками, как коза, начал спускаться к нам.
— Ну-ка, дяденька, давай вожжи, — сказал он, очутившись около Михея.
Тот беспрекословно передал ему пару веревок. Мальчуган уверенно встал на чеку и уселся на грядке.
— А ты бы, дяденька, слез, — обратился он ко мне, — тут круто. Вы оба за мной идите!..
Я исполнил распоряжение маленького командира. Мальчуган замахал вожжами и телега двинулась. Перед самым подъемом, чтобы влить энергии нашему коню, он огрел его концами вожжей и задергал ими. Результат получился немедленный: лошадь остановилась.
— Стой, погоди!!. — вмешался Михей, видя, что мальчуган размахнулся снова. — Тут, брат, дело не простое! — И он начал свое таинственное путешествие вокруг телеги, затем ухватился за тяж.
— Но, но, молодчинище?!. — вскрикнул он и вместе с напрягшейся лошадью поволок телегу прямо на крутой подъем.
Я вышел вслед за ними; «молодчинище», тяжело дыша, уже стояла около шалаша; нас окружили мальчики.
— Вы чьи — господские или деревенские? — спросил я.
— Господские!.. — отозвался тот, что приехал в телеге.
— Господина Лазо!.. — добавил другой, толсторожий мальчуган, говоривший басом.
Михей свистнул в свою очередь и поскреб всей пятерней затылок, отчего картузишко съехал ему на нос.
— Вот она, какая штука-то?.. — проговорил он.
— Где бы заночевать нам? — продолжал я допрос. — Есть деревня поблизости?
— Есть. Воронцовка!
— А сколько верст до нее?
— Да три будет.
— В деревне нехорошо! — вмешался самый маленький. — К барину надоть ехать! — Тон у него был самый безапелляционный.
— К барину неудобно, поздно!
— Верно!!. — подхватил Михей, — самое бы лучшее здесь, в шалашике?..
— Вовсе не поздно!.. — возразил малыш, — нонче гости у них: всю ночь праздновать будут!
— Главное, лошадка у нас пристала?.. — нерешительно проговорил Михей. — К утру подкормилась бы, вот как потом подъехали бы — с форсом! — Он сделал рукой энергичный жест.
— На твоем подъедешь?!. — малыш с презрением покосился на рыжего. — Ты бы его, дяденька, на шкуру продал?
Михей как бы погас, промолчал и вздохнул.
Я не знал, на что решиться. Прелесть ночлега в избе с ее жесткою лавкой, с черной, шевелящейся пеленой мух на потолке и с бесчисленными тараканами, шмыгающими по губам и глазам спящих, была мне известна хорошо. Заманчивей казалось остаться в шалаше, но поместиться в нем все мы никак не могли…
Мальчуганы отошли тем временем к сторонке и стали о чем-то переговариваться. Я разобрал некоторые слова: «забранит барин, мотри, Мишка!» — пробубнил басок.
— А неправда, не боюсь, знаю что нет!!. — пылко возразил колокольчик, принадлежавший тому мальчугану, что сбежал к нам с горы.
— Твое дело!..
Мишка отделился от товарищей и направился ко мне.
— Верхом умеете ездить? — спросил он.
— Да. А что?
— Так я вас сейчас отвезу к барину!
— А почему мне в телеге не ехать?
Мальчик даже не глянул на понурую михеевскую Россинанту.
— Куды ж на ней? Она и к утру не дойдет! А тут мы сейчас в усадьбе будем!
— А тебе не попадет за это?
— Николи! — с убеждением воскликнул мальчик. — Вот если бы не привез вас, тогда забранил бы барин!
— Ну, едем! — решил я.
Мальчик кинулся в шалаш, схватил две уздечки и запрыгал вниз по уступам обрыва.
— А меня уж ослобоните, господин ваше степенство?.. — обратился ко мне Михей. — Я тут заночую, да и домой!
Я вынул трехрублевку и отдал ему. Михей поглядел на нее, перевернул, и на лице у него написалось недоумение.
— А на чаек-то как же, ваше степенство? — произнес он, не найдя никакого придатка и позади бумажки. — Эдакую путину отломили?..
— Да кто ж виноват? — ответил я. — С тебя надо деньги взять за то, что Бог весть куда завез меня!
— Обидно, ваше степенство!.. Наймали на двенадцать верст, а проехали тридцать!.. вот она какая штука-то!..
Он так был уверен в своей правоте и так разочарован отсутствием «чая», что я вынул полтинник и сунул ему.
Михей оживился и даже захохотал: полтинник, очевидно, превысил всякую меру его мечтаний!
— Вот она, какая штука-то!.. — заявил он, перестав смеяться и запихивая деньги в карман штанов. — Ну, благодарим, ваше степенство!..
И он принялся распрягать своего давно уже уснувшего коня.
— Подкормимся, отдохнем, а по холодку и домой, вот она какая штука-то! — вслух пояснял он самому себе.
Внизу, в пелене тумана, послышался приближавшийся топот, затем под обрывом смутно обозначились всадник и два коня.
— Хотел Ветерка с Мымрой пымать, да не видать ничего!.. — прокричал мальчик, взбираясь на кручу, — взял каких пришлось!..
Он вынырнул словно из-под земли около меня на небольшом, вороном, сытом коньке; в поводу у него был рыжий, горбоносый донец…
Я постелил на спину последнего вместо потника бурку, взвалился на него животом, по-мужицки, и сел верхом. Михей подал мне чемодан, и мы двинулись в непроглядную темень, окружавшую костер. Скоро глаз стал различать узкую дорогу; она вилась среди березового перелеска; туман остался за нами, на лугах у реки; сделалось теплее.
— Тут дорога прямая, ровная!.. — крикнул, обратившись ко мне, мальчуган, ехавший передовым. И он ударил пятками в бока своего воронка; тот пошел галопом. Поскакал и мой донец; не скажу, чтобы было удобно галопировать на неоседланной лошади с чемоданом в руке.
Местность подымалась; в лес вступили сосны и ели, он сделался выше. И вдруг невидимая рука беззвучно провела в воздухе близ меня фосфорическую черту; дальше вспыхнула другая, с ней скрестилась третья. По кустам и на земле засветились таинственные опалы ночи — Ивановы светляки. Казалось, тысячи гномов зажгли свои крохотные фонарики и что-то вершат в лесу. Нельзя передать словами, какое неизъяснимое чувство будят в душе эти кусочки луны, бродящие по земле!
Из черной мглы впереди вдруг засветились два желтых глаза: топот копыт будто пробудил спавшего за лесом Змея-Горыныча.
— Барский дом видать!.. — прокричал мальчуган.
V
Дорога бежала под гору; опять стало сырее, опять земля начала прорастать туманами; лес все больше и больше заполнялся бледными, призраками; еще немного, и белесая мгла совсем поглотила нас. Лошади между тем скакали уверенно, загремел деревянный мост, дорога опять пошла на подъем. Туман остался за нами. Мы миновали аллею, и слева обозначилась темная громада дома; из освещенных окон его падал свет и озарял часть просторного двора; близ подъезда теснилось с десяток экипажей, виднелись лошади и кое-где люди. В разных местах слегка погромыхивали бубенцы и слышался одиночный, густой звук поддужного колокола.
Только что мы успели слезть с коней, дверь распахнулась и из нее важно вышел какой-то мужчина.
— Садись!!. — скомандовал он по-кавалерийски. — Факела давай!!. Вильковские и Чаплинские, господ вести идите!!.
Кучера оживились и засуетились; некоторые поспешили в дом. Один из конюхов присел около меня на корточки и торопливо принялся черкать серными спичками о голенище сапога; другой держал перед ним наклоненную длинную палку, на конце которой темнела жестянка с паклей, пропитанной смолою. Пакля, наконец, загорелась; дымное солнце поднялось с земли и очутилось в воздухе над каким-то всадником; в трех других местах вспыхнули такие же факелы и озарили весь зашевелившийся конский и людской муравейник. Из подъезда с шумным говором и смехом выходили гости — мужчины и дамы; большинство первых нуждалось в опорах и держало друг друга под руки, двоих бережно вели, почти несли, собственные кучера и прислуга; двое других остановились в дверях, обнялись и принялись целоваться; и тот и другой что-то лепетали и колотили себя в грудь. Всех гостей было около пятнадцати; их провожали хозяева — высокий, полный и усатый господин лет тридцати пяти в белом распахнутом кителе и небольшая, гладенько причесанная и простенькая на вид кругленькая дама.
Хозяин — Лазо — вдруг нагнулся, и тут только я заметил, что около него стоит мой вожатый и что-то сообщает ему, указывая лицом и пальцем в мою сторону. Лазо выслушал и пробежал глазами мою визитную карточку.
— Где?.. где??! — громко проговорил он. Смуглое лицо его осияла улыбка. — Проси скорее, марш! — и он дал легкого подзатыльника моему мальчугану.
Я обогнул закрывавший меня экипаж и направился к крыльцу. Лазо приметил меня и заторопился навстречу Шаги его нельзя сказать, чтобы были тверды.
— Миша, не упади?!. — с опаской воскликнула жена его.
— Очень рад познакомиться!!. — произнес Лазо, крепко сжав и тряся мою руку. — Чудесно, что вы заблудились; ей-Богу!!.
Высокий лоб его, благодаря манере носить фуражку набекрень, резко наискосок разделялся на белую и коричневую половины.
Большие темные глаза и несколько родинок на бритых щеках делали лицо чрезвычайно симпатичным. В молодости он был, вероятно, красавцем.
— Господа?! — вдруг закричал он, держа меня одной рукой и подняв высоко другую. — Стоп! остановка! Позвольте вас познакомить — се цвет нашего уезда, а это С. Р. Минцлов из Петербурга!! найден в болотах! Отбой, назад, господа!! Находку вспрыснуть необходимо!!.
— Миша, Миша!!. — тщетно взывала жена его.
— Правильно!! резон!!. — раздались ответные голоса, и человека четыре из гостей, уже водруженных прислугой и женами в коляски, вскочили и собрались вылезать из них, но были удержаны возгласами и энергичными действиями своих половин, причем один, маленький и зеленолицый, был даже схвачен последней за ворот и плюхнут на место.
— Насилие!! караул!!. — завизжал он на весь двор. — Ратуйте, господа мужья, жены обижают!!.
— Трогай, Иван!.. до свиданья!!. — прозвучал чей-то женский голос.
Лазо бросил меня и замахал обеими руками.
— Нельзя! не пускать со двора!!. — завопил он. — Ворота на запор! Без посошка не пущу! Крюшон тащите сюда!!. Живо!!.
Трое прислуг бросились в дом и мгновенно явились обратно с серебряной ведеркой и стаканами. Вино было розлито и разнесено по коляскам и среди еще не садившихся гостей, окружавших нас. Со всех сторон ко мне тянулись руки для пожатия и стаканы для чоканья.
— Счастливого пути всем!!. — возгласил Лазо, высоко подняв стакан. — И за здоровье нового знакомого!.. Ура!..
— Уррааа!.. — подхватили с разных сторон, и мимо подъезда потоком двинулись пары и тройки. Из колясок махали руками и шляпами, что-то выкрикивали и хохотали.
— К нам заезжайте! — кричали мне некоторые.
Зеленый господин стоя пел «я обожаю», причем прижимал руку к сердцу, а жена тянула его за рукав и все сажала на место. Звенели колокола и бубенцы, фыркали лошади; вперед проскакали два всадника с факелами, двое других поместились посреди кортежа.
— Осторожней на спуске!!. — прокричал Лазо, размахивая носовым платком.
Поезд, освещая все по сторонам, втянулся в ворота и исчез за перекрестком; тьма разом наполнила кругом мир, и только на одном из деревьев аллеи несколько секунд светилось и передвигалось красноватое пятно; оно превратилось в бледно-зеленое и наконец исчезло.
Лазо взял меня под руку и потащил к жене.
— Мамочка?!. — возгласил он. — Позволь тебе представить, — он назвал мое имя и фамилию, — вообрази, заблудился! Это нам с тобой аист на счастье принес!!. — он закатился смехом. — А где же аист? Мишка, пострел, где ты?
Мой проводник вынырнул откуда-то сбоку.
— Сюда иди!.. Эй, крюшону сюда!
Ведро стояло на верхней ступеньке подъезда, и вино было подано мгновенно.
Лазо протянул стакан мальчику.
— Молодец!.. — поощрил он его, — получай за сообразительность награду!..
Мальчуган, держа стакан обеими руками, медленно и причмокивая, как медвежонок, высосал все содержимое его.
— Сладко? — спросил, посмеиваясь, Лазо.
— Сладко!.. — умильно ответил тот. — Благодарствую!..
Лазо дал ему второй поощрительный подзатыльник, и мальчик со счастливой улыбкой кувырнулся с подъезда в потемки.
— Пожалуйста!.. — сказала хозяйка, указывая мне рукою на вход. Мы вступили в дом и очутились в обширной столовой.
В ней царил хаос. На огромном, длинном столе, накрытом белою скатертью, в беспорядке теснились бутылки, блюда с остатками кушаний, грязные тарелки, алели пятна от вина; стулья словно только что плясали вокруг стола и застыли, где довелось в момент нашего прихода.
— Вы, наверное, проголодались? — сказала хозяйка. — Пожалуйста, садитесь! Дормидонт, дай чистую тарелку!.. — обратилась она к одному из двух лакеев, убиравших со стола.
— Дормидонт, вина!.. — крикнул Лазо, тяжело опустившись на крепкий дубовый стул. — Рейнвейна, не правда ли?
Мы уселись на конце стола; в Дормидонте, подававшем прибор и затем вино, я узнал человека, командовавшего с крыльца кучерам. Он был в серой, суровой, глухой тужурке и в суровых же брюках навыпуск.
Выправка сразу изобличала в нем, так же как и в барине его, военного. На круглом и сытом, несколько плоском лице с крупными серыми глазами лежала печать полного самодовольства, сознания своей незаменимости и некоторой наглости.
Я был голоден как крещенский волк и с удовольствием подчинялся деспотизму хозяев, из которых одна беспрерывно подкладывала мне на тарелку то с одного, то с другого блюда, а другой подливал вина и стучал в мой стакан своим собственным.
— Да вы пейте же, пейте!!. — восклицал Лазо. — Рейнвейн, это вино рассвета!
— Да разве уже рассвет? — удивился я.
Лазо вынул часы.
— Половина третьего!.. — возгласил он. — Еще полчаса и начнет светать! Но очень точным быть не надо: истинные христиане всегда заблаговременно пьют! — Он залился смехом.
— Миша! — укоризненно, с улыбкой сказала хозяйка. Она старалась соблюсти некоторое равновесие и держать тон хорошего общества, но Лазо, видимо, решительно не признававший никаких тонов, то и дело сбивал ее и ставил в беспомощное положение. И тогда она складывала на коленях ручки и умолкала с видом как бы говорившим: уж извините, видите сами, что ничего не могу с ним поделать?
За ужином я подробно рассказал о своих похождениях и их цели.
Лазо помирал со смеху, в восторге шлепал себя по коленке и наконец завопил — Шампанского!!.
— Миша, ты не в ресторане!!. — вступилась хозяйка.
— Мамочка, никак невозможно!.. — продолжал кричать Лазо: спокойно говорить этот человек, видимо, не умел. — Ведь это же антик; его за деньги показывать надо!
— Миша, ведь они же обидеться могут на тебя?
— На меня? За что?!. Да ведь я же любя говорю! Идейный человек, как же вы не антик? хоть и бзик, а идея!
— Миша!!. — хозяйка сложила на коленях ручки и умоляюще посмотрела на меня.
«Миша» подавился вином, закашлялся, хохотал, отплевывался, указывал на меня пальцем и выкрикивал — люблю!! прелесть!!.
Выстрелило шампанское. Дормидонт со снисходительным видом налил его в граненые бокалы.
Лазо принял серьезный вид и протянул ко мне свой для чоканья — Характер у меня дурацкий! — заявил он. — Но верьте — высоко вас ценю и уважаю! Не пожалеете, что ко мне попали: рука Провидения вас направила!.. в болота!!.
Серьезность с него соскочила, и он залился смехом: явно, это было его нормальное состояние. — Дормидонт, еще шампанского!!.
Дормидонт налил по второму бокалу и отошел за угол буфета, так что сделался невидимым для нас. И когда мы чокались, я увидал, что из угла выставилась таинственная рука, державшая бутылку за горлышко; последняя описала дугу, опрокинулась вверх донышком и с минуту продержалась в таком положении; затем она опустилась и исчезла. Из-за буфета, вытирая усы, со строгим видом появился Дормидонт и поставил пустую бутылку на площадку.
— И у меня есть библиотека!.. и архив и еще, черт его раздери, что-то!.. Все к вашим услугам! Хотите посмотреть? — Лазо попытался приподняться, как бы собираясь идти немедленно.
— Какая теперь библиотека?!. — восстала хозяйка. — Теперь спать идти пора! Завтра все покажешь!..
— Истина: и завтра день будет!.. — Лазо осушил бокал, поднял его и многозначительно крикнул — Дормидонт?..
Тот оглянулся.
— Нету больше!.. — коротко ответил он.
— Как нет? — воскликнул Лазо. — Целая бутылка была?..
— Цельную и выпили!
Другую давай!
— Нет, нет, нет, будет!!. — решительно заявила хозяйка, а вместе с нею и я, и мы встали с мест.
— Спать пора: уже солнце всходит!!
В окна, действительно, глядел белый день.
— Солнце, солнце!!. — продекламировал Лазо, встав тоже. — Это из Ибсена.
— А что после солнца было — не помню? Невероятно, но факт!
Хозяева отправились провожать меня в предназначенную мне комнату. Дормидонт следовал за нами.
— Свита Фортинбраса! — с хохотом возгласил Лазо, указывая на себя и жену. Он распахнул одну из дверей, и мы вошли в большую, всю зеленую комнату; мебель, обои, гардины — все было одинакового матового цвета. Шторы на трех окнах были опущены; не занавешено было только одно окно. У стены слева стояла готовая к принятию гостя кровать.
— Доброй ночи!.. — пожелал Лазо, стискивая мне руку.
— Какой ночи? — возразила хозяйка. — Спокойного сна, это да!
— Нет, я так уйти не могу!!. — замотав головой, вдруг возразил Лазо. — Вас сам Бог послал мне!.. вороне Бог послал кусочек сыру!!. — продекламировал он, хохоча… — Позвольте я вас расцелую?!.
Мы поцеловались, и хозяйка едва увела этот фонтан слов и веселья.
Я остался с глазу на глаз с Дормидонтом.
— Ничего не прикажете? Квасу, может быть, угодно?.. — не без иронии спросил он.
Я ответил отрицательно и остался один.
Я терпеть не могу спать в искусственной темноте и потому сейчас же принялся поднимать шторы и распахивать окна. В комнату влилась свежесть и аромат роз. Густой сад был еще в сплошной тени, и только верхушки высоких елей, ровной линией окаймлявших его с самой дальней стороны, алели от солнца. Трава казалась серой от росы. «Спать пора! Спать пора!..» — кричал где-то перепел.
И я заснул, едва прикоснувшись к подушке, с беспричинным радостным и бодрым чувством в душе.
Когда я проснулся, комната была залита солнцем. Часы показывали девять. Я поспешил привести себя в надлежащий вид и вышел в коридор. Из него попал в гостиную; меня встретила безмолвная, строгая мебель, вся одетая в чехлы. Порядок и особенная чистота и блеск крашеного пола указывали, что этой комнатой пользовались чрезвычайно редко. Рядом находилась столовая. От вчерашнего пиршества в ней не осталось и следа. Дормидонт ставил на чистую скатерть всякую всячину, относящуюся к чаю. Ноги его были обуты в серые войлочные туфли, и он бесшумно скользил между столом и темною массой буфета.
Дормидонт оглянулся на мои шаги, и лицо его осклабилось и приняло снисходительно-приветливое выражение. Оно было свежее, даже румяное, и только мокрые, торчавшие во все стороны вихры на голове и красные, как у кролика, глаза выдавали тайну этой свежести: его, видимо, только что сейчас основательно поливали из ведра холодной водой.
— Встать изволили? — проговорил Дормидонт, поклонившись мне одним носом.
— А ваши спят? — спросил я.
— Спят. В десять часов барин приказал разбудить их.
— Всегда он так поздно встает?
— Всегда. Да что ж спозаранку им делать?
— Он нигде не служит?
— Нет. Прежде служили… в Сумском драгунском мы были!.. — внушительно добавил он, приосанясь. — Вторым эскадроном командовали!..
— А семья большая у него?
— У Михал Дмитрича? Он да Нина Павловна, супруга ихняя…
— Детей нет?
— Нету. В бесплодных смоковницах наша барыня состоят, Михал Дмитрия так их определяют!
— Весельчак он!.. — сказал я. — И всегда он такой?
— Да ведь как человеку всегда веселому быть? Клоун и тот наедине кувыркаться не станет! Так и они. Понятно, без людей скучают!
— И часто к вам гости съезжаются?
— Гостей у нас, что овса в торбе всегда! И барыня не любят, ежели гостей нет: Михаил Дмитрия тогда ходит да ко всему придирается!..
— А нет ли у вас книг? я бы почитал, пока Михаил Дмитриевич встанет.
Дормидонт взглянул на башенные Винтеровские часы, украшавшие стену. Золоченые стрелки показывали половину десятого.
— Да я уж будить пойду сейчас барина!.. — сказал он.
— Половина десятого еще только?
Дормидонт махнул рукой. — А прокламации сколько еще произойдет у нас? Разве их сразу подымешь?
Я улыбнулся.
— Не любит вставать?
— И-и, беда!!. Так пристать надо, чтобы вскочил, да за тобой погнался — тогда только очнется! Пожалуйте в кабинет, книжки там стоят!
Мы вошли в другой коридор, и Дормидонт открыл передо мной темно-коричневую высокую дверь, а сам скрылся за противоположной.
Кабинет бы невелик; ближе к окнам, отступя от стены, стоял письменный стол; за ним выгибало черную спинку полукруглое кресло. Одну из стен закрывали полки с книгами; против них пестрел широкий турецкий диван; в углу между двух кресел зажался столик с возвышавшимся на нем кальяном. На всех свободных местах стен висело оружие.
Письменный стол был в необычайном порядке, и это настолько не вязалось со сложившимся у меня представлением о его хозяине, что я невольно обозрел стол внимательнее: вещи часто красноречивее слов говорят о своих владельцах… Роскошная хрустальная чернильница на серебряном постаменте была наполнена давно пересохшею кашей из чернил и мух. В перламутровой ручке торчало ржавое перо об одном зубце… все свидетельствовало, что письменный стол — только общепринятое украшение комнаты и что рука Лазо не прикасалась к нему. Зато явно и часто прикасалась она к книгам. Растрепанные, лохматые, словно побывавшие в клетке у медведя, они были запиханы на полки кое-как и торчали, будто зубья у стоймя поставленной бороны.
— Однако, усердные здесь читатели… — подумал я и осторожно высвободил несколько книг. Переплет одной из них и значительная часть страниц были сплошь усеяны мелкими, странными дырочками; посередине другой зияла одна большая сквозная дыра.
— Вставайте!.. — услыхал я рядом голос Дормидонта.
— К черту!!. — сонно буркнул Лазо.
— Одиннадцать часов уже!..
— Вон убирайся!!.
— Сами приказали разбудить!.. Вот еще наказал Господь!!. Вставайте, два часа уж вас трясу!..
— К черту, говорю!!. — завопил Лазо. — Спать хочу!
— Мало бы чего вы хотите? Вот стащу с вас одеяло — и спите тогда!
— И буду!! и подавись им!!.
Послышалась легкая возня: должно быть, Дормидонт приводил в исполнение свою угрозу… Наступило молчание. Мне показалось, что Лазо даже захрапел.
— Пожар!.. Батюшки, горим!!. — неистово, во все горло заорал Дормидонт.
Я вздрогнул, ткнул кое-как книги между полок и бросился к двери.
В спальной как бы треснула кровать; в дверь с грохотом врезалось и затем упало на пол что-то тяжелое; она распахнулась и из нее стремглав вылетел и вильнул в коридор Дормидонт. За ним в одном белье несся взбешенный Лазо. Миг — и мы очутились в объятиях друг друга. Разозленное, измятое лицо хозяина выразило глубочайшее изумление. Он отступил на шаг назад, прикрыл как бы галстуком ладонью волосатую голую грудь и уставился на меня.
— Это вы?!. — вдруг вскрикнул он, вспомнив все происшедшее накануне.
— Ради Бога извините!! я сию минуту! — Он попятился назад, кланяясь, шаркая босыми ногами и прикрываясь руками, как знаменитая Сусанна в купальне на картине. В дверях он споткнулся о валявшийся сапог, помянул черта и скрылся за дверью. Пожара, видимо, никакого не было. В доме была тишина. Я постоял еще с минуту в коридоре и вернулся к книгам.
В спальню с белым кувшином в руке, с высоко поднятой головой проследовал Дормидонт. На физиономии его было написано полное удовольствие от собственного остроумия.
— Живо давай воду!.. — встретил его окрик окончательно очухавшегося Лазо.
— Теперь «живо», а сапоги зачем же было швырять? Тоже ведь это не модель!.. — укоризненно ответил Дормидонт.
— Потолкуй у меня!!. — фыркая и плещась, сказал Лазо. — Философ из барбосов еще какой выискался! Голову тебе, анафема, чем-нибудь проломлю в другой раз, если опять так надо мной заорешь! В ухе звенит теперь, нечистая сила!..
— Да что ж с вами поделать, коли вы без понятия спите? Не разбудишь — я черт; разбудишь — опять же в чертях остаюсь, да еще голову проломить обещаетесь! Сапоги-то, чтоб не палили ими, я вам теперь опять только к чаю подавать стану!.. — строго добавил Дормидонт.
Умыванье и одеванье Лазо совершилось по-военному, быстро, и он надушенный, улыбающийся вошел в кабинет и протянул мне обе руки.
— Еще раз извините, дорогой мой!.. Эдакая ведь каналья этот Дормидонт: из-за него все так вышло! — Только я, знаете ли, сон какой-то чудесный стал видеть — он и гавкнул! Дормидошка? — крикнул он, оборотившись назад.
— Чай готов?
— Давно дожидается!.. — ответил из спальной голос Дормидонта.
Лазо подхватил меня под локоть и повлек в столовую.
— Мамочка, вообрази, я его не узнал!.. за судебного пристава счел!!. — с хохотом возгласил Лазо, ворвавшись в столовую. — Здравствуй!..
Нина Павловна сидела уже за столом; перед нею на спиртовке грелся никелированный кофейник, сбоку кипел такой же самовар.
Простенькое лицо ее улыбалось нам обоим. На мужа она бросила долгий лучистый взгляд, и по тому неуловимому, что мы воспринимаем только чутьем, я понял, что мир для нее начинается и кончается этим человеком. Мы уселись слева и справа от нее.
— Как спали на новом месте? — задала неизменный вопрос хозяйка.
— Как камень!.. — ответил я. — Кстати, — обратился я к Лазо, — я сейчас просмотрел несколько книг в вашем кабинете. Отчего они в каких-то дырках?
— От внимательного чтения, — серьезно произнес Лазо. — Уверяю вас!
— Да, да, как бы не так? — сказала хозяйка. — Этот варвар их расстреливает!
Я перевел взгляд на Лазо. Тот уже помирал со смеху.
— Неправда!!. — воскликнул он.
— Как так? а Мирабо[45] кто расстреливал?
— Мамочка, да ведь он же мерзавец был, из патриотизма я его!..
Нина Павловна встала, вышла в соседнюю комнату и сейчас же вернулась со старинною книгою в руках.
— Вот полюбуйтесь!.. — она подала мне томик в темном кожаном переплете. — Я развернул его, и первое, что мне бросилось в глаза, было круглое отверстие посредине лица гравированного портрета Мирабо; под ним было напечатано следующее четверостишие:
— «Над Мирабо суд прав небесный совершился: То было бедствие, что он на свет родился, Он умер — вот лишь что услугой должно счесть, Какую только мог он обществу принесть…»— Видите, вместо носа дыра?
— Мамочка, ведь он же француз был! у них это так и полагается! — хохоча пояснил Лазо. — Других я не расстреливал!
— А Шиллера? Он тебе что сделал? Такое чудесное издание!..
— Ну, немчура, есть о чем говорить? И не расстреливал я его, а только в стрельбе упражнялся, это же разница! Не могу же я, мамочка, стрелять разучиться! Вдруг меня из-за тебя на дуэль вызовут?..
— Ну, вздор говоришь!..
Лазо запрокинулся назад, замахал руками и залился смехом.
— А мелкие дырки на книжках отчего же? — спросил я недоумевая: мне все казалось, что мои собеседники шутят.
— Да он же все натворил: когда ему скучно, он книги влет дробью из ружья стреляет!
— Мамочка, я же не виноват, что вальдшнепов у нас нет! И не преувеличивай: я только по малому формату стреляю! Я библиофил, малый формат — это моя слабость: он, знаете ли, совсем как вальдшнеп летит!
— Делать ему нечего, вот он книжные садки и устраивает!
— В таком случае разрешите мне ограбить вашу библиотеку!.. — решительно заявил я.
— Да сделайте одолжение! — воскликнул Лазо. — Пожалуйста. Хоть всю берите!..
— И хорошо бы сделали! — заметила Нина Павловна.
После чая, несмотря на приставания хозяина идти смотреть с ним какое-то необыкновенное симментальское страшилище — быка и лошадей, я отправился в кабинет и занялся библиотекой. Лазо развалился на диване, курил и говорил без умолку. Анекдоты, смех, разные воспоминания, топанье от восторга ногами — все беспрерывно чередовалось у этого двуногого Нарзана. Я подавал реплики иногда невпопад, и это заставило Лазо изощряться на мой счет в остроумии и хохотать еще больше.
Просмотр занял часа два; отобрать пришлось всего около полусотни книг — все остальное было частью прострелено, частью изорвано и вообще находилось в самом невозможном виде. К концу моей работы к нам присоединилась и Нина Павловна.
— Вот безобразник!.. вот безобразник!!. — несколько раз произнесла она, видя, что снятая мною с полки книга оказывалась простреленной, и я, качнув головой, ставил ее обратно.
— Мамочка, не осуждай и не осуждена будешь!.. Ведь это же у меня наследственное!.. — восклицал Лазо. — Нельзя против наследственности протестовать! И рад бы не стрелять, но не могу, понимаете, не могу — тянет. Святоотеческие предания!.. Ведь я же охотник: вот она, подлая, лежит, а мне уже кажется, что летит!..
— Молчи, молчи!..
— Вот эти бы книги я у вас приобрел?.. — сказал я, указывая на отобранные мною.
— Только и всего? — удивился Лазо. — Голубчик, возьмите их все!
— А вправду, возьмите все?.. — поддержала хозяйка.
— Да зачем? — возразил я.
— Нет, в самом деле? Шутки в сторону: на кой черт они мне?
— Правда, правда!.. — опять вмешалась Нина Павловна.
— Забирайте все, ей-Богу! Только место они у меня занимают. Пыль от них разводится, блохи!..
— Ну, уж блохи-то от твоих собак, положим!.. — заметила Нина Павловна.
— Нет, мамочка, от книг, ей-Богу от книг!.. — возопил Лазо. — Как только в руки возьмешь ее, так по тебе блохи сейчас и запрыгают! Берите, дорогой мой, — от чистого сердца отдаю, с блохами: разводите их на здоровье в Питере!
Едва мне удалось отговориться от настояний обоих хозяев; излишне упоминать, что о какой-либо плате не было допущено и речи.
После веселого завтрака, о котором человек, находившийся по соседству, непременно подумал бы, что в нем участвует по меньшей мере десяток горластых хохотунов, я хотел проститься с милыми хозяевами и ехать дальше, но и это оказалось невозможным. Лазо зажал себе уши — кстати сказать, крохотные и плотно прижатые к голове, затопал и закричал, чтобы я об этом и не думал. Энергично запротестовала и Нина Павловна, и было решено, что свободу я получу только на следующее утро.
День промелькнул незаметно. Лазо водил меня на конюшни и к симментальскому быку, действительно чудовищу, познакомил меня с десятком Жозефин и Цезарей — собак всяких охотничьих пород, обошли мы фруктовый сад и старинный тенистый парк, сыграли в шахматы, причем Лазо совершенно не давал думать, и каждая партия наша, на манер поддавков, длилась не более пяти минут.
Лазо не оставлял меня одного ни на минуту, и, даже когда я заглянул в место уединения, он ждал меня, как конвойный арестанта, у двери.
На полочке этого учреждения лежала половина какой-то книги: от другой уцелели только мелкие обрывки от корешка. Я взглянул на заголовок, имевшийся над каждой страницей, и увидал, что то был роман когда-то очень модного Шпильгагена — «О чем щебетала ласточка»[46].
— Послушайте, греховодник вы эдакий, это что же такое? — спросил я, выходя к Лазо с остатками творения Шпильгагена в руке.
— Как что — книга. «О чем щебетала ласточка»!
— Да где же она у вас щебечет-то?
Лазо с хохотом принялся колотить себя кулаком в грудь.
— Драгоценнейший, я люблю почитать, ей-Богу! Но ведь умственные занятия уединения требуют, тишины! Только здесь и возможно, так сказать, насладиться!
Лазо держался за бока от смеха.
Мы прошли на веранду и расположились в плетеных креслах около Нины Павловны, вышивавшей цветными шелками какую-то бесконечную серую полосу.
Дормидонт без всякого приказа поставил между мной и своим барином легкий столик, и на нем появилась бутылка белого вина и гравированные стаканчики тончайшего стекла.
— Кваску после путешествия? — предложил Лазо, наполняя стаканчики. — В жару незаменимая вещь — от солнечного удара предохраняет!
— Расскажите нам что-нибудь из ваших приключений? — попросила хозяйка. — Наверное, у вас много приключений было?
— Особенного ничего не случалось, — ответил я, — а встречи, действительно, были любопытные!.. — И я рассказал о некоторых из своих поездок.
Хозяева слушали с большим интересом. Особенное впечатление на увлекающегося Лазо произвело описание сожжения книг целыми бельевыми корзинами.
— Вот свиньи?!. — воскликнул он. — Серьезно, это же безобразие, как мало ценят у нас культурные сокровища!
— Миша, ты бы помолчал?.. — обратилась к нему Нина Павловна.
Лазо сделал было большущие глаза, но, видимо, вспомнил про свою садку книг и залился смехом.
Я заговорил о дальнейшей поездке; выполнять программу Прова Ивановича уже не приходилось, и надо было составить новую.
— Я знаю, к кому тебя направить!.. — закричал Лазо.
— Миша, ты уже на «ты» перешел?.. — остановила его Нина Павловна.
— Мамочка, это у меня сорвалось: полет души, вы, женщины, этого не понимаете! Иначе нельзя! Мы с вами на брудершафт должны выпить! На «вы» всего не выскажешь! «Вы», например, и «свинья» — не идет, не подходит?!.
— Миша?!.
— Мамочка, да ведь это же я к нему не отношу, я вообще говорю, философствую!!.
Он наполнил мой стакан вином, вскочил и подал мне. Нина Павловна сложила на своем шитье ручки и, виновато улыбаясь, глядела на нас.
Брудершафтов я не люблю, но отказаться значило обидеть хозяина. Я продел свою руку под галантно подставленный мне локоть Лазо, и стаканы опрокинулись над нашими ртами. Мы сочно поцеловались.
— Психопат!.. — отчеканил Лазо, уставясь на меня.
— Дубина! — от души вырвалось у меня, и мы оба захохотали: ритуал брудершафта был соблюден полностью. Лазо впал в совершенный восторг.
— Дормидошка, шампанского!!. — заорал он, топая ногами и ероша на себе волосы.
— Миша, Миша?! — слабо слышался среди гама и крика протест Нины Павловны, но Миша уже превратился в коня, закусившего удила.
— И я с тобой вместе поеду! — кричал он. — Мамочка, ты не будешь в претензии, что я тебя на два-три дня одну оставлю?
— Поезжай, пожалуйста!.. очень рада за тебя буду!
— Ведь его никак нельзя отпустить одного: ты же блаженный! Вместе сокровища спасать будем! Черт возьми, ведь, серьезно, безобразие кругом!
В темный потолок щелкнула пробка от шампанского, Дормидонт налил его в наши стаканы, поставил бутылку и удалился.
— Ваше блаженство, пожалуйте?.. — вопил Лазо, тыча мне в руку шампанское. — За твое здоровье! За нашу дружбу! За здоровье главнокомандующего!!. Урра!
Лазо хохотал и пил.
— Мамочка, а ты что же? И ты должна выпить за Сергея Рудольфовича!
Нина Павловна чокнулась со мной стаканом мужа и отпила половину.
— Весь, весь надо!.. — запротестовал Лазо. — Иначе наша дружба непрочна будет!
Нина Павловна исполнила требование мужа, и он уселся на свое место.
— Господа, теперь серьезно поговорить надо: нельзя же в самом деле все ржать! — сказал Лазо таким тоном, как будто именно мы с Ниной Павловной были виновниками криков и хохота, разносившихся по всему саду.
— Мамочка, ты у меня министр, как думаешь, к кому нам с ним ехать? Во-первых, к баронессе…
— Во-первых, узнай — желает ли Сергей Рудольфович твоего общества?
— Помилуйте? — возразил я. — Я очень рад буду, если Михаил Дмитриевич со мной поедет!
— Ну разумеется! Значит, сперва к баронессе!
— По-моему, не так, Миша: завтра день св. Филиппа, именинник Филипп Савельевич; вот бы к нему вы прямо и проехали!
Лазо треснул себя ладонью по лбу.
— Идея! — вскрикнул он, — какими там растягаями угостят, как у Тестова в Москве! А наливка?!
— А найдем ли мы у него что-нибудь, кроме наливок? — осторожно осведомился я: у меня зашевелилось предчувствие, что Лазо превратит мою поездку в развеселый пикник по всем уездным именинникам.
— Найдем. Все что угодно найдем — от наливки до портрета Сократа! Ученейший человек, магистр географии и каланча, ей-Богу!
— Миша, неправда!!. — перебила его Нина Павловна. — Это наш уездный почтмейстер! У него есть кое-что, что заинтересует вас: он, или жена его, наследство несколько лет тому назад получили…
На веранде начали накрывать на стол: был уже шестой час.
За обедом стояли гвалт и хохот: мой новый друг пустился в повествование о местных помещиках. Он знал про всех самую подноготную, и рассказы его были фейерверком остроумия.
— Миша, ты старая салопница!!! — несколько раз восклицала Нина Павловна, смеясь вместе с нами.
— А что за тип ваш почтмейстер? — осведомился я.
— Филипп Савельевич? Господи, какая серость с твоей стороны! — возопил Лазо. — Во-первых, жердь; мы с тобой плебеи, от обезьяны происходим, а он происхождения высокого — от жирафы и унтер-офицера. В молодости был танцмейстером в Орле. Танцевал хорошо, но жена танцевала с предводителем еще лучше…
— Миша, вздор!!.
— Мамочка, не лгу, ей-Богу правда! Затем сломал одну из своих макарон — ногу, хотел я сказать, и по протекции персоны попал на службу на почту. Через пять лет достиг степеней высших: получил геморрой и должность почтмейстера. Но — горе! чина не имел! «Бесчинный почтмейстер», ведь это же землетрясение! А чтобы чин получить — экзамен пожалуйте сдать, иначе нельзя! Поехал я однажды в город — там я всегда в номерах у него останавливаюсь. Номера у него при конной почте самые лучшие, и клопы во всем городе самые малюсенькие! И вижу, два воза на дворе нагружаются: мешки с мукою на них кладут, куда с овсом, масла кадушку, яйца, куры, живые гуси… И Филипп Савельевич тут же высится, как с каланчи обозревает.
— Куда это, спрашиваю, Ноев ковчег собираете, почтеннейший?
— К экзамену готовлюсь!.. — отвечает. — Экзамен у меня завтра в уездном училище!
— Масло да гуси тоже, значит, экзаменоваться едут?
— Вы над гусями не смейтесь!.. — отвечает. — Гуси Рим спасли, а уж нашего брата вот как вывозят! Гусь-то он лучше профессора всякие экзамены выдержит! — Лазо залился смехом. — Зарезал, уморил!!.
— И что же, оправдали гуси его доверие? — спросил я.
— Еще бы! А у нас съезд был дворянский, мы на другой день целой компанией к смотрителю училища! — Жить вам, кричим, или умереть? Выдержал наш Филипп Савельевич экзамен или нет?..
А тот прехитрый старикан, крыса седая, Онуфрий премудрый. Глядит в свои щелочки, посмеивается. — Ну как, отвечает, — умному человеку не выдержать! Выдержал!
— Неужели правда?!.
— Совершеннейшая!
— Все знал?!.
— Что нужно знать — знал!.. и смеется, бестия. Мы «ура»! да всем табором к Филиппу Савельевичу — за здоровье гусей пить! Хохот, крик, шампанского с собой притащили, почту закрыли, такое крамбамбули загнули — на весь город. Почтмейстер сиял, почтмейстер горд был: вся знать сразу в гости к нему собралась!! Почти все ведь учениками его были!
— Сейчас разузнали, как экзамен происходил. Что ни спрашивали — он ни бе, ни ме, ни кукареку: Вену перстом в Сибири искал, Средиземное море с Каспийским спутал! Один из учителей видит, что дело — мат, уж прямо на смех спрашивает: — покажите, где море житейское? Филипп Савельевич и его искать давай! Возил, возил носом по карте в Белое въехал! «Вот оно»! — говорит. Животы надорвали учителя!!.
— Как же смотритель сказал, что он выдержал?
— И выдержал! — закричал, хохоча, Лазо: «что нужно знать — знал!» Житейская премудрость превыше всего! Мудрец, философ! Ах, как я теперь гуся уважаю! Превыше губернатора! Но, кроме шуток, разве не хорошо сделали, что не срезали человека? Не все ли равно миру — будет наш почтмейстер коллежским регистратором или нет? Он ведь не морж, на что ему Белое море? в Вену не собирается! А сколько человек утешил? Год за животики держались! Ведь это же оперетка, мамзель Нитушь! А с ним еще вот какое кипро-ко вышло…
— В нашу дыру ревизор какой-то приехал. К нам и вдруг ревизор — понимаешь ты эту ерунду? Филипп Савельевич, конечно, явился к нему в полном параде, при шпаге, на петличках одна полосочка — титулярный советник ведь теперь, ротмистр! Вошел, бодро, прямо, красота танцмейстер, хоть сейчас «Жизнь за царя» с мазуркой ставь! А назад, за дверь вытанцевал, как курица из ведра: даже волосы на лбу взмокли! Чинуши к нему: — что такое, что случилось? — спрашивают. А тот как потерянный. И шепотком эдак — «кукареку какое-то велел подать!» — Лазо задрыгал ногами от смеха. — А это кукареку — курикулум вите оказалось!!.
— Довольно, довольно!!. — запротестовала Нина Павловна. — Почтмейстер премилый человек, все его очень любят!
— Мамочка, я первый его люблю! — воскликнул Лазо. — Но ведь нельзя же не рассказать правды: Бог правду любит! Ведь меня иначе священник к причастию не допустит?!.
День промелькнул незаметно.
Разумеется, я не забыл заглянуть на чердак и в амбары и, как почти повсюду, наткнулся в них на многое интересное: была там и кое-какая старинная мебель; на чердаке, в небольшом горбатом сундучке отыскались связки писем от времен императрицы Елизаветы, Екатерины II и Александра I. Мыши устроили из них себе гнездо, и добрая треть пачек оказалась обгрызанной, а часть и совершенно превращенной в мелкую труху. Среди безнадежно испорченных связок имелась одна, состоявшая из семи отдельных тетрадок в обертках из плотной синей бумаги и исписанных четким, убористым почерком конца восемнадцатого века. От всех них уцелела — и то в виде бахромы — только верхняя третья часть; на первых листах каждой тетради имелся следующий, крупно написанный титул: — «Приключения и жизнь майора и кавалера Андрея Денисовича Лазо, описанные им для своей фамилии касательно службы при его светлости, князе Потемкине-Таврическом, о злоключениях от Емельки Пугачева, о большом пожаре Москвы и протчем».
Нельзя передать, с каким огорчением и обидой я рассматривал жалкие клочья драгоценного документа. Я даже не сказал ничего своему спутнику — он ответил бы только смехом… Извлечь из записок что-либо, кроме отдельных фраз, было невозможно, и я положил остатки тетрадок обратно в сундучок.
Все уцелевшее от семейного архива было мной и Лазо унесено вниз и там поступило в мое полное обладание. Удовольствие, с каким я принял этот подарок, привело хозяина в восторг.
— Милый, а ты старые сапоги не собираешь? — вопил он на весь дом. — У нас их миллион валяется! Пантофли бабушкины целы: она ими по щекам своих горничных шлепала! Редкость, античная вещь!.. По ночам явления производят: оплеухи около них щелкают!
Ужинали мы на открытом балконе, под звездным небом. Ночь стояла черная. Маяками горели на столе две свечи в круглых стеклянных колпаках на высоких тонких подножках. И казалось, что мы сидим в ладье, а кругом раскидывается темный, беспредельный океан. Где-то на берегу его светился одинокий, желтый огонек — окно людской избы. Балкон висел над двором; внизу паслись лошади. Ни их и ничего вообще видно не было, но чувствовался запах конского пота, доносился хруст травы и фырканье. Раздалось звонкое ржание.
Лазо перегнулся через перила.
— Почему табун до сих пор не гонят? — закричал он во всю силу своих могучих легких.
— Счас погонят!.. — отозвался кто-то со двора. — Вечеряют!.. Антон из городу запоздал.
Хлопнула дверь, послышались торопливые шаги. В бездне внизу зашевелились люди; желтое пятно окна то и дело закрывалось двигавшимися тенями. Выстрелом из пистолета щелкнул в дальнем конце бич. «Готовы!!.» — прозвенел совсем юный голос.
— С Богом! — напутствовал Лазо.
Затопотали сотни копыт: волнами и пятнами белой пены всколыхнулась чернота внизу. Гул стал удаляться и таять среди тишины. Безмолвие заворожило мир.
— Как хорошо!.. — тихо проговорила Нина Павловна.
— Ночь с настроением!.. — сказал Лазо, встав со стула и потягиваясь. — Настраивает ко сну!..
Мы разошлись по своим комнатам. А через какие-нибудь четверть часа я вернулся назад и долго сидел один среди темноты и тишины.
В людской погас огонь. Но кому-то, видимо, не спалось, как и мне: внизу сдержанно тренькнула балалайка, потом вполголоса пробренчал нехитрый мотив, и, будто испугавшись своей смелости, смолкла…
VI
В одиннадцать часов утра у подъезда стояла щегольская коляска и тройка коней, подобранная знатоком и любителем. В корню красовался могучий, широкогрудый буланый жеребец с черными хвостом и гривой и с белым пятном на лбу; пристяжками были два сухих и мускулистых рыжих донца.
На козлах сидел молодой здоровенный кучер с едва наметившимися темными усиками; на нем была малиновая шелковая рубаха, черная плисовая безрукавка и круглая шапочка с павлиньими перьями.
Мы простились с милой Ниной Павловной и уселись в коляску. Кучер подобрал вожжи.
— Трогай!.. — приказал Лазо. — Не скучай, скоро вернусь!!. — прокричал он, обернувшись назад.
Нина Павловна не шевелясь смотрела нам вслед.
Мягко и густо залился под дугой колокол; покачиваясь, как в люльке, мы вынеслись за ворота и почти сейчас же попали в деревню. Кучер с силой сдерживал пристяжных; настороженные и нервные, они свернулись почти в кольцо и, кося глазами, скакали около коренника. А тот, самоуверенный и мощный, чуть покачивался со стороны на сторону и мерил дорогу ленивой по виду, но машистой рысью.
Избы быстро бежали мимо, и мы выехали за околицу. Впереди, приблизительно в полуверсте, путь наш пересекал «большак», обсаженный развесистыми, старыми ракитами.
— Сколько до города? — спросил я.
— Двадцать верст… — ответил Лазо. — Здесь дорога дрянь, а вот выедем на тракт — покажу тебе, какова эта тройка!..
Давно опустели наши большаки! Широкой стошаговой зеленой полосой искрестили они Русь по разным направлениям, и только изредка встречает теперь глаз на них пешехода, подводу и еще реже обоз… Кое-где в северных губерниях еще стоят у них, потемнелые и покосившиеся, высокие деревянные дома и строения — былые постоялые дворы, но и они пустуют и, ненужные никому, доживают последние дни. В Орловской губернии их уже нет давно.
Ни одно государство в мире не имеет таких дорог, как наши большаки: есть на них, где разминуться хоть двадцати тройкам, есть, где выбрать нераскисшее место в распутицу!
На большак мы свернули вправо и, что по раскинутому полотну, покатили по низенькой травке вдоль канавы.
— Ну-ка, Матвей?.. — произнес Лазо и встал, держась за ободок облучка.
Руки кучера разом подались вперед.
Словно вихрь подхватил коляску и помчал ее в синюю даль. В ушах засвистал ветер, колокол бил тревогу, пристяжки несли карьером.
— Сыпь!.. — крикнул, входя в азарт, Лазо. — Грабят!.. Сыпь!!. — завопил он во все горло и замахал рукою.
Пристяжные обезумели. Коренник, с развевающимися пышными хвостом и гривой, ураганом летел над землей. Но он помнил свой долг и, не давая сбить себя с рыси, нет-нет и отваливался назад, упирался всеми четырьмя ногами и заставлял пристяжных протаскивать себя несколько шагов.
Есть что-то упоительное в такой езде! Захватывает дыханье, чувствуешь себя птицей, кажется — весь мир вдруг разверзся кругом и все в нем твое, для тебя.
Три верстовых столба мелькнули друг за другом, и кучер стал сдерживать лошадей. Лазо опустился на свое место.
— А?! — только и спросил он. Ноздри его раздувались, глаза блестели.
— Чудесно!! — ответил я. — Но коренник у тебя прямо восторг.
— Боярин-то? Еще бы! Умница: ни за что не даст разбить пристяжкам; коли взбесится — на круп сядет и так и везут его с полверсты! Все дороги в уезде знает. Ночью и не правь им — сам все найдет!
— Цены нет жеребцу!.. — отозвался с козел Матвей. — Одно слово — Боярин!
А могучий Боярин, только что птицей пронесшийся три версты, прядал ушами, потряхивал густой гривой и, весь красота и сила, шел раскачкой, за которой только почти во всю прыть поспевали лихие донцы.
— Барин назимовский едет!.. — сообщил немного погодя Матвей.
Мы перегнулись за крылья коляски и увидали быстро приближавшуюся пару вороных, запряженную в дышло. В коляске, за кучером, белела фигура в холщовом дорожном пыльнике и в сером картузе. Еще миг, и коляска поровнялась с нами.
— Куда?!. — встретил нас оклик. Я успел различить мелькнувшее мимо чуть рябое лицо и острую бородку господина в пыльнике.
— Чичикова везу!!. — заорал в ответ Лазо. — Мертвые души скупает!!.
— Стой! Стой!!! — воплем раздалось за нами. Чужая коляска остановилась; господин ступил на подножку, чтобы выскочить, но мы были уже далеко.
Лазо оглянулся и потряс над головой в знак прощанья рукою.
— Ну, теперь я могу умереть спокойно: весь уезд завтра будет знать, что ты приехал! — обратился он ко мне.
Обижаться на это дитя природы было занятие праздное, но и позволять устраивать из своей поездки сплошное шутовство не приходилось тоже, и я счел нужным прочесть Лазо нечто вроде нотации.
Лазо скроил смиреннейше-лукавую рожу, выслушал и легонько огладил меня, как закинувшегося коня.
— Ну, ну, ну, деточка… хорошо!!. — нежно ответил он. — Не буду больше! паинькой буду, ей-Богу! Видишь, я тебе не противоречу?.. — подхватил он, приметив, что я уже улыбаюсь. — Ведь тебя Боженька убил, ты же невменяемый!
Мы въезжали уже в город. Лазо вынул часы и с гордостью показал мне их, а затем на коней: двадцать верст мы отмахали ровно за час.
Тройка шла вся сухая, и только горячие пристяжки взмокли было немного после бешеной скачки, но затем совершенно просохли в пути.
Город нам был виден еще издалека: высокая гора казалась густо и тесно усеянной на вершине златоглавыми церквами. А от них, вниз по откосу, белым стадом разбегались домики. Вблизи красота исчезла. Потянулась ухабистая, пустынная улица, на которой больше было длинных заборов, чем домов, почти сплошь одноэтажных. И только на площади, близ громады старинного собора и вокруг четырехугольного гостиного двора с полутемными лавками, глядевшими из-под низеньких арок, вставало несколько двухэтажных каменных и деревянных домов.
— На почту!.. — скомандовал Лазо.
Тройка обогнула собор, и близ одного из углов я завидел полосатый верстовой столб, торчавший у ворот какого-то длинного и темного здания: то была конная почта. Против нее, в совершенно таком же, видимо казенном, здании, помещалось почтовое отделение и квартира его начальника.
Не успели мы войти в просторную переднюю, навстречу нам, наклонясь вперед, словно хоругвь в дверях храма, вышел и затем выпрямился хозяин. Сходство его с жирафом, причесанным на прямой пробор, было необыкновенное. Удивительно маленькая головка, наткнутая на тонкую шею, стояла на узеньких плечах и оказалась у самого потолка; круглое серо-желтое личико было чисто выбрито, и с него осторожно высматривали большие серые подслеповатые глаза, окруженные припухлостями. По случаю торжества на бесконечной фигуре его висел темно-зеленый форменный сюртук с желтыми кантами.
— С ангелом! — возгласил Лазо, пожимая руку заторопившегося и заулыбавшегося при виде, его почтмейстера… — А это друг мой из Петербурга! — добавил он про меня.
Тонкие ноги Филиппа Савельевича зашаркали; он раскланялся со мной совсем по-балетному.
— Милости прошу, пожалуйте в комнаты, — ответил он. — Как раз к пирогу поспели; мы только что от обедни!..
Лазо взял его за локоть; почтмейстер услужливо нагнулся к лицу его.
— Мой пирог на возу едет!.. — вполголоса поведал Лазо. — Овес с мукой!..
— Зачем беспокоитесь? Покорнейше вас благодарю!!. — умильно произнес Филипп Савельевич, и личико его приняло добродетельно-торжественное выражение.
В столовой — длинной и узкой, нас встретил говор; за столом сидело целое общество. Тут были и дебелый снежно-седой отец протопоп и гривастое подобие льва — широколицый протодьякон, достаточно наглого вида, должно быть, любимец местной публики; исправник с расчесанными бакенбардами и в золотом пенсне на словно выточенном, чуть изогнутом носике и маленький, худенький становой, походивший на гимназиста, наклеившего себе черные усики, и какие-то штатские, не имевшие особых примет, и разодетые дамы всяких размеров и возрастов. Среди штатских выдавалось мясистое, обритое по-актерски лицо — из тех, увидав которые, даже самый деликатный человек произносит в душе — «вот морда!». Длинные темные волосы владельца ее спадали ему на плечи.
С конца стола поднялась тощая дама с классически правильным, но холодным лицом. Подойдя ближе, я увидал, что темные властные глаза ее были подведены и вся она значительно и недурно реставрирована. Но, увы, гусиные лапки около глаз и морщинки у ушей, несмотря на косметики, выдавали тайну ее сорокалетнего возраста.
Лазо представил меня, затем легким движением руки указал мне на нее.
— Жена ангела!.. — совершенно серьезно сказал он. — И сама ангел! Первая красавица и сердцеедка всего уезда!
— Ну, уж вы… ферлакур!!. — звучно произнесла она. — Очень приятно, что вы не забыли нас!..
— Боже мой! — Лазо прижал руку к сердцу. — Да ведь гусары сама верность! И если бы не ваш грозный муж…
— Муж у воды! — отозвался с противоположного конца стола почтмейстер. — Когда я ем, я глух и нем!..
— А зачем же неправду говорите? — пророкотал протодьякон, указывая волосатой дланью на кучу бутылок. — Не у воды, а у водки! Воды здесь и нет совсем!
Взрыв общего смеха приветствовал остроумие протодьякона, видимо, не знавшего, что «водой» на театральном языке именуется задний план сцены.
Почтмейстерша не без кокетства слегка шлепнула Лазо по руке, и мы, поздоровавшись со всеми, уселись близ хозяйки. Мне сразу бросились в глаза старинные стаканы и рюмки, в изобилии опоясавшие весь стол.
Начался обычный разговор и обычные застольные шутки. Я ожидал, что Лазо будет так же вопить и хохотать, как у себя дома, но ничего подобного не происходило: он был сдержан и хотя острил, но в его голосе и в манере держать себя я все время чувствовал какую-то грань, которою он отделял себя от остальных гостей.
— «Барин и разночинцы»? — мелькнула во мне догадка.
За обедом зашла речь о протекции. Помощник местного казначея, тощий рыжеватый человек с гладко прилизанной головой и унылой физиономией, беспрерывно потевшей от духоты и частого прикладывания к рюмочке, вдруг впал в гражданскую скорбь и стал сетовать на то, что у нас на Руси чересчур большое значение имеет происхождение и протекция.
— Ты служишь, ты трубишь?.. — мрачно говорил он, — верой и правдой двадцать лет на одном стуле сидишь, а приедет какой-нибудь Брысь-Эриванский или Начхать-Тараканский — глядь, и переплюнул всех! Нет у тебя бабушки или тетушки — и не родись лучше!
— Зря ропщете, Василь Василия!.. — отозвался почтмейстер, уписывая за обе щеки пирог с рыбой. — Как же это быть без протекции? Она от самого Бога указана!..
— Где же? — ехидно заинтересовался Василий Васильевич. — В каких это вы книгах вычитали?
— Ну, книги-то глупость!.. — ответил Филипп Савельевич. — А вы в религию вникните: и к Богу ведь мы через протекцию, через угодников, обращаемся! Как же на земле человеку своего заступника не иметь?
Протодьякон разверзся и захохотал на всю столовую.
— Богословы!.. — прогремел он. — Эка ведь, что выдумали!
— Философ, философ!!. — слегка покачивая головой, добродушно заметил протопоп.
— Прямо Вольтер!.. — подхватил Лазо.
Как водится в провинции, тосты за именинника начались еще за борщом; затем принялись пить за его жену и за всех’гостей по порядку старшинства. Остроты, говор и смех не умолкали.
Когда наконец подали сладкое, протодьякон встал, набрал, как в меха, в грудь воздуха и раскрыл рот. Столовая стихла.
— А будьте любезны окошки затворить?.. — вдруг произнес он вместо ожидавшегося многолетия. — Голос иначе того… на двор уйдет!..
Окна моментально закрыли.
— Благоденственное и мирное житие… — словно из подземных глубин начала октава, и гул, как от приближающегося потока, стал разрастаться с каждой секундой.
Воздух дрожал, как под колоколом; от напора медных звуков начали явственно позванивать стекла. Публика слушала кто потупясь, кто склонив голову набок. На всех лицах было написано умиление.
— Многая ле-е-та!!. — грянуло, как пушечный выстрел, и раздалось общее — «ура»!..
— Гром, чистый гром! молнии только не хватает!!. — восторженно воскликнул кто-то из гостей. Побагровевший протодьякон снисходительно улыбался и оглаживал пышную, бобровую бороду. Гость с гривой Рубинштейна[47] сидел, скептически поджав толстые губы, и рисовал вилкой по скатерти что-то, походившее на лавровый венок. Все встали с мест, зашумел говор, раздались чоканье и поцелуи с расчувствовавшимся хозяином; кто-то нес и уронил сразу два стакана, и осколки их разлетелись под нашими ногами. Почтмейстер оттанцовывал при поцелуях от гостя, смотря по росту его, на шаг или на два, затем наклонялся и лишь в таком положении достигал до уст претендента. Тонкие ноги его при этом все время шаркали и притоптывали, и казалось, что они выделывали без участия верхней половины туловища какую-то фигуру лансье.
Всех попросили перейти в гостиную; там уже зеленели квадраты раскрытых ломберных столиков; на них белели мелки и колоды карт.
Я беседовал с корректнейшим и надушеннейшим в мире исправником и видел, что Лазо переговаривался обо мне с хозяином. Затем первый присоединился к дамам, цветником усевшимся на диване и в креслах, — он признавал только азартные игры. Почтмейстер рассадил мужчин за преферанс и за винт и поспешил ко мне: ходил он приседая, как на пружине.
— А вас, уж извините, я в амбар попрошу, — обратился он ко мне, — книжки у меня там лежат!
— А вы их продадите мне?
— Ну, конечно!.. под спудом они у меня, и то философом слыву, так уж, знаете ли, лучше совсем продать их!
Я это мнение одобрил, и мы двинулись в путь.
— А разве худо быть философом? — спросил я на ходу.
— Да что же хорошего? — Филипп Савельевич даже развел руками. Выпить его заставили гости много; лицо и нос его были бледны, красные припухлости вокруг глаз и да лбу обозначились еще резче.
— Это же все одно, что корреспондентом быть: всякий от тебя пакости ожидает! Лучше от греха подальше: блажен муж иж не иде на совет нечестивых, знаете ли!..
Мы попали на знойный, пустынный двор, пересекли его, и Филипп Савельевич сделал попытку отомкнуть огромный замок, висевший на двери амбара, но никак не мог попасть ключом в скважину. Наконец это ему удалось, и он распахнул дверь. Я вошел первым.
Охватила приятная свежесть и темнота. У дальней стены была навалена какая-то мебель, дырявые стулья, картонки от шляп, подушки; близ дверей справа и слева стояли три открытых сундука и два больших короба из луба, в каких обыкновенно пересылали по железным дорогам книги. Я заглянул в сундуки и увидал, что они сплошь наполнены старинным хрусталем и всякими изделиями из стекла — бокалами, стаканами и рюмками; все это было сложено прямо друг на друге без малейшей прокладки. Особенное внимание мое остановили на себе толстые желто-зеленые стаканы, имевшие вид ижицы и увидавшие свет во дни Александра I. К той же эпохе и к временам Екатерины II принадлежало и все остальное содержимое сундуков.
Я присел на корточки около одного из них; почтмейстер — соблюдая, должно быть, вежливость — сделал то же по другую сторону и чуть не повалился в сундук. Он успел ухватиться левой рукой за откинутую крышку, а другой уперся в бокалы; они захрустели. Чтоб не подать вида, что произошло нечто неподобающее, он еще глубже запустил правую длань в бокалы и начал небрежно ворошить их, как какую-нибудь лапшу; стекло зазвякало.
— Это наследство жены!.. — пояснил он. — Дедушка ее о-очень богатый человек был! Известный! И вот подумайте: все состояние выпито из этих бокалов… одни они остались!! Имел пятьсот душ, а внучке оставил пятьсот бокалов! — Почтмейстер поднял и поставил перед своим лицом палец.
— Овидиево превращение!.. Тут и без книг зафилософствуешься!
Я не мог сдержать улыбки.
— А нельзя ли будет купить у вас что-нибудь из этого стекла? — спросил я.
Почтмейстер подобрал отвисшую нижнюю губу и качнул головой.
— Н-не знаю… Это жена распоряжается!.. у нее спросить нужно!..
Мы посидели на корточках перед каждым сундуком, я полюбовался вещами, и мы перешли к коробам. Они были плотно набиты переплетенными книгами. И книги и переплеты находились в отличном состоянии и, видимо, принадлежали раньше знатоку и любителю.
— А книги у вас откуда? — поинтересовался я.
— Дядюшка жены ей оставил! Тоже, думали, человек со средствами был, а оказались вот только книжки. Одних пирогов на именины ему отвезли — в эти короба не войдут!.. Сколько же, посчитайте, нам это стоило?! — Почтмейстер покрутил головой. — Характер у меня, знаете ли, счастливый, а другой от таких наследств действительно Вольтером бы стал!
Говорил он так искренно, алкоголь выявил на его раскисшем личике такое разочарование в заветных мечтах, что мне стало неудержимо весело.
Филипп Савельевич извинился, что должен оставить меня одного, предложил мне хозяйничать и, семеня и пошатываясь, заспешил к другим гостям.
Я быстро пересмотрел книги и опять уложил их в короба. Среди них имелись недурные вещи по истории польского восстания и даже несколько запрещенных, лондонских изданий[48] вроде записок Екатерины II, Дашковой[49] и т. п. Очевидно, это они действовали на почтмейстера магнетически.
Я притворил дверь амбара и отправился в дом.
В гостиной священнодействовали только одни игроки; голоса прочих доносились из столовой.
Желчный Василий Васильевич вдруг положил перед собой карты кучкой и прижался грудью к столу; прилизанная голова его как бы вросла в плечи.
— С пики пошли?!. — прошипел он в тихой ярости своему партнеру. — Да ведь с пик только одни идиоты ходят!!.
На другом столе радостно заржали.
— Без двух, без двух!!. — послышались веселые голоса. Там пострадавшим лицом явился исправник. Он молча собрал губы так, что конец его носика зарылся в усы.
— Вы бы в бабки предварительно поиграли, мой дорогой!.. — соболезнующе заметил он своему визави, приставу. — Оно помогает, знаете ли!..
Я прошел в столовую. Там уже был сервирован чай; за столом сидели все дамы, Лазе и господин с гривой. Последний что-то повествовал и был центром всеобщего внимания; по голосу я сразу признал в нем бывшего семинара: говорил он нескладно, на «о» и с поползновением на значительность. Из разговора я понял, что передо мной певец, заехавший погастролировать в город вместе с товарищем-тенором. Дамы принимали в певце самое горячее участие.
— Непременно останьтесь на завтрашний вечер, Михаил Дмитриевич! — обратилась к Лазо хозяйка. — У Аркадия Аркадьевича дивный голос, и в столице такого не услышите: бас, чудесный бас!
Толстая шея и щеки артиста сразу распухли от удовольствия; он внушительно кашлянул и потупился.
Лазо развел руками и скроил убитую горем физиономию.
— Невозможно! — ответил он. — Мы едем с Сергеем Рудольфовичем по спешному делу!..
— Ну, для меня… пожалуйста?! — хозяйка прищурилась и, как бы испытывая силу своих чар, глядела на него.
— Прикажите застрелиться — это я скорей сделаю!!. — воскликнул Лазо. — Срочное дело, экстренное, потеря им двухсот тысяч.
— Ах, это так страшно выступать перед публикой?.. — проговорила одна из молодых дам. — Скажите, Аркадий Аркадьевич, вы очень волнуетесь, когда выходите на эстраду или нет?
— Да ведь это зависит от обстоятельств!.. — ответил тот. — Бывает, что и волнуюсь; иногда не знаешь ведь, заплатят или нет?
Лазо подавился чаем и вскочил.
— Черт, не в то горло попало! — заявил он, весь побагровев от усилия не захохотать на весь город. Я отвернулся и беззвучно смеялся; Лазо подошел ко мне и облокотился о спинку моего стула.
— Ну что, кончил свое дело? — спросил он.
Я ответил утвердительно и вполголоса добавил, что очень хотел бы приобрести кое-что из стеклянной посуды: вся она была малорусских и русских фабрик.
— Это мы устроим! — он вернулся к хозяйке и что-то сказал ей. Та встала, и мы втроем отошли к окну.
— Сей муж, — начал Лазо, уперев мне в грудь палец, — влюбился в ваши бокалы: наследственный алкоголик, знаете ли! Так не снизойдете ли до его слабости и не продадите ли ему дюжинки две-три?
— Ах, что вы! — энергично возразила хозяйка. — Это у меня память о предках, родовое!.. с удовольствием бы, но никак не могу!
— А вы без удовольствия продайте?..
— Нет, нет, право не могу! Все что угодно готова вам сделать, только не это. Наконец, у нас гости часто собираются, постоянно бьют посуду, не накупишься ее: нынче ведь все такое непрочное пошло!
— Если вам важно количество, то я взамен вашей готов предложить вам в пять раз больше самой лучшей современной?.. — заметил я.
— Никак не могу!.. Книги, сделайте одолжение, те я вам с удовольствием продам! Уж вы не сердитесь, пожалуйста!.. — добавила она, заметив, что лицо моего приятеля потемнело и насупилось.
— Так-с… ну, что сделать-с?!.. — произнес Лазо и круто повернулся ко мне на каблуках. — Пора нам, однако, и честь знать!..
— Как так? Куда?!. Ни за что не пущу! — всполошилась почтмейстерша. — Вечером танцевать будем, вы у нас заночуете!..
— Покорнейше благодарю, не могу-с!..
— Господи, да ведь он уж надулся?!. — воскликнула, видимо, обеспокоенная почтмейстерша. — Ведь это ужасно, какой вы горячка! А я еще вас самым надежным другом считала!.. — добавила она, опять пустив в ход чары своих подведенных глаз.
— С друзьями о такой дряни, как две дюжины стаканов, не разговаривают, драгоценнейшая Варвара Николаевна!.. — сдержанно, весь кипя, ответил Лазо.
— Господи, да разве же я возражаю? Я ведь говорила про свои принципы. А для вас, для себя, пожалуйста, возьмите сколько хотите!.. Для вас я на все готова!!. — томно добавила она.
Положение создавалось совершенно невозможное.
— Я решительно отказываюсь от покупки бокалов! — вмешался я. — Позвольте остановиться только на книгах. Сколько вам за них угодно?
— Да нет, отчего же, возьмите и бокалы! Две дюжины совсем немного: мне почему-то показалось, что вы хотите взять все?.. муж сказал, что вам очень понравились зеленые?..
Я опять отказался наотрез и сослался на невозможность путешествия со стеклянными вещами; вопрос был исчерпан. За книги несколько смущенная почтмейстерша назначила пятьдесят рублей, и я сейчас же вынул деньги и уплатил ей. Лазо молча присутствовал при всем этом, постукивал ногой и покручивал густые усы.
Короба с книгами Варвара Николаевна обещала доставить на ближайшую станцию вместе с почтой и отправить их прямо в Петербург.
— Но где же муж? — всхлопоталась хозяйка, видя, что мы непреклонны и откланиваемся самым решительным образом. Она исчезла, а мы, не прощаясь ни с кем, вышли в гостиную и в дверях в переднюю наткнулись на хозяев. Филипп Савельевич, должно быть, где-то тайком залег всхрапнуть и был безжалостно поднят женой на свои неустойчивые жерди; личико его было измято, желтые волосы спутаны.
— Куда, куда? Невозможно!!. — возопил он, превратясь в огромное подобие Андреевского креста, преградившее нам путь.
— Дела, милейший!.. — сказал Лазо. — Заехали к вам, почтили и спешим дальше!
Последовали новые уговоры, затем благодарности за визит, и мы, сопровождаемые одним почтмейстером, перешли через улицу на обширный двор конной почты, где находились наши лошади. Лазо приказал запрягать, и немного погодя мы опять колыхались, как в лодке, по колдобинам городских улиц.
— Ах, анафема!!. — вырвалось у Лазо, когда мы отъехали от ворот, у которых, в виде вехи с желтым пучком соломы наверху, торчала фигура почтмейстера, глядевшего нам вслед.
— Кто? — спросил я.
— Да колоша эта старая, почтмейстерша!!. Глазки еще делает! Посуды ей стало для меня жалко! Вот им теперь что вместо окороков к Рождеству будет! — Он потряс передо моим лицом комбинацией из трех пальцев и так заинтересовал этим двух прохожих, что они остановились и принялись глядеть на нас.
— Друг мой, да ведь это же ее собственность! — возразил я. — Она имеет право распоряжаться ею, как ей нравится.
Лазо свирепо поглядел на меня.
— Логика из Африки!.. — заявил он. — Если б мои сундуки были, да ты бы у меня дюжину бокалов попросил — все бы отдал, пропади они! Комаринского в сундук проплясал бы, дери его черт! Вот уж правду говорят поляки: «из хама не бендзе пана»!
У собора Матвей повернул к нам голову.
— Куда теперь прикажете? — спросил он.
— Прямо!.. — сердито буркнул Лазо. — А ты пообедал?
— Так точно. Корм здесь по первой гильдии-с!
Гнев моего спутника начал проходить. Я глядел на него и улыбался.
Лазо сплюнул на дорогу.
— Черт знает, какой дрянью поят!.. — пробурчал он, не желая еще сдаваться. — Чистый сандал, изжога даже сделалась!
Мы выбрались за город и очутились у развилка дорог.
— Направо!.. — скомандовал Лазо, и коляска бесшумно понесла нас по проселку; черно-желтая пыль полосой растянулась за нами над золотым морем ржи.
— Знаете что, Тит Титыч?.. — сказал я. — Ведь если вы еще поедете со мной — вы со всем уездом перессоритесь!
Лазо покосился на меня уже совсем развеселившимся глазом.
— Это еще почему?
— Да уж очень ндрав у вас, Тит Титыч, сурьезный — и не поперечь даже!
— Молчи… Чичиков несчастный! Шурум-бурум… «Старья старого, старого платья, старых сапогов покупать?!.» — Лазо идеально изобразил старьевщика и захохотал. — Но какова? на все готова, извольте ли видеть! Ах ты, одер погребальный?!. Да я-то готов или нет, позвольте спросить?.. Тьфу! — Лазо повернулся, выстрелил плевком в оставшийся далеко позади городок, и энергия опять забурлила в нем.
— Под древо!.. — крикнул он кучеру.
VII
Впереди, у самой дороги, виднелся большой курган; у подножия его раскидывала густой шатер столетняя береза с корявым, неохватным стволом. Матвей свернул к ней и остановил тройку в тени. Лазо скинул с себя пыльник и китель, бросился на траву и растянулся во весь рост.
— Ну, и жарища же!! — проронил он, расстегивая ворот рубашки. — Матвей, освежиться!..
Матвей привязал лошадей, затем стал на подножку коляски, поднял сиденье и принялся что-то доставать из ящика под ним. В руках у него очутилась коричневая небольшая корзинка. Матвей подошел к нам, бережно держа ее в руках, достал из нее салфетку и разостлал ее между своим барином и мною. Затем из корзины появилась белоголовая бутылка входившего в славу Абрау-Дюрсо и пара серебряных стаканов. Все это проделывалось так, как будто было раз навсегда заведенным делом.
— С чего же это мы шампанское будем пить? — поинтересовался я.
Лазо закинул руки за голову и задрал одну ногу на другую.
— Вода не утоляет жажды, я, помню, пил ее однажды!.. — продекламировал он и захохотал. — Маршрут обсудим… без этого нельзя! …«на дне стакана вдохновенье и грусть и слезы и любовь…» — сам Пушкин так пишет! А уж он ли не знаток?
Бутылка выстрелила, и шампанское заискрилось в наших стаканах.
Лазо залпом осушил свой.
— Хорошо прополоскаться после всех этих дрей-мадер из Кашина!.. — произнес он. — Игру душе шампанское придает! Специально для этой цели Господь его создал! Ну-с, теперь за маршрут. Отсюда прямо к баронессе фон Штамм. Вот где ты будешь в своей тарелке: там все тоже помешанные!.. За твое здоровье, милый!! — нежно добавил он, чокаясь со мной вновь наполненным стаканом.
— Да нужное-то мне мы найдем у нее или нет?
— Все, что хочешь, найдем! Я тебе говорю, — совершенный бедлам! Народа полон дом. Всегда все влюблены, все беременны, друг другу сцены делают! Одна хохочет, другая в истерике! Я ведь с детства их всех знаю!
— Постой! — прервал я приятеля. — Да ведь там только одна баронесса, насколько я понял?
— Какое одна? Это зимой она одна, а летом к ней еще три добавляются: дочки ее! Доругиваться сюда съезжаются. Родоначальница — Агния Николаевна. Был родоначальник, но за праведность на небо взят, не живым, конечно! Единственный сын дурачок. Дочки Тася и Мися замужем. Люлю еще холостая. Куча родственниц затем в доме, кроме того, бывшая гувернантка, старая дева, Алевтина Павловна. Вся власть в ее руках: имеется даже приживалка из благородных с флюсом — Марина Семеновна — у этой муж сбежал. Мамаша замуж хочет, дочки развод требуют, Люлю декадентка, гувернантка всех распекает! Крик, скандал круглый день!!. Идеи?! — Лазо хлопнул себя по ляжке. — Хочешь, я тебя на мамаше женю? Красавица, ей-Богу! А уж как сложена! В бане увидал бы — не знал бы с какой стороны кланяться!
— А не объехать ли нам твою баронессу стороною? — ответил я.
— Милый, невозможно!!. — закричал, хохоча, Лазо. — Ты только посмотри, что там такое делается! деньги ведь за это следует брать!
— Странно, немецкая семья, а картина истинно русская!..
— Какая немецкая? — завопил, хохоча, Лазо. — Родоначальница урожденная Свешникова, мэйд ин Тула!
— А родоначальник?
— Он не считается: у всех чистокровных русских кто-нибудь из родителей немец! Там по-немецки даже не говорит никто! А книг твоих найдем миллион, ей-Богу! Матвей, еще бутылку?..
— Слушай, да ведь мы же лыка вязать не будем? — заявил я, — приедем в виде каких-то пропойцев: парой Расплюевых!..
— Вздор! Шампанское — это же луч света в темном царстве — помнишь, у Островского?.. По литературной части ты, я вижу, ослаб? — соболезнующим тоном добавил он, увидав, что я качнул головою. — Ну да ничего, за дорогу я тебя поднатаскаю!.. будь здоров!
Через полчаса мы, снова по аллее из берез, опять неслись среди ржаных полей и дышали густым, парным запахом свежего хлеба. Жар уже свалил, деревья стали гатить дорогу длинными тенями. Солнце сожгло за день всю синеву неба, и оно казалось бурым. Суля на следующее утро такой же зной, даль начинала заволакиваться дымною мглою.
Лазо, выпивший львиную долю обеих бутылок, сидел развалясь, но был свеж, по его выражению, как Рафаэлевский херувим, и только глаза с покрасневшими белками казались произведением Рубенса.
— А уж стаканы эти у тебя будут! — вдруг ни с того ни с сего заявил мой приятель.
— Какие стаканы? — удивился я, совсем забыв про утреннее происшествие.
— Да почтмейстерские!
— Пожалуйста, не надо… и не заговаривай даже с нею о них!..
— Очень мне нужно с ней разговаривать… сама их ко мне привезет…
— Как же ты это сделаешь?
Лазо помолчал с многозначительным видом; в глазах его блестели веселые искорки.
Он сдержал свое слово: через полгода он прикатил в Петербург и торжественно поднес мне пару желто-зеленых стаканов; почтмейстерша ко дню его рождения прислала ему их две дюжины; их сейчас же пустили в ход и только два стакана оказались способными вынести семейный праздник Лазо.
До имения фон Штамм, или фон Страм, как произносил Матвей, считалось от города пятнадцать верст. «Боярин» шутя донес нас до баронских владений, и первые сумерки нашли нас перед большим старинным домом, имевшим вид буквы «п». Средняя, двухэтажная часть его тонула в саду; передний фасад закрывали заросли сирени, и виднелась только верхняя часть: между боковыми, одноэтажными крыльями лежал усыпанный песком маленький дворик — как бы залив от широкой зеленой луговины большого двора: по бокам его, за линией тополей, выглядывали разные строения.
На звон нашего колокола в нескольких местах показались в окнах женские лица; их было так много, что можно было подумать, что мы подъехали к какому-то женскому пансиону.
— Лазо?! Михаил Дмитриевич?! — услыхал я возгласы.
Не успели мы выйти из экипажа, тяжелая дверь подъезда разлетелась на две половинки, и перед нами предстали две сияющие, загорелые, как кирпичи, физиономии молодых босоногих горничных.
— Пожалуйте, дома!!! — разом вскрикнули они, не дав нам даже раскрыть рот для вопроса.
— Здорово, пышки! — ответил Лазо и одновременно ущипнул за красные щеки обеих. Те захихикали и чуть отодвинулись. Мы прошли мимо и в передней почти столкнулись с худощавым рыжеватым господином в легком лаун-теннисном костюме. Лицо господина отражало расстройство.
— Я счастлив, что вы приехали! — заявил он, обеими руками потрясая руку Лазо. — Тася сегодня в невозможном настроении!..
И произношение — несколько длительное и излишне отчетливое — и точно гуттаперчевое, совершенно обритое лицо сразу обличали в нем остзейца.
— Это мой друг. Знакомьтесь, господа! — воскликнул Лазо, подталкивая меня в спину.
— Барон фон Тренк! — несколько напыщенно произнес встретивший нас господин.
— Густав Густавович! — поправил его Лазо. — Муж прелестнейшей жены в мире!.. «Муж у царицы, муж у царицы…» — напел он фразу из «Прекрасной Елены».
— Что? — спросил Тренк, не поняв.
— Муж прекраснейшей из Елен, говорю!
— Да… когда она в духе! — согласился Тренк и отворил перед нами среднюю дверь.
Меня оглушил рев гармонии, заливавшейся торжественным маршем. Его усердно играл мальчик лет двенадцати в серой курточке, сидевший на стуле около входа и, видимо, карауливший наше появление, чтобы устроить нам встречу. В зал с радостными восклицаниями торопилось население изо всех комнат, и мы оказались посреди, по крайней мере, двух десятков дам, барышень и детей разных возрастов; мужчин среди них имелось всего двое. Лазо, видимо, состоял в общих любимцах; все улыбались нам и говорили одновременно; дети кричали и прыгали, гармония ревела. А на нас несказанно величаво и строго смотрел высокий зал, весь закутанный в белые чехлы…
— Господа, да уймите же наконец Куку!! Сил нет никаких!! — закричала, зажимая себе обеими руками уши, высокая блондинка. — Детей уберите вон, детей!!
К гармонисту метнулись две молодые, скромно одетые гувернантки, и музыка оборвалась. Пару толстощеких бутузов похватали за руки и потащили из залы; они упирались и визжали; за ними с гамом и смехом умчалась и остальная детвора.
Барон подвел меня к самой родоначальнице — небольшому кубу возраста, бесповоротно скрытого косметиками. Но влага, постоянно державшаяся в серых наивных глазках, умиленное выражение лица свидетельствовали о втором детстве, переживаемом баронессой. Одета она была в кружева цвета крем, наброшенные на что-то розовое. Обширное лицо ее покоилось на трех подбородках, заменявших шею; на них, в виде опрокинутой суповой миски, громоздилось сооружение из прелестнейших, но чужих светлых волос.
Меня подарила улыбкой и поднесла к моим губам пухлую руку для поцелуя.
Начались дальнейшие представления — «Фон Тренк, фон Штрамм» — то и дело сыпалось из уст моего вожатого. Весь дом как будто был населен только «фонами».
Жена Густава Густавовича, Елена Францевна, оказалась синеглазой блондинкой с чисто грезовской, изящной головкой[50] и с таким выражением лица, что могла бы с успехом служить моделью для статуи богини капризов. Легкий голубой капот ее плохо скрывал тайну о близком увеличении рода баронов фон Тренк. Это она закричала, чтобы убрали детей и гармониста. Лет ей можно было дать двадцать восемь.
Близ нее находилась вторая сестра ее — прехорошенькая, смешливого вида дамочка с несколько выпуклыми глазами — Евгения Францевна, на семейном воляпюке — Мися. Лет ей можно было предположить около двадцати пяти. И с ней было неблагополучно по части ожидания потомства. Ей что-то говорил на ухо муж ее, невысокий и полный шатен с французской бородкой и карими глазами с веселой лукавинкой. Он шаркнул мне ножкой, как гимназист, и, только что Тренк раскрыл рот, чтобы назвать его, он громко отрекомендовался сам: «фон Булкин».
Тренк закрыл рот, подарил его строгим взглядом и поскорее повел меня дальше.
Люлю, а по-христианскому Лидия Францевна, самая младшая, незамужняя дочь баронессы, была высокая и поджарая особа, удивительно напоминавшая породистую борзую; надменное, длинное лицо ее украшал тонкий и прозрачный, как алебастр, нос. Светлые волосы были обрезаны до плеч и на греческий манер поддерживались посередине узенького и скошенного назад лба золотым обручем. На плоской груди ее торчала белая хризантема. Подала мне руку Люлю совсем особым способом: сперва подняла ее до уровня своей головы, затем как бы погрузила ее куда-то в бездну, вниз, вытянув при этом четыре пальца и далеко отставив от них большой. Вместо пожатия я почувствовал укол, как бы от гвоздей, и увидал, что меня укололи миндали ногтей необыкновенных размеров, заканчивавшиеся остриями. Одна из наиболее пожилых дам, сутулая и черноволосая, с черносливами вместо глаз, опиралась на палку, как Грозный на посох. Говорила она властно, громко, даже стучала при этом палкой и поминутно сердилась.
— Алевтина Павловна Захарова! — сказал, знакомя меня с ней, Густав Густавович.
— Генеральша! — отчеканила она. — Вы сегодня рассеянны, барон!
— Виноват!! — спохватился тот.
Лазо, шутивший и смеявшийся то здесь, то там, очутился около нас.
— Дорогая Алевтина Павловна! — воскликнул он, целуя то одну, то другую руку бывшей гувернантки. — Не генеральша вы, а генерал с головы до ног! Отец-командир настоящий. Как ваше драгоценное здоровьице?!
На синеватых полных губах и щеках Алевтины Павловны, вблизи походивших на клубки спутанных красных и синих ниток, появилась довольная улыбка.
— Ну, ну… балагур!.. очень тебя рада видеть!.. А жена где? Опять одну дома бросил?
— Помилосердствуйте! — хохоча закричал Лазо. — Да разве же в Тулу со своим самоваром ездят? Здесь же цветник, рассадник красавиц!.. вы, наконец, здесь!.. надобно мне на свободе поухаживать!
— Вот погоди, погоди!! Расскажу ей все! — проговорила, окончательно придя в хорошее расположение духа, Алевтина Павловна.
Через настежь открытую, огромную, застекленную дверь все общество вышло на большую веранду; нас встретило шесть белых, неохватных колонн, уходивших ввысь; низенькая решетка из узорного железа между ними была густо оплетена вьющеюся зеленью; сквозь нее глядели шпалеры георгин всевозможной окраски. Несколько длинных мраморных ступеней спускались в цветник, дальше превращавшийся в парк; он, видимо, был обширный и старинный.
Все разместились вокруг нас. Лазо в торжественном тоне, без обычных своих шутовских вывертов, громогласно поведал о цели нашей поездки. Можно было дать голову на отсечение, что говорил ярый поклонник старины и книг.
Повествование его было принято одобрительно.
— Очень мило! — тронутым голосом объявила сидевшая между нами родоначальница. — Благодарю вас… — и она, блестя слезой, с прежней, застывшей улыбкой поднесла для поцелуя к самому носу Лазо правую руку, а мне левую.
— Господи, опять он за сигару взялся?! — выделился из общего говора раздраженный вскрик Таси; она замахала перед собой обеими руками, как бы отгоняя от лица осу. — Не выношу я этой гадости, кажется, известно тебе?!
Тренк вынул изо рта только что закуренную длиннейшую сигару.
— Дорогая, но ведь мы же на воздухе?
— Все равно я не желаю! Кури их в конюшне! Удивительное удовольствие: один курит, а пятерых тошнит!!
Тренк пожал плечами.
— Сигары прекрасные… — сказал он и нехотя начал гасить ее пальцем.
— Еще бы! — вмешался Булкин. — Цвей рубль аршин, унд ганц шварц!
— Тасенька, вы тиранка!! — воскликнул Лазо. — Что вам дьякон на свадьбе читал — муж ведь глава?
— И пускай его будет главою, я ничего не имею против! Но пусть все делает по-моему! — капризно возразила Тася.
— Ты у нас ересей-то своих не разводи! — обратилась к Лазо Алевтина Павловна и застучала палкой. — Вот тебя распустила жена, что из тебя толку вышло?
— Из меня?! — ужаснулся Лазо и простер вперед обе ладони. — Да я первый, примернейший муж во всей губернии!!
По веранде прокатился смешок.
— Неужели?! — удивился Булкин. — А я думал я?
— Ты самый глупый! — отозвалась Мися, — молчи!
Булкин скрестил на груди руки и с покорным видом поник головою.
— Ты? — воскликнула Алевтина Павловна, — ах, ты, бессовестный!!
— А примерный муж посвятил нового друга в историю своей женитьбы? — осведомилась Тася.
— А что такое? почему? — удивился Лазо на этот раз совершенно искренно. — Кажется, все хорошо прошло, дай Бог всякому; всю посуду в доме перебили!
— А при разъезде гостей вы что учинили? — настаивала Тася.
Лазо вспомнил что-то и покатился со смеху.
— Пожалуйста, без сплетен, господа!! — закричал он на всю веранду.
Все дружно захохотали, Алевтина Павловна улыбалась, качала головой и грозила Лазо пальцем.
— Нет, уж раз начали, так договаривайте! — вступил я в разговор. — Он, я вижу, утаил от меня какое-то обстоятельство?
— Да разве это обстоятельство, вздор это! — закричал опять Лазо. — Просто я барышню одну проводить хотел! Муху в слона превратили!
— Это ты с мухой-то был! — заявила Алевтина Павловна. — Будь я на месте твоей жены, год бы я тебя после такой штуки на глаза к себе не пустила!
— Что же он натворил такое? — заинтересовался я.
— Да на собственной свадьбе вообразил, что он не на Нине Павловне, а на подружке ее женился; с ней и уезжать решил и в коляску влез! Его вон тащат, а он упирается, бушевать начал, так и укатил с той! Десять верст до самого ее дома откатал; по дороге-то обдуло его, должно быть, опомнился и назад на той же чужой тройке вернулся. Ах, скандалист!!
Лазо хохотал, мотал головой и махал руками.
— Милый, это клевета!! — кричал он, — здесь все ненавидят меня! Факт верен, но он вздор! Пойми душу мою: произошла ошибка, добросовестное заблуждение, за него и закон не карает! Суть в том, что на радостях был выпит всего один лишний стакан шампанского! Это же естественно? Спутать в такие минуты долго ли: все в белом, все в цветах, поэт в душе, крылья ведь иногда растут у человека! Я и взлетел! Жена поняла это — она у меня гений!!
— А плакал кто, ожидая вас? — осведомилась Тася.
— Н-ну?.. — Лазо развел руками. — Все женские программы воздействия на мужей слезы содержат! Но у нас они заняли всего полчаса и затем наступили мир и любовь! Но до чего злопамятны здесь люди? Пятнадцать лет прошло, и все помнят!!
Началась общая перекидка шутками и остротами.
— Господа, гулять идемте! — возгласила Люлю и поднялась со стула.
— «Ночь смотрит тысячами глаз, Любовь глядит одним!!» —продекламировала она с видом пророчицы, вытянув в сторону сада правую руку и откинув назад голову.
Ночь еще не стала, но была близка. На темной сини неба наметились бледные искорки звезд. Парк казался первозданным хаосом из черных глыб и скал, нагроможденных друг на друга.
— А разве любовь одноглазая? — скроив глупое лицо, обратился неизвестно к кому Булкин.
— Вероятно, если я могла за тебя замуж выйти! — отозвалась Мися, встав тоже. — Я предлагаю катанье на лодке устроить.
— Великолепно!! — закричал Лазо.
Запротестовал, ссылаясь на сырость, только один Тренк, но Тася смерила его ледяным взглядом, и он с достоинством оправил на себе галстук, умолк и стушевался. Кроме прародительницы, Алевтины Павловны и бесцветной, давно вылинявшей дамы средних лет с подвязанною щекою, все стали спускаться в сад. Мися споткнулась на последней ступеньке, и муж подхватил ее под руку.
— Зачем же это вы спотыкацию, сударыня, учинили? — укоризненно сказал он — Вам на это нет полагации!
— Гитару возьмите!.. фонарики!.. и мантильи надо!.. — раздавалось со всех сторон.
— Фонарики, сударики Горят себе, горят! —хрипло запел Лазо.
— Что видели, что слышали— О том не говорят! —[51]подхватил тенором Булкин.
Через несколько минут балконные колонны осветились разноцветными огнями: каждому из нас вручили по длинной тонкой палочке, на концах которых качались китайские бумажные фонарики различных величин и форм. Осиянная ими вереница людей втянулась в аллею; из тьмы выступили ряды бочкообразных стволов лип; над нами, словно свод из сталактитов, сплетались сучья; листва казалась оливковой; кое-где под деревьями обозначались скамейки; будто гномы с россыпью огней пробирались куда-то в подземном царстве…
За перекрестком аллея зигзагом сошла вниз; впереди обрисовалась купальня и помост около нее; прижавшись к нему, недвижно спала длинная лодка. В темной глади реки отразились фонари; топот ног и говор вспугнули тишину; две дикие утки, крикнув, взлетели из-под близкого противоположного берега и опустились где-то неподалеку.
Булкин повесил на шест у купальни красный фонарь, растянутый в виде гармонии, затем принялся хлопотать около лодки. Мы разместились в ней и оттолкнулись от пристани. Наши палки с фонариками были воткнуты в особые гнезда в бортах; красные, синие, зеленые и лиловые огни без лучей зазыблились в воздухе и в черной воде кругом; и сверху и снизу глядели фонари и звезды; ночь пришла безлунная. Будто длинные крылья, взмахнули весла; мимо двинулись высокие, как бы углем очерченные, берега.
На корме, облокотясь на руль, сидела Люлю. Лазо с гитарой на коленях полулежал на носу; веслами беззвучно и мерно работал Булкин.
— Душа моя мрачна!.. скорей певец, скорей, вот арфа золотая!! — с пафосом произнесла Люлю.
— Спойте, спойте!! — поддержали другие; говор утих.
Среди глубокого безмолвия на носу прозвенел мягкий, грудной аккорд гитары, за ним второй.
— Булка, начинай! — проронил Лазо. — Я осип что-то немного от чая… — И он опять перебрал струны.
— Тихая, звездная ночь… —вырвался в высь чистый, что хрусталь, голос Булкина:
— Трепетно светит луна… Сладки уста красоты В тихую, звездную ночь!..Фет, музыка и ночь заворожили всех; ничто не ворохнулось в лодке, и она скользила вперед, с застывшими на взмахе веслами.
— Друг мой, я звезды люблю И от печали не прочь!.. —продолжали обвевать негой и лаской баюкающие, прозрачные слова и звуки. Но вот певец как бы оглянулся на оставленную им где-то далеко землю, серебряный голос его дрогнул и в нем зазвенела особая нежность:
— Ты же еще мне милей В тихую, звездную ночь!..— Браво! браво, мосье Трике!! — пропел Лазо, когда Булкин кончил. Раздались аплодисменты.
— Теперь песенку Трике! — приказала Мися, закутываясь плотнее в темную накидку.
— Какой прекрасен этот день!.. —начал Булкин, и перед моими глазами как въявь вырос «француз, подбитый ветерком», с рукою у сердца и отвешивающий изящный и почтительный поклон.
— Когда под деревенски сень Пробудишься ви… ви роза, Ви роза бель Татиана!!.За куплетами последовало несколько романсов Кюи и Вердеревского.
Музыка — это высшая магия. Хорошего певца или музыку вы слышите только в первые мгновения, затем все исчезает перед вами: звуки претворяются в образы и чувства. Время утрачивается: в секунде содержатся годы. Мир видишь сверху; в неожиданной, новой окраске вновь переживаешь изжитое, и, как птица, залетевшая в комнату, томится и бьется в тесной оболочке пробудившаяся душа.
После Булкина заставили петь Лазо, и он хриплым, но все еще приятным баритоном мастерски исполнил несколько цыганских романсов.
— Господа, а который час, не пора ли домой? — спросила наконец Тася.
— Не знаю!.. у моих часов заржавел организм! — ответил Булкин.
— Этот господин коверкает язык и воображает, что он декадент! — презрительно произнесла Люлю, обращаясь ко мне.
— Разве? — лукаво удивился Булкин. — А я думал, что совершенствую его, как вы! Надо же идти в ногу с веком!
Лодка описала широкую дугу и устремилась обратно в непроглядную темень. Из-за одного из поворотов красным глазом уставился на нас фонарь, и скоро мы шумно стали высаживаться на пристани.
Опять рассыпались огни по аллее. Булкин завозился у лодки, отстал и, размахивая длинным красным фонарем, бегом догнал нас.
— Погодите, неблагодарные!! — кричал он. — Я вас катал, а вы ускакацию от меня сделали! Мадам? — тоном нежного укора обратился он к жене, продевая руку под ее локоть. — Отчего вы меня не по дожде?
— Ванька, а ведь ты в самом деле начинаешь вырождаться! — ответила Мися.
На балконе на накрытом для ужина длинном столе уже горели в белых матовых колпаках три высокие лампы.
Увидав расставленные всем тарелки с простоквашей, Булкин скроил страшную физиономию.
— Как, опять проскакаша?! — воскликнул он.
— Ешь, ешь!! — ответила Алевтина Павловна. — Это полезно, особенно Тасе с Мисей в их положении!
— Но ведь я-то не в положении?! — прижав обе руки к груди, вопросил Булкин. — Я-то за что осужден каждый вечер проскакашей питаться?!
Его усадили, Мися подвязала его салфеткой и приказала съесть всю тарелку. Ужин начался весело.
Среди ужина Тренк вдруг выпрямился и раздул щеки.
— Ваших взглядов я никак не уясняю себе! — оскорбленным тоном произнес он, продолжая свой разговор с Булкиным, сидевшим против него. — Помилуйте? — как бы апеллируя, обратился он ко всему столу. — Все от мужика до барина ходатайствуют завести у себя все лучшее… — Тренк загнул палец: — петуха породистого… — Он загнул второй палец и стал продолжать делать это и дальше, — собаку породистую, свинью породистую, корову породистую, лошадь породистую! Стало быть, порода что-то значит? Значит, в породе есть все дело?
— Совершенно верно! — согласился Булкин. — Но ваша теория, как выдающегося коннозаводчика, кажется мне несколько односторонней: чтобы осчастливить и переродить человечество, еще недостаточно послать в турне по России несколько десятков племенных баронов! Кроме породы, нужны и реформы…
Барон опешил и несколько секунд сидел, шевеля бритыми губами и не зная, что ответить.
— Позвольте?! — взъерошился наконец он. — Но разве про племенных баронов я что-нибудь говорил? — я имел в виду странное, неестественное желание упразднить дворянство и поставить, как это говорится, в углу стены, холуя!
— Кто же вам сказал об этой жажде обзавестись холуем?
— А хоть бы вы: пять минут назад вы объявили, что лучший способ правления — республиканский!
— Вы изумительно верно схватили мою мысль, но холуя в виде мечты я не выставлял!
— Вы хвалите республику, это одно и то же! Сегодня объявят республику, а завтра в ней президентом рассядется и будет через зубок плевать ваш лакей Ванька Беспалый?
— Алевтина Павловна, да запретите им говорить о политике?! — закричал Лазо.
— Да, да!.. курить сигары и ссориться можете на дворе! — поддержала Тася.
В тоне ее все время чувствовалось какое-то пренебрежение.
Алевтина Павловна постучала палкой.
— Я вас помирю! — сказала она, — наилучший образ правления — это палка… и при том самая крепкая! А звать — зовите ее как угодно!
Лазо захлопал в ладоши и принялся целовать руку Алевтины Павловны.
— Браво! вы Соломон!! — кричал он. — Совершеннейшая истина! Первое дело — твердым по голове и сейчас все придет в порядок и прояснение мозгов сделается!!
— Бедный ты у меня тварючек! — произнесла Мися, — говоришь одни глупости! Вводить республику в России я тебе запрещаю!
— Слушаю! — воскликнул Булкин и приложил ко лбу ладонь правой руки.
После ужина Тренк и Булкин проводили нас в назначенную нам комнату; Тренк раскланялся у дверей ее, а Булкин вошел вместе с нами и заботливо осмотрел, все ли приготовлено как следует. Отведена нам была биллиардная — просторная и несколько мрачная. На длинных, темно-зеленых диванах, у противоположных стен, белели две постели. Я первым делом распахнул все три окна и открыл портьеру у своего изголовья.
— Вам свет помешает спать? — сказал Булкин.
Лазо схватил его за локоть.
— Тссс! не противоречь, — вполголоса, как бы по секрету сообщил он, — он ведь у меня поврежденный!
— Завтра я покажу рам весь дом, — пообещал Булкин, прощаясь со мной, — но заранее предупреждаю, что интересного в нем сохранилось мало!
Булкин ушел, и мы улеглись по постелям. Лазо долго не гасил свечи, курил и разглагольствовал.
— Ну, что, какое впечатление произвели на тебя господа туземцы? — поинтересовался он между прочим.
— Разнообразное, — ответил я, — а вообще говоря — изумительная смесь богемы и высшего круга! Босые горничные и княжеское палаццо, Булкин и Тренк, Люлю и маман…
— Двадцатый век, брат!.. Теперь везде сапоги всмятку! А на Марину Семеновну обратил внимание?
— Это еще кто такая?
— А с подвязанной щекой? Феномен замечательный!
— Чем?
— Я ж тебе говорил, что у нее лет пять назад муж сбежал и баронесса взяла ее к себе. Вечно с флюсом, вечно грустит и каждый год в таком положении!
— Что ты болтаешь? От кого же?
— От грусти, ей-Богу! Сама удивляется и не знает от чего! Так уж устроена!
— Будет врать! — сказал я. — Гаси лучше свечу!
Лазо повернулся на бок и задул свечу. В темноте красным пятнышком обозначилась его папироса.
— А фон-барон тебе понравился? — немного погодя заговорил Лазо. Я не отозвался. Лазо ткнул во что-то папироску, должно быть, в стакан с питьем, и она зашипела и погасла.
— Окочурился уже… шурум-бурум несчастный!! — пустил Лазо по моему адресу. — И поговорить вволю человеку не с кем!
Через минуту мы оба спали крепчайшим сном.
В семь часов утра я был уже на ногах, и оставив почивать своего приятеля, захватил полотенце и отправился купаться.
Дом безмолвствовал. Не встретив нигде ни души, я спустился в сад. Меня охватило благоухание; сад весь был свежесть и радость; цветы, как миллионная, изящнейшая в мире толпа, сошлись со всех сторон к шестиколонному храму земного божества — человека на поклонение. В аллею солнце и суета не проникали; там было сумеречно, торжественно и сыро. Липы-чудовища, наверное, помнили времена императрицы Екатерины II. Аллеи прямыми линиями разрезали огромный фруктовый сад — узкие дорожки то и дело уводили влево и вправо к развесистым яблоням, сплошь усыпанным уже начавшими румяниться яблоками.
Открылась река. Накануне, впотьмах, она казалась сверхъестественной и необъятной; теперь она жалась в крутых берегах, узенькая, обыкновенная, извилистая. Под обрывами противоположного берега стеной стояли камыши с черными, словно бархатными, банниками на концах; кручу за ними одевал густой лиственный лес. Куда ни обернись — ничего, кроме зелени леса и камышей, воды и неба, видимо не было.
После купанья я обошел парк. Средняя аллея была короче других и выводила на зеленую круглую лужайку. На ней в виде шапки возвышался небольшой холм, весь заросший жасминами. Из чащи их, как бы насторожась, выглядывала лукавая голова фавна с рожками.
Я продрался к нему через кусты и увидал мраморный бюст: он стоял на слегка обтесанном валуне. Бюст был итальянской работы восемнадцатого века и выполнен был мастерски. Плесень, как плющ, вилась в его волосах и в складках лица, и казалось, будто он выглядывает из стеблей травы. У пьедестала устроена была скамеечка для двоих, но, судя по тому, как задавили ее кусты, и по отсутствию хотя бы тропинки к ней, можно было заключить, что уже много лет подряд напрасно подкарауливал фавн появление парочки, идущей на свиданье к холму…
На балконе я встретился с Булкиным.
— Оккупацию уже сделали? — весело воскликнул он.
Я сообразил, что на местном языке это обозначало купанье.
— Да… — ответил я. — Славная вода!
— Великолепно, давайте вместе чаевничать? Кстати, что хотите — чаю или кофе?
Мы подошли к столу; девка усердно стучала вокруг него пятками, расставляя посуду и все необходимое.
— Попрошу кофе… — сказал я. — Но разве уже все встали?
— Нет. Здесь подымаются в неопределенное время; сходимся все вместе только к обеду и к ужину!
Мы уселись. Булкин, такой ядовитый задира накануне, оказался простым и милым человеком.
Беседа зашла о прошлом имения. Я осведомился, давно ли он в роду Штраммов.
— Оно не родовое! — ответил Булкин. — Покойный барон купил его лет тридцать назад у Велепольских…
— Вы, кажется, не особенно долюбливаете титулы? — намекнул я на вчерашнюю пикировку его с Тренком.
Булкин глянул на меня, и в зрачках его опять заискрился смех.
— Это как сказать?.. по экземпляру судя! А вот русские столпы отечества аус Рига — они действительно аппетит отбивают!
— Скажите, а от Велепольских не сохранилось каких-либо бумаг или писем?
Булкин раздумчиво качнул головою.
— Не знаю, не слыхал… Если и уцелели, то разве где-нибудь на чердаке!
— Вы мне разрешите сейчас осмотреть его?
— Сделайте милость. И я вместе с вами пойду!
Мы покончили с кофе и вошли в дом. В зале, за большим концертным роялем, согнувшись, сидел мальчик, встретивший нас накануне игрой на гармонии. Длинное лицо его было нездорового серого цвета. Услыхав наши гулкие шаги, он выпрямился, и словно два синих василька глянули из бурьяна и опять скрылись — он опустил глаза и наклонился над клавишами.
— Кто это? — вполголоса обратился я к своему спутнику.
— Кука!! — громко ответил тот. — Брат жены. Большой талант, но к сожалению, — Булкин постучал себе в лоб пальцем, — у него не «не все дома», а совсем никого дома нет!
— Разве он не понимает вас? — тихо спросил я, почувствовав неловкость.
— Нет, понимает только самые несложные вещи. И вместе с тем изумительный музыкант!
Мы подошли к мальчику, и Булкин погладил его по вихрастой, еще не причесанной голове.
— Здравствуй, Кука… — ласково проговорил он.
Мальчик взглянул на него синими глазами и улыбнулся, но улыбка эта не шла из глубины души, как обыкновенно бывает, а произведена была лишь поверхностью лица: в чертах его оставалось что-то неподвижное.
— Сыграй нам вальс… — попросил Булкин.
Мальчик потупился, опустил руки на колени и не шевелился.
— Сыграйте вы что-нибудь, — обратился ко мне Булкин, — он сейчас же безошибочно повторит все от начала до конца!
— Я не играю… — отозвался я, продолжая наблюдать странное и несчастное существо, сидевшее перед нами.
Мальчик сильно сутулился; руки и особенно пальцы у него были сильно развиты.
— На рояле он играет неважно: самоучка ведь, — продолжал мой спутник. — Но на гармонии виртуоз! Ну, да вы его, вероятно, еще услышите сегодня!
В зеркало я видел, что за нашими спинами поднялись и внимательно проводили нас синие глаза. Мне показалось, что мальчик делал усилие понять слышанные им слова. Мы миновали зал, поднялись во второй этаж и оттуда по железной винтовой лестнице взошли на чердак. Он был пуст. Казалось, что мы попали в громадный манеж, посредине которого четвероугольными колоннами вставали трубы. Земля под нашими ногами была чисто выметена; в большие овалы слуховых окон широкими потоками вливался свет.
— Однако! — не удержался я. — Даже уж слишком чисто!
— Главное достоинство баронов! — проронил Булкин.
Мы спустились обратно, досыта «попаслись», по выражению Булкина, в саду в зарослях крупной и душистой малины и направились к балкону. До нас донесся повышенный голос Таси; ей возражал супруг; сперва слышны были только отдельные слова. Булкин насторожился, и на лице его появилась усмешка.
— А я желаю и поеду! — говорила Тася.
— Невозможно! Будь рассудительна: это далеко, ты устанешь! — отвечал Тренк.
— Никогда не устану! И если бы даже устала — хочу и конец.
— В твоем положении это опасно. Я решительно против!
— Поеду, поеду и поеду! — визгливо закричала Тася. — Ты меня нарочно бесишь! С тобой мне вреднее быть, чем в самом тряском экипаже!
Мы подходили уже к балкону. Видно было, что Тася порывисто встала; послышался звук разбившейся чашки, затем плач; между колоннами быстро промелькнуло пестрое кимоно и скрылось в доме.
К нам навстречу пошел Тренк. Он был взволнован, но заставил себя улыбаться мне; только потемневшие глаза выдавали его настоящие переживания. Он догадался, что мы должны были слышать конец его объяснения с женой, и счел нужным набросить на него шутливый оттенок.
— Дамы — это венец творения… — произнес он, здороваясь со мною. Булкину он сделал только легкий сухой кивок, на что тот отвесил необыкновенно глубокий и сверхпочтительный поклон… — но только не в интересном положении! — добавил он, обозрев поклон своего родственника. Тренк сдвинул брови, закурил папиросу и уселся в кресло; лицо его опять сделалось величавым и окаменевшим.
— Вообще говоря, — процедил он еще через минуту, — пренеприятная это привычка у женщин размножаться!
— О, да! — подхватил Булкин, — и притом от всяких пустяков!! — в нем опять проснулся Балакирев[52].
Барон не соблаговолил ответить, вытянул вперед ноги и глубоко затянулся дымом; последний, видимо, действовал на его нервы и мысли благотворно.
Я сделал попытку узнать у Тренка, как у человека раньше Булкина вступившего в семью Штраммов, о бумагах, могших остаться от Велепольских, но удивленное баронское — «что»? — сразу дало мне понять, что Велепольские и весь мир — ничтожество, совершенно не интересующее его; дальше мне было открыто, что фон Тренки ведут свой род от ливонских рыцарей и что архив их хранится у него в Петербурге и находится в полном порядке.
Около десяти часов я отправился взглянуть, что делает Лазо; еще в коридоре мне сделалось известно, что он проснулся — слышался его голос, распевавший арию князя из «Русалки».
— Я шел будить тебя! — сказал я, входя в биллиардную.
Лазо сидел на постели, откинувшись назад, натягивал на себя сапог и делал страшные глаза.
— Здорово, мельник! — пропел он, целясь в меня ногой, как из ружья.
Я сообщил ему о своих рекогносцировках в саду и на чердаке. — Где же находится твой миллион книг, позволь узнать? — закончил я.
— Уж и миллион! Эк ты, брат, как всегда хватишь!! — воскликнул Лазо. — Кое-что, будь покоен, сыщем! Сейчас вместе искать будем. Наверное, вся суть где-нибудь в сарае валяется!
Лазо поднялся бриться, а я стал рассматривать гравюры на стенах.
— Объясни мне, пожалуйста, что делает Булкин? — спросил я.
— Что Булкин делает?.. младенцев… — невнятно ответил Лазо, расперев языком щеку. — А что, разве это не почтенное занятие, по-твоему? — добавил он, опустив бритву и заметив, что я махнул рукою.
— А Тренк богат?
— Очень! Когда женился, две пары штанов были! Все деньги у жен: ось, брат, где заковыка!
— Положим, не совсем в том: обе они прехорошенькие! — возразил я.
— Ну, понятно. Булка и посейчас влюблен, как кот в марте!
— Все-таки, чем же он занимается в Петербурге?
— Да тем же, чем здесь: ничем; пишет стишки и около жены околачивается. От скуки либеральничать теперь стал… Купцы от скуки запивают, а наш брат либеральничает!
— Почему ты так думаешь? А может быть, он и действительно либерал?
— Вздор! Ты гляди в корень: кому дома женский пол пикнуть не дает — те все в оппозиции! Туфлей влетит, а ему кажется, что весь мир не так устроен, как следует! Одну свою бабу не переустроит, а сто миллионов человек, думает, по плечу ему будут! Потеха!
Лазо кончил бриться, совершил омовение, вытер щеки одеколоном и облекся в белоснежный китель.
— А в котором часу мы тронемся сегодня отсюда дальше? — спросил я, созерцая своего приятеля. Он только что взялся за свои густые усы и с самодовольным видом закрутил их перед зеркалом.
— Сегодня? То есть как это? — он, не выпуская из рук усов, повернул ко мне лицо. — Кто тебя укусил?
— Никто не кусал, но ведь, когда покончим с осмотром, делать нам здесь будет нечего?
— Совершенная истина! Вот мы сперва все осмотрим, а затем и поговорим!
Мы вышли в коридор и оттуда через зал на веранду. Там были все в сборе; стоял говор. Можно было подумать, что за ночь у обитателей дома накопилась бездна энергии и впечатлений и каждый — кто хохоча, кто сетуя, торопился высказать их; слушать друг друга в этом доме было не принято.
Тренк снисходительно улыбался; Тася была оживлена и смеялась. В улыбке барона мне почудилось какое-то злорадство, и пара перехваченных взглядов, кинутых Тренком на Булкиных, объяснили мне в чем дело: Мися сидела с надутым лицом; Булкин беззаботно болтал, но нет-нет и поглядывал на жену с некоторым опасением: домашние Везувии, как известно, склонны к неожиданным сюрпризам!
Старая баронесса с места в карьер принялась мне повествовать о балах, какие она давала в Петербурге, но восторженная речь ее была скоро прервана: по залу резво протоптали чьи-то босые ноги, и из высоких дверей вылетела еще не виданная мною курносая девочка в ситцевом красном платье.
— Барыня, орехи приперли!! — во все горло оповествовала она.
Тася схватилась руками за голову и как бы в изнеможении упала на стол. Тренк выпрямился с оскорбленным видом.
Баронесса заморгала глазами.
— Вот так дура?! — воскликнула она.
Алевтина Павловна застучала палкой.
— Дура и есть!! — грозно подтвердила она. — Тебя как я учила докладывать? Как, отвечай же?
Девчонка хлипнула носом и шмыгнула под ним рукою. На лице ее изобразилось полное недоумение.
— Принесли, стало быть? — проговорила она вполголоса.
— Ступай! Сейчас приду, посмотрю орехи? — Алевтина Павловна не без труда поднялась со стула. Лазо почтительно поддержал ее под руку.
— Спасибо! — проронила тронутая его вниманием Алевтина Павловна.
— Хороший ты человек, хоть и шелапут! А мы решили завтра всем кагалом к тебе нагрянуть…
— Завтра? — изумился Лазо. — Почему именно завтра? Ведь меня дома не будет?
— Да ты с ума сошел или нет?! — Алевтина Павловна рассердилась. — Завтра чьей жены день рождения будет, не твоей ли?
Глаза у Лазо выпучились, рот приоткрылся. Он с такой силой треснул себя ладонью по лбу, что легко мог бы сшибить таким ударом со стула любого из нас.
— Забыл!! — как-то утробой подвыл он. — Ах и свиньища же я!!
Всеобщий хохот покрыл его покаянные слова.
Лазо вскочил с места.
— Еду! Сейчас еду!! — закричал он и уже бросился было к дверям, но Алевтина Павловна удержала его за рукав.
— Постой ты, торопыга! — сказала она. — Ну чего ты заметался? На что ты ей сегодня нужен? Сегодняшний день проведи у нас, а завтра на рассвете с Богом: как раз к утреннему чаю поспеешь, порадуешь ее! Это ей приятный сюрприз будет, внимание свое ей покажешь! А мы к полдню подъедем!
Лицо Лазо прояснилось.
— Верно! — воскликнул он. — Вы министр, дорогая Алевтина Павловна, гений! вы всегда выручите!! — и он с жаром несколько раз поцеловал ее руку.
— Мисенька, а ваш муж твердо день вашего рождения помнит!! — пролепетал Булкин, склонив голову на плечо и прикинувшись дурачком. — Ах, какой у вас паинька муж!!
Происшествие с Лазо развеселило Мисю, и она выглядела уже не так многообещающе пасмурно.
— Попробовал бы ты забыть?! — ответила она. — И вообще не приставай: я еще не в духах!
Все начали подыматься из-за стола, Лазо, Булкин и я отправились осматривать дом и сараи, но поиски были напрасны: очевидно, при продаже имения Велепольские вывезли все из дома, а бароны фон Штрамм не завели ничего, кроме новой меблировки и сотен двух книг романов и стихотворений, главным образом модернистских.
Проходя через детскую, я обратил внимание на пятилетнего карапуза, усердно макавшего кисточку в блюдечки с разноцветными красками и мазавшего какую-то книгу. Я заглянул в нее, и она оказалась великолепно изданным в шестидесятых годах в Париже «Путешествием по Рейну». Драгоценные гравюры ее все были изуродованы красными, синими и желтыми красками.
— Занятие, развивающее у детей вкус… но неизвестно к чему! — глубокомысленно проронил Булкин. — По мнению барона, мазать надо непременно что-нибудь прекрасное…
Мы обошли весь дом. Весь он был такой светлый, такой удобный, такой просторный и спокойный, что невольно передавал свое настроение человеку. Казалось, живя в нем, нельзя ссориться, кричать, думать о пустяках — дом и обстановка воспитывают душу. И мне не было досадно, что я потерял целый день из небольшого числа их, отсчитанных мною для путешествия.
Ничего не нашли мы и в сараях. Около них к нам присоединился Тренк, надевший рыжие краги и белую жокейскую фуражку, и пригласил нас осматривать конюшни. Длинное кирпичное здание их начиналось в полусотне шагов от нас.
— А я откланиваюсь! — заявил, остановившись, Булкин. — Видел этих лошадей семь тысяч раз! Целую тебя заочно… — он послал воздушный поцелуй Лазо.
— И я с вами! — заявил я. — Вы меня извините, барон, я в лошадях неграмотный!
— Пожалуйста, пожалуйста!! — любезно отозвался Тренк.
И он исчез вместе с Лазо в темном отверстии двери, а мы с Булкиным направились к саду и там расстались: он, видимо, хотел вернуться в дом, а меня тянуло побродить одному и подумать под вековыми деревьями.
Приблизительно за час до обеда я вернулся в дом. Ни на веранде, ни в комнатах не было ни души. От нечего делать я принялся разглядывать немногочисленные картины и гравюры на стенах и забрел в круглую гостиную. Вся она была желто-золотая, начиная от стен и мебели из карельской березы и кончая массивной люстрой и рамами картин. Но первое блестящее впечатление значительно умерилось после легкого осмотра: атлас на мебели был сильно потерт и многое нуждалось в основательной починке.
На одном из многочисленных столиков, разбросанных по всей комнате, грудой были навалены альбомы и книги. Я взялся за сборник каких-то «поэз», но через минуту оторвался от него: в дверях стояла и покровительственно и нежно смотрела на меня слезящимися бесцветными глазами баронесса-мать.
— Вот вы где уединились?! — произнесла она, входя. — Я вам не помешаю? — в голосе ее звучала томность.
— Нисколько, очень рад… — отозвался я, встав с кресла.
Баронесса опустилась рядом со мной на диванчик и слегка потянула меня вниз за руку: пришлось сесть тоже.
— Читали? — баронесса кивнула на книги. — Все новая литература! Я ничего, ничего в ней не понимаю! Но ведь это уж век такой — никто и ничего теперь не понимает, не правда ли?
— Да, до некоторой степени… — уклончиво ответил я.
— Ну да! И наша молодежь такая же, как книги. Я раз иду по залу, а они бегают, хлопают руками. «Бемоль, — кричат, бемоль летает, мамочка!» Я изумилась: какая бемоль? она в нотах только водится. А оказалось — моль летала! Сахар у них захар; упал — опал; медальон — мордальон… все-все наизнанку! Вот вы их и поймите! В наши времена мой муж пальчики у меня целовал и говорил: — «ты божество» — баронесса сцепила обе руки и в упоении стала потрясать ими и головой при каждом эпитете — «ты ангел, ты прекрасней всех»… А теперь? — она развела руками, — теперь даже поэты — Ваничка ведь поэт — говорит жене: «позвольте вас амбрасекнуть в самый пятачок-с?» В моде лакейский жаргон!
Я улыбнулся.
— Да, да… это смешно! — продолжала баронесса. — Все вот так на свете теперь идет вверх ногами! — она изобразила толстыми руками вращение пароходных лопастей. — Я уверена, что еще пять лет и все мы будем или летать по комнатам, или ходить вверх ногами. К этому идет! — Она вдруг поднялась с диванчика; я попытался сделать то же, но она жестом руки остановила меня. Вид у нее сделался таинственный и многообещающий.
— Подождите, я сейчас вернусь! — Она кинула мне долгий, особенный взгляд, поджала губки и вышла из гостиной с проворством, совершенно не соответствовавшим ее толщине.
Немного погодя она вернулась обратно; рука ее прижимала к груди большой квадратный кусок белого картона. Движением, как бы отрывавшим его от сердца, она подала его мне.
— Вот вам подарок… мой портрет!! — от упоения у баронессы в углах рта вскочили пузырьки из слюны.
С картона глянуло на меня лицо изумительной красавицы; то была Тася, но куда воздушнее ее, изящнее и тоньше чертами лица. Портрет снят был, вероятно, лет тридцать назад.
— Похож, не правда ли? — продолжала восторгаться баронесса… — До сих пор такое сходство. Удивительно, удивительно!
Мне сделалось немного грустно: ни одного прежнего, художественного штриха не сохранило злое время на лице этой бедной куклы, жившей только своею красотою! Даже небо глаз сменилось лужицами. Было обидно, что между сверхкрасотой и этим кубом сала все же существовало сходство: они походили друг на друга, как отдаленные родственники.
— Поразительное лицо! — ответил я. — Я безмерно вам благодарен за такой подарок!
— Не правда ли? Да? — рука баронессы без моего вмешательства очутилась у моих губ для поцелуя. — Очень рада!!
Звук колокола прервал нашу беседу: надо было идти к обеду. Баронесса с благосклонным видом подала мне руку, и я, словно в полонезе, торжественно прошествовал со своею раскрашенной опереточной королевой через величавый зал на веранду.
После обеда я улизнул в гостиную, захватил какую-то «сверхкнигу» и отправился с нею в еще не известный мне конец парка. Он упирался в желтое ржаное поле; за ним виднелась деревня. Справа, почти рядом, из-за кустов белели каменные шары и верхние части двух воротных колонн, на которых они лежали.
Только что я уселся на скамейке и прислонился спиной к толстенной липе, — у ворот прозвучал перебор гармоники, и будто скрипка взяла высокую, тоскующую ноту — полилось — «аддио Элеонора» из «Трубадура». Мягкие, бархатные басы расстилали аккомпанемент, и только по ним можно было признать, что поет плебейка-гармоника, а не скрипка виртуоза.
Я, чуть ступая, подкрался к кустам, чтобы взглянуть, кто играет. Ария оборвалась, рассыпалась рыдающая трель, и все смолкло.
— А ну-ка, повеселей чего-нибудь жарни! — проговорил знакомый мужской голос. Сквозь кусты я увидел Куку; он сидел в обычной своей скрюченной позе на лавочке у ворот и держал на коленях гармонику; рядом с ним помещался кучер Лазо; у ног их, на вытоптанной траве, лежали, грызя стебельки соломы, два молодых безусых и загорелых конюха.
Синие васильки Куки поднялись и уставились на Матвея: мальчик, по-видимому, не понял его просьбы.
— Плясовую сыграй, комаринского! — пояснил Матвей. — «А-ах ты, с-сукин с-сын, комаринский м-мужик!!»— с чувством напел он, прищелкивая пальцами.
Улыбка осветила лицо мальчика; гармоника дернулась. — «Высота ль, высота ль поднебесная!» — запело в воздухе. И вместо ворот передо мной открылась сцена Мариинского театра, изогнутый в виде лебедя, изукрашенный корабль и на нем, отъезжающий в далекий путь, красавец Садко-Ершов[53], шевелящий плечами в такт удалому подыгрышу гусель…
— Кука, — лениво произнес один из лежавших, когда песня стихла. — А как твою бабушку по батюшке кличут, знаешь?
Кука молчал; на лице его выразилось уже знакомое мне напряжение.
— А как по матушке?
Кука опять расцвел и загнул такое словечко, что оба лежавших захохотали и задергали ногами.
— Это на что же учите такому? — строго вмешался Матвей. — Довольно это стыдно вам! Не сказывай так никогда, Николушка! — обратился он к Куке. — Бить тебя за это будут! Сыграй еще что-нибудь: — «Не белы снеги» знаешь?
— Во-во! — подхватил другой конюх, — а то все блажит невесть что… собаку за хвост таскает!
Гармония залилась опять какою-то арией из оперы.
Я послушал немного и направился в глубь парка, поискать себе новое прибежище. Лицо Куки продолжало стоять перед моими глазами. Как, каким наитием этот почти не понимающий слов слабоумный ребенок от прикосновения звуков вдруг превращался в гения, ярко и отчетливо схватывал их и ими же рисовал радость, грусть и все, что доступно человеку?
Ауканье и голос Лазо, вопивший, как мне показалось, мое имя, вспугнули мои мысли. Я направился на зов.
На перекрестке мы встретились; Лазо шел в расстегнутом кителе и с фуражкою набекрень; вместе с ним был Булкин.
— Вон он!! — закричал Лазо, увидав меня. — Где ты пропадал, скажи на милость?
— Читал. А ты с чего это хлеб у лешего отбиваешь — ревешь белугой?
— Да из-за тебя! Я и в ад, должно быть, попаду из-за тебя! — Лазо находился уже в своем обычном фейерверочном настроении. — Понимаешь, ключ мы у Алевтины Павловны скрали, ищем тебя целый час; идем скорее!
— Какой ключ?
— От подвала! Пробу вин сейчас учиним. Погреб изумительный — есть бутылки еще Ноева розлива — ей-Богу!!
— Христос с вами, господа! — возразил я. — Что же это мы, по карманной части, значит, ударимся?
— Не выражайся! — с хохотом возгласил Лазо. — Это бонтон, высший номер по самому Гоппе![54]
Он подхватил меня под руку и повлек к дому. Булкин усмехался в усы.
— Вы не в курсе дел… — ответил он на мой недоумевающий взгляд, — суть в том, что в некоторых из своих взглядов Алевтина Павловна непреклонна, и потому мы несколько облегчаем свое положение — таскаем у нее со стенки ключ… это уж так принято!
— Им не дают ведь вина; разрешается только по двунадесятым праздникам! — воскликнул Лазо. — Разве ты не заметил? Оно вредно влияет на грядущее потомство!! — он взялся за бока от смеха.
— Но Алевтина Павловна может хватиться ключа, скандал выйдет! — протестовал я.
— Ничего не заметит; дамы здесь все близоруки, как кроты!!! — кричал Лазо. — Помилуй, быть у Штраммов и не повидать их погреба — это же позор, страм воистину!!
— Тише! — произнес Булкин. — Голоса слышны!
Мы остановились. Впереди, за поворотом, действительно раздавались чьи-то голоса.
— Кто это? — тихо спросил Лазо.
— Мися с детьми! — ответил Булкин. — За мной, господа! — и он как заяц метнулся в сторону, в яблочный сад. Туда же тяжелою кавалерией зарысил Лазо; я быстро зашагал за ним. Вслед за Булкиным мы описали большую дугу и опять вернулись на ту же аллею. Но прежде, чем выйти на нее, Булкин осторожно выставил из-за ствола липы голову и огляделся; аллея была пустынна: голоса едва различались далеко позади нас.
Запыхавшийся Лазо тяжело привалился к соседнему дереву.
— Сцена из Майн-Рида! — зафыркал он, зажимая себе рот. — Нападение индейцев на гациенду! Ей-Богу, мальчишки! — он зашелся от смеха. — Совсем как в детстве яблоки воровать лазили!
Мы вышли из-за деревьев, и мои спутники устроили совет. Решено было, что Лазо пойдет первым и, улучив минуту, проберется в подвал; за ним, как бы осматривая дом, проскользнем и мы, вход в подвал вел из бывшей буфетной, находившейся рядом со столовой.
— И Густав Густавович будет? — спросил я.
— Кто? — с испугом переспросил Булкин и перекрестился. — Во имя Отца и Сына и св. Духа, что это вы его не к месту поминаете?
— Куда ему!! — поддержал Лазо.
Булкин извлек из кармана огромных размеров ключ и пару толстых коротких свечей и передал все Лазо. Вид у последнего сделался серьезным и даже глупым.
— Гитару захвати! — деловито прошептал он, хотя шептать надобности еще не было. Он передернул ногами, расправил плечи и пошел к дому. По дороге надел фуражку, застегнул китель, заложил руки за спину и замурлыкал.
Приблизительно через четверть часа двинулись за ним и мы. Если бы кто-нибудь посторонний встретил нас, то непременно счел бы за злоумышленников — так подозрительно мы вели себя, оглядываясь и останавливаясь при малейшем шорохе впереди.
Веранда была пуста. Не оказалось никого и в зале. Булкин взял одну из двух гитар, лежавших на рояле, и мы вошли в коридор; у гостиной навстречу попалась Марина Семеновна, и по тому млеющему выражению, какое сразу, как масло, разлилось при виде нас по постному лицу ее, я сразу понял, какая «грусть» служила причиной ее всегдашнего «положения».
— Вот это гостиная… — тоном гида произнес Булкин, входя в дверь и подмигнув мне; Марина Семеновна задержалась в коридоре и, видимо, подслушивала.
— Посмотрите на эти альбомы… — монотонно продолжал Булкин, — все семейные, но внимания не заслуживают!
Превосходная люстра… пока не упала кому-нибудь на голову! Замечательный диван, но садиться лучше прямо на пол, ибо все равно на полу очутитесь!
Спина Марины Семеновны скрылась, и Булкин прервал свое красноречие, выглянул в коридор и, убедившись, что путь свободен, поманил меня; на носках мы прокрались в почти пустую, темно-зеленую буфетную. Можно было сто раз пройти по ней и даже не заподозрить, что из нее имеется вход в погреб — так плотно и незаметно сливалась дверь со стеной. Булкин быстро толкнул в нее рукой, и открылся черный провал вниз. Дверь за ним затворилась; Булкин щелкнул ключом, и мы стали спускаться по каменным ступенькам. Снизу брезжил свет, можно было различить, что мы идем по сводчатому коридору. Охватило мягким, подвальным воздухом. Спуск был короткий, ступеней в пятнадцать, и мы попали в невысокую сводчатую же комнату; ее освещали два окошка, пробитые у самого свода и зарешеченные толстыми железными прутьями; оттуда глядела крапива, казавшаяся почти прозрачно-зеленой, и клочки синего неба.
Комната была совершенно пуста; с правой стороны в стене темнел другой проход; в нем блеснул свет и под низкой аркой показался Лазо с зажженной свечою в руке.
— Гряди, гряди, голубица!! — пропел он, дирижируя свечой. Вслед за ним мы вступили в темную квадратную пещеру; окон в ней не имелось. Близ выхода, в левом углу, на земляном полу стоймя стояла широкая бочка; на ней горела свеча и при желтоватом свете ее из отступивших потемок волнистою линией смутно намечался ряд из пяти двадцативедерных бочек; стены были скрыты полками; на них тесно лежали и стояли бесчисленные бутылки.
— Кителя долой! — скомандовал Лазо. — Иначе перемажемся все как черти!
…И он скинул с себя китель и повесил его на давно хорошо известный невидимый гвоздик. Я и Булкин сделали то же.
Булкин взял с бочки вторую свечу, и мы медленно обошли подвал. И бочки, и бутылки покрывала густая пыль; на нижних полках нарос особый серый мох и плесень. Над полками белели ярлычки с надписями: «Токайское 1847 г.», «Рейнвейн 1833 г.», «Лафит 1866 г.» и т. д.
В бочках находились крымские столовые вина; в самой задней заключалась водка. И они были не заурядные — старый барон умер пятнадцать лет назад, и после его смерти уже ни одной капли вина не поступило в забытый подвал.
— А стаканы где же? — спохватился я. Лазо захохотал.
— Не беспокойся, здесь все предусмотрено! — сказал он. — Все в тайниках размещено! — Он нагнулся и пропал со свечой за днищем бочки; из-за нее стало изливаться слабое сияние; ухо уловило позванивание стекла.
Булкин подкатил из разных мест три небольших, пустых бочонка и расставил их вокруг импровизированного стола. Лазо явился со штопором и несколькими высокими гранеными стаканчиками. Из противоположного угла Булкин извлек пару жестяных коробок и откупорил их; там оказались шоколадная соломка и печенье Альберт.
— Однако!! — только и нашелся я сказать, глядя на превращение бочек в стол и стулья и появление произведений Жоржа Бормана[55].
— Голь на выдумки хитра! — ответил Булкин. — Теперь черед за вином; какое кому угодно?
Мы опять обошли подвал. Я, помня историю у Чижикова, выбрал себе длинную, узкогорлую бутылку с легким рейнвейном; Булкин принес алое, как гранат, густое Нюи и такое же Марго; Лазо притащил в объятиях целую кучу бутылок разных фирм.
— Вы еретики!!! — возгласил он, ставя на бочку пузатый сосуд с бенедиктином. — А я о душе подумал, по духовной части прошелся: монахорум, — его же и монахи приемлют! Шартрез… тоже святые отцы делали! «Пипермент», специально для страдальцев желудком!
На бочке вырос лес из бутылок. Булкин откупорил их все, и мы уселись.
— Господа, а ведь мы в средние века переселились? — сказал я, оглядывая силуэты бочек и затонувшие в темноте ряды полок. Позади нас на освещенной стене двигались и кивали огромные тени.
— Верно! — подхватил Лазо. — Рыцари круглого стола!
— Легче на повороте!.. бюргеры в винном погребе! — поправил Булкин.
— Умный был человек старый барон! — произнес Лазо и поднял свой стакан. — Вечная ему слава и память!
Мы чокнулись и выпили.
— А живой барон не обидится, что мы без него сюда ушли? — спросил я.
— Это фон Тринкен-то? — с пренебрежением спросил Булкин. — Ничего, тринкнем и без него!
— А вдруг сейчас сюда войдет Алевтина Павловна?! — произнес я.
— Я влезаю в эту бочку! — сказал Булкин. — Ваканция в ней моя!
— А мы падем на колени и подымем руки! — подхватил Лазо. — Нет, кроме шуток, а я Алевтину Павловну очень люблю! Напылит, накричит, а добруха необыкновенная!
— Да! — согласился Булкин. — Без нее здесь давно бы все развалилось. Стара только она уже становится!
— За вечную деву, Алевтину Павловну! — воскликнул Лазо. — Да живет генеральская дочь еще многие годы!!
Мы опять чокнулись.
Старое ароматное вино стало давать себя чувствовать; такие вина прежде всего предательски действуют на ноги, и голова, остающаяся свежей, долго не замечает измены своих союзников. Поэтому прежде, чем начать вторую бутылку рейнвейна, я встал и проэкзаменовал их в прогулке по погребу. Мои собеседники налегли на ликеры и «освежались» после них Нюи; щеки их пылали, как вино.
Лазо пристал к Булкину, чтобы тот прочел свои стихи.
— Не писалось все лето! — ответил Булкин. — Нового нет ничего! — Он залпом опорожнил стакан крепкого Нюи и взял стоявшую около стены гитару. — Новую частушку у нас на деревне слышал, хотите? — Он перебрал струны.
— Просим!!
— Золото мое колечко На руке вертелося… —почти фальцетом вполголоса завел он.
— Мои глазки нагляделись На кого хотелося… Дороги мои родители За мила дружка бранят— Они сами таки были, Только нам не говорят… Сидит милый на крыльце С выражением в лице. Я не долго думала, Подошла да плюнула!Лазо хохотнул и стукнул кулаком. — Свиньи!! — воскликнул он.
— Ах, мой милый любит трех, А меня четверту! А я милому сказала — Убирайся к черту!Нежность и тоска вдруг зазвучали в голосе певца:
— Сизокрылый голубочек До смерти убился, А неверный мой дружочек На другой женился! Все бы пела да плясала, Все бы веселилася, Кабы старая любовь Назад воротилася… —совсем тихо, говорком закончил Булкин; струнные аккорды затушевали последние ноты.
— Превосходно! — невольно воскликнул я — с таким мастерством, юмором и чувством была исполнена песня.
Лазо сидел, привалясь боком к бочке-столу, вытянул ноги и медленными глотками отхлебывал густое вино.
— Забавно! — проронил он. — А и пакость же, в сущности говоря, эти частушки!
— Чем? — осведомился Булкин. — Новая народная поэзия…
— Ну, тут поэзия и не чихала! — возразил Лазо. — Котлеты из бессмыслицы… «сидит милый на крыльце с выражением в лице» — это что же может значить?
— «Выражаться» по-простонародному значит скверно ругаться. Стало быть, и лицо у милого было соответствующее — презрительное, что ли. Вообще смысл теперь не головой, а чутьем понимать надо!
— Еще чем-нибудь не придумаешь ли? — окрысился Лазо. — Нет брат, надежнее головы у человека места нет! Разнуздались теперь все, вот и песни пошли такие же! Разве сравнишь их с прежними, старинными?
Булкин отрицательно покачал головой.
— Тех уже нет! — заметил он. — Старое все до конца умерло: мы ведь среди непогребенных мертвецов бродим! Идет новое…
— Гордое да безмордое? — подхватил Лазо. — А имя им одно — хулиганство!
— Что-то идет! — раздумчиво повторил Булкин. — А внешность — это временное… Мне на днях пришло в голову хорошее сравнение… — добавил он, как бы вспомнив, — хулиганство — это клуб пыли на горизонте; мы его видим, но что за ним — не знаем: стадо ли идет, буря ли? Но чему-то быть… так жить нельзя!
— Это тебе нельзя?
— Это мне нельзя.
— Почему, Вампука несчастная? Что тебе нужно, спрашивается? Жена красавица, деньги есть, все есть, черт подери! Корабля с обезьянами еще, что ли, надо?
— Свободы! — твердо выговорил Булкин и шлепнул ладонью по бочке. — Правительства иного!
— Булка, иди пей нашатырь, ты уже насвистался!! — соболезнующе возопил Лазо. — Жену с правительством спутал!! Не руби тот сук, на котором сидишь, как говорил Заратустра![56] Русскими словами тебя не проймешь, так пойми иностранные: у одного француза спросили — какая разница, по-вашему, между французами и русскими? Тот и ответил: — «у нас все сапожники стремятся стать господами, а у вас все господа мечтают угодить в сапожники»! Верниссимо! И ты такой же тип! Ну где, в чем тебя правительство обидело, как, говори?! — Лазо колотил кулаком по бочке, и глухой гул раскатывался по всему погребу. — От урядников тебе почет; становые козыряют, чего еще тебе, анафема, надо?
Булкин рассеянно пощипывал струны, затем взял несколько аккордов.
— Хороша у нас деревня…— напел он вместо ответа, —
— Только улица плоха! Хороши у нас ребята, Только славушка лиха!Странна была струнная молвь в подземелье; звуки, как что-то живое, налетали на стены, убивались и с шелестом падали на мягкую пыль.
— Булка! — с горечью воскликнул вдруг Лазо. — Мы с тобой стареемся! Прежде, бывало, плясали здесь, а теперь о политике говорим! До чего ты меня довел, унутренний супостат?!!
— Скажите, — обратился ко мне Булкин. — Вы верите в то, что император Александр I скрылся под именем Федора Кузьмича[57]?
— Много данных за это, — отозвался я, — а вас это интересует?
— Очень. Есть что-то захватывающее в его поступке! Так вот уйти, расстаться со всем… великий подвиг!
— Ты еще, смотри, не подвинься эдак! — буркнул Лазо. — Отыщу!! — он стукнул кулаком. — Жизнь-то — она, брат, длинная: в мужичьих лаптях ее всю не оттанцуешь; бутылочку Нюи захочешь!
— А что есть жизнь? — с усмешкой спросил Булкин. — Видел, как деревья бросают тени? Утром они огромные, густые, к полдню они тоньше и меньше, а к ночи все сливается в общую тьму…
— А за ночью новый рассвет! — сказал я.
Булкин опять взялся за гитару.
— Я вам прочту мое стихотворение в прозе… в нем мой ответ! — Он сел поудобнее и закинул назад голову.
— Сон земли! — в повышенном, мело декламаторском тоне произнес он; гитара начала аккомпанемент.
— Спит земля и видит сон… Тени от облаков бегут по ней, и кажется ей, что это возникают царства, города и люди. В ясный радостный день чудятся ей пенье колоколов, праздники и веселье; в мрачные слышит гром, видит молнии: в урагане и в пламени гибнут города и царства…
Спит земля и видит сон…
Бред об их жизни подслушали тени и гордая мысль осенила их: «Мы — действительность». И тени погнались за тенями — за славой, за властью, за расширением границ. Стал незаметен им быстрый их бег по земле. Секунда — жизнь отдельных теней, минута — городов и царств…
Среди светил зашифрованной телеграммой несется в необъятном пространстве земля.
Спит она и видит сон…
В семь часов утра на следующий день Лазо с заспанным, измятым лицом стоял на мокрой от росы платформе станции и махал белым платком вслед уносившему меня поезду.
— До свиданья!! Пиши! Телеграфуйте!!! — слышался крик его.
Югославия. Земун. 1921 г.
А. В. Блюм Мертвые души и живые книги
Вы, читатель, познакомились с оригинальным и редкостным явлением отечественной литературы — романом о путешествиях и похождениях библиофила. Принадлежит он перу Сергея Рудольфовича Минцлова (1870–1933). Его литературное наследие очень велико и разнообразно: им написано и издано около 60 книг. Однако в наше время Минцлов известен, в сущности, лишь в качестве автора ряда фундаментальных библиографических работ и тщательных описаний своей личной библиотеки.
Родился С. Р. Минцлов в семье с устойчивыми библиофильскими традициями, впитав в себя «родовую» любовь к старинной книге[58]. Его дед, Рудольф Иванович Минцлов, был крупным историком и библиографом, знатоком старопечатных книг. Он известен, в частности, как создатель не потерявшего значения библиографического труда «Петр Великий в иностранной литературе» (Спб., 1872), увлекательного очерка «Книжная келья XV века. Сон наяву» (Спб., 1858) и других работ. Р. И. Минцлов — один из создателей прекрасной по замыслу и воплощению, стилизованной под средневековье книжной кельи, так называемого «Кабинета инкунабулов» Имп. Публичной библиотеки в середине прошлого века (теперь «Кабинет Фауста» Гос. публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина). Известен он и как страстный библиофил, собиратель редких образцов западноевропейского книгопечатания.
Учился Сергей Рудольфович вначале в Нижегородском кадетском корпусе, затем перешел в Московское Александровское училище, в котором в 80-е годы читали лекции лучшие профессора Московского университета; историю русской литературы, в частности, читал Ф. И. Буслаев. Судьба офицера, однако, не привлекала Минцлова: он рано выходит в отставку, много путешествует по России, застревая иногда на несколько лет в каком-либо городе — в Уфе, Новгороде и т. д. В 90-х годах мы видим его то в роли провинциального журналиста, то в роли земского деятеля, сотрудника местных археографических комиссий. В начале века, вплоть до начала первой мировой войны, он живет в Петербурге, профессионально занимаясь литературным и библиографическим трудом.
Разрастается в это время его библиотека, о которой в обществе слагаются легенды. И действительно: собрание Минцлова уникально и неповторимо. Опытнейший библиофил, Сергей Рудольфович прекрасно понимал, как опасен и тщетен путь всеядности и универсализма. Поэтому очень рано, буквально с первых шагов на ниве собирательства, он сознательно ограничил свои библиофильские интересы лишь двумя областями. Первая из них — история России, причем главное внимание уделялось вспомогательным историческим дисциплинам — генеалогии, дипломатике, археографии, — а также мемуарным и эпистолярным источникам. На этой основе им был создан пятитомный библиографический труд «Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к истории России», вышедший в Новгороде в 1911–1912 годах и нисколько, не потерявший научного и справочного значения в наше время. Особую ценность книгохранилищу С. Р. Минцлова придавала вторая его часть — коллекция книг, запрещенных и уничтоженных цензурой в конце XIX — начале XX века. Если воспоминания, письма и дневники собирали многие библиофилы — это вообще излюбленный коллекционерский сюжет, — то во второй области его интересов равных Минцлову не было. Собирание такого материала, конечно, было сопряжено с громадными трудностями, но Минцлов, человек необычайно живой и общительный, сумел завязать полезные знакомства в среде чиновников — цензоров и полицейских, которые занимались экзекуцией книг, обреченных на уничтожение. Не безвозмездно, разумеется, они утаивали для Минцлова по одному-два экземпляра «криминальных» изданий. Эта часть коллекции послужила материалом для создания первого минцловского каталога, вышедшего в 1904 году в Петербурге под названием «Редчайшие книги, напечатанные в России на русском языке». Но, как удалось выяснить, рукопись этого каталога, поданная Минцловым, вызвала первоначально бурю в цензурном ведомстве. В архивном «Деле по дозволению к напечатанию рукописи С. Р. Минцлова от 21 октября 1904 г.» хранится рапорт цензора Соколова, который доносил, в частности, что автор рукописи «… делает попытку систематизировать сведения о бесцензурных изданиях, запрещенных цензурою до выхода их в свет, или, хотя пропущенных, но с исключениями… Я не нахожу возможным взять на себя ответственность за выпуск этого библиографического указателя»[59]. Книга, тем не менее, все же была напечатана с помощью остроумной уловки Минцлова. Получив отказ С.-Петербургского цензурного комитета, он «разбавил» свой указатель множеством обычных, не подвергавшихся изъятиям и конфискациям изданий, и снова подал рукопись в цензуру под видом каталога своей библиотеки. Запрещенные книги затерялись в массиве других изданий, и Минцлов получил разрешенную к печати рукопись, скрепленную печатью и подписью цензора. Тогда, как свидетельствует рассказ журналиста П. М. Пильского, близко знавшего Минцлова и, возможно, записавшего эту историю с его слов, он поинтересовался в цензурном комитете, имеет ли он право добавить в каталог названия некоторых книг, на что получил самый решительный отказ: «Сохрани господи!.. — был ответ. — А вычеркнуть можно? — Это сколько угодно». Тогда Минцлов вычеркнул из рукописи названия всех «обычных» книг, оставив только запрещенные, и в таком виде, под внешне вполне невинным заглавием, появился первый в России указатель конфискованных изданий[60]. Цензура спохватилась, да было уже поздно: книга разошлась моментально. Да это и немудрено: напечатана она была микроскопическим тиражом, только для библиофилов-любителей[61]. На титульном листе «Редчайших книг…» указано:
«Напечатано сто экземпляров не для продажи:
1 экземпляр на бледно-сиреневой бумаге
3 — зеленой
96 — слоновой»
Можно себе представить, как гонялись петербургские библиоманы за «бледно-сиреневой» уникой…
В годы первой русской революции С. Р. Минцлов становится внимательным и чутким летописцем событий, касающихся положения печати. На редкость оперативно, уже в мартовском номере историко-революционного журнала «Былое» за 1907 год, появляются его «Заметки библиографа», демонстративно озаглавленные «14 месяцев «свободы печати»», — список конфискованных полицией книг, журналов и газет того времени[62].
Итогом его многолетних изысканий стал труд «Книгохранилище Сергея Рудольфовича Минцлова», изданный в Петербурге в 1913 году, в котором тщательно описаны, снабжены ремарками и ценными пояснениями книги из его уникального собрания. Значение этого каталога, ставшего своеобразной классикой библиофильской литературы, очень велико.
С. Р. Минцлов давно и по праву занял видное и почетное место в истории русской библиографии и библиофильства, чего нельзя сказать об истории отечественной литературы. А между тем он — своеобразный и даровитый писатель, хотя и принадлежащий, как это не слишком удачно принято писать, ко «второму ряду». Эта сторона его творческого наследия, в сущности, не известна не только любителям литературы, но и специалистам-литературоведам. Имя Минцлова-беллетриста пользовалось в начале века известностью: его перу принадлежит более двух десятков исторических романов, повестей, рассказов, пьес. Популярностью пользовались у читателей его добротные, написанные на основе солидного документального материала исторические романы: «В лесах Литвы» (о борьбе прибалтийских народов с крестоносцами), «На заре XVII века» (из эпохи «смутного времени» на Руси), «В грозу» (о преобразованиях Петра I) и другие.
Изучая литературное наследие нашего автора, мы заметим одну любопытную особенность: он постоянно стремится к тому, чтобы сообщить читателю сведения о своих увлечениях, поисках и находках непременно в художественной форме. Так, увлекшись нумизматикой, он создает увлекательную новеллу «Рассказы монет», археологическими раскопками — роман «Похождения археологов» (вышел в 20-х годах четырьмя изданиями) и т. д. Эрудит и глубочайший знаток древностей, Минцлов вполне мог бы стать видным специалистом в одной из избранных им областей исторической науки; однако он, прежде всего, осознавал себя беллетристом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что и главное его призвание и увлечение — книгособирательство — послужило импульсом к созданию художественного произведения, посвященного книжным поискам.
История создания и публикации книги «За мертвыми душами» интересна и увлекательна сама по себе. Биография автора, человека необычайно живого, увлекающегося, до предела насыщена причудливыми поворотами, приключениями, иногда забавными, а подчас и печальными. Постоянно ищущая и неудовлетворенная натура Минцлова, его непрестанная «охота к перемене мест», экспедициям и путешествиям привела к тому, что годы первой мировой войны он, с некоторым удивлением для самого себя, оказался на посту редактора русской военной газеты, выходившей в Трапезунде. Отрезанный от родины развернувшимися в 1916 году военными событиями на юге, Минцлов после двухлетних скитаний, разделив судьбу русской эмиграции, попадает в Югославию, в которой и живет вплоть до 1922 года. В эти годы, исполненные тоски и одиночества, чуть ли не единственной отдушиной стали дорогие сердцу воспоминания о многочисленных поездках по уездной России, о встречах с людьми и книгами. В 1921 году, когда Минцлов жил в небольшом сербском городке Земуне, книга «За мертвыми душами» была закончена. Первую часть ее он отдал знаменитому русскому журналу «Современные записки», выходившему в Париже с 1921 по 1940 год, и она тотчас же появилась (1921–1922. № 5, 6, 8 и 10), но одновременно ему удалось полностью выпустить книгу в Берлине в «Сибирском книгоиздательстве» (1921)[63]. Естественно, он отозвал вторую часть из «Современных записок», и она в них так и не была напечатана.
Так появилась книга, представлявшая собой весьма своеобразное и первое в своем роде явление русской литературы — библиофильский роман-путешествие. Правда, автор снабдил ее нарочито скромным подзаголовком «очерки»: очевидно, из почтения к великой поэме Гоголя, давшей ей название. Но вспомним, что мало чем отличающиеся по жанру «Похождения археологов» Минцлов назвал «романом». Сам автор в предисловии к публикации «Современных записок» — оно не вошло в отдельное берлинское издание — так рассказывает об истории возникновения замысла книги «За мертвыми душами»: «В 1914 г. я делал в Академии наук доклад Библиологическому обществу о помещичьих библиотеках в России[64]. Доклад заинтересовал собравшихся… Ныне мне вспомнился малый конференц-зал Академии, заседание… Зарисую далеко не все, что сохранили мне память и мои записи, а лишь те, что выдавались из общего уровня и что сможет пригодиться впоследствии для истории быта русской провинции. Описываемые поездки были совершены не подряд, не сразу, а в период времени с 1895 по 1913 год и сведены мною в общие главы (фамилии описываемых лиц и названия их имений изменены). «За мертвыми душами» окрещена эта книга, и всякий, прочитавший ее, увидит, что название дано ей не мной, и не из претензии подражать, или тем более сравниваться с великою поэмою Гоголя, а только по существу содержания».
Перед нами, однако, вовсе не традиционные мемуары; столь свойственная Минцлову тяга к беллетризации привела к созданию вещи, которую следовало бы назвать «библиофильским романом» или циклом «библиофильских новелл», тесно связанных между собой и общностью сюжета, и композицией, и личностью главного героя-рассказчика. «За мертвыми душами», какое бы жанровое определение мы бы ни дали этой книге, — добротная русская проза. Упоминавшийся выше П. М. Пильский назвал ее «почти классической»[65]; во всяком случае, это действительно яркое и самобытное произведение, лучшая, на наш взгляд, вещь С. Р. Минцлова.
Нельзя сказать, что у Минцлова не было в русской литературе предшественников, что он первым обратился к теме книжности и библиофильства[66]. Эта тема часто занимала воображение писателей: назовем рассказы В. Ф. Одоевского, М. Л. Михайлова, повесть Д. И. Стахеева «Пустынножитель», посвященную философу и критику Н. Н. Страхову как библиофилу, новеллы П. П. Гнедича, А. А. Измайлова, Б. Ф. Садовского, написанные в начале XX века, и т. д. Однако ни один русский писатель до Минцлова не обращался к теме поиска редких книг и рукописей, путешествий за ними. В этом смысле его с полным правом можно назвать родоначальником жанра, которому суждена была в дальнейшем большая будущность, жанра, который в последние годы привлекает пристальный интерес и писателей, и любителей книги. Минцлов предпринимал то, что сейчас мы бы назвали «археографическими экспедициями», правда — с двумя отличиями: во-первых, он осуществлял их на свой страх и риск, заручившись лишь в лучшем случае рекомендательными письмами петербургских знакомых (но тем неожиданнее, интересней и незапрограммированней были эти встречи); во-вторых, его мало интересовали старинные рукописи и старопечатные издания, которые в основном и разыскивают современные археографы. Его внимание привлекали, главным образом, документы и книги XVIII — начала XIX века, преимущественно такие, что входили в круг его библиофильских пристрастий, — письма, дневники, мемуары и т. п.
Тень великого Гоголя и его бессмертной поэмы витала, конечно, над Минцловым, когда он писал свою книгу. В ней можно заметить отдельные гоголевские реминисценции, узнать давно знакомых Плюшкина и Коробочку, Ноздрева и Собакевича… Но наш автор меньше всего стремится к тому, чтобы искусственно «подогнать» под них своих персонажей. Иное дело, что сама жизнь рождала и гоголевские ситуации, и героев, так напоминающих вечные типы «Мертвых душ». Но своеобразие романа Минцлова в том, что пошлость и бездуховность его персонажей проявляется в особом историко-культурном и нравственном контексте — через отношение их к ценностям культуры, книгам прежде всего. Именно они становятся тем пробным камнем, которым поверяются персонажи романа. Для большинства из них эти ценности и молчаливые свидетели прошлого — действительно «мертвые души», а не «мертвые друзья», как называл книги еще Кантемир, а за ним и Пушкин.
Для владельцев обветшавших имений, некогда помнивших лучшие времена, остатки фамильных библиотек — лишь обуза, с которой они с легкостью и без тени сожаления расстаются. С полнейшим равнодушием взирают они на старинные фолианты, простодушно удивляясь, что они могут еще кого-то интересовать. Обреченные на тусклое, полурастительное существование, владельцы «мертвых душ» и не догадываются, что некогда эти «души» были «живыми», будили мысль и чувство, вызывали слезы восторга…
Целый паноптикум уездных чудаков, этаких «мишук налымовых», если вспомнить героя цикла «волжских рассказов» А. Н. Толстого, предстает в романе-путешествии. Но все чаще на его пути — и в этом примета эпохи — встречаются экземпляры иного толка: разбогатевшие нувориши, хваткие купцы, отъявленные мошенники, на корню и по дешевке скупившие дворянские имения, еще хранившие остатки былого великолепия. Для них старинные книги, предметы утвари и другие реликвии не более, чем «товар», за который не грех слупить побольше с проезжего любителя, надуть его при случае. С большим юмором описывает Минцлов эти сценки торговли. Самого путешественника друзья в шутку называют «Чичиковым», убеждая его не церемониться с хозяевами совершенно не нужных им книг, оставить «душевную меланхолию».
Роман точно передает «книжную жизнь» уездной России начала XX века, что находит подтверждение как в разнообразных документальных источниках, так и в художественных произведениях того времени, в частности в рассказах И. А. Бунина, А. Н. Толстого и других крупнейших писателей. Минцлов, как истинный библиофил — в высоком смысле этого слова, — не только великолепно знает старинную русскую книгу, но и тонко улавливает ее «душу», своего рода «эманацию». Неразрывна, нерасторжима связь веков. Старые книги, мебель, здания и другие ценности культуры как бы излучают невидимый свет, пронизывающий историю. В отличие от своей сестры, известной и очень модной в некоторых кругах петербургской интеллигенции теософки А. Р. Минцловой, наш автор вовсе не был мистиком. Но он верит в то, что создания человеческого духа, проявленные и запечатленные в старинных книгах, рукописях, картинах и других памятниках культуры, не умирают, они живут среди нас. Вот как пишет он об этом в предисловии к упоминавшимся выше «Рассказам монет» (они вошли в сборник рассказов Минцлова «Чернокнижник», изданный в Риге в 1932 году): «Всякий, кто держал в руках древний предмет — монету или книгу — и внимательно вглядывался в них, испытывал легкое воздействие их на себе; грубо говоря — чувствовал душу вещей. Я всю жизнь собирал монеты и книги, но отнюдь не ради их материальной ценности. Я собирал их из-за радости, которую ощущал, держа их в руках. Соприкосновение с ними связывает живых людей с далекими эпохами, с давно ушедшими из мира тенями, выявляет образы и картины прошлого. Если хотите, назовите это самогипнозом: дело не в названии, а в удовлетворении, какие дают переживания. Мне не раз доводилось часами держать в руках старые книги; я не читал, а только ощущал их, всматривался в переплет, в начертание букв, в отдельные страницы. Если у меня устанавливалась связь с ними — я их читал, если нет — отставлял до времени в сторону: надо сперва почувствовать — затем придет понимание и откровение…»
Эти слова истинного библиофила и поэта книги, каким был Минцлов, не только не были бы поняты его персонажами, но и встречены, очевидно, с большим недоумением: какие там еще «незримые нити» — ведь это все «заваль», «труха», «крысиная снедь», в лучшем случае — товар, ежели на него нашелся проезжий чудак-покупатель. Чего можно требовать, скажем, от владельца родового поместья из новеллы, завершающей книгу, который развлекается тем, что расстреливает влет книги из фамильной старинной библиотеки. Этот типично ноздревский персонаж ёрнически и издевательски пытается даже оправдать свою «слабость». Он, знаете ли, совсем как вальдшнеп летает!» — отвечает он на упреки жены, которой стало неловко перед столичным гостем.
Разрушение и гибель «дворянских гнезд», как известно, особенно волновала и трогала И. А. Бунина. В его «Антоновских яблоках», «Грамматике любви» и других произведениях звучит реквием по разоряющемуся, уходящему с исторической сцены дворянству, — и гибель книг и родовых библиотек, догнивающих в чуланах и на чердаках, выступает как горький символ разрушения и упадка. Минцлову, хотя он с болью и глубокой тревогой смотрит на остатки былой дворянской культуры, все же не свойственна бунинская ностальгия по прошлому; он ближе к А. Н. Толстому цикла «волжских рассказов» с его трезво-ироническим взглядом на происходящее. Минцлов, великолепный и чуткий наблюдатель, прекрасно видит, что все рушится, возврата к прошлому нет…
Композиция романа очень проста. В первой его части (или «очерке») описывается путешествие за книгами по Смоленской губернии, во второй — по Нижегородской, в третьей — Орловской. В свою очередь, каждая часть разделена на 4–5 глав или новелл, посвященных поездке в одно из «дворянских гнезд». С кем только не пришлось встретиться писателю-библиофилу… Чередой пройдут перед читателем колоритные типы, населяющие роман, — каждый со своим характером, речью, повадками и манерами. Сатирический роман Минцлова пронизан искрами смеха; стихия юмора вообще очень свойственна его произведениям. Заметит читатель и то, что библиофильская, книжная тема от очерка к очерку сходит как бы на нет, особенно в последнем, когда бедного петербургского библиофила начинают буквально спаивать «широкие натуры» ноздревского типа. Рассказчик тщетно пытается объяснить им цель своего путешествия, выяснить судьбу старых книг и библиотек. Какие уж тут книги…
Может быть, именно поэтому парижское издательство «LIV», выпустившее «За мертвыми душами» в 1978 году, ограничилось переизданием лишь журнального варианта «Современных записок», опубликовавших в 1921–1922 годах первый очерк. Мы, однако, ориентируемся на текст отдельного берлинского издания: роман, не переиздававшийся 70 лет, вполне заслуживает того, чтобы быть напечатанным полностью. Он интересен не только библиофильскими сценами, но и живописными, наполненными глубоким смыслом картинами жизни провинциальной России предреволюционной поры.
Тем не менее тема книги и книжности пронизывает все главы романа; незримо, как бы на втором плане, она постоянно звучит даже в тех сценах, которые имеют косвенное отношение к основному сюжету. Заметим, что Минцлов — прекрасный библиограф — предельно точен в описании встретившихся ему старинных изданий и рукописей, что полностью подтверждается сведениями, помещенными в его каталоге «Книгохранилище С. Р. Минцлова» 1913 года. Вот это и позволяет нам сейчас сопоставить книги, описанные в романе, с реальными изданиями, положившими основу замечательному собранию (см. примечания).
Помимо романа «За мертвыми душами», Минцлов создал еще ряд произведений на «книжную» тему. Среди них следует назвать роман «Приключения студентов», изданный в Риге в 1929 году. В это же время написан Минцловым и ряд статей, посвященных судьбам старых русских книг и библиотек. Среди них особенно известен «Синодик» — перечень усадебных библиотек, погибших и рассеянных, по сведениям Минцлова, в годы Гражданской войны[67]. В дальнейшем этот список был уточнен, исправлен и дополнен советским исследователем[68]. В двадцатые годы Минцлов был постоянным и активным участником парижского Общества друзей русской книги. В списке его членов, наряду с Минцловым, мы увидим имена С. П. Дягилева, С. М. Лифаря, М. А. Осоргина и других деятелей науки, литературы и искусства — увлеченных и страстных библиофилов[69].
Судьба коллекции С. Р. Минцлова, которую ему удалось доставить из Петрограда в Ригу, сложилась все же очень печально. К великому сожалению, в наши дни только роман «За мертвыми душами» да еще каталог «Книгохранилище С. Р. Минцлова» напоминают нам о знаменитом некогда книжном собрании. Горькая символика заключена в том, что в 1925 году Минцлов, испытавший все тяготы эмигрантской жизни и материальные затруднения, вынужден был с болью расстаться со своим любимым детищем. «Нельзя допустить распыления такой книжной сокровищницы!» — тщетно взывала к европейской общественности берлинская русскоязычная газета «Дни»[70]. Тот же пафос звучит в упоминавшейся выше статье Петра Пильского «Памяти одного книгохранилища». Но это были лишь благие пожелания… Не нашлось ни частного лица, ни крупной библиотеки, которые бы пожелали приобрести коллекцию в целостном, неразрозненном виде. Старейшая антикварная фирма в Лейпциге «Koehlers antiquarium und К°» распродала поодиночке книги этой уникальной и удивительно цельной коллекции. Как это нередко бывает с истинными библиофилами, лишившись ее, Минцлов решил, по-видимому, собрать вторую библиотеку. Во всяком случае, о ней в Риге долгие годы слагались и ходили легенды, считалось, что эта вторая минцловская библиотека пропала во время оккупации города фашистами при весьма таинственных обстоятельствах, следы ее затерялись, но она «где-то есть»… Поиски пропавшей библиотеки послужили сюжетной канвой «библиофильского детектива» Ст. Рубинчика «Рукопись, найденная в саквояже» (Рига, 1978).
Сергей Рудольфович Минцлов останется в нашей памяти благородным рыцарем книги, ее большим знатоком и неутомимым тружеником. А кроме того — талантливым рассказчиком, написавшим увлекательный роман о библиофиле. Надеемся, что современный читатель получит истинное удовольствие при чтении этой книги. Несет она в себе и большой нравственный заряд, воспитывая высоко духовное и предельно уважительное отношение к ценностям культуры и их сбережению. В романе «За мертвыми душами» подлинными «героями» являются сами старинные книги, излучающие невидимый, но всепроникающий свет культуры. Они противопоставлены «живым» персонажам, ведущим, как правило, выморочное, тусклое, полурастительное существование. В романе Минцлова книги становятся реальнее тех живых, которые, как сказал еще Петрарка, «только потому считают себя живыми, что видят собственное дыхание в холодном воздухе».
Примечания
1
«Думский альманах» — под таким названием в Петербурге в 1906 г. действительно вышел альманах из 16 страниц, который представлял собой альбом карикатур. Экземпляр этого издания имеется в Отделе эстампов ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград). Имя издателя на нем не указано.
(обратно)2
Родовое имение М. И. Глинки находилось в селе Новоспасском, Ельнинского уезда, Смоленской губернии.
(обратно)3
В данном случае — художественный вымысел Минцлова: Фирский и его жена к семье М. И. Глинки не имеют никакого отношения. Судьба имения сложилась драматично. После смерти М. И. Глинки, в 1857 г., имение было переведено на имя его младшей сестры Ольги Ивановны, которая вскоре скончалась. Ее муж, генерал-майор Н. А. Измайлов, жил в Петербурге, имением не интересовался и в 1875 г. продал его местному купцу Ф. Т. Рыбакову. Главный дом и ряд флигелей были разобраны новым владельцем, усадьба пришла в запустение. Лишь в 1911 г. губернские власти вспомнили о доме и послали в Новоспасское ельнинского исправника, который изложил в своем рапорте: «Из вещей, принадлежавших покойному композитору в имении Новоспасское, ничего решительно не сохранилось… мебель, посуда, картины, зеркала и прочее, находившееся в доме в селе Новоспасском, было распродано владельцем имения купцом Рыбаковым» (см.: Сальников Г. И. Глинка в Смоленске. М., 1983. С. 57). В 1982 г. старинная усадьба Глинки была восстановлена по старым рисункам и чертежам, в селе открыт мемориальный музей композитора.
(обратно)4
В докладе С. Р. Минцлова Русскому Библиологическому Обществу нарисована такая картина: «На большом дворе стоит заброшенный, покосившийся от старости дом. Зал в нем с полуобвалившимся потолком, местами виднеются следы позолоты, старинная мебель ломаная. Здесь и рояль Глинки с видными еще на нем остатками инкрустаций; здесь он стоит на чурбанах. А в другой, не менее запущенной комнате расположились куры. Тут-то и помещается библиотека. В ней много редких, замечательных изданий времени, например, Анны Иоанновны. Все они испорчены от времени, многое порвано, изгажено, растеряно». Очевидно, Минцлов побывал там в конце 90-х годов, когда кое-что из вещей, обстановки и книг еще не было до конца распродано или уничтожено.
(обратно)5
«Описание о Японе…» — См.: Книгохранилище С. Р. Минцлова. Спб., 1913. № 1839. Книга вышла двумя изданиями — в 1734 и 1768 гг.
(обратно)6
«Дивный терем стоит…» — первая строка из романса М. И. Глинки на стихотворение Е. П. Ростопчиной «Северная звезда».
(обратно)7
«Все в прошлом» — картина художника-передвижника В. М. Максимова.
(обратно)8
«Река времен в своем стремленьи…» — начальные строки одноименного стихотворения Г. Р. Державина (1816).
(обратно)9
«Мертвый в гробе мирно спи…» — заключительные строки баллады В. А. Жуковского «Торжество победителей» (перевод баллады Шиллера «Победный праздник») Минцлов приводит не совсем точно. У Жуковского:
Спящий в гробе мирно спи:
Жизнью пользуйся, живущий.
(обратно)10
Батеньков — этот персонаж не имеет никакого отношения к семье видного декабриста Г. С. Батенькова.
(обратно)11
«Москвитянин» — журнал славянофильского направления, выходивший в Москве с 1841 по 1856 г. под редакцией М. П. Погодина.
Журнал «Современник», основанный А. С. Пушкиным, издавался в Петербурге с 1836 по 1866 г.
Упоминаются труды известного фольклориста, этнографа и собирателя Ивана Михайловича Снегирева (1799–1868): Русские в своих пословицах. Рассуждения и исследования об отечественных пословицах и поговорках. Кн. 1–4. М., Университетская тип., 1831–1834; Русские простонародные праздники и суеверные обряды. Кн. 1–4. М., Университетская тип., 1837–1839.
(обратно)12
«Плач, или Ночные мысли о жизни, смерти и бессмертии»… — эта книга английского поэта Эдуарда Юнга (1683–1765), вышедшая первым изданием в 1742–1745 гг. в девяти книгах, переводилась в России в XVIII в. Она неоднократно упоминается в произведениях русских писателей и, видимо, пользовалась большой популярностью, особенно в провинции. Если «покойный барин» у Минцлова лишь только «в ручках своих перед сном держивал… для сну», то гоголевский почтмейстер из «Мертвых душ», «впадая более в философию», читал «весьма прилежно Юнговы ночи, из которых делал весьма длинные выписки по целым листам».
(обратно)13
Лампопо — шутливый перевертыш, означающий «пополам». По В. И. Далю — «напиток из холодного пива, с лимоном и ржаными сушками» (Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. С. 236). В романе Н. С. Лескова «Соборяне» Термосесов называет так напиток, состоящий из смеси пива и меда. «Какое же это ланпопо? — возражает ему дьякон Ахилла. — Это у нас на похоронах пьют… пивомедие называется».
(обратно)14
«Наша семейная летопись» Авенариусов — автор этой книги — Н. П. Авенариус, брат известного в свое время беллетриста В. П. Авенариуса.
(обратно)15
Имеются в виду «Воспоминания из моей частной и служебной деятельности (1834–1850 гг.)» В. Бурнашева (М., 1873). Эта книга зафиксирована в «Книгохранилище С. Р. Минцлова» под № 1056 с пометкой: «Напечатано 50 экземпляров, с автографом». Минцлов далее сообщает, что в его собрании имеется также вырезка из журнала «Русский вестник», в котором были первоначально напечатаны эти воспоминания с автографом М. И. Пыляева, крупнейшего знатока петербургской и московской старины, а также его четверостишием, где М. И. Пыляев высмеивал и автора воспоминаний, и редактора консервативного журнала М. Н. Каткова:
Не удивляйся Бурнашеву,
Что подсунул ложь Каткову;
Не удивлюсь я и Каткову,
Как поверил Бурнашеву!
(обратно)16
Очевидно, имеются в виду следующие книги поэта И. М. Долгорукого: Журнал путешествия из Москвы в Нижний, 1813 год. М., 1870; Путешествие в Киев в 1817 году. М., 1870. Оба эти издания зафиксированы в упоминавшемся «Обзоре записок, дневников, воспоминаний…». Книги такого рода, как было указано ранее, особенно интересовали автора романа.
(обратно)17
«Житие и славные дела Петра Великого» [с предположением краткой Географической и Политической Истории о Российском Царстве»] — книга была впервые напечатана в двух частях в типографии Дмитрия Феодози (Венеция, 1772). Начиная с «Опыта российской библиографии» В. С. Сопикова, авторство долгое время приписывалось Д. Феодози. (См.: «Книгохранилище С. Р. Минцлова», № 585.) Б. Унбегаун, автор статьи «Труд Захария Орфелина о Петре Великом и его петербургское издание» (Временник Общества друзей русской книги. Вып. IV. Париж, 1938. С. 209–222), доказал, что эта работа принадлежит перу известного сербского писателя и гравера Захария Орфелина. Подтверждает это и «Сводный каталог русской книги XVIII в.» (М., 1964. Т. 2. №№ 5027–5028). Этот труд был переиздан в Петербурге через два года после венецианского издания — в 1774 г., под редакцией и с примечаниями М. М. Щербатова.
(обратно)18
Письма царевича Алексея Петровича к его родителю. Одесса, 1849.
(обратно)19
В так называемой шестой книге были записаны самые древние дворянские фамилии России.
(обратно)20
Издательница Е. Н. Ахматова выпускала в Петербурге во второй половине XIX в. ряд журналов, наполненных, как правило, развлекательной переводной беллетристикой — произведениями Постава Эмара, Понсона дю Террайля, Поля де Кока и т. п.: «Собрание иностранных романов, повестей и рассказов в переводе на русский язык» (1856–1885); «Дело и отдых. Чтение для мальчиков и девочек всех сословий» (1864–1866); «Сборник переводов для детского чтения с картинками» (1867–1868). Известна и как детская писательница.
(обратно)21
Библиотека для чтения»— под таким названием в Петербурге выходили два журнала: «Библиотека для чтения. Журнал словесности, наук и художеств…», издававшийся с 1834 по 1865 г. Журнал был создан по инициативе первого его редактора О. И. Сенковского («Барона Брамбеуса») и финансировался A. Ф. Смирдиным. В первое десятилетие своего существования снискал огромную популярность в провинциальной дворянской среде. Под таким же названием в 1875–1885 гг. выпускал журнал В. И. Сахаров. В нем публиковались преимущественно переводные романы, рассчитанные на невзыскательный читательский вкус. Скорее всего, последний и был в усадьбе Павловой.
(обратно)22
«Свет» — Минцлов, очевидно, имеет в виду литературные приложения к петербургской газете «Свет», выходившие с 1882 по 1916 г.
(обратно)23
Арий — александрийский священник (ум. в 336 г.), основатель еретического учения в христианской церкви, получившего известность под названием «арианство».
(обратно)24
Упоминаются имена известных художников, скульпторов, ювелиров и создателей мебели XVIII в.
(обратно)25
Возможно, художественный вымысел Минцлова. Однако созвучие фамилий Каменев и Каменский позволяет предполагать, что имеется в виду портрет генерал-фельдмаршала М. Ф. Каменского (1738–1809).
(обратно)26
Поэма Я. П. Полонского под таким названием вышла впервые в свет в 1859 г. (См.: Полонский Я. П. Стихотворения. Л., 1954. С. 421–444). Очевидно, по просьбе автора поэма была иллюстрирована B. А. Гартманом, «Картинки с выставки» которого послужили темой для фортепианного цикла М. П. Мусоргского под тем же названием.
(обратно)27
Двигаясь со своими войсками на Смоленск в 1812 г., Наполеон останавливался в некоторых дворянских поместьях. Видимо, намек на то, что, по преданию, именно в этой комнате он ночевал.
(обратно)28
Cведений о постройках Растрелли в Смоленской губернии найти не удалось.
(обратно)29
Коники для лакеев — «лавка ларем, рундук, ларь для спанья с подъемною крышкой» («Толковый словарь…» В. И. Даля. Т. 2. С. 151).
(обратно)30
Возможно, Минцлов имеет в виду село Чижово Смоленской губернии, где в небогатой дворянской семье родился Г. А. Потемкин. Речь может идти также и о селе Духовщина, превращенном Потемкиным из дворцового села в уездный город (в 15 верстах от Чижова), в котором останавливалась Екатерина II. (См.: На земле Смоленской. Памятные места Смоленской области. М-., 1971. С. 174.)
(обратно)31
Романы В. Т. Нарежного «Бурсак, малороссийская повесть. Ч. 1–4. М., Университетская тип., 1824»; «Два Ивана, или Страсть к тяжбам. Ч. 1–3. М., Университетская тип., 1825».
(обратно)32
Гельм. Алберт, или Стратнавернская пустыня. Пер. с франц. Я. Лизогуба. Ч. 1–6. Орел. Губернская тип., 1822. См.: «Книгохранилище С. Р. Минцлова…», № 1854.
Радклиф А. Замок в Галиции. Пер. с франц. Ч. 1–2. М., 1802. См.: «Книгохранилище С. Р. Минцлова…», № 1877.
Лангедокская путешественница, или Приключения госпожи Долоноа графини Дитри… Пер. с франц. И. Грешищева. М., Университетская тип., 1901. См.: «Книгохранилище С. Р. Минцлова…», № 1884.
Прохоров Л. Волшебное зеркало, открывающее секреты великого Алберта и других знаменитых мудрецов и астрономов… М., 1801. См.: «Книгохранилище С. Р. Минцлова…», № 1865.
(обратно)33
В этом же каталоге под № 34 в разделе «Папки с рукописями» с пометой «Подлинные письма гр. Аракчеева» приведено описание писем, хранившихся у Минцлова.
(обратно)34
«Страшная пустошь» — так купец Чижиков перевирает название упоминавшейся выше повести «Стратнавернская пустыня».
(обратно)35
Минцлов, по-видимому, слегка изменяет название религиозной секты 70—80-х гг. XIX в., получившей название «пашковство» по имени ее основателя, отставного полковника гвардии В. А. Пашкова.
(обратно)36
«Поэтические воззрения славян на природу» — главный труд крупнейшего исследователя и собирателя памятников народного творчества А. Н. Афанасьева (1826–1871); вышел в трех томах в 1866–1869 гг.
(обратно)37
Подразумеваются очень популярные в среде радикально настроенной молодежи книги немецких философов. Д. Штраус (1808–1874) был известен прежде всего своим трудом «Жизнь Иисуса», в котором считал Иисуса реальной исторической личностью, отвергая достоверность евангелий; Л. Бюхнер (1824–1899) — книгой «Сила и материя», написанной с позиций вульгарного материализма.
(обратно)38
То есть за три 50-рублевые ассигнации.
(обратно)39
«История Российская от древнейших времен» кн. М. М. Щербатова (1733–1790), выходившая в XVIII веке.
(обратно)40
«Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» — научно-литературный журнал энциклопедического характера, издававшийся Академией наук в Петербурге с 1755 по 1764 г. Всего вышло 20 томов.
(обратно)41
Выходил в Москве в 1823–1833 гг. В основном публиковал переводы «чувствительных» романов и повестей французских писательниц.
(обратно)42
Дон Цезар (Сезар) де Базан — один из персонажей драмы Виктора Пого «Рюи Блаз» (1833). Позднее, в 1844 г., появилась пьеса двух французских драматургов Дюмануара и д’Эннери «Дон Сезар де Базан».
(обратно)43
Тит Ливий (56 г. до н. э. — 77 г. н. э.) — автор «Римской истории от основания города».
(обратно)44
Ламартин, Альфонс (1790–1869) — французский писатель и политический деятель, автор «Истории жирондистов» (1847).
(обратно)45
Мирабо, Оноре Габриель Рикети (1749–1791) — граф, деятель Великой французской революции.
(обратно)46
Шпильгаген, Фридрих (1829–1911) — немецкий писатель; в России, в среде революционеров-народников широко распространялся другой его роман — «Один в поле не воин».
(обратно)47
Рубинштейн А. Г. (1829–1894) — русский композитор и пианист.
(обратно)48
Запрещенные лондонские издания — книги, изданные в 50—60-е гг. XIX в. Вольной русской типографией в Лондоне, основанной А. И. Герценом.
(обратно)49
Дашкова Е. Р. (1744–1810) — княгиня, известная деятельница русской культуры XVIII в., президент Российской академии, оставившая ряд интересных мемуаров.
(обратно)50
Подразумеваются женские портреты французского художника Жана Батиста Грёза (1725–1805).
(обратно)51
«Фонарики, сударики…» — из стихотворения И. П. Мятлева (1796–1844), положенного на музыку и ставшего популярной песней. С 50-х годов XIX в. постоянно включалось в лубочные песенники.
(обратно)52
Балакирев — имеется в виду И. А. Балакирев (род. в 1699 г.), дворянин и офицер, служивший Петру I, а затем шутом при дворе Анны Иоанновны. Ему приписывались многочисленные анекдоты, изречения, остроумные выходки. См. книгу Н. Полевого «Собрание анекдотов Балакирева» (Спб., 1830).
(обратно)53
Красавец Садко-Ершов — речь идет об известном драматическом теноре И. В. Ершове (1867–1943), солисте Мариинского театра.
(обратно)54
Речь, очевидно, идет о самоучителях хорошего тона и модных журналах, выпускавшихся русским книгоиздателем Г. Д. Гоппе (1836–1885) во второй половине XIX в.
(обратно)55
Произведения Жоржа Бормана — продукция известной кондитерской фирмы по производству шоколада.
(обратно)56
Заратустра (Заратуштра, Зороастр) — пророк и реформатор древнеиранской религии 6 в. до н. э. Дворянин Лазо ёрнически ссылается на книгу Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра», которая была популярна и модна в России конца XIX — начала XX в.
(обратно)57
Существует легенда о том, что Александр I не умер в Таганроге в 1825 г., а долгие годы скрывался под именем странника-монаха Федора Кузьмича.
(обратно)58
См.: Родословная рода Минцловых // Книгохранилище Сергея Рудольфовича Минцлова. Спб., 1913. С. V–XIV.
(обратно)59
Центр, гос. исторический архив СССР. Ф. 777, оп. 5, 1904 г., д. 186, л. 1–2.
(обратно)60
П-ий (Пильский П. М.) Памяти одного книгохранилища // Временник Общества друзей русской книги. Париж, 1925. Вып. 1. С. 68–69.
(обратно)61
Ставший большой библиографической редкостью, этот указатель сохранил свое справочное значение вплоть до наших дней, о чем свидетельствует и такой небезынтересный факт: в 1973 году Центральный антиквариат в Лейпциге издал его факсимильным способом.
(обратно)62
О С. Р. Минцлове как библиографе см.: Машкова М. В. История русской библиографии начала XX века. М., 1969. С. 95, 242.
(обратно)63
На титульном листе книги год ее издания не указан (как и на многих других эмигрантских изданиях тех лет), но, судя по некоторым косвенным данным и свидетельствам, выход ее нужно датировать именно этим годом.
(обратно)64
Русское Библиологическое общество существовало в Петербурге-Петрограде-Ленинграде с 1899 по 1930 год. Краткое изложение доклада С. Р. Минцлова «О собственном книгохранилище и помещичьих библиотеках в России» зафиксировано в протоколах 78-го общего собрания Общества, состоявшегося 25 января 1914 года. См.: Русское библиологическое общество. Доклады и отчеты. Новая серия. Пг., 1915. Вып. 3. С. 36–38.
(обратно)65
Пильский П. М. С. Р. Минцлов. Критико-биографический очерк // Минцлов С. Р. Мистические вечера. Записки общества любителей осенней непогоды. Рига, 1930. С. 29.
(обратно)66
Образцы библиофильской прозы XVIII — начала XX века представлены частично в сборнике «Очарованные книгой. Русские писатели о книгах, чтении, библиофилах» (М.: Книга, 1982), составленном автором этих строк.
(обратно)67
Временник Общества друзей русской книги. Париж, 1925. Вып. 1. С. 43–51.
(обратно)68
Друганов И. А. Библиотеки ведомственные, общественные и частные и судьба их в советскую эпоху // Сов. библиография. 1933. № 1–3. С. 185–212; 1934. № 2. С. 43–79; № 3–4. С. 127–167.
(обратно)69
Списки членов Общества печатались на последних страницах «Временника…».
(обратно)70
Дни. 1925. № 633 (5 февр.).
(обратно)







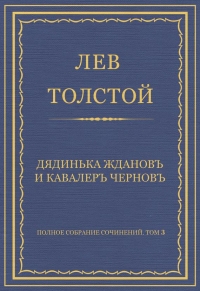
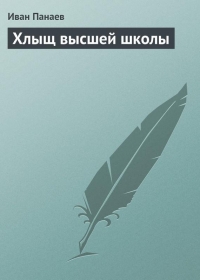
Комментарии к книге «За мертвыми душами», Сергей Рудольфович Минцлов
Всего 0 комментариев