Иероним Ясинский Бунт Ивана Иваныча
I
Иван Иваныч Чуфрин встал рано; ему не лежалось.
Солнце играло на полосатых обоях его кабинета, на лакированном дереве мягких кресел, на бронзовой крышке огромной чернильницы, на хрустальной вазе, где в рыжей воде увядал букет цветов, распространяя кругом травянистый, болотный аромат, на стёклах гравюр и фотографий, на крашеном полу; и воздух в широких снопах света, лившихся косо из окон, завешенных до половины тёмной драпировкой, был нагрет и сиял, слегка туманный от пыли.
Иван Иваныч окинул недовольным взглядом обстановку кабинета и подумал: «Последний раз, слава Богу, дышу этой мещанской атмосферой».
Подойдя к зеркалу, он разгладил чёрные, шелковистые усы на своём красивом лице, с тёмными глазами, с белым лбом и горбатеньким носом, вздохнул и сладостно зевнул, потянувшись.
Потом он улыбнулся долгой, вдумчивой улыбкой, сел на диван, откинувши голову, и заломил руки со счастливым и мечтательным выражением лица.
Он сидел так минут пять, повторяя: «Свободен, свободен!»
И ему казалось, что до сих пор он был в тюрьме, в цепях, окружённый каким-то промозглым мраком, а теперь пред ним раскрыли двери его подземелья, и он видит в перспективе радужные дали, в дымке которых носятся светлые призраки. Всматриваясь в их черты, он узнаёт себя и её, свою дорогую Сонечку, и свет, которым они там дышат и живут, радует его глаз и наполняет его сердце блаженной тоской.
— Ах, когда б уж скорей выбраться отсюда! — произнёс он. — Действительности хочется, настоящей жизни, а не грёз!
Но мечты были назойливы и так приятны, что он не отгонял их, и они снова завладевали им, усыпляя его тревогу на несколько мгновений. Они сами то улетали, то прилетали, то по одной, то разом, и брови его перестали, наконец, хмуриться. В сотый раз перебирал он в памяти все обстоятельства знакомства своего с Сонечкой.
II
Год тому назад, он увидел худенькую барышню, с золотистыми, подрезанными и вьющимися волосами, большими ясными глазками и выразительным ртом, — на половине своей жены, Полины Марковны, учившей в местной женской гимназии музыке. Барышня поклонилась ему как-то бочком, сделав очень серьёзное лицо, и продолжала начатый разговор. Полина Марковна предложила ей курить, она закурила. Иван Иваныч повертелся в комнате минут пять, спросил что ему было надо, и вышел.
За обедом жена сказала ему:
— А заметил?
— Что? — произнёс он, хотя сейчас же понял, что означает вопрос жены, но почему-то притворился, что не понимает.
— Да вот эту девушку, что была…
— Ах, эту девушку! Нет, почти не заметил, — отвечал он и вопросительно взглянул на жену, как бы желая сказать выражением своих глаз, что девушкой он не интересуется, но узнать, что это за птичка такая — не прочь.
— А это Сонечка Свенцицкая, наш феномен, — сказала жена в ответ на его взгляд. — Сейчас она получила аттестат и заходила проститься. На лето едет в деревню. У неё отец, кажется, порядочный деспот и с известными взглядами, так что его трудно переделать, но она хочет подкупить его золотой медалью, чтоб он позволил ей вернуться осенью сюда — уроками заняться… Премилая девочка, иногда бойкая, а иногда презастенчивая… Впрочем, ей идёт это. Главное, начитана и хорошо рисует и лепит. У меня есть один рисуночек её, акварелью, прелесть! Показать?
— Покажи… когда-нибудь! — сказал он равнодушно и даже хотел зевнуть.
— После обеда покажу. Прелесть, говорю тебе, — убеждённо повторила Полина Марковна, и, съев с аппетитом несколько ложек супу, опять начала приятно улыбаться. — А заметил, какие у неё глаза? Проницательные и тихие такие…
Ему сделалось неловко. Он усмехнулся.
— Глаз-то уж совсем не заметил, то есть… глаза как глаза, — произнёс он и стал прилежно есть.
Он лгал, что не заметил глаз Сонечки. В первый раз с тех пор, как он женился (совсем юношей), сумрак окружавших его будней осветился на мгновение кротким блеском этих глаз, и он не мог забыть их ни на секунду. Тревожное чувство волновало его, ему было и стыдно, и досадно.
Жена сказала:
— Нет, мой душоночек, вижу, ты ужасный нелюдим. Помилуйте, не заметить такой жемчужинки!
Покончив с супом, она принялась за ножку цыплёнка.
— А ведь, пожалуй, если она вернётся, то выйдет замуж, — продолжала она. — Лозовский за ней серьёзно ухаживает. Да, мне кажется, и она к нему неравнодушна. Во всяком случае, это не будет неожиданностью. Ну, что ж, и Господь с ними, они — пара. Он тоже умный человек и этакой, хоть и шутник, но положительный…
Иван Иваныч процедил:
— Д-да…
Со Свенцицкой он не встречался затем около полугода, и то впечатление, которое она произвела на него, изгладилось, хотя не совсем, потому что скука его жизни грызла его чаще прежнего, окружающий мрак казался беспросветнее, а в минуты разлада с женою, выплывало из глубины душевной сожаление, что он слишком рано закрепостил себя, и что всё могло бы устроиться иначе, будь он теперь свободен. Он чувствовал себя одиноким, и общество Полины Марковны только обостряло это чувство.
Стоял сентябрь. Иван Иваныч не пошёл на службу, а забрался в городской сад, густой и большой, разросшийся на склоне крутого берега.
Высокие вязы и дубы протяжно шумели. В остывающем воздухе крутились красно-бурые листья и шуршали под ногами. Лучи солнца обливали землю нежно-янтарным блеском. Чувствовалось, что лето кончается.
Иван Иваныч шёл, сняв фуражку, скорым шагом. Он негодовал на жизнь, находил её пошлой. Вот ему теперь двадцать три года, размышлял он, а уж его жизненная песенка спета. Возврата нет. Он преждевременно постарел, чиновно-солиден, хотя трепещет начальства, и смутился бы, встретив в этот час, неположенный для прогулок, где-нибудь на повороте аллеи, Павла Кириллыча, управляющего канцелярией. Сослуживцы завидуют ему, пророчат карьеру, и червь крапивного честолюбия уже по временам щекочет его. Он вспомнил, как однажды промечтал всю ночь о месте управляющего, представлявшемся ему в далёком будущем целью его служебного усердия. Ему сделалось совестно. Вспомнилось также, как в начале его поступления на службу секретарь учил его подавать начальнику газету, и как он стал её подавать, размеченную синим карандашом, приятно изогнув стан. И ему опять сделалось совестно.
Деревья всё шумели. Это был тихий, меланхолический шум. Сверкая, проносилась в воздухе паутина. Пахло осенью.
Иван Иваныч сел на скамейку, влажную кое-где от дождя, который шёл ночью, и обросшую мхом. Он закурил папиросу, глядя вдаль, в чащу деревьев, где местами просвечивало бледно-голубое небо. Неопределённая тоска мучила Чуфрина. Правда, в этом тосковании было что-то приятное. Он готов был бы просидеть так долго, лишь бы не тревожили его соображения о разных неприятных сторонах его действительности. Но они поочерёдно занимали его ум и мешали ему забыться.
Полина Марковна была высокая, грудастая двадцатишестилетняя блондинка, со свежим, красивым лицом и большими, красными, сильными руками. Ему было девятнадцать лет, когда он встретился с нею на одном сельском вечере в доме, где жил в качестве домашнего учителя. Тогда он любил всё американское, и образцом человека был для него деятельный и самостоятельный янки. Он даже о переселении в Америку подумывал. Полина Марковна так самостоятельно хохотала, так красноречиво отстаивала права женщины, так превосходно играла персидский марш (между прочим), так смело смотрела на Чуфрина, не скрывая, что любуется им, так мило болтала с ним в тёмной аллее и так искренно жаловалась, что ей, пожалуй, придётся просидеть весь век в девах и ни разу не узнать, в чём заключается счастье взаимной любви, что он тут же влюбился в неё, стал ездить в Анисовку и через месяц сделал предложение. Полина Марковна выслушала его, зардевшись, схватила, в радостном порыве, за обе щеки пальцами, точно он был маленький мальчик, и крепко поцеловала его в губы долгим, ноющим поцелуем — с ним чуть обморок не сделался. Потом повела его к матери и представила как жениха, на что старуха, критически взглянув на него своим единственным глазом и пожевав губами, произнесла:
— Жиденек он, Павличка, для тебя. Тебе мужчина нужен крепкий. А это какой же мужчина? Это — красная девушка. Но, впрочем, твоё желание такое, и я не вольна идти вопреки. Господь благословит тебя!
Махнув рукой, она потянулась к своей черепаховой табакерке, и аудиенция кончилась.
Всё это было чрезвычайно по-американски. Но самое американское предстояло впереди. Объявив Ивана Иваныча своим женихом, Полина Маркова стала с этого момента обращаться с ним с какой-то материнской заботливостью. Вечером, она не отпустила его домой, потому что поднялся туман, и он мог заблудиться в поле, и оставила его ночевать. Она сама постлала ему постель в зале и долго играла, пока у него не стали слипаться глаза, и гром его любимого персидского марша не превратился в грохот какой-то фантастической битвы, где Полина Марковна предводительствовала войсками, вся в пороховом дыму. Заметив, что он засыпает, она ушла. Но едва он лёг и вторично заснул, как почувствовал, что он не один, что возле него дышит чья-то грудь. Ему сделалось страшно, ужас стиснул его сердце, он крикнул и проснулся. Действительно, на коленях, положив голову на его подушку, стояла Полина Марковна в ночной блузе и смотрела на него широкими глазами.
— Тише, глупенький, — прошептала она, улыбаясь. — Зачем вы кричите и пугаете вашу жену?
Защипнув его щёки сильными пальцами, она опять поцеловала его тем долгим ноющим поцелуем.
Он чуть не задохся. Голова его кружилась, но сон прошёл.
Светало. Он протянул руки к Полине Марковне…
Когда утром он возвращался к себе, и золотая рожь волновалась кругом как море, вея на него медовым ароматом, он горделиво поздравлял себя с победой. Это была его первая победа. Но в глубине души таилось сознание, что победа эта похожа на поражение, и что, во всяком случае, она и последняя.
Осенью он женился. Полина Марковна сказала ему после венца, что он — честный человек, и сконфузила его… Разве он не по любви женился? Он с недоумением посмотрел на жену и впервые заметил, что она старовата для него, и что другой, на его месте, пожалуй, действительно, «хвостом прикрылся бы».
— Ах, зачем?.. — с тоской спросил он себя теперь.
Он находил, что все последующие четыре года его жизни с Полиной Марковной неопровержимо доказали только, что поступил он неразумно, действительно. Куда девалась его любовь к Полине Марковне? И вообще ко всему американскому? Не этот ли американизм, — спрашивал он себя, — был причиною его охлаждения к ней? В самом деле, неприятно, когда у жены сильные руки, и она играет тобою как мячиком, а главное, щиплет тебя за щёки. От этих щипков у него случались синяки. Она была самая безукоризненная жена, правда; дом держала в порядке и даже в некотором блеске; всегда у неё служили образцовые кухарки; умела принять гостей и сделать так, чтоб им не было скучно; она была умна и более или менее начитана, хотя ничего не смыслила в поэзии, но не смыслить в высоком считалось в то время модной добродетелью, и это не кидалось в глаза; зарабатывала в год до тысячи рублей и ни гроша не стоила мужу, принеся ещё, кроме того, в приданое, более двухсот десятин великолепнейшего чернозёма; считалась первой музыкантшей в городе, несколько бездушной, но с замечательной беглостью; вообще, чуть ли не во всех отношениях, она стояла целой головой выше дам, которых знал Иван Иваныч. Наконец, она его любила слепо, сумасшедшей любовью. Он это знал и думал, что было бы лучше, если б она так же простыла, как и он.
— Я неблагодарен, гнусно неблагодарен, — говорил он себе, — что плачу ей равнодушием, скрытым, похожим на какую-то тихую ненависть. Но что же делать, если я не люблю её? Она для меня так вот противна как служба, на которую она же меня заставила поступить. Противна и баста!
Он с отвращением припоминал разные мелочи, которые, накопляясь, воздвигли между ним и Полиной Марковной целую стену. По утрам она долго лежит в постели, в комнате с закрытыми ставнями, и кричит оттуда нежным голосом, чтоб он пришёл, — выслушал её сон. И это каждый день, потому что ей всегда снится что-нибудь удивительное! Он повинуется и даже притворяется, ласкаясь к жене, а в душе его кипит досада. Затем Полина Марковна встаёт и прежде всего полощет горло, но так громко, что хоть уши затыкай. Всё это смешные пустяки, но они раздражают его. За чаем она много ест, и когда он уходит на службу, то, сияющая и красная от усердной еды, целует его жирными губами, от которых пахнет ветчиной или сыром. О персидском марше, который прежде ему так нравился, он уже и не говорит: этот марш сделался его истинным мучением, так часто исполняет его Полина Марковна, — конечно, чтоб восхитить мужа. Приветливая со всеми, она холодна и почти жестока с прислугой, для которой, за разные провинности, установила штрафы, взыскиваемые с неумолимой аккуратностью при выдаче жалованья. Иван Иваныч, потихоньку от жены, возвращает штрафы прислуге под предлогом платы «на чай», но это всё-таки мало примиряет его с некрасивостью факта. Самое же неприятное в Полине Марковне — привычка разглаживать себе пальцами брови, чтоб они лучше лежали. Такую же привычку имела мать Ивана Иваныча, но тогда привычка эта не казалась ему невыносимой, а теперь его всего коробит. Отчего это? Он не мог себе объяснить этого. Но, конечно, думал он, из-за какого-нибудь жеста нельзя же взять да и разлюбить человека. Нет, тут что-то другое. «Тут всё вместе — вот что!» — неопределённо решал он.
Случались и ссоры между ними — пока без скандалов, без крика и брани, но всё-таки тяжёлые. Они расходились по разным комнатам и молчали. Иван Иваныч тихонько рвал на себе волосы и проклинал час, когда познакомился с Полиной Марковной. Грудь его болела от немого гнева и тупого отчаяния. Полина Марковна кидалась на постель, лицом в подушки, или на диван, и плакала, находя, вероятно, что муж мало её любит, иначе не спорил бы с нею. К обеду или чаю она выходила с красными глазами и лицом, покрытым багровыми пятнами. Эти ссоры вызывались преимущественно несогласиями в политических вопросах, так как Иван Иваныч не выносил в близких людях сколько-нибудь консервативных идей. Чем сильнее втягивался он в чиновничью жизнь, с её сплетнями, интригами, попойками, послеобеденными снами, картами и проч., тем ревнивее оберегал он клочки идеала, оставленного ему в наследство ранней молодостью. Его раздражало, когда неделикатно тревожили эти реликвии, составлявшие единственное украшение его внутреннего мира. Губы его дрожали, и он говорил себе со злостью:
«Всё стерплю, Господь с нею; но этого — нет! — Этого нельзя!»
Однако же, когда приходило время спать, супруги заключали мир, и обе стороны оставались довольны, потому что натянутое положение терзало их, и они рады были выйти из него. Шаг к примирению делала Полина Марковна, обыкновенно за ужином, вдруг подкладывая мужу лакомый кусочек и ласково прося его, чтоб он съел его. Он, радуясь перемене ветра, начинал думать, что не следует ссориться из-за убеждений, что просто смешно оскорбляться неодинаковостью взглядов на вещи, что впредь спорить с женою он не будет, и протягивал ей руку, улыбаясь, а она отвечала, вся сияющая, чувствительным щипком, от которого он слегка морщился.
«К чему это я всё о ней, да о ней?» — подумал Иван Иваныч, отгоняя от себя назойливый рой воспоминаний, и потускневших от времени, и совершенно свежих, и нетерпеливо ударил по земле тросточкой, так что влажный песок брызнул.
«Нет, никуда от неё не уйдёшь, нигде не спрячешься!» — прошептал он с тоской и встал.
Послышались голоса и шорох листьев. Шли с правой стороны. Иван Иваныч тревожно прислушался. Голоса становились яснее, часто звенел молодой женский смех, мелодично замирая в тихом шуме, которым осень наполняла желтеющий сад, и ему вторил мужской хохот, счастливый и сочный. Вот показалась, наконец, и сама пара. Иван Иваныч узнал Лозовского и Свенцицкую.
Лозовский шёл в чёрной пуховой шляпе и походил на красивого итальянского бандита, такой он был бородатый, черноглазый, и такая у него была походка — твёрдая и самоуверенная. Свенцицкая расцвела за лето и производила впечатление розы, внезапно распустившейся в этом блекнущем саду. Тиролька с огромными полями и розовыми лентами бросала на её смеющееся и сверкающее молодостью лицо какую-то горячую тень. Золотые волосы, мягко кудрявясь, падали до плеч и чуть-чуть развевались ветром. Бледно-зелёный бант был прикреплён на груди, и концы его теребила загорелая ручка с длинными пальцами. Во всей её фигуре, тонкой и соразмерной, была бездна чего-то милого, какой-то своеобразной грации, чего-то, что не встречается у других женщин, что составляет её особенность.
Иван Иваныч смотрел на неё во все глаза, и сердце его билось как от испуга.
«Вот она, эта девушка», — думал он. «А вот её жених», — подумал он, ревниво взглянув на Лозовского, и приподнял фуражку; ему вдруг показалось чрезвычайно важным, узнает его или нет Свенцицкая.
Лозовский ответил на его поклон по-приятельски, сверкнув белыми зубами и бросив ему радостный взгляд. Свенцицкая сделала серьёзное лицо и кивнула головой, бочком, как и в тот раз. А он стоял и улыбался. Он слышал шум её платья, и ему казалось, что мимо проходит сама весна, существо идеальное, недосягаемое, но всё-таки ведающее, что на белом свете живёт некто Иван Иваныч Чуфрин.
Когда пара скрылась из виду, и голос девушки совсем стих в отдалении, Иван Иваныч поднёс платок к лицу. Лоб его горел, ему было жарко. Кругом сад казался пустыней. Природа засыпала, слабо борясь ещё с дремотою, но уже чувствовалось, что зима не за горами. Молодой человек долго с завистью смотрел вслед за исчезнувшею парой.
Целую неделю затем он тосковал самым мучительным образом, просиживал у открытого окна часы и угрюмо молчал, а в душе его слагались грёзы удивительно яркие, снились золотые, несбыточные сны, рассказать которых он никому не мог бы, потому что и слов не достало бы, и стыдно сделалось бы, как бывает стыдно девушке, впервые открывшей в себе что-то, что даёт ей право на мечту о милом. Когда же он покидал на время этот никем посторонним незримый, фантастический мир, благодаря службе, или гостям, или Полине Марковне, то действительность только ярче выделяла пред ним блеск этого странного мира, такою она казалась тёмною и пошлою. Но бывали моменты, когда и она загоралась ярким светом точно небо, на котором в ненастье вспыхивают радуги. Моменты те были встречи со Свенцицкой и разговоры с ней, и иногда длились целые вечера, так как Свенцицкая стала бывать у Чуфриных всё чаще и чаще, преимущественно вместе с Лозовским, вечно радостным и ликующим. Разговоры велись обо всём — о том, что денег в России мало, урожаи плохи, мужик голодает, о том, что классицизм вреден (тогда он только что вводился), что Некрасов — великий поэт, что Фурье — симпатичнейший социолог, что свобода совести — залог благоденствия народов, что провинциальная среда заедает. Велись они весьма обыденно, больше общими местами. Но Ивану Иванычу не было до этого дела. В некоторых фразах Сонечки, он узнавал свои фразы, которыми выстреливал шесть лет тому назад, и которые были заимствованы из тогдашних журналов. Он радовался этому и отвечал такими же фразами, на которые Сонечка только вскидывала на него глазами, как бы в знак солидарности с ним. А он напрягал память и опять произносил что-нибудь красивое, опять выхваченное из какой-нибудь книжки «Современника» или «Русского слова». Вообще в присутствии Свенцицкой он сильно заботился, чтоб произвести хоть небольшой эффект своей особой, оживал, глаза его горели, и пальцы рук слегка дрожали, он смеялся (немного ненатуральным смехом), шутил, рассказывал анекдоты, был усиленно ласков с Лозовским и замечал, что и ходит, и сидит, и говорит иначе, чем в обыкновенное время — как-то уже чересчур красиво, точно, помимо его воли, сама его фигура заботится о том, чтоб быть приятной.
Встречи со Свенцицкой случались где-нибудь на улице или в низеньких коридорах тускло освещённого театра. Чуфрин упразднил послеобеденный сон и взамен сделал привычку ходить по городу, «без всякой цели, — говорил он себе, — куда глаза глядят», но при этом всегда внутри него что-то копошилось неугомонное и непрестанно как бы заявляющее ему о том, что цель у него есть, и что следует ходить преимущественно вот по таким-то и таким-то улицам. Вот виднеется каменный дом купца Переканаева, с дочерьми которого занимается Сонечка, а вон квартира генеральши Онупренко, чопорной и смешной аристократки, у которой Сонечка тоже даёт уроки. Невольно проходил мимо этих пунктов Иван Иваныч по несколько раз и затем с тоскою отходил прочь, когда ему начинало казаться, что на лицах идущих и едущих играет вопросительная улыбка — «с какой, — мол, — это стати господин Чуфрин на этом самом месте вот уже целый час гуляет?» Завидев вдали женскую фигуру, похожую на фигуру Свенцицкой, он прибавлял шагу и досадовал, если ошибался, но зато был безмерно счастлив, когда ошибки не случалось. Радостный смех вылетал из его груди, и он произносил: «А, здравствуйте!» таким тоном, как будто не видался с девушкой сто лет. Он осыпал её разными заурядными вопросами — о здоровье, уроках, занятиях, искренно интересуясь всем, что касалось девушки. Она на всё отвечала и, значит, давала право на дальнейшие вопросы в том же роде. Разговаривая, они доходили до самого того дома, с зелёным палисадником и тополями, в котором жила Сонечка. Она толкала калитку и прощалась с ним, повернув к нему голову. Зимний день догорал; голубоватый снег сверкал розовыми искорками; небо затягивалось холодными облаками; мороз лютел. Но Иван Иванычу было тепло, и розы на щеках Сонечки были ему милее настоящих роз. Когда калитка захлопывалась, улица вдруг пустела. Иван Иваныч, однако, чувствовал себя некоторое время хорошо. Улыбаясь, шёл он назад, и ему было приятно видеть на снегу следы ног Сонечки рядом со следами своих ног.
В театре весь сезон давались плохо обставленные пьесы, и местную интеллигенцию привлекал своей удивительной игрой только актёр Шарамыкин, замечательный талант, которому случай не дал возможности прогреметь по всей России, но который был выше Шумского, по мнению Ивана Иваныча. Сонечка тоже восхищалась Шарамыкиным. Когда явление его кончалось, и он уходил со сцены, Сонечка покидала ложу и бесшумно и медленно бродила по коридору. Иван Иваныч знал это, угадывал, как и почему волнуется душа девушки, сочувствовал ей и рвался поделиться с ней этим сочувствием. Но, несмотря на обилие слов, готовых слететь с языка, он не произносил ни звука. Молчание коридора, на стенах которого, оклеенных атласной бумагой, трепетал бледный отсвет керосиновых огней, глухо нарушалось напряжёнными голосами актёров и актрис, которые ссорились на сцене, хохотали, говорили «в сторону» всё в одном и том же повышенном тоне. Сонечка шла возле Ивана Иваныча в своём тёмном платье с рукавами, отделанными кружевом, наклонив русую головку, и не чуждалась его, не стеснялась его непрошеным сообществом. Сомнения на этот счёт не могло быть, потому что так тепло не жмут руку, как пожимала Сонечка. А ежели она тоже молчала, то, вероятно, по той же причине, что и он. Он сознавал это или, лучше сказать, чувствовал это с каким-то тихим, блаженным ужасом и всё ждал чего-то…
После одной такой встречи он вернулся домой в странном восторге. Ничего особенно необычайного не случилось, и не было сказано ничего, что могло бы радовать, но сердце его ликовало, и он был так мил и любезен с Полиной Марковной, что та сама стала радоваться и крепко поцеловала его. Дело в том, что он заметил взгляд Сонечки, горячий и любящий, точно обнимавший его украдкой. Когда глаза их встретились, Сонечка покраснела и сделала почти строгое лицо. Но уже было поздно. Иван Иваныч крепко пожал ей руку, а она взглянула на него, опять отвернулась и покраснела ещё сильнее прежнего, и быстро ушла от него, ответив, однако, на его рукопожатие также крепко и тепло. С этой минуты Иван Иваныч вырос в собственных глазах и всю ночь не спал, повторяя: «Да, и люблю, и любим», а из сумрака на него ласково смотрели чудные глаза девушки — совсем близко…
А Лозовский? Что с ним? Подозревает он что-нибудь или ничего не подозревает? Чует ли опасность? И если в самом деле Сонечка дружески расположена к Ивану Иванычу, то есть, не дружески, а любовно, то как же относится она теперь к Лозовскому? Эти вопросы отравляли Ивана Иваныча, несмотря на радость его. Правда, — утешал он себя, — Лозовского стало что-то редко видать, и несомненно у него со Свенцицкой разладилось. Но тем не менее, надо знать всё обстоятельно. Может, у него и не было никаких серьёзных замыслов насчёт Сонечки, и всё сочинила городская молва, а может, и были, может, даже далеко заходило. Последняя мысль заставляла Ивана Иваныча с ненавистью думать о Лозовском.
Лозовский как нарочно зашёл к нему на другой день, когда он сбирался делать послеобеденную прогулку. Иван Иваныч встретил его с маленьким недоумением. «Зачем пожаловал? — подумал он. — Уж не затем ли, чтоб помешать?» Окинув его подозрительным взглядом, он поспешил улыбнуться натянутой улыбкой, которая означала и «милости просим», и «убирайся к чёрту». Лозовский тряхнул кудрями и при этом брызнул растаявшим снегом на Ивана Иваныча, подал ему руку и тоже улыбнулся, сверкнув зубами. Оба ничего не сказали друг другу, так что вышло официально. Однако, когда уселись на диване в гостиной, то разговор завязался. Лозовский начал с критики новой книжки журнала, где печатался роман, интересовавший всех по художественному исполнению и по жгучим вопросам, которых касался, а Иван Иваныч стал спорить с гостем. Спорил он любезно, не горячась, и думал: «Нет, едва ли он что-нибудь подозревает», хотя и продолжал себя чувствовать не совсем ловко. Это чувство упадало по мере того, как росла его любезность, и на момент исчезло совершенно; но, покончив спор с гостем, он заметил, что ус у того дрожит от насмешливой улыбки. Чувство неловкости тогда опять возросло у него, и в голове его мелькнуло, что Лозовский весь этот спор о романе завёл так себе, вместо предисловия к чему-то, о чём речь будет впереди. Он стал ждать, посматривая на ногти, на давным-давно примелькавшиеся картинки, висевшие по стенам, и в окно, откуда виднелся белый как молоко день, и где снег падал, медлительно и непрерывно, пушистыми хлопьями, задерживаясь на наружной стороне стёкол. «О чём же начнёт он разговаривать теперь?» — спрашивал себя Иван Иваныч и с тоской думал о Сонечке, которая, пожалуй, возвращается уж с урока, и на её меховом бурнусике, бархатной шляпке, на розовых от холода щеках и на длинных ресницах прищуренных глаз белеют и тают вот такие же снежинки. Он нетерпеливо вздохнул. Лозовский, между тем, зевнул и произнёс, глянув на Ивана Иваныча немного сверху и искоса, так как затылок его упирался в спинку дивана, а руки были заложены в карманы брюк, и ему трудно было повернуться:
— Небось, каждый день гуляете?
— Я? — спросил Иван Иваныч с испугом, потому что сказанное Лозовским по-видимому совершенно не вязалось с предыдущим разговором и слишком прямо вело к цели, то есть укрепляло его сразу в убеждении, что Лозовский подозревает, как он относится к Сонечке. — Нет, не каждый день, — сказал он и точно так же, искоса и сверху, посмотрел на Лозовского.
— Хорошая погода сегодня! — начал Лозовский, помолчав. — Люблю такую погоду. Вот и герой этого романа любит этот белый тон, этот серебряный сумрак, располагающий к мечтам. Иногда я не прочь мечтать сам, хоть и терпеть не могу мечтать о несбыточном. А вы любите мечтать? Страсть как любите, и притом о несбыточном. Замечаю по тоске ваших глаз. Да и так слыхивал я от вас сужденьица и упованьица — ого-го-го! Одним словом, вы недаром фурьерист. Так вы не каждый день гуляете? А мне казалось, каждый день.
Он снова замолчал. Иван Иваныч нахмурился.
— Видите ли, дружище, вот что я вам скажу, — вдруг начал Лозовский задушевно и понизив голос. — Мы хоть почти и ровесники, да я практичнее вас, и поэтому выслушайте меня. Ради неба, дружище!
Он крепко пожал ему руку и посмотрел в глаза дружеским взглядом. Лоб Ивана Иваныча разгладился, неловкое чувство пропало на этот раз уже совершенно. Он окончательно сообразил, к чему клонит Лозовский. «Хочет, чтоб я исповедался ему», — подумал он. Но, расположившись к нему так благожелательно, он почувствовал в то же время, что надо быть настороже, и решил всё скрывать и даже прикрыть всё ложью, приписав встречи с Сонечкой, если станет спрашивать о них Лозовский, простому случаю. Поэтому и лицо он сделал себе такое, что оно, будучи открытым, наперёд уже говорило, что «нет, брат, шалишь, ничего от меня ты не вытянешь, ибо и вытягивать нечего».
Действительно, Лозовский сначала ничего от него не вытянул. Иван Иваныч кивал головой, пожимал плечами, произносил: «ну, нет!», «помилуйте, батенька, что вы», «клянусь вам», «да уверяю же вас», всё с оттенком в высшей степени убедительной искренности и внутренне недоумевал, почему так легко ломать ему эту комедию, причём видел, что положение Лозовского постепенно становится двусмысленным, и тот уже не знает, как из него выпутаться. Лозовский, впрочем, не прямо завёл речь о том, влюблён Иван Иваныч в Сонечку или нет, и если влюблён, то чего от неё ожидает, а издали, намёками, вопросами; но, может, оттого ему и труднее было покончить с этим разговором солидно и с сохранением надлежащего достоинства. Однако же, когда-нибудь надо было покончить. Иван Иваныч, быстро давая ответы Лозовскому, всё оставался неуязвим, провидя каждый раз, что означает тот или этот вопрос, и какие произойдут результаты, если сказать так, а не этак, и в душе восхищался собою. «Экий я политик, — думал он, — право, и не подозревал!» Он сделался смел, развязен и боек. Наконец, он сказал со смехом, в котором резко прозвучала заигрывающая нотка:
— Однако, послушайте, Илья Петрович. Вы вот начали с того, что хотели преподать мне нечто вроде совета — что ж именно вы мне посоветуете и по какому поводу?
Лозовский смолк, сделал недовольную гримасу, взглянул на Ивана Иваныча так, как будто хотел сказать: «Мой совет — отстать от Сонечки», и, взявшись за шапку, застегнул пиджак, что Ивану Иванычу показалось знаком, что пора прекратить дружеские излияния и приятельскую беседу. Он пожалел, что увлёкся, хотел поправить ошибку и стал удерживать гостя, безо всякого заигрывания, прося его высказаться до конца. Но Лозовский улыбнулся в бороду, дескать «и из этого поведения твоего могу я заключить, какие у тебя чувства, а больше хитрить с тобой незачем, лицемер ты этакий», и встал, глянув в окно.
— Потолковали и довольно, — произнёс он и спросил с оживлением. — А каков роман-то, а?
Улыбка в бороду и этот вопрос лишили Ивана Иваныча твёрдости, с какой он вёл весь предыдущий разговор. Вопрос был двусмысленный. Эти двусмысленности и остроты всегда позволяли Лозовскому выходить сухим из воды. Иван Иваныч соображал некоторое время, что бы такое ответить; наконец, сказал:
— Мне нравится, да…
— Прелесть, что такое! — подхватил Лозовский. — Хотя я уверен, — продолжал он, идя из гостиной в залу, — что этот его мечтательный герой кончит какой-нибудь гадостью и заранее не сочувствую ему… Не правда ли?..
— Я с вами не согласен, Илья Петрович, — сказал Иван Иваныч слегка дрогнувшим голосом. — Герой — хороший человек…
— Уверяю вас, он — просто дрянь, — возразил Лозовский презрительно и посмотрел на Ивана Иваныча с брезгливым выражением.
— Мне кажется, — сказал Иван Иваныч, — что дрянь — этот вот филистер, который фигурирует в романе в качестве дельца и развивателя молодой барышни. Она его не любит, а он всё-таки лезет к ней со своим законным браком… Дрянь и даже свинья, — заключил Иван Иваныч убеждённо.
Лозовский иронически улыбнулся и пытливо взглянул на Ивана Иваныча, которому опять между тем сделалось досадно, зачем это он злится и обнажает перед соперником свою душу.
В передней гость, надевши пальто и шапку, произнёс с небрежным зевком:
— Что, вам не скучно? Поехали бы вместе со мной куда-нибудь… Поедемте!
— Куда? — спросил Иван Иваныч с недоумением.
— Поедемте к Сонечке, — сказал Лозовский, понизив голос. — Превесёлая девочка.
— Это какая же Сонечка? — спросил Иван Иваныч, бледнея. — Я… О ком вы говорите?
— О Свенцицкой! — отвечал Лозовский, очевидно наслаждаясь смущением Ивана Иваныча, вдруг переставшего владеть собой.
— О Свенцицкой? — сказал Иван Иваныч сурово. — Так это не Сонечка и не девочка. Это — Софья Павловна… Что за тон, как это так можно!
— Тише, пожалуйста! — благодушно молвил Илья Петрович, всё продолжая наслаждаться гневным видом Ивана Иваныча, точно это была та именно исповедь, которой он тщетно добивался от него перед этим. — Ведь я же право имею называть её Сонечкой. Да и девочка она ещё, потому что лет на восемь моложе меня. Кроме того — моя невеста. Всё давно слажено у нас, даже с её отцом. Мог бы хоть сейчас жениться, но пусть подрастёт. Ха-ха! Чего же вы так распетушились? Она была бы очень рада, если б мы приехали к ней на чай… Уверяю вас.
— Неловко, — сказал Иван Иваныч упавшим голосом и подумал с отчаяньем: «Невеста, до сих пор невеста!»
Торжествующий Лозовский продолжал:
— Почему же, спрашивается, неловко? С женихом ведь! Иван Иваныч, ведь я жених. Слышите? Никому я ещё этого не говорил, а вот перед вами похвастался, потому что вы мой друг и порадуетесь на нас. Впрочем, до вас, пожалуй, доходили вести… Меня обручили с Сонечкой раньше ещё, чем идея эта у меня зародилась. Проницательный народ наши сограждане, Иван Иваныч!.. Итак, едемте. Я в качестве жениха, а вы — в качестве кого? В качестве, например… в качестве… в качестве… друга.
Ивану Иванычу был нанесён тяжёлый удар. Лозовский, казалось ему, видит его насквозь и читает в его мыслях всё сокровенное. Политика его не удалась, он не умел сдержать себя и всё выдал своим «дурацким волнением» — упрекал он себя. Глаза Лозовского, тёмные и блестящие, смеялись из-под нахлобученной меховой шапки.
— Нет, я не поеду, — сказал Чуфрин решительно. — Сами ж насчёт проницательности сограждан говорите. Город подлый. И хотя вы и жених, но и вам неловко… Нет, я… не поеду!
— Напрасно, — произнёс Лозовский. — Впрочем, я знал, что вы откажетесь.
Он ушёл, посмеиваясь в бороду, подтрунивая над неуместной скромностью Ивана Иваныча.
Иван Иваныч стал пасмурен и чуть не заболел. «Как же это, — думал он, — неужели она таки выйдет за него? А то, что мне вчера так приветно улыбнулось — сон, плод воображения!?» Он похудел, осунулся. Мучительная тоска грызла его.
По целым дням бродил он по улицам и в лихорадочном волнении всё поджидал случая увидеть Сонечку. Но Сонечка ни разу не встретилась. Может быть, она избегала встречи с ним. Наконец, он не выдержал и отправился прямо к ней.
Он узнал её из коридора по тени, которую отбрасывала её фигура на белую занавеску. Она сидела неподвижно, точно в печальном раздумье. Грудь Ивана Иваныча вспыхнула, ему сделалось страшно.
«Зачем? — мелькнуло у него. — Назад! Ведь ты связан по рукам и ногам! Даже если б полюбила она тебя действительно, то что мог бы сделать ты? Мечтатель! Но этого мало. Она другого любит. Ты ставишь себя в нелепое положение. Над тобой смеяться будут и она, и Лозовский. Назад! Ради Бога, назад! Потом со стыда сгоришь!»
Но тянуло вперёд! Он вошёл, ободряемый воспоминанием об её взгляде, которым она осчастливила его всего на прошедшей неделе. Шёпотом спросил он у горничной, можно ли видеть барышню, и уже не помнил, как очутился в её комнате.
Сонечка пошла к нему навстречу, улыбаясь, но с глазами, широко раскрытыми от удивления. Ярко горела стенная лампа и освещала её. На ней была серая блуза, стянутая кожаным поясом со стальной пряжкой, и белые воротнички. От этого скромного наряда повеяло на Ивана Иваныча чем-то строгим. Он робко протянул руку Сонечке и посмотрел на неё почти умоляющим взглядом.
Она улыбнулась ещё раз, и, приятельски пожав его руку, — точно хотела дать ему понять, чтоб он не робел, — сказала:
— Здравствуйте, Иван Иваныч. Садитесь, будете гостем. Что, холодно? А как здоровье Полины Марковны? У неё, помнится, флюс был?..
Иван Иваныч ободрился. «Это хорошо, что она не сердится, что я пришёл», — подумал он. Потом махнул рукой и произнёс: «Что флюс!» и чуть было не приступил к изложению главной цели своего посещения, но помешало что-то в горле. Он кашлянул, сел, сказал, что мороз «ничего себе», обвёл глазами комнату и стал рассматривать рисовальные принадлежности Сонечки — мольберт, палитру, кисти, оловянные флакончики с красками.
— Вы всё рисуете? — спросил он.
— Да, мажу… — отвечала Сонечка, глянув на неоконченный этюд женской головы, висевший в простенке. — Да и леплю, — прибавила она и посмотрела на глиняный бюст, стоявший на высоком табурете и, вероятно, только что сделанный, потому что он был мокрый.
Иван Иваныч встал, подошёл, внимательно и даже с восторгом осмотрел всё и горячо похвалил. Сонечка не признавала за своими произведениями достоинств. Иван Иваныч стал с ней спорить и прочить ей славную будущность. Она краснела и качала головой, хотя можно было видеть, что и она разделяет эти надежды, и что ей нравятся похвалы Ивана Иваныча.
— А вы знаете, и у меня есть один ваш рисунок — я стащил его у Полины Марковны… — сказал вдруг Иван Иваныч с торжеством, достаточно красноречивым, чтоб понять, что он особенно дорожит этим рисунком.
Сонечка взглянула на него.
— Какой рисунок? Ах да, плохой рисунок! — произнесла она, покраснев. — Вы чересчур хвалите меня, Иван Иваныч. Я не стою таких похвал. Или, может, вы льстите?
— О, нет, что вы! — воскликнул Иван Иваныч с огорчением. — Ведь вы удивительная… Какая тут лесть… Я вот смотрю на вас и дышать не смею от благоговения… Право, какая уж тут лесть!
Сонечка взглянула с улыбкой в пространство, причём Иван Иваныч заметил, что глаза её как-то удивительно прекрасно потемнели за время, что он не виделся с нею, и подошла к высокому табурету с бюстом.
— Не говорите мне таких вещей, Иван Иваныч, — сказала она, не глядя на него и проводя лопаточкой по глине.
Он ответил:
— Хорошо…
Но когда лопаточка упала на пол, и Сонечка наклонилась, чтоб поднять её, и встав тряхнула волосами, глаза его загорелись, и, подойдя к ней, он произнёс с увлечением:
— Я не лгу, Софья Павловна, клянусь вам… Я, например, уже счастлив, что вы не гоните меня вон и терпите возле себя… Мне ведь и это в диковинку…
— Молчите…
Он замолчал; но чувствовал, что не может удержаться в границах, предписываемых благоразумием, и потому горел желанием излить душу — начистоту, и ожидал лишь удобного момента, когда разгладятся чуть заметные морщины на лбу Сонечки, и бледное лицо её расцветёт улыбкой и приветливо зарумянится. Однако, ждать пришлось долго. Сонечка была упорно серьёзна как никогда, и даже неопределённая улыбка её глаз исчезла. Разговор клеился совсем плохо.
«Нет, скажу прямо и сразу, — думал всё Иван Иваныч. — Если она любит меня хоть чуточку, чего нельзя допустить, и что, положим, несбыточно, но о чём, однако, можно же мечтать, то признание моё лишь ускорит развязку. Если же не любит, что в высшей степени вероятно, ибо тот милый взгляд был просто случайно брошен и мог быть вызван мыслью о Лозовском, то всё равно — чем скорей освободиться от самообмана, тем лучше! Мук не будет, то есть муки будут — и какие муки! — да томления не будет!»
«Томления не будет!» — повторил он мысленно эту же фразу через минуту и всё-таки не приступал к своему решительному разговору, а сидел и терзался. Положение его тем более было неприятно, что Сонечка, точно забыв об его присутствии, вся, по-видимому, ушла в работу и отделывала бюст, так что Иван Иваныч боялся ей мешать и не раскрывал рта, а в уме его начинала копошиться назойливая мысль о приличии, о том, что пора уходить, — мысль, глушившая другие мысли. К довершению же терзания, в передней послышались знакомые твёрдые шаги Лозовского, и тот вошёл в комнату без доклада, вдруг распахнув двери. Ивана Иваныча точно варом обварило, и он на секунду как бы принизился, искренно пожелав себе провалиться сквозь землю.
— А, честная компания! — сказал Лозовский с весёлым смешком, кланяясь манерно, по приказчичьи, и пронизав взглядом сначала Ивана Иваныча, потом Сонечку.
Иван Иваныч встал и подал ему руку, которая дрожала.
— Как поживаете?
Лозовский только усмехнулся — «поживаю отлично», и обратился с вопросом к Сонечке.
— Не раздумали?
— Раздумала, — ответила она нерешительно; и вообще Ивану Иванычу показалось, что появление её жениха несколько испугало её.
— Это мы в театр собирались, — объяснил Лозовский Ивану Иванычу. — Как же это вы? — обратился он опять к девушке, в руках которой лопаточка ходила уже не с такой твёрдостью, а как бы наугад.
— Так, уже не хочется, — отвечала Сонечка.
— Шарамыкин роль какую играет! Матушка-а! — протянул Лозовский с деланным увлечением, всё в той же манере приказчика, которую усвоил себе при входе в комнату, и в которой, по-видимому, решил вести и всю дальнейшую беседу.
«Этак он от всего отшутится, — подумал Иван Иваныч с отвращением, чувствуя на себе насмешливый взгляд Лозовского, — а меня оскорбит, намёком или чем-нибудь». «Уж вот взглядом он меня оскорбляет», — решил он, и щёки его вспыхнули, а глаза опустились, и он стал перебирать флаконы с красками, отвинчивая и снова навинчивая их оловянные пробочки.
— Ну, не хотите в театр, так будемте чай пить, — сказал вдруг Лозовский и грузно сел на кровать, так что она затрещала. — Прикажите! Да там вон в пальто книжка. — Захватите по дороге и оставьте у себя. Советую проштудировать.
— Спасибо! — произнесла Сонечка и вышла.
В походке её торопливой, как и подобало в данном случае, потому что хозяйки всегда любезно суетятся, а в особенности молодые, было однако что-то робкое и застенчивое, и тут, в этой застенчивости Иван Иваныч смутно угадывал точку соприкосновения своего душевного мира с душевным миром девушки; а потому и считал себя, в виду грозного противника, не совсем ещё бессильным, и был готов, при случае, даже сразиться с ним.
Эта готовность особенно усилилась по уходе Сонечки, и он не мог удержаться, чтоб не поднять головы и не посмотреть на Лозовского. Но тот уже смотрел на него. Взгляды их встретились, и никто не потупил глаз. Оба молчали. Началась какая-то немая ссора. Лозовский как бы хотел выразить: «Неловко, брат, к девушке ходить, а пришёл, да притом и один. На чужой каравай рот разинул. Нет, уж тут совсем нечисто». А Чуфрин отвечал: «Ну, так что ж, и пришёл, и буду ходить». Ему в этот миг стало, во всяком случае, ясно, что Лозовский видит его насквозь и ненавидит. Он решил не скрывать и своих чувств, нахмурил брови и зло сверкнул глазами, сделав презрительную гримасу. Лозовский, между тем, продолжал всё смотреть на него, и блеск его глаз сделался для Ивана Иваныча почти невыносим. Иван Иваныч раскрыл рот, чтоб сказать что-нибудь резкое и обидное, но ничего не сказал, понял вовремя, что вышло бы глупо, и только отвернулся, опустив глаза. А Лозовский опрокинулся на подушки и весело захохотал.
Вошла Сонечка.
Лозовский не встал и лежал на кровати с видом полноправного хозяина, продолжая хохотать. Иван Иваныч был бледен и искал глазами шляпу: поведение Лозовского красноречиво говорило, что тот занимает крепкую позицию и уверен в своей силе.
Но что это с Сонечкой? Она покраснела и сказала:
— Встаньте, Илья Петрович; я не люблю, чтоб на мою постель с ногами забирались. Да и не такая близость у нас…
Иван Иваныч не верил своим ушам. Перемена, последовавшая от этих слов в настроении его, была так внезапна, он почувствовал такой прилив радости, что не мог сдержать торжествующей улыбки и чуть не бросился стаскивать Лозовского с кровати.
Лозовский поспешно привстал.
— Даже если б и близость была, — отшутился он, — то при сём кавалере мне ложиться на вашу постель не подобает, это я понимаю и приношу миллион извинений… А оправданием мне да послужит то обстоятельство, что Иван Иваныч уморил меня со смеху! Право! Я поневоле упал в изнеможении на ваше ложе…
Он поклонился опять по приказчичьи и мельком взглянул на Ивана Иваныча, глаза которого потемнели от гнева, но который, впрочем, сейчас же оправился, тем более, что Сонечка сказала:
— Что вы ломаетесь, Илья Петрович? Ей-Богу, надоело всё это…
Иван Иваныч заметил, что голос её дрожит точно от обиды.
Лозовский махнул рукой и вздохнул глубоким вздохом.
— Вот что, Сонечка, — сказал он, — мне надо с вами поговорить всерьёз. Вы извините, что я вас «Сонечкой»… По старой памяти… Уму-разуму ведь два года учил… Так уж прикажите господину Чуфрину уйти, он лишний тут, по крайней мере, сегодня…
— Да я и сам собираюсь, — проговорил Иван Иваныч, уязвлённый этим предложением и в то же время повинуясь взгляду Сонечки, загоревшемуся как-то не то стыдливо, не то просительно.
— Простите, — сказала она, протягивая ему ласково руку, — приходите в другое время, всегда рада, а теперь у нас с Ильёй Петровичем что-то обострилось… Пожалуй, ссориться вот сейчас будем, — прибавила она с улыбкой.
— Просто за чайком потолкуем, — объяснил Лозовский, расправляя плечо точно после гимнастики и нетерпеливо посматривая на дверь.
Иван Иваныч ушёл и стал в передней надевать шубу и калоши. Лицо его горело. Он напрасно силился сообразить, что может выйти из сегодняшнего его визита. Чувствовалось только, что сделан какой-то шаг, но назад или вперёд — он не смел определить. Сердце его тревожно билось.
Было темно. Горничная не показывалась, и выход из передней в коридор едва можно было отыскать ощупью. Иван Иваныч долго возился тут.
Вдруг где-то в противоположном месте отворилась дверь, и к Ивану Иванычу подошла спешным шагом Сонечка. Он узнал её инстинктом. И также инстинктивно и стремительно, объятый неизъяснимой радостью, протянул он к ней руки, губы их встретились, и она прошептала, обжигая его этим шёпотом:
— Милый, милый, люблю вас крепко, люблю!
У него слов не хватило, чтоб ответить. Опустившись на колени, в восторге, в уничижении, он поцеловал край её платья. Он не спросил, как поступит она относительно Лозовского. Вопрос этот внезапно упразднился и уже не представлял интереса. Ведь она же, эта девушка, это божество, любит его, Ивана Иваныча, и никого больше, никого!
Он ушёл, пьяный от счастья, и всю дорогу пел и свистал, точно подкутивший мастеровой; он не верил, чтоб блаженство, будучи таким огромным, могло переноситься так легко, и с радостным страхом ждал, что он изнеможет под его тяжестью, что оно его раздавит.
А снежная улица молчала. Одиноко вдали мигал фонарь, и тополи, чуть белея, смотрели из сумрака ночи. И никогда мир не казался Ивану Иванычу прекраснее и жизнь отраднее.
III
Воспоминания Ивана Иваныча были прерваны на этом месте появлением Полины Марковны, наполнившей кабинет любимым своим запахом виолетт-де-парм[1], запахом, который заставил его очнуться сразу и даже вздрогнуть.
Молодая женщина была одета в белое платье. В маленьких ушах, плоских и прижатых к большому черепу, сверкали бриллиантовые серёжки. Русая коса была тщательно заплетена и сложена на затылке. Лицо чуть-чуть присыпано пудрой, чтоб скрыть багровые пятна, — Иван Иваныч сейчас же увидел это, — а грудь, слегка декольте, согласно требованиям летнего сезона, украшена свежей розой. Вообще, Полина Марковна была наряжена со вкусом и производила своей цветущей внешностью некоторый эффект.
Иван Иваныч не знал, как ему быть. Вчера ещё он непременно нахмурил бы брови, сделал бы неприветливое лицо и брезгливо спросил бы: «Вам что угодно, сударыня?», потому что до вчерашнего дня он был в ссоре с женой. Поссорился же он с ней из-за Сонечки, месяца через два после того, как эта девушка призналась ему в любви. Он плохо верил, что Полина Марковна, раз узнавши, что сердце его несвободно, согласится на разъезд и первая предложит эту меру как самую естественную в данном случае. И не ошибся. Когда, по требованию Сонечки, он всё рассказал жене, то привёл её в какое-то бешеное отчаяние, выразившееся в целом ряде невиданных им дотоле нелепостей. Полина Марковна побледнела, схватила лампу и с силой бросила её на пол, так что та разлетелась вдребезги, дико вскрикнула и упала на диван, лицом вниз, и стала рыдать с визгом и воем. Затем, вскочивши, сжала кулаки и стремительно направилась к мужу, крича: «Подай мне её! Подай мне эту тварь! Я разорву её, я задушу её!» Но сама вскоре устыдилась своего крика, и скорбь её стала тише, хотя, может быть, острее и болезненнее; час просидела она безмолвно. Наконец, заключила она всё обильными слезами, переменила два носовые платка и часто нюхала уксусную соль. Целую неделю она не обменялась с мужем ни словом, но выходила к обеду, и если Ивана Иваныча не было дома, угрюмо ждала его, пока не простывал суп. Она приказывала всё убирать, а когда Иван Иваныч возвращался, опять накрывала стол и, во время еды, вздыхала глубоко и протяжно. «Если это так будет вечно, — думал Иван Иваныч, — то отчего же нам и не разъехаться», и написал ей в этом смысле письмо, потому что побоялся личных объяснений. Вообще он трусил жены, и чем больше трусил, тем больше не любил. Она, прочитав письмо, захотела, однако, переговорить с ним лично, и когда на вопрос её, серьёзно ли это он, или может быть так — может быть, это временная прихоть молодого мужчины, которую она, пожалуй, могла бы ещё стерпеть и простить, — он отвечал, что, конечно, серьёзно, то она пожала плечами и произнесла: «Ну, это посмотрим!» В тоне, каким было сказано это, было столько самоуверенности, столько, так сказать, американского, что Иван Иваныч почувствовал неопределённый страх, почти ужас, и, в свою очередь, грубо закричал на жену, чего с ним прежде никогда не случалось, и стал уверять её, что даже из ада вырвался бы для Сонечки. Жена вела себя на этот раз сдержанно и заключила беседу фразой, что пока она видит только, как он губит девушку, потому что в городе все уже об этом говорят; шила ведь в мешке не утаишь. Он сознавал справедливость упрёка, сознавал, что был неосторожен, и в ответ постучал только кулаком по столу, а жена саркастически улыбнулась и ушла. Конечно, он давно мог бы бросить жену и уехать с Сонечкой в Петербург, как это и было порешено между ними в принципе; но мешали разные обстоятельства, а главное — не было денег. Как ни свысока относился он к службе, однако стал хлопотать о переводе в столицу, и один важный барин написал ему, что, пожалуй, в мае или июне для него очистится там незначительное местечко. Иван Иваныч был и тому рад и ждал назначенного срока как манны небесной. Сонечка, со своей стороны, медлила. Она поджидала поры экзаменов, когда уроков бывает особенно много и платят дорого, чтоб собрать рублей полтораста — «себе на приданое», — шутила она. Кроме того, оба ожидали с горячим нетерпением ответа из одной редакции, куда послали большую поэму, совместно сочинённую и озаглавленную «Деревня». Поэма должна была принести, по крайней мере, тысячу рублей. Одним словом, решено было вместе жить и вместе уехать, но когда именно — никто из них этого наверное не знал. Поэтому, когда Полина Марковна вдруг сделала визит Сонечке и обошлась с ней дружески, даже поцеловала, и предложила свои услуги по части снаряжения бегства с нею Ивана Иваныча, с которым тоже круто изменила обращение и сделалась приветлива и приятельски-любезна как сестра, то Иван Иваныч сначала несказанно этому удивился, а потом и несказанно обрадовался. И вот каким образом состоялось его примирение с Полиной Марковной. Раздумывая теперь, как ему быть с нею, т. е. отнестись ли к ней, по старой памяти, как к жене, и лицемерно улыбнуться и даже поцеловать у неё руку, или же запахнуть поспешно халат и сделать сконфуженное лицо как при посторонней даме, он был смущён её, очевидно, изысканным, хотя и «простеньким» туалетом и пудрой, скрывавшей знакомые пятна — признаки её сильного душевного волнения. Встревоженно взглянув на неё, он забыл всякую политику и, даже не поздоровавшись, поспешно спросил, ожидая услышать что-нибудь неприятное:
— А что?
Полина Марковна сама протянула ему руку и, подняв брови, как бы в минутном недоумении, отвечала с улыбкой:
— Ничего, друг мой.
Она села рядом, поправив платье и заложив ногу за ногу с тем лёгким оттенком несколько цинической непринуждённости, какую позволяют себе при мужчинах только их жёны. Всё это дало тон дальнейшей беседе супругов.
Иван Иваныч сказал, улыбаясь успокоенно:
— Когда ты вошла, мне показалось, что ты хочешь сообщить мне что-нибудь неожиданное… У тебя вид взволнованный…
— Я? — произнесла Полина Марковна и приложила платок к лицу. — Нет, мой друг. Но, конечно, я не могу же быть равнодушна. Но вот что: ты завтра решительно уезжаешь? Или, может быть, послезавтра?
Она опять приложила платок к лицу.
Иван Иваныч почувствовал себя неловко. Сделав лицо не то сострадательное, не то печальное, не то благодарное, он отвечал с ленивой улыбкой:
— Завтра… Непременно завтра!
— В котором часу? Утром? — спросила жена.
— Утром.
— На тройке?
— Да, на почтовых.
— С колокольчиком?
— Вероятно, — произнёс он с усмешкой и прибавил, — что, однако, за вопрос?
Полина Марковна сделала вид, что не слышит этого замечания. Мечтательно устремив глаза в пространство, она начала:
— Мы тоже тогда с колокольчиком ехали… Помнишь? Музыкальный был такой… Ты спал у меня на коленях. А голова у тебя была кудрявая, потому что я тебя завивала к венцу… Помнишь?
— Помню, — отвечал Иван Иваныч.
Полина Марковна продолжала:
— Знаешь, я вас сама хочу провожать. Понимаешь? Мне кажется, это будет мило.
— Действительно, это будет… мило, — сказал Иван Иваныч. — Вообще ты очень милая женщина и твоё великодушие меня поражает… Знаю я, чего тебе это стоит…
Голос у него задрожал от избытка благодарного чувства, хотя в то же время не мог он отделаться и от чувства опасливости в присутствии жены, чувство, которое вдруг выросло, когда она в ответ взяла его за руку и любовно наклонилась к нему.
— Милый мой мальчик, — заговорила нежно Полина Марковна, — нет жертвы, которой я не принесла бы для тебя! Клянусь тебе! Всё тебе готова отдать. Вот теперь отдаю тебе свою жизнь — потому что мне жизнь без тебя могила. Сердце моё умрёт. А без сердца что за жизнь? Но, отдавая тебе всё, — конечно, не без борьбы, — я радуюсь, потому что ты будешь счастлив… Слышишь, радуюсь!
Она ещё больше наклонилась к нему, так что голова её упёрлась в его плечо, а влажные глаза искали его взгляда. Он улыбнулся ей, потому что был благодарен и понимал, что гнать её от себя сухим обращением было бы безжалостно накануне такого события, которое осуществлялось, преимущественно благодаря её неожиданной бескорыстной помощи (она дала ему денег). Однако, чувство опасливости росло в нём, и улыбнувшись, он поспешил перевести взгляд с жены на портрет Сонечки, висевший прямо на стене.
— Милый мой, — продолжала Полина Марковна, ласкаясь к нему всё больше и больше, — хочу я тебя о чём-то попросить…
— О чём? — спросил он с боязнью.
— У меня есть теперь девятьсот рублей, — сказала Полина Марковна, опуская глаза, — возьми у меня их в дополнение к тем трём сотням, что взял на дорогу. Возьми, душоночек! Вам понадобятся с Сонечкой. Придётся делать обстановку, а там, в Петербурге, всё дорого… Возьми!
Ему сделалось совестно, но лицо его просияло.
— Нет, спасибо тебе, милая, но мы больше не возьмём… Таких денег скоро не отдать, а взять их так — является вопрос, не похоже ли это уж на грабёж? Ах, нет, нет, спасибо!
— Возьми!
— Нет.
— Возьми, милый!
— Нет и нет! — сказал он решительно, хотя и подумал: «А куш хороший!», и может быть, именно потому и ответил так решительно: «Нет».
Тогда Полина Марковна неожиданно подкрепила свою просьбу поцелуем. Это его опять напугало. «Неужели ей надо возвратить поцелуй? — спросил он себя. — Очень двусмысленное положение… Не поцелую!» Но Полина Марковна сама несколько раз поцеловала его в губы и щёки. Он привстал, крепко пожал ей руку, в знак того, что поцелуи неуместны, а имеет место только дружба, и подумал с облегчением: «Кажется, поступил с тактом». Полина Марковна вздохнула и сказала:
— Ну, как знаешь, Ваня. Верь, что мне денег не жалко. Но, может быть, Сонечка возьмёт.
— Нет, и Сонечка не возьмёт… Зачем нам? — возразил он. — Обстановок мы заводить не будем. Там новой жизнью совсем заживём! Нет, не нужно, Павличка…
Полина Марковна ничего не ответила и продолжала сидеть на диване. Иван Иваныч смотрел в окно, в садик, и всё думал: «Ах, когда бы уж скорее; мучительно ждать!» В молчании прошло пять минут, может быть, и больше. Он слышал, как прошумели юбки, и Полина Марковна вышла из кабинета, но не повернул головы. А когда потом опять пересел на диван, чтоб продолжать мечтать, — всё, конечно, о Сонечке, — то увидел на полу истрёпанную и изгрызенную розу, только что украшавшую собою грудь Полины Марковны.
IV
Мечты и воспоминания Ивана Иваныча перестали теперь развиваться последовательною цепью, и выныряли только сцены особенно яркие и милые. Всё это ещё было так недавно, что казалось настоящим. Звуки милых речей жили вокруг него, как живут для любителя музыки лучшие места концерта, пока он возвращается из театра домой и пока ляжет и заснёт. Воспоминания вспыхивали непрерывно, брезжа точно лучи света, и загорались пленительные образы, мерцали картины, одна другой краше. Никакого усилия для этого не надо было делать, никакого напряжения ума. Всё совершалось само собой, невольно.
Вспомнилась ему, между прочим, первая его прогулка с Сонечкой за город.
Стояла ранняя весна; уже в начале марта рухнул снег, на улицах и в оврагах зажурчали и запенились ручейки. День был ясный, солнечный, небо синее-синее, в белых, серебристых облаках. Откуда-то веяло теплом, жизнетворным и освежающим, щебетали птицы в радостной тревоге, было хорошо. Иван Иваныч как школьник скрыл от жены, что идёт за город, надел коротенькую бекешку, синюю на вате и с выпушкой из чёрных смушек, длинные сапоги (всё потихоньку от жены), взял плед и вышел. Он чувствовал себя отлично, походка у него была свободная и даже грациозная как у человека, счастливого тем, что его любят, между прочим, и за наружность. Сонечка медленно шла по огромной площади, что перед богоугодным заведением, улыбнулась ему издали и остановилась, поджидая его. У него сердце забилось сильно, и он ускорил шаг. А когда он подал ей руку, то сам улыбнулся, глаза его блестели, и на щеках играл румянец как и у Сонечки. Она спросила:
— Куда же?
Он в ответ кивнул головой вдаль и подал ей руку; и ему было несказанно приятно, когда девушка, не расспрашивая больше, пошла рядом с ним. Теперь он не робел как тогда, зимой, а знал, что идёт с нею по праву взаимной любви, и это маленькое доверие к нему — «ведите мол, куда хотите, мне везде будет хорошо с вами» — служило, казалось ему, прямым доказательством этой любви. Они шли по площади, в диагональном направлении, и стали разговаривать о весне, о том, что она наступила рано и, можно сказать, неожиданно. Они смотрели кругом с восхищением, под талым снегом им чудились почки цветов, готовые распуститься; в воздухе носился уже аромат тех цветов. Разговор о весне был, в сущности, разговором о том, как они неожиданно полюбили друг друга, — по крайней мере, он свёлся к этому. Иван Иваныч вспомнил, что в прошлом году, встретив в городском саду Сонечку, сравнил её с уходящей от него весной, и рассказал ей теперь это. Она рассмеялась, но заметила, что ей нравится, что он поэт. А он, улыбаясь, ответил, что раз полюбишь Сонечку, сделаешься поэтом. Оба они опять рассмеялись, доверчиво и любовно глянув друг другу в глаза.
Кончилась площадь, и они пошли по дороге, где на откосе было уже совсем сухо, мимо решётчатой ограды, из-за которой смотрели на них и ухмылялись желтолицые душевнобольные, в колпаках и халатах. Они тоже гуляли. За богоугодным заведением потянулись новенькие домики по обеим сторонам шоссе, которое блестело под лучами солнца, само прямое как луч. Телеграфные столбы терялись в светло-сизой дали. Открылся горизонт, и вон направо чернеет река, недвижно лежащая в своих белых ещё берегах. Завтра она, может быть, тронется. За нею лес кудрявится как растрёпанная тучка, и тоже ждёт не дождётся пробуждения. Направо мягкими, волнистыми линиями уходит поле в необозримую даль, местами чёрное. Такие же чёрные пятна и возле телеграфных столбов, и вокруг деревьев, что выстраиваются в две линии над шоссейными канавами, в которых под рыхлым снегом уже ревёт и шумит грязная вода. Ветер свежее, чем в городе, но всё-таки тепло, очень даже тепло, и ожили какие-то золотые мушки, и вот сейчас одна из них села Сонечке на щеку.
Любуясь приметами весны, Иван Иваныч, однако, главным образом не сводил глаз с девушки. Разговаривая, он всё смотрел на неё, иногда пристально до неприличия. В её лице есть что-то необычайно привлекательное, и он хотел определить что именно. Эту задачу он себе уже много раз задавал и всегда решал в том смысле, что тайна Сонечкиной обаятельности заключается прежде всего в её глазах. Он и теперь пришёл к этому решению, но заметил, что в выражении этих удивительных глаз, светло-голубых с синими искорками, добрых и открытых, и умных, и проницательных, — таких, что никак не солжёшь под их взглядом, есть ещё что-то особенное, похожее и на грусть, и на робость, точно Сонечка или постоянно хранит воспоминание о чём-нибудь печальном и горьком, или ждёт какой-нибудь беды, бессознательно ждёт, потому что угадывает её своими тонкими нервами, своим женским инстинктом. Это открытие встревожило его. Сонечка заметила его тревогу, прервала разговор и вопросительно взглянула на него. Но он сказал, что «ничего, миленькая», и из деликатности не стал расспрашивать… К тому же, беседа вскоре приняла такое направление, что Сонечка сама решилась, по собственному почину, рассказать «всю свою подноготную», как она выразилась, и ему показалось, когда он выслушал её автобиографию, что он нашёл ключ к объяснению грустно-боязливого оттенка выражения её глаз. Эта автобиография была рассказана, когда они уже достаточно далеко ушли за город и свернули в сторону, так что, разостлавши плед, могли присесть на сухом склоне обрыва, вне поля зрения идущих и едущих по шоссе.
V
Рано стала помнить себя Сонечка. Она бегала по дорожкам сада с какими-то маленькими девочками, чумазыми и в посконных рубашках — дворовыми девчонками. В доме тогда было много солнечного света, и вообще всё раннее детство её представлялось ей непрерывным весенним днём. Огромные собаки и куры, каких потом никогда не приходилось ей видеть, ходили по зелёному двору, и огромные гуси шипели необыкновенно страшно, вытягивая свои упругие шеи по направлению к Сонечке, так что она с криком убегала от них. Кабан, которого убили к празднику, поразил её своими размерами, и она, глядя на это чудовище, жалась к матери, а та говорила нежным и мелодичным шепотком:
— Не бойся, деточка, не бойся…
По временам приезжали какие-то люди, тоже огромные, с дымящимися чубуками, с красными лицами и чёрными усами, обедали, пили, что-то писали мелом на зелёном столе и смотрели в карты, из которых потом няня Агафья делала Сонечке санки и вырезывала лошадок. Эта нянька умела говорить сказки о Жар-птице, Иване Царевиче, Бабе-Яге Костяной ноге, и Сонечка любила её, а иногда капризничала и бивала её ногами, на что Агафья ласково только замечала, уклоняясь от ударов:
— Ах, баловница…
Кроме няньки, от которой периодически пахло водкой, и которую тогда куда-то усылали, причём папаша кричал и ругался, были и другие слуги: Грунька Рябая форма, толстая девка, с добрым, испорченным оспою лицом и огненными волосами, и Машка Аршин, высокая красивая брюнетка, с чахоточным румянцем на белых щеках и костлявыми плечами. Все они боялись папаши, и из их бесед Сонечка заключила, что на свете существует конюшня, страшное место, где тиранят слуг…
Мало-помалу страх, питаемый слугами к её отцу, сообщился и ей, и в его присутствии она затихала, становилась застенчивой, что ему очень нравилось, и он говорил, обращаясь к жене:
— Вот посмотри, Зиночка. Вот все меня боятся. Но отчего ты такая, что на тебя никто не обращает серьёзного внимания? Даже эта крошка — и та тебя в грош не ставит… Слышишь? Почему это?
— Ах, Поль, — отвечала мамаша, — ты — мужчина…
Она поднимала на него глаза и улыбалась кроткой улыбкой.
— Поль, ты не думай, впрочем, — говорила она, — я её секу… когда она заслуживает этого…
— Травинкой! Нет, ты её розгой! — заметил папаша и, однажды, по дойдя к Сонечке, сделал такие глаза, что та затряслась.
— Зачем, — крикнул он, — часы мои трогала? Говори сейчас! Зачем?
— Я не тлогала…
— Ты лгать? Эй, подайте мой ремень!
— Поль! — произнесла мамаша.
Папаша затопал ногами.
— Не мешайся, матушка! Позволь мне хоть час заняться воспитанием этого волчонка. Она врёт. Кроме неё, никто не мог. Так ты не трогала?
Крупные слёзы закапали из глаз Сонечки.
— Нет, ей-Богу…
Папаша ударил её. Девочка заплакала. На бледном лице мамаши изобразился ужас. Она упала на колени и протянула к мужу руки.
— Поль! — простонала она с мольбой.
Он сердито посмотрел на неё покрасневшими глазами, плюнул, махнул рукой и вышел, а мамаша бросилась целовать Сонечку, которая в первый раз узнала, что такое несправедливость, потому что к часам и близко не подходила. Мамаша, в конце концов, утешила её, подарив ей коробку из-под сургуча, а вечером Машка Аршин жгла на сальной свечке сахар и капала им на синюю бумагу, так что выходили превкусные чёрно-жёлтые цветочки и птички; Агафья же сказала новую сказку, заинтересовавшую даже Груньку. Сонечка крепко и сладко спала в ту ночь…
Но страх к отцу вырос в ней. Когда он изредка целовал её, — например, в дни именин и больших праздников, причём лицо его было гладко выбрито, и от него пахло вином, — глазки её пугливо метались, и слёзы готовы было брызнуть из них.
— Медвежонок, кукла! Пзрь! — ласкался к ней отец, сжимая губы и уставляясь в её грудь лбом.
— Ах, Поль! — блаженно улыбалась тогда мамаша.
Проходили между тем месяцы, годы. Вырастала Сонечка. Поочерёдно сменялись детские радости и восторги детскими скорбями и страданиями. Странно, что она не помнила, как выучилась грамоте. Должно быть, это далось ей легко. Осталось только воспоминание о том, как она, при помощи Машки, впервые написала на бумаге имя матери «Зинада» вместо «Зинаида», и как та бросилась обнимать её и обкормила вишнёвым вареньем. Отец сейчас же взял девочку под свою опеку, и началось скучное и мучительное зубрение таблички умножения, из которой одно только и выучивалось: «пятью пять — двадцать пять, пятью шесть — тридцать», молитв «Верую» и других, устрашавших своею непостижимостью, писание палочек, ноликов и, в конце концов, — слёзы, слёзы и слёзы. Потому что папаша серьёзно взялся за воспитание дочери, бил её линейкой по рукам, которые краснели от щемящей боли, рвал за уши, запирал в своём кабинете, редко выпускал гулять и задавал трудные уроки, напирая, главным образом, на катехизис и грамматику Востокова, с её бесконечными исключениями — об именах, кончающихся в единственном числе на ёнок и имеющих во множественном ята, и других мудрёных вещах.
Весь мир тогда для Сонечки делился на две резко разграниченные половины. В первой жил папаша. Он сам прибирал по утрам в кабинете, раскладывал в порядке все вещи, чтобы карандаши лежали налево от чернильницы, а перья — направо, и губы его торопливо шевелились, шепча молитвы, а грудь по временам поднималась и падала от религиозного напряжения. Он был одет в грязно-жёлтенькую фланель с синими каёмочками. Этот коренастый человек, молящийся и сметающий со всех предметов пыль гусиным крылом, наводил страх на домочадцев, и все молчали в доме, все ходили на цыпочках, не смея проронить слова, потому что никогда не бывал папаша так сердит, как в эти утренние часы общения его с небом.
Одна ужасная сцена особенно резко запечатлелась в памяти Сонечки.
Папаша приехал поздно ночью и сообщил мамаше, что «граф» прислал письмо с приложением жалобы крестьян на него, Свенцицкого, что он, будто, добра господского не жалеет, лес тайно продал, а мужиков и баб тиранит, и прочее.
— Неужели, Поль? — спросила мамаша тревожным шёпотом.
— Что «неужели»? — недовольным тоном спросил папаша, и сказал сквозь зубы. — У графа этого и красть нечего… Хорош граф от ста душ! А лес цел, хотя, конечно, подчищен… Нельзя же не чистить…
— Поль, — спросила мамаша трепеща, — что ещё граф пишет? Ведь не отказывает?
— Вот ещё! Конечно, нет…
— Так чего ж тебе беспокоиться?
— Не твоё дело, Зиночка, — строго заметил папаша.
Сонечка, спавшая, в отсутствие папаши, в мамашиной спальне, спрятала голову под одеяло, боясь, что её увидят. Она стала повторять мысленно урок о том, что «Един Бог во святой Троице», спуталась, заснула и проснулась рано в сильном страхе. Первым движением её было одеться и взяться за книжку. Она думала, что в доме ещё спят, и она успеет доучить урок. Но уже все встали, хотя сумрак наполнял комнаты, сгущаясь по углам и в складках портьер, и странно сливаясь с трепетным светом, разливаемым там и сям огарками. Мамаша сидела у окна в своём огромном кресле и точно замерла. Глаза её были широко раскрыты, тонкие бледные руки её как-то безучастно скользнули по головке и плечам подбежавшей к ней девочки, а губы почти беззвучно сказали:
— Тише, деточка…
Сонечка юркнула в детскую. Нянька сидела, насупившись, бледная, и из-под коричневого платка на морщинистую шею выбивались серебристые косички. Грунька бессмысленно смотрела в угол. Лицо её точно вспухло, красное-красное, а под одним глазом выступало багровое пятно. Сонечка сейчас же поняла, что это папаша сделал, а за что — вопрос этот ей не пришёл на ум. Только ужас сковал её. В доме творится что-то необычное, одно было ясно. Вот и теперь из кабинета доносятся мерные звуки папашина голоса, а это скверный знак, потому что папаша в самые высокие моменты своей лютости всегда спокоен и почти кроток. Такая у него черта, хотя бывает, что он и кричит, и шумит, но то уже не так страшно. Жгучее любопытство стиснуло грудь Сонечки. Дрожа, в одной рубашонке, она пробралась из детской в тёмный коридорчик, заваленный мотками ниток и крестьянскими полотнами, в столовую, в переднюю, шмыгнула мимо беззаботно дремавшего на лавке папашина любимца Ваньки Беззубого (ему ещё сам граф зубы выбил) и, наконец, прильнула к замочной скважине.
Кабинет был убран. Папаша смахивал с красного сукна, которое покрывало его письменный стол, последнюю пыль. Одет он был, по обыкновению, в свою фланелевую куртку, с которой он не расставался ни зимою, как теперь, ни летом. Глаза его обращались к киоту, освещённому лампадой, и губы так быстро шептали «Отче наш», что Сонечке они показались одарёнными самостоятельной жизнью, тем более, что он вдруг сказал, повернувшись к дверям, мерным суровым голосом:
— Почерк твой. На селе никто, кроме тебя, не знает грамоты. Писано моими чернилами. Мои чернила красноватые, такими и к графу писано. Да моя бумага тоже. У меня почтовая бумага в косой клетке, в Киеве куплена. Такой здесь ни у кого не достанешь, ни у попа, ни у жида. Признавайся, ты писала?
Сонечка глянула в сторону и увидела Машку, которая стояла недалеко от дверей на низенькой деревянной табуретке, подняв кверху худые руки, обнажённая по пояс. Белые бока её были изборождены тёмными полосами, а наклонённое лицо, на которое падал свет от лампадки, смягчённый сумраком угрюмого зимнего утра, было бледнее бумаги, и, вместо глаз, виднелись чёрные тени. Слёзы не катились по щекам. Полураскрытые губы не шевелились.
«Отче наш иже еси»… — раздался шёпот папаши, и затем свистнул в воздухе ремень, раз и другой, Машка слегка покачнулась на своём табурете, но не издала ни звука.
— Скажи ж ты мне, голубочка, — начал опять папаша, шагая по кабинету и посматривая на девку, — чего ты надеялась от этого письма? Разве неизвестно тебе и всем хамам и хамкам, вроде тебя, что граф — первый мой приятель и наплюёт на все ваши жалобы? Говори!
Машка молчала. Сонечка не дождалась, чем кончится на этот раз упорство девки. Головка её горела, а руки и ноги были холодны как лёд, зубы стучали. Ей было стыдно и мучительно страшно, и она чуть не крикнула, захлёбываясь от яростного, мстительного чувства, но не посмела, расплакалась и побежала назад. Что это за борьба такая, что за безумная трагедия разыгрывалась тогда в кабинете папаши? Откуда эта покорность в Машке, которая повинуется, когда ей приказывают стоять, поднявши руки, и что означало это молчание, горделивое и презрительное, потому что ведь она не молила, не кричала, — лишь вздыхала иногда медлительно и глубоко? Сонечка задавала себе это вопросы уже позднее, а тогда она их только почувствовала, да и то неясно точно сквозь слёзы. Прибежав к матери, она спрятала голову в её колени и, целуя её руки, стала упрашивать вступиться за Машку Аршин.
— Мамочка, мне совестно! — кричала она. — Он её бьёт, а она молчит, и кровь идёт! Мамочка!
— Тише, деточка! — сказала мать, прижимая её к груди. — Верно, Машка заслужила… Папаша даром не станет… Тише, пожалуйста!
— Мамочка, она письмо к графу написала, он за это её бьёт!.. Мамочка, ради Бога! — кричала Сонечка подавленным голосом, вся в слезах.
Мамаша серьёзно произнесла:
— Деточка, мы не поможем. Лучше не будем сердить папашу… Ай, деточка, тише!
Машку куда-то отправили. Прощаясь, она поцеловала Сонечку и, сверкая тёмными глазами, прошептала на ухо Агафье, что у неё уже заготовлена бумага «до самого царя», на что старуха испуганно замахала на неё рукой и взглядом указала на Сонечку…
Другая половина мира представлялась Сонечке не только не такой мрачной, но даже радостной и сияющей. Значительную долю его наполняла мамаша, с её скромными чепчиками, между которыми был и парадный (с золотыми колосьями), с её разнообразнейшими вареньями и соленьями, с её тихими песенками, обрывки которых долго звучали в ушах Сонечки и, быть может, будут звучать всю её жизнь, с её приметами и верою в дурной глаз и наговор, с её удивительным незлобием и покорностью судьбе. Мамаша водила Сонечку по праздникам в церковь. Отец Павел, в сверкающей ризе, тряся остренькой бородкой, уронив в изнеможении руки и вперив глаза в самую верхушку иконостаса, блестевшую в голубоватом столбе солнечного света, читал молитвы умирающим голосом, а мамаша набожно крестилась. Пальцы её долго останавливались на лбу, а затем уже, быстрее, переходили на перси и плечи, и губы её улыбались в экстазе. Сонечка подражала мамаше, следила за движениями её руки, и точно так же притискивала пальцы ко лбу и точно так же улыбалась, сожалея только, в душе, что на её шляпке нет дрожащих беленьких цветочков на тоненьких проволочных стебельках как у мамаши. Когда диакон кадил в их сторону и кланялся, они тоже кланялись. По возвращении из церкви, Сонечка съедала мамашину просфору и читала вслух евангелие или житие какого-нибудь святого или святой.
Этих житий, грубо напечатанных отдельными московскими книжечками, на серой бумаге и с суздальскими гравюрами, чрезвычайно занимавшими Сонечку, было у мамаши многое множество. Она покупала их у заезжих разносчиков. Сонечка ознакомилась с разными малоизвестными сторонами жизни святых. Она узнала, что св. Антонию являлся враг человеческий (он же князь тьмы) в образе нагой прелестницы, а Мария Египетская ходила по воздуху, когда, наконец, отмолила свои грехи. Были святые, которые единым словом укрощали львов и гиен, воскрешали мёртвых, излечивали от трудных болезней. Были такие, что по тридцать лет не сходили с одного места, подобно Симеону Столпнику, врастали в землю, ели по просвирке в день и нещадно били себя, носили вериги, не говорили ни слова как Иоанн Молчальник, изумляя всех лютой суровостью своего подвига. Были мученики и мученицы, которых жгли, кололи, стругали, резали, а они всё прославляли Христа и, наконец, умирали, созерцая разверстые небеса. Сонечка могла тогда рассказать многое из житий этих угодников Божиих и так настраивалась, что когда чувствовала за собой какой-нибудь грех, то, ложась в постель, трепетала, потому что боялась найти под одеялом врага человеческого, с хвостом, рогами и огромным улыбающимся ртом, как это случилось однажды, кажется, с преп. Илларионом.
На половине мамаши собирались бедные дворянки-соседки, и Сонечка любила их общество, играла с ними в короли, слушала их сказки, которые были занятнее и вычурнее Агафьиных, и влюблялась то в ту, то в другую, так что, бывало, следом ходит за любимицей и во всём ей подражает — так же кашляет, делает глаза, изменяет голос, улыбается, гримасничает.
Летом, в особенности в отсутствие папаши, Сонечка часто наведывалась в сад и бегала там по заросшим дорожкам и оврагам как дикарка. Ей нравился зелёный сумрак старых деревьев, их гулкий шум, беспорядочный крик птиц.
«О чём кричат птицы?» — шевелился в её детской душе вопрос, и она широко раскрывала глазёнки, прислушиваясь к говору природы, дышавшей на неё медовым запахом липы, сочной зелёной травы, сыростью перегнивающих на земле листьев, под которыми, если отвернуть их, бегают крохотные козявочки, извиваются червячки, страшные и нестрашные, или ползут паучки, красные как кровь. На пруде, затянувшемся у крутого берега ряской, плавают, среди широких плоских листьев, цветы точно белые звёздочки, яркие и должно быть душистые. «Хорошо бы нарвать этих цветов», — думала Сонечка и жадно смотрела вниз на пруд, не смея войти в него, потому что папаша строго-настрого запретил это делать, с тех пор как утопилась в этом пруде Грунька Рябая форма. Пруд наводил Сонечку на грустные мысли. А однажды, когда лягушки уныло тянули свою односложную бесконечную песенку, ей ясно послышался чей-то плач, там, в густом камыше, где в прошлом году был выводок диких утят. Сонечка подумала: «Это Груня плачет».
Когда вечер спускался на землю, и в его желтоватом сумраке тонули дали, Сонечка забиралась в мезонин и садилась у открытого окна. Перед ней лежал сад, мрачный, огромный, и тихо дышал, засыпая. Он уходил под гору, теряясь в овраге, откуда поднималась сизая дымка тумана. Направо темнела деревня, с облаком розовой пыли над нею, полная вечерних звуков — мычания коров, блеяния овец, брёха собак и звонкого крика баб. Налево белела церковь, окружённая венком деревьев, облитая догорающим огнём закатывающегося солнца. Прямо, за оврагом, расстилалось поле, необозримое, мягко сливающееся где-то далеко-далеко с палевым небом. Кротостью и миром веяло от этих картин.
Но вот зажигались звёзды в потемневшем небе. По словам мамаши и Агафьи, то были свечки, которые держали в руках хороводы ангелов. Как ласково мигали эти разноцветные брильянтовые огоньки, и как нежно дула ночь в лицо Сонечки, точно над нею парили крылья тех незримых существ! А в саду было тихо. Недвижно стояли деревья и спали. Спала деревня. Спала церковь, белая как привидение.
Действительность и сказка сливались тогда для Сонечки, в эти часы её детского созерцания, в один мир, волшебный и странный. Она мечтала. Она часто воображала себя маленькой царевной с золотой короной на голове. Живёт себе царевна да поживает, ест миндаль и конфеты, и все вокруг неё веселятся, и ей самой весело. Вдруг откуда ни возьмись злой волшебник Карломан. Он хватает царевну и уносит её в мрачный замок, находящийся вон там, в овраге. Он мучит её, задаёт огромные уроки из грамматики Востокова и требует, чтоб она сказала миллион имён, кончающихся на ёнок. Царевна ломает руки, в отчаянии ходит по залам замка, и шлейф её царского платья шумит. Она не знает столько имён, она плачет. А Карломану только этого и надо, потому что каждая слезинка её, падая на землю, превращается в крупную жемчужину. Много лет прошло с тех пор, как она в заточении. Когда настанет конец её тоске, её мукам? Что делается там, в её царстве? Кто утешает мамашу? Не умерла ли няня Агафья? Ах, как всё это хочется знать, и как зол Карломан, особливо по утрам, когда молится, вооружённый своим ремнём! Никогда не доводила Сонечка до конца своих грёз. Царевна оставалась в плену, окружённая всевозможными ужасами, летучими мышами, шипящими змеями, кривляющимися карликами, и единственным утешением её была надежда, что когда-нибудь кто-нибудь разобьёт страшный замок, прогонит Карломана и спасёт Сонечку, и она побежит, свободная, с весёлым, резвым криком, вон по тому необъятному полю, что ночью кажется седым, и что днём волнуется как золотой туман.
Как не помнила Сонечка, когда она выучилась грамоте, так не помнила и того, как и когда начала рисовать. Но кажется, что Машка Аршин и тут была её первой наставницей, потому что обводила углём на стене очертания тени от Агафьи или Груньки Рябой формы, и таким образом получались фигуры, в которых самый опытный глаз художника, едва ли признал бы человеческие изображения, но которые забавляли и восхищали Сонечку наравне с Агафьиными лошадками и санками. Когда подросла, она завела род альбомчика, крошечную книжечку, сшитую золотым шнурком, и всю разрисовала чернилами. Обилие тем была поразительное. Лица изображались преимущественно в профиль, с палочкообразными носами и руками, напоминавшими куриные лапки. Одна картинка представляла Машку, дававшую барыне умываться, другая — Агафью, третья — пьяного Ваньку Беззубого, четвёртая — лошадей, пятая — дом, окружённый деревьями, шестая — огонь. Потом этот натурализм сменился идеализмом, и была сделана новая книжечка, в которую заносились изображения святых, ангелов и чертей, отличавшихся длинными кренделеподобными хвостами. Временный упадок искусства выразился в сильном подражательном направлении — тон задавали суздальские картинки. Дошло даже до скопировывания их при помощи папиросной бумаги. Но вскоре искусство вновь расцвело, и появился ряд новых оригинальных и более совершенных композиций. Толчком послужило следующее обстоятельство.
В мезонине, с незапамятных времён, валялись, среди всевозможного хлама, три масляные картины. Однажды Сонечка рассмотрела их. Одна из них была прорвана, небольшая, квадратная, какого-то мягкого, золотистого тона. Сонечке она понравилась, она смахнула с неё пыль и повесила её на стене. Картина изображала Елисавету с предвечным младенцем на руках, кудрявым, полненьким и цветущим, но с серьёзным и капризным личиком, обращённым с недоумением к своей няне, между тем, как рука его протягивалась прямо к зрителю, ладонью вперёд и, казалось, выходила из полотна — так она была неподражаемо хорошо сделана. Елисавета, в тёмной шёлковой одежде, собравшейся во множество красивых складок на рукавах и коленях, заботливо и опасливо смотрела на него. Но в особенности удивительно было изображение Богоматери, в тёмно-зелёном платье, с буфами на плечах и в головном уборе, ниспадавшем лёгкой прозрачной дымкой до самых рукавов. Глаза её были опущены, и их мягкий свет чувствовался за шёлком ресниц, разливая радость на её прекрасном лице, молодом и проникнутом кроткой величавостью. Внизу, левее, у ног Марии, полулежал, опираясь на локоть, Иоанн Креститель, и на его лице, обращённом к матери, проступала ревнивая тревога как у детей, впервые сознающих, что родители их бедные и незнатные, и им суждено влачить жизнь слуг у нарядных барчуков, с которыми они вот сейчас играли запанибрата, ничего не подозревая. На две другие картины, изображавшие голых женщин, Сонечка не обратила большего внимания, но эта маленькая картинка приковала её к себе, и она часто бегала на мезонин, чтоб посмотреть на неё, пока граф не потребовал, чтобы ему выслали в Петербург все имеющиеся в доме картины. Сонечка огорчилась, когда увезли её сокровище, и долго напрягала все усилия, чтобы воспроизвести что-либо подобное, только ничего не выходило, да прежние альбомы её стали казаться ей гадкими, и она тихонько порвала их.
Между тем, ей исполнилось десять лет. Она покончила уже с четырьмя правилами арифметики, французским чтением, краткой священной историей, половиной грамматики Востокова, прочитала Пушкина, «Мёртвые души», несколько книжек «Современника», «Весельчак» за целый год и «Народную медицину» Чаруковского. Папаша в один прекрасный день решил отдать её в пансион и, недолго думая, разлучил с мамашей и всем, что ей было так близко и дорого.
Уезжая, она горько плакала. Было холодное утро, хмурилось небо.
VI
Сонечка рассказала Ивану Иванычу о своём детстве, о своём пансионском и гимназическом житье-бытье, а Иван Иваныч рассказал ей всё о себе. Узнав друг друга ещё ближе, они ещё более сошлись и часто говорили, что созданы друг для друга и умерли бы с тоски, если б их разлучили. Явилась жажда знать все секреты друг друга, и Иван Иваныч принёс ей однажды свои альбомы с карточками друзей и знакомых, сувениры, полученные в разное время от родных, причём, однако, медальон с портретом жены не показал, а бросил в камин (это было вскоре после ссоры с Полиной Марковной), тетради со стихами, писание которых возобновил недавно, несколько номеров газет, где были помещены его статейки, и один крошечный рассказ о том, как мужик жида убил, а становой взятку взял за что-то с жидовки, напечатанный в тогдашней «Искре». Сонечка порылась в своей шкатулке и, в свою очередь, показала её достопримечательности — русый локон покойной мамаши, тщательно завёрнутый в траурную бумажку, карандашную копию со св. семейства, «что на мезонине», сделанную уже очень давно и достаточно уродливую, портрет Агафьи, тоже неправильно нарисованный и, однако же, улыбающийся, почти живой, современный предыдущему рисунку, более двадцати карточек подруг, истрёпанный номер «Колокола», начатую и неоконченную поэму, которая потом была переделана и сообща доведена ими до конца под названием «Деревня», и пачку писем, в числе которых были письма от Лозовского, писанные к Сонечке в деревню, во время последних рождественских праздников. Кроме того, много было сухих цветов, придававших своим увядшим ароматом поэтическую прелесть всему этому собранию сувениров, по крайней мере, в глазах Ивана Иваныча. Относительно писем Лозовского тут же, по прочтении их Иваном Иванычем, сожжённых Сонечкою (Иван Иваныч с улыбкой смотрел на это аутодафе), у него завязался разговор с девушкой. Он находил, что Лозовский не такой уже сухой и прозаический человек, как думает Сонечка, а Сонечка утверждала, что «нет, это очень, конечно, образованный буржуа в коже семинариста, который совершенно доволен своим учительским местом и наверное скоро опустится до окружающего его уровня, да так этого и не заметит, а всё будет хохотать и ломаться». В письмах он упрашивал Сонечку оставить заоблачность, наплевать на поэзию и, сделавшись поскорее его женой, заняться в гимназии обучением подрастающего поколения, «чтоб толк вышел из её деятельности, а не одни фантазии».
— Мне этот тон не нравится, — с сердцем говорила Сонечка, — это меня оскорбляет. Фантазии — хорошо, да отчего же не попробовать? Не знаю, чем кончу, а только не сгибну бесследно — что-нибудь сделаю…
Чувствуя на себе восхищённый взгляд Ивана Иваныча, она конфузилась краснела и улыбалась ему, полузакрыв лицо как девочка, рукою, ладонью наружу.
— Нет, а согласись, Ваня, — продолжала она, оправляясь, — он всё третировал меня свысока и всегда хотел, чтобы я слепо принимала его мнения и убеждения, а когда я спорила, он сердился — потому что он в душе деспот, это уж пари держу! — и поднимал на смех, что мне дорого… А вот ты так мой! — прибавила она ласково, как бы проводя параллель между Иваном Иванычем и Лозовским, и Иван Иваныч на это улыбался не без чувства некоторой кокетливой горделивости, вполне убеждённый, что, конечно, он подходит Сонечке гораздо больше, и втайне даже соглашаясь, что Лозовский не только сухой, но и вообще противный человек.
О том, как Сонечка сошлась с Лозовским, Иван Иваныч узнал следующее:
Лозовский был назначен к ним, в гимназию, учителем географии и сразу обворожил учениц тем, что читал не по программе, уроков не задавал и не спрашивал, разве только для вида, чтобы начальство не косилось, и всегда умел заинтересовать класс своими лекциями. Педантом он не был, смотрел каждой гимназистке прямо в глаза с приятельской усмешечкой, точно был её закадычным другом и точно видел все её помыслы и сочувствовал ей главным образом в её оппозиции классным дамам и директрисе. Давал читать книжки всем желающим, а книжки были всегда умные и дельные, так что уже одним своим содержанием свидетельствовали о том, какой человек был их собственник. Встречаясь с ученицами вне гимназии, он продолжал держаться этого приятельски-покровительственного тона. Когда одна гимназистка, несмотря на вопиющую бедность, не была освобождена от платы за право учения, то Лозовский внёс за неё свои собственные деньги и сам порадовал девушку вестью об этом. Вообще он был популярен и, вероятно, искал популярности, потому что популярным быть приятно. Так, по крайней мере, объясняла Сонечка поведение Лозовского, на карточки которого был всегда большой спрос у фотографа. (Гимназистки, сообщила Сонечка, между прочим, покупали карточки Венцеславова, красивого актёрика, игравшего Гамлета, Карла Мора и других, и в дивертисментах говорившего гражданские куплеты). Сонечка долго дичилась Лозовского, хотя быстро отличила его в толпе других учителей. Сближению же её с ним помогло одно странное происшествие. Жила она, будучи гимназисткой, в доме окнами на улицу, против дома, в котором часто бывала в гостях начальница гимназии, особа близорукая во всех смыслах. Сонечка, обыкновенно, после обеда занималась лепкой из глины. Начальница, вероятно, очень любопытствовала узнать, что это такое, присматривалась и, наконец, решила, что дерзкая девочка показывает ей пальцы, быстро и на разные манеры, и заявила об этом в совете, ужасно негодуя и требуя исключения Сонечки из гимназии. Вызвали её для объяснения и чуть было не привели в исполнение предложение директрисы, так как Сонечка в ответ сказала, что удивляется, как такое вздорное обвинение не было тотчас отвергнуто, и как могли обсуждать его люди зрелые. Один только Лозовский вступился за неё, почтительно ломаясь перед начальницей и утверждая, что, конечно, показывание пальцев есть деяние несомненно преступное и наказываемое, но как акт, влекущий за собою серьёзные последствия, должно быть выяснено и доказано прежде всего; и поэтому он предлагает госпоже Свенцицкой, отложив в сторону критику поведения совета, как не подлежащую компетенции гимназисток, представить свои соображения насчёт того, что именно могло подать повод уважаемой начальнице к упомянутому обвинению? Не совершала ли она, обвиняемая, движений пальцами, которые могли бы показаться преступными в силу каких-нибудь оптических условий и особенностей зрения обожаемой начальницы? Ибо он уверен, что всё это есть плод недоразумения, и что во всяком случае движения пальцами, которые совершала Свенцицкая, и которые оскорбили достоинство любимой начальницы, были, выражаясь юридически, добросовестны и чужды внушений злой воли. Сонечка, выслушав Лозовского, успокоилась и улыбаясь объяснила, что, действительно, она каждый день лепит возле окна, и что вот, пожалуй, причина обвинения, потому что лепит она прямо руками, редко с помощью инструмента. Лозовский, сохраняя вполне серьёзный вид, попросил тогда, чтобы девушка проделала, в присутствии совета, несколько движений пальцами, аналогичных тем, которые она совершает во время своих скульптурных занятий. Но совет нашёл, что вопрос уже выяснен, и сама начальница, вспотевшая и красная, улыбалась всем блуждающей улыбкой, как бы прося извинения, и, подойдя к Сонечке, сказала ласково: «Ну, идите, милая, домой, да не будьте дерзки». Было уже темно; осенняя слякоть началась. Лозовский вызвался на крыльце проводить Сонечку и потом два раза перенёс её через лужу. Оба смеялись над начальницей, над советом, и Сонечка говорила Лозовскому, что благодарит его и не забудет, как он поддержал её. На половине дороги он пригласил её к себе и сказал, что это ничего, никто не узнает, к тому ж он учитель, а чаю всегда не мешает напиться, да он и продрог. Она зашла и просидела у него полчаса.
— Вот таким образом мы и познакомились, — говорила Сонечка Ивану Иванычу, прекращая на этом месте свои признания и крепко и часто целуя его в лоб, как бы желая заглушить этими поцелуями воспоминания о дальнейших подробностях своих отношений к Лозовскому.
Иван Иваныч не расспрашивал. Он знал, какие это были отношения. И хотя они серьёзны были только по цели, к которой вели, однако старался не думать о них, потому что в глубине души ревновал даже к прошлому Сонечки.
VII
Иван Иваныч так замечтался, что и не заметил, как прошло время, и стрелка часов с девяти передвинулась до одиннадцати, а солнечный луч, широко вливавшийся в окно почти в прямом направлении, скосился и стал освещать только край стола да часть подоконника. Из мечтательного забытья вывела его горничная, просунувшая в дверь два письма. Иван Иваныч вскочил и с тревожным недоумением схватил их, и принялся вертеть в руках, и рассматривать их штемпеля. Письма были из Петербурга, и адреса были писаны незнакомой рукой. «От кого бы?» — спрашивал себя Иван Иваныч. Вдруг сердце его забилось. «Ах, да это из редакции, а это от того господина, от Ширкова». Он поспешно вскрыл конверты и не ошибся. Письмо Ширкова, извещавшего, что хотя он и обещал Ивану Иванычу место, однако, к величайшему сожалению, никак не может устроить по своему, и вчера ещё вакансия, назначавшаяся для Ивана Иваныча, была замещена протеже главного начальника, — не произвело на Ивана Иваныча впечатления. «Чёрт с ним, — сказал он вслух, — пожалуй, этак и лучше», причём не мог не вспомнить с благодарностью, что главною причиною такого равнодушие его к служебному поприщу в Петербурге была Полина Марковна, ссудившая ему триста рублей. «Месяца на два этих капиталов хватит, — невольно сообразил он, — не то и на больше, а до тех пор можно отлично будет устроиться и найти другие занятия, хотя бы, например, литературные». Но второе письмо, редакционное, до того взволновало его с первых же строк, что он два раза принимался его читать и насилу мог удержать его, так тряслись его руки. Редактор начал с похвал поэме и в особенности хвалил места, принадлежавшие Сонечке, но в общем «вещь» не одобрял, находил её чересчур непродуманною, «сцементированною» из ряда стихотворений, имеющих между собою мало общего и, в конце концов, советовал разбить её на отдельные небольшие «пьески» и не спешить печататься, а дать стихам вылежаться да быть цензурнее. Тон письма был несколько официальный, но несколько и ласковый, каким говорят вообще с людьми, «подающими надежды». Спрятав письмо в портфельчик, Иван Иваныч стал поспешно одеваться, чтоб сейчас же бежать к Сонечке и сообщить ей весть об её стихах и предложить переработать поэму по рецепту редактора, выбросив всё, что принадлежит лично ему, Ивану Иванычу. Нисколько, по-видимому, не ревнуя к Сонечке и, напротив, получив твёрдую уверенность в том, что у неё есть талант, и даже преувеличив её поэтические способности, он, однако, был огорчён и в глубине души мучился, отчего он не такой писатель, произведения которого сразу могли бы найти себе цену и притом высокую на литературном рынке.
Но одевшись, он произнёс себе в утешение: «Этот редактор может ещё и ошибаться; хвалит же он, между прочим, Сонечкину строфу об иве, совсем, правду сказать, плохенькую», и вышел в сравнительно хорошем расположении духа.
Было очень жарко. Пыльный воздух раскалялся. Во многих домах были закрыты ставни. Вяло шли люди. Вяло проехал парный извозчик. Тополи были серы от пыли, и небо, бледно-голубое, утомительно блестело. Пройдя несколько улиц, Иван Иваныч принуждён был снять шляпу и вытереть платком пот.
«А что если я не застану Сонечки? У неё, кажется, урок теперь».
Он ускорил шаг, чтобы удостовериться, ошибается он или нет, и даже загадал, что если застанет её дома, значит, уедет с ней завтра.
Сонечка была дома. По раскрасневшемуся лицу её можно было видеть, что она только что пришла. Увидев Ивана Иваныча, девушка радостно вскрикнула и побежала к нему, схватив его за обе руки и прижимаясь подбородком к его груди, а глаза её искрились, тревожные и любящие, и в них стояли слёзы.
— Что с тобой? — в волнении спросил Иван Иваныч, целую Сонечку и снова, уже с большим волнением, вглядываясь в её глаза; обняв за талию, он повёл её к дивану.
— Что с тобой? — повторил он. — Сонечка, моя дорогая, моя милая, что с тобой?
Она не отвечала и всё прижималась к нему. Он посадил её к себе на колени, и она сначала слегка сопротивлялась, потому что это он в первый раз позволял себе. Она обняла руками его шею и, тряхнув головой, так что бархатка перестала держать её золотые волосы, и они рассыпались, душистые и тяжёлые, и ударили его чуть-чуть по лицу, сказала шёпотом, глядя ему в глаза своим прекрасным, не то робким, не то испытующим взглядом, помутневшим от слёз:
— Любишь?
— Сонечка, что за вопрос? — сказал он с улыбкой и поцеловал её в голову. — Я тебя люблю, дорогая, конечно…
Он опять поцеловал её крепче и прижал к себе.
— Но в самом деле, что с тобой, дорогая? — спросил он с новым приливом беспокойства, почувствовав, что сердце её бьётся неровно, и услышав, что она всхлипнула.
— Оставь меня, Ваня, не расспрашивай, — сказала она, силясь подавить слёзы смехом и вскакивая с его колен. — Всё это пустяки, милый, — продолжала она, наклоняясь, чтоб распрямить складку на платье, а в сущности для того, чтоб спрятать от него плачущее лицо.
— Я вот сейчас…
Она выбежала.
Иван Иваныч вздохнул.
«Что это? — подумал он. — К чему этот вопрос — любишь? Уж не настроил ли чего-нибудь Лозовский?» — сообразил он и встал, теряясь в догадках.
«Ехать! Ехать! Как можно скорее! — решил он затем. — Прочь из этого омута! Там не будет слёз, не будет интриг! Прочь, это — единственное средство!»
Он окинул комнату Сонечки взглядом, как бы упаковывая все её вещи в дорожный сак, уже висевший на стене.
Сонечка вошла, продолжая смеяться, точно извиняясь за свои слёзы. Брови её и часть волос были влажны, потому что она умылась, чтоб освежиться.
— Не обращай на это внимания, — сказала она, — это пустяки.
Она сама села к нему на колени, и обняв его по-прежнему, с улыбкой скороговоркой произнесла:
— Не обращай, не обращай!
Он успокоился, хоть и продолжал недоумевать, и даже хотел спросить: «Всё-таки что это значит?», но Сонечка перебила его и сказала:
— Так повтори — любишь?
— Да, Сонечка, — отвечал он, улыбаясь.
— И никогда не бросишь?
— Никогда. Господи, вот ещё выдумала вопрос!
Сонечка пристально посмотрела ему в глаза и, усмехнувшись, ласково произнесла: «Ах, ты, мой милый!» и потрепала его по щеке.
— А то знаешь, милый, меня сегодня очень обидели, — начала она, краснея. — Я тебе расскажу, потому что ты меня любишь, так что мне всё равно, если меня они обижают — чужие, — лишь бы ты не обидел. Понимаешь, милый?
— Кто ж тебя обидел? — спросил он гневно.
Она прикрыла его губы рукой.
— Ну, ну, не сердитесь, милостивый государь, пожалуйста! — сказала она капризно как девочка, прикрывая этим жгучее чувство полученной ею обиды, а может быть, и радуясь его гневу, который говорил ей, что она не одна и не беззащитна. — Мне, — продолжала она, — генеральша отказала сегодня от урока и сказала, что я могу бросить тень на её бесподобных дочерей… Как вам нравится это… А? Я это посчитала во всяком случае обидой…
Иван Иваныч побледнел и сидел некоторое время молча. Потом взял руку Сонечки, крепко прижал её к губам и сказал:
— Прости меня, голубочка! Это я виноват. Неосторожно веду себя. Бываю у тебя часто. Но завтра, наконец, мы уезжаем…
— Завтра? Так это правда? — вскрикнула Сонечка. — Неужели завтра? Полина Марковна вчера говорила, что скоро, да я не верила… Боже мой, завтра! Достал денег?
— Достал у Полины же Марковны. Знаешь, она — хорошая женщина, — произнёс Иван Иваныч, задумчиво глянув в пространство.
— Она хорошая, — сказала Сонечка, убеждённо и с увлечением, и воскликнула в восторге. — Ну так завтра? Повтори же!
— Завтра.
— Не ожидала, право! Хотела просить тебя, когда шла от этой противной идиотки-генеральши, чтоб уж скорей. У меня ведь собралось кое-что, на дорогу хватило бы… А тут — это! Ах, это хорошо! Это совсем хорошо! Это спасибо… Полина Марковна, — где же она, — дома? Надо её пойти поцеловать… Она — милочка, я ей в ноги поклонюсь, за всё поклонюсь… У неё сердце хорошее, нравственное, потому что это трудно, должно быть, переламывать себя так… Вчера она плакала, и я плакала… Мы, женщины, — дуры, у нас слёзы заменяют красноречие, но мы чувствуем и понимаем этот язык как никто… Вот я и увидела вчера, как ты ошибался, милый, и как она искренно относится к нам… Ах, так завтра! Наверное, завтра?
— Завтра, голубочка, — отвечал Иван Иваныч, — завтра!
Сонечка стремительно поцеловала его в обе щеки, трепеща всем телом, охваченная радостью.
— Милый, забудь, — кричала она, — мои слёзы, ради Бога, забудь, это всё такие пустяки! Ради Бога!
— Но ещё не всё, Сонечка, — сказал Иван Иваныч, осчастливленный поцелуями Сонечки и её восторгом, — вот тебе письмо из редакции. Стихи твои хвалят.
Она вырвала письмо и стала читать, всё продолжая сидеть на коленях Ивана Иваныча, между тем как он перебирал её волосы и ждал с любопытством, что она скажет. Дочитав письмо, она, видимо польщённая отзывом редактора, улыбнулась Ивану Иванычу какой-то лукавой и хорошей улыбкой, какой он у неё никогда ещё и не замечал, и произнесла:
— О, милый, да, мы будем писателями, вот посмотришь… Это ничего, что неудача. Иное поражение стоит победы. Не правда ли?
— Конечно, конечно, — сказал Иван Иваныч с усмешкой.
— А слёзы забудь, — повторила она, ласкаясь к нему и прижимаясь подбородком к его плечу. — Забываешь?
— Забываю, — сказал Иван Иваныч с той же усмешкой.
Сонечка внимательно посмотрела ему в лицо, он смутился и слегка скосил глаза.
— Неужели, милый, ты недоволен? — спросила она.
— Друг мой, тебя хвалят, — сказал он, краснея и опуская ресницы, — но меня ведь не тово… О моих строках редактор отзывается как о холодных и риторичных… Это меня, признаться, не радует, — прибавил он с улыбкой, — хотя, конечно, твоему успеху я бесконечно рад. Ты вообще удивительно талантливая головка!
Сонечка покраснела, в свою очередь, и подумала: «В самом деле, я — эгоистка. Как же я не заметила, что его стихи не одобрены? А ведь несправедливо — у него прелестные стихи».
— Милый, тебе всё-таки нечего огорчаться. Во-первых, поэма наша, а не моя и не твоя, а во-вторых, редактор не такой уж судья непогрешимый… Может, он зря понаделал замечаний… А?
— Может быть, — сказал Иван Иваныч, — может быть!
— Да, наконец, ты, пожалуй, будешь силён в романе. У тебя этот рассказик в «Искре» прелестен… — сказала Сонечка. — А роман, право, выше стихов!
Иван Иваныч кивнул головой и вздохнул, и ему показалось, что все его мечты о литературе — детство, потому что будь он талант, он сразу заявил бы себя, да и Сонечка это наверное хорошо сознаёт и вот сейчас деликатно намекнула ему, что он не стихотворец.
«Романист!» — сказал он себе и криво усмехнулся, а девушка тревожно взглянула на него и погладила его по щеке рукой.
— Милый, не теряй энергии и не грусти по пустякам, не то сейчас же разлюблю, — произнесла она с шутливой угрозой.
Он подумал, и вдруг сжал Сонечку в сильном объятии.
— Пока ты со мной, милая, я никогда не паду духом! — прошептал он, и глаза его заискрились страстью. — Ведь я люблю тебя, неимоверно люблю, воскресаю душой и сердцем возле тебя, слышишь?
— И я тебя люблю, и стихи твои прелестны! — отвечала Сонечка, чувствуя, что взгляд её зажигается и тонет в его взгляде.
Иван Иваныч улыбнулся на её слова, но уже не скептически. Разом пропали все его тревоги и сомнения. «Не я, так она, всё равно — мы один человек!» — решил он, благоговейно восторгаясь пред Сонечкой, и с восхищением продолжая глядеть на неё, и робко ища её руки, пока глаза её не опустились в тревоге, и тёмные ресницы не оттенили белизны её щёк, вдруг вспыхнувших ярким румянцем.
…
VIII
Иван Иваныч ушёл от Сонечки, удивляясь высоте своего счастья, о которой прежде и не мечтал, потому что уже поцеловать её руку было для него тогда верхом блаженства. На лице его, он чувствовал это, изображалось такое полное удовлетворение жизнью, что он не удивился, когда некоторые знакомые посмотрели на него внимательно и как бы с любопытством. В канцелярии, куда он зашёл выправить свою отставку, он, считавший себя счастливее и поэтому выше всех в мире, стал разговаривать с начальником на равной ноге, даже свысока, и испугал этим секретаря всю чиновную братию, вообразившую, что он немного рехнулся; да и сам начальник от него слегка попятился и поспешил подписать ему свидетельство безотлагательно. Он этого ничего не заметил, дал сторожу три рубля на прощанье и запел: «трам-трам-ти-ра-рам» чуть не в пределах самой канцелярии. Оттуда он зашёл за подорожной, и хотел было направиться домой, чтоб уложиться, но сообразил, что успеет это сделать ещё на сон грядущий, домой же идти ему очень не хотелось. Как только узел его с Сонечкой завязался до того прочно, что развязать его уже казалось невозможным делом, он почувствовал отвращение к дому. Сидеть так более или менее спокойно в кабинете и мечтать как сегодня утром он не мог бы больше. «Даже, — решил он, — обедать дома я не в состоянии», и пошёл в клуб, где пообедал в обществе какого-то консисторского чиновника, двух офицеров и актёра Венцеславова, гладковыбритого, задумчиво-величавого и с великолепными чёрными волосами. После обеда он стал пить кофе и шутил с лакеем; вообще был весел. Расположение его духа не изменилось даже от появления в обеденной зале Лозовского, устремившего на него насмешливые глаза и не заметившего его поклона. Вспомнил он, прихлёбывая кофе с коньяком, как огорчило его утром письмо редактора, и как он, в сущности, позавидовал Сонечке, и ему сделалось стыдно и смешно теперь, улыбка невольно скользнула по его губам. Ему понравилось, что Сонечка порекомендовала ему беллетристику. «В самом деле, — думал он, — займусь прозой и изображу в этакой большой повести всех этих скотов». Он посмотрел на окружающих оком собственника, точно и в самом деле он был романист и видел перед собою уже созданные им самим типы и образы во всей их жизненной правде. «Вот и обстановку эту изображу», — сказал он и внимательно глянул на стойку, где блестели бутылки, рюмки и стаканы, на стены, оклеенные голубыми обоями, закопчённый потолок, лампу, окна с пожелтелыми гардинами, стол с приборами, искусственным букетом цветов и скатертью, пёстрой от горчичных пятен. «Во всяком случае, я прощаюсь с клубом, — подумал он, — и вижу эти рожи и всю эту грязь последний раз», и встав, бросил лакею рубль: «На, — мол, — друг любезный, — не поминай лихом».
«Куда же теперь? — спросил он себя, очутившись на улице. — Конечно, к Сонечке. Жаль, что не пришло в голову обед устроить вместе… Она у этой своей хозяйки дрянь ест, должно быть, невообразимую, да и следовало бы отпировать сегодняшний день хоть в форме обеда. Но всё равно, напьёмся вместе чаю и, кстати, помогу ей уложиться. Уложу её, а потом, уже и свои вещи пойду укладывать».
Сонечка встретила его не так тревожно как утром, хотя можно было заметить, что она скучала в его отсутствие. Она улыбнулась ему не то любовно, не то конфузливо, но сейчас развеселилась, видя, что он сам не только весел, но даже имеет беспечный вид окончательно счастливого человека.
— Свободен уже совсем? — спросила она, намекая на отставку.
Иван Иваныч молча показал бумагу и кивнул головой.
— Значит, и ехать можно?
— Можно, — отвечал он и показал подорожную.
— Поедем сегодня, а!?
— Поедем, — произнёс он с ленивой улыбкой, как бы говоря: «Чего уж так спешить, успеем и завтра!»
Сонечка так это и поняла и замолчала. Потом вынула из портмоне пачку десятирублёвок и сказала:
— Вот я тебе говорила… Вот, смотри, у меня на дорогу сто рублей.
— А!?! — весело протянул Иван Иваныч и развалился на диване, — «как у себя дома», — определил он мысленно с восхищением.
— Будем чай пить, вот что! — сказал он. — А что деньги у тебя — так это очень хорошо. Лишний месяц жизни обеспечен.
Сонечка приказала поставить самовар, вернулась в комнату и присела возле Ивана Иваныча.
— Не почитать ли нам, Сонечка, покамест! — сказал вдруг Иван Иваныч и посмотрел на толстую книгу, лежавшую на столе.
Но девушка затрясла головой.
— Нет, уж ради Бога не будем читать! — крикнула она с весёлым испугом. — Мне этими умными книжками ещё Илья Петрович жизнь отравил. Захочу и сама прочитаю. Так и толковее выйдет. А то как в тенденциозном романе: полюбили друг друга и сейчас умные книжки читать. Не правда ли, Ваня?
Он засмеялся.
— Так давай говорить глупости…
— Давай.
— Будем мечтать!
— Будем.
Он описал дорогу в Петербург, в котором был однажды вместе с Полиной Марковной. Сначала перекладными, а потом и чугункой. Описал приезд в столицу, первые впечатления от Невского, от дворцов, от набережных, от Исаакия, от Эрмитажа, в котором есть такая удивительная старушка, что никак не верится, что это нарисовано, и как близко ни подходи, все поры видишь, все морщиночки, а краски — ни следа. Он эту старушку только и запомнил. Описал маленькую квартирку на Петербургской стороне, с цветами, простенькой мебелью, и одну комнату взял себе, другую сделал общею, а из третьей устроил несколько фантастическую мастерскую для Сонечки — с Рембрандтовским светом. Сонечка слушала всё это с тихой радостью и находила, что большое счастье быть женой Ивана Иваныча (она уже считала себя его женой), который, главное, добр и мил. Слушая его, она целовала его и прижимала его руку к своей груди.
Подали самовар. Сонечка села к столу и заварила чай, для удобства откинув слегка рукава, и Иван Иваныч с удовольствием посмотрел на её руки, тонкие и круглые, с тёплым оттенком белой кожи, с голубыми жилками. Окинув таким же взглядом всю фигуру Сонечки, стройную и пропорциональную, с тонкой и гибкой талией, он подумал: «Сколько счастья! И за что?»
Он встал и сел возле неё.
Лицо Сонечки было удивительно хорошо. Свет падал прямо на него, и оно было на виду. Мягкие золотые кудерки на висках ползли назад, вместе с волнистыми прядями более тёмного, почти русого цвета, и открывали её белый лоб, теперь невозмутимо гладкий, и розовые уши. Чуть заметный пушок тушевал нежный очерк её лица, и на одной щеке, где было родимое пятнышко, неровно разливался розовый румянец, а другая была чуть-чуть бледнее. Яркие губы улыбались, и глаза сияли мягким блеском.
«Сколько счастья!» — повторял Иван Иваныч мысленно и не спускал глаз с Сонечки, чувствовавшей это и стыдливо по временам потуплявшейся.
Он сказал:
— Сонечка, знаешь что?
— Что, милый?
— Я сейчас после чаю пойду домой, уложусь и притащу к тебе чемодан… Хотел не так, да так лучше… Что уж тут, Сонечка… отчего не сократить срока? — спросил он робко, и ещё боязливее прибавил, — уж от тебя уедем чуть свет…
Сонечка закрыла глаза рукой и, подав ему не глядя другую руку, сказала чуть слышно:
— Хорошо.
Помолчав, она начала:
— А к Полине Марковне… Мне хотелось к ней сходить…
— Пожалуй, сделай ей прощальный визит… Этак совсем уж вечерком, — сказал Иван Иваныч с чуть заметной гримасой, потому что вспомнил утренний разговор свой с женой и его ближайший результат — ощипанную розу на полу. — Видишь ли, она хотела нас провожать… Но, может быть, это будет ей тяжело — обременит её, — пояснил он тоскливо и произнёс, — но впрочем, она рано не встанет, проспит.
Сонечка посмотрела на него и сказала:
— А мы — эгоисты, Ваня!
— Тут эгоизм простителен, — отвечал Иван Иваныч.
Они оба замолчали, и долго сидели так, и пожимали друг другу руки.
В открытое окно из цветника тянуло сиренью, жасмином и резедой, и долетал изредка уличный шум пробудившегося от дневной спячки города. То был, казалось, совсем другой мир, враждебный молодым влюблённым и преследующий их злословием, мир, с которым они порвали сегодня окончательно и закрепили этот разрыв взаимным союзом. Сонечка, вспоминая, как грубо оскорбила её генеральша, с отвращением думала об этом мире и, с любовью глядя на своего «мужа», говорила себе: «Но теперь, кажется, всё кончено. Он — мой, и я — его, и нам нечего стыдиться этого. Рубикон перейдён, мы скоро будем в Риме»…
Однако же, по мере того как продолжалось их безмолвное созерцание огромности счастья, выпавшего на их долю и казавшегося им какой-то перспективой наслаждений, которая будет развёртываться перед ними вечно, — чувство, похожее на недоумение или даже на страх, стало шевелиться в её груди всё назойливее и назойливее, точно это было угрызение совести, ещё не сознаваемое ею и едва зародившееся. Иван Иваныч, ничего сначала не замечавший, под конец таки увидел, что взгляд её сделался беспокоен, и что в нём опять промелькнул грустно-боязливый оттенок, как это и прежде случалось ему наблюдать. Но он ничего не сказал теперь, опасаясь нарушить своим вопросом душевный мир свой и думая, что это так, что это сейчас пройдёт, вот только стоит обнять Сонечку погорячее.
Он уже и протянул к ней руки, пьянея от прилива любви к ней, как вдруг она побледнела, глаза её широко раскрылись, и она привстала, отстраняя его рукою и с ужасом прислушиваясь к разговору в передней, где кто-то тихо, надтреснутым баском, спрашивал:
— Что ж она дома, или у неё гости?
— Отец!! — сказала она, вздрогнув. — Отец, это отец!!
Она сделала, в свою очередь испугавшемуся, Ивану Иванычу знак, как бы приглашая его исчезнуть.
IX
Испуг Ивана Иваныча был тем более мучителен, что настроение его перед этим было невозмутимо радужное.
«Отец!? — подумал он. — Как отец? Какой отец? Ах, да! Ну куда же деваться?.. В окно? Но ведь это нелепо. Сонечка уважать меня потом не станет. Зачем же в окно, когда можно в другую комнату, в эту тёмную, где стоит рукомойник? Или, нет. Зачем же? Этот отец может пойти туда прямо, застать меня там, и тогда совсем сделается ясно, что я за птица. Буду сидеть себе просто так, будто я хороший знакомый, пришёл по поручению жены… А главное, и уйти никуда нельзя, двинуться с места нельзя, потому что вон дверь отворяется», — заключил он в ужасе и тоске.
Дверь действительно отворилась, и вошёл Свенцицкий, внося с собой запах дорожной пыли и сена, потирая руки, сладко улыбаясь и любезно поглядывая исподлобья на дочь и Ивана Иваныча, которые при виде его ещё больше побледнели. Руки их затряслись и ноги подкосились, но губы стали тоже улыбаться.
— Милая дочурка моя, радость моя! — начал скороговоркой Свенцицкий и, подойдя к дочери, крепко поцеловал её в лоб, раз и другой, с истинно отцовским увлечением.
Это уже был седенький старик, и ноги его плохо сгибались у колен, но вид имел он бодрый, а загорелая красная шея свидетельствовала об его здоровье.
Поцеловав Сонечку, он вопросительно, хоть и вежливо, остановил взгляд на Иване Иваныче, и Сонечка, водя в тревоге пальцами одной руки по ладони другой и стараясь смотреть отцу прямо в глаза, сказала:
— Мой друг…
— Твой друг? — переспросил отец, умильно погладив свою голову и наклонив её наискосок к Ивану Иванычу. — Очень приятно познакомиться с другом моей дочери. Вероятно, честь имею видеть Илью Петровича Лозовского? Помнишь, Сонечка, ты мне показывала на святках карточку? Можно сказать, поразительное сходство…
Кровь хлынула в лицо девушке. «Он всё знает, он предупреждён, — подумала она. — Он только притворяется, это ясно, потому что он тридцать раз видел карточку Ильи Петровича, и шутил над его разбойничьим видом, и не мог забыть его физиономию так скоро»…
В изнеможении она опустилась на стул и стала торопливо потчевать отца, проливая мимо из чайника чай на скатерть. Старик посмотрел на неё и сказал ласково, вскользь:
— Не трудись, дочурка; я, ты знаешь, до чаёв не охотник…
Он снова обратился к Ивану Иванычу:
— Отчего же вы, любезнейший, не пожаловали до сих пор к нам в гости, да и её притащили бы, да там бы — пора уж об этом прямо сказать — и свадебку сыграли бы? Хе-хе-хе!
Взяв Ивана Иваныча за руку, он тряс её с чувством, чересчур даже сильно, и крепко жал точно тисками, пронизывая его каким-то серым, не то масляным и слащавым, не то злым и лукавым взглядом.
— Друг моей дочери! Очень приятно! — повторил он с наслаждением и сел возле Ивана Иваныча, который не понимал, наяву это он всё видит и слышит, или грезит, и не верил своим глазам и ушам, не зная, что ответить Свенцицкому.
Наконец, сообразил, что тот ровно, пожалуй, ничего не подозревает и действительно принимает его за Лозовского, что возможно, при слабости старческого зрения, так как карточки не дают надлежащего представления о человеке, да и давно видел её Свенцицкий. Сообразив это, Иван Иваныч призвал на помощь весь свой такт и составил план обороны, впрочем смутный, причём рассчитывал и на откровенность, и на хитрость. «Соткровенничаю и схитрю», — решил он, а Свенцицкий, умильно щурясь, всё смотрел на него в ожидании ответа, и уходило время, так что мог наступить момент, когда и самая находчивая фраза в его устах могла бы показаться неловкой.
— Я действительно друг вашей дочери, — начал он пресекающимся голосом и смолк, и в голове его поднялся опять сумбур, какой бывает лишь в состоянии сильного охмеления, хотя и продолжалось это у него, как ему показалось, недолго.
— Слышал, слышал, — любезно сказал Свенцицкий, и ноздри его плоского носа дрогнули; это заметила Сонечка и смертельно испугалась — знала, что это не к добру.
А Иван Иваныч, чувствуя шум в ушах и напряжённо улыбаясь, как бы скрывая этой улыбкой двусмысленность своего положения, думал, что самое лучшее было бы, если бы Сонечка не называла его своим другом; тогда и хитрость какая-нибудь удалась бы; теперь же, главное, надо будет уйти поскорее, под благовидным предлогом, взять на почте лошадей, вызвать ночью Сонечку потихоньку (при помощи горничной, которой заплатить десять рублей) и увезти. «Вот это самое лучшее и единственное средство», — решил он и ободрился, так что мог спокойнее произнести:
— Но я ещё не столько друг Софьи Павловны, сколько моя жена, которая вот сейчас должна была явиться сюда…
— Жена! — протянул старик. — Так вы, Илья Петрович, женились?
Иван Иваныч покраснел и засмеялся.
— Я не Илья Петрович. Вы ошибаетесь… То-то я смотрю, что вы говорите такое и просто даже смешался… Я — Чуфрин!
— Чуфрин! Ха-ха-ха! — весело засмеялся в свою очередь Свенцицкий. — Как я однако ошибся! Что ж, приятно и с вами познакомиться…
Схватив руку Ивана Иваныча и глядя на него своим серым взглядом, он так крепко сжал её, что у Ивана Иваныча чуть не выступили слёзы.
«Подлый старикашка!» — подумал он с досадой и хотел подуть на пальцы, но воздержался и улыбнулся старику, который сказал, обращаясь к Сонечке:
— Да что ты такая бледненькая, встревоженная, моя милая дочурка? Вот твои новые друзья хоть бы о тебе позаботились, да посоветовали бы тебе в деревню, а они тебя всё в городе держат… Ах ты дочурка, дочурка!
Он взял её за подбородок, а она боязливо скривила в улыбку бескровные губы.
Она думала: «Скверная, скверная я, зачем боюсь его, зачем робею перед ним? Ведь люблю его мало, совсем даже не люблю… Ванечка, да помоги же мне! Скажем ему прямо, что любим друг друга и хотим жить вместе, что наше счастье в этом… Слышишь, Ванечка? Слышишь? Догадайся и начни, а я тебя поддержу. Не хитри с ним, Ванечка, потому что он хитрее тебя, и кроме того он зол на тебя и ненавидит тебя, я это вижу… Ванечка!»
Ей представилось ясно, что отец приехал именно затем, чтоб помешать их бегству — кто-нибудь написал ему, какая-нибудь Онупренко — и у неё холодели плечи от ужаса. Он казался ей всемогущим. Это не был один человек для неё. Над нею чёрным кошмаром тяготела теперь власть миллионов таких отцов, горой стоящих друг за друга, ревниво оберегающих свои роли владык и образующих нечто незыблемое, роковое, жестокое; и в виду этой бесчисленной армии, правильно построенной, с хорошо организованной командой, с опытными военачальниками и традиционным главным вождём, она считала себя ничтожной и слабой… Бороться с такой силой! Бороться одной!
«Ванечка, Ванечка!» — мысленно призывала она на помощь Ивана Иваныча.
Иван Иваныч между тем, укрепившись в уверенности, что придуманный им только что план бегства самый лучший, пуще всего боялся этой открытой борьбы, боялся, чтобы старик не догадался как-нибудь, в чём дело, и готов был распространиться о Лозовском и наврать о нём с три короба, например, что он его закадычный друг, и что Сонечка выходит замуж за Лозовского на той неделе и прочее.
Но старик едва только услышал от него о Лозовском, сделал несколько утомлённое лицо — «надоела мне вся эта комедия» — и оборвал его следующей фразой:
— Где же в самом деле ваша супруга? Было бы гораздо приличнее, — прибавил он, — простите за замечание, если бы вы посещали дочь мою совместно с нею. Не правда ли, дочурка?
Иван Иваныч встал и сказал:
— Сейчас она будет здесь… Вот я пойду, приведу её…
Свенцицкий ещё раз больно пожал ему руку и даже чуть-чуть скрипнул зубами, низко кивнув ему головой наискосок.
Видя, что Иван Иваныч уходит, Сонечка встрепенулась.
«Так нельзя, — подумала она. — Уж если ему написали о том, что мы любовники (этими словами наверно написали, но какое пошлое выражение!), так пусть он и от нас то же самое услышит. Начистоту лучше. Этак страха не будет, а то просто мучение».
Бледная и гневная, она крикнула:
— Ваня, стой!
Иван Иваныч так и ахнул.
«Всё испортила, — сказал он себе с ужасом, — старик и то насторожил уши. Что же делать теперь?» Он остановился перед нею, играя шляпой и с мучительным недоумением поглядывая на Свенцицкого, который стал улыбаться ему совершенно по-приятельски, что его окончательно поставило в тупик и сбило с толку. Мысли его опять спутались точно в хмелю, и был момент, когда он ничего не ощущал, кроме какого-то нытья в груди да шума в ушах. Он машинально подал руку девушке и очнулся наконец, когда услышал свой собственный вопрос, сказанный им как бы сквозь сон, помимо воли:
— Софья Павловна, что с вами?
— Неужели вы так уйдёте? — спросила она.
«Хорошо ещё, что она на вы перешла, — подумал он, — а той фразы, пожалуй, старикашка и не расслышал», и сказал, улыбаясь и делая ей глазами какие-то знаки, которых и сам не понял бы, но в полной уверенности, что она их не может не понять:
— Поверьте, Софья Павловна… Я скоро… — прибавил он, и Сонечке вид его показался растерянным, а поведение — двусмысленным.
Мучительное подозрение мелькнуло в её уме.
— Ваня! — прошептала она в тоске, поднося руки к бледным вискам.
Иван Иваныч страдал нестерпимо. Ему больно было видеть свою дорогую Сонечку изнемогающею от тяжёлого чувства страха за грядущее, и в то же время он злился и досадовал на неё, что она разрушает его планы, не хочет понять, что в данном случае хитрость — всё, и что чересчур большой откровенностью можно действительно сгубить дело. «Ах, эти женщины, — думал он, — у них совсем особая логика», и обменивался со Свенцицким улыбками, радуясь, что, по крайней мере, старик-то оказывается с тугой сообразительностью, потому что другой на его месте уже всю суть уразумел бы. Таким образом, решив поступить последовательно и обнаружить силу характера и постоянно имея перед глазами перспективу ночного бегства с Сонечкой, Иван Иваныч, скрепя сердце, быстро отступил от девушки и пошёл к дверям. «Потом извинюсь, — подумал он, — расскажу, что, почему и как, если она ещё не поняла, и она простит, потому что от этого результат получится хороший». Сонечка ещё раз окликнула его, и ей показалось, что ежели он не вернётся и оставит её одну с отцом, то уж она и не увидится с ним больше; но он, опасаясь новых бестактностей с её стороны, вежливо махнул ей рукой и проговорил торопливо:
— Сейчас, сейчас, Полина Марковна придёт сейчас!
На дворе стояла ещё кибитка, в которой приехал Свенцицкий, и лошади фыркали, а кучер ходил возле них, разминаясь. Иван Иваныч быстро очутился на улице, чувствуя, что теперь необходимо быть очень деятельным и не зевать и, взяв извозчика, отправился на почтовую станцию и заказал к часу ночи тройку. Затем поехал домой, упросить Полину Марковну сейчас идти к Сонечке и сидеть возле неё, чтоб той не было скучно и страшно. Но Полины Марковны не застал. Это его очень огорчило и даже взбесило. Ругаясь и ворча, он поспешно вытащил чемоданчик и сунул в него несколько рубах, пальто зимнее и пару платья. Пересчитал деньги, оделся по-дорожному, и в ботфортах и с саквояжем через плечо присел к столу и написал несколько прощальных писем знакомым, на всякий случай и Полине Марковне. Было восемь часов. Он нетерпеливо стал ходить по комнатам и напевать, в ожидании срока, когда надо будет начать действовать, и между прочим разбирал и взвешивал своё поведение и Сонечки в сцене с отцом и пожимал плечами, удивляясь, как такая умная девушка могла потеряться до такой степени и наговорить столько вредных вещей. Хорошо ещё, что он, Иван Иваныч, вовремя нашёлся и кое-как поправил дело. В глубине души однако он смутно сознавал, что сам наделал немало промахов, но в чём они заключаются, никак не мог определить, да и не старался. Настроение у него было во всяком случае нерадостное, и останавливаясь перед окнами, он с тревогой всматривался в сумрак вечера, медленно сгустившийся и пронизываемый там и здесь огнями. В слабом шуме, которым город заявлял о своём существовании, ему чудились вздохи, чьи-то слёзы и чьи-то стоны, упрёком отдававшиеся в его груди. Он не мог дольше ждать, не хватало терпения и, повинуясь инстинктивному влечению, бросился опять к Сонечке на квартиру. По пути не попалось ни одного извозчика, и он шёл по кривым тротуарам, чуть не бегом.
«Ах, Сонечка, Сонечка! — восклицал он мысленно, с тоской и невыразимой любовью, — что ты наделала, право! Зачем все эти откровенности? Ведь он, что ни говори, враг, а с врагами уловки и обманы дозволительны. На войне как на войне!».
Он представил себе, что было бы, если бы старик не приехал так неожиданно, если б он приехал, положим, завтра или послезавтра, когда их уже не было бы в городе. О, да, было бы тогда совсем другое, а главное не вышло бы этого тяжёлого недоразумения между ним и Сонечкой. Он вздыхал, и в нём всё трепетало как у игрока, поставившего на карту огромный капитал и ожидающего с тоской и азартом, чем кончится этот его безумный рискованный шаг.
На повороте улицы он столкнулся с парой. Высокий мужчина вёл под руку высокую даму. Он прошёл мимо, а потом оглянулся, и ему показалось, что то были Лозовский и Полина Марковна. Но ему некогда было ворочаться назад, чтоб удостовериться, они ли это, да и надобности не представлялось, как ни странен был на его взгляд этот новый союз. «А может, и случайно встретились, это вернее», — заключил он и мгновенно забыл о них, потому что начался знакомый зелёный палисадник, и в воздухе послышался запах сирени и жасмина. Жадно взглянул Иван Иваныч на окна Сонечки. Там горел огонь. Сердце его забилось с облегчением. «Может быть, она теперь одна; старик спит или ушёл куда-нибудь, — подумал он, — вот я всё и объясню, так что даже и хорошо, что Полины Марковны не было дома, она могла бы напутать». У калитки он встретил Машу, горничную Сонечки, и первым делом сунул ей деньги.
— Здравствуйте, Маша, — прошептал он. — Проведите меня, пожалуйста, к барышне, или вызовите её ко мне потихоньку, в садик, что ли, мне надо сказать ей два слова. Да, может, этого, что приехал сегодня, нет с нею?
— Ах, барин!.. — прошептала горничная в тревоге и смущении, закрыла своё толстое лицо рукой и замолчала.
Иван Иваныч испугался.
— Что такое? — спросил он. — Что с барышней?
— Они уехали, — отвечала она, принимая руку и боязливо вздыхая, — то есть, их увезли… Вы как ушли, папенька и говорит: «Не умела пользоваться свободой, теперь я тебя под запор, голубушка»… Прямо и сказали это… А барышня так и упали. Так зубки и сцепили. А папенька взяли их на руки и сейчас, то есть, в кибитку, а сами сели и кричат: «Пошёл!» А я кричу им: «Вещи как же?», а они рукой махнули и кричат: «Опосля!»
«Всё погибло», — подумал Иван Иваныч, не соображая ещё хорошенько, в чём дело, и отказываясь соображать.
— А это кто же там в барышниной комнате? — спросил Иван Иваныч, не понимая, как же это он так равнодушен к постигшему его горю, да и не веря горничной, хотя в рассказе её было всё в высшей степени правдоподобно.
— А это хозяйка вещи ихние приводит в порядок…
Иван Иваныч пошёл и удостоверился. Хозяйка, «отставная офицерша», как она себя величала, бойко поклонилась ему, и он выслушал от неё опять рассказ о том, как увезли Софию Павловну. Он вспомнил все свои разговоры с Сонечкой, все её клятвы и уверения, вспомнил, что было утром, улыбнулся и сказал хозяйке с убеждением:
— Нет, это пустяки…
— Что пустяки? — спросила она и насмешливо посмотрела на него своими круглыми глазками.
— Пустяки вот это… что увезли… Она ненадолго… Она моя!..
Он произнёс это горячо, но вдруг ему сделалось совестно, с какой стати он говорит о Сонечке с этой бабёнкой; он взялся за шляпу и сделал самое спокойное и даже весёлое лицо.
— До свидания!
Отставная офицерша однако не отпустила его так легко и прочитала ему целую лекцию о жестокости и бездушии мужчин, которые «вот все с нашей сестрой так поступают»… прибавила она, кокетливо погрозила ему пальцем и сказала:
— Попробовали бы со мной что-нибудь подобное… Ведь я знаю вас! Знаю, какие у вас пустяки были с Софьей Павловной! Пустяки! Ах вы…
Он отшатнулся, как-то глупо засмеялся и ушёл, пошатываясь. Теперь он ясно почувствовал, что что-то разорвалось между ним и Сонечкой, что между ними легла бездна, и обморок девушки служил красноречивым тому доказательством.
Он прошептал:
— А пожалуй, и действительно всё погибло… Но из-за чего?
Он горько улыбнулся и вздохнул.
Но в сущности он ещё не верил, что его роман так скоро кончился. Лишь постепенно ужас стал леденить его сердце и нарастал как лавина. Чувство одиночества обхватывало его. А когда он пришёл домой, бледный и с лицом, искажённым тоской и отчаянием, и увидел Полину Марковну, посмотревшую на него спокойным и скорее любопытным, чем участливым взглядом, сознание, что он понёс громадную утрату, невознаградимую, и что он во всей той сцене со Свенцицким играл самую низкую, глупую и презренную роль труса, пронизало его ум. Вместе с тем он внезапно понял, что Свенцицкий знал о его отношениях к Сонечке и намерении уехать с нею в Петербург и, следовательно, был предупреждён об этом кем-нибудь. Злость закипела в нём. Кем? Он пристально посмотрел на жену. Взгляд её был по-прежнему безучастен, а во всей её фигуре было как бы разлито спокойствие торжества. «Она, это она и Лозовский!» — решил он в исступлении, вспомнив и то, как она называла Сонечку «тварью», и как лицо её было покрыто пятнами, когда она целовала «по-родственному» эту девушку и давала ему взаймы денег, и как двусмысленно вела она себя утром сегодня; подбежав к ней, он поднял над ней кулаки и яростно прохрипел, захлёбываясь от ненависти к ней:
— Прочь от меня, прочь, змея!
Но сейчас же ослабел, опустил в изнеможении руки, поник головой и почувствовал, что в нём что-то умирает и уже больше не воскреснет. Злость его прошла и уступила место горькому отчаянию. Он упал на стул и, закрыв лицо руками, зарыдал. Полина Марковна молча смотрела на него некоторое время. Но потом подсела к нему и стала ласково расспрашивать его и утешать. Слёзы мужа тронули её, и она целовала его в голову и обнимала точно мать, болеющая о сыне и прощающая ему все обиды; и он не сопротивлялся.
Июль 1881 г.Сноски
1
пармской фиалки — фр.
(обратно) Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


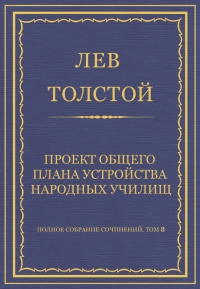

Комментарии к книге «Бунт Ивана Иваныча», Иероним Иеронимович Ясинский
Всего 0 комментариев