Чудик
Рано утром Чудик шагал по селу с чемоданом.
— К брательнику, поближе к Москве! — отвечал он на вопрос, куда это он собрался.
— Далеко, Чудик?
— К брательнику, отдохнуть. Надо прошвырнуться.
При этом круглое мясистое лицо его, круглые глаза выражали в высшей степени плевое отношение к дальним дорогам — они его не пугали.
Но до брата было еще далеко.
Пока что он благополучно доехал до районного города, где предстояло ему взять билет и сесть в поезд.
Времени оставалось много. Чудик решил пока накупить подарков племяшам конфет, пряников…
Зашел в продовольственный магазин, пристроился в очередь. Впереди него стоял мужчина в шляпе, а впереди шляпы — полная женщина с крашеными губами. Женщина негромко, быстро, горячо говорила шляпе:
— Представляете, насколько надо быть грубым, бестактным человеком! У него склероз, хорошо, у него уже семь лет склероз, однако никто не предлагал ему уходить на пенсию. А этот без году неделя руководит коллективом — и уже: «Может, вам, Александр Семеныч, лучше на пенсию?» Нах-хал!
Шляпа поддакивала:
— Да, да… Они такие теперь. Подумаешь — склероз! А Сумбатыч?.. Тоже последнее время текст не держал. А эта, как ее?..
Чудик уважал городских людей. Не всех, правда: хулиганов и продавцов не уважал. Побаивался.
Подошла его очередь. Он купил конфет, пряников, три плитки шоколада и отошел в сторонку, чтобы уложить все в чемодан. Раскрыл чемодан на полу, стал укладывать… Что-то глянул по полу-то, а у прилавка, где очередь, лежит в ногах у людей пятидесятирублевая бумажка. Этакая зеленая дурочка, лежит себе, никто ее не видит… Чудик даже задрожал от радости, глаза разгорелись. Второпях, чтобы его не опередил кто-нибудь, стал быстро соображать, как бы повеселее, поостроумнее сказать в очереди про бумажку.
— Хорошо живете, граждане! — сказал громко и весело.
На него оглянулись.
— У нас, например, такими бумажками не швыряются.
Тут все немного поволновались. Это ведь не тройка, не пятерка — пятьдесят рублей, полмесяца работать надо. А хозяина бумажки — нет.
«Наверно, тот, в шляпе», — сказал сам себе Чудик.
Решили положить бумажку на видное место, на прилавке.
— Сейчас прибежит кто-нибудь, — сказала продавщица.
Чудик вышел из магазина в приятнейшем расположении духа. Все думал, как это у него легко, весело получилось:
«У нас, например, такими бумажками не швыряются!»
Вдруг его точно жаром всего обдало: он вспомнил, что точно такую бумажку и еще двадцатипятирублевую ему дали в сберкассе дома. Двадцатипятирублевую он сейчас разменял, пятидесятирублевая должна быть в кармане… Сунулся в карман — нету. Туда-сюда — нету.
— Моя была бумажка-то! — громко сказал Чудик. — Мать твою так-то!.. Моя бумажка-то! Зараза ты, зараза…
Под сердцем даже как-то зазвенело от горя. Первый порыв был пойти и сказать:
— Граждане, моя бумажка-то. Я их две получил в сберкассе: одну двадцатипятирублевую, другую полусотенную. Одну, двадцатипятирублевую, сейчас разменял, а другой — нету.
Но только он представил, как он огорошит всех этим своим заявлением, как подумают многие: «Конечно, раз хозяина не нашлось, он и решил прикарманить». Нет, не пересилить себя — не протянуть руку за этой проклятой бумажкой. Могут еще и не отдать…
— Да почему же я такой есть-то? — горько рассуждал Чудик. — Что теперь делать?..
Надо было возвращаться домой.
Подошел к магазину, хотел хоть издали посмотреть на бумажку, постоял у входа… и не вошел. Совсем больно станет. Сердце может не выдержать.
…Ехал в автобусе и негромко ругался — набирался духу: предстояло объяснение с женой.
— Это… я деньги потерял. — При этом курносый нос его побелел. Пятьдесят рублей.
У жены отвалилась челюсть. Она заморгала; на лице появилось просительное выражение: может, он шутит? Да нет, эта лысая скважина (Чудик был не по-деревенски лыс) не посмела бы так шутить. Она глупо спросила:
— Где?
Тут он невольно хмыкнул.
— Когда теряют, то, как правило…
— Ну, не-ет!! — взревела жена. — Ухмыляться ты теперь до-олго не будешь! — И побежала за ухватом. — Месяцев девять, скважина!
Чудик схватил с кровати подушку — отражать удары.
Они закружились по комнате…
— Н-на! Чудик!..
— Подушку-то мараешь! Самой стирать…
— Выстираю! Выстираю, лысан! А два ребра мои будут! Мои! Мои! Мои!..
— По рукам, дура!..
— От-теньки-коротеньки!.. От-теньки-лысанчики!..
— По рукам, чучело! Я же к брату не попаду и на бюллетень сяду! Тебе же хуже!..
— Садись!
— Тебе же хуже!
— Пускай!
— Ой!..
— Ну, будет!
— Не-ет, дай я натешусь. Дай мне душеньку отвести, скважина ты лысая…
— Ну, будет тебе!..
Жена бросила ухват, села на табурет и заплакала.
— Берегла, берегла… по копеечке откладывала… Скважина ты, скважина!.. Подавиться бы тебе этими деньгами.
— Спасибо на добром слове, — «ядовито» прошептал Чудик.
— Где был-то — может, вспомнишь? Может, заходил куда?
— Никуда не заходил…
— Может, пиво в чайной пил с алкоголиками?.. Вспомни. Может, выронил на пол?.. Бежи, они пока ишо отдадут…
— Да не заходил я в чайную!
— Да где же ты их потерять-то мог?
Чудик мрачно смотрел в пол.
— Ну выпьешь ты теперь читушечку после бани, выпьешь… Вон — сырую водичку из колодца!
— Нужна она мне, твоя читушечка. Без нее обойдусь…
— Ты у меня худой будешь!
— К брату-то я поеду?
Сняли с книжки еще пятьдесят рублей.
Чудик, убитый своим ничтожеством, которое ему разъяснила жена, ехал в поезде. Но постепенно горечь проходила.
Мелькали за окном леса, перелески, деревеньки… Входили и выходили разные люди, рассказывались разные истории…
Чудик тоже одну рассказал какому-то интеллигентному товарищу, когда стояли в тамбуре, курили.
— У нас в соседней деревне один дурак тоже… Схватил головешку — и за матерью. Пьяный. Она бежит от него и кричит: «Руки, кричит, руки-то не обожги, сынок!» О нем же и заботится. А он прет, пьяная харя. На мать. Представляете, каким надо быть грубым, бестактным…
— Сами придумали? — строго спросил интеллигентный товарищ, глядя на Чудика поверх очков.
— Зачем? — не понял тот. — У нас, за рекой, деревня Раменское…
Интеллигентный товарищ отвернулся к окну и больше не говорил.
После поезда Чудику надо было еще лететь местным самолетом. Он когда-то летал разок. Давно. Садился в самолет не без робости.
— В нем ничего не испортится? — спросил стюардессу.
— Что в нем испортится?
— Мало ли… Тут, наверно, тыщ пять разных болтиков. Сорвется у одного резьба — и с приветом. Сколько обычно собирают от человека? Килограмма два-три?..
— Не болтайте.
Взлетели.
Рядом с Чудиком сидел толстый гражданин с газетой. Чудик попытался говорить с ним.
— А завтрак зажилили, — сказал он.
— М-м?
— В самолетах же кормят.
Толстый промолчал на это.
Чудик стал смотреть вниз.
Горы облаков внизу.
— Вот интересно, — снова заговорил Чудик, — под нами километров пять, так? А я — хоть бы хны. Не удивляюсь. И счас в уме отмерял от своего дома пять километров, поставил на попа — это ж до пасеки будет!
Самолет тряхнуло.
— Вот человек!.. Придумал же, — еще сказал он соседу. Тот посмотрел на него, опять ничего не сказал, зашуршал газетой.
— Пристегнитесь ремнями! — сказала миловидная молодая женщина. — Идем на посадку.
Чудик послушно застегнул ремень. А сосед — ноль внимания. Чудик осторожно тронул его:
— Велят ремень застегнуть.
— Ничего, — сказал сосед. Отложил газету, откинулся на спинку сиденья и сказал, словно вспоминая что-то: — Дети — цветы жизни, их надо сажать головками вниз.
— Как это? — не понял Чудик.
Читатель громко рассмеялся и больше не стал говорить.
Быстро стали снижаться.
Вот уже земля — рукой подать, стремительно летит назад. А толчка все нет. Как потом объяснили знающие люди, летчик «промазал».
Наконец — толчок, и всех начинает так швырять, что послышался зубовный стук и скрежет. Этот читатель с газетой сорвался с места, боднул Чудика большой головой, потом приложился к иллюминатору, потом очутился на полу. За все это время он не издал ни одного звука. И все вокруг тоже молчали — это поразило Чудика. Он тоже молчал.
Стали.
Первые, кто опомнился, глянули в иллюминаторы и обнаружили, что самолет на картофельном поле. Из пилотской кабины вышел мрачноватый летчик и пошел к выходу. Кто-то осторожно спросил его:
— Мы, кажется, в картошку сели?
— Что вы, сами не видите, — ответил летчик.
Страх схлынул, и наиболее веселые уже пробовали робко острить.
Лысый читатель искал свою искусственную челюсть. Чудик отстегнул ремень и тоже стал искать.
— Эта?! — радостно воскликнул он. И подал.
У читателя даже нос побагровел.
— Почему обязательно надо руками хватать? — закричал он шепеляво.
Чудик растерялся.
— А чем же?..
— Где я ее кипятить буду?! Где?!
Чудик этого тоже не знал.
— Поедемте со мной? — предложил он. — У меня тут брат живет. Вы опасаетесь, что я туда микробов занес? У меня их нету.
Читатель удивленно посмотрел на Чудика и перестал кричать.
…В аэропорту Чудик написал телеграмму жене:
«Приземлились. Ветка сирени упала на грудь, милая Груша, меня не забудь. Васятка».
Телеграфистка, строгая, сухая женщина, прочитав телеграмму, предложила:
— Составьте иначе. Вы — взрослый человек, не в детсаде.
— Почему? — спросил Чудик. — Я ей всегда так пишу в письмах. Это же моя жена!.. Вы, наверно, подумали…
— В письмах можете писать что угодно, а телеграмма — это вид связи. Это открытый текст.
Чудик переписал:
«Приземлились. Все порядке. Васятка».
Телеграфистка сама исправила два слова: «Приземлились» и «Васятка». Стало: «Прилетели, Василий».
— «Приземлились»… Вы что, космонавт, что ли?
— Ну ладно, — сказал Чудик. — Пусть так будет.
…Знал Чудик, есть у него брат Дмитрий, трое племянников… О том, что должна быть еще сноха, — как-то не думалось. Он никогда не видел ее. А именно она-то, сноха, все испортила, весь отпуск. Она почему-то сразу невзлюбила Чудика.
Выпили вечером с братом, и Чудик запел дрожащим голосом:
Тополя-а-а, тополя-а-а…Софья Ивановна, сноха, выглянула из другой комнаты, спросила зло:
— А можно не орать? Вы же не на вокзале, верно? — И хлопнула дверью.
Брату Дмитрию стало неловко.
— Это… там ребятишки спят. Вообще-то она хорошая.
Еще выпили. Стали вспоминать молодость, мать, отца…
— А помнишь? — радостно спрашивал брат Дмитрий. — Хотя кого ты там помнишь! Грудной был. Меня оставят с тобой, а я тебя зацеловывал. Один раз ты посинел даже. Попадало мне за это. Потом уж не стали оставлять. И все равно: только отвернутся — я около тебя: опять целую. Черт знает, что за привычка была. У самого-то еще сопли по колена, а уж… это… с поцелуями…
— А помнишь?! — тоже вспоминал Чудик. — Как ты меня…
— Вы прекратите орать? — опять спросила Софья Ивановна, совсем зло, нервно. — Кому нужно слушать эти ваши разные сопли да поцелуи? Туда же разговаривать.
— Пойдем на улицу, — сказал Чудик.
Вышли на улицу, сели на крылечке.
— А помнишь?.. — продолжал Чудик.
Но тут с братом Дмитрием что-то случилось: он заплакал и стал колотить кулаком по колену.
— Вот она, моя жизнь! Видел? Сколько злости в человеке! Сколько злости!
Чудик стал успокаивать брата:
— Брось, не расстраивайся. Не надо. Никакие они не злые, они — психи. У меня такая же.
— Ну чего вот невзлюбила?!! За што? Ведь она невзлюбила тебя… А за што?
Тут только понял Чудик, что — да, невзлюбила его сноха. А за что, действительно?
— А вот за то, што ты — никакой не ответственный, не руководитель. Знаю я ее, дуру. Помешалась на своих ответственных. А сама-то кто! Буфетчица в управлении, шишка на ровном месте. Насмотрится там и начинает… Она и меня-то тоже ненавидит — что я не ответственный, из деревни.
— В каком управлении-то?
— В этом… горно… Не выговорить сейчас. А зачем выходить было? Што она, не знала, што ли?
Тут и Чудика задело за живое.
— А в чем дело вообще-то? — громко спросил он, не брата, кого-то еще. — Да если хотите знать, почти все знаменитые люди вышли из деревни. Как в черной рамке, так, смотришь, — выходец из деревни. Надо газеты читать!.. Што ни фигура, понимаешь, — так выходец, рано пошел работать.
— А сколько я ей доказывал: в деревне-то люди лучше, не заносистые.
— А Степана-то Воробьева помнишь? Ты ж знал его…
— Знал, как же.
— Уж там куда деревня! А — пожалуйста: Герой Советского Союза. Девять танков уничтожил. На таран шел. Матери его теперь пожизненно пенсию будут шестьдесят рублей платить. А разузнали только недавно, считали — без вести…
— А Максимов Илья!.. Мы ж вместе уходили. Пожалуйста, — кавалер Славы трех степеней. Но про Степана ей не говори… Не надо.
— Ладно. А этот-то!..
Долго еще шумели возбужденные братья. Чудик даже ходил около крыльца и размахивал руками.
— Деревня, видите ли!.. Да там один воздух чего стоит! Утром окно откроешь — как, скажи, обмоет тебя всего. Хоть пей его — до того свежий да запашистый, травами разными пахнет, цветами разными…
Потом они устали.
— Крышу-то перекрыл? — спросил старший брат негромко.
— Перекрыл. — Чудик тоже тихо вздохнул. — Веранду подстроил — любо глядеть. Выйдешь вечером на веранду… начинаешь фантазировать: вот бы мать с отцом были бы живые, ты бы с ребятишками приехал — сидели бы все на веранде, чай бы с малиной попивали. Малины нынче уродилось пропасть. Ты, Дмитрий, не ругайся с ней, а то она хуже невзлюбит… А я как-нибудь поласковей буду, она, глядишь, отойдет.
— А ведь сама из деревни! — как-то тихо и грустно изумился Дмитрий. — А вот… Детей замучила, дура: одного на пианинах замучила, другую в фигурное катание записала. Сердце кровью обливается, а — не скажи, сразу ругань.
— Мых!.. — чего-то опять возбудился Чудик. — Никак не понимаю эти газеты: вот, мол, она такая работает в магазине — грубая. Эх, вы!.. А она домой придет — такая же. Вот где горе-то! И я не понимаю! — Чудик тоже стукнул кулаком по колену. — Не понимаю: зачем они стали злые?
Когда утром Чудик проснулся, никого в квартире не было: брат Дмитрий ушел на работу, сноха тоже, дети — постарше играли во дворе, маленького отнесли в ясли.
Чудик прибрал постель, умылся и стал думать, что бы такое приятное сделать снохе.
Тут на глаза ему попалась детская коляска. «Эге! — воскликнул Чудик. Разрисую-ка я ее!» Он дома так разрисовал печь, что все удивились. Нашел ребячьи краски, кисточку и принялся за дело. Через час все было кончено коляску не узнать. По верху колясочки Чудик пустил журавликов — стайку уголком понизу, — цветочки разные, травку-муравку, пару петушков, цыпляток… Осмотрел коляску со всех сторон — загляденье. Не колясочка, а игрушка. Представил, как будет приятно изумлена сноха, усмехнулся.
— А ты говоришь — деревня. Чудачка. — Он хотел мира со снохой. Ребенок-то как в корзиночке будет.
Весь день Чудик ходил по городу, глазел на храмы, подолгу торчал у витрин. Купил катер племяннику; хорошенький такой катерок, белый, с лампочкой. «И его тоже разрисую», — подумал.
Походил еще, поглядел, попил воды из автоматов… И присел отдохнуть на скамейку в парке. Только присел, слышит:
— Молодой человек… простите, пожалуйста. — Подошла красивая молодая женщина с портфелем. — Разрешите я займу минутку вашего времени?
— Зачем? — спросил Чудик.
Женщина присела на скамейку:
— Мы в этом городе находимся в киноэкспедиции…
— Кино фотографируете?
— Да. И нам для эпизода нужен человек. Вот такого… вашего типа.
— А какой у меня тип?
— Ну… простой… Понимаете, нам нужен простой сельский парень, который в первый раз приезжает в город.
— Так, понимаю.
— Вы где работаете?
— Я приезжий… к брату приехал…
— А когда уезжаете?
— Не знаю пока. Я отдохнуть приехал.
— М-м… А у себя… в селе, да?.. В селе живете?
— Да.
— У себя в селе где работаете?
— Трактористом.
— Нам нужно, чтобы вы по крайней мере недели две здесь побыли. Есть такая возможность?
— Есть.
— Я хочу показать вас режиссеру… для… как вам попроще: чтобы убедиться, в том ли мы направлении ищем. Вы не возражаете? Это рядом, в гостинице.
— Пошли.
По дороге Чудик узнал, какие знаменитые артисты будут играть, сколько им платят…
— А этот тип — зачем приезжает в город?
— Ну, знаете, искать свою судьбу. Это, знаете, из тех, которые за длинным рублем гоняются.
— Интересно, — сказал Чудик. — Между прочим, мне бы сейчас длинный рубль не помешал: домишко к осени хочу перебрать. У вас всем хорошо платят?
Женщина засмеялась.
— Вы несколько рановато об этом.
Режиссер, худощавый мужчина лет за пятьдесят, с живыми, умными глазами, очень приветливо встретил Чудика. Пристально, быстро оглядел его, усадил в кресло.
Женщина вышла.
— Как вас зовут?
— Вася, — Чудик встал.
— Сидите, сидите. Я тоже сяду. — Режиссер сел напротив. Весело смотрел на Чудика. — Тракторист?
— Да нет, просто в колхозе…
— Любите кино?
— Ничего. Редко, правда, бывать приходится…
— Что так?
— Да ведь… летом почесть все время в бригаде, а зимой на кубы уезжаем.
— Это что такое?
— На лесозаготовки.
— Так, так… Вот какое дело, Василий: есть у нас в фильме эпизод: в город из деревни приезжает парень. Приезжает в поисках лучшей судьбы. Находит знакомых. А знакомство такое… шапочное: городская семья выезжала летом отдохнуть в деревню, жила в его доме. Это понятно?
— Понятно.
— Отлично. Дальше: городская семья недовольна приездом парня — лишняя волокита, неудобства… и так далее. Парень неглупый, догадывается об этом, вообще начинает понимать, что городская судьба — дело нелегкое. Это его, так сказать, первые шаги. Ясно?
— А как же так: сами жили — ничего, а как к ним приехали — не нравится.
— Ну… бывает. Кстати, они не так уж и показывают, что недовольны его приездом. Тут все сложнее. — Режиссер помолчал, глядя на Чудика. — Это непонятно?
— Понятно — темнят.
— Темнят, да. Попробуем?.. Слова на ходу придумаем. А?
— А как?
— Входите в дверь — перед вами буду не я, а те ваши городские знакомые, хозяин. Дальше — посмотрим. Ведите себя как Бог на душу положит. Помните только, что вы не Василий, Вася, а тот самый деревенский парень. Назовем его Иван. Давайте!
Чудик вышел из номера… и вошел снова.
— Здравствуйте.
— Надо постучаться, — поправил режиссер. — Еще раз.
Чудик вышел и постучал в дверь.
— Да!
Чудик вошел. Остановился у порога. Долго молчали, глядя друг на друга.
— А где «здравствуйте»?
— Я же здоровался.
— Мы же снова начали.
— Снова, да?
— Снова.
Чудик вышел и постучался.
— Да!
— Здравствуйте!
— О, Иван! Входите, входите, — «обрадовался» режиссер. — Проходите же! Каким ветром?
Чудик заулыбался.
— Привет! — Подошел, обнял режиссера, похлопал его по спине. — Как житуха?
— А чего ты радуешься? — спросил режиссер серьезно.
— Тебя увидел. Ты же тоже обрадовался.
— Да, но разве ты не чувствуешь, что я притворно обрадовался?
— А чего тебе притворяться-то? Я еще не сказал, что буду жить у вас. Может, я только на часок.
Режиссер наморщил лоб, внимательно посмотрел в глаза Чудику.
— Пожалуй, — сказал он. — Давай еще раз. Я поторопился, верно.
Чудик опять вышел и постучался. Все повторилось.
— Ну, как житуха? — спросил Чудик, улыбаясь.
— Да так себе… А ты что, по делам в город?
— Нет, совсем.
— Как «совсем»?
— Хочу артистом стать.
Режиссер захохотал.
Чудик выбился из игры.
— Опять снова?
— Нет, продолжай. Только — серьезно. Не артистом, а… ну, в общем, работать на трикотажную фабрику. Так ты, значит, совсем в город?
— Ага.
— Ну и как?
— Что?
— А где жить будешь?
— У тебя. Вы же у меня жили — теперь я у вас поживу.
Режиссер в раздумье походил по номеру.
— Что-то не выходит у нас… Сразу быка за рога взяли, так не годится, сказал он. — Тоньше надо. Хитрее. Давай оба притворяться: я — недоволен, что ты приехал, но как будто обрадован; ты заметил, что я недоволен, но не показываешь виду, тоже радуешься. Попробуем?
— Попробуем. Мне глянется такая работа, честное слово. Если меня увидят в кино в нашей деревне, это будет огромный удар по клубу — его просто разнесут по бревнышку.
— Почему «разнесут»?
— От удивления. Меня же на руках вынесут!..
— М-да… Ну, давайте пробовать. А то как бы меня потом тоже не вынесли из одного дома. От удивления.
Чудик вышел в коридор, постучался, вошел, поздоровался. Все это проделал уверенно, с удовольствием.
— Ваня! Как ты здесь?! — воскликнул режиссер.
— А тебя как зовут?
— Ну допустим… Николай Петрович.
— Давай снова, — скомандовал Чудик. — Говори: «Ваня, ты как здесь?!»
— Ваня, ты как здесь?!
— Нет, ты вот так хлопни себя руками и скажи: «Ваня, ты как здесь?!» Чудик показал, как надо сделать. — Вот так.
Режиссер потрогал в раздумье подбородок и согласился.
— Хорошо. Ваня, ты как здесь?! — хлопнул руками.
Чудик сиял.
— Здорово, Петрович! Как житуха?
— Стоп! Я не вижу, что ты догадываешься о моем настоящем чувстве. Я же недоволен! Хотя… Ну, хорошо. Пойдем дальше. Ты все-таки следи за мной повнимательней. Ваня, ты как здесь?
— Хочу перебраться в город.
— Совсем?
— Ага. Хочу попробовать на фабрику устроиться…
— А жить где будешь? — сполз с «радостного» тона Николай Петрович.
— У тебя, — Чудика не покидала радость. — Телевизор будем вместе смотреть.
— Да, но у меня тесновато, Иван…
— Проживем! В тесноте — не в обиде.
— Но я уже недоволен, Иван… то есть Вася! — вышел из терпения режиссер. — Разве ты не видишь? Я уже мрачнее тучи, а ты все улыбаешься.
— Ну и хрен с тобой, что ты недоволен. Ничего не случится, если я поживу у тебя с полмесяца. Устроюсь на работу — переберусь в общежитие.
— Но тогда надо другой фильм делать! Понимаешь?
— Давай другой делать. Вот я приезжаю, так?
— Ты родом откуда? — перебил режиссер.
— Из деревни…
— А хотел бы действительно в городе остаться?
— Черт ее… не думал про это. Нет. Мне у нас лучше глянется. Не подхожу я к этому парню-то?
— Как тебе сказать… — Режиссеру больно было огорчать Васю. — У нас другой парень написан. Вот есть сценарий… — Он хотел взять со стола сценарий, шагнул уже к столу, но вдруг повернулся. — А как бы ты сделал? Ну, вот ты приехал в город…
— Да нет, если уж написано, то зачем? Вы же не будете из-за меня переписывать.
— Ну а если бы?
— Что?
— Приехал ты к знакомым…
— Ну, приехал… «Здрассте!» — «Здрассте!» — «Ты как здесь?» — «Хочу на фабрику устроиться»…
— Ну?
— Ну и все.
— А они недовольны, что тебе придется некоторое время у них жить.
— А что тут такого, я никак не пойму? Ну, пожил бы пару недель…
— Нет, ну, вот они такие люди, что — недовольны. Прямо не говорят, а недовольны. Как тут быть?
— Я бы спросил: «Вам што, не глянется, што я пока поживу у вас?»
— А они: «Да нет, Иван, что ты! Пожалуйста, располагайся!» А сами недовольны, ты видишь. Как тут быть?
— Не знаю. А как там написано? — Чудик кивнул на сценарий.
— Да тут… иначе. Ну а притвориться бы ты не смог? Ну-ка, давай попробуем! Они плохие люди, черт с ними, но тебе действительно негде жить. Не ехать же обратно в деревню. Давай с самого начала. Помни только…
Зазвонил телефон. Режиссер взял трубку.
— Ну… ну… Да почему же?! Я же говорил!.. Я показывал какие! Тьфу!.. Сейчас я спущусь. Иду. Вася, подожди минут пять… Там путаница вышла… Черти! — Режиссер вышел.
Чудик закурил.
Вбежала красивая женщина с портфелем. На ходу спросила:
— Ну, как у вас?
— Никак.
— Что?
— Не выходит.
— Режиссер просил подождать?
— Ага.
Женщина порылась в столике сценариев, взяла один…
— Может, вам сценарий пока дать почитать? Почитайте пока. Вот тут закладочка — ваш эпизод. — Она сунула Чудику сценарий, а сама с другим убежала. И никакого у нее интереса больше к нему не было.
Чудик положил сценарий на стол, взял цветной карандаш и на чистом листке бумаги крупно написал:
«Нет, не выйдет у нас. С пр. Василий».
Домой Чудик пришел часу в шестом. Шел и ясно себе представил, как он сейчас весело расскажет, как он чуть было не стал киноартистом. Как все будут от души смеяться. (Немое изображение: Чудик рассказывает брату, его жене, детям, показывает, как они репетировали с режиссером; все покатываются со смеху, даже маленький в разрисованной колясочке.)
Чудик дорогой улыбался сам себе.
Едва он ступил на крыльцо братниного дома, как услышал: брат Дмитрий ругается с женой. Собственно, ругалась одна Софья Ивановна, а брат Дмитрий только повторял:
— Да ну, что тут!.. Да ладно… Сонь… Ладно уж…
— Чтоб завтра же этого дурака не было здесь! — кричала Софья Ивановна. — Завтра же пусть уезжает! Чтоб духу его тут не было!..
— Да ладно тебе!.. Сонь…
— Не «ладно»! Не «ладно»! Пусть не дожидается — выкину его чемодан к чертовой матери, и все!
Чудик поспешил сойти с крыльца… А дальше не знал, что делать. Ему стало больно. Когда его ненавидели, ему было очень больно. И страшно. Казалось: ну, теперь все, зачем же жить? И хотелось куда-нибудь уйти подальше от людей, которые ненавидят его или смеются.
— Да почему же я такой есть-то? — горько шептал он, сидя в сарайчике. Надо бы догадаться: не поймет ведь она, не поймет народного творчества!
Он просидел в сарайчике дотемна. И сердце все болело. Потом пришел брат Дмитрий. Не удивился — как будто знал, что брат Василий давно уж сидит в сарайчике.
— Вот… — сказал он. — Это… опять расшумелась. Коляску-то не надо бы уж.
— Я думал, ей поглянется. Поеду я, братка.
Брат Дмитрий вздохнул… И ничего не сказал.
Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки и побежал по теплой, мокрой земле — в одной руке чемодан, в другой ботинки. Подпрыгивал и пел громко:
Тополя, тополя-а…С одного края небо уже очистилось, голубело, и близко где-то было солнышко. И дождик редел, шлепал крупными каплями в лужу; в них вздувались и лопались пузыри.
В одном месте Чудик поскользнулся, чуть не упал.
Звали его — Василий Егорович Князев. Было ему тридцать лет от роду…
Миль пардон, мадам!
Сельсовет. Непомерно большие, мягкие кресла, большой стол, большие диаграммы, плакаты на стенах…
В кресле, почти утонув в нем, ежится Бронька Пупков. Над ним — строгий предсельсовета, в новенькой военной гимнастерке, при ордене Красной Звезды и трех медалях.
— Ну, так што будем делать-то? Бронислав?..
Бронька морщится.
— Ну, што, што?
— Долго будем историю искажать?
— Та-а…
— Не «та-а», не «та-а»… Ты скажи прямо: прекратишь это или нет?
— Та-а чего там!..
— Ничего! Ты дурак или умный? Для чего тебе это надо?
— Ну, все, прекратили. Ты у нас один — умница. Еще дураком обзывает…
— Кто же ты!
— Если ты председатель сельсовета, так тебе можно оскорблять личность? Врежу счас пепельницей… за оскорбление…
— Ты историю оскорбляешь!.. Я же тебя счас посадить могу…
— Скажет. Интересно, по какой статье?
— За искажение истории…
— Нет такой статьи.
— Найдем!
— Один такой — нашел… Найдет он. Сам загудишь раньше меня.
— Ну што делать с этой дубиной!.. Неохота ведь сажать-то…
— Не сажай.
— Ты даешь слово, что прекратишь эту свою глупость?
— Даю, даю.
— Смотри, Бронислав!..
— Смотрю.
Когда городские приезжают в эти края поохотиться и спрашивают в деревне, кто бы мог походить с ними, показать места, им говорят:
— А вон, Бронька Пупков… он у нас мастак по этим делам. С ним не соскучитесь. — И как-то странно улыбаются.
Бронька (Бронислав) Пупков — еще крепкий, ладно скроенный мужик, голубоглазый, улыбчивый, легкий на ногу и на слово. Ему за пятьдесят, он был на фронте, но покалеченная правая рука — отстрелено два пальца — не с фронта: парнем еще был на охоте, захотел пить (зимнее время), начал долбить прикладом лед у берега. Ружье держал за ствол, два пальца закрывали дуло. Затвор берданки был на предохранителе, сорвался — и один палец отлетел напрочь, другой болтался на коже. Бронька сам оторвал его. Оба пальца — указательный и средний — принес домой и схоронил в огороде. И даже сказал такие слова:
— Дорогие мои пальчики, спите спокойно до светлого утра.
Хотел крест поставить, отец не дал. Бронька много скандалил на своем веку, дрался, его часто и нешуточно бивали, он отлеживался, вставал и опять носился по деревне на своем оглушительном мотопеде («педике») — зла ни на кого не таил. Легко жил.
Бронька ждал городских охотников, как праздника. И когда они приходили, он был готов — хоть на неделю, хоть на месяц. Места здешние он знал как свои восемь пальцев, охотник был умный и удачливый.
Городские не скупились на водку, иногда давали деньжат, а если не давали, то и так ничего.
— На сколь? — деловито спрашивал Бронька.
— Дня на три.
— Все будет как в аптеке. Отдохнете, успокоите нервы.
Ходили дня по три, по четыре, по неделе. Было хорошо. Городские люди уважительные, с ними не манило подраться, даже когда выпивали. Он любил рассказывать им всякие охотничьи истории.
В самый последний день, когда справляли отвальную, Бронька приступав к главному своему рассказу.
Этого дня он тоже ждал с великим нетерпением, изо всех сил крепился… И когда он наступал, желанный, с утра сладко ныло под сердцем и Бронька торжественно молчал.
— Что это с вами? — спрашивали.
— Так, — отвечал он. — Где будем отвальную соображать? На бережку?
— Можно на бережку.
…Ближе к вечеру выбирали уютное местечко на берегу красивой стремительной реки, раскладывали костерок. Пока варилась щерба из кабачков, пропускали по первой, беседовали.
Бронька, опрокинув два алюминиевых стаканчика, закуривал…
— На фронте приходилось бывать? — интересовался он как бы между прочим. Люди старше сорока почти все были на фронте, но он спрашивал и молодых: ему надо было начинать рассказ.
— Это с фронта у вас? — в свою очередь спрашивали его, имея в виду раненую руку.
— Нет, я на фронте санитаром был. Да… Дела-делишки… — Бронька долго молчал. — Насчет покушения на Гитлера не слышали?
— Слышали.
— Не про то. Это когда его свои же генералы хотели кокнуть?
— Да.
— Нет. Про другое.
— А какое еще? Разве еще было?
— Было. — Бронька подставлял свой алюминиевый стаканчик под бутылку. Прошу плеснуть. — Выпивал. — Было, дорогие товарищи, было. Кха! Вот настолько пуля от головы прошла. — Бронька показывал кончик мизинца.
— Когда это было?
— Двадцать пятого июля тыща девятьсот сорок третьего года. — Бронька опять надолго задумывался, точно вспоминал свое собственное, далекое и дорогое.
— А кто стрелял?
Бронька не слышал вопроса, курил, смотрел на огонь.
— Где покушение-то было?
Бронька молчал.
Люди удивленно переглядывались.
— Я стрелял, — вдруг говорил он. Говорил негромко, еще некоторое время смотрел на огонь, потом поднимал глаза… И смотрел, точно хотел сказать: «Удивительно? Мне самому удивительно». И как-то грустно усмехался.
Обычно долго молчали, глядели на Броньку. Он курил, подкидывал палочкой отскочившие угольки в костер… Вот этот-то момент и есть самый жгучий. Точно стакан чистейшего спирта пошел гулять в крови.
— Вы серьезно?
— А как вы думаете? Что я, не знаю, что бывает за искажение истории? Знаю.
— Да ну, ерунда какая-то…
— Где стреляли-то? Как?
— Из «браунинга». Вот так: нажал пальчиком — и пух! — Бронька смотрел серьезно и грустно — что люди такие недоверчивые. Недоверчивые люди терялись.
— А почему об этом никто не знает?
— Пройдет еще сто лет, и тогда много будет покрыто мраком. Поняли? А то вы не знаете… В этом-то вся трагедия, что много героев остаются под сукном.
— Это что-то смахивает на…
— Погоди? Как это было?
Бронька знал, что все равно захотят послушать. Всегда хотели.
— Разболтаете ведь?
Опять замешательство.
— Не разболтаем…
— Честное партийное?
— Да не разболтаем! Рассказывайте.
— Нет, честное партийное? А то у нас в деревне народ знаете какой…
— Да все будет в порядке! — Людям уже не терпелось послушать. Рассказывайте.
— Прошу плеснуть. — Бронька опять подставлял стаканчик. Он выглядел совершенно трезвым. — Было это, как я уже сказал, двадцать пятого июля сорок третьего года. Кха! Мы наступали. Когда наступают, санитарам больше работы. Я в тот день приволок в лазарет человек двенадцать… Принес одного тяжелого лейтенанта, положил в палату… А в палате был какой-то генерал. Генерал-майор. Рана у него была небольшая — в ногу задело, выше колена. Ему как раз перевязку делали. Увидел меня тот генерал и говорит:
— Погоди-ка, санитар, не уходи.
Ну, думаю, куда-нибудь надо ехать, хочет, чтобы я его поддерживал. Жду. С генералами жизнь намного интересней: сразу вся обстановка как на ладони.
Люди внимательно слушают.
Постреливает, попыхивает веселый огонек; сумерки крадутся из леса, наползают на воду; но середина реки, самая быстрина, еще блестит, сверкает, точно огромная длинная рыбина несется серединой реки, играя в сумраке серебристым телом своим.
— Ну, перевязали генерала… Доктор ему: «Вам надо полежать!» — «Да пошел ты!» — отвечает генерал. Это мы докторов-то тогда боялись, а генералы-то их не очень. Сели мы с генералом в машину, едем куда-то. Генерал меня расспрашивает. Откуда я родом? Где работал? Сколько классов образования? Я подробно все объясняю: родом оттуда-то (я здесь родился), работал, мол, в колхозе, но больше охотничал. «Это хорошо, — говорит генерал. — Стреляешь метко?» Да, говорю, чтоб зря не трепаться: на пятьдесят шагов свечку из винта погашу. А вот насчет классов, мол, не густо: отец сызмальства начал по тайге с собой таскать. «Ну, ничего, — говорит, — там высшего образования не потребуется. А вот если, — говорит, — ты нам погасишь одну зловредную свечку, которая раздула мировой пожар, то Родина тебя не забудет». Тонкий намек на толстые обстоятельства. Поняли?.. Но я пока не догадываюсь.
Приезжаем в большую землянку. Генерал всех выгнал, а сам все меня расспрашивает. За границей, спрашивает, никого родных нету? Откуда, мол! Вековечные сибирские… Мы от казаков происходим, которые тут недалеко Бой-Катунск рубили, крепость. Это еще при царе Петре было. Оттуда мы и пошли, почесть вся деревня…
— Откуда у вас такое имя — Бронислав?
— Поп с похмелья придумал. Я его, мерина гривастого, разок стукнул за это, когда сопровождал в ГПУ в тридцать третьем году…
— Где это? Куда сопровождали?
— А в городе было. Мы его тут коллективно взяли, а в город вести некому. Давай, говорят, Бронька, у тебя на него зуб — веди.
— А почему, хорошее ведь имя?
— К такому имю надо фамилию подходящую. А я — Бронислав Пупков. Как в армии перекличка, так — смех. А вон у нас Ванька Пупков — хоть бы што.
— Да, так что же дальше?
— Дальше, значит, так… Где я остановился?
— Генерал расспрашивает…
— Да. Ну, расспросил все, потом говорит: «Партия и правительство поручают вам, товарищ Пупков, очень ответственное задание. Сюда, на передовую, приехал инкогнито Гитлер. У нас есть шанс хлопнуть его. Мы, — говорит, — взяли одного гада, который был послан к нам со специальным заданием. Задание-то он выполнил, но сам влопался. А должен был здесь перейти линию фронта и вручить очень важные документы самому Гитлеру. Лично. А Гитлер и вся его шантрапа знают того человека в лицо.»
— А при чем тут вы?
— Кто с перебивом, тому — с переливом. Прошу плеснуть. Кха! Поясню: я похож на того гада как две капли воды. Ну и — начинается житуха, братцы мои!
Бронька предается воспоминаниям с таким сладострастием, с таким затаенным азартом, что слушатели тоже невольно испытывают приятное, исключительное чувство. Улыбаются. Налаживается некий тихий восторг.
— Поместили меня в отдельной комнате тут же, при госпитале, приставили двух ординарцев… Один в звании старшины, а я — рядовой. Ну-ка, говорю, товарищ старшина, подай-ка мне сапоги. Подает. Приказ — ничего не сделаешь, слушается. А меня тем временем готовят. Я прохожу выучку…
— Какую?
— Спецвыучку. Об этом я пока не могу распространяться, подписку давал. По истечении пятьдесят лет — можно. Прошло только… — Бронька шевелил губами считал. — Прошло двадцать пять. Но это — само собой. Житуха продолжается! Утром поднимаюсь — завтрак: на первое, на второе, на третье. Ординарец принесет какого-нибудь вшивого портвейного, я его как шугану!.. Он несет спирт, его в госпитале навалом. Сам беру, разбавляю как хочу, а портвейный ему. Так проходит неделя. Думаю: сколько же это будет продолжаться? Ну, вызывает наконец генерал. «Как, товарищ Пупков?» Готов, говорю, к выполнению задания! «Давай, — говорит. — С Богом, — говорит. — Ждем тебя оттуда Героем Советского Союза. Только не промахнись!» Я говорю: если я промахнусь, я буду последний предатель и враг народа! Или, говорю, лягу рядом с Гитлером, или вы выручите Героя Советского Союза Пупкова Бронислава Ивановича. А дело в том, что намечалось наше грандиозное наступление. Вот так, с флангов, шла пехота, а спереди — мощный лобовой удар танками.
Глаза у Броньки сухо горят, как угольки поблескивают. Он даже алюминиевый стаканчик не подставляет — забыл. Блики огня играют на его суховатом правильном лице — он красив и нервен.
— Не буду говорить вам, дорогие товарищи, как меня перебросили через линию фронта и как я попал в бункер Гитлера. Я попал! — Бронька встает. — Я попал!.. Делаю по ступенькам последний шаг — и оказываюсь в большом железобетонном зале. Горит яркий электрический свет, масса генералов… Я быстро ориентируюсь: где Гитлер? — Бронька весь напрягся, голос его рвется, то срывается на свистящий шепот, то неприятно, мучительно взвизгивает. Он говорит неровно, часто останавливается, рвет себя на полуслове, глотает слюну…
— Сердце вот тут… горлом лезет. Где Гитлер?! Я микроскопически изучил его лисиную мордочку и заранее наметил куда стрелять — в усики. Я делаю рукой «Хайль, Гитлер!» В руке у меня большой пакет, в пакете — «браунинг», заряженный разрывными отравленными пулями. Подходит один генерал, тянется к пакету: давай, мол. Я ему вежливо — ручкой: миль пардон, мадам, только фюреру. На чистом немецком языке говорю: фьюрер! — Бронька сглотнул. — И тут… вышел он. Меня как током дернуло… Я вспомнил свою далекую родину… Мать с отцом… Жены у меня тогда еще не было… — Бронька некоторое время молчит, готов заплакать, завыть, рвануть на груди рубаху… — Знаете, бывает: вся жизнь промелькнет в памяти… С медведем нос к носу — тоже так. Кхе!..
— Ну? — тихо спросит кто-нибудь.
— Он идет ко мне навстречу. Генералы все вытянулись по стойке «смирно»… Он улыбается. И тут я рванул пакет… Смеешься, гад! Дак получай за наши страдания!.. За наши раны! За кровь советских людей!.. За разрушенные города и села! За слезы наших жен и матерей!.. — Бронька кричит, держит руку, как если бы он стрелял. Всем становится не по себе. — Ты смеялся?! А теперь умойся своей кровью, гад ты ползучий!!! — Это уже душераздирающий крик. Потом гробовая тишина… И шепот, торопливый, почти невнятный: — Я стрелил…
Бронька роняет голову на грудь, долго молча плачет, оскалился, скрипит здоровыми зубами, мотает безутешно головой. Поднимает голову — лицо в слезах. И опять тихо, очень тихо, с ужасом говорит:
— Я промахнулся.
Все молчат. Состояние Броньки столь сильно действует, удивляет, что говорить что-нибудь — нехорошо.
— Прошу плеснуть, — тихо, требовательно говорит Бронька. Выпивает и уходит к воде. И долго сидит на берегу один, измученный пережитым волнением. Вздыхает, кашляет. Уху отказывается есть.
…Обычно в деревне узнают, что Бронька опять рассказывал про «покушение».
Домой Бронька приходит мрачноватый, готовый выслушать оскорбления и сам оскорблять. Жена его, некрасивая толстогубая баба, сразу набрасывается:
— Чего как пес побитый плетешься? Опять!..
— Пошла ты!.. — вяло огрызается Бронька. — Дай пожрать.
— Тебе не пожрать надо, не пожрать, а всю голову проломить безменом! орет жена. — Ведь от людей уж прохода нет!..
— Значит, сиди дома, не шляйся.
— Нет, я пойду счас!.. Я счас пойду — в сельсовет, пусть они тебя, дурака, опять вызовут! Ведь тебя, дурака беспалого, засудют когда-нибудь! За искажение истории…
— Не имеют права: это не печатная работа. Понятно? Дай пожрать.
— Смеются, в глаза смеются, а ему… все Божья роса. Харя ты неумытая, скот лесной!.. Совесть-то у тебя есть? Или ее всю уж отшибли? Тьфу — в твои глазыньки бесстыжие! Пупок!..
Бронька наводит на жену строгий, злой взгляд. Говорит негромко, с силой:
— Миль пардон, мадам… счас ведь врежу!..
Жена хлопает дверью, уходит прочь — жаловаться на «лесного скота».
Зря она говорит, что Броньке — все равно. Нет. Он тяжело переживает, страдает, злится… И дня два пьет дома. За водкой в лавочку посылает сынишку-подростка.
— Никого там не слушай, — виновато и зло говорит сыну. — Возьми бутылку, и сразу домой.
Его опять вызывают в сельсовет, совестят, грозятся принять меры… Трезвый Бронька, не глядя председателю в глаза, говорит сердито, невнятно:
— Да ладно!.. Да брось ты! Ну?.. Подумаешь!..
Потом выпивает в лавочке «банку», маленько сидит на крыльце — чтоб «взяло», встает, засучивает рукава и объявляет громко:
— Ну, прошу! Кто? Если малость изувечу, прошу не обижаться. Миль пардон!..
А стрелок он правда — редкий.
Думы
Как только наступает ночь…
Поужинав…
Помолившись…
Повздыхав…
Угомонятся и заснут наработавшиеся за день люди, он начинает…
Заводится с края села и идет. Идет и играет. А гармонь у него какая-то особенная — орет.
— От же ж паразит!… - возмущаются люди. — Завелся.
— Не идет же, черт блажной, к реке, здесь старается.
— Пойду счас, собаку на него спущу…
— Они его не кусают. Я пробовала.
— Когда он спит-то?
— Черт его в душу знает, лунатик какой-то. Какой-то ненормальный парень: то куклы мастерит, то по ночам шляется…
— К Нинке, што ль, ходит?
— Но. Она тоже! Выходила бы уж скорей за него, может, угомонился бы парень, за ум взялся…
Дом Матвея Рязанцева, здешнего председателя колхоза, стоял как раз на том месте, где Колька выходил извне переулка и заворачивал в улицу. Получалось, что гармонь еще в переулке начинала звенеть, потом огибала дом и еще долго ее было слышно.
Как только она начинала орать в переулке, Матвей садился в кровати, опускал ноги на прохладный пол и говорил:
— Все: завтра исключу, дурака, из колхоза. Придерусь к чему-нибудь и исключу.
— Лежи уж — исключишь, — сонно говорила жена Матвея.
— Исключу!
Днем Матвей встретил Кольку.
— Ты долго будешь по ночам шляться? Люди после трудового дня отдыхают, а ты будишь, звонарь.
— Имею право, — нахально ответил Колька и улыбнулся от уха до уха. — За это никакой статьи нет.
— Я для тебя найду статью. Если надо, сам напишу.
— Статьи в Москве пишут.
— Ты почему такой есть-то, Колька? Почему на одном месте не работаешь? Куда я тебя посылал?..
— Потому что я талантливый, — кратко и серьезно пояснил Колька.
— Обалдуй ты, а не талантливый. Выучился бы на счетовода, уважаемым человеком был бы…
— Это одна смехота, а не специальность. «Дебет-кредит». «Приход-расход»… Тьфу!
— Ну, раз ты такой умный, иди в кузню молотобойцем. А с куклами перестань возиться — смеются ведь люди.
На эту тему — о куклах — Колька ни с кем не разговаривал. Презрительно молчал.
— Иди махай кувалдой, раз в конторе не хошь сидеть.
Дома мать запричитала:
— Господи, да за што же мне доля такая выпала!.. Посылали ведь, дурака, учиться — так нет же, нет!.. Иди вот теперь, выворачивай руки-то там.
— Погляжу.
— Хоть там-то подержись, а то ведь от людей уж совестно.
— Люди не понимают в искусстве…
— Тьфу!.. Журавь.
Помахав пару дней тяжелой кувалдой, Колька аккуратно положил ее на верстак и заявил кузнецу:
— Все.
— Что?
— Пошел.
— Почему?
— Души нету в работе.
— Трепло, — просто сказал кузнец. — Выйди отсюда.
Колька с изумлением посмотрел на старика кузнеца.
— Почему ты сразу переходишь на личности?
— Балаболка, если не трепло. Что ты понимаешь в железе? «Души нету»… Даже злость берет.
— А что тут понимать-то? Этих подков я тебе без всякого понимания накую сколько хочешь.
— Может, попробуешь?
Колька накалил кусок железа, довольно ловко выковал подкову, остудил в воде и подал старику.
— Прошу, мадмоазель.
Кузнец легко, как свинцовую, смял ее в руках и выбросил из кузницы.
— Иди корову подкуй такой подковой. «Мадмоазель»…
Колька взял подкову, сделанную стариком, попробовал тоже погнуть ее — не тут-то было.
— Что?
— Ничего. Остаюсь. Научусь, тогда уйду.
— Ты, Колька, парень — ничего, но болтун, — сказал ему кузнец. — Чего ты, например, всем говоришь, что ты талантливый?
— Это верно: я очень талантливый.
— А где твоя работа сделанная?
— Я ее никому, конечно, не показываю.
— Почему?
— Они не понимают. Один Захарыч только понимает.
— Принеси мне. Я гляну.
А ночью опять звенела гармонь…
И Матвей опять сидел в кровати, думал. Гармонь уже уходила далеко в улицу, и уж не слышно ее было, а он все сидел.
Нашаривал рукой брюки на стуле, доставал из кармана брюк папиросы, закуривал.
— Хватит смолить-то!
— Спи. Я маленько подумаю.
— Чего эт середь ночи? Дня, что ли, не хватит?
— Гармошка Колькина… дьявол ее побери — хворь какую-то в душе подымает. Думы всякие в башку лезут…
И вот другая ночь — черная. Костер треплется под теплым ветром… У костра трое: маленький Матвей (лет двенадцать), брат его младший, Кузьма, и отец их, Ефим Рязанцев.
Днем в самую жару маленький Кузьма потный напился воды из ключа, а ночью у него «завалило» горло.
Отец велел поймать коня и во весь дух гнать в деревню (они были на покосе, километрах в десяти от деревни).
— Я его тут пока побаюкаю… Привезешь молока, скипятим, надо отпаивать парня, а то как бы не решился он у нас. Как мы с тобой не доглядели!.. Воды, дурачок, из ключа напился… Ах ты, горе-горюшко! Кузя, Кузенька, сынок, продохни… Возьми да силком, силком продохни как следоват.
Матвей слухом угадал, где пасутся кони, взнуздал Игреньку и, нахлестывая его по бокам волосяной путой, погнал в деревню. И вот — теперь уж Матвею скоро шестьдесят, а тогда лет двенадцать-тринадцать было — все помнится та ночь. Слились воедино конь и человек и летели в черную ночь. И ночь летела навстречу им, густо била в лицо тяжким запахом трав, отсыревших под росой. Какой-то дикий восторг обуял парнишку; кровь ударила в голову и гудела. Это было как полет — как будто оторвался он от земли и полетел. И ничего вокруг не видно: ни земли, ни неба, даже головы конской — только шум в ушах, только ночной огромный мир стронулся и понесся навстречу. О том, что там братишке плохо, совсем не думал тогда. И ни о чем не думал. Ликовала душа, каждая жилка играла в теле… Какой-то такой желанный, редкий миг непосильной радости.
…Потом было горе. Потом он привез молоко, а отец, прижав младшенького к груди, бегал вокруг костра и баюкал его:
— Ну, сынок… ты что же это? Обожди маленько. Обожди маленько. Счас молочка скипятим, счас продохнешь, сынок, миленький… Вон Мотька молочка привез!..
А маленький Кузьма задыхался, уже посинел.
Когда вслед за Матвеем приехала мать, Кузьма был мертв. Отец сидел, обхватив руками голову, и покачивался, и глухо и протяжно стонал. Матвей с удивлением и с каким-то странным любопытством смотрел на брата. Вчера еще возились с ним в сене, а теперь лежал незнакомый, иссиня-белый, чужой мальчик…
— Проклятая гармошка!.. — бормотал старый Матвей. — Ничего другого — а вот надо про ту ночь назвенеть в душу…
— А?
— Да вот — была целая жизнь: гражданская была, женитьба с тобой, коллективизация, другая война… а ничего не пробудила проклятая гармонь, а пробудила одну ночь, когда у нас Кузьма на покосе помер. И теперь вся душа как чирей ноет. А мало ли каких ночей было-перебыло — всяких…
— Ну, Матвей, ты что-то уж совсем…
— Вот и «совсем»! Говорю тебе — хворь.
На другой день Колька принес в кузницу какую-то штукенцию с кулак величиной, завернутую в тряпку…
— Вот.
Кузнец развернул тряпку… и положил на огромную ладонь человечка, вырезанного из дерева. Человечек сидел на бревне, опершись руками на колени… Голову опустил на руки; лица не видно. На спине человека, под ситцевой рубахой — синей, с белыми горошинами, — торчат острые лопатки. Худой, руки черные, волосы лохматые, с подпалинами… Рубаха тоже прожжена в нескольких местах. Шея тонкая и жилистая.
Кузнец долго разглядывал его.
— Смолокур, — сказал он.
— Ага. — Колька глотнул пересохшим горлом.
— Таких нету теперь.
— Я знаю…
— А я помню таких. Это что он?.. Думает, что ли?
— Песню поет. И думает.
— Помню таких, — еще раз сказал кузнец. — А ты-то откуда их знаешь?
— Рассказывали.
Кузнец вернул Кольке смолокура.
— Похожий.
— Это — что! — воскликнул Колька, заворачивая смолокура в тряпку. — У меня разве такие есть!
— Все смолокуры?
— Почему… Есть солдат, артистка одна есть, тройка… еще солдат, раненый. А сейчас я Стеньку Разина вырезаю.
— А у кого ты учился?
— А сам… ни у кого.
— А откуда ты про людей знаешь? Про артистку, например.
— Я все про людей знаю. — Колька гордо посмотрел сверху на старика. — Они все ужасно простые.
— Вон как! — воскликнул кузнец и засмеялся. — Ну и ну!..
— Скоро Стеньку сделаю… Поглядишь.
— Смеются над тобой люди.
— Это ничего. — Колька высморкался в платок. — На самом деле они меня любят. И я их тоже люблю.
Кузнец опять рассмеялся.
— Ну и дурень ты, Колька! Сам про себя говорит, что его любят! Кто же так делает?
— А что?
— Совестно небось так говорить.
— Почему «совестно»? Я же их тоже люблю. Я даже их больше люблю.
— А какую он песню поет? — без всякого перехода спросил кузнец.
— Смолокур-то? Про долю свою.
— А артистку ты где видел?
— В кинофильме. — Колька прихватил щипцами уголек из горна, прикурил. — Я женщин люблю. Красивых, конечно.
— А они тебя?
Колька слегка покраснел.
— Тут я затрудняюсь тебе сказать. Нинка у меня — не того, не очень.
— Хэх!.. — Кузнец стал к наковальне. — Чудной ты парень, Колька. Но разговаривать с тобой интересно. Ты скажи мне: какая тебе польза, что ты смолокура этого вырезал? Это ж все-таки — кукла.
Колька ничего не сказал на это. Взял молот и тоже стал к наковальне.
— Не можешь ответить?
— Не хочу. Я нервничаю, когда так говорят, — ответил Колька.
Как-то Матвей зашел в кузницу. Присел на высокий порожек.
— Куете?
— Куем!
Колька в такт своему молоту пропел:
Эх, пусть говорят, что я ведра починяю, Эх, пусть говорят, что я дорого беру! Две копейки — донышко, Три копейки — бок: Вот и вся работушка Стоит пятачок.Матвей усмехнулся.
— Жениться-то скоро будешь, Колька?
— Жениться — не напасть, дядя Матвей. Слышал?
— Слышал. Дурная поговорка.
— Скоро женюсь.
— Матери-то уж тяжело одной. На Нинке хочешь?
— На ней.
— Больше-то никто небось не пойдет, — вставил старик. — Шибко уж непутевый ты, паря. Избенку бы перекрыть надо, а он заместо этого — игрушки разные режет.
Колька молчал, бухал молотом.
— Женисся — помогу с избой-то, — пообещал председатель. — Только, на самом деле, бросай ты эти разные свои фокусы… куклы свои.
Колька молчал.
— Глянется работа-то? — еще спросил Матвей.
— Ничего. Хорошенько научусь — уйду.
— Пошто?
— Не могу всю жизнь на одном месте…
— Ты гляди, какие они теперь! — изумился Матвей. — У их это легко… Как птахи небесные: жрут да котышки на землю роняют. Сделать бы чего-нибудь надо — на помин людям.
— Я и делаю. Только вам не понять. Вы всю жизнь в землю смотрите… И видите только, как птахи котышки роняют. А как летают они, вы ни разу не видали.
— Где нам! — спорил с Колькой старик. — Это один Захарыч твой понимает. И тебя научил. Погоди, он тебя и пить научит…
— Он — от одиночества.
— Мало одиноких-то?.. Да все бы и пили? А ишо учитель был, антилигентный человек, — не стыдно?
— Он сам страдает…
— Погоди, Колька, — пытался выяснить Матвей, — вот вы все: «не хочу», «не нравится»… А если — надо! Ведь не все же так жить, чтоб только в корысть себе да в усладу. А вот — надо? Вот я, к примеру, всю жизнь так и живу: надо делаю. Сказали, надо идти в колхоз — пошел, пришла пора жениться — женился, ни годом раньше, ни годом после: как все, так и я. Да как отец сказал. В войну воевал, тоже надо. Да ишо на двух воевал. Ранили, пришел домой раньше других мужиков, сказали: «Становись, Матвей, председателем колхоза. Больше некому». Пошел. Надо. А какой, к шутам, из меня был председатель! Это уж счас втянулся — тридцать лет скоро будет, везу этот воз… А тогда, бывало, мне — про «агрокультуру», мол, человека высылаем с высшим образованием, а я думаю: прокурор едет. Во как!
— Чего же тут хвастаться?
— Да разви ж я хвастаюсь! — искренне изумился Матвей. — Просто рассказываю, как жил. Мне счас не совестно пред людьми.
— Кинофильмов много за свою жизнь видел? Книжек — хоть штуки три прочитал? — злорадно полюбопытствовал Колька.
— Мне не до кинофильмов было.
— Вот так.
— Што — «так»? — обозлился старик кузнец. — А по-твоему: каждый день в клуб заполыскивать? Кикиморы болотные… Скоро вся Расея без штанов останется — с такими рассуждениями-то.
— Не останется. Будем в бостоновых костюмчиках ходить. Вот так. Даже — на работу. А в клубе я выставку сделаю, люди приедут смотреть и будут рыдать и плакать. Но вас я на выставку не приглашу.
— Счас, разбежался я на твою выставку — спина вспотела, — сказал старик. Молоти знай — пока, до выставки-то.
Колька взялся за кувалду.
Матвей курил. Ждал гармонь.
— Чего эт звонаря-то нашего нет? — спросил жену.
— То он мешает ему, то сидит ждет… Небось куклы дома режет. Или Нинка уехала куда… Бегаю я за ним?
Матвей лег. Полежал.
Не спалось.
— А ни хрена я им не верю, — воскликнул он. — Песни — про любовь, кинофильмы — про любовь!.. Страдают!..
— Чего ты опять?
— Притворяются. Не притворяются, привычка такая пошла у людей: надо трезвонить про любовь — ну давай про любовь. Дело-то все в том, что жениться надо! Что он, Колька, любит, что ли? Глянется ему, конечно, Нинка. Здоровая… А время подперло жениться, ну и ходит, дурак, по ночам, тальянит. А чего не походить? Молодой, силенка играет… И всегда так было!
Так они навыдумывают себе: мы теперь не так! Мы теперь по-другому!.. Тьфу! Как?!
— Да чего они тебя тревожут-то? Чего ты взъелся-то на них?
Матвей долго молчал.
— А может, мы, правда, по-другому прожили? Не так как-нибудь? Может, чего-нибудь пропустили?..
— Как не так? Чучело.
— Спи, ну тя!..
Жена легко и согласно заснула.
Матвей тоже задремал.
…И увиделось ему, как они — молодые, нарядные — идут в хороводе на зеленом лугу… И сидят в кругу три балалаечника и подыгрывают спокойной старой русской песне, которую поет, кружась, хоровод. И спокойно, и красиво, и солнышко светит…
Но вдруг каким-то образом в хоровод ворвался Колька со своей гармозой трехрядной… Рванул ее, сломал хоровод, и девки и парни пошли давать трепака — по-теперешнему, с озорными частушками. И, что самое удивительное, сам Матвей и его жена теперь, Алена, тоже молодые, — тоже так лихо отплясывают, что Матвей от удивления даже проснулся.
Звенела в переулке Колькина гармонь…
Матвей сел, закурил. Долго сидел, слушал гармонь.
Толкнул жену.
— Слышь-ка!.. Проснись, я у тебя спросить хочу…
— Чего ты? — удивилась Алена.
— У тебя когда-нибудь любовь была? Ко мне или к кому-нибудь… Неважно.
Алена долго лежала, изумленная.
— Ты никак выпил? Ты не вставал?
— Да нет!.. Ты любила меня или так… по привычке вышла? Я сурьезно спрашиваю.
Алена поняла, что муж не «хлебнувши», но опять долго молчала — она тоже не знала, забыла.
— Чего эт тебе такие мысли в голову полезли?
— Да охота одну штуку понять, язви ее. Что-то на душе у меня… опять как-то… заворошилось.
— Любила, конечно! — убежденно сказала Алена. — Не любила, так не пошла бы. За мной Минька-то Королев вон как ударял. Не пошла же. А чего ты про любовь спомнил середь ночи? Заговариваться, что ли, начал?
— Пошла ты! — обиделся Матвей. — Спи.
— Коровенку выгони завтра в стадо, я совсем забыла сказать. Мы уговорились с бабами до свету за ягодами идти.
— Куда? — насторожился Матвей.
— Да не на покосы на твои, не пужайся.
— Поймаю, будете травы топтать — штраф по десять рублей.
— Мы знаем одно местечко, где не косят, а ягоды красным-красно. Выгони коровенку-то.
— Ладно.
— Не забудь!
— Сама ты корова, — беззлобно, добродушно даже, сказал Матвей.
— А ты кто? Бык при мне?..
— Я-то?.. Я мерин был хороший. Всю жизнь. А теперь вот — дурею. К старости все дуреют. У тебя квас где?
— В сенцах. Накрой кувшин-то опять, а крышечку камешком придави.
Матвей вышел в сени, шумно напился… открыл дверь, вышел на крыльцо.
С неба лился на теплую грудь земли белый мертвый свет луны. Тихо и торжественно было вокруг.
— Ах, ночка!.. — тихо сказал Матвей. — В такую-то ночку грех не любить. Давай, Колька, наверстывай за всех… Горлань во всю мочь, черт заполошный. Придет время — замолчишь… Станешь вежливый.
…С работы Колька шагал всегда быстро… Размахивал руками — длинный, нескладный, с длинными, до колен, руками. Он совсем не уставал в кузнице. Шагал, а в ногу, на манер марша, подпевал:
Эх, пусть говорят, что я ведра починяю, Эх, пусть говорят, что я дорого беру! Две копейки — донышко, Три копейки — бок…— Здравствуй, Коля! — приветствовали его.
— Здоров, — кратко отвечал Колька и шел дальше.
Дома он наскоро ужинал, уходил в горницу и некоторое время резал Стеньку. Потом брал гармонь и уходил в клуб. Потом, проводив Нинку из клуба, возвращался к Стеньке… И работал иной раз до утра.
О Стеньке ему много рассказывал Вадим Захарыч, учитель-пенсионер, живший по соседству. Захарыч, как его называл Колька, был добрейшей души человек. Это он первый сказал, что Колька очень талантливый. Он приходил к Кольке каждый вечер и рассказывал русскую историю. Захарыч был одинок, тосковал без работы… Последнее время начал попивать. Колька глубоко уважал старика. До поздней ноченьки сиживал он на лавке, поджав под себя ноги, не шевелился слушал про Стеньку.
— …Мужик он был крепкий, широкий в плечах, легкий на ногу… чуточку рябоватый. Одевался так же, как все казаки. Не любил он, знаешь, разную там парчу… и прочее. Это ж был человек! Как развернется, как глянет исподлобья — травы никли. А справедливый был!.. Раз попали они так, что жрать в войске нечего. Варили конину. Но и конины не всем хватало. И увидел раз Стенька: один казак совсем уж стощал, сидит у костра, бедный, голову свесил — дошел окончательно. Стенька толкнул его — подает свой кусок мяса. «На, — говорит, ешь». Тот видит, что атаман сам почернел от голода. «Ешь сам, батька. Тебе нужнее». — «Бери». — «Нет». Тогда Стенька как выхватил саблю — она аж свистнула в воздухе. «В три господа душу мать! Я кому сказал: бери!» Казак съел мясо. А?.. Милый ты, милый человек… душа у тебя была.
Колька, бледный, с горячо повлажневшими глазами, слушает…
— А княжну-то он как! — тихонько, шепотом, восклицает он. — В Волгу взял и кинул…
— Княжну!.. — Захарыч, тщедушненький старичок с маленькой сухой головой на тонкой шее, вскакивал и, размахивая руками, кричал:
— Да он этих бояр толстопузых вот так покидывал! Он их как хотел делал! Понял? Сарынь на кичку! И все.
…Работа над Стенькой Разиным подвигалась туго. Колька аж с лица осунулся. Не спал ночами. Когда «делалось», он часами не разгибался над верстаком — строгал и строгал… швыркал носом и приговаривал тихонько:
— Сарынь на кичку!
Спину ломило. В глазах начинало двоить… Колька бросал нож и прыгал по горнице на одной ноге и негромко смеялся.
А когда «не делалось», Колька сидел неподвижно у раскрытого окна, закинув сцепленные руки за голову… сидел час, два — смотрел на звезды… потом начинал выть негромко:
— Мм… у-у-у… эх, у-у-у… — И думал про Стеньку.
…Когда приходил Захарыч, он спрашивал в первой избе:
— Николай Егорыч дома?
— Иди, Захарыч! — кричал Колька, накрывал работу тряпкой и встречал старика.
— Здоровеньки булы! — так здоровался Захарыч — «по-казацки».
— Здорово, Захарыч.
Захарыч косился на верстак.
— Не кончил еще?
— Нет. Скоро уж.
— Показать можешь?
— Нет.
— Нет? Правильно. Ты, Николай, — Захарыч садился на стул. — Ты — мастер. Большой мастер. Только никогда не пей, Коля. Это — гроб. Понял? Русский человек талант свой может не пожалеть. Где смолокур? Дай…
Колька подавал смолокура и сам впивался ревнивыми глазами в свое произведение.
Захарыч, горько сморщившись, смотрел на деревянного человечка.
— Он про волю поет, — говорил он. — Он про свою долю поет. Ты даже не знаешь таких песен. — И он неожиданно сильным, красивым голосом пел:
О-о-охты, воля, моя воля! Воля-вольная моя. Воля — сокол в поднебесье, Воля — милые края…В Кольке перехватывало горло от любви и горя. Он понимал Захарыча… Он любил свои родные края, горы свои, Захарыча, мать… всех людей. И любовь эта жгла и мучила — просилась из груди. И не понимал Колька, что нужно сделать для людей. Чтобы успокоиться.
— Захарыч… милый, — шептал Колька побелевшими губами, и крутил головой, и болезненно морщился. — Не надо, Захарыч, я не могу больше…
Чаще всего Захарыч засыпал тут же, в горнице. А Колька склонялся над верстачком.
— От же проклятое дело: не могу теперь уснуть без гармошки Колькиной, жаловался Матвей жене, стелившей постель. — А он, как нарочно, вожжается с ней до полночи. Телка семинтальская, разве ж она так рано отпустит парня!..
— Дуреешь, правда, Матвей.
— Дурею, — соглашался Матвей, вышагивая босиком по избе.
— Вот как перестанет ее провожать, уведет к себе в дом — что делать-то будешь?
— Прямо не знаю! Я уж седня намекнул ему: подожди, мол, пока со свадьбой, домишко сперва надо перебрать… Куда ты ее приведешь — он уж скоро совсем набок завалится. Погуляй, мол, пока…
— Вот ведь по-разному люди дуреют: один с вина, другие с горя большого… Ты-то с чего? Не шибко уж и старый-то. Вон у нас — какие старики есть, а рассуждают — любо слушать.
— Дай-ка мне рюмку, к слову пришлось — устал седня что-то… Да, может, и засну лучше. Вот беда-то еще навалилась — хоть матушку-репку пой.
Легли поздно. Гармошки не было.
Матвей, правда, заснул… Но спал беспокойно, ворочался, постанывал и вздыхал — обильно поужинал, выпил стакан водки и накурился до хрипоты.
Гармошки Колькиной все не было.
…Светлым днем по улице села ударила грустная похоронная музыка… Хоронили Матвея Рязанцева.
Люди шли грустные…
Сам Матвей Рязанцев… шел за своим гробом, тоже грустный… Рядом шедший с ним мужик спросил его:
— Что ж, Матвей Иваныч, шибко жалко уходить-то отсудова? Ишшо бы пожил?..
— Как тебе сказать, — стал объяснять Матвей, — знамо, пожить бы ишшо — не вредно. Но другое меня счас заботит: страха, понимаешь ли, нет, боли какой-нибудь на сердце — тоже, но как-то удивительно. Все будет так же, как было, а меня счас отнесут на могилки и зароют. Во трудно-то што понять: как же это будет все так же — без меня? Ну, допустим, понятно: солнышко будет вставать и заходить — оно всегда встает и заходит. А люди какие-то другие в деревне будут, которых никогда уж не узнаешь… Этого никак не понять. Ну лет пять-шесть повспоминают еще, што был такой Матвей Рязанцев, потом — все. А охота уж узнать, какая у них тут будет жизнь. А так — вроде ничего не жалко. И на солнышко насмотрелся вдосталь, и погулял в празднички — ничего, весело бывало, и… Да нет — ничего. Повидал много. Но как подумаешь, нету тебя, все какие-то есть, а тебя — тю-тю, никогда больше не будет… Как-то пусто им вроде без меня будет. Или ничего, как думаешь?
Мужичок пожал плечами.
— Хрен ее знает…
…Тут невесть откуда вылетел навстречу похоронной процессии табун лошадей… Раздался разбойный свист; люди с похорон сыпанули в разные стороны. Гроб уронили… Из него поднялся Матвей…
— Тьфу, окаянные!.. Я вам кто — председатель или затычка! Бросили, черти…
…Матвей со стоном вскочил, долго, с трудом дышал. Качал головой…
— Ну, все: это уж — надо в больницу везти, дурака. Слышь-ка!.. Проснись, — разбудил Матвей жену. — Ты смерти страшисся?
— Рехнулся мужик! — ворчала Алена. — Кто ее не страшится, косую?
— А я не страшусь.
— Ну дак и спи. Чего думать-то про это?
— Спи, ну тя!..
Но вспомнилась опять та черная оглушительная ночь, когда он летел на коне, так сердце сжалось — тревожно и сладко. Нет, что-то есть в жизни, чего-то ужасно жалко. До слез жалко.
В эту ночь он не дождался Колькиной гармошки. Сидел, курил… А ее все нет и нет. Так и не дождался. Измаялся.
К свету Матвей разбудил жену.
— Чего эт звонаря нашего совсем не слышно?
— Да женился уж! В воскресенье свадьбу намечают.
Тоскливо сделалось Матвею. Он лег, хотел заснуть и не мог. Так до самого рассвета лежал, хлопал глазами. Хотел еще чего-нибудь вспомнить из своей жизни, но как-то совсем ничего не приходило в голову. Опять навалились колхозные заботы… Косить скоро, а половина косилок у кузницы стоит с задранными оглоблями. А этот черт косой, Филя, гуляет. Теперь еще на свадьбу зальется — считай, неделя улетела.
«Завтра поговорить надо с Филей».
День этот наступил. Вернее, утро.
Колька постучал Захарычу в окно.
— Захарыч, а Захарыч!.. Доделал я его.
— Ну?! — откликнулся из темноты комнаты обрадованный Захарыч. — Сейчас… я мигом, Коля!..
Шли темной улицей к Колькиному дому и негромко почему-то, возбужденно говорили.
— Скоро ты его… Не торопился?
— Нет вроде… эту неделю ночами сидел, вплоть до работы…
— Ну, ну… Торопиться здесь не надо. Не выходит — лучше отложи. Это какой-то или уж слишком бедный, или непомерно самонадеянный человек заявил: «Ни дня без строчки». А за ним — и все: творить надо каждый день обязательно. А зачем — обязательно? Этак-то «затворишься» — и подумать некогда будет. Понимаешь ли меня?
— Понимаю: спешка нужна при ловле блох.
— Что-то в этом роде.
— Тяжело только, когда не выходит.
— И — хорошо! И — славно! А вся-то жизнь в искусстве — мука. Про какую-то радость тут — тоже зря говорят. Нет тут радости. Помрешь — лежи в могиле и радуйся. Радость — это лень и спокойствие.
Подошли к дому.
— Захарыч, — зашептал Колька, — давай в окно залезем… А то… эта… молодая-то заворчит…
— Ну?! Уже ворчит?
— Ворчит, ну ее! «Чего не спишь по ночам, свет зря мотаешь!»
— Ая-яй!.. Плохо это, Коля. Ах, плохо. Ну полезли.
На верстачке, закрытая тряпицей, стояла работа Кольки.
Колька снял тряпицу…
…Стеньку застали врасплох. Ворвались ночью с бессовестными глазами и кинулись на атамана. Стенька бросился к стене, где висело оружие. Он любил людей, но он знал их… Знал он и этих, что ворвались: приходилось, он делил с ними радость и горе тех ранних походов и набегов, когда был он молодым казаком, гуливал с ними… Но не с ними, нет, хотел испить атаман горькую чашу — это были домовитые казаки. Стало на Дону худо, нахмурился в Москве царь Алексей Михайлович — и они решили сами выдать грозного атамана. Они очень хотели жить как раньше — вольно и сладко.
…Кинулся Степан Тимофеич к оружию, да споткнулся о персидский ковер, упал. Хотел вскочить, а сзади уже навалились, заламывали руки… Завозились. Хрипели. Негромко и страшно матерились. Нашел в себе силы Степан приподняться, успел прилобанить одному-другому могучей своей десницею… Но ударили сзади чем-то тяжелым по голове. Рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень.
— Выбейте мне очи, чтоб я не видел вашего позора, — сказал он.
Глумились. Топтали могучее тело. Распинали совесть свою. Били по глазам…
Так рассказал Кольке Захарыч. (Рассказ идет на изображение). И эту трагическую сцену, конец ее, остановила рука художника — Кольки…
Долго стоял Захарыч над работой Кольки… Не проронил ни слова. Потом повернулся и пошел к окну. И тотчас вернулся.
— Хотел пойти выпить, но… не надо.
— Ну как, Захарыч?
— Это… Никак… — Захарыч сел на лавку и заплакал — горько и тихо. — Как они его… а! За что же они его?! За что?.. Гады они такие, гады. — Слабое тело Захарыча содрогалось от рыданий. Он закрыл лицо маленькими ладонями.
Колька мучительно сморщился и заморгал.
— Не надо, Захарыч…
— Что «не надо»-то? — сердито воскликнул Захарыч, и закрутил головой, и замычал. — Они же дух из него вышибают!..
Колька сел на табуретку и тоже заплакал — зло и обильно.
Сидели и плакали.
— Их же ж… их вдвоем с братом, — бормотал Захарыч. — Забыл я тебе сказать… Но ничего… ничего, паря. Ах, гады!..
— И брата?
— И брата… Фролом звали. Вместе их взяли. Но брат — тот… Ладно. Не буду тебе про брата. Не буду.
Чуть занималось светлое утро. Слабый ветерок шевелил занавески на окнах…
По поселку ударили ранние петухи.
Тут вышла из-за перегородки жена Кольки, Нинка. Заспанная и недовольная.
— Людям на работу с утра, а они толкутся всю ночь, как… эти…
— Чего ты? — попытался воздействовать на жену Колька.
— Да ничего! И нечего по ночам сюда шляться. Пить-то и одному можно… А других подговаривать… учителя вроде бы так и не делают.
— Нинка!..
— Не ругайся, Николай… Не надо…
Захарыч, к удивлению Нинки, вылез в окно и ушел.
Как-то Матвей поздно ночью завернул к дому Кольки… Стукнул в окно.
Колька вышел на крыльцо.
— Ты чего, дядя Матвей?
— Так…
Сели на приступку.
— Как оно? — спросил Матвей.
— Да так… Ничего.
Помолчали.
— Вынеси гармонь, сыграй чего-нибудь.
Колька удивленно посмотрел на председателя.
— Ну, што, лень, што ли? То всю деревню ходил булгатил…
— Счас вынесу.
Колька принес гармонь.
— Какую?
— Ну… какую-нибудь, какие по ночам играл.
Колька заиграл «Ивушку».
И тут в дверях выросла Нинка… В спальной рубахе, босая.
— Чего эт — ночь-заполночь разыгрались тут!..
Колька перестал играть.
— Людям спать надо, а тут… Нальют глаза-то и ходют… Колька, иди спать!
— Ты што это, Нинка? — удивился Матвей. — И двух недель не живешь с мужем, а уж взяла моду ворчать, как карга старая. Бесстыдница ты такая!.. Што же дальше будет?
— А нечего тут…
— Чего «нечего»? Дьяволы злые. Молодая ишо, радоваться бы надо, а ты уж как бы поядовитей слово из себя выдавить. Кто это тут глаза налил? Ну?
— И нечего тут…
— Заладила, ворона… Тебя ж, Нинка, любить надо, а где тут! Душа не повернется — так-то будешь. Не бери пример с наших деревенских дур, которые только и знают, что всю жизнь лаются… Будь умней таких. Жизнь-то — всего одна, и та, не успеешь оглянуться — к вечеру уж. И тут тянет человека оглянуться… Вот и оглядываются — каждый на свое. Не надо, Нина, штоб душа ссохлась раньше времени… Не надо.
Нинка хлопнула дверью, ушла в дом.
— Ты, Колька, не давай ей особо язык распускать…
— Ругаться, что ль, с ней?
— Да не надо бы ругаться-то… Хоть ты умней будь, втолковывай почаще…
— Играть?
— Давай.
Колька заиграл опять «Ивушку». Вяло как-то… И Матвей слушал вяло. Потом он сказал:
— Ладно, не надо. Всему, видно, свое время.
Посидели молча. Закурили.
— Игрушки-то свои делаешь?
— Делаю.
— Ну и делай, не слушай никого, ну их к дьяволу. Глянется — делай. А то указчиков много найдется… Посплетничают, позубоскалят — и думают: они хорошие. Клади на всех…
Колька засмеялся.
— А сыграю я, дядя Матвей!
— Валяй.
И Колька заиграл веселый мотив…


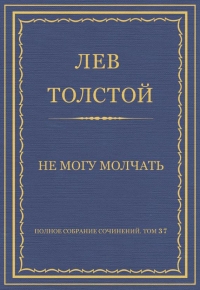
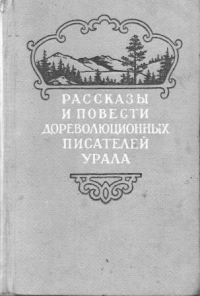

Комментарии к книге «Странные люди», Василий Макарович Шукшин
Всего 0 комментариев