Из цикла «Рождественские рассказы».
Зима стала вдруг; ещё вчера не было признака снега, дул ветер, поднималась вода, к вечеру начали было палить пушки, а к ночи всё стихло, замерло, точно притаилось, с помутневшего неба полетели широкие, ватные хлопья, затем разрядились, закружились в воздухе миллионами беленьких звёздочек, и пошёл настоящий, ровный снег, к утру прихватил порядочный мороз, и, когда Наталья Алексеевна проснулась и, зябко кутаясь во фланелевый, розовый халат, подошла к окну, она ахнула, и её бледное личико осветилось, согрелось весёлой улыбкой. Санный путь был готов.
На оконных стёклах мороз начертил географические карты невиданных земель с фантастическими скалами, лесами и дорогами; сквозь эти узоры в комнату глядело солнце, посылая розовые лучи в её глубь до самой кровати, широкой, белой, в которой должна была теряться такая детски-тоненькая женщина как Наталья Алексеевна.
Задетая розовыми лучами солнца, молодая женщина вырисовывалась теперь отчётливо и как-то трогательно точно забытая, брошенная всеми, одна, среди роскошной громадной спальни, по углам ещё погружённой в темноту.
— Солнце? — проговорила она тихо и с какой-то грустной думой загляделась на него.
Петербургское зимнее солнце позволяло глядеть себе прямо в лицо; оно похоже было на блестящего, холодного и равнодушного представителя фирмы, считающего своим долгом изредка показываться людям, пока жаркое, благостное солнышко отдыхает в миртовых рощах, купается в южных морях.
Не согретая, не обласканная розовым лучом, охваченная полной тишиной квартиры, Наталья Алексеевна нервно вздрогнула, и, отойдя от окна, почти одним прыжком очутилась снова в постели, и, как была в капоте, в туфельках, закутавшись с головой в розовое атласное одеяло, замерла…
Через минуту в громадной спальне послышались тихие стоны и жалобные рыдания молодой женщины… Никто не приходил… И только кресла, пуфы, картины и масса дорогих безделушек, вся обыденная рама окружающих нас вещей, скованных своей бездушной неподвижностью, казалось, прислушивались и впитывали в себя жалобные звуки человеческой тоски.
* * *
— Ах, как она убивается, эта удивительно-несчастная женщина! И, помяните моё слово, у них кончится какой-нибудь катастрофой.
— Доктор!
— Что прикажете?
— Да вы подымите голову, посмотрите на меня.
Доктор Бородин, худой, неуклюжий, на бледном и некрасивом лице которого только и выделялись умные, чёрные глаза, поднял голову и взглянул на Марью Александровну Бахматову, содержавшую лучший пансион в одном из уголков южного берега Крыма.
Красивые, тёмные глаза молодой женщины блестели добродушной насмешкой.
— Сколько лет этой несчастной женщине?
— Сколько, сколько? Ну, двадцать, двадцать пять, самое большее, молода безусловно.
— И хороша собою, добавьте…
— И хороша, ну, так что же в этом?
— Да только то, что в этом и кроется тайна необыкновенного интереса, который она возбуждает во всех моих постояльцах.
— И во мне?
— И в вас, дорогой доктор… Успокойтесь, ведь, это делается невольно: инстинктивная дань красоте; каждого мужчину, будь он философ, будь он добрейший, справедливейший человек как вы, и того подкупит женская красота!..
— Позвольте, позвольте! Уж зато нет строже судьи у женщины как женщина же.
— Может быть; ну, да теперь дело не в том. Отчего же она такая несчастная?
— Да муж-то её пьёт!
— То есть как пьёт?
— Да так, что вот вчера присылает она за мной, прихожу я, она встречает меня в коридоре, бледная, вся трясётся. — «Ради Бога, — говорит, схватила меня за руки, а пальчики у неё холо-о-дные, — ради Бога, доктор, дайте ему чего-нибудь, спасите его, он, кажется, умирает!» — Успокоил я её как мог.
— Это раньше-то, чем идти к умирающему? Тут, за дверями, стояли, грели ей пальчики и умоляли себя поберечь?
— Экая, ведь, вы ядовитая! Ну, минуту-две, что ли, дал ей придти в себя; вхожу, а он лежит на кровати, посинелый, почти без дыхания.
— Так, что ещё минута нежной заботливости к его жене, и он больше не нуждался бы в вашей помощи?
— Да, по правде сказать, пожалуй, что так… Привёл я его в чувство, она мне помогала как ангел, расторопно, толково, право, как немногие женщины умеют это сделать, и представьте себе, как только он пришёл в себя, бросил на неё такой взгляд, что у меня мурашки пошли по коже, я отозвал её и говорю: «Я бы на вашем месте избегал оставаться с ним с глазу на глаз».
— Что же она вам на это ответила?
— Да что? Ведь, вы, женщины, опасности не признаёте. Она улыбнулась: «Это, — говорит, — всегда в первую минуту, когда он очнётся, он меня, — говорит, — не узнаёт, а потом придёт в себя и просит на коленях прощения, потому что, ведь, он меня обожает».
— Неужели она не может удержать его пить? А, представьте себе, мне говорили, что она его просто спаивает.
— Да не верьте вы, Марья Александровна, всем этим слухам, распускаемым вашими постояльцами! Ведь, ничего нет злее как больной человек, сосланный врачом на какую-нибудь зимнюю станцию, оторванный от семьи, от привычек, неуверенный, что лечение идёт ему впрок. Да он готов тут живьём съесть человека. Ведь, если бы Нина Фёдоровна…
— Это её так зовут?
— Ну да. Но ведь, если бы Веженцова сама не дозволяла мужу пить, вернее, не делала бы вида, что это — не кутёж, не пьянство, а просто весёлое препровождение времени, так, ведь, он бы совсем пропал, нашёл бы себе компанию, не беспокойтесь; да уж тогда бы пил не шампанское, не в вашем ресторане, где поневоле надо держать себя прилично, а где-нибудь в притоне.
— Может быть! Только не лежит у меня как-то сердце к этой молодой женщине. Вы вот говорите, она — несчастная, а для чего она наряжается? Другим ведь, просто стеснительно: у меня есть и небогатые барыни.
— Наряжается, потому что муж так требует. Веженцов-то миллионер, сударыня…
— Знаю… Вот видите, больше всего меня удивляет, что я раньше, чем они приехали, слышала о женитьбе Веженцова. Ведь, вы знаете, они женаты всего полгода…
— Неужели?
— Ага, и вы удивились! Чему же? Ну-ка, подумайте, ответьте.
— Да я не знаю, так почему-то не думал, что это такие молодожёны.
— Вот в этом-то вашем недоумении и кроется такое же осуждение как и у меня: не похожа она ни по речам, ни по манерам, ни по поступкам на молоденькую жену.
— Ну, Марья Александровна, ей-Богу, уж я не знаю, в чём она так провинилась перед вами, а только женщина она прелестная и симпатичная в высшей степени. До свидания!
— Вы куда же, к ним?
— К больным, но и к ним, конечно, загляну.
Бородин встал, пожал руку Марье Александровне, отыскал свою шляпу и вышел, очевидно, недовольный разговором, а Марья Александровна поглядела ему вслед с добродушной усмешкой и снова погрузилась в чтение своих счётных книг.
Доктор обошёл первый этаж роскошного пансиона, который уже много лет содержала Марья Александровна Бахматова, и теперь поднимался на второй, чуть не половину которого занимали Веженцовы. Уже с первых шагов ему послышались какие-то крики, стон… Он ускорил шаги и, добежав до крайней двери, дёрнул её так сильно, что лёгкий крючок, на который она была заперта изнутри, сорвался, и Бородин стоял в комнате раньше, чем те, которые занимали её, успела заметить его присутствие.
— Что вы делаете?
Он схватил Веженцова за руку и вырвал у него револьвер. Нина Фёдоровна упала в кресло и разразилась истерическим хохотом, перешедшим в слёзы.
— О, если б не вы, если б не вы, — повторяла она, ударяя бессмысленно кулаком о ручку кресла, — если б не вы!..
— Да, если б не вы, то кому-нибудь из нас не существовать бы! — захохотал Веженцов и, отойдя к столу, налил себе стакан портвейна и выпил его залпом. — Вы вовремя вошли, милейший Нил Нилыч, вам надо медаль за спасение погибающих!
— Да что же это такое?! Ведь, это бедлам какой-то! Шутки шутками, а, ведь, на вашей жене лица нет!
— Ну, что вы, при такой красоте-то! — Веженцов снова захохотал, снова налил портвейну и опять выпил залпом.
— Успокойтесь, ради Бога! Где лавровишневые капли? Постойте, я вам накапаю… Вот, выпейте.
Бородин ухаживал за Ниной Фёдоровной, тёр ей виски, давал нюхать одеколон, не обращая никакого внимания на Веженцова.
— Уйдите, ради Бога! Спасибо, спасибо вам! Унесите с собою револьвер; теперь бояться нечего: припадок прошёл, он пришёл в себя.
Всё это молодая женщина шептала тихо, едва шевеля губами, принимая услуги доктора, делая вид, что приводит в порядок причёску. Бородин вышел, унося револьвер, повторяя в душе ту же фразу: «Чем всё это кончится? Несчастная женщина!»
Как только доктор вышел, Нина Фёдоровна подскочила к дверям и заперла их на ключ; затем она обернулась к Веженцову.
— Ты что же, хотел убить меня, меня?
Веженцов обернулся к ней; теперь, когда дневной свет падал на его лицо, можно было ужаснуться той муке, которая виднелась в его глазах.
— Себя или тебя, себя и тебя, — тебя, а самому бежать, почём я знаю, что я хотел, почём я знаю, чем это всё кончится?
— Да ты с ума сошёл!?
— А ты только теперь это заметила? Я сошёл с ума, когда получил твоё письмо; когда поверил, что не было другого исхода, как поступить так, как ты требовала, когда приехала сюда и дал дням зацепляться за дни и составить целые месяцы, в течение которых я пропил всё, и своё доброе имя, и свою совесть…
— Я не держу тебя, ты можешь ехать хоть сегодня же…
— Куда, — скажи куда, к кому?! Мать чуть не прокляла, брат взял на себя ведение дела… А домой, как я вернусь домой, кого и что найду я дома?
В миг Нина Фёдоровна была у его ног, — её изящные тонкие пальцы, унизанные дорогими кольцами, сжимали его исхудалые, холодные руки, её кудрявая тёмная головка прижалась к его груди, но там что-то так сильно хрипело и клокотало, что она тотчас же откинулась и, глядя в лихорадочно блестевшие глаза Веженцова своими бархатными, непроницаемо-чёрными очами, заговорила тихо и нежно.
— Я не виновата ни в чём! Ты сам знаешь, как всё случилось быстро, странно, и теперь куда же тебе ехать, к нему?.. Я одна у тебя, одна, как и ты у меня один, и если, действительно, ты задумал вернуться домой и бросить меня, то… уж лучше убей меня, убей, я с места не двинусь, не крикну!
Голос её, мягкий и звучный, вздрагивал, понижался до шёпота, звенел в последней мольбе.
Опять красота молодой женщины, её грация, голос, глаза, теперь полные слёз, начинали сильнее вина заволакивать мозг смотревшего на неё мужчины, опять закипала кровь. Веженцов махнул рукою, точно сам отвечая на внутренний вопрос. Да, он мог презирать эту женщину, ненавидеть, убить, но не бросить — не отдать другому, о, нет, этого он не мог!
* * *
В пансионе Бахматовой все приготовлялись к Рождественским праздникам. Больные, которые могли выходить на воздух, разбрелись по парку, срезывая ветви остролистника, на которых ещё держались пурпуровые ягоды.
Ветви вечнозелёного дуба и перистые, нежные тузи собирались в корзины и, затем, гирляндами развешивались по стенам столовой большого зала и коридора. Бледные маленькие розы, зимние красавицы, робко скрывавшиеся кой-где на южном склоне, белые примоверы и тёмно-лиловые колокольчики, зимой расцветающие в горах, все были тщательно выисканы и попали в гирлянды. Рождество было решено встречать всем вместе. Маленькая церковь, стоявшая на горе, была тоже вся украшена зеленью, цветами, хорошо натоплена, и, после всенощной, назначено было в столовой общее собрание; громадный стол кто-то, в воспоминание детства, покрыл сеном, сверх которого послана была белоснежная скатерть, а посредине стола, уже общими стараниями, устроили маленькую ёлку, на зелёных ветвях которой не было ничего, кроме разноцветных свечей, да на верхушке ярко горела маленькая золотая звезда.
У Марии Александровны снова сидел доктор Бородин и, пощипывая свою жидкую бородку, хриплым баском рассказывал о случившемся у Веженцовых.
— Сегодня утром я его подверг самому тщательному медицинскому осмотру, выслушав грудь и лёгкие.
— Ну и что ж?
— Да как вам сказать? Коли мне сейчас придут доложить, что он умер, я не удивлюсь. С этими алкоголиками даже и не поймёшь.
— Да Бог с вами, какой же он алкоголик!
— Вот в том-то и дело, что в смысле пьяницы, которого ничем не отвлечёшь от водки, он не алкоголик; напротив, мне кажется, что вино внушает ему отвращение, но в то же время, по тому количеству, которое он поглощает, он весь пропитан этим ядом. Что заставляет его пить? Я не понимаю! Эта несчастная Нина Фёдоровна! Да, да, несчастная, несмотря на вашу скептическую улыбку. Это одна из тех гордых женщин, которая никогда толпе не покажет своих слёз. Вот я убеждён, что сегодня вечером она будет блистать в нашем маленьком собрании, и никто не догадается, что эта женщина сегодня утром, со слезами, с рыданиями целовала мне руки, умоляя спасти её мужа.
— Да, неужели, он серьёзно так плох?
— И плох, и не плох. Он задыхается, у него задерживается биение сердца, а потом он опять, кажется, совершенно здоровым. Брось он пить, перестань так страшно волноваться…
— Да о чём же он так волнуется?
— Не имею понятия, но на него находят минуты безумных вспышек.
— Я знаю только одно, что, несмотря на весь доход, который приносят мне эти жильцы, я была бы очень счастлива, если бы могла, под каким-нибудь предлогом, просить их немедленно выехать от меня.
— Ну, кажется, об этом они и не думают.
* * *
Три дня тому назад из Петербурга вышел поезд. В отдельное купе села молодая женщина, высокая, тоненькая. Её не провожал никто. Густая вуаль, спущенная с меховой шапочки, закрывала лицо от праздного любопытства толпы. В купе она села в уголок, едва бросив рассеянный взгляд на большой сак из английской кожи и на маленький дорожный несессер, единственный багаж, шедший с нею. Не снимая плюшевого пальто, она только опустила высокий воротник и положила рядом с собою муфту. Не поднимая вуали, она прижалась головой в уголок дивана и как бы в утомлении закрыла глаза. Поезд тронулся, молодая женщина перекрестилась три раза и снова застыла в своей неподвижности. Только когда кондуктор с контролёром отобрали у неё билет прямого сообщения на Симферополь, она вздохнула свободно и, заперев изнутри дверь своего купе, сняла котиковую шапку, пальто и, оставшись в английском тёмно-синего сукна костюме, вынула из саквояжа плед, накинула на голову чёрный кружевной шарф и снова села также тихонько в угол. И так, не читая, ни с кем не разговаривая, приказывая подать себе из вагона-ресторана только бульон и чай с хлебом, на третьи сутки молодая женщина вышла в Симферополе на вокзал. Приводя в порядок свой туалет, помывшись и выпив чаю, пока ей подавали почтовую тройку, она также молча, одинокая, уселась в экипаж и, не обращая внимания на то, что следы снега давно пропали, что экипаж был колёсный, воздух полон влажной сыростью, и на гибких, чёрных ветвях деревьев весело и задорно щебетали птицы, она снова три раза перекрестилась и погрузилась в собственные, невесёлые думы. Экипаж останавливался на станциях, толпился народ, перепрягали лошадей, но молодая путешественница вышла только в Байдарах, выпила молока и, щедро обещая ямщикам на чай, помчалась дальше.
* * *
Часы показывали семь. Нина Фёдоровна кончила свой туалет. Звезда уже взошла на востоке, и все обитатели маленькой зимней станции в Г. собрались в столовую. Некоторые, шутя, вытягивали из-под скатерти соломинку, и так как каждая рука чувствовала, что тянет, то соломинки к удовольствию всех появлялись длинные и давали надежду на долгую, спокойную жизнь.
В комнатах Веженцовых царствовала тишина; сам Веженцов спал. Его лицо, иссиня-бледное, казалось лицом мертвеца; чёрные волосы, длинными, давно не остриженными прядями, лежали на лбу и на висках, плоские, липкие, смоченные потом; закрытые глаза казались тёмными впадинами; из-под небольших усов едва розовела полоска губ; белая, мягкая рубашка, расстёгнутая у ворота, показывала широкую, исхудалую грудь. Этот высокий, хорошо сложенный, бесспорно красивый мужчина в дни здоровья и веселья, теперь казался почти трупом, брошенным, никому неинтересным своей догоравшей жизнью. Около его кровати, на столе стояла шкатулка, в замке её торчал ключ; между двух окон, со спущенными портьерами, перед туалетом у большого зеркала стояли два канделябра, и в каждом горело по пяти свечей. Нина Фёдоровна, вся в белом, с веткой душистых гиацинтов в волосах, накаливая щипцы на маленькой спиртовой лампочке, кончала завивать волосы надо лбом. Несмотря на наряд и на живые цветы, на громадные бриллианты, горевшие в ушах, зеркало отражало лицо бледное, лоб перерезанный морщинами, выступившими как бы под давлением нехороших мыслей, глаза блестели недобрым тревожным выражением. Нервно расправляя пальцами завитые пряди волос, она оглядывалась на лежавшего Веженцова, затем взор её переходил на шкатулку. Машинально она потянулась за перчатками, машинально уже начала натягивать одну на левую руку, как вдруг решительным жестом сорвала её, шагнула к постели и нагнулась над спавшим.
— Александр Петрович, Саша! — окликнула она его и даже тронула за руку; рука была холодная и потная.
Отдёрнув брезгливо свою, она налила на неё несколько капель одеколону из стоявшего тут же на столике флакона и затем обтёрла её носовым платком. Ещё раз также тихо вернувшись к кровати, она протянула руку и попробовала открыть ящик: он оказался запертым. Повернуть ключ она не решалась, так как хорошо знала то сухое, громкое щёлканье, которое производил замок.
Ещё минуту Нина Фёдоровна постояла, затем скользнула в соседнюю комнату, быстро раскрыла платяной шкаф, вынула оттуда чёрное суконное платье, тёплое на меху манто, драповый жакет, пуховый платок, меховую шапочку, тёплые высокие сапоги, затем достала саквояж, наложила в него белья, вернулась в первую комнату, ступая неслышно как тень, из разных ящиков достала футляры, разные мелкие вещи — и всё это уложила в приготовленный сак. Едва успела она замкнуть его, как из другой комнаты послышалось: «Нина!» Руки молодой женщины так и застыли, впившись в ремённые уши саквояжа; ей казалось, что она ослышалась.
— Нина!
Проведя рукой по лбу, стараясь принять покойное выражение лица, она вернулась к кровати.
— Ты проснулся?
— Пить.
— Что ты хочешь пить?
— Вина…
— Но доктор запретил тебе.
Вместо улыбки, по лицу больного скользнула судорога.
— С каких пор ты так обращаешь внимание на приказания доктора? Да разве ты не видишь, что я умираю?.. Ну, не сейчас… сегодня ночью… завтра… через неделю… но я чувствую смерть, она стоит здесь… возле меня… от неё веет холодом… Слышишь, слышишь?
Больной приподнялся на своих костлявых руках, бледный, с посинелыми губами; остановившиеся глаза его глядели в тёмный угол. Нина Фёдоровна дрожащими руками налила полный стакан белого вина и поднесла к губам Веженцова.
— Пей…
Жадными глотками, проливая вино на рубашку, он выпил всё до последней капли. Когда Нина Фёдоровна приняла от него стакан, он уже снова изменился: на щеках розовели чуть-чуть два пятна, глаза прояснели, и он уже почти спокойно снова опустился на подушки.
— Отчего ты в белом?
— Ты забыл, что сегодня Рождественский сочельник! Внизу горит ёлка, все собрались, ужинают и, вероятно, удивляются, отчего меня нет!..
— И ты пойдёшь? Оставишь меня здесь одного?
Лицо Нины Фёдоровны вдруг приняло странное, незнакомое ему выражение: она побледнела, ноздри расширились, как будто она с трудом дышала, глаза потемнели, углубились и в них запрыгали злобные огоньки.
— Что с тобой?
— Со мной, Александр Петрович? Со мной ничего особенного; только, мне кажется, пришла пора нам рассчитаться…
Лицо Веженцова покрылось пятнами. Ему вдруг стало страшно этого чужого голоса, чужого лица. Бессонные ночи, одышка, отёк ног, не позволявший ему вставать, всё делало его слабым, мысли путались; ему показалось вдруг, что он бредит.
— Нина! Нина! Это ты? — он уже не мог приподняться с кровати и только глазами, полными ужаса, глядел на молодую женщину.
— Да, это я, Нина! — она присела к нему на кровать и засмеялась. — Да, друг мой, только я теперь сняла с себя маску, потому что через час я уже уеду отсюда…
— Ты уедешь?.. Ты?.. Куда?..
Веженцов говорил как в бреду.
— Куда?.. В Петербург, к себе… Моя роль кончена, что же мне ожидать здесь? Твоей смерти? Ведь, ты сам её чувствуешь? Ведь, она здесь, возле тебя! — Нина Фёдоровна опять рассмеялась.
— Нина, Бога ради, зачем так говоришь? Зачем так смеёшься? Мне страшно…
— Тебе страшно? Тебе? Ты не побоялся сойтись со мною, когда я была гувернанткой твоих маленьких сестёр? Тебе не страшно было лгать мне целые два года? Затем убедить меня уехать заграницу, пока ты уговоришь свою мать согласиться на твой брак со мною, и пока я ждала, верила тебе, ты обвенчался с другою, выслав мне деньги? Ты думал, что этим кончено всё, да?
Веженцов тяжело дышал, в груди его хрипело и клокотало, полураскрытые губы прилипли к белым зубам, он не мог произнести ни слова, но в уме его ясно восставали вызванные ею картины. Эта гувернантка его сестёр, смелая, красивая девушка, всюду искавшая встречи с ним, вызывавшая его на любовь, действительно очаровала его, но это не была невинная девушка как та, на которой он женился теперь; это была гетера, которая на короткое время свела его с ума. Она вырвала от него и обещание жениться, но, страстный и бесхарактерный, после её отъезда он также быстро поддался требованиям родных, а затем, очарованный выбранной ими девушкой, женился на ней, послал деньги заграницу и думал, что этим всё кончено…
— Ты думал, что со мною всё кончено? — точно отвечая на его собственные мысли, заговорила Нина Фёдоровна. — Ты ошибся; такие женщины как я мстят страшно… Вот я сижу около тебя, я молода, здорова, красива, а ты умираешь… Да!..
И Нина Фёдоровна, точно наслаждаясь его блуждающим взором и дрожью, которая пробегала по его плечам, повторила ещё раз:
— Умрёшь, потому что ты спился… Ты, мужчина, погиб, а я, женщина, погубившая тебя… торжествую… Я вернулась из-за границы и не стала писать тебе… умолять… Нет!.. Я храбро пошла навстречу судьбе: узнав, когда жена твоя была в отсутствии… я вошла в твой дом, назвалась чужой фамилией, и когда ты принял меня… Боже мой, как ты был испуган!..
Она захохотала…
— На тебе лица не было, когда ты узнал меня!.. Да… И я объявила тебе, что не выйду из твоего дома, если ты не поклянёшься, что завтра же приедешь ко мне… И ты поклялся… и приехал… и ещё раз приехал… И поверил, что я умираю от любви к тебе, что если ты не исполнишь моей просьбы… не увезёшь меня на юг, не устроишь меня сам здесь, то я сойду с ума… и убью сперва твою жену, а потом себя… О, мужчины, как вам льстит безнадёжная, безумная любовь, которую к вам питают… Самый ничтожный из вас как и самый умный всегда поверит, что женщина сходит с ума по нему… И ты поверил!.. И, под предлогом неотложных дел, бросил молодую жену и уехал… Ты всё-таки понимал, что делаешь подлость, ты всё-таки тосковал и, чтобы заглушить всё это, пил… а я тебе наливала… Мне нелегко было разыгрывать пред тобой комедию любви, когда я ненавидела тебя… Пришло, наконец, моё время… Долой, маска!!! Твою жену я уведомила обо всём, не анонимным письмом, нет, с полною моею подписью, — пусть она всё знает и презирает тебя… А теперь — прощай! — Прощай!.. Встать ты не можешь, кричать — у тебя нет голоса, звонок около тебя испорчен… Прощай!..
— А на память себе я беру эту шкатулку, — тут всё, что ты имеешь при себе… Мне этого хватит, а тебе теперь ничего не надо… Прощай…
И, взяв со стола шкатулку, она направилась в другую комнату… На пороге она остановилась: Веженцов лежал с закатившимися глазами; пальцы вытянутых рук его впились в одеяло… Мысль, что он действительно умрёт при ней, сейчас, испугала её… Придут люди… надо будет составлять свидетельство о его смерти… узнают, что она не жена его… Нет, при себе она этого не допустит, — он ещё дышит, надо к нему послать доктора, а самой спешить… Идти вниз, праздновать Рождественскую ночь, нечего было и думать…
Она почти сорвала с себя белое платье, надела тёплые сапоги, суконное платье, шляпу…
* * *
Быстро-быстро бегут почтовые лошади последнюю станцию, не тяжела их ноша одной путешественницы и её миниатюрного багажа. Въехали в чугунные ворота, летит экипаж по крутому склону горы; направо — опустелые виноградные поля, налево — тёмные кипарисы стоят плотной острозубчатой стеной… сменялись они платанами, магнолиями, и уже в роскошном парке Г-скаго имения звенит, заливается почтовый колокольчик… Ямщик ухарски остановил лошадей у ворот красивой виллы пансиона Бахматовой.
Молодая женщина вышла из экипажа… Узнав от выбежавшего швейцара, что есть номера, велела нести свой багаж в лучший из свободных, а сама, войдя в вестибюль, прочла на доске фамилию Веженцова и, ничего не спрашивая, не отвечая на вопросы, предлагаемые ей, вынула только крупную бумажку, приказала швейцару рассчитаться с ямщиком и… легко взойдя на второй этаж, постучала сильной рукой в дверь замеченного ею номера… Минуту ей не отвечал никто… Затем послышались шаги и женский голос спросил:
— Что надо? Кто стучит?
Но приезжая не отвечала ни слова и ещё раз крепко, с расстановкой, ударила три раза… Звук так странно, необычайно раздался в коридоре, что дверь немедленно открылась: за нею стояла Нина Фёдоровна, уже одетая в шляпу, но ещё без пальто. При виде на пороге незнакомки, с откинутой вуалью, смотрящей прямо и смело ей в лицо, у Нины Фёдоровны вдруг задрожало сердце, и она сразу поняла, кто перед нею… Спиною она отодвинулась в глубь комнаты, а вошедшая медленно шла вперёд, не спуская с неё своих блестящих глаз… Так дошли они до дверей во вторую комнату… Нина Фёдоровна быстро перешагнула порог и захлопнула их за собою… Послышался звук запертого замка… Тогда вошедшая остановилась, оглянулась и с тихим криком бросилась к кровати, на которой лежал Веженцов. Опустившись на колени, она нагнулась ухом к его груди, расслышала тихое биение сердца. Сбросив шляпу, манто, она схватила со стола одеколон, намочила им свой носовой платок и начала примачивать им виски больного, растирать ему грудь, давать нюхать. Он вздохнул глубоко, но не открыл глаз. Входная дверь отворилась снова: на пороге стоял худой, высокий человек и с удивлением рассматривал молодую женщину.
— Послушайте, кто бы вы не были… — залепетала она, бросаясь к нему навстречу. — Подите сюда, помогите мне, мой муж умирает!..
— Ваш муж? — чёрные глаза вошедшего с испугом впились в лицо стоявшей перед ним женщины.
— Да, мой муж, Веженцов, я жена его — Наталья Алексеевна, я только что сейчас приехала. Кто вы такой?
— Я — здешний доктор, Бородин.
— Доктор? Ради Бога, скорей помогите ему.
Но Бородин глядел как безумный на говорившую. В эту минуту замок щёлкнул, дверь второй комнаты с шумом раскрылась, в комнату вошла Нина Фёдоровна; в руках её был туго набитый, большой сак.
— Прощайте, доктор! — злобой и насмешкой зазвенел её голос. — Что вы так странно на меня смотрите? Да, эта госпожа совершенно права: она — жена Веженцова, жена, которую он бросил через месяц после свадьбы, а я — его любовница. Любовница, которую он любил до женитьбы, и которой стоило поманить его, чтоб он снова побежал за нею, — она близко подошла к Наталье Алексеевне. — Я презирала его всегда и презирала бы даже, если бы он женился на мне, за его бесхарактерность, но он должен был оставаться моим рабом… Он бросил меня, женился на вас, — этого я простить ему не могла и отомстила… Теперь берите его, пусть он умрёт на ваших руках… Вы будете оплакивать его как законная жена. Прощайте все!..
И, захохотав, она хотела идти, как ей преградил дорогу доктор Бородин. Выпрямившись, он казался громадного роста, чёрные глаза его были страшны от загоревшейся в них злобы.
— Так это так, — хрипло начал он, — ты была любовницей презираемого тобой человека, спаивала его, обобрала, убила и думаешь теперь, насмеявшись над всеми, спокойно уйти?
Схватив, он как безумный тряс её за плечи.
— Оставьте меня, оставьте, это — сумасшедший! — кричала, отбиваясь, Нина Фёдоровна.
Тяжёлый сак выскользнул из её рук и со стуком упал на пол.
— Нет, я не сумасшедший, но я задушу тебя, если ты сейчас же не вымолишь себе у этого человека прощения.
Он тащил её к кровати Веженцова.
Заметив, что больной шевелится, как бы силясь приподняться, Наталья Алексеевна зашла за его кровать.
Веженцов открыл глаза; он слышал последние слова и, хотя мысль медленно работала в его голове, последняя сцена встала перед ним. Взор его сознательно остановился на Нине Фёдоровне, голос его был слаб, но внятен:
— Отпустите её… доктор… тяжело её видеть, она украла мою шкатулку с деньгами…
Нина Фёдоровна рванулась, но доктор как клещами продолжал держать её на коленях, пригнутую к самой кровати.
— Напрасно украла… я дал бы больше, гораздо больше… если б знал, что за деньги освобожусь от неё… Отпустите…
Доктор разжал руку, и Нина Фёдоровна с бешенством, безмолвно, подняла свой сак и… вышла. В коридоре ей пришлось проходить мимо столпившейся прислуги. Не выпуская сака из рук, дрожа от бессильной злобы, она сошла вниз. Ей пришлось пересечь широкую, светлую полосу, вырывавшуюся из раскрытых настежь дверей столовой. Мельком, невольно, она видела Рождественскую ель, сияющую огнями; она слышала весёлые голоса, и первый раз сознание великого, торжественного праздника шевельнулось в её сердце.
В швейцарской, где она только что думала послать за лошадьми, она услышала перезвон колокольчиков и поспешно вышла на крыльцо.
— Ты с кем, ямщик? Занят?
— А вот привёз барыню, обратно пустой еду до города.
Обрадованная Нина Фёдоровна, не торгуясь, села в тот самый экипаж, из которого только что вышла Наталья Алексеевна, и лошади помчались обратно.
Воздух был свежий, но без мороза. Ярко сияли южные звёзды, слышался прибой морских волн, где-то близко, глухо-глухо, невидимая за прибрежными кустами, немолчно говорила грозная стихия. Экипаж повернул; направо стояли зубчатой стеной чёрные кипарисы, налево, на высоком, горном склоне лежали затихшие виноградные поля. Нине Фёдоровне стало страшно, ей хотелось человеческого голоса.
— Что, ямщик, невесело сидеть в Рождественскую ночь на козлах?
— Пошто невесело? Не худое дело делаю, службу правлю… Вот, кабы выпил я али зло на кого в такую ночь замыслил, вот бы беда приключилась…
— Какая же беда приключится именно в эту ночь?
— Как какая? Да, ведь, ноне Рождественская ночь! Сочельная!
— Ну, так что ж, не всё ли равно?
— Как всё равно? — ямщик даже сел вполуоборот на козлах. — Да, ведь, в эту ночь ангелы трубят по всей земле мир… Волк овцы не зарежет… А знаешь ли ты, барыня, что бывает такому человеку, кто в этакую ночь зло замыслит?
— А что?
— Не знаешь? А вот татарин, нехристь, и тот знает! У них на деревне в эту ночь хозяйки на порог хлеб кладут, молоко ставят, а кто и денег не жалеет, и коли наутро съедено, выпито, взято — радуются, собака ль то съела, вор ли, побродяга взял, всё едино, потому в эту ночь и скот, и лихой человек, все — братья. Недаром же вокруг колыбели Христовой быков да овец рисуют, а коли кто в этакую ночь зло сделал, так змея ему в сердце заползает…
— Как змея?
— Так, змея, невидимая… И совьётся она в нутре у него, и ходит человек, и ест, и пьёт, и будто живой, а внутри его гад сидит, жрёт его внутренности, гноит его и нежданно, негаданно, не дав по-христиански покаяться, ведёт его к смертному часу. И труп-то такого человека чернеет, смердит так, что людям подойти не можно.
— Какие глупости! Какие глупости! — почти кричала Нина Фёдоровна, не слушая дальнейших рассуждений ямщика, а в груди её было холодно, сердце ныло, точно действительно туда заползла змея злого дела и начинала свою страшную, разрушительную работу.
* * *
Около кровати Веженцова теперь стояла его жена. Доктор клялся в душе, что он употребит все силы, всё знание, чтобы только спасти умирающего.
— Неужели ты простила меня? Могла простить меня?
— Простила…
— Неужели ты можешь любить меня?
— Ты не научил меня этому, но я жалею тебя и… я — твоя жена.
— Боже мой, Боже! Как хотелось бы теперь мне жить!
— Бог милостив, он сделал для тебя чудо Рождественской ночи. Письмо, брошенное мне злобной рукой, с расчётом навсегда разорвать нас, наполнило жалостью моё сердце, потому что я поняла, в каких ты руках… Мало того, оно пришло вовремя, и, может быть, мы ещё спасём тебя. Доктор, спасём?
И милое, почти детское личико Натальи Алексеевны с такою кроткой мольбой обратилось к Бородину, что у того навернулись на глазах слёзы.
— Я верю, что для вас Бог довершит своё чудо Рождественской ночи.
1901
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

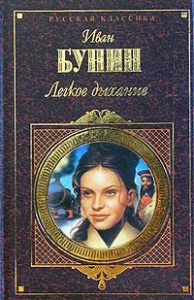
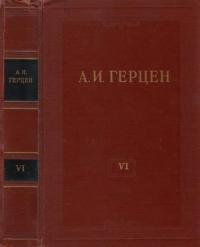

Комментарии к книге «Свет и тени женского сердца», Надежда Александровна Лухманова
Всего 0 комментариев