ВЛАДИМИР МАКАНИН
Повесть о старом поселке
Глава 1
А жизнь идет. И все дела, и все важные. Ну, скажем, нужные, - оно как-то обязывает, если скажешь "нужные". И обязывает, и оправдывает. То вдруг жена, и надо как-то участие принять, потому что, оказывается, несчастлива подруга жены. С которой жена когда-то училась вместе. И идешь и принимаешь участие.
А на это "участие" по времени взахлест уже наползает, как тень, муж сестры Анечки, который пьянствовал, и не в шутку. Он пьянствовал и мировые проблемы решал, а ты просто и тупо мучился, потому что сестра и потому что родная. В конце концов решился и сдал его на принудительное лечение, а он грозил: "Вернусь, Витька, убью. Так и запомни!.." И вернулся, и не убил, и даже как-то дружнее стали, но опять не слава Богу. Что-то у него там в больнице обнаружили. Заодно. И вот теперь операция предстоит, и ведь тоже на тебе повисло. И никуда не денешься. И главное, что одно за одним. За год промелькнуло этак лиц пятьдесят. И это если считать лишь тех, кто крупным планом. И вдруг подкатывает холодок, и чувствуешь, что все они, в сущности, чужие. Или это они стали чужими оттого, что их пятьдесят. Уже и не разберешь, что первично. Вот именно. Весь мир, говорит, не трудно в душу вместить, ты, говорит, поди вмести моего соседа. Одно за одним. И иной раз оглянешься вот так на бегу, окинешь эту громаду домов, толпы людей и толпы собственных забот (это уж внутри себя!) - и вдруг вырвется:
- И как же это меня сюда занесло?
И ведь именно занесло, то есть само получилось. Ведь он, Ключарев, не очень-то и старался.
Приходит к нему, Ключареву, сосед - через два подъезда живут - и жалуется. Дескать, безобразие у них на лестничной клетке. Жильцы, говорит, как собаки. "Вот меняться хочу". - "Куда?" - "Все равно, лишь бы от них подальше. Уже объявление на столбах повесил". - "Винца хочешь выпить?" "Давай", - и ведь бесконечный же идет разговор. И Ключарев даже сочувствует: да, дескать, бывает. И даже подскажет, что не на столбах надо, а в обменбюро. И про районы. И еще что-нибудь подобное, копеечное. Подскажет, а сам подумает: нигде ты, братец, лучшего не найдешь, у большого города свои законы. То есть с жильцами тебе, может, и повезет. Но, значит, в чем-то другом таким боком выйдет, что маму вспомнишь, никакая это не мистика закономерность большого города. И он, Ключарев, это давно понял. И давно махнул рукой.
Или вот. Приятель на работе жаловался. Вчера. Говорит, любовь у него и, говорит, сразу столько хлопот. И клянет всех и сочувствия просит. И помощи всякого рода. А уж где помочь ему, когда свои-то дела расталкивать не успеваешь. Тут не то что любовь, насморк боишься подхватить... "Ты ж знал, на что шел, - говорит ему Ключарев. - Ведь такая любовь всегда хлопотливая". - "Какая такая? Но-но. Ты не очень. У меня не такая любовь, как у других". - "А у других не такая, как у тебя. Верно?" И вот приятель задумался, впал в грусть, эту самую грусть уже и не пряча. Ключареву и жаль его, а что скажешь? Есть, правда, один славный совет. На все случаи жизни. "Не надо было заводить". - "Что значит заводить? Любовь - это не собака!"
"Вот именно, - говорит Ключарев. - Не собака. А на собаку, рассказывают, тоже нервы тратить приходится". - "Я думал, ты мне посочувствуешь". - "Но ты же завтра с моста прыгать не станешь?.." И разговор кончается тем, что приятель торжественно сообщает Ключареву, что он, Ключарев, равнодушный человек. И тут Ключарев решился ответить. Обычно он не отвечает на такое, ведь обратного не докажешь. Да и не мальчик он, чтобы что-то кому-то доказывать. Так что это случайно он взял и ответил:
- Я не равнодушный. Равнодушный никак не реагирует... А я смеюсь над всем этим.
То-то и оно. Поправка. Смеется он и над другими, и над самим собой так что все чисто. Это лишь суета, суета большого города, и ничего тут иного, объясняющего. И ведь никто нас всех сюда не тащил. Сами ж выбрали. Живет он, Ключарев, в доме, в кооперативном, - хороший такой дом, благопристойный. И машин вокруг дома много стоит, собственных. И деревья сами в субботник посадили. Ну не дом, а полная чаша. И друг с другом всегда здороваются, уважают друг друга. И разговоры про микроклимат, про то, что, дескать, сами создаем себе жизнь - истинную жизнь большого города...
Было воскресенье в Старом Поселке, светлое воскресенье и не жаркое.
- Мужики!.. А мужики!
Этот крик (или зов) как бы висел в бараке. И в коридоре шаркали ноги. Отец поднялся со стула, вышел, за ним тут же шмыгнул в коридор Ключарев-мальчик.
- Что такое? - спросил отец.
- Ничто!.. В баньку надо, орский нос! - рявкнул Сашук Федотов.
Собирались. Галдели.
Появился в коридоре дядька Ваня - стало совсем шумно.
- Пиво будет? Бабы будут? - Дядька Ваня играл серыми своими глазами.
Двинулись толпой человек в двадцать. Тон задавал дядька Ваня, похохатывал. Сзади, чуть отставая, - вторая толпа! - тянулись женщины, кое у кого в узелках контрабандная стирка. В бане от грохота и гулкого звука шлепающих шаек Ключарев обалдевал. Баня была для него мифическим существом, живым, единым. А свист пара, который рвался из чуть приоткрытого крана, намекал на сдержанную и скрытую силу... В тот день не баня была, а жара, жарища, пекло, и он потихоньку пил холодную воду из крана - отец ударил его по шее, пить было настрого запрещено, и Ключарев-мальчик, скуля, ходил по скользкому ручьистому полу и высматривал новый кран - от отца подальше. И тут случилось нечто. Дверь женской половины (через внутреннюю перегородку) вдруг распахнулась с пушечным звуком.
- А-а-а-а... А-а-а-а! - повис крик.
У Ключарева открылся рот - из дверей стремительно, одна за одной, выскакивали и мчались прямо на него женщины. Сначала бабки. Вислогрудые и бесцеремонные, они что-то вопили не своими голосами. За ними женщины средних лет. По сравнению с бешеным аллюром голых старух эти тоже напирали, но как-то бочком, с долей стеснительности. И последними - полусогнутые от стыда, смущенные, прикрываясь шаечками, теснились молодые.
- В гости пришли! Во дают!.. Смелей, смелей! - кричали мужики из всех углов.
Стоял гогот. Такого оглушительного, ярого и с лопающимися звуками смеха Ключарев в своей жизни больше не слышал. В женской половине прорвалась труба, свистящий, обжигающий пар тремя струями отрезал им выход, а уже через минуту прямо-таки погнал мужское отделение. Застыдившиеся молодухи очень скоро нашли защиту - бабки!
- А ну, поворачивай морды! А ну, убирайтесь! - покрикивая и тыча сухими кулачками, бабуси загнали мужиков, всех до последнего, в парную. Крики стихли, и лишь из-за двух пацанов (Ключарев и сын Сашука Федотова) продолжали спор.
- Да пусть их остаются, им не стерпеть в парилке! - говорили женщины средних лет, и одна из них гладила Ключарева по голове. - Они еще не понимают...
- Гнать! Гнать! - наседали старухи, и после нескольких подзатылков Ключарев очутился в парной. Здесь нечем было дышать. Тем более из-за скопившегося народа. Отец подвел его к самой двери, расчистил место на нижней ступеньке, и тут стало полегче.
После бани возвращались в барак уже одной общей толпой. Взбесившиеся, опаленные паром бабуси (им не понравилось в мужском отделении - тесно) кричали, теребили всех и чуть ли не подозревали в случившемся умысел.
- Но, товарищи! Послушайте! - пробовал говорить речь Калабанов, инженер и гроза всех в Поселке, образ его укладывался в емкое словцо - "начальник".
Его перебивали:
- Паразит! Позорник, куда ты смотрел?! - И бабуси кричали и непрощенно грозили крючковатыми пальцами.
Дядька Ваня и его приятели хохотали и били себя по бокам, это еще больше злило бабусь.
- Паразит!.. Вредитель!
Терпение Калабанова лопнуло, и он гаркнул:
- Молчать, ведьмы!.. В другой раз совсем выгоню! - Он и пришел-то в баню за компанию, париться не любил. Позже, когда он на мотоцикле стал носиться к своей татарочке, он часто и охотно рассказывал, что татарские бани, если б не грязь, значительно лучше и полезнее.
- А сейчас, значит, раз-раз - и за пивом! - пересиливал всех командный голос дядьки Вани.
Глава 2
Ключарев бреется. Утро ни то ни се - будто бы солнечное, но поминутно набегает тень. Блики.
- Мы пошли, - говорит жена.
Это значит, что жена и дети уже оделись, готовы и стоят у самых дверей. Дети, цветы нашей жизни, - Дениску в школу, а Тонечку в детский сад. Жена разведет их по местам, как разводят караульных, и (не заходя домой) поедет на работу. Обычное утро Ключаревых. В прошлом году Дениска учился в школе во вторую смену, и во времени получалась чересполосица. Сейчас лучше. Сейчас гораздо лучше. С самого утра день начинается четко и строго: все по местам.
- Ты что-то нервничал вчера? Заснуть не мог? - спрашивает жена.
Она заглядывает на минуту к нему в ванную - она в легком пальто, май месяц, но тепло не балует. Дети топчутся в коридоре.
Ключарев продолжает бриться и видит ее, отражающуюся в зеркале, - в легком клетчатом пальто.
- Не спалось... Весна, может быть, влияет.
- Хорошо же она на тебя влияет!
- Ворочался, что ли? - улыбается Ключарев.
- И даже на пол меня столкнул... Ну, мы пошли.
- Ага.
Дверь хлопнула. И слышно, как гудит лифт. Ключарев бреется - шлифует наиболее трудное место у подбородка. Из зеркала глядит сонное собственное лицо, слишком знакомое, чтобы что-то такое о нем подумать... Финита. Он прошагал в комнату - и теперь продувает электробритву, распахнув окно. И вот тут, накладкой к механическому движению руки (он открывал окно), мелькает мысль, что скоро он увидит Старый Поселок. Даже не мысль, след мысли. Как зализ мелкой речной волны - лизнула, и нет ее, и только холодок по телу.
- А приятно подумать! - говорит Ключарев самому себе в лифте, хотя ясно, что Поселок за тысячу километров и что никак его Ключарев увидеть не может. И что даже на интуицию, на некое предчувствие свалить - тоже натяжка... Но ведь приятно.
Ключарев выходит из метро. Магазин. Витрины. Ключарев идет вдоль громадных стекол, и рядом идет его отражение. Тридцать лет. Ровный шаг. Портфель в руке. Специфика лица... И в общем-то уже ясно: научный работник. Или, скажем, юрист. Нет, все-таки научный, научно-технический - плечи выдают. Они, плечи-то, обтекаемей, да и помягче. Так или иначе, но определенный вес среди людей. Довольно густая, хлесткая речь (это уж обязательно при случае!) и довольно средненькая зарплата. Ключарев подмигивает своему отражению:
- Как дела?..
Эта типичность и похожесть на других любопытна сама по себе (мысль Ключарева начинает понемногу просыпаться)... Похожесть не только обедняет. Она ведь в общем-то и оберегает человека. Страхует его. Так сказать, в генетическом смысле. Как ни верти, в этой неуловимости, неотличимости от других, несомненно, есть что-то защитное. Но додумать Ключарев не успевает. Стоп. Встреча.
- Жду тебя, - говорит человек, слегка пряча глаза, хитрые глаза хитрого зама. Он и действительно зам. Но не в том отделе, где работает Ключарев. Стою и жду.
- Да уж вижу.
Он лишь немногим старше Ключарева, и церемоний быть не может. И будто бы два знакомых встретились. И говорят будто бы о футболе.
- Ну так как насчет перехода в наш отдел?
- Никак.
- А ты хорошо подумал?
Толпа спешащих на работу оттесняет их с середины тротуара. К какой-то стене. Вот тут... Тут они стоят и курят.
- Ключарев, ты все-таки подумай!.. Ведь хорошей темы вам не дадут. Ты ж не так наивен, как твой начальник.
Ключарев пожимает плечами: дадут не дадут - кто знает!.. А знает, между прочим, он сам, Ключарев, - то есть знает, что не дадут. Догадывается. Бывает тема, что не размахнешься (молодые говорят, не проявишься), - это темы, где знай вкалывай для заказчика. И не жди, что оценят. И не почему-то, а потому, что сам заказчик-то цены своей работе пока не знает. А бывает тема - золотая жила. О таких темах трубят и шепчутся. Там сыплются диссертации и открытия и, уж во всяком случае, для творчества простор.
- Простор - это прекрасно, - говорит Ключарев, на минуту как бы поддаваясь. - Ты хорошо уговариваешь.
- Профессионально.
- Пусть так... Но ведь вашему отделу тоже такую тему не дадут.
- Я не говорю, что дадут. Я лишь утверждаю, что у нас она появится скорее, чем у вас.
Это уже намек на Ивана Серафимовича, начальника Ключарева. У него непоколебимая репутация мямли. Странный народец эти замы. Ну уйдет Ключарев от мямли. А к кому попадет? К такому же мямле. Да, двадцать пять рублей лишних. И только за то, что он переметнется к ним (уж говорил бы тридцать оно понятнее!)... И ведь трогает, ведь не пустяк. Это ведь в разговоре двадцать пять - чепуха, а в жизни - это кое-что иное, оно ведь ежемесячно. "Ключарев? Хороший парень. И работать умеет. Но ты знаешь, он ведь ушел от своих за двадцать пять рублей надбавки". - "Не может быть". - "Ей-богу. Я сам ему это предложил" - вот именно этот хитроватый зам так и скажет однажды. Тот еще народец.
- Зачем так цинично?.. Я же с тобой говорю открыто.
- Да вот ведь и я открыто, - улыбается Ключарев.
- Я ведь тебе и честно, и откровенно...
- И за спиной моего начальника, - подхватывает Ключарев ноту. - Это честно?
- Но с тобой-то я честен и откровенен.
Оба замолкают. "Подожди. Не так будем петь, когда ты будешь у нас работать", - думает зам. Для Ключарева это тоже не секрет. Догадаться не трудно... Двадцать пять рублей как воздушный шар. То как бы приближаются к Ключареву, то опять возвращаются в гигантский карман хитрого зама.
Тем не менее хитрый зам грустнеет. Насвистывает что-то. Не ждал сопротивления.
- Я не строю из себя какую-то там девственницу, - говорит Ключарев и поглядывает на часы. - Ей-богу, не строю.
- Так в чем же дело?
- Видишь ли, я человек увлекающийся. Меня увлечь надо. - Мысль нравится, и Ключарев тут же развивает ее: - Умей твой начальник увлечь, будь он, так сказать, личностью, я бы, может, и рискнул. Я бы и на черную тему пошел. Я бы и за спиной начальника договорился. Я бы даже обманул его...
- Ты старомодный человек.
- А что делать? - Ключарев улыбается.
Он улыбается, он вспомнил Калабанова из Старого Поселка. (При всех своих глупостях Калабанов увлечь умел. Этого не отнимешь.)
Хитрый зам тоже улыбается. Ясно, что в эту минуту разговор бесполезен. Ключарев во власти какой-то идейки. Это ведь с каждым бывает. Но идейки временны, а двадцать пять рублей постоянны. Более того, ежемесячны. Так что пусть яблочко созревает, и если оно способно созреть, то...
- Но ты все-таки подумай. - И зам протягивает руку. - Пока.
- Пока.
- Немного опаздываем, а?
- Минут пять, не больше...
Ключарев входит в отдел:
- Привет всем.
А все как раз рассаживаются по местам. Шумки и разговоры. Стул да стол с бумагами, боевое место, неотличимость от других. К Ключареву направляется Бусичкин - человек номер один, самый талантливый в отделе. Он спрашивает. Он спрашивает с ходу, сейчас он чем-то похож на шустрого газетчика из старых фильмов:
- Ну?.. Как твое мнение? Дадут нам наконец настоящую тему?
- Откуда мне знать? Скорее всего, не дадут, - говорит Ключарев.
И видно, он подливает масла в огонь. Все вокруг возмущаются: как это не дадут? как же так?.. Всплеск вчерашних и позавчерашних разговоров. Неизвестность тяжелее всего. Ключарев не отвечает, не спорит, не вмешивается - он идет к своему столу и лишь привычно кривит губы в улыбке. "Он же у нас такой ироничный. Наш Ключарев - это же сама ирония!" - летит ему в спину голос, а он идет себе в дальнюю комнату. Отдел состоит из двух комнат, проходной и дальней. Место Ключарева в дальней.
- Привет.
Он садится за свой стол. Рядом, как всегда, Галя Южина - жует бутерброд, не успела позавтракать... Подходит неудовлетворенный и гневный Бусичкин. Он опять о том же - почему ты не хочешь поговорить? Обсудить?
- Но ведь от нас не зависит, - отвечает наконец Ключарев. Министерство без нас решит. Или тебя уже перевели в министерство?
Бусичкин обиделся, а с ним иначе нельзя.
Работы как таковой нет. Тематика действительно исчерпана, и даже отчет уже позади. Но у Ключарева всегда есть кой-какие задачи. Он, Ключарев, из тех, кто в любое время и при любой погоде. Потому-то и сманивают его. Сейчас-такие-в-моде, что-при-любой-погоде (и это руки Ключарева уже разложили бумагу, взяли карандаш - ага! не те цифры!). Это и есть внутренний покой. Покой изо дня в день, не так ли?.. Ключарев как бы ловит хвостик утренней мысли. Той, что у магазинной витрины, - вот ведь отчего защищает типичность и похожесть на других. От излишних размышлений. Ну ясно. Живу как все, типичен в меру и в меру счастлив.
Он работает четыре часа без передышки. Как каждый день. Как автомат. Без этого ему нехорошо, и без этого он болеет. Профессионализм высокого класса. Он оглядывается. Кругом кой-какие разговоры. И споры: темы-то нет.
Он сладко потягивается - оплата телу за четыре часа сидения. Галя Южина отворачивается. Это уж как всегда, она сотню раз просила при ней не потягиваться. Он просил ее не жевать бутерброды. Равновесие мелочей. Но когда поработаешь, так сразу мелочиться не тянет.
- Галь, забылся. Ну говорю же, забылся... Ей-богу, больше не буду.
Ключарев выходит в коридор. Покурить уединенно. И подумать. Так ли уж нужно за него (за своего начальника) держаться?
Эти дни начальник бегает по министерству. Там, кстати, с ним совершенно не считаются. Мямля. "Унижений-то сколько! - жаловался он как-то Ключареву. - И сердце дергает". - "А не унижайтесь!" - "Не получается, Виктор". И Иван Серафимович улыбнулся с добродушием выспавшегося ребенка: дескать, такой уж я есть... Мягкий. Деликатный. Оно, разумеется, плюс, и плюс немалый. Но ведь и минуты тут как тут.
Или вот. Тоже черточка. Восьмое марта. Смех, шуточки, то, се, а Иван Серафимович бродил по отделу со странным лицом. Он, разумеется, сроду бы не вылез из своего кабинета, но ведь Восьмое марта - он должен был поздравить женщин. И вот он двигался меж столов, поздравляя и клоня свою голову чуть набок (сама предупредительность). А напротив уборщица - пришла подмахнуть мусор,- и вот Иван Серафимович вздрогнул, поднял на нее глаза. "Вера Степановна", - тая улыбку, прошептал и подсказал Бусичкин ее имя.
- Вера Степановна, я поздравляю вас... э-э-э... и там, в приказе. Там... э-э-э... скромный денежный подарок.
И, проговорив это, Иван Серафимович смутился вконец, он пунцов и взмок от пота (угадать трудно, но думается, что во всей этой сложности есть та тонкость: он попросту стыдится своей большой зарплаты). И не то чтобы он был от природы неловок. Вовсе нет. В кабинете он говорит, как птица поет. Но тут, в отделе, в нем видели (и это он точно знал) начальника, и это-то его тяготило. Такой человек.
Или, скажем, кино по четвергам. Так сказать, общение с коллективом. Вне работы. Он знает, что общаться нужно, - знает, помнит это, вот ведь как. Обычно Иван Серафимович приглашает с собой Ключарева или Бусичкина, самое большее еще кого-нибудь. Втроем или вчетвером. В конце рабочего дня Ключарев (или Бусичкин) входит к начальнику в кабинет и спрашивает:
- Ну что?.. Отправимся в кино?
- Да, да. Четверг... Традицию нарушать нельзя. - При этом Иван Серафимович улыбается и протягивает Ключареву "Вечернюю Москву", вчерашний номер. Той стороной, где перечень фильмов.
Ключарев, устало зевнув, выбирает - водит пальцем по названиям. И спрашивает:
- На дю-дю пойдем?..
Так они называют детективные фильмы с погонями и слежкой. Маленькая страсть Ивана Серафимовича... Они заходят за Бусичкиным - и втроем через полчаса они уже в кинозале. Иван Серафимович смотрит, как ребенок, чуть приоткрыв рот и не отрывая глаз от мерцающего экрана. Он весь в другом мире. Он там. Конус света, темнота кинозала, вульгарная речь героев и медная музыка - это как бы освобождает душу Ивана Серафимовича. Все его сокровенное, мужское, заторможенное работой и однообразной жизнью, спрятанное вглубь, - всплывает. Это он стреляет, скачет и грубо (но, разумеется, с оттенком бла-ародства) покрикивает на обнаженную красавицу.
Затем они выходят из кинотеатра. Дю-дю кончился, и теперь ясно, что это был фильм. Только лишь фильм, притом глупый. Ивану Серафимовичу как бы даже совестно - он, как всегда, ни слова не скажет о кино, о только что виденном и слышанном. Они - втроем - будут говорить о работе, о статье Федорюка и о том, что же, в конце концов, соизволит решить министерство... И ни словца о своем, о внутреннем. И уже само собой, что никогда и ни при какой беде Иван Серафимович не примчится в отдел и не скажет, протягивая руки с вывернутыми ладонями: "Братцы... Братцы мои!.." На секунду Ключарев притормаживает иронию (ишь, разбежалась!). Он как бы ловит себя, подкусывает: а нет ли в нем, Ключареве, скрытой и, в сущности, рабской тоски по сильному начальнику?
И в конце штришок.
- До свиданья, - говорит Иван Серафимович, как обычно первый протягивая руку, крепкую при пожатии (подсознательное влияние кинухи).
- До свиданья.
- До свиданья. - И все трое разойдутся. Пообщались.
Вот такой он, Иван Серафимович. Начальник Ключарева. В общем-то Ключарев привык к нему, и давно привык. И если бы не тот хитроватый зам, не двадцать пять рублей в месяц и не щекочущая возможность выбора (впрочем, какой там выбор: шильце на мыльце!) - не стал бы он перемывать его начальницкие белые косточки. Косточку, как говорили в Старом Поселке, перемывать косточку.
Ключарев идет в кабинет начальника. Ивана Серафимовича там нет - в эти неопределенные дни он все больше торчит в министерстве. Забегает на работу на час-два и опять мчит туда. Вымаливает хорошую тему. Вымямливает.
Ключарев сидит за столом - один в кабинете. Мысль о начальнике идет своим ходом, а руки сами собой (он для этого и вошел в кабинет) берутся за телефон. Ключарев набирает номер. Он звонит некоей Лиде, и это он звонит не потому, что он этого хочет. Более того, он совсем не хочет. Но если не позвонит он, то уж точно позвонит она. И это будет хуже, если позвонит она. Надо с ней развязаться немедленно. Она вчера звонила. И позавчера... Три года не виделись, а теперь ей ни с того ни с сего вдруг вздумалось его, Ключарева, дергать.
- Лида, - говорит он, услышав ее голос, - я зря вчера тебе пообещал. Я не смогу прийти.
- Я так и знала.
- Не сердись, Лида. Не сердись...
Он пытается переломить виноватящийся тон, но поздно. Разговор получается плавающим и неопределенным. Слово за слово. То да се. Ключарев наконец кладет трубку и (он еще вспомнит этот разговор) сидит очень собой недовольный. Не собрался внутренне. Разговор - штука самотечная. Как бывает подчас самотечной и сама жизнь.
В кабинет входит Иван Серафимович. Полдня провел в министерстве (судя по виду - зря).
- Никак не могут они принять решение, - подтверждает Иван Серафимович. - Все тянут и тянут!
Обеспокоенный и взволнованный, Иван Серафимович тем не менее замечает кислость в лице Ключарева:
- Вы чем-то расстроены, Виктор?
- Самотечностью жизни. - И Ключарев смеется, отмахиваясь от тех мыслей.
Иван Серафимович тут же истолковывает это как намек на работу отдела:
- Не тяготитесь, Виктор. Не тяготитесь, ради Бога... Нам предложат, и, быть может, на днях, интереснейшую тему!
Ключарев отвечает, что он и не думает тяготиться. Если даже велят продолжать старую - тема как тема. Работать можно.
- Нет, Виктор, я не успокаиваю. Будет великолепная тема. Великолепная!
В этом Ключарев как раз не уверен - у него трезвый ум. Но охладить начальника он не успевает. Иван Серафимович уже воспламенился. Вспыхнул. Уже мечтает:
- Представь себе для начала, что нам дают проблематику Н-ского завода!
Иван Серафимович ходит по кабинету взад-вперед. Он не умеет увлечь других, зато он умеет увлечь себя. Всплеск души. Волна за волной. Иван Серафимович уже говорит о смысле работы. Он обобщает. Он вспоминает Данте. Люцифер, застрявший в самом центре Земли. Вергилий и Данте начинают спускаться по огромному мохнатому телу Люцифера. Вот его плечи. Вот, наконец, середина тела (пояс Люцифера, центр центра Земли), и тут... они как бы в невесомости разворачиваются и, продолжая спускаться, спускаются, но одновременно уже идут вверх!.. То есть в другую сторону Земли - как это могло произойти?
- Потрясающе! - всплескивает руками Иван Серафимович. - Чем тебе не мнимая ось?! И еще, на том же запале:
- Вот тебе и кривизна пространства! И когда? - в тихом средневековье.
И еще (и это, видимо, вершина его мысли):
- Вот так и в работе. Делаешь самую черную работу, спускаешься все ниже и ниже - и вдруг оказываешься уже в направлении творчества - ты понял?
И, уже понижая голос, уже с лирикой, с мягкостью:
- А главное - незаметно. Работал, корпел, мучился - и вдруг: раз! - и, не меняя направления хода, ты уже творец - понятно ли?
Ключареву понятно. Модель как модель, почему же не понять? - и отчасти даже увлекает, не без того.
- Все так. Но это ж до центра Земли сначала дойти надо, - улыбается Ключарев.
- А мы?.. За столько-то лет на этой каторжной теме?! Разве нельзя сказать, что мы дошли туда?
Ключарев пожимает плечами: может быть, да, а может быть, нет... И тут ведь не о чем спорить. И еще штришок. Маленький. Ключарев угадывает скрытую суть всех этих рассуждений: Иван Серафимович надеется. Он очень надеется, едва ли даже признаваясь самому себе. Он надеется, что на этот раз (пора, пора! ему уже пятьдесят лет!) - на этот раз его отделу дадут некую творческую тему в самом высшем смысле. Золотую жилу. Но одновременно (задним-то числом, ведь вот оно как!) Иван Серафимович готовит себя к министерскому отказу, то есть велят продолжать прежнюю тему, и... и Иван Серафимович будет самому себе объяснять, что еще, значит, не дошел он до центра Земли, не заслужил. В этом и суть. А ведь это черт знает что: думать ночами, мучиться, подтаскивать себе в помощь потускневшую космогонию Данте, и все лишь для того, чтоб своему родному и любимому "я" не сделать больно, в случае если заставят продолжать прежнюю тему... Ключарев сдерживает иронию. И думает, как бы это (и чтоб не обидя) сбить всплеск пятидесятилетнего романтика.
- Но можно, Иван Серафимович, и по-другому это представить...
И Ключарев говорит, что скорее-то всего Данте почувствовал недостаточность художественных средств. Данте просто рванулся наугад (и никакой тут кривизны пространства) - рванулся, ну а полет фантазии доделал дело.
- Мне очень жаль, - суховато чеканит Иван Серафимович. - Мне очень жаль, что вас устраивают такие бедненькие объяснения.
Это он обиделся.
Ключарев встает и делает два шага к Ивану Серафимовичу (тот стоит у окна, смотрит туда).
- Не переживайте, Иван Серафимович...
- Я?
- Не переживайте. Я почти знаю, что новой темы нам не дадут. Отделов много, разве мы лучше других?.. Дадут нам новую документацию по этой же теме и скажут - продолжайте с Богом! - И тут Ключарев делает маленькую умышленную уступку: - Так что будем еще спускаться, круг за кругом... Верно?
Но начальник угадывает, что это уступка, чуть ли не снисхождение, - и вспыхивает:
- Скажите, Виктор. В вашей жизни вообще есть что-нибудь интересное? Ну, хоть что-нибудь? Ключарев пожимает плечами.
- А где же интересное? Там?.. В вашем Старом Поселке?
- Да. (Да?..)
- А почему вы туда не поедете? Поезжайте. Живите там... Я в каждом молодежном романе читаю, как человеку надоела Москва, дряблые и развращенные городом люди, и человек взял в конце романа и уехал - кто в поле, кто в поселок. Словом, туда. К тем самым здоровым натурам, где так замечательно...
Ключарев помалкивает. Иван Серафимович обиделся, это ж понятно.
- А что?.. Поезжайте. Устройтесь работать, например учителем. И живите там себе на здоровье...
Ключарев молчит. Ведь не первый такой разговор. Ключарев улыбается, а затем говорит, правда не слишком находчиво:
- Может быть, и уеду. Не знаю...
- Чего не знаете?
А тут уж Ключарев говорит, найдя слова. Хорошо говорит:
- Себя не знаю.
Пауза.
Ключарев поворачивается, чтоб уйти.
Вот именно. Чуткий и деликатный. Ну, мямля, ну пусть. Да ведь и тот начальник хитроватого зама, Шилов что ли, ведь тоже квашня. Мыльце на шильце. Вот именно... Иван хотя бы добр. Интеллигентен. Поболтать при случае можно. Уезжай, говорит, в свой Старый Поселок. Чудак!..
Ключарев приходит домой. Садится с Дениской за уроки. Жена что-то варит или жарит. А четырехлетняя Тоня всем мешает.
- Вот тебе бассейн. - Ключарев быстро черкает карандашом. - Бассейн емкостью... А вот тебе первая труба.
- Да я сам нарисую, - говорит Денис. - Плохо ты рисуешь. Наш школьный бассейн выглядит так...
Дениска рисует бассейн, две трубы и льющуюся воду.
- Мама говорит, что когда ты учился, при вашей школе не было бассейна. Правда?.. Как же ты научился плавать?
- Я уже не помню.
- И в баскетбол вы не играли?
- Не отвлекайся.
Но внутренне Ключарев сыном доволен. Задача сложна. Ключарев заставляет Дениску решать двумя способами и учит выбирать оптимальный, это значительно выше школьных требований. Денис, как всегда, решает четко, логично и не без изящества. Иной раз Ключарев с настороженным удивлением вглядывается в его ясное лицо, пожалуй, слишком ясное и целенаправленное.
Звонит телефон.
- Не обращай внимания, не отвлекайся... Итак, объем вдвое больше.
- А скорость воды та же?
- Да.
Голос жены. Она у плиты, на кухне:
- Витя!.. Телефон надрывается - неужели не слышишь?
- Слышу. Мы заняты.
Появляется в дверях маленькая Тоня. Повод есть, она тут же врывается туда, где отец занимается с Денисом, и слегка шепеляво объявляет:
- Сисяс мама придет. Она сисяс руки вымоет.
- "Сисяс, сисяс", - передразнивает Ключарев, изображая строгость. Сисяс я и сам могу.
Он берет трубку. Он вдруг подумал, что это Лида, с нее станется и сюда позвонить. Но нет - это Бусичкин.
- Виктор, привет.
- Привет.
- Что ты такое сказал сегодня Ивану (то есть Ивану Серафимовичу)? Он в страшной растерянности. Вызвал меня. Стал спрашивать о жизни. Об отношении к работе. И все на этаком чудовищно нервном уровне... И вдруг заговорил о том, какой у нас замечательный отдел. Какие мы все талантливые и дружные. К чему бы это?
- Не знаю.
- А вы-то с ним о чем говорили? Ключарев улыбается:
- О Данте.
- О чем, о чем?
- Да ни о чем. Просто поговорили.
Ключарев вешает трубку. Дениска к этому времени уже решил задачу, и они с Тоней строят друг другу рожи.
- Майя! - кричит Ключарев жене. - Они ведь ели. Не пора им спать?
- Пора. Давно пора... Укладывай.
Ключарев и жена на кухне. Чай. То есть уже чай, и пьется он неторопливо, и дети уже спят, и тишина. "У самовара я и моя Маша", - как иногда шутит Ключарев, подчеркивая минуту... И верно: этот вечерний чай уж давно нечто большее, чем чай. Это точка спокойствия. Подчеркивая защищенность домашней крепости в минуту, когда дети спят.
- Дали читать схему. Торопят как на пожаре...
Майя рассказывает о своей работе - у них отчетный период. Ключарев понимающе кивает. Затем они говорят о Тоне и о гриппе в детском саду. Затем о деньгах. Три месяца не вносили за кооператив. Надо как-то изловчиться. Правда, детей приодели и обули.
- Идем спать, - говорит Майя, глаза у нее слипаются.
- Идем...
Спать-то спать, но Ключарев еще долго поворачивается в постели с боку на бок.
- Майк, а Майк! - трогает он спящую рядом жену.
- Что такое?
- Иван сегодня сказал мне, что, дескать, поезжай в Старый Поселок.
- Ну и что?
- Нет. Ничего особенного... Чудак!
Жена не отвечает, спит... В книжках, говорит, все в конце концов уезжают. И ведь с болью сказал, болело в нем что-то. Вот именно, Иван Серафимович. В книжках. Там, в книжках-то, драматургия. И идея, и цель, видимо, какая-то есть. Вот герой и уехал из большого города, оскорбленный и непонятый. А здесь ведь эпика. И никакой тебе драматургии. Просто живешь. Свое живешь, свое делаешь. И это ж какие беды и оскорбления должны обрушиться на человека, чтоб человек вдруг принял решение уехать. Если такие-то беды, то ведь и о более важном можно задуматься. Не только взять да уехать...
- Майк.
Жена спит. Ключарев тоже засыпает. Бараки. И белое жаркое лето. Пыль на дороге, выбеленная солнцем. Сонная ноздря водопроводной колонки, прямо посреди улицы... Слышно вдруг, как начинает ворочаться кто-то из детей. Дениска. Его кровати скрип.
Но и в Старом Поселке, если уж о начальстве, тоже жил кое-кто. А именно он - инженер Калабанов. Их гордость.
История с красными помидорами разыгралась, когда приехал представитель из Москвы. Весь городок слегка залихорадило. И старопоселковцы тоже заволновались - как-никак!.. Но наконец строящийся завод был осмотрен. Представитель из Москвы был доволен. Улыбался. А директор завода отер пот со лба и сказал:
- Теперь, может быть, ко мне домой поедем? - И он добавил, как бы пояснил этому влиятельному человеку: - Отдохнете. То есть по-домашнему. В гостинице ведь шумно.
Насчет шума в гостинице он преувеличил, гостиницы просто не существовало. И тут-то их, старопоселковский, Калабанов тоже вошел в разговор. Знай, мол, наших, поселковских. И вроде бы добавил, общего хлебосольства ради:
- Или ко мне поедем. В Поселок... Тоже не пожалеете.
Представитель из Москвы пожал плечами, рассмеялся - целых два предложения! - и, сея небольшую интригу, лукаво спросил:
- А кто что предложит?
Директор сказал про вкусный обед. Сказал про вид из окна на заснеженную степь и на замерзшую реку, когда рядом будет жарко потрескивать алыми чурками печь. Кажется, сказал про самодеятельность. И наверняка про подледную рыбалку - что еще можно предложить на уральской стройке?
И тут их, старопоселковский, Калабанов усмехнулся - не он ведь интриговал представителя, это представитель его. И когда тот, повернув начальственную голову, спросил: "Ну, а вы?.." - Калабанов еще раз усмехнулся и не без эффекта выдал:
- Все то же. Плюс красные помидоры.
- Свежие? - удивился представитель.
- Свежие. А была зима.
Конечно, Калабанов знал, на что шел. - был у них в Поселке такой Коля Двушкин, их Мичурин.
И еще вчера кто-то болтал, что Коля Двушкин как раз снял три ведра красных ("уж таких краснющих!") помидоров со своего парника.
Так что Калабанов выиграл бой легко. Он не поддакивал и особенно не зазывал. Он только стоял сбоку, как и положено инженеру.
И вот представитель из Москвы в Старом Поселке, у Калабанова, - огонь в печке, чурки потрескивают, хозяйка ходит павой и чуточку суетится, чтоб водку, скажем, покрасивее поставить на скатерть. А представитель то ли проголодался, то ли просто озяб во время осмотра - словом, немного нервничает и все спрашивает:
- Откуда же свежие помидоры? Калабанов на своем:
- Секрет.
И тут появляется (примчался шофер - шепчет) другая интрига, сама сплелась. Коля Двушкин был не просто ревнив, но еще и изобретателен в своем чувстве. Он понял так, что приглашение к Калабанову в гости и помидоры, с которыми он явится к столу, - все это лишь предлог, а суть конечно же в его, Колиной, красивой жене. Дескать, ее-то напоказ и надо представителю из Москвы.
- Да что же он не едет? - шепчет Калабанов шоферу.
Шофер тоже шепотком:
- Мнется что-то, понять не могу.
- Скажи ему, что я приказываю. И чтоб мигом!
- Есть!
Коля Двушкин такой приказ не то чтобы ожидал - предвидел. И потому тут же, еще до прихода шофера, собрал родню (а Двушкиных было немало) и устроил большую пьянку. Помидоры лежали на столе, а родичи уничтожали их под водку. "Щас, щас, - сказал Коля примчавшемуся шоферу, - не могу же я выгнать гостей". - "Каких гостей?" - "Да вот этих. Провожу их и приду". - "Да их вроде не было". Но Коля ему тут же рюмку водки в зубы, шапку в руки, шофер выпил - помчался.
А Калабанов как раз говорит представителю из Москвы:
- А ведь хорошо водочки с морозца? Верно?
- Верно, - говорит тот. - Да ведь с морозца-то уже час прошел. Пора бы и за стол сесть.
- Это сейчас, минуточку...
И Калабанов бросается к примчавшемуся шоферу, шепчет в коридоре: "Ну? Где Двушкин?" - "Гостей провожает". - "Каких гостей?.. Да что ж он, черт, тянет, рожает, что ли?" - "Нет. Пьют и помидоры едят". - "Ах, дьявол парниковый! Подлец! Убийца!"
Двушкин тем временем сидел очень собой и своей интригой довольный - с помидорами в Старом Поселке было покончено. Родичи орали песни, красавица жена подтягивала звонко и пьяненько, шум, гам - своя, так сказать, и родная картинка. Два ведра помидоров съели, третье ведро Коля им не дал - больно было смотреть. Коля хотел хоть какую-то извлечь эмоцию, ведь растил и старался, и вот он кликнул пацанов с улицы, своих и соседских, - они расхватали последнее, и это был уже финал, конец помидоров. И вот Коля сидит гордый и довольный и смотрит на влетевшего в дверь шофера. "Ну?.. Ну?.. Ну?.."
"Что "ну"? - говорит Коля. - Я, может, и пришел бы в гости. Да без помидоров неловко. Вроде обещал". За шофером влетает сам Калабанов. "Как это без помидоров?" - "Родичи поели. Не рассчитал". Калабанов скрежетнул, глядит - родичи один веселее другого, жуют, одно слово, молодцы, поработали. А там и сям помидорные остатки, червоточинки и задки. "Ну хоть один, взмолился он, - остался? Ну хоть последний?" - "Нет, последний дядя Кузя съел. - И зовет, манит пальцем: - Кузь, поди сюда, подтверди".
Калабанов махнул рукой и выбежал.
Жена Калабанова в эти минуты, почуяв правду, начала готовить отступление. Гость томился. Курил. Ходил вокруг стола. Она дала ему рюмку водки:
- А вот и баранок возьмите. Румяные, а?.. Их у нас по-простому помидорами зовут.
- Баранки?
- Ну да. Так и говорят - красные помидоры. Она сжалилась (мужа все не было, гость явно голодал) и дала еще рюмку:
- Но вы же не из-за помидоров к нам в дом приехали. Наверно, нашу жизнь посмотреть? Слегка тускнея, гость подтвердил:
- Ну ясно, не из-за баранок. Жизнь посмотреть - это я и хотел.
А Калабанов бегал по Поселку. И повторял своим работягам и их женам.
- Братцы, - говорит он, - ведь опозоримся, братцы!
Рабочие не знали, чем помочь. Их инженер стоял, протягивая руки, стоял сокрушенный: "Что же делать, братцы?" А что можно было делать?.. Из конца барака вывалились хмельные и орущие песни Двушкины. Подошел дядя Кузя, убивался, но вернуть съеденные помидоры уже никак не мог. И тут кто-то вспомнил, что видел своего пацана с помидором - тот по улице бежал. Кинулись искать, пацанов нигде не было. Выручил дядя Кузя, сообразил, что ребята залезли в уютный колодец отопления: "Они там всегда от холода прячутся". "А что они там делают?" - "Как что? Курят, подлецы!"... К колодцу побежало человек десять - спешили, понимая, что пацан с помидором долго играть не станет. Калабанов свернул с тропки и, вонзая в снег сапоги, помчался напрямик по целине.
- Я же клялся!.. Я же обещал! - выкрикивал он на бегу, летел, весь расхристанный и без шапки.
За ним бежали другие, человек десять. С крыльца барака наблюдал за этой гонкой Коля Двушкин - счастливый и пьяненький, он думал о том, какой он молодец и как это правильно держаться от начальства подальше. Однажды тоже приехал большой начальник и вроде бы помидоры хвалил, обещал, что про Колю в журнал напишет. А потом окосел, лип к его, Колиной, жене и говорил: "Ах ты, моя рыбочка"...
У колодца отопления получилась заминка. Пацаны (и Ключарев помнит, что он сидел прямо на трубе, у распределительного крана) тут же и заблаговременно подняли крик и рев. Те, что не курили, орали и выли громче других. "Да вылазьте, мы вас не тронем!" - клятвенно кричали взрослые в темноту колодца. Наконец кто-то спустился вниз. Одного мальчишку подняли, и у него - у первого же! - был довольно крупный помидор. "Ур-ра!" прокатилось над колодцем. Но это было и все, хотя нет, был еще один, маленький, - от ведра помидоров уцелело лишь два плода. И все-таки это были помидоры. Красные и свежие. Зимой. Их торжественно и бережно вручили Калабанову. И Калабанов, очень резкий, требовательный и временами жестокий человек, повторял и повторял:
- Братцы... Братцы мои.
Красные помидоры сыграли свою незаметную роль. Представитель из Москвы в свое время припомнил старопоселковского Калабанова. Нужно было выдвинуть кого-то, место, что ли, освободилось, и тут-то о Калабанове вспомнили. И ясно, что это не было какой-то особенной благодарностью за две по-мидоринки - просто память; помнилось, как томился голодный у стола больше часа, а стол был накрыт, и потрескивали в печке те самые алые чурки, и зима за окном... Так их, старопоселковский, Калабанов пошел в гору.
Выходец Поселка и после выдвижения оказался работягой и умницей - стали ценить. Он уже был крупной фигурой областного масштаба. Но натура подстерегала его. Сначала у него появился мотоцикл, первый мотоцикл в Поселке. "Эй!.. С дор-роги!" - орал он, несся с грохотом и треском, и мотоцикл тоже был под стать - злой и свирепый, как сам Калабанов. Жил-то он по-прежнему в Старом Поселке, но все чаще и чаще - люди это заметили - стал заезжать в недалекую от Поселка татарскую деревушку.
Командировки в Москву, поездки в область и татарская деревушка, и тут же в обратном порядке - деревушка с девушкой-татаркой, область и Москва. Так он и носился туда-сюда. Так и жил. Имя девушки-татарки Ключарев уже не помнит. Но помнит, что дальше все было просто. Жена Калабанова написала в управление жалобу - формулировка тогда была стандартная: моральное разложение. И Калабанову предложили образумиться и жить со своей семьей. "Ладно. Буду жить", - сказал Калабанов. Он был хитер, он согласился, рассуждая, как рассуждают все удачливые люди. Дескать, согласиться надо на словах, а удача не бросит. Дескать, время идет, страсть когда-нибудь да утихнет, возьму свое - а там, возможно, вернусь в семью. И он по бездорожью носился на мотоцикле к своей татарке и ждал повышения - его вот-вот должны были выдвинуть, теперь уже в Москву. Он ждал, а в управлении тоже ждали.
И тут надо сказать, что доносы строчила только жена. В поселке Калабанова любили. Конечно, в нем было разгульное и орал на людей он как зверь, но это было в порядке вещей, да и орал он по делу. Кроме того, он забыл о жене, но о Поселке не забыл. Он улучшил снабжение, построил дорогу, был построен и мост, связавший Поселок с растущим городом. И дело даже не в этой материальности, ведь не знаешь, за что любишь, - а его любили. И ведь выходец из наших, свой, как ни верти... И вот Москва ему отказала в повышении. Более того, строгий выговор.
- Грохнулся наш Калабанов, - говорили в Поселке, жалели его.
- Занесся, да не удержался, - и вздыхали, как о непутевом, но родном.
И тут он грохнулся еще раз, и уже навсегда. К нему в дом пришли все свои, поселковские, люди, выпили с ним, просили: "Петя, ты ж наша надежда", они хотели, может, совет дать, хотели, чтоб образумился, болели за него, все-таки он был их гордостью, а он топал ногами, кричал: "Подлецы! Завистники! Это вы строчили доносы!" - в конце концов как-то поладили. Говорят, песни пели, а Калабанов плакал. Но поздним вечером натура взяла свое - хмельной Калабанов вскочил на мотоцикл и помчался к своей татарочке. Может быть, решил в последний раз, как курильщик хочет "последнюю" сигарету. Переезжая речку на предельной скорости по ветхому мостику напротив татарской деревушки, Калабанов свалился и размозжил себе голову.
Понятно, его жалели. Мостик и сейчас зовется Инженерским - так прозвали его татары, а затем все остальные. Это стало маленькой легендой Старого Поселка, и, как всякая легенда, она обросла соответствующими подробностями и тонкостями. Говорят, что молодая татарка нашла косточку головы Калабанова, эту косточку обмыла и вместе с каким-то маленьким винтиком рассыпавшегося мотоцикла захоронила на своем татарском кладбище.
Деревушка называлась Айдырля. Татары принимали Калабанова настороженно, но, видно, тоже полюбили. Он кое-что для них делал, например устраивал татарских мальчишек в ФЗУ - сам их отвозил, сдавал в надежные руки, чтоб было и есть, и спать. Это, кстати, и оказалось началом распада деревушки. Сейчас Айдырли уже нет. Старые поумирали, молодые разъехались. Осталось лишь татарское кладбище. Затем и его распахали под хлеб. Где-то там, под волнующимися (ведь это уже в легенде) колосьями, и винтик мотоцикла, и косточка Калабанова.
Глава 3
- Лида, - сказал он, - я пообещал, но прийти не смогу.
- Я так и знала.
Он почувствовал ее молчание - напряженное, натянутое. И было ясно, что все это надо обрубить просто, внятно и конечно же единым разом. Оно и рубить-то нечего, ниточка. Но был он несобран. И вот речь пошла вихляться сама собой:
- Лида... Нам ведь и встретиться негде. Товарищ мой никуда не уезжает, а где же нам еще? Я звонил ему, спрашивал (разумеется, Ключарев никому и не думал звонить), а он говорит: нет, уезжать не собираюсь. Еще и похихикал надо мной.
Лида молчит.
- Конечно, могу приехать к тебе в общежитие, но... Опять эти разговоры. Эта неловкость. Эти пять человек в комнате... Мы даже не поговорим толком, Лида.
- Давно ли ты стал таким щепетильным?
- Во всяком случае, я изменился.
- Поумнел, да?
- И это есть.
Лида на миг примолкла. А затем снова:
- Вот я и закончила институт... Неужели тебе не хочется встретиться со мной? Узнать, как меня распределили. Куда дают направление.
- Расскажи все это по телефону.
- Расскажу, когда увидимся.
- Перестань злиться. А то, ей-богу, повешу трубку.
- Я буду звонить тебе домой.
- Уж не думаешь ли ты меня напугать?
Говорил он и правильно, и жестко, но обрубить не обрубил. Несобран был и потому не нашел момента. А Лида тем более разговора не выдержала озлобленность не ее черта, не ее свойство. И конечно, держаться не смогла. Заплакала:
- Витя... прости меня. Но ведь я через несколько дней уезжаю. Совсем уезжаю из Москвы... - Она торопилась сказать, слышно было ее дыхание. - Мне ничего не надо. Я только хочу тебя увидеть.
Разумеется, он ей не слишком верил. У него достаточно опыта, чтобы уловить всю непростоту этой характерной интонации: "Мне ведь важно. А что тебе стоит?" Три года прошло, как не виделись. Даже нет, четыре. Лида была студенткой второго курса.
Но если решительный момент разговора упустил, не собрался, то ничего не остается сказать, кроме - и Ключарев сказал:
- Я постараюсь, Лида... Что-нибудь придумаем... Да. Да. Да.
Ключарев дома. Он занимается с Дениской - дает ему дополняющие решения. Ключарев устал, ему не хочется; но не позанимаешься с сыном сейчас - лишь расслабишься. А заниматься после перерыва всегда вдвое тяжелее. У повседневности свои законы.
Они уже заканчивают первое дополнительное решение, когда раздается новый звонок Лиды.
- Значит, мы не встретимся? Ключарев не сразу понял, кто это звонит. Не вспомнил.
- Ну почему же, - он уже понял и вспомнил и отвечает спокойно, встретимся.
- Когда?
Лида раздражена, это ясно. "Встретиться нам не хитро - прощаться мы не умеем", - отвечает Ключарев машинально. Он продолжает вглядываться в задачник, по инерции вникая в условие. На секунду он прислушивается к шагам жены - она где-то рядом. Дениска продолжает решать... А Лида взвинчена. Она прекрасно понимает, что домой звонить нельзя, не нужно, неразумно, и это-то взвинчивает ее еще больше.
- Наш Курбасов видел тебя с какой-то мымрой на улице Горького, звеняще чеканит Лида. - Так это была твоя жена?
- Нет. Это была жена Курбасова.
Ключарев шел по Горького с секретаршей, случайно шел, но не объяснять же. Он сдерживается. Лида на напоре, слова летят. Но едва ли ее хватит надолго, напор быстро истощает говорящего...
- Мне нужно тебя увидеть по делу, - говорит Лида вдруг. - Ты мне не нужен. Ты мне нужен только по делу.
- Я догадывался.
- По делу. Хорошо?
Ключарев морщится, но думать уже поздновато:
- Хорошо.
Слышны шаги жены. Ключарев чувствует, что эти шаги слышит и Лида, - она вдруг начинает торопиться.
- На нашем прежнем месте, - говорит она. - На том же самом. Хорошо?
Это у станции метро - и довольно далекой. Ключарев секунду колеблется, но выбирать и обсуждать - в этом уже будет нечто нарочито спокойное и холодное. Он спокоен внутренне, ну и достаточно.
- Договорились, - ставит Ключарев точку. Но тут же добавляет, и это уже с небольшой укоризной: - Расставаться, Лида, надо по-хорошему.
- Что? Я не поняла...
Денис уже записал решение и разглядывал отца. Лида - на том конце провода - прощается, торопится и вешает трубку. Ключарев тоже кладет трубку. Он не выпускал из рук задачника, теперь он вглядывается в текст и начинает зачитывать новое условие. Дениска синхронно берет авторучку - уже пишет.
Жена приоткрывает дверь.
- Наташа звонила? - спрашивает она, имея в виду свою подругу (точнее сказать, их общего друга - друга дома).
- Не Наташа... Да так, - машет рукой Ключарев. Некоторое время он сидит молча, отключение. Дениска спрашивает:
- Тебя чем-то расстроили, папа?
- Давай занимайся! - резко говорит Ключарев.
После ужина Ключарев помогает готовиться жене к отчету. Дети спят. Тишина... Наконец чай. У самовара я и моя Маша. Но сегодня чай получается молчаливый, речь вялая - усталость к концу недели.
Ключарев ставит пластинку, послушать что-нибудь мелодичное - это будет, пожалуй, к месту и неплохо и сотрет некоторую нечисть нынешнего дня. Жена рассказывает, что недавно звонила Анечка - сестра Ключарева. Она живет в Химках, но видятся они не часто, хотя родной человек.
- Кажется, мужа Анечки все-таки положат на операцию... Анечка сказала, что очень боится.
Ключарев понимающе кивает. Он любит сестру. А дело уже давно шло к операции.
Утро с солнцем, пестрое... Лида пришла раньше - Ключарев, выйдя из метро, сразу же замечает ее у будочки "Союзпечати". Три года не видел. Время изрядное. Лида стала как-то меньше ростом, маленькая среди толпящихся людей, - но лицо по-прежнему привлекательно, более того, лицо, глаза, фигура, все то, что называется обликом, кольнуло вдруг Ключарева... Лида тоже оглядывает его быстрым, мгновенным движением глаз. Оба они одеты друг для друга непривычно, незнакомая одежда, даже портфели уже новые - и только лица. Старое в новом.
Он и она быстро идут навстречу - Ключарев целует ее. Секундное замешательство. И теперь с полуметра только лицо, то самое. Прежнее.
- Значит, так... В субботу выпускной наш вечер. Ты приди, - говорит она, первая возвращаясь на землю и к настоящему дню. Оно, положим, Ключарев вернулся первым, но ждал, пока вернется она.
- Это и есть дело? - спросил он.
Лида начинает бегло объяснять, фразы, видимо, подготовленные - тема не совсем проста, щекотлива.
- У меня есть возможность остаться в Москве. Меня берут на работу. Но нет прописки... И кое-кто пообещал меня прописать. Не из уважения, конечно, ко мне. Ну, ты понимаешь... В общем, им надо дать деньги.
Ключарев кивает: понятно.
- Они просят за прописку четыреста рублей. Сто у меня есть.
- Я должен достать триста рублей?
- Да. Я скоро отдам... Как только смогу - отдам. Ты не волнуйся за это.
- Я не волнуюсь.
Ключарев не волнуется. Нечто подобное он предвидел, хотя и не знал, как это будет конкретно. И ясно, ей хотелось сказать ему об этом не у входа в метро, не на бегу, а, скажем, за рюмкой вина, в уединении и в тепле. Но ведь не беда, ведь и на бегу неплохо сказалось... Так и есть. Сначала любовь. Затем перевес постели. А затем - три года спустя - уже деньги, деловые вопросы. Падающая кривая отношений мужчины и женщины. Оно, допустим, ему теперь и грустно, и больно, но зато теперь-то полная ясность. Если уж о деньгах зашла речь.
- Но нужно срочно. Очень срочно. Ты понял?
- Понял, Лида.
- Привезешь в субботу?
- Постараюсь.
- Приезжай. Я жду... Не то чтобы буду ждать, а жду.
Она говорит энергично, вся деловая с ног до головы. Что ж. Помогай тебе Бог. Бог как раз деловым и помогает.
- Да-да. В субботу... Привезу... Я же пообещал, - размеренно кивает и отвечает ей Ключарев.
Деловая сторона заканчивается, а с ней и весь разговор. И это первый раз за все время их отношений они говорят о деньгах. Если Лида и не знает об этой самой падающей кривой, то уже наверно чувствует. Женщина. Должна почувствовать к концу встречи. Так и есть: щеки порозовели, глаза напряжены.
- Пока.
- Пока, Лида.
В отделе денег, разумеется, ни у кого не достанешь. Ну трояк, ну пять, но ведь никак не больше. Значит, в обеденный перерыв, - и Ключареву уже как бы подсказывается, - значит, достану в обеденный. Попробую. Через Наташу Гусарову, через друга дома.
Наташа работает в смежном отделе, и в обед Ключареву ничего не стоит поймать ее у входа в столовую - она, то есть столовая, для отделов общая. И вот он уже поработал, и уже обед, и он ждет у входа.
- Деньги? - И Наташа смеется. - Маленькие мужские тайны, а?
- На маленькие мужские тайны не берут по триста рублей.
- Триста? Ого!.. Замашки у тебя что надо! Ключарев и Наташа перекусывают стоя - у стола с бутербродами и соком.
- Жене не говорить? - подсмеивается Наташа, доставая из сумочки пятьдесят рублей. Пять ровненьких красных бумажек, у нее всегда есть деньжата на какую-нибудь покупку. - Так что? Не говорить жене? - смеется.
- Как хочешь.
Ключареву безразлично. Не станет он ни сочинять, ни выдумывать. Собирает для старой знакомой деньги по ее, можно сказать, настоятельной просьбе - разве не так?
- Ты сходишь к Володику Зарубину, - разрабатывает Наташа план добывания остальных денег.
- А ты?
- А я сбегаю к Хоттабычу.
- Он разве близко работает?
- Через дорогу - в большом корпусе. Ты не знал?.. А там же рядом и моя Верушка работает. Рублей сто пятьдесят я принесу. Это наверняка. - Она на секунду задумывается. - А дальше?.. А дальше, если не обойдемся, я слетаю еще к кой-кому...
И уже понятно, что к концу обеденного перерыва, а в крайнем случае к концу дня, сумма будет собрана.
Ключарев дожевывает бутерброд. Наташа допивает из стакана - красивые губы, красный томатный сок, - и опять она смеется. И говорит уже с каким-то восторгом:
- Я все равно Майе донесу, что ты деньги собираешь. Если даже умолять будешь, донесу. Женская дружба - ты этого, Ключик, не поймешь. Ты мужик, что с тебя спрашивать. Не поймешь!
Ключарев слушает ее вполуха. Он ценит Наташу, красивую, находчивую и умелую, ценит ее компанию, но слушать, как она говорит о женской дружбе, это уже что-то лишнее.
- Но ты дослушай. Не спеши. Я и Майя пошли как раз покупать обувь моему мальчишке и твоему Денису. Очередь была ужасная...
Ключарев кивает. И, между прочим, думает, что, если б не Наташа, пришлось бы занимать деньги у Ивана Серафимовича, у начальника. Три сотни не шутка, зачем вам триста рублей, Виктор?.. И пришлось бы шутить, что приезжает к нему, Ключареву, теща на постоянное жительство, а наемные убийцы в наши дни совершенно зазнались и берут немыслимые суммы. Иван Серафимович обожает шутки о тещах и их мучительных кончинах.
До конца рабочего дня час, что ли. Может, и полчаса. Тут уж как не подумать о чем-то. О том, например, что бегать и собирать деньги Лиде - это как раз оплата прошлых тихоньких радостей. Как же иначе, мы вам, а вы нам. И уж если честно, то он мог наперед знать из опыта, что эту плату когда-то придется платить.
Вот именно. Платить... И уж само собой, очень мы бываем недовольны, когда этак годика через три Лида, или, скажем, Инна, или, наоборот, Петя вспоминают нас, звонят и говорят: собери-ка, дескать, в знак старой дружбы мне рубликов триста взаймы, - ей-богу, позарез нужно. Или достань дубленку. Или устрой в вуз племянничка. Такой дуб растет, ей-богу, не знаю, что будет, если ты в вуз его не устроишь... Или проще: не вспомнить ли, дескать, нам старое, однажды вечером, с винцом, - да нет, без причины, просто хочется и все это вспомнить, а несколько позже, когда уже вспомнишь, - про племянничка, триста рублей или дубленку. Как бы между прочим. И все голосом тихим; как говорится, поэтично.
Или вот. Володик Зарубин рассказывал. О том, как со своей первой любовью встретился. Жена с сынишкой как раз на лето уезжала, вот он и встретился, пригласил, вино два дня выбирал. Ключарев спросил: "Что ж ты грустный, Володик? Или не понравилось?" - "Понравилось. Вот только она пластинки все унесла". - "На память, что ли?" - "Говорит - да". - "Неужели все забрала?" - "До единой. Как цыганка. Вместе с коробками. Оставался уже только Робертино". - "Лоретти?" - "Ну да. Говорю ей: он у меня переросток, уже осипший, голос потерял... Ничего, говорит, в этом, говорит, даже особый драматизм есть. Взяла".
Оно Володик и приврать горазд. Шутник. Да ведь и не совсем же шутка... И он, Ключарев, с Лидой ведь тоже почти предвидел. То есть когда только начиналась эта любовь - скрытная, тайная, с телефонным шепотом и оглядкой, с худосочной поэзией четырех чужих стен, постели и двух бутылок вина на столе, - он ведь уже тогда знал, что все это нормально, стандартно, в точности как у других и что эти-то нормальность и стандартность где-нибудь ему аукнутся. Без особой боли, грубенько, но аукнутся.
Так что тут даже соответствие. Такая плата. Такая и любовь была. Начинаешь и уже наперед знаешь - игра... то есть конечно же оно тоже человеческое, наше, что-то ты получаешь, и утоляешь, и даже душой свежеешь, но ведь игра. И ходы наперед. Оно сначала-то ты распахиваешься, рвешься и будто бы даже в море - как же без этого слова! - в море зовешь, и уж конечно, в открытое и, конечно, с волнами. Но проходит некоторое время, и уже держишь лодочку ближе к берегу. Во-первых, аккуратность - "Надо нам быть начеку, зачем нам всякий шум и домыслы?" - затем упорядоченность, два раза в неделю, можно и раз, по пятницам. И больше-то всего боишься, что, скажем, не выдержит она игры, влюбится слишком, вспыхнет, и тут уж приходится сдерживать. Не надо, лапочка. Не нужно, лапочка. Ни к чему, лапочка... Да она ведь, лапочка, к счастью, сама настороже, ум на стреме, и сдерживать, в сущности, ее не приходится, потому что озабочена она, как скоро выясняется, одной-единственной и очень трогательной мыслью: как бы ты не влюбился слишком.
И вот. Смеются над командированными - ребятки, приехав в деревню, или на какой-нибудь пляж, или в поселок, с первого же дня смотрят на местных женщин, как голодные средневековые солдаты. А ведь, в сущности, не смеяться, сочувствовать им надо. Ведь бедняги. Ведь намучились они с боязливенькой стандартной любовью, скрученной и сидящей в телефонном шнуре. Оно ведь и воли хочется. Оно ведь и луг зеленый тоже бывает. И камыш колышется. И чтоб оглянуться и лошадей на опушке увидеть.
В Старом Поселке их звали чокнутыми. Жили они в седьмом бараке - в комнатушке их было трое. Трое работяг, которые говорили исключительно о женщинах. О женщинах, а все остальное в жизни было для них малость и глупость. После работы они пили пиво, играли в карты (домино Ключарев не видел ни разу), курили без передышки и говорили о неземной своей любви.
Был среди них Баев, приехавший сюда на стройку следом за "своей". Он любил ее "сызмальства" - она приехала сюда с мужем, а Баев за ними. Он почти следом ходил за ней, был чаще других бит, предупреждаем - все напрасно.
- Как увижу я, братцы, глазки ее голубенькие! - говорил Баев, шлепая туза козырем, говорил молодцевато и одновременно со слезой. - Как увижу, и ничего мне больше не надо!
А напротив него сидел почти совсем облысевший Бахматов - этот был другого сорта, сорокалетний, хищный, ненасытный и себе на уме. Он преследовал молоденькую Галю Строеву. Он уже сменил трех жен, но все было "не то". Не везло ему. Бахматов ничуть не отчаивался и свято верил в свою звезду:
- Найду я ее, ребята. Найду... Любовь искать надо. Она одна-единственная. И только твоя, как твоя судьба. - И он улыбался острыми глазками. - Она, моя козочка, еще где-то прыгает... Она ж еще не знает, что я ее судьба.
Третьим, и самым интересным из чокнутых, был Челомбитько, нежный, мягкий, задумчивый, влюбленный в "свою", как сраженный наповал, - она была замужем и была удивительная красавица... Как-то Ключарев-мальчик шлялся всю ночь на реке и вернулся под утро. Небо только-только светлело. Метрах в ста от барака, на бревне, сидел Челомбитько, посасывал папироски и смотрел на окно "своей возлюбленной". Видно, всю ночь сидел. Он сидел, как вырезанный из дерева, неподвижный, худой, с ввалившимися щеками, - и Ключарев дико присвистнул ему. Тот молчал. Ключарев еще свистнул.
И как раз проснулся барак.
- Сашук!.. Федотов! Эй, Сашук! - тоненьким фальцетом раздались женские голоса в бараке. Две-три женщины, как обычно, забывали, когда им на работу утром ли, в обед ли... На их крики, как всегда, вышел Сашук Федотов, сорок пять лет, грузный, рослый. Старший механик.
- Ну, вы, чертовы ведьмы! - ворчал он, протирая заспанные глаза.
Женщины гомонили вокруг, а он стоял, как спящая копна, огромный.
- Ну, чего разбудили? Расписание вам сказать?
Он всегда и все знал о сменах. И вот вынул записную книжку, засаленную, большую и пухлую, как сам Сашук. Затем столь же медленно вынул очки.
- Та-ак. Второй цех... Утренние и вечерние смены. Та-ак...
Барак проснулся, и Челомбитько встал, поднялся с бревна. Ключарев-мальчик не успел среагировать, и Челомбитько наткнулся на него. Ясное дело, он понял, кто подсвистывал ему из кустов.
- Опять шляешься? Чем у тебя только голова заполнена, - сказал Челомбитько.
Ключарев загнал щепу в ладонь, вынул ее и теперь отсасывал из ранки кровь.
- Как там Клава? - по-деловому и не без мстительной нотки спросил Ключарев-мальчик.
Челомбитько промолчал... Клава, вышедшая замуж за Двушкина, за того ревнивого краснопомидорника, не померкла в глазах Челомбитьки, даже когда родила и вроде бы надежд оставалось мало. Не померкла. Может быть, даже новым светом засияла, кто знает?.. Но затем Клава опять родила, и на этот раз двойню. И почему-то именно то, что двойня, угнетало Челомбитько. Тут был комический элемент, что-то излишне реальное и здоровое, а это так не шло к его грустной и, как он говорил, вечной любви. Раньше Двушкины - несколько родичей - не раз грозили Челомбитьке, бывало, и колотили. А теперь нет. Теперь в Поселке с восторгом говорили о двойне и о том, какой все-таки Двушкин молодец мужик. А Челомбитько с его печальными глазами был просто забыт. Или - при случае - высмеян.
И вот Челомбитько погасил папироску, вздохнул и сказал сам себе:
- Мотать отсюда надо.
Ключарев спросил, все еще отсасывая кровь из ладони:
- Куда?
- Да мало ли... Сейчас в любом городе строят. - И добавил, прошептал еле слышно: - Мотать надо...
Но не успел. Так и жил. Лишь много лет спустя Ключарев узнал, что Челомбитько в те дни "сдвинулся" - сделался психически болен.
И вот суббота. С утра Ключарев протирает окна. Он добросовестно трет, развинчивает рамы и затем трет стекла изнутри. С высоты пятого этажа он замечает Аникина, жильца из второго подъезда, - это интересно, а протирать окна становится уже скучно, и Ключарев кричит жене:
- Майк!.. Аникин в гости идет - поставь кофе. Майя готовится к отчету, и ей, само собой, лень.
- А если сам?
Но Аникин, возможно, и не зайдет - он стоит около длинной вереницы собственных "Москвичей" и "Волг", там обычно играют дети, и что-то объясняет своей Любочке. Хроменькую Любочку - она в возрасте Дениски - дети не желали принимать в игры. А почувствовав в этом сюжет и вкусив интерес, больно поддразнивали. И однажды бедняга Аникин с рвущимся сердцем выбежал из квартиры и раза два шлепнул хорошенькую Олю Бажанову. Благопристойный кооперативный дом взбурлил. Одни видели в Аникине злодея, другие, понятно, защищали. Было и собрание. Ключарев не пошел. "Но душой ты, конечно, Аникина защищал? - спросила Ключарева жена. - Я угадала?" - "Угадала". - "Ну ясно. В любимом твоем Старом Поселке, вероятно, порка была как баня. Не реже раза в неделю, да?" И он даже не стал ей тогда отвечать, промолчал.
- Майк!.. Ну поставь кофе.
- Поставила, поставила... О Господи.
- А спиртное что-нибудь есть? - Ключарев заканчивает протирать раму.
- Откуда?
С того дня Аникин и стал иногда заходить к Ключареву. Оказалось, что у него в прошлом тоже есть свой Старый Поселок, - назывался он по-другому, "Пятый километр", но суть та же. И такая же ностальгия, такая же тяга туда, несбыточная, разумеется. Усядутся оба, пьют кофе, пьют вино, и до чего ж приятно поговорить.
- Привет! - Ключарев, высовываясь из окна, машет рукой приближающемуся Аникину.
Аникин, как всегда, несколько смущен:
- Я вот с Любочкой ходил в театр... "Синяя птица"...
Ключарев усаживает Аникина - кофе на подходе. Ключарев не сразу начинает о Поселке, разговор придет сам собой. Да, "Синяя птица" - это полезно. Ключарев рассказывает, что как-то Дениска пришел с улицы несправедливо обиженный. Так сказать, проигравший и побежденный, и не важно, какая была игра. Тогда Ключарев стал объяснять сыну, что если победители несправедливы были, нечестны, нехороши, то все ясно. И переживать не стоит. Но Дениску это не устроило. "Вовсе нет, папа... Ты не о том, папа. Ты ничего не понимаешь. Ты брось-ка эти отжившие глупости, а лучше научи-ка меня выигрывать. Мне не слова объясняющие нужны, мне, папа, выигрывать нужно" примерно так он и сказал, в переводе с детского.
- Жизнь - это жизнь, - задумчиво говорит Аникин.
Разговор приближается к своей вершине. Вот она. Ключарев и Аникин прихлебывают из чашек и неторопливо говорят о том, как хорошо сейчас в Старом Поселке и на Пятом километре.
- А какие люди... А какая там любовь!
А ближе к вечеру Ключарев собирается ехать - передать деньги Лиде, - он объясняет жене:
- Да так. Одному человеку... Старый знакомый.
- Или старая знакомая?
- Или знакомая, - соглашается Ключарев. И поясняет: - Я занял для этого человека. И этот человек им вернет. Я только передаточное звено - так что нас денежный вопрос не касается.
- Я поняла, - говорит Майя. И призадумывается. Деньги напомнили о деньгах, это естественно. - Сходил бы ты к Рюрику, а?
- Схожу. Как-нибудь.
Ключарев почти готов - он уже оделся.
- Но ты не поздно сегодня вернешься?
- Когда я возвращался поздно?
- Смотри, а то я тоже заведу. - И Майя смеется веселым смехом верной жены. - Тоже заведу кого-нибудь... - У дверей она опять говорит: - Попроси у него статью завтра. Не откладывай, а?
Ключарев время от времени подрабатывает рецензированием научных статей. "У него" - это у Рюрика. Не у того, конечно, Рюрика, который воинственный варяг с багровым мечом, а, наоборот, у того, который (как бы в насмешку) скучнейший и мертвейший человечек. Просить у него статью для рецензирования - унижение. То есть Рюрик делает огромное благо, давая Ключареву статью. Мог бы и не дать. А дать, скажем, эту статью другому.
- Так ты сходишься завтра к нему? Обещаешь?
- Да, да! - быстро и бездумно соглашается Ключарев.
Он уходит. В метро оказывается какая-то группка людей с гитарой. И кто-то поет. И даже с голосом, не только с сердцем. И тут Ключареву становится не по себе от их лирики. Он машинально ощупывает в кармане пачку приготовленных денег, плату за эту самую лирику, и лицо его делается кислым, желчным.
Ключарев вошел в институт, где учится Лида, точнее сказать, где училась. Он бывал здесь раньше. Когда-то. Сейчас здесь нарядно. В фойе висят разноцветные шары, гирлянды, флажки и тому подобное - похоже на Новый год, но без елки в центре. Лето за окнами.
- А где же это, как ее... торжественная часть?
- Опоздал. Кончилась! - отвечали ему радостные голоса.
В просторном фойе уже танцы, гремит музыка. Ключарев неторопливо заглядывает и туда, и сюда, и к буфету, и понятно, что не так уж весело, прошло мое время, уже другое время, другие песни, - и тут на него налетела стайка из пяти девушек, среди них Лида.
Они как бы сталкиваются, и Лида бросается к нему:
- Вот ты и пришел, я же знала, знала!
Она радостно бросается к нему, целует. От нее слегка пахнет шампанским. Подруги некоторое время наблюдают, затем отходят в сторону.
- Вот и пришел, вот и пришел! Мне еще бабка говорила, что я счастливая!
Счастливая или нет, но уж точно, что она и нарядна, и свежа, и красива. И очень восторженна. И ничего общего с тем телефонным существом, раздражающимся и надоедливым одновременно.
- Нам надо встретить ребят из Института стали... - рассказывает Ключареву один из парней.
Когда-то, когда любовь гудела, как паровой котел, а ночевать у Лиды вдруг оказалась невозможным (и уже была ночь, не уедешь), Ключарев ночевал у этого парня. Тот привел Ключарева в свою пахнущую книгами и носками студенческую комнатушку, и там уже спали трое: все было просто, в меру заботливо, и никто ни о чем не спрашивал.
- Хочешь выпить? - предлагает сейчас этот парень, и Ключарев идет с ним к буфету, где они пьют шампанское из бумажных стаканчиков.
Ключарев говорит. И ровный голос не выдает его:
- Я думал, что лучше послушать песни. Разве нет?.. Смотри, круг собрался.
- Конечно! И ведь ты хорошо поешь, - тут же хватается Лида за соломинку, улыбается, счастливая. - Пойдем! - И она тянет его за руку, за собой, к поющим.
Они садятся рядом. Ключарев обнимает Лиду за плечи, здесь все так тесно сидят. Гитара у Ключарева где-то над самым ухом. Поют хором во все горло. О том, как они уедут в далекие края, прощай, столица. Им видятся сейчас глухие деревни и непролазные дороги, хотя вернее, что они будут жить в чистеньких и сытых домиках районного центра. Но Ключареву не до иронии - это ж ясно, что для них происходит сейчас нечто нерядовое и особенное. Он, Ключарев, уже никуда не уедет. Грустно. В чужом пиру похмелье. Но он еще посидит, попоет с ними. Еще немного.
Глава 4
С утра Ключарев думает о детях. Род. Сладость корней. Куда, говорит, ведешь ты свой род, человече?.. Да так, говорит, без особого направления. Но в основном, говорит, вверх. Куда же еще, если там мягче... Воскресенье жена отсыпается. Изо дня в день она встает на час раньше Ключарева, чтоб кормить детей и разводить их. И теперь отсыпается.
- Идите в эту комнату. И давайте потише, - говорит Ключарев Дениске и Тоне.
Он забирает их и прикрывает плотнее дверь.
- А мамочка пусть себе поспит, - с готовностью делает вывод Тоня; только что с той же готовностью она собиралась стянуть с матери одеяло.
Ключарев по-воскресному вял, к тому же вчерашний эмоциональный перерасход. Дети играют. Ключарев смотрит на них. Тепло и уют семьи. И самотечность жизни изо дня в день. И в сущности, как далек этот самый Старый Поселок. И может быть, в эту вот минуту - ну вот сейчас - он смотрит на детей и вдруг моргнул глазами, в этот миг происходит окончательный отрыв... Вот именно. Дети этой связи уже и вовсе чувствовать не будут. Отрыв станет фактом - факт во втором поколении. И, пожалуй, неплохо, не без красоты и не без мысли, будет сказать, что основную перегрузку этого отрыва Ключарев принял на себя. А детки уже - топ-топ! - научные работники во втором поколении. И ни в какой Поселок, пожалуй, ты уже не поедешь и даже думать об этом, пожалуй, не станешь. Почему? А все потому же - вверх, детки, вверх! Там, говорят, помягче!
Вот именно. Веселенький топ-топ. И ведь верно - детям Ключарева уже и не видно, и не слышно своих корней. И значит, не больно. И вполне будет им хватать походов, туризма-альпинизма и прочих заменителей и суррогатов живой жизни. Двадцатый век, ничего не попишешь. Ха-ха, век... Н-да. Прадед был священником, деревенским попиком. Отец - прораб. А он, Ключарев-правнук, научный работник - классическая кривая, выбрасывающая, выносящая наверх забитые и темные деревенские души. И неужели же он, Ключарев, живет и радуется и даже мучается, чтобы лишь отыскать (отыграть) роль в этой скучной поступательной теории? Формальную, в сущности, роль... Оно понятно, есть в этом и кое-что греющее. Дескать, я - только начало. Первая ступень выносящей ракеты, не к воскресенью будь помянута. А вот, дескать, детки мои и внуки мои - вот уж они-то сумеют жить, творить и не мучиться мыслью, где их корни. А я только чернозем для них. Чернозем под тополь, куда как красиво.
Мысль не из плохих, но уж очень его, Ключарева, обезличивающая, и он поскорее отмахивается.
- Эй, детвора! - И он добавляет с грубоватой лаской в голосе: - Что скажете, научные работники во втором поколении? Как дела?
- Хорошо! - отзываются криком Дениска и Тоня.
- Ну-ну... Мать спит.
Он оглядывает детей, как оглядывают потомство, - вялость воскресенья.
- Ну? Рассказать вам что-то поинтереснее, да? Тоня (в свои четыре года она быстренько разделалась с периодом сказок) выразительно смотрит: ждет.
- Папа, - спешит спросить Дениска на подхвате свободного отцовского времени, - кто первый придумал принцип дополнительности? Это ж гениальная штука.
К обеду приходит Наташа Гусарова. Она и Майя, а Майя в халатике, выспавшаяся и веселая, начинают болтать - обе рады, женская дружба. Синее небо. Мелкие облачка. Но никогда никаких туч.
Наташа просит отпустить Майю к ней сегодня на вечерок - пусть Майя отдохнет в воскресенье, а Ключарев пусть посидит с детьми.
- С удовольствием, - говорит Ключарев, - но у меня "а" - Рюрик и "б" театр с Дениской. - И Ключарев смеется. - Берите все это на себя и заодно отдыхайте. Идет?
- Деспот!.. Домостроевец!.. Старопоселковский тиран! - сыплют словами и Наташа и Майя одновременно, им весело, обе хорошенькие и выспавшиеся, воскресенье их день.
- А к Рюрикову нельзя в другое время?.. И не зови ты его Рюриком, это ужасно, - говорит Наташа. - А нельзя ли к нему, например, завтра?
- Пожалуйста!
Но тут уж Майя спешит сказать сама:
- Нет, нет. Пусть идет... Я еле уломала его, в другой раз его не упросишь. Ключарев поясняет:
- Деньги, Наташенька... Тоненький, маленький, дохленький, но непрекращающийся денежный ручеек от Рюрика - для нас это важно. - Он глядит на часы: - Кстати, мне надо поторапливаться. И хватит о Рюрике - не то мне станет так отвратительно, что я передумаю.
Он уходит в комнату переодеться. Женщины там, за стенкой, смеются, хохочут - и голоса у них в одной тональности, особенно при смехе, будто специально голос к голосу подбирались... Когда-то, лет пять назад, все началось с романа меж Ключаревым и Наташей Гусаровой. Скорее, романчик, а не роман, этакий коротенький, молниеносный и ни к чему не обязывающий. И забылось. Да и не знал никто. Зато они подружились семьями. А Майя и Наташа стали почти как сестры. И появился круг общих знакомых. Жизнь, она посильнее всяких там мелочишек. И правильно... Чертов Рюрик! Уже как зубная боль. Надеть белую рубашку, к нему иначе нельзя. И подумать только, что надеваешь свежайшую рубашку не ради сына, с которым идешь в театр, а ради какого-то полутрупа, мумии (или все-таки ради сына, в конечном-то счете? в денежном?).
- Прости, прости! - В дверь заглядывает Наташа, видит голого по пояс Ключарева и не входит. Говорит через дверь: - Если не сегодня, то давай мы завтра сходим с Майей в кино. На японские фильмы, а?.. Отпусти нас, Ключик!
- Да пожалуйста... О Господи!
- Чего ты такой злой?
- А чего мне не быть злым?
- Ну ладно, ладно... Так ты смотри: ничем завтрашний день не занимай.
Наташа идет к Майе, и слышно, как Майя ей говорит:
- Достанем мы билеты?.. Там уже четыре дня аншлаг.
- Достанем. - И Наташа садится к телефону, слышно, как затарахтел диск. Она звонит знакомым, по кругу - одному - другому - третьему... Эти достанут. Наташа даже в рай достанет билеты, если только он есть и если по цене они будут хоть мало-мальски доступны. Наташа звонит, и кажется, что от ее легкого голоса трогаются с места люди-колесики и - шестеренка за шестеренкой - приводится в движение некий невидимый, но хорошо отлаженный механизм, который конечно же достанет любые билеты.
А настроение Ключарева портится. Чем ближе минута общения с Рюриком, тем он становится мрачнее. Он уходит из дому молча, чтобы случайно не сказать грубость Майе или Наташе.
Он пересекает проспект - сворачивает налево... Самое неприятное - это, конечно, беседа с Рюриком, затяжная и прямо-таки парализующая Ключарева своей пустяковостью. Например, о любимом цвете. Или о том, что кофе действует мгновенно, а чай в течение часа. И без беседы нельзя. Рюрик не может без беседы. А в конце Ключарев, потея и пряча глаза, скажет:
- Коллега (Ключарев ненавидит это обращение, но Рюрику оно нравится)... Скажите, коллега (надо повторить!), как там у нас в журналах?
- А что? - спросит Рюрик раздумчиво.
- Нет ли статей интересных?.. Понимаете, у меня вдруг оказалось много свободного времени. И, разумеется, если статьи будут достаточно интересны, я могу их взять на себя.
Рюрик выслушивает и задумывается. Обладай он юмором, ну хоть в зачаточном состоянии, Ключареву вполовину было бы легче. Еще только встречая Ключарева в дверях, Рюрик мог бы, смеясь, пожать руку и спросить:
- Что?.. Опять на мели? За статьей небось явился? Или:
- Что, Витя, не можешь наскрести на подарок учительнице?
И Ключарев бы тоже в шутку сказал:
- Да. Конец учебного года... Не отправишь же Дениску с пустыми руками. Хотя бы цветы...
Но всего этого не будет. Рюрик встретит Ключарева в дверях сухо и чопорно. Как учитель ученика. Как благотворитель просителя, потертого и обшарпанного. А за рецензию, за эту ночную или вечернюю нелегкую работу, отдел Рюрика заплатит - смешно сказать - треть цены. Треть, потому что выполняет внештатный работник, и весь сыр-бор вот за эти-то гроши и идет. Ключарев побеседует, отмучается и, наконец, принесет статью домой. Жена встретит ласково, это верно. Майя знает, что ему у Рюрика было несладко, но глаза ее тем не менее радуются, сияют, - и надо сказать, по-своему она права, и у Ключарева иногда хватает духу понять эту ее правоту и не злиться. Но чаще он швыряет выпрошенную статью на стол, вытаскивает курево и, постанывая, двумя-тремя сигаретами подряд глушит только что пережитый стыд.
Ключарев звонит - Рюрик открывает дверь.
- Ах, это вы... Здравствуйте. - Рюрик всматривается, он всегда узнает Ключарева с трудом.
- Как ваши дела? Как здоровье? - бодренько спрашивает Ключарев... И все начинается. Ключарев проходит в комнату, думая про себя, что, если бы Рюрик хоть однажды предложил чаю, было бы все-таки не так мучительно.
А это уже театр, "Синяя птица". В антракте Ключарев и Дениска прохаживаются в фойе. Тут же с родителями и другие подростки. Дениска слегка форсит. Он моментально схватил смысл и дух этого неторопливого разглядывания портретов и прогуливания в фойе. И рассуждает. Негромко. Спокойно.
- Понимаешь, папа, если уж честно, то и Хлеб, и Огонь - это как-то притянуто.
- Почему?.. Это же образы.
- Я понимаю, что образы. Я даже понимаю, зачем они... Но ведь не плюс пьесе, если я угадываю цель сразу.
- Ну-ну. Только не форси.
- Но, папа, ведь это в точности как... как в школе. Как наглядные пособия. Ключарев смеется:
- Иди-ка пирожное купи. А то не успеешь.
Теперь Ключарев вышагивает один. И наблюдает за Дениской. Дениска стоит в очереди - вдруг вытирает лоб платком, мальчишке жарко. И еще раз вытирает, а это уже как бы для вида. Для естественности. Для сглаживания первого движения, которое было слишком натуралистичным и резким. Как, в сущности, рано вырабатывается жест...
Отец Ключарева был десятником на стройке. Затем прорабом. Затем на должности инженера, но, чтобы расти в профессиональном смысле, нужно было учить новое. Делать это он мог только ночами. И вот на столе прикнопленный ватман, рейсшина, рейсфедеры всех мастей - дети засыпают, а отец чертит. Всё, разумеется, в одной и той же комнате барака. И курит отец здесь же... Надо полагать, отец был способный человек, но пошли беды. Время было послевоенное, голодное. Сначала попал в больницу брат Ключарева - Юрочка. И гас там, в больнице. Затем что-то случилось с матерью. С ее психикой. Тоже в больницу. А отец все чертил ночами.
Однажды ночью маленький Ключарев проснулся - пришла тетка Маруся (тетка со стороны матери). И о чем-то говорила с отцом. Свет был крохотный, от лампы, обернутой в асбестовую бумагу. Ключарев с сестренкой Анечкой спали в одной кровати, головами в разные стороны, - и вот сестренка спала, а он прислушивался.
- С утра похороним... Я уж ходила. И место нашла, - говорила шепотом тетка Маруся.
Речь шла о Юрочке, Ключарев еще не знал, что брат умер.
- А ей уж и не знаю, как сказать, - шептала тетка, "ей" - значило матери, мать была в больнице.
- Скажи. Но только поосторожней, - проговорил отец.
- Ой, боязно!
Затем Ключарев видел, как отец вертел в руках бумагу, - это был вызов из области, чтобы продолжать учение. Он вертел бумагу в руках, а тетка Маруся косилась на нее и шептала:
- Брось. Брось... Порви ее. - Фанатичное и жуткое было в ее шепоте: Порви. Прямо сейчас и порви... Увидишь, она выздоровеет. Сразу выздоровеет.
Тетка схватила руку отца и прижала к губам - лампа в асбестовой обертке еле-еле светила - на стене их громадные тени, и вот, прижимая его руки к губам, вся как-то припав к отцу, тетка Маруся шептала:
- Рано... Нашему роду еще рано к пирогам лезть. - Было слышно ее дыхание из-под пальцев отцовской руки. - Рано, ты понял?.. За нас свое дети возьмут. Понял ли - не лезь, оставь это детям.
Отец, видимо, порвал бумагу, потому что разговор их стал спокойнее. Они поговорили о том, нужен ли после смерти Юрочки еще ребенок или хватит этих двоих, то есть Ключарева и его сестренки. Тетка Маруся шептала, что теперь, когда бумага порвана и, стало быть, с дальнейшим учением кончено, не пройдет и пяти дней, как мать Ключарева поправится и выйдет из больницы. Мать вышла из больницы через неделю. К этому времени отец уже выбросил ватман, а рейсфедеры растаскали пацаны. Нет, он сначала припрятал, он еще надеялся прошел год, и только тогда пацаны начали растаскивать.
Глава 5
Ключарев помнит и другую ночь. И там уж вовсю участвовал дядька Ваня, бывший фронтовик, солдат, сам по себе целая поэма, в мажорном ключе.
Была ночь, и так же они спали головами в разные стороны - пяти или шести лет - Ключарев и его сестра Анечка. На другой кровати мать и отец. Тишина ночного барака. Лишь отдаленно негромкое тарахтенье швейной машинки... Вдруг громкий стук в дверь. И голос дядьки Вани: "Га-га-га-га" таким вот смехом он смеялся.
Отец встал, скинул дверной крючок.
Ввалился дядька Ваня и с ним какой-то застенчивый незнакомый парень (это был Челомбитько). Оказалось, что дядька Ваня подцепил его где-то в деревне и по широте своей натуры пообещал женить - и не на ком-нибудь, а на Клаве, первой красавице Старого Поселка. Весь сегодняшний вечер они просидели у нее. Сидели и ни в какую не уходили. "Отличный муж, Клавка... Отличный!" - уговаривал дядька Ваня. Но Клава отказала.
- И весь вечер ты ей надоедал? - спросил отец Ключарева, сочувствуя Клаве.
- До самой тьмы... И все равно отказала. Она говорит: он какой-то сморщенный. Га-га-га-га, - рассказывал дядька Ваня и хохотал, нимало не стесняясь сидящего здесь же Челомбитько.
- Может, спать будем? Ночь ведь, - ворчливо сказала мать с кровати. Она чувствовала, что дядька Ваня ждет закуску на стол, и сказала, что ни за что не встанет, детей не побудить бы, - а маленький конус света пересекал ночную комнату пополам.
Но дядька Ваня уже разошелся:
- Она говорит: сморщенный. А душа?.. У него душа, может, золотая! - Он широко развел руками. - Клавка - дура. Не понимает. А я его слесарем сделаю. Я его в деревне подобрал, и теперь он мне друг... - И тут же он потребовал перекусить своему другу. И говорил: - Ясное дело, в общем-то он заморыш... Но ведь и душа есть!
Сам Челомбитько сидел с печальным видом неудачника. Клава ему понравилась, на этих смотринах он прямо-таки обомлел - не ожидал увидеть такую красавицу, - обомлел, по его собственному выражению, на всю жизнь.
Дядька Ваня угомониться не мог - он стал щекотать мать Ключарева, она не выдержала, вскочила. Стесняясь, кое-как наскоро оделась. Так же наскоро и кляня дядьку, поставила на стол еды и водки. Отец Ключарева, человек мягкий, утешал Челомбитьку. А дядька Ваня ходил по комнате и бил кулаком в барачную стену - выдержит ли?
- Где же ему, бедному, спать? - Мать Ключарева недоумевала.
- Да я... да я уж куда-нибудь... Может быть, в деревню уеду, - мялся Челомбитько.
- Никуда ты не уедешь! - отрезал дядька Ваня. После смотрин он собирался привести Челомбитьку к себе, но жена дядьки Вани резко воспротивилась, а спорить с ней было бесполезно. И вот дядька Ваня привел его к своим - к Ключаревым. Выпить выпили, но где же действительно его положить спать?
Собрали по углам старья и устроили его на полу. Дядька Ваня, чтоб жена не пилила, тоже заночевал здесь. Ключарев-мальчик уже засыпал, но в дверь опять застучали. Это была жена дядьки Вани, сам он уже мертвецки спал.
Отец Ключарева пробовал его разбудить:
- Жена зовет... Вань, жена твоя стучится.
- Кто?
- Жена твоя, Ваня.
- Да ну ее... Га-га-га-га! - И он опять заснул.
Утром дядька Ваня привел своего нового друга к чокнутым. Было их двое таких, стало трое. В их комнате - в самом конце барака - в мареве их бесконечных разговоров Челомбитько прижился. "Красавица... Ведь какая она красавица!" - рассказывал он о Клаве и мог видеть "свою" Клаву теперь каждый день. И было уже не так важно, что Клава вышла замуж за Двушкина, за ревнивого и мрачного сварщика, увлекавшегося выращиванием помидоров круглый год.
На следующее лето дядька Ваня сделался "вольным казаком". Ключаревы уезжали в отпуск в деревню к бабке. Дядька Ваня изловчился и вместе с ними, то есть с родней, отправил на лето свою жену и дочек - хотелось отдохнуть от жены. Жена любила "изображать". При малейшей ссоре с дядькой Ваней она вопила на весь барак и падала в обморок. Однажды, не на шутку перепугавшись, кто-то из соседей окатил ее водой из ведра - она поднялась и долго охала, благодарила избавителя. А дядька Ваня сделал открытие. Как только жена падала в обморок и лежала с закатившимися глазами, он хватал ведро, начинал позвенькивать дужкой, и - чудо! - жена тут же поднималась на ноги. Ей вовсе не хотелось, чтоб кто-то опять влетел с ведром холодной воды.
- Подлец!.. Паразит! - кричала она.
- Га-га-га-га! - смеялся своим неповторимым смехом дядька Ваня.
И так он позвенькивал каждый раз. И жена уже понимала, что ее разыгрывают, но все-таки "оживала" и поднималась на ноги: риск был слишком велик.
Оставшись летом один, дядька Ваня как-то возвращался с реки - он поставил на ночь перемет. Beчерело, лес дышал сыростью, и дядька Ваня бормотал себе под нос: "Летят утки... летят утки-и..." Вдали светились огоньками завод и Поселок.
"Черт! Человек это все же или дерево?" - думал дядька Ваня, вглядываясь в темноту леса.
Ветка хрустнула - и уже ясно было, что это не дерево. Но и не человек. А два человека. Дядьке Ване показалось неудобным пройти стороной: гуляешь гуляй, а все же люди - и он шел так, чтобы пройти рядом с ними.
- Закурить дашь? - спросил один.
- А чего же.
Дядька Ваня вынул портсигар, еще военного времени, раскрыл. В темноте лица не проглядывались. Только брови чернели. И неуверенность рук, когда они потянулись за "беломоринами".
- А по две дашь?
Дядька Ваня пожал плечами:
- Берите.
И тогда один из них засмеялся, будто бы весело стало:
- А все?
- Ну-ну-ну! - сердито сказал дядька Ваня, отодвинул портсигар. - А мне что останется? Второй шагнул ближе.
- А ну, не балуй! - крикнул дядька Ваня.
И тогда тот схватил его за руку, выворачивая кисть с портсигаром. Дядька Ваня оттолкнул его и стоял теперь чуть в стороне, всматриваясь в темноту вокруг. Нет, их было только двое, пустяки для солдата.
- А ведь собаки вы, - укоризненно выговорил он, а они подступали вес ближе.
Как по сигналу, один бросился ему в ноги, а другой сбоку ухватил за шею. Дядька Ваня затоптался, стараясь не упасть. Тот, который внизу, заплетал ему ноги, и дядька Ваня вдруг присел и с маху опустил свой страшный кулак на его спину. "Ы-ы-ых", - как-то необычно выдохнул тот, затем закричал слабо и с болью в голосе:
- А-а-а... А-а-а... - как плачущий ребенок.
Второй, что пытался свернуть шею, понял, что он теперь один и что ему с дядькой Ваней не справиться, - он отскочил, вытащил финку, и та белой полоской - он размахивал рукой - мелькала над темной землей и травой. "Боится", - подумал дядька Ваня и побежал за него, не так уж стараясь набежать, но звучно топоча ногами, чтоб напугать больше. Тот метнулся в сторону - исчез в лесу.
Тяжело дыша, дядька Ваня вернулся к лежачему. Он еще постанывал, но скоро затих. "Мать честная! Да я ему позвоночник перешиб", - подумал дядька Ваня и присел над ним, трогая и легонько тормоша:
- Эй... Эй, очнись!
Лежачий был мертв. Ощупывая его, дядька Ваня наткнулся рукой на две папиросы, выпавшие из нагрудного кармана.
- Из-за дерьма-то какого? А? - сказал дядька Ваня, покачивая головой. И вот тут (вдруг осознав, что и точно из-за дерьма) он испугался. "Ну его к чертям. Иначе не миновать мне тюри", - мелькнуло в голове, и дядька Ваня быстро зашагал к далеким огням Поселка, домой. На всякий случай он дал крюк. Свернул к реке и уже оттуда - к дому. С ровно и четко постукивающим сердцем вошел в барак. При свете оглядел себя - ничего, никаких следов. Он постучал к Сашуку Федотову. Как всегда заспанный, Сашук вышел с пухлой записной книжицей и начал вычитывать:
- Вторая смена... Крекинг-завод...
- Да не нужно мне это, - сказал дядька Ваня. Сашук зевнул. Его обычно вызывали, чтоб узнать о своей смене.
- Я ведь не пошел перемет ставить, - сказал дядька Ваня. - Не захотел. Зябко что-то.
- Где ж зябко. Теплынь.
- Слышь, Сашук. Людишки какие-то ко мне привязались. Следом ходят.
- Что за люди?
Дядька Ваня пожал плечами: не знаю...
Он уже спал, как что-то вдруг толкнуло его. "Кто тут?" - спросил он со сна. И сел на постели. Никого не было. И тут он услышал за окном шорохи. Он встал и на цыпочках подошел. Окно было распахнуто - он на ночь не закрывал его, теплынь. Он увидел три силуэта. У одного была за спиной берданка. "Ах, собаки!" - чуть не вскрикнул дядька Ваня. Но молчал.
С бухающим сердцем дядька Ваня подкрался к окну со стороны. Приник к стене. Теперь он видел лицо в профиль, плечо, руку человека и небольшой нож в этой руке... В эту минуту человек встал на завалинку. И всматривался в темь комнаты. Больше всего дядьку Ваню поразило это его лисье спокойствие дядька не выдержал и крикнул:
- Я вам покажу!.. Марья, дай топора! я вот сейчас...
Тот человек спрыгнул с завалинки на землю, и не спеша - не спеша! - они ушли. Дядька Ваня стоял, оглушенный собственным криком, и вглядывался в темноту. Ушли?.. И опять била та нехорошая дрожь. Тяжело ступая, он прошел к шкапчику и выпил водки - он не закусывал, он опаленно отдыхивался и трясущейся рукой вытирал губы. "Да что ж это я дрожу?" - удивился он самому себе. Раза два под окном слышался свист. Надо было бы одеться, но сил не было. Так он и просидел с одеялом на плечах, пока не забрезжило.
Наутро ему стало стыдно своего страха.
- Ну что? Были? - спросил Сашук Федотов, когда шли на работу.
- Были.
Сашук покачал головой:
- Надо, может, мужичков кликнуть?.. Или, может, милицию позвать?
- Да будет тебе.
- Ну хоть давай я племяшу скажу. Он в милиции, при оружии, а придет просто как родич. И тут дядька Ваня не выдержал:
- Не надо, Сашук. Ни мильтонов и никого других. Надо, чтоб все тихо. Я, понимаешь, убил... Из-за дерьма человека убил.
- Как убил?
- Да уж случилось...
Сашук Федотов внимательно выслушал и глубокомысленно сказал:
- Я ведь чувствовал, что ты где-то хвост им прижал. Я, правда, сначала на Зинку Тюрину думал... Ты ведь у нас хитер в этих делах...
- Какая к черту Зинка! - вспылил дядька Ваня. - При чем здесь она и они?
- И верно, - вздохнул Сашук. - Я как-то не подумал об этом.
Сашук устроил на работе так, что дядька Ваня смог поспать, - за него подежурят часа два или три. Тут же, на ватнике, постеленном на широкую доску, прижавшись к стене и дыша соляркой, дядька Ваня лежал с полчаса. Но уснуть не уснул. Сел, поджал ноги и смотрел перед собой. "Бу-бу-бу", стучали компрессоры. А он смотрел перед собой и все обдумывал вдруг пришедшую мысль. Мысль была и проста, и хороша.
Но в завкоме ему сказали четко:
- Отпуск?.. Ты с ума сошел. Надо было раньше об этом думать.
- Раньше не раньше, а я уезжаю.
- Я те уеду! - закричал пошедший Калабанов. - Мы народ на лето распустили, планировали - ты понял? Работать кто будет?
- А ты поменьше на мотоцикле своем гоняй - вот и найдется кому работать! - И дядька Ваня хлопнул дверью. Вышел. Ответить-то он ответил, и неплохо, но и уехать не уедешь, это тоже было ясно. Да и злость появилась неужели испугался? Плевать он хотел. Не испугался их в лесу, не испугается и еще раз. Тут главное выдержка. И для начала дядька Ваня спокойно доработал свою смену.
Главное, было чем-то заняться до ночи. И не думать. Он оглядел удочки, но идти к реке на вечернюю зорьку и, значит, возвращаться ночью - нет, этого как-то не хотелось. И тогда он вспомнил Зинку Тюрину. А что? - тоже дело. Дома он хорошенько выпил водки и двинул к ее бараку. В груди разливалось тепло, дядька Ваня улыбался.
Он дошел к тому бараку, где жила Зинка с мужем. Надо было как-то ее вызвать, а березнячок - у речки - это ж совсем рядом. Бабенка это дело любила. Стоило мужику быть покрепче и лицом поглаже, глаза ее тут же выдавали ему всю правду.
Дядька Ваня прошелся мимо их окон и призадумался - как зайти, под каким видом? Муж Зинки, голубоглазый гигант слесарь, был человек доверчивый, с сердцем ребенка. И понятно, ей верил. Однажды, когда Зинку накрыли с Дубининым, голубоглазый силач спросил, заплакал:
- Он изнасиловал, что ль, тебя?
- Ага. Ага. Так и было. - Что еще могла сказать Зинка?
- Эх, горе горькое. А стыда-то сколько... Ладно, подавай заявление.
- Куда?
- В милицию... Или не надо? - удивился силач и снова заплакал.
Заявление подали, и Дубинин залетел на пять лет, не больше и не меньше - ровно на пятерку... Дядька Ваня еще раз прошелся под окнами. Немного поколебался. Но затем решил: "Небось второй раз ей в этом деле не поверят!" - и он вошел в барак, а затем стукнул в дверь.
- Здорово, слесарь, - сказал он. - Ты за грибами не ходил?
- Не, - сказал тот, выпучивая от неожиданности свои голубые очи.
Зинка молчала - чистила рыбу.
- А мне сказали, ты ходил. Брешут же люди. Ну извини. - И дядька Ваня ушел.
Через три минуты выскочила Зинка.
- Мой все удивлялся, - заулыбалась она дядьке Ване. - Никогда, говорит, Ванюха ко мне не заглядывал, даже в праздники... А за грибами, между прочим, мой не ходил ни разу в жизни.
- Может, с тобой сходим? - набрав воздуху в грудь, решительно сказал дядька Ваня.
- Я?
- А чего ж. Сходим да наберем! И дядька Ваня заиграл серыми глазами. И захохотал: "Га-га-га-га..."
- Какие там сейчас грибы! - фыркнула Зинка. Это уж ее дело было такое отказываться.
- Да тут они. В этом березнячке.
- Какие еще грибы... Скажешь тоже! - смеялась она.
- Да нам много их и не надо, - улыбался дядька Ваня. - Штучки три найдем и по домам. Если подряд, это ведь быстро. Часа не займет.
Она еще помялась и поломалась. "Ну только не сейчас. Завтра. Ближе к обеду... И чтоб не опаздывать. Раз уж уговор - значит, не опаздывать", сказала и повернулась. Ушла. Дядька Ваня, чувствуя в теле выпитое, провожал ее глазами. Эх, баба. Не понимает момента!.. До завтра еще дожить надо!
Но настроение было ничего себе - славное настроение. Он еще прикупил водки, набрал в запас еды, позвал к себе Сашука Федотова, и они вдвоем сели за обильный стол.
- Вот прямо тут к окну и подходили? - спрашивал Сашук.
- Прямо тут. Думают, у меня выдержки нет...
- Выпьем?
- Давай!
Выпили, и Сашук стал высказывать любимые свои мысли:
- Я всегда говорил, Ваня, с семьей разлучаться нельзя. Вот не останься ты один, ничего бы не случилось. Верно? - Сашук продолжал: - Семья - это как пашня. Тут надо пахать и пахать. Жена и семья - это все. Это в жизни самое-самое, Ваня!
Сашук всплакнул и протер глаза. Жена была от него через три стенки барака, в пятнадцати, можно сказать, шагах, но ему казалось, что он сейчас один, а жена далеко, и потому он как-то особенно любил и жалел ее. Выпили за жену Сашука и вообще - за семью. Запели песню.
Через стенку им постучали - ночь уже.
- Цыц вы! - крикнул дядька Ваня. Они стали петь потише, но зато уж пели вволю. Сашук сказал:
- Ладно. Я с тобой, Ваня, останусь... Встретим их как надо.
- А знаешь, какая у меня мысль, Сашук?
- Ну?
- Вот жду я их. Знаю, что придут... И смелости тоже хватает. А нет-нет и мысль приходит: им-то терять уже нечего, а у меня дети.
- Это правильно, Ваня. Это очень правильно. Семья - это самое-самое.
- А с другой стороны: сколько ж их можно бояться?
- Тоже верно, Ваня. Очень верно.
- Вот то-то и оно!.. Ну, еще песню?
Первым захрапел Сашук. Он как сидел на кровати, привалившись к стене, так и заснул - только голову свесил и такие рулады выдавал сдавленным горлом, что дядька Ваня несколько раз просыпался. И опять засыпал, сидя и мало-помалу со стула сползая... Голос среди ночи был очень ясный и все тот же - лисий:
- Или спишь, родненький?
Дядька Ваня тут же открыл глаза. Сашук похрапывал. В окне был виден темноватый силуэт человека.
- Не боишься, родненький?
- Давай, давай, собаки. Что случится, то случится. - И дядька Ваня встал.
Он двинулся прямо к окну, заводя кулак в сторону для удара. Тот не стал дожидаться - спрыгнул с завалинки. И теперь они маячили там, в темноте.
- Га-га-га-га! - захохотал дядька Ваня. - Что, собаки? Или боязно?
- А может, выйдешь к нам, родненький? - ядовито, но уже не так уверенно произнес голос.
Дядька Ваня схватил топор из угла и прыгнул прямо в окно. Те побежали в близкие кусты, он за ними. Он уже настигал и, сжимая топорище, замахивался для удара - и тут бахнул выстрел. Почти в упор.
Те убежали. Была тихая и звездная ночь. Дядька Ваня, придерживая живот, полный самодельной крупной дроби, постоял, как бы подумал, затем поднял топор, который он выронил после выстрела, - и вот так, прижимая топор к животу, согнувшись почти вдвое и скрипя зубами от боли, вернулся домой.
Он сел на стул и позвал:
- Сашук.
Тот спал, похрапывал.
Дядька Ваня посидел молча, затем стал бранить себя:
- А еще солдат называется. Выдержки не хватило. Дурак...
В бараке первой от выстрела проснулась жена Сашука Федотова. Ища мужа, она вбежала к дядьке Ване и, мало что поняв, заголосила:
- Ой, убили... Ой, добрые люди, убили!
Тут только проснулся и Сашук. В комнату входили заспанные и наскоро одетые мужчины барака. Калабанов на своем ревучем мотоцикле помчался в город за хирургом. Дядька Ваня поднялся со стула и, все так же прижимая топор плашмя к окровавленному животу, медленно перешел к кровати и осторожно лег на спину. Он опять бранил себя:
- Выдержки не хватило. Детей сиротами оставил. Дур-рак!..
К утру он умер.
Ключарев сидит у себя дома. Ночь. Он читает статьи, которые взял у Рюрика, - дело скучнейшее, утомительное... Глаза устали, и Ключарев начинает ходить по комнате взад-вперед.
- Майк, а Майк! - вдруг зовет он жену. - Может, поедем в Старый Поселок?
- Витя, как решишь, так и будет... Ты же прекрасно знаешь - я не сторонник и не противник. Майя ответила и продолжает лежа читать книгу. Ключарев продолжает ходить:
- Я не говорю, что здесь плохо. Здесь хорошо. Но, Майка, ведь жизнь проходит, и умирать все равно придется. И ведь не хочется в конце пожалеть, что ты чего-то не сделал...
Ключарев умолкает. Ночная коротенькая вспышка прошла, и он опять садится за стол. Он уже работает, когда жена вдруг поднимает глаза от книги:
- Витя... Ты серьезно все это?
- Где уж мне серьезно! - машет рукой Ключарев. Он и сам хотел бы знать, серьезно ли. Так и останется разновидностью ностальгии, тоской по родимому месту.
Глава 6
Ключарев идет с работы - солнышко! хорошо! - и не всегда же быть той мысли, что домашние заботы - это, мол, как пашня и что пахать надо. Сейчас это не волнует, не та струна. А вдуматься, при таком вот греющем солнце, то ведь и в домашней пахоте удовольствие есть. Оно, конечно, тяжело и напряжение, и денег все нет, и все спешишь, затыкаешь дыры, но ведь отчасти в душе уже понял, что конца этому не настанет. Так было, так будет. И в общем-то не ропщешь. И уже не фантазируешь, что вот-де вырастут дети и квартиру оплатим и что не жизнь будет, а мед.
Ключарев как раз вошел в гастроном - он придирчиво выбирает вино. Это уж как-то само собой, что к Наташе Гусаровой приходить с "хорошим" вином. И апельсины. И торт. Это, конечно, минимум, то есть вино и апельсины, но все же (и это подтвердит даже Майя) прийти к Наташе уже не стыдно. Ключарев думает о "сверх" - не купить ли шпрот?.. Денег, вообще говоря, мало. Ключарев колеблется,
прохаживается по магазину, сталкивается с людьми - наконец решается. Шпроты куплены и, громыхнув банкой о банку, улеглись в портфель. Но теперь у щедрости отрастают крылья. И вот на этих, пусть небольших (весьма небольших), крылышках щедрости Ключарев летит - влетает! - еще и в книжный. Неплохой этот книжный. Конечно, немного пустовато, но жизнь есть жизнь, и, переплатив знакомой девушке за прилавком рублик (глаза у нее большие, иконные, и, о Господи, до чего голубые!), Ключарев покупает Эдгара По в серии "Литературные памятники".
- Свой экземпляр вам отдала, - вздыхает о книге продавщица с голубыми и юными глазами.
"Да ведь я тоже свои деньги отдал", - хочется сказать Ключареву, но, ясное дело, он молчит. И еще ясней, что ответ этот, шуточка, "бон-мо" - для других, и сегодня же вечером в веселой компании Наташи Гусаровой все это будет повторено и оценено. Ключарев выходит из книжного магазина совершенно счастливым. Эдгар По в отличном издании - это уже не подарок, а дар. И Ключарев это понимает.
Запоздалая скупость делает свой последний (из самой глубины нутра) и уже смешной наскок - хочется оставить книгу себе. Но Ключарев справляется с этим. Справляется и утешает самого себя: дарить - это ж прекрасно, это ж не комплимент говорить.
И к этому времени Ключарев уже пришел домой.
- Ну накупил! - объявляет он громко с порога. И добавляет, как когда-то говаривала полузабытая и мрачная тетка Маруся: - Скупился полностью! - Что значит - потратился, а еще точнее - растратился вконец.
Из кухни в ответ несется радостный клик. В этом отношении жена Ключарева истинная женщина, с большой буквы, - покупки ее не угнетают. Когда вдруг и с размахом тратятся деньги, она это любит.
- Что? Что купил? - Она кричит с кухни, она не видит.
- Да вот. Кое-что.
Майя выглядывает, смотрит. Она уже видит вино. И апельсины из темноты прихожей брызжут светом и бьют Майе в глаза. И в ее глазах, ответно и как бы отраженно, вспыхивает радость.
- Что?.. К Наташе идем?
Наташа как раз звонила Ключареву, сказала, что сегодня организуется ее день рождения, хотя число и не совсем то. Так что все ясно. Но от внезапности этого "К Наташе идем?", от избыточного счастья жены Ключарев чувствует малую толику обиды. И будто бы колеблется:
- Почему к Наташе?.. Можно к сестре Анечке.
- Нет уж. Давай к Наташе, а?
Майя подходит к нему как бы умоляя, руки у нее белые от муки и творожной массы - она не может прикоснуться, лишь заглядывает в глаза:
- Ну пожалуйста, ну не спорь... А к сестре Анечке сходим на днях. Я тебе обещаю.
Этот тон устраивает Ключарева гораздо больше. Поломавшись для вида, он соглашается идти к Наташе - более того, сообщает, что она специально звонила насчет сегодняшнего вечера.
- Ах, такой-сякой... Что ж ты меня разыгрываешь?! - И Майя бросается мыть руки.
Затем бросается к соседям. Чтоб они часов в десять заглянули к Ключаревым и уложили Дениску и Тоню спать. У Ключаревых это дело с соседями давно взаимное и давно безотказное.
И вот, уже что-то напевая, - с соседями решено, все ясно, точки расставлены, - Майя начинает одеваться. Она хочет выглядеть хорошо и лучше, чем хорошо. Все-таки общество. Нечто остренькое. И уж точно, что здесь есть разница: сестра Анечка - это сестра, а Наташа Гусарова - это другое... Ключарев снисходительно смотрит, как она одевается, - женщина!
Понятно, что за Наташей жене не угнаться, да она и не очень пытается. Но пытается, это тоже понятно. Когда иной раз они с Наташей секретничают и что-то такое обсуждают шепотком, Ключарев смотрит на них, как на хорошеньких близняшек. Наташа, само собой, первая скрипка. Наташе явно доставляет удовольствие общаться, шептаться с Майей и быть при этом чуточку лучше ее но, разумеется, Наташа никогда и ничем не подчеркивает это, знает свою слабость. Умница.
И вот Ключаревы выходят из дому (дети, оставшись одни, безмерно счастливы). Ключарев отмечает между прочим:
- К нашему возвращению что-нибудь расколотят.
Но думает он уже не о детях - вечер есть вечер. У Наташи хорошо. Посидеть. И выпить. И с Володиком Зарубиным сцепиться. Когда-то давно (года четыре назад, самое начало!) он считал Володика своим антиподом. Ну, то есть тем самым человеком, кто жить тебе вроде бы мешает и почему-то всегда отыщется и колет глаза своим существованием. И, как обычно в таких случаях, человек этот кажется нам более удачливым, бог весть каким остроумным, и легко-то ему живется, и любят его, и все такое. И, разумеется, Ключарев считал себя зато более глубоким. А Володика более легковесным. Считать своего антипода существом легковесным - это даже как-то в природе всякого человека. Самозащита... В разговорах Ключарев называл его "мотыльком" (а Володик в свой черед Ключарева как-нибудь "дубком", а может, и без уменьшительного суффикса). Молодые были! Все прошло. Сейчас Ключарев, пожалуй, даже живее Володика в речи. Отшлифовался. Точнее сказать, друг друга отшлифовали. И теперь они с неподдельной радостью встречают друг друга - вот Ключарев придет, и Володик, подмигивая, тут же подойдет и скажет:
- Ну что? Поспорим сегодня?.. Потешим публику. Кто будет нынче агрессивным - ты?
- Мне все равно, - засмеется Ключарев.
- Давай сегодня ты. Играй белыми... Я в последние дни ни книжки не прочел, ни слухов не слышал.
А Наташа Гусарова, тут же, в прихожей, помогая Майе переобуться, погрозит им пальцем:
- Ну-ну! Не договаривайтесь!.. Какие, ей-богу, циники. А мы-то их, Майя, всерьез принимаем...
Но Володик уже обнимает Ключарева за плечо и ведет к выпивке - а там уже стол, голоса компании, шум, - и Володик смеется:
- Значит, ты сегодня белыми? Только ты уж не дави меня очень. Когда Анна Павловна (то есть Шерер из "Войны и мира", то есть в данном случае Наташа Гусарова) хвалит тебя за победу в споре, у меня прямо сердце кровью исходит...
- Нет уж. Буду давить, - смеется Ключарев. - У меня, может, тоже кровью исходит, когда хвалят тебя.
- Выпьем?
- Ага... Смотри, винцо-то какое приволокли. Кто это от щедрот выделил? Небось муж Наташи. Ишь, гурман!..
Придут, разумеется, Логиновы. Они не пропускают у Наташи ни вечера занятная пара. Симбиоз мечтателя мужа и ловкачки жены. Муж трудяга и мечтатель, утоп в мистике, что-то вроде Ивана Серафимовича. А жена реалистка - дальше некуда. В ее глазах беспрестанно что-то мелькает, будто бы цифры, будто бы рубли.
К этой минуте Ключаревы (они идут к Наташе) как раз переходят дорогу машины мчат одна за другой. Вечер тепл и благодатен. Истинно лето... А перехода пока нет. Красный глаз. И в ожидании Майя вдруг спохватывается:
- Знаешь, получается, что я Наташе ничего не подарю.
Молчаливый выразительный жест Ключарева (он потряхивает портфелем с покупками) не успокаивает Майю. Она говорит:
- Это ведь ты купил... А нужно было бы нечто. От меня лично.
- А Эдгар По?
- Наташа не поверит, что я купила.
- Ну почему же? - И Ключарев рассказывает ей тайну переплаченного рубля, нехитрую технологию книжного прилавка.
Майя смеется:
- Никто не поверит, что я сумела это проделать! - Она задумывается и быстро находит женский ход. - Скажем, что купил ты... Но, дескать, целых два дня я заставляла и гнала тебя из дома, чтоб ты это сделал.
- Давай скажем, что гнала неделю.
- Нет-нет. Ты или шутишь, или просто не чувствуешь правдоподобия. Именно два дня. Ты запомнил?
Ее шаг становится упругим, она частит и чуть забегает вперед Ключарева. Она замолкает, опять уносясь в какую-то облачную высь, где она мысленно общается сейчас с Наташей.
А еще Ключарев думает о том, как бы кто-нибудь тоже не купил Эдгара По. Но маловеро-ятно. Разве что Логинов, разговор-то был, а у Логиновой память кассы. А как она бранила своего мужа за мягкость, за "комплекс неполноценности". Володик Зарубин возьми и ляпни:
- Неполнотельности?
Худощавая Логинова вспыхнула - что и говорить, неловкий выпад, у Володика оно само ляпнулось. И все примолкли. Ясно было, что словцо хлесткое, а еще яснее, что оно запоминающееся, притом надолго, - и все примолкли и как бы глядели на них с укором: "Как же ты так, Володик, можешь?.. О своих ведь. О наших. Так, брат, нельзя, нельзя".
Усольцевы. Вот кто тоже придут. Усольцев - известный антрополог. Но рта не раскроет, молчун. И очень переживает за Ключарева, когда тот спорит с "атакующим" Володиком. Усольцев не всегда понимает, что это лишь спор, словесная, в сущности, игра, - сидит он весь красный, чуть ли не оскорбленный, если Ключареву не далась контратака.
- А вот в древности... - Изредка Усольцев все же заведет речь о своих любимых шумерах, речь его с запинкой, нежная. И с такой же вот запинкой, такими же секундными прерывистыми волнами на слушающих начинает накатывать дыхание древней цивилизации. Тут тебе всё: и письменность, и черепки посуды с привкусом быта. И порядки. И личность. И яркие всплески человеческой мысли, затем перешедшие в тупые и обязательные обряды. Легенды и факты. Левые и правые. И то странное, невымученное счастье побега, которое хотел найти Гильгамеш.
- Тсс... Не мешайте!
Володик Зарубин или он, Ключарев, по инерции нет-нет и пытаются вставить граненую шутку, но даже на Володика, на общего любимца, Наташа Гусарова цыкает и (безобидно, разумеется) грозит пальцем:
- Тсс...
Часто - но не каждый раз - приходит Хоттабыч. Он Потапыч, Павел Потапыч. Хоттабычем его стала звать Наташа, за ней все остальные. Ему за пятьдесят, седой, маленький телом и желчный доктор наук. Он обычно приходит позже других, входит с улыбкой милого, но желчного старца и произносит негромко:
- А-а... Молодые якобинцы.
Это он так подсмеивается над спорящими. Он довольно умен и начитан, но умного не скажет (свойство всех желчных - он не успевает вглядеться, а желчь уже торопит его отреагировать). Не придирается он только к мужу Наташи Гусаровой, поговаривают, что он платонически в Наташу влюблен. Впрочем, чего не поговаривают.
- Вот и пришли! - радостно говорит жена Ключареву.
И верно - пришли. И Майя шепчет:
- Только, Витя... не давай языку воли. Ты же знаешь свою слабость. К тому же в последнее время ты что-то нервничаешь.
Звук открываемой двери поторапливает ее слова и глушит их.
День рождения Наташи похож на все другие вечера, не хуже и не лучше. Ну, может, чуть только поярче за счет процедуры подарков. Да еще сама Наташа хороша, как никогда.
И невольно, на порыве, Ключарев шагнул к ней с поздравлениями и объятьями. И Логинов тоже.
- А ну, притушите глаза, - прикрикивает на них Наташа, подмигивая Майе. - Бессовестные, нельзя так смотреть!
- При мне можно, - смеется Майя.
Веселье за столом идет вовсю. И рюмки хороши. И вино тоже. А в самом конце вечера Ключареву дают научную работу на отзыв. Статью какого-то милого молодого человека.
- Да ты помнишь его, помнишь! - кричит через стол Наташа. - Он был у нас раза два...
- Я запоминаю только с третьего, - смеясь, упрямится Ключарев.
Наташа протягивает статью Володику, а он - через стол - Ключареву. Володик при этом сокрушается и заявляет, что не переживет. Возможно, он и в самом деле слегка завидует тому, что именно Ключарев окажет какую-то услугу, а не он, не Володик. Что делать, у каждого, кроме личных качеств, есть, так сказать, свой вес. Ключаревский "вес" как раз в том, что он кандидат наук и работает в достаточно известном и звучном НИИ.
- А я-то, идиот, с самой юности связался с этими тупицами историками. Жизнь им отдал. И вот теперь никому не нужен! - нарочито убивается Володик, веселя окружающих.
Володик вдруг заводит речь о теории Пиаже (воспитание ребенка - и потому к теме равнодушных нет), и уже через пять минут они с Ключаревым схватываются, как на ринге. Володик явно в форме. Ключарев, выложив локти на стол и слегка сбычившись, обороняется, пропуская один удар за другим. И уж слишком тема трепещуща. Ну хоть бы кто-нибудь тост предложил - передышка, а там, глядишь, случайная обмолвка Володика, а там контратака. Ключарев внимательно следит за речью и пока отступает на коротких тычковых фразах.
Приходит Хоттабыч, как всегда припозднившись. Он садится к столу, прислушивается и улыбается:
- А-а... Юные Макаренки.
А через неделю - и это тоже вечер после работы - Ключарев звонит Наташе Гусаровой и сообщает, что статья милого молодого человека оказалась никудышной.
- Как?.. Совсем плохая?
- Кое-что, Наташа, там есть. Но мизер.
Наташа обижена. Ключарев спешит сказать, что он, ясное дело, попытается еще что-нибудь в этой самой статье выискать. Но едва ли найдет. Найти он не обещает - нет там ничего.
- Понимаешь, Витя, - голос у нее подавленный, - я не представляю, как мы с тобой оправдаемся... Ну, вообще. Перед нашими... Неловко.
- А я не знал, что перед кем-то надо оправдываться, - говорит Ключарев и зевает, он утомлен работой, вечер.
Он собирается смягчить и сказать, что ладно, посмотрим, пораскинем мозгами. Но вот тут-то и сказалась та самая фраза:
- Не перед кем мне оправдываться, Наташа, - говорит Ключарев неожиданно для самого себя и довольно размашистым тоном.
То есть он тут же и почувствовал, что и фраза не его, во всяком случае не вполне его, и этакий тон. Но кто ж знает, как иной раз залетают в речь интонации и обороты. Это ж неведомое и, в сущности, не всегда нами управляемое.
А он еще и повторил ей:
- Не перед кем мне оправдываться, - и побыстрее закончил разговор, не желая пикироваться. Так что фраза случайной была. От усталости, видимо.
Четыре грузовика натужно вывозили грунт. А больше других бегал и суетился Сысоев, по прозвищу Хромой Кирщик.
- Дров мало! - кричал он. И опять: - Дров будет мало!
Его время еще не пришло. Он готовил вар - заливать и обмазывать подходы труб, которые закладывались вместе с фундаментом. Но пока от него отмахивались - куча дров, неужели мало?.. Медленно, как лоснящийся крупный зверь, прохаживался Калабанов в своей кожанке. Он поигрывал скулами или вдруг часто гонял желваки и, расставляя людей, говорил негромко, властно:
- А ты стань сюда... Не надо толпиться.
Отец Ключарева уже копал. Он влез в какую-то ячейку и ровно, моторно бросал землю - и Ключарев-мальчик помнит, как отец уже из углубления, снизу вверх, подмигнул ему.
Работали самые разные люди - нервничали, меняли лопаты и не сразу находили место. Зинка Тюрина была в ватнике, вся со спины в глине, и в белой кокетливой косыночке; бойко швыряла землю, поминутно оглядываясь, и все поправляла свою белую косыночку. Был еще пяток солдат, выпрошенных Калабановым из недалекого гарнизона. Плюс пяток татар из татарской деревушки. А в основном работяги Поселка и их жены - это довольно большое, мощное скопище людей, и сам Калабанов тоже был уже в грязи, в глине. Шел мелкий моросящий дождь.
Был тут и Джордж Миша Аблеухов. Штамп американского инженера тех времен: расхаживал в клетчатых брюках, подобранных у ботинок, и курил сигару. Он неплохо знал по-русски (кровь бабушки) и что-то говорил Калабанову, а тот вежливо выслушивал, но махал рукой:
- Не беда.
Земля - уже с большой частотой - комьями взлетала из углублений, как бы гроздьями черного жирного салюта.
- Эй-раз! Эй-два! - начал выкрикивать дядька Ваня, скаля зубы.
Хаотичные и случайные взмахи превратились в ритм. Все ускорилось. Грязь. Глина. Взмахи рук. Эй-раз, эй-два!.. Косыночка Зинки Тюриной съехала на спину, и дождь тут же мелко ее припечатал.
И тут раздался крик Хромого Кирщика: "Даю огня! Даю огня!" - о Кирщике как-то забыли. А вар уже был нужен. В то примитивно-строительное время "кирщик" - это была не совсем профессия, а как бы искусство. И вот артист своего дела, колченогий и ярый, метался, прихрамывая, из стороны в сторону и кричал:
- Даю огня!.. Да что же вы, дьяволы! Дров мало!
Под огромным чаном с глыбами застывшей смолы и точно поплыл дым. Затем огонь. Пламя усилилось, стало метаться, дрова прогорали в одну минуту. Спешно несли заготовленные доски и чурбаки. Дядька Ваня, хрипло кликая на помощь, в одиночку волок рассохшиеся сани, брошенные здесь еще зимой. Кто-то нес кадушку. Наконец, как выход, прибыл грузовик со старыми шпалами. Огонь гудел. В сумраке пламя металось и приковывало глаза. Люди столпились у огня. Грязные, не меняя одежды, но уже изменившиеся в отблесках - другие люди. Они молчали. Багровые. Яркие. И лица были в той самой вековечной торжественно-трагической окраске. Хромой Кирщик, как трудяга черт, то спрыгивал, то опять влезал и, помешивая варево, колдовал в своем чану. Все остальные стояли завороженные. И маленький Ключарев беспричинно притих, смотрел на это язычество.
И вот - второй разговор. И опять же по телефону. И друг друга в эти дни они не видели.
- Понимаешь, Наташа, - говорит Ключарев. - Это ведь даже не статья, а...
- Понимаю, - подхватывает она с иронией. - Статеечка.
- Именно так, - объясняет Ключарев. - Это могло бы сойти в качестве, например, дипломной работы. Не больше. Скажем, статья студента пятого курса.
- Да, - говорит она. - Может быть, четвертого?
- Нет. - Ключарев слышит ее скрытую злость и тут же слышит свою злость: - Нет. Пожалуй, все-таки пятого.
И он повторяет, что написать хороший отзыв он никак не может.
- Наташа, работа у него слишком слабенькая. Я могу подсказать ему, что и как доработать. Могу дать совет. Могу даже позаниматься с ним. Хотя времени у меня... - Ключарев вдруг закашливается, такого обязывающего "позаниматься" он сам боялся, и вот оно уже сказалось.
Наташа молчит.
- Чего ты молчишь? - спрашивает он, ощущение отвратительное: сейчас ему на шею посадят какого-то милого болвана, и Ключарев будет писать за него работу. - Чего ты молчишь?
- Я чувствую - ты не хочешь написать отзыв.
А это уже делает промах Наташа - ей бы ловить минуту, хватать момент, когда Ключарев согласился "позаниматься". Но она ведь тоже нервничает, торопится в словах и... упускает мгновение. И упрямо настаивает:
- Я чувствую - ты не хочешь написать отзыв.
- Ты чувствуешь правильно.
- Если ты не помогаешь нам, то ведь ты нам тоже не нужен.
- А-а, - говорит Ключарев. - А я-то, грешным делом, думал, что тебе интересно, когда мы с Майей в гости приходим. Я думал, что тебе это приятно. Мне казалось... - И Ключарев уже умышленно откашливается, отчасти давя и отчасти пряча волнение. - Мне казалось, что, приходя к вам, я иной раз рассказываю остроумные вещи.
- Ты преувеличивал. Ты думаешь, мы приглашали тебя и твою жену из-за твоих умненьких высказываний?
- Вот именно, - говорит Ключарев. - Надо ж было мне так ошибиться.
- В следующий раз не ошибайся, - говорит Наташа, ставя точку.
Гудки. И это даже как-то невероятно, что вот так разом все кончилось. Тем не менее факт - и Ключарев тоже вешает трубку.
И вот вечер. И ужин... Ключарев укладывает злополучную статью в конверт, чтоб отослать Наташе (не везти же к ней домой, это значило б начинать разговор заново), - он укладывает в конверт, заклеивает и надписывает адрес.
Майя рядом, она вертит в руках тюбик с клеем. Она спрашивает, и это она спрашивает уже в третий раз за сегодня:
- Ты правда не можешь ему написать хороший отзыв?
- Не могу. Ей-богу, полнейшая чушь.
- А что Наташа сказала?
- Тоже чушь городила.
- А я уверена, что ты, кроме всего, еще какую-то гадость ей сказал.
- Я?
И тут уж Ключарев (он поначалу не хотел этого делать) выкладывает жене разговор со всеми оттенками. "Приглашали тебя и твою жену" и тому подобное.
Майя молчит, губы поджаты, признак глубокой обиды.
Наконец она тихо произносит:
- Мы... мы не пойдем к ней больше.
- Это уж само собой. Особенно если учесть, что нас больше не пригласят.
После ужина Ключаревы купают детей. Пока раздевали - ничего. Но в ванной младое племя, чуя какое-то скрытое нервное напряжение, разгулялось и будто обезумело, визг, крик, от всплесков вода заливала пол. Жена шлепнула Тоню, а Ключарев (независимо от жены, так уж получилось) вдруг дает подзатыльник Дениске. Дети ревут от мыла, от шлепков, от непонимания. Майя быстро обтирает их, она молчит, ни звука. А Ключарев тащит их одного за другим в постель.
Обида на Наташу (женщина задела женщину) не проходит, Майя не может заснуть. Майя лежит в постели, свернувшись в комочек, отдалившаяся, чужая.
- А чему, интересно, ты радуешься? - спрашивает она, а темнота комнаты как бы подчеркивает и повторяет вопрос.
- Я вовсе не радуюсь, - отвечает Ключарев. Ночь. И дети уже спят. Тишина.
На следующий день деликатный и мягкий Иван Серафимович входит в отдел (уже в который раз) и все тем же ровным голосом говорит:
- Виктор, вас к телефону.
Ключарев идет в кабинет начальника; вообще говоря, занимать телефон это не порядок. Тем более, что Иван Серафимович всегда тут же выходит, чтоб дать поговорить. Ключарева больше бы устроило, если б начальник раздражался, а не выходил из кабинета с этой подчеркнутой ровностью. А звонит Володик Зарубин.
- И ты никак не можешь дать отзыв?
- Нет.
- Зря ты уперся, какого черта пускать пузыри!
- Оно как-то само получилось.
- А вот я бы дал отзыв, дурак все равно дураком останется. Я бы ему дал отзыв. Жаль, я не математик.
- Я тебе сочувствую.
А это уже звонит Логинова:
- Витя... Говорят, на тебя какой-то бзик напал?
- Да, - соглашается Ключарев.
- А ведь ты злишься. Если злишься - не прав. Хочешь расскажу, что в тебе сейчас происходит? Я разложу тебя по полочкам. И ты сразу поймешь, какой ты есть. В тебе, Витя, есть черточка...
- Ладно, ладно, - грубо обрывает Ключарев. - Я знаю, какой я.
Ключарев сидит минуту и другую, трубка положена, - в кабинете начальника пусто и тихо, Ключарев дослушивает как бы повисший в воздухе свой голос. Знаю, какой я. Тут-то и неправда. Или не вся правда. И ясно, что оно подтачивает. То есть ведь чушь, ведь наплевать, и это уж точно, что Ключарев проживет без Наташи и ее приятелей, - ан все же задело. Подтачивает. То есть начинаешь понимать, что когда-нибудь захочется же к ним пойти. Не сейчас, это понятно, что не сейчас. А как-нибудь после...
- Ключарев!.. - раздается голос Бусичкина, он просовывает голову в дверь кабинета.
- Иду, иду.
А это уже на неделе. Строгая хронология тут не существенна, но дня три или четыре прошло. Вечером. Дома. Жена Ключарева: "Я все-таки не могу поверить, не верю!" - решается позвонить Наташе Гусаровой. Сердечко Майи уже помягчело и отошло. Ключарев не вмешивается: звони... Майя начинает исподволь. Она спрашивает, не помнит ли Наташа, где, в каком месте был куплен когда-то Дениске костюмчик. "Мы с тобой вместе покупали, Наташа. Не помнишь ли, в каком это было магазине?" - "Не помню". И Наташа Гусарова, едва извинившись, бросает трубку, как раз когда Майя открыла рот для следующей фразы.
Ключарев смеется:
- Разрыв стал фактом, уже подтвержденным. Ссора на много лет. Повесть об Иване Ивановиче с Иваном Никифоровичем. - И еще, добавляя в голос нежности: - Бедненькая. И как же она не вспомнила, где находится ваш любимый магазин?.. Ай-яй-яй.
- Не юродствуй.
- Бедняжки. Получается, что теперь вы обе не помните, где продают детские костюмы.
Ключарев смеется, но то, что подтачивало, - подтачивает. И как ни верти, а с каждым часом и с каждым днем становится понятнее, что чего-то своего и близкого лишился. По своей воле или по чужой - не о том речь. Лишился. Привычек лишился. Новогодних и других вечеров в компании. Телефонных звонков. Тех самых, и, конечно, лучших, разговоров по телефону, когда просто треплешься с человеком давно знакомым, болтаешь, не подбирая слов, - и тем отдыхаешь. И конечно, Володик Зарубин. И Логиновы. Все это незаметно стало частью жизни. Лишился, а, собственно, ради чего - чего ради?
То есть надо бы объяснение. Себе самому ответ. Вот именно. Он, Ключарев, не какой-то там глобальный мыслитель, ему вполне хватило бы простенького, пусть даже старомодного ответа, дескать, претерпел ради Справедливости. То есть на этом слове он бы вполне сам с собой примирился. И даже не нужно пышности и заглавной буквы. Он бы примирился на простой, на скромненькой - просто справедливости.
Да ведь и тут натяжка. Ведь и простая-то справедливость тут не стреляет. Ведь еще в том телефонном разговоре с Наташей Гусаровой среди прочего Ключарев, и он это хорошо помнит, сказал:
- Наташа, - сказал он ей, - ну что толку в моем положительном отзыве? Ну, допустим, дам я отзыв (я не дам, но допустим). А что дальше?
- А дальше пусть тебя не волнует.
- Да оно, разумеется, не волнует, а все же интересно.
Наташа усмехнулась:
- А дальше кто-то представит к публикации. А дальше опубликуем. А дальше подберем хорошего оппонента. - И она уже с открытой злостью бросила: - Что еще беспокоит твою совесть?
- И он защитит диссертацию?
- Можешь в этом не сомневаться.
Оно, конечно, не так просто, но ведь верно и вне сомнений то, что вместо Ключарева найдут кого-нибудь еще. Он тут же вспомнил двух людей, которые тоже (по профилю работы) могли бы дать отзыв, - они не так сильно дружили с Наташей, но все же дружили, бывали у нее. Вот любому из них и дадут на отзыв. И все равно однажды это дерьмо защитится хоть так, хоть этак. И при чем здесь справедливость? Пусть даже с самой маленькой буквы - в чем она? Уж ради нее, ради этой-то, которая с самой маленькой буквы, куда полезнее поднять пьянчугу на улице. Или отдать часть зарплаты какой-нибудь бедной старухе. Но Ключарев хорошо знает, что не поднимает он пьяных на улице, да и бедные старушки могут излишне не обольщаться. Ответа нет. Еще немного, и мысль Ключарева тонет и гаснет в слишком общей постановке старинных вопросов о Добре и Зле.
И уже другой вечер, но тоже на этой неделе... Ссора с женой. Ссора на ровном месте, из ничего. Вот, дескать, и вечер выдался свободным, а пойти некуда - и все почему? - потому что он, Ключарев, поссорился с Наташей Гусаровой. Ну хорошо, пусть не поссорился, но поладить не сумел, это ведь факт.
- Действительно, - говорит Ключарев. - Действительно, маху я дал. Не захотел дерьмо выдать за прекрасную работу.
- Не впадай в геройство, - говорит жена. - Слышишь. Ненавижу впадающих в геройство. Особенно геройствующих уже задним числом, когда им крыть нечем!
- Почему же нечем?
- Потому что это дерьмо, как ты сам сказал, все равно защитится.
- Но может быть, существует инстинктивная справедливость. Есть я, человек по фамилии Ключарев, - и, соответственно моему инстинкту, есть моя справедливость...
- Ах, личная? твоя?.. А я не знала, что бывает личная справедливость.
- Ну, если ее и нет, то ее не хитро выдумать. Наконец оба обессиленно замолкают. Теорией не придешь к миру. Выдохлись, но не помирились.
- Ладно, - говорит Ключарев, улыбаясь и добрея. - Ладно тебе, старушка. - И после паузы добавляет: - А мы к сестре Анечке сходим. Не убивайся.
- Опять к сестре? Надоело! - взрывается Майя.
И уж тут Ключарев на время не слушает (отключиться - как уши заткнуть), потому что в эту минуту Майя говорит о его, Ключарева, сестре бог знает что. Бранится и наговаривает. Женская нелогичность, в сущности, и есть такие вот вспышки. В раскате эмоции Майя выдает фразу за фразой, прямо чеканка, блистательные перлы озлобленности (разумеется, о сестре Анечке она всего этого не думает и, напомни ей завтра, - удивится). Раньше Ключарев не умел такое выслушивать. Не понимал, даже спорил. Но теперь - дудки! Дыхание глубины. Многолетний опыт брака. Заслуженный опыт. При случае передать молодым... Но иронию он, понятно, сдерживает, он выжидает.
- Ладно тебе, - говорит Ключарев и мягко, и тонко, и вовремя. - Ладно, старушка.
У Майи слезы, разрядка. И понятное ж дело: пашет и пашет - и дома, и на работе, - и конечно же хочется временами куда-то пойти. Самой показаться, других посмотреть. Другие люди, другие глаза и другие слова - оно ведь ей как зеркало, женщина как-никак. Успокоившись, Майя говорит, что, разумеется, Ключарев поступил правильно и честно и что никогда больше они, Ключаревы, в тот дом ни ногой. Даже если их просить станут - ни за что.
- Ни за что!.. Ты понял? - Она остывает и уже расслабляется: - А я-то думала, что мы с ней очень дружны. Я думала, что на нашей-то женской дружбе все и держится.
- А я, - улыбается Ключарев, - был уверен, что все держится на моем личном обаянии.
- Ну ты-то преувеличивал - это понятно. А вот я не ожидала.
Ключарев закуривает, тут уж надо промолчать, преувеличивал он или не преувеличивал.
- Знаешь, - говорит Майя, - для меня все как-то разом обрисовалось. Все по-другому увиделось.
- Я тоже об этом думаю... Это у них как клан. Как неписаные правила клана.
Но жена не об этом - она о другом:
- Нет. Я о Наташе... Какая она вдруг стала вся понятная.
- Деловая женщина.
- Нет. Какая она в себе уверенная.
Домашняя тишь и плюс условный рефлекс вечернего чая делают речь Ключаревых взаимопонятной и взаимоуступчивой. Жена рассказывает о своей работе, прошел отчет. А Ключарев вспоминает, что надо закончить статью Рюрика. Он сейчас же, в ночь, ее закончит, а Майя пусть-ка сделает ему кофе.
- По-турецки кофе, - добавляет он с этаким остаточным смешком (предварительное поджаривание, рецепт Наташи Гусаровой, - даже в житейских мелочах Наташа стала частью их жизни). Ключарев зевает. Затем идет к своему столу, а запах кофе с кухни уже саднит и пьянит ему ноздри.
А это уже поздний вечер - Ключарев отрывается от статьи. Сидит. И мысль о том, что вот ведь он, Ключарев, один остался. Без друзей. Без приятелей даже. А ведь люди, и это понятно, группой живут. Помогают друг другу. Пьют и то вместе. Развлекаются, или дело делают, или, скажем, просто языками чешут. Один защитил диссертацию, другой с женой развелся - и все равно это с кем-то обговаривается. И главное, конечно, помощь друг другу, жизнь не мед.
Так и есть. Этакое взаимное существование. То есть, разумеется, никто и никому клятв не дает и договором не скрепляет, но, видимо, как-то само собой понималось, что если он, Ключарев, приходит к Наташе Гусаровой в дом, "дружим домами, сейчас только так, мой милый!" - то однажды ему придется что-то такое для нее или для них сделать. И не просто любезность, не Эдгара По подарить. А нечто побольше. Н-да. Группа Наташи Гусаровой. Группочки. И не обязательно они со знаком минус или со знаком плюс. Группочки, как люди, - разные. У Ивана Серафимовича его "стариканы", человек пять или шесть. Он без "стариканов" не может и не умеет. Так и живут в большом городе.
У Игорька Ясенева своя группа. Смешно получилось. Встретил он, Ключарев, Игоря Ясенева. Разговорились и покурили. То да се. "Я, - говорит Игорек Ясенев, - в гости иду. К знакомым". - "Сейчас идешь?" - "Нет, вечером. Интересные люди. Мы с женой частенько к ним ходим". - И начал он, Игорь Ясенев, рассказывать. А Ключарев слушал. И получалось: люди действительно интересные. И работы у них любопытные. И биографии с вехами. И как-то даже на слово верится, что там интересно. И он, Ключарев, не очень стал вдумываться, а может, жалобы жены вспомнил, а может, просто поплыл по разговору, - бывает.
- Сводил бы ты меня к ним, - сказал вдруг Ключарев. Сказал, оживляясь и про себя соображая, что ведь и без Наташи Гусаровой обойтись можно. Не клином же свет.
Сказал и видит, что потускнел как-то Игорь Ясенев. "Да можно, говорит. - Вообще-то можно". И мнется. И глаза отводит. И тут Ключарев сам сменил тему разговора. Не навязываться же. Что ж ты мне это самое "можно" цедишь, ведь ты идешь к ним сегодня. Ведь вечером. Ведь сам только что сказал об этом... И, разойдясь с Игорем, Ключарев все думал: чего это он постеснялся меня пригласить? Застыдился? Да уж не настолько я глупее тех интересных людей. И уж точно, что первый-то вечер я просидел бы у них мирно и чинно. Это уж само собой. Может, что-то скромненько и сказал бы, но ведь скромненько.
Так оно и было. Игорек свое право входа в группу оберегал. Дорожил им, правом-то. Потому и не поспешил пригласить. Может быть, и можно было привести в тот вечер Ключаревых, но нужно ли? От добра добра не ищут. А ему, Игорьку, и без Ключаревых там, видимо, хорошо... И тут Ключарев - он уже встал и ходит по комнате - как бы обрывает мысль и решает, что наплевать и что он проживет без этих группок. Не умрет. Они, видите ли, не хотят его, не желают. Ах ты, Господи. Прямо-таки зачахнет он без них. И это он уже чувствует себя личностью, индивидуальностью, которая выживает сама по себе. Шаг Ключарева становится твердым. А в голове под знакомый шум проносящихся ночных автобусов оседает новое, приобретенное в жизни понятие. Уже ясное, прозрачное и звонкое, как упавшая капля воды:
- Клан.
Слово неточное, "группа" лучше. Да и не в названии дело - может, его еще пока не сущест-вует, не придумали. И эта самая как бы расширенная семья, группа, клан, объединение друзей, или как там ни назови, - оно ж в общем-то естественное дело. Жили же когда-то люди родами и племенами. Были охотники. Купцы. Или рыбаки. Или, скажем, жили деревней, хутором, поселком. И в большом городе, в супербольшом, в огромном, потеряв уже прежний смысл и приобретя новые оттенки, конструкция не пропала и не погибла. Она сохранилась, она живуча и, видно, нужна людям. Да и что ж удивительного в том, что в огромном городе, оказывается, существуют свои хуторки, деревни и поселки. Человек знает, что делает.
Глава 7
Ключарев приходит на работу, а там - событие. В верхах наконец приняли решение. Отделу дали такую же трудоемкую чернорабочую тему - фактически продолжение прежней темы, как и предполагал Ключарев в свое время.
- Вот и дождались! - И вокруг слышатся соответствующие разговоры.
Даже Галя Южина растеряна, не жует свои бутерброды, на лице тень. Необходимость черной работы в науке не нуждается в особой защите. Дело нужное, и все понятно. Все ясно. Но обидно. И чувствуется витающая в воздухе коллективная грусть. Состояние небольших похорон. Иллюзии ведь тоже хоронят. Во всяком случае, веселиться нечего - это ясно.
- Н-да, брат, - вздыхает Бусичкин. - Такие-то кораблики!
Бусичкин даже обнимает за плечо Ключарева. Вздыхает. Ключарев соглашается: кораблики действительно скромные, не океанские.
- Зайди к Ивану, - говорит Бусичкин. - Я уже был у него. Он в ужасном состоянии...
Ключарев заходит к начотдела. Он еще на пороге, а Иван Серафимович уже машет рукой: не надо. Только без иронии. Без соболезнований, но и без твоей иронии, ради Бога... И вот по этому жесту начальника (и еще он бледен, прозрачно бледен - это будет держаться на лице весь день) Ключарев понимает, как глубоко тот задет и уязвлен. Точнее, как глубоко и сильно он надеялся. Ключареву тоже не безразлично. Но плакать, пусть даже духовными слезами, он не будет.
- В следующий раз, Иван Серафимович, повезет нам, а не другим...
Начальник горько усмехается:
- Тема на шесть лет.
- И что же?
- Мне не тридцать. Мне пятьдесят два.
Значит, к концу темы ему будет пятьдесят восемь, вот в чем дело.
- В шестьдесят люди еще, бывает, женятся, - говорит Ключарев.
- Ну хватит, ну перестань же!
Он всплеснул рукой, как женщина: он слаб и размагничен ударом. И ясно, что Ивану Серафимовичу больно не от самого удара, перестраиваться - вот что больно. Больно мечтать заново о том, что, дескать, через шесть лет появится новая тема, золотая жила, и только тогда уж я сумею во весь голос, во всю силу... и так далее. Тут-то и беда мечтателей, думает Ключарев. После каждого жизненного щелчка нужно перестраиваться и заново создавать условия для мечтаний - Ключарев любит эту породу людей, это прекрасные люди, быть может, лучшие, но...
- Говорят, что в каждой беде есть свое открытие, - продолжает Ключарев вслух, он выдумывает копеечные афоризмы, утешает Ивана Серафимовича - а мысль идет и по своим путям. (Командировка - вот что должно утешить его, Ключарева. А что? Все равно кого-то нужно посылать в связи с новой темой. Как раз в ту сторону. А он, Ключарев, заодно сможет заехать в Старый Поселок.)
- Иван Серафимович.
- Да, Виктор.
- У меня ведь к вам разговор есть. Конкретный.
Ключарев просится в командировку и получает согласие. (И понятно, что с этой минуты ему хочется быть проще, человечнее, чище.)
Он дома. Он говорит жене, что завтра уедет и что там до Старого Поселка - рукой подать. Ну пусть не рукой. Но ведь близко. И если не сейчас, когда он еще сможет туда съездить?..
Жена согласно кивает: тебе видней.
- Ну что ж. - И вдруг с характерным женским "проламыванием" сквозь все и всех она добавляет: - Ты ведь давно чувствовал, что туда поедешь.
- Я?
- Конечно. Ты знал, что поедешь... Потому ты и психовал последнее время. У тебя с языка не сходило. Ключарев улыбается:
- Любопытно. В этом что-то есть!
И тут же - первая ласточка уже осознанного волнения - он не знает, что делать в такую минуту, куда деть руки.
- Что ли, позвонить?
Живут и стареют родители Ключарева, в сущности, недалеко. С тех самых пор, как Ключарев и его сестра Анечка поступили в институты, родители перебрались из Старого Поселка, чтоб жить поближе к детям, поближе к Москве. Ключарев заказывает разговор, звонит, говорит, что дома у него все хорошо и у Ани хорошо и что вот командировка и так получилось, что он, Ключарев, быть может, заглянет в Поселок. Да, там недалеко... Ключарев нервничает и лишь в самом конце догадывается спросить об их здоровье. Как ты, мама, и как, папа, ты?
Отец не отвечает, он о чем-то шепчется с матерью, а затем, откашлявшись, говорит:
- Понимаешь, сын... Заглянуть бы тебе туда надо. А мы с матерью старые и уже не сможем.
- Не понимаю.
- Конечно, у тебя есть много всяких дел, а я, сын, это хорошо знаю. Но он все-таки твой родной брат...
Ключарев едва улавливает смысл: отец просит во время командировки заглянуть в Поселок и поправить могилку Юрочки, умершего двадцать пять лет назад. Отец говорит с какой-то боязнью напороться на отказ. Текут и скользят витиевато-осторожные фразы:
- ...как-никак твой родной брат. И к тому же уважение к умершему. И ты не подумай, что тут какая-то религиозность. Не в Боге дело. И современная мораль тоже за это. Я это точно знаю, читал.
Берет трубку мать. Голос тоненький, а ее всегдашняя, пахнущая травой и мятой скороговорка сливается в единый распев:
- Сынок, мы уж, видно, никогда не выберемся, съезди ты, кто же еще двадцать пять лет исполняется - съезди, две рябинки над могилой - написали, что одной уже нет, не следит никто...
Мать спешит - она, как всегда, побаивается телефона, то есть того, что разговор вдруг прервут.
И Ключарев ей - тихо и успокаивающе:
- Да, мама... Да, мама... Конечно, мама...
Он говорит жене о просьбе родителей, о дороге и о том, что надо уже сегодня собраться.
- Не увидишь ты Поселка, - заключает он. - А жаль. А давай на будущее лето вместе поедем?
Идея Ключареву уже нравится. Он закуривает, обволакивается дымом, Майя ставит чайник. "Спите, а ну спите. Не переговаривайтесь!" - заглядывает она к детям... Ключарев сидит, упершись локтями в стол, дымит и неторопливо выкладывает хорошие, набегающие к вечеру мысли:
- А почему бы нам не поехать? Деньги?.. Возьму лишнюю статейку у Рюрика - вот дорога уже оплачена! - Он счастливо вздыхает: - Сейчас я как бы на разведку поеду... А уж будущим летом - все вместе катанем.
- Он тебе письмо прислал.
- Рюрик?
- Да.
- Не похоже на него. Наверное, не дозвонился... Слушай. И поедем мы я, ты, дети - все вместе и на весь отпуск, а?
Майя уже тоже увлеклась:
- Мне кажется, я ничему не удивлюсь, когда туда приеду. Как в знакомое место. Ты столько рассказывал, и сестра Анечка рассказывала - я уже вполне представляю...
- Поселок представляешь?
- Ну да.
- Э, нет... Нет, друг мой. Поселок - это надо видеть. Есть, например, там перелесок, а за ним Лысая горка. О Господи!
Ключарев замолкает от невозможности высказать. Он переполнен. Он только покачивает головой... И вот так, покачивая головой и улыбаясь, идет с кухни - подходит к своему столу и вскрывает письмо: "Уважаемый тов. Ключарев. Ввиду специфики работы... та-тата-та... и в силу ряда обстоятельств в нашем институте... та-та-та-та... мы вынуждены в дальнейшем отказаться от Ваших услуг внештатного работника. С уважением. Рюриков"... А, черт!
- Что такое? - спрашивает Майя оттуда, с кухни.
- Да ничего. Но маленький денежный ручеек кончился.
Майя подходит, пробегает глазами письмо:
- Плохо... Я ведь привыкла на ручеек рассчитывать.
Ключарев минуту молчит - думает.
- Я чувствовала, что что-то неладно. Видимо, Рюрик тебе звонил. А когда не дозвонился, решил написать...
- Не звонил он. Письмом отказать удобнее.
Майя сникла - так всегда, если неприятность случается на ночь глядя. Она вертит в руках письмо. Ключарев же решает, что наплевать. И слава Богу, унижения кончились. Будет он еще расстраиваться в такие минуты!..
- И поедем мы туда все вместе. Главное, я хочу, чтоб дети понимаешь! - чтоб дети увидели.
Он продолжает говорить и достает чемодан - щелчок замка, первый звук дороги.
- Ты все-таки позвони Рюрику, - говорит Майя тихо.
- Ладно. (И не подумаю.)
- Ты ему как бы между прочим. Ведь не может быть, чтоб он отказал тебе без объяснения...
А Ключарев опять о своем, о Поселке, - и начинается как бы дуэт. А руки укладывают в чемодан необходимое (руки Ключарева) или вынимают из шкафа, молчаливо предлагая: "А это возьмешь?" (руки жены)... Неужели они не помнят, как рабски, буквально за копейки, работал ты для них ночами?.. Ничего они, Майя, не помнят. Это мы помним, а они не помнят... Руки (жены) хлопочут, из отобранной горы тряпок руки выбирают самое необходимое и укладывают на дно в нужном порядке, а затем руки (это уже руки Ключарева) застегивают чемоданчик, сдавливая его так, что немеют пальцы.
Наконец Рюрик забыт. Проводы - вещь святая. И вот те самые тихие минуты, когда все готово и собрано, а стука колес еще нет. И Ключареву опять хочется быть лучше и проще.
- Жена, - говорит Ключарев нарочито торжественно, как на сцене, - я хочу помыться перед дорогой!
- Слушаюсь, полковник.
- Жена.
- Что такое?
- Люби мужа. Помни его. Не дерзи. Майя в конце концов вспылила:
- Болтун! Ей-богу, надоело.
А Ключареву не надоело ничуть. Он балагурит, открывает кран и наполняет ванну. Горячо. Пар. Он обожает этот водяной жар и блаженную расслабленность тела. И когда уже вылезает, раскрасневшийся и чистый, басит:
- Ах, хорошо!
Он босо шлепает к постели - перед этим открывает окна настежь, - лежит не укрываясь, дышит.
- И ведь не простынет! - говорит Майя с оставшейся укоризной в голосе.
И верно, он не простынет. Это похоже на некий внутренний механизм (последняя ниточка Старого Поселка, добротность генов и естественного отбора), и этот механизм сам собой через полчаса-час как бы нашептывает Ключареву на ухо - даже если Ключарев спит, пьян, болен, в любом случае, он вдруг нашептывает: "Хватит. А вот теперь встань и прикрой окна", и тут Ключарев послушно выполняет, даже если он спит, пьян или болен. Но пока сигнала нет, можно лежать и лежать, хотя сегодня и холодно, и ветер.
- И надо ж быть таким здоровым! - продолжает Майя, оглядывая его не без зависти. И рассуждает уже деловито: - В нашей суматошной московской жизни для тебя это как подарок...
Ключарев с наслаждением вдыхает холодный воздух и говорит любимое словцо:
- Дар.
На минуту он грустнеет, думая о том, чей это дар. И откуда он. Последняя ниточка.
Ночь. Ключарев пока не спит. Он лежит, и вокруг темнота комнаты, и уже подступает сон. (Завтра дорога!) Хочется закурить, затянуться, - не надо бы, ночь уже... И вдруг думается. О письме Рюрика. Ключарев еще тогда понял суть письма, но жене не сказал: лишняя обида. То дерьмо, которому Ключарев не написал отзыв, вроде бы в стороне, но - за него просила Наташа, а к Наташе вхож некто Шикин. Свой человек. Свой, а не просто так. А Шикин и Рюрик приятели (как можно быть приятелем Рюрику - да, говорит, дружу с мумией, а что?)... Так что круг легко и понятно замкнулся. Свои люди.
Или - и тоже ненавязчиво, спокойно - представляется вся эта компания, застолье и шум, и руки всех тянутся к тем замечательным фужерам с поразительно тонкими ножками. О Ключареве они уже поговорили. Мельком, конечно. И вот Наташа (и это она уже острит, пошучивает) бросает фразу: "Ключарев не помог нам с отзывом - зато поможет в другом!" В переводе с юмора это означает, что внештатную работу заберут у Ключарева и передадут кому-то. Может быть, тому же дерьму, который без отзыва, а может, и другому или третьему - не суть важно. Важно, что деньги будут там, среди них, в их группе. Были у них, у них и останутся.
- Как это Ключарев поможет? Я не понял, - скажет кто-нибудь среди застолья.
И этому недотепе, лишенному чувства юмора, пояснят, что у Ключарева забирается его побочный заработок, и тем самым (вот она, тонкость мысли!) Ключарев будет как бы отдавать им свои деньги. А это уже можно считать помощью. В шуточном, разумеется, смысле. В утонченно-шуточном.
- Не помог в одном - поможет в другом! - повторяет Володик Зарубин слова Наташи в неописуемом восторге: сшибка мыслей, а ведь вершиной сшибки всегда истинное "бон-мо".
И лишь Хоттабыч, щуря умные глаза, вздохнет:
- Ну и язычок у тебя, Наташа.
И уже в последний раз они поговорят о том, каким нехорошим оказался этот Ключарев. Работа, мол, да, не блестящая. Но Господи, сколько ж делается не блестящих диссертаций, и уж он-то, Ключарев, об этом знал... Ладно, мол. Хватит о нем.
И вся компания представляется просто, ясно, понятно. И нет озлобления против них. Ночь. И завтра ехать. И Бог с ними. Пройденное. Уже пройденное... И, в общем, это даже занятно, что их кольнуло. Задело, значит.
Завтра - дорога. Ключарев засыпает, и даже во сне счастливая улыбка нет-нет и ползет по его лицу.
И последнее. С глазу на глаз с начальником. После совещания. Иван Серафимович объясняет Ключареву, что в командировке надо будет держаться строже. Дело придется иметь с Назаровым. И тут важно не растаять, взять нужный тон - ведь оттенок отношений наложится на все наши шесть лет...
- Назаров - инженер интересный. Но льстив... И хитер, как бес.
- Я слышал о нем, - говорит Ключарев.
- Так что смотри. Не дай им диктовать, как и в какой последовательности нам работать...
- Понял.
Иван Серафимович трогает пальцами свой новый галстук.
- Нравится? - спрашивает он, смеясь.
- Заметный. Они оба смеются.
- От дублирующего второго отдела, - говорит Иван Серафимович, - поедет Бубин-Ярцев. Знаешь его?
- Нет... А как он?
- Новичок. Но, говорят, толковый... Вот вдвоем и поедете. Он сейчас придет - обещал быть с минуты на минуту.
И верно: стук в дверь, входит Бубин-Ярцев. Ключарев вспоминает, что все-таки знает его, - как-то виделись в столовой, а как-то даже поговорили, вроде бы о шахматах. Он одних лет с Ключаревым, а зовут его вроде бы Алексеем, так и есть: Алешей.
- Едем, да? - спрашивает Бубин-Ярцев весело и энергично.
Сияние лица выдает его неопытность. Иван Серафимович делает Ключареву незаметный знак: дескать, видишь и, дескать, волей-неволей возьмешь на себя роль опытного командировочного волка. Ключарев кивает: хорошо... А Иван Серафимович продолжает:
- Назаров и другие - они, конечно, наши заказчики. Но заказчики - это еще не хозяева. Так что, ребята, советую вам быть начеку...
Они в поезде. Поигрывая с Бубиным-Ярцевым в шахматы или просто посматривая в вагонное окно, Ключарев нет-нет и прикидывает дни. Ага. Три дня подряд там работа, а дальше суббота и воскресенье - и, значит, он свободен. Что ж, в пятницу вечером он уже может оттуда смотаться. Еще полдня пути. В субботу он уже будет в Поселке. Н-да. Всего на один день. Не густо.
Вот именно. Не густо. Он собирался - ну пусть не собирался, а хотел, мечтал, не в слове дело, - он хотел бы пожить там, не считая времени. Ну пять, ну шесть дней, главное, чтоб не считая, пока оно само не кончится, пока чувство не исчерпает себя само, незаметно и неторопливо. Но это ж ясно, что не бывает так, как хочешь. Значит, один день. Да, Боже ты мой. Да ведь и за час один благодарен будешь.
В пятницу, когда все они - человек десять - вышли из светлого дюралевого помещения подышать воздухом, Ключарев говорит. Нет, сначала он смотрит на ровную степь с ковылем - видит фигурку суслика, который у своей норки делает стойку, - и вот, уставив взгляд на эту неподвижную фигурку-колышек, Ключарев говорит, что он собирается отлучиться на время. Да, на субботу и воскресенье.
- Хочешь кое-куда съездить?
- Да... Это ненадолго.
- Ну ты подумай! - всплескивает руками Назаров. - Вот что значит командировочный волк. Уже знакомых завел!.. И представьте себе - куда этот Ключарев ни приедет, хоть на Камчатку, хоть в голую степь, ему тотчас надо кое-куда съездить!
Все смеются. Сказанное не обязано быть ни правдивым, ни даже правдоподобным - это шутка, разрядка. Так всеми и понимается.
- А я ведь собирался тебя на охоту пригласить в эти дни. На уток, продолжает Назаров; выглянуло солнце, и Назаров тоже светится; в его голосе и размашистость добродушного хозяина, и сознание своей значительности. - А то постреляли бы, а? В Москве ведь такого не будет.
Он прибыл туда вечером.
Городок - тот, что был на другой стороне реки, - стал уже немаленьким городом. Разросся. Подъезжая, Ключарев видел огни и оценил. Тут же на станции Ключарев заказал разговор.
- Я уже в городе, батя. Я на вокзале.
- В каком городе?
Отец, видимо, со сна. Заспанный голос. И понимает с трудом.
- В нашем. В нашем городе... Мне перейти реку, и я уже в Старом Поселке.
- Из Москвы приехал?
- Ну, а откуда же?.. Конечно, из Москвы. Ты что, батя, спал?
- Это хорошо.
- Что хорошо? - раздражается Ключарев.
- Приехал, это хорошо. И давно ты там, сынок?
- Батя, дай-ка мне маму.
Берет трубку мать, и теперь все проще и быстрее.
- Я-то что просила, сделал, сынок?
- Еще нет. Я только с поезда... Ты подскажи мне. Я помню и, ясное дело, найду. Но все-таки подскажи.
- От третьего барака тропкой кверху, - быстро заговорила, заторопилась она.
- Это я помню.
- И дубок помнишь?.. Ну, ты его сразу найдешь. Там дядька Ваня лежит. От него ровно десять шагов до Юрочки.
- Так...
- А мерить эти десять шагов - прямо, как будто вдоль реки идти.
- Так...
- И еще тебе, сынок, примета. Если с Юрочкиной могилки смотреть, дуб тот стоит разворотом... Ну, как будто он раскрылся - веток с твоей стороны совсем мало.
Вновь берет трубку отец. Он уже не сонный, и они спокойно говорят отец жалуется на здоровье.
Ключарев платит за дополнительные минуты разговора. В вокзальном буфетике он пьет кофе - руки непривычно свободны, ни чемодана, ни портфеля, легко и освобожденно. Он еще выкуривает сигарету у вокзального входа скромный ритуал, теперь можно идти.
Как скоро здесь темнеет!
Он переходит реку и уже с моста - ни огонька - чувствует настораживающую пустоту. Ноги ведут дальше сами собой, и все оказывается так просто, что проще и не бывает. Старый Поселок мертв. Пуст. Ни бараков, ни котельной, а дорожки превратились в тропки.
Он не заметил, как сошел с тропы, - как скоро темнеет, - он идет по грудь в бурьяне, долго идет и выходит к остаткам двух бараков. Бараки, как искрошившиеся и сработавшиеся зубы, - остатки стен, развалины. Или совсем ничего. Остатки остатков... А это кто? Ключарев замечает в полутьме какого-то старика: тот собирает возле развалин доски, сидя на корточках.
- Нет, - хрипло отвечает ему старик, даже головы не повернув. - Никто не живет.
- Переехали?
- Ага. Переехали. Или поумирали.
Ключарев растерянно усмехается, в мыслях непонимание и несоответствие минуте - вот ведь приехал. В горле что-то схватило и держит. Ком в горле. И Ключарев говорит с ненужным, нервным смешком:
- А хоть кладбище за горкой осталось?
- Кладбище осталось. Куда оно денется.
- Всякое бывает...
- Осталось, осталось! - угрюмо подтверждает старик, показывая, что уже поговорили, хватит.
Ключарев шагает, так себе, без направления - и все улыбается застывшей улыбкой. Как-нибудь и боль будет, и печаль тоже, а сейчас нет - пустота.
Вот его, Ключарева, барак. Предположительно, конечно. Тут уже вовсе развалины: тропка, бурьян и темные поросшие камни. А глянуть назад, перед глазами в обратном порядке - камни, бурьян и еле видная тропа. Ключарев бродит и каждую минуту ловит себя на том, что никак не может совместиться с этим вымершим местом.


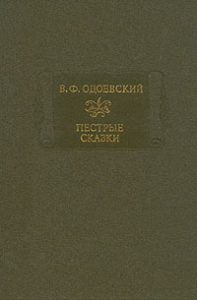
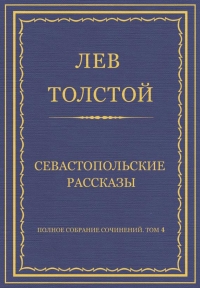
Комментарии к книге «Повесть о старом поселке», Владимир Семенович Маканин
Всего 0 комментариев