Май месяц в исходе. Пять часов утра. У фабрик Веретинского казенного горного завода, отстоящего от губернского города Приреченска в трех верстах, зазвонили в колокол, которым давали знать, что пора рабочим идти на работу и пора работавшим ночью отправляться по домам.
В заводе в это время было уже большое движение: выползали из ворот зевающие рабочие — мужчины от двадцати до сорока пяти и ребята от двенадцати до девятнадцати лет, — с мешками на плечах, лопатами, туесками в руках. Выползая из ворот, они поворачивались то налево, то направо, смотря по тому, как расположены дома по улице, и широко крестились, смотря кверху в одну сторону: этим они выражали то, что они молятся на церковь, стоящую в логу, откуда ее из-за домов не видать. Все они шли по одному направлению — к фабрикам; навстречу им попадались рабочие, возвращающиеся домой. По одному шли немногие, а шли больше человек по пяти, по семи, то молча, то перекидываясь словами. Встречные не скидывали им фуражки, а просто перекидывались словами и шли своей дорогой.
— Здорово, Парамоныч!
— С добрым утрицьком!
— Кланяйся нашим.
— Э-э!
— А Мирониху не видал ли кто?
— Куму-то?
— Ну!
— Помират!..
— А штоб ее… В девятый раз помират, чертовка! Женский пол тоже встал: одни доят коров, другие топят печи, третьи в огородах растения поливают, свежий зеленый лук щиплют, четвертые кринки, туески, чашки и ложки моют… Рано встали люди и рано принялись за работу, как будто каждый спешит куда-то… Даже вон и гульные коровы возвращаются с поля и, останавливаясь у ворот, чешут свои морды о перекладинки, упираются рогами в ворота, как будто желая пробить себе дорогу во двор, и мычат.
— Тпрука! тпрука! тпруконька! — слышатся из дворов восклицания женщин, и затем ворота отпираются, появляются женщины разных лет, держа в руках то лучину, то палку, то веник и, любезно ударяя по коровам этими оружиями, приговаривают: у, ты! между дворная!.. — на что коровы, взмахнув хвостами, бегут вовнутрь двора и останавливаются перед опрокинутым железным или деревянным ведром и стараются своими мордами как будто поставить его на место.
Встают спавшие у заплотов и середи дороги овечки, умильно взглядывают на вышедшее из-за горы утреннее солнце и подходят тоже к воротам, стараясь перегнать друг дружку; только одни свиньи там и сям роются около заплотов и около помоев в лужах.
У одного четырехоконного дома, с разрисованными ставнями, стоит красная с белыми пятнами корова и, бодаясь в ворота, мычит. Эта корова, с первого раза, производит на человека такое впечатление, что он не может скоро оторваться от нее: высокая, здоровая, с большой головой и рогами, торчащими прямо, с большим выменем, она, при всем своем страшном виде, кажется красивой и одной из лучших во всем заводе.
Из соседнего дома вышел мальчик лет восьми, в одной рубашонке, босой, с белыми волосами. Он пошел налево, но оглянулся — и побежал направо. Остановился он перед коровой; та поглядела на него. Мальчику, по-видимому, хотелось что-то сделать с коровой. Вдруг он схватил щепку, подошел близко к корове и, как стрелец, отставя ноги на случай обороны, щепкой ткнул корове в морду. Та двинулась; мальчик хотел бежать, но запнулся, упал и вмиг висел уже на рогах коровы, то есть корова зацепила рогами рубашонку мальчика. Корова поворачивала головой, а мальчик ревел.
Выбежала из калитки соседнего дома женщина лет двадцати восьми и, ахнув, подбежала к корове.
— Ах ты проклята!.. Ах! — И она начала хлестать корову толстой палкой. Корова лягалась и побежала прочь от дому. Мальчик висел и ревел.
— Марфа! — послышалось из окна четырехоконного дома. Окно отворилось, и в нем показалась женщина лет под сорок.
— Да чтой-то, кума, у те корова за разбойник! Просто проходу ребятам нету.
— Ой ты, девка!.. Тпрука, тпруконька! — закричала кума из окна охриплым голосом. Корова подошла к воротам, наклонила голову, и мальчик свалился кубарем на землю, нагой; рубашонка висела на рогах. Мать мальчика нарвала крапивы и стала наказывать, приговаривая:
— Будешь ты баловать, чертенок! Я тебя куда послала?
— Брось ты парня-то, дура! — крикнула вышедшая из калитки кума.
— Да как же, кума; баловник какой! — сказала молодая женщина, бросив крапиву и сняв рубашонку с рогов коровы. Кума загнала корову на двор и вышла на улицу.
— А ты, Марфа, не видала ли овечек-то?
— Кто их знает…
— Ты уж такая. Знашь, я нездорова…
— Опять; выздоровела…
— Молчи!
— Ей, Мирониха? здорово! — сказал сидящий у окна противоположного дома мужчина лет тридцати, кум Марфы.
— Дома молодуха-то? — спросила в свою очередь Мирониха.
— Дома. Здорова ли? — спросила показавшаяся в том же окне женщина лет двадцати, с хлебной чашкой в руках.
— Слава богу, молодуха.
— А мы думали, што уж и конец… А в который раз-от?
— Што ты, девонька: в девятый вчера… — И Мирониха ушла во двор.
Управившись с коровой, то есть давши ей корму, сделавши ей пойло в ведре, Мирониха сбегала в огород, который тянулся по горе семисаженными грядами, с четырьмя парниками. На грядах росли преимущественно: лук, картофель, капуста, морковь и редька. Все это, кроме лука, плохо еще поднималось. В варниках росли огурцы; они уже цвели. Походивши около гряд, посмотревши и удостоверившись, что все обстоит благополучно, она взглянула в соседние огороды.
— Ишь, плехи! и тут, что есть, смекальства нет, лежебокие! — сказала она громко и пошла в баню. Выдвинула она одну половицу, спустилась в сырое мокрое место, пощупала что-то там, вышла оттуда, задвинула доску и пошла во двор. Во дворе она подоила корову и выгнала се на улицу, перекрестив ее предварительно и сказав: ступай с богом!
В это время вышел на крыльцо, находящееся во дворе и выходящее из сеней ее дома, человек лет сорока восьми, очень невзрачной наружности. Он был в халате и босиком. В зубах он держал трубку.
— Эк те подняло ни свет, ни заря! — оказала ему Мирониха, входя на крыльцо.
— Голова болит, Матрена Власовна.
— Голова болит! Кто велит пьянствовать-то? Мужчина стал умываться из висящего на веревочке железного рукомойника, похожего на кружку с носом-рожком.
Вошла Мирониха в кухню, какой позавидуют, да и завидовали, приреченские чиновницы, навещавшие Мирониху. Направо большая печь, обеленная, с приступками, против печи широкие полати, у двух стен лавки; в переднем углу стол. Стены хотя и не выбелены и не оклеены бумагой, но, несмотря на то, что дом сделан из бревен, обтесанных по эту сторону, они так гладки и желты, как будто моются каждую неделю. Стена против печи, под полатями, чуть не вся исписана мелом какой-то грамотой: идут целые ряды оников, крестиков, палочек и каких-то кривых линий. Пол, лавки, стол и приступки у печи очень чисты и желтоваты, что доказывает то, что они часто моются. Она вошла в комнатку с двумя окнами, тоже чистую, веселенькую. На окнах стояли цветы: бальзамины, алоэ, розан. На одной стене висят в рамках пять картин литографированных, разного содержания. Против окон у стены стоит кровать с периной и подушками, под кроватью валяются сапоги, и все это задергивается ситцевою занавескою или, по-заводски, пологом, а в углу, между кроватью и кухонною печью, выдающеюся сюда одним боком, стоят два больших сундука. Комната даже нисколько не отличается от городской: в ней есть большое, но простенькое зеркало, восемь стульев, два крашеных стола и половики на полу.
Мирониха сняла половики и вытащила их на крыльцо. Мужчина уже утирал лицо какой-то большой чистой тряпкой.
— Ефим! тряси-ко половики-то.
— Дай утереться.
— Туды же еще и умываться вздумал! — И она ушла в кухню. Там под лавкой лежал веник в ведре. Она спрыснула из рта пол в комнате и стала мести его. Немного погодя Ефим принес половики в кухню и держал их перед дверьми в комнату, смотря, как Мирониха, нагнувшись в три погибели, метет пол, то справа налево, то слева направо.
— Чего ты стоишь-то? — крикнула она на Ефима. Ефим вздрогнул.
— Чево там! — произнес он.
— Запылю половики-то! Положи на лавку, образина!
— Самовар-от ставить?
— Ишь! А ты дал мне денег-то на чай?
— Ну… опять, — сказал смиренно Ефим.
— Чево? на шкалик небось надо?
— Хм! — улыбнулся широко Ефим.
Смешон казался в это время Ефим. Пожелтелое, небритое его лицо принимало различное выражение; глаза то семенили направо и налево, то смотрели на Мирониху. Он походил теперь на собаку, готовую по первой кличке броситься к хозяину. Его кожа на лбу то сморщивалась, то лоснилась, отчего стриженные гладко волоса то поднимались, то садились на свое место, уши растопыривались. В нем проявлялась то боязнь, то покорность, выражаемая тем, что он, высовывая из-за печки голову, держал руки назади, щипля пальцами свой халат. В это время можно было, наверное, сказать, что он думает: «А надую же я тебя, чертова кукла».
— Ну, што ты стоишь, как корова? Ефим съежился, потом выпрямился.
— Пошел, неси дрова-то да руби говядину.
Ефим беспрекословно повиновался повелениям Миронихи. Загорели дрова, Ефим рубил в маленьком корыте говядину, самовар уже шумел, а Мирониха между тем справляла свою работу: поставила в печь горшок с водой и мясом, завела тесто и куда-то сбегала, что-то принесла под полой.
— Игнатьич! — кликнула вдруг из комнаты Мирониха, стуча чашками.
Ефим Игнатьич стрелой бросился в комнату, так что халат разорвал о плиту, высунувшуюся наружу.
— Поди-ко, сбегай к брату; спроси, не пойдет ли он в город. Пойдет, так пусть зайдет ко мне.
Ефим Игнатьич стоит, ежится, как приказный, и что-то хочет сказать.
— Кому я сказала?
— Я думал…
— Пошел! перед пирогами получишь…
— Голова болит…
— Будь ты проклят, дурак! Вот пустая-то башка!.. Ефим Игнатьич ушел и скоро воротился с известием, что брат Миронихи в город не пойдет сегодня, потому что нездоров.
— Ну, садись, не то, — трескай, — сказала Мирониха Ефиму Игнатьичу.
Самовар стоял в кухне на столе, на самоваре стоял чайник с изломанным рожком и две чашки с надписью: в день ангела. Чашки были налиты, но чай не пили ни Мирониха, ни Ефим Игнатьич, потому что первая жарила на сковороде пять пирожков с говядиной, а последний только слюни глотал, глядя на плиту, нюхая запах от пирожков и вслушиваясь в верещанье масла, подложенного под пирожки. Пирожки поспели, и Мирониха, выложив их на тарелку, поставила тарелку на стол перед чашкой Ефима Игнатьича. Ефим Игнатьич только мигает, а до горячих пирожков не дотрагивается.
— Ты што модничаешь-то? — крикнула на него хозяйка.
— Горячи…
— А водку пить не горячо?
Поспели еще две сковородки, и Мирониха села к столу; но предварительно она принесла из комнаты косушку водки и рюмку.
— Пей! — сказала она Ефиму Игнатьичу, подавая налитую водку. Тот выпил, крякнул, взял пирожок и в два приема съел его. Выпила рюмку водки и Мирониха,
— Хошь еще?
— Давай.
С четверть часа они сидели за столом. Ефим Игнатьич, после двух рюмок водки, выпил пять чашек чаю со свежими сливками и съел восемь штук пирогов, а Мирониха то пила чай, то бегала к печи вытаскивать шипящую сковородку, ругая пирожки анафемами. Вдруг Ефим Игнатьич сказал со вздохом:
— Дела, как сажа бела! Хоть бы здесь, на заводе, должность получить!
— Вот уж экому пьюге, прости господи!
— Пьюге!.. Я дело свое делаю…
— Делаешь ты. Чуть не тридцать лет прослужил, а что выслужил?
— Все, ишь ты, молодых определяют.
— Ой ты, чучело! Только бы тебя и следовало в огороде поставить, ворон гонять.
— Хоть бы ты-то молчала, Матрена Власовна.
— Чего молчать-то, с дураком и бог неволен.
— Тебе говорят, што я тут, как… (он плюнул). Я писец, и больше ничего по-ихному, а кем стол держится? Ну, отчего мне не дадут помощника? — Он прослезился.
— Все у вас рыжий советник-то?
— Все.
— Ты молчи, а я ужо схожу сегодня. Я этой советнице ономедни брюхо правила, чаем напоила, да что мне ее-то чай?.. Разе у меня своего нет?.. Уж я молчала, а она говорила…
— Што?
— А уж я сама про то знаю… Ну, што же ты не собираешься?..
Нехотя Ефим Игнатьич оделся: надел брюки, манишку, жилет, повязался галстуком, натянул и сюртук. Оделась и Мирониха: надела ситцевое розовое платье и повязала голову платком. Когда Ефим Игнатьич собрался совсем, он перекрестился и сказал Миронихе: благословляй!
— Ступай с богом.
— Так попросишь?
— Ну, что ты пристал? Ступай знай.
Ефим Игнатьич ушел, а минут через десять вышла из калитки на улицу и Мирониха. На плечах у нее висело коромысло, которое она обхватывала обеими руками. На коромысле висели — на одном крючке узел с свежим зеленым луком, две бутылки сливок, на другом крючке — пять берестяных небольших туесков (по-заводски — бураков) с молоком. Как только она вышла на улицу, ей попались навстречу две женщины, тоже с коромыслами, на которых болтались узелки с луком и туесками.
— Гляди, Офимья, — кума-то!
— Здорово, кумушка! — проголосили женщины и остановились.
— Ну, чего стали?
— Да как это ты, кума: вчера соборовалась, а сегодня… ишь ты…
Спустились с горы, пошли по большой дороге, идущей в город. Погода была отличная, тихая, солнечная. По дороге шло много женщин, кучками и поодиночке, с коромыслами, на которых что-нибудь да болталось. Они шли скоро, голосили между собой громко. Здесь слышались бабьи сплетни, сетования на мужей, суждения об огородах и о том, как бы лучше сделать так, чтоб капуста выросла хорошая. Говорили и о нарядах.
— Я, девонька, как скоплю три с полтинкой, беспременно куплю кренолинко.
— Што ты?
— Вот те Христос! Штой-то, в сам деле, все ноне кренолинки носят!..
— Да мы, почесь, и говорить-то не умеем: карналин зовется…
— Это, бабы, не пристало заводчанкам карнолины заводить. Потому наши мужики — рабочий народ. Да и штой-то за страм! — голосила соседка Миронихи, шедшая с ней рядом.
— А сама, помнишь, в Николу какой напялила! экое колесо! — заметила Мирониха. Бабы захохотали.
— Чтой-то, кума, у те Работкин-то все пьет? Ты бы его приучила к рукам-то.
— Гляди, сбежит. Все оберет.
— Ах вы подлые! Да с чего ево мне унимать-то, разе я ему родня какая далась!
— Мотри! Не знам, што ли!
— Отсюда видно!
— Што, небось губа-то не дура!
— Отсохни мой язык, штобы я соврала!
— Ну, ну! Не впервой божиться-то, кумушка. Вот што!
Так дошли до города, и потом все разошлись по разным улицам, и скоро заслышались пискливые голоса веретнинок: луку, луку купите!!! молока-то, молока не надо ль!..
Матрена Власовна Мирониха — тип горнозаводских женщин, которые не только не уступают мужчинам, но даже превосходят их. Они не боятся мороза, сильных ветров, дождей, грозы, а их только беспокоит пьянство, лень мужей, безденежье, которое часто происходит не от них, а от божеского послабления, как они сами выражаются. Поглядите вы из окна или просто пройдитесь в хорошую погоду по заводским улицам: вы увидите играющих ребят обоих полов в одних рубашонках, — частию не от недостатков родителей, как мы это увидим после, а по вкоренившемуся убеждению родителей, что детей не стоит наряжать в экие годы; они веселы, бойки; умеют осмеять кого угодно и далеко превосходят своею развязностью и находчивостью крестьянских мальчиков. Поглядите вы в ненастную погоду из окна, выходящего на большую заводскую улицу, — и вы увидите тех же ребятишек, не играющих, а бегущих куда-то в одной рубашке, босыми, с непокрытыми головами. Их и гром не задерживает, и зимой босиком бегают по снегу, — конечно, не играют, а перебегают от соседа к соседу. Чем старше ребята, тем больше вы замечаете за ними ловкости, смышлености, и видите в них уже работников. Вон даже теперь за Миронихой идут две девочки: одной двенадцатый год, а другой четырнадцатый. Та, которая поменьше, тащит в обеих руках по туеску, другая тащит коромысло с туесками. Отчего это так, а не иначе, — мне бы следовало объяснить здесь, но я, для краткости рассказа, должен только сказать, что в Веретнинском заводе, имеющем постоянное сообщение с городом, люди не живут замкнуто, выражаются без стеснений, и жизнь ихняя сложилась как-то по-полугородски, но зато веретнинцы в десять раз практичнее приреченцев.
Все это я говорю к тому, чтобы не писать много истории о Миронихе. Она была мастерская дочь. С двенадцати лет она стала ходить в город продавать молоко и скоро научилась добывать деньги, так что от продажи молока, огородных овощей, ягод и грибов она к свадьбе своей, бывшая на восемнадцатом году, помимо приданого, накопила пятьдесят рублей серебром. Тогда она была красивая девка, как ее называли на заводе, толстая, высокая, краснолицая. Да и теперь, когда ей скоро стукнет сорок лет, она не только не уступит иной купчихе ни ростом, ни толстотой, ни лицом, но даже заткнет за пояс любого купца. Она часто надувала первостатейных плутов на молоке, на ягодах, и эти первостатейные плуты никак не догадывались: отчего это Мирониха, когда ей не отдашь тотчас деньги, через месяц, кажется, насчитывает лишнее, я какие ты тут ни подводи счеты, никак бабу с толку не собьешь: закричит, перекричит — словом, горлом берет, подлая… Да примеров много, где их пересчитаешь. Замуж она вышла, конечно, не по своему желанию, но с мужем свыклась в первый год. Муж был молод, красив, столяр, почему он много добывал денег, работая на городских господ, которых он с Миронихой называл вареными раками. Муж, конечно, попивал по праздникам, но жена так умела ладить с ним, как нарядчик командует над рабочими: пропьет он рубль, она лишит его чаю и заставит проработать усерднее, чтобы он заработал этот рубль; погрубит он пьяный, она побьет его, свяжет и уложит на постель, куда и сама ляжет. Если муж кусаться станет, она его теребит за волосы, зажмет рот и доведет до того, что он угомонится, и потом пьяного развяжет. Сделавшись хозяйкой в своем доме (дом у ее мужа был свой), она всячески старалась нажить копейку. А нажить деньги было очень легко. Со времени основания Приреченска веретнинцы стали извлекать оттуда выгоду и довели дело свое до того, что почти все горожане постоянно покупают у них молоко, огородные овощи, ягоды и проч. Поэтому Мирониха. была постоянно, с утра до вечера, на ногах. Летом — утром сбегает в город, продаст все, что принесет туда, потом отправится по ягоды и опять летит в город; только зимой ей было скучновато; тогда она только раз в день ходила в город, но зато находила иногда работу там: мыла полы, стирала белье.
С мужем жила она недолго; через семь лет он умер, и она осталась с двумя дочерьми, которые помогали ей в хозяйстве, и с помощию их она привела огород в отличное состояние, так что у ней скорее всех поспевали хорошие огурцы и рождалось всегда больше других картофелю и капусты, до которых приреченцы страшные охотники. Жить ей было можно, но она увеличила свой доход таким образом: в городе у нее было много знакомых, которые за молоко или за какие-нибудь овощи платили ей не тотчас, а через месяц или через три месяца. Она и писала счет на стене в своей кухне против печки: одна палочка обозначала долг за один бурак, который стоил пять или три копейки. Она никогда не смешивала вместе разных долгов. Так, у нее в одном месте значился долг чиновницы Перекувыркиной, в другом — купчихи Алапаихи, в третьем — семинаристов из такого-то дома. Зато она к каждым пяти палочкам приписывала себе за труды шестую палочку, думая: «Небось вы за ходьбу-то не прибавляете. А што мне нужды, што вы меня чаем-то поите?» А так как она денег не тратила по пустякам, то у нее часто просили в долг соседи или городские знакомые. И эти долги она пишет на стенку, только рубли обозначает ониками, а гривны крестиками. Если же кто не отдает ей долгов, она ходит жаловаться к начальникам, и если уже дело идет на ссору, приписывает к трем оникам еще оник, а девять крестиков зачеркивает, загораживает клеточкой и сверху пишет оник.
В заводе она всем известна за продувную бабу, и все ее зову не иначе как кумушкой, — не потому, чтобы она ребят принимала, а потому, что она всем готова услужить и угодить. Еще до замужества она была, что называется. вострая девка, не спускала ни одному мужчине и ни одной женщине криком и руганью. В замужестве и во вдовах она решительно никого не боялась, на том основании, как она выражалась, — «с нас взятки гладки! закона такого нету, штобы командовать над нами». А это проистекало оттого, что на заводе все женщины добывали деньги помимо мужей, которые, сами получая за работу немного, брали у жен деньги в долг, только без отдачи, и если куражились над женами, то сидели голодом. Один год она носила молоко двум холостым молодым чиновникам; те сперва платили, потом стали оттягивать. Полгода она носила им молоко, денег не дают. Перестала она носить и взяла с одного расписку, и с этой распиской пошла в то присутственное место, где служил чиновник. Оказалось, что чиновник вышел в отставку; она к начальнику, Пузатову.
— Что тебе, баба? — спросил он ее.
— Да вот, ваше благородие, взыщи с чиновников долг. Тутока один подписался, с него и взыщи. Я ужо тебе малинки принесу.
Велел Пузатов подать ей прошение; она подала. Через полгода узнала, что дело ее сдано в архив, потому что чиновник оказался несовершеннолетний, то есть ему был только двадцатый год, и поэтому-де чиновник не имел права давать расписки, и закону такого нет, чтобы с несовершеннолетнего взыскивать долги через полицию. Обругали Мирониха Пузатова вахлаком и пошла к начальнику постарше.
— Ваше благородье! где такие порядки написаны, чтобы долги не получать? — заголосила она, увидев начальника в приемной. Она всех чиновных людей называла благородьями. Начальник даже струсил бабы.
— В чем дело?
— Да вот твой-то, Пузатой, смотри што наделал… Ты думаешь, мне не дороги деньги-то? Поди-кось, я бы и с тебя не стала взыскивать?.. Ты там с других бери што хошь, а нас не обижай: мы вас кормим, потому без веретнинок вам бы трескать нечего было…
Начальник улыбнулся; улыбнулись втихомолку чиновники, стоявшие в приемной.
— Ты, баба, очень дерзка, — сказал ей начальник.
— Не эдаких видала! Я самого главного начальника видала. Вот што! У нас свой начальник… Найдем и повыше тебя! — закричала Мирониха, рассердившись.
Думал-думал начальник и повернул направо кругом, а Мирониха хотела было принести жалобу лично главному начальнику горных заводов, да ее разговорили заводские бабы.
Часто она хлопотала у советников за своих заводчан, которые служили в городских присутственных местах; и так как она носила молоко к ним, то часто выигрывала дело в таком роде: если человека гнали из присутственного места, то он опять оставался там или переходил в другое место. Часто она улаживала браки по любви и получала за это небольшие подарки.
Ефим Игнатьич Работкин был для нее совсем чужой человек. Он сначала служил в каком-то казенном заводе писцом и там решительно ничего не приобрел, кроме того, что сделался пьяницей и запуганным человеком. Перед волей его произвели в урядники, а в волю уволили из горного ведомства, с предоставлением ему права продолжав службу по гражданскому ведомству с званием канцелярского служителя. Вот он и покатил в Веретнинский завод к сестре его жены (жена у него давно умерла). Но сестра тоже умерла, а о смерти ее он узнал от Миронихи, разыскивая в улице дом сестры. Оказалось, что и муж сестры его жены не живет здесь, а живет в другом заводе, с новой женой. В городе у Работкина знакомых не было, Мирониха и пустила его в свою комнатку. Проболтался Работкин месяц без места, прожил даром на счет доброй хозяйки, надоело так жить — и стал надоедать своими жалобами хозяйке. Мирониха с первой же недели заметила, что ее жилец человек смирный, услужливый: дров принесет, в печку их складет и даже пол выметет, только табак курит, ну, да кто ныне не курит. Вот она один раз приходят домой из города и говорит ему:
— Ну, Ефим Игнатьич, говори: слава богу!
— А што?
— Говори!
— Ну, слава богу.
— Место тебе нашла, в коронную принимают, даром почесь.
И стал Работкин ходить на службу в город. Уходил он ровно в семь часов утра, а приходил домой в двенадцатом часу ночи, потому что он занимался и по вечерам в присутственном месте, и за это ему платили восемь рублей в месяц. Спросил он Мирониху, сколько она возьмет с него за квартиру со столом; она сказала: «А ничего! ты не бог знает сколько съешь, все равно бросить придется». И стал жить Работкин у Миронихи, превознося ее, и сам не замечал, как мало-помалу, подчинялся ее команде. Она стала больше и больше заставлять его помогать ей в хозяйстве, вскрикивала на него, когда он делал не так, бранила его, что он пропивает деньги, и, наконец, забрала его совсем в руки. Работкин этим не обижался, а даже, как говорится, таял перед Миронихой, которая могла заставить его обежать весь завод из-за косушки водки; но подчас Работкину становилось невыносимо скучно без Миронихи. Он так привык к ней, что ни за что бы, кажется, не расстался с ней, и поэтому в голове его бродили разные мысли с разными желаньями. На службе товарищи часто корили его тем, что он снюхался с Миронихой, живет с нею гражданским браком; это его бесило, и он задумывался все больше и больше — и приходил к тому заключению, что ему не худо бы жениться на Миронихе, потому что она женщина работящая, да и с ним в хороших отношениях, но заговорить об этом с Миронихой не решался. С своей стороны, у Миронихи и помышления не было выйти замуж за кого бы то ни было, потому что она сама добывала себе пропитание, даже с излишком, постоянно была в ходу и, умаявшись днем, скоро засыпала ночью, не думав ни о чем другом, кроме того, чтобы у ней были здоровы и целы курицы, корова, овечки и т. п. Поэтому, значит, заводские женщины и мужчины говорили на нее напраслицу, что она находится в близких отношениях с Работкиным. Работкин был ей и нужен, и лишний человек, смотря по времени; нужен — потому, что он заменял ее дома своей особой; лишний — потому, что болтался около нее в такое время, когда ей хочется скорее сделать что-нибудь. Она, с своей стороны, тоже привыкла к нему, как к человеку, прожившему с ней десять лет. Поэтому она, видя робость и послушание, так и командовала над ним. Но порой на нее находил какой-то страх, и она боялась, чтобы Раооткин не украл у нее деньги, которые хранились в бане под полом; и она притворялась больною и выздоравливала на другой день после соборования. Во время болезни ее Работкин на квартире жил редко, а приходил домой только спать, а это не нравилось Миронихе. Но Работкин даже и не догадывался, что у Миронихи есть большие деньги, потому что соседки, во время ее болезни, ухаживали за ней и на свой счет приглашали к ней священника.
Пришла Мирониха в кухню, принадлежащую к квартире советника Толстобрюхова. В кухне увидала ее жена советника, Марья Алексеевна.
— Здравствуй, Матрена.
— Здорова ли, матушка, Марья Алексеевна?
— Слава богу, после твоих рук поправилась… Радуюсь, что ты выздоровела, а то без тебя молоко и славки дрянные продавали.
— А дома у те сам-то, Савелий-то Павлыч?
— Дома. Одевается.
— Как бы мне с ним покалякать?
— Опять просить за кого-нибудь?.. Нынче у нас такой в присутствии начальник, что беда. Все сам…
— Ну, уж супротив Савелья Павлыча где ему! Вошла Мирониха в кабинет, где Толстобрюхов напяливал на себя вицмундир.
— Здорово, батюшко. Не досужно, поди-ка?
— Здравствуй, Матрена… Ну, что?
— Да опять к тебе. Нет ли местов-то у те?
— Как нету; два даже.
— Так нельзя ли моево-то квартиранта, Работкина, назначить?
— То-то што нельзя. Пятьдесят рублей дают, да мало…
— Ишь ты… Я уж тебе припасла пять фунтиков чухонского масла. Славное, сливошное…
— Эк, она! Масло само собой, а деньги само собой.
— Полно-ка, сударик!..
— Нельзя.
— А ты сколько бы взял с меня?
— Да сотню надо бы.
— Ишь ты, гостинодворец… Так, не то, как?
— Да для тебя уж так и быть — шестьдесят.
— А я думала бы пятитку.
— Што ты, што ты!
— Экой ты, какой несговорчивой. Ты думаешь, што твое место клином сошлось? Да я другова советника попрошу. Я и к самому вашему старшему пойду; скажу: вот, мол, тебе двадцать, пять хошь бери, не хошь наплевать.
— Да ты чево за чужих-то хлопочешь? Хошь, я тебе жениха найду?
— Мне?
— Ну, и должность ему дам. Чиновник, молодой.
— Наплевала бы я на твоих-то чиновников. Я уж замуж не пойду, а твоему чиновнику, если хошь, найду невесту с домом, только Работкину дай место.
— Ну, уж давай, не то, двадцать пять.
— А ты определи, да потом и проси.
Через неделю Работкин получил должность помощника. И как же он радовался этому! В ногах вывалялся у Миронихи, которая теперь еще пуще прежнего стала командовать над ним.
Стали похаживать к Работкину гости из города, стал он угощать их; денег у него хватало; а Мирониха не сердилась на это, потому что она говорила: должностному человеку нельзя не иметь компании с должностными людьми. Работкин стал больше и больше юлить перед Миронихой, и раз, сидя за чаем, сказал ей:
— Матрена Власовна, выходи за меня замуж.
— За тебя-то? С какой стати я пойду замуж за дурака?
— Я должность имею.
— А кто тебе должность-то достал? В состоянии ли ты сам-то что-нибудь сделать?
Так Работкин и перестал говорить ей о женитьбе, только замечал, что Мирониха что-то реже ходит в город, мало разговаривает с ним, как будто дуется на него, больше задумывается.
Сидели они как-то вечером за ужином, Мирониха и говорит Работкину:
— Вот што, Ефим. Я тебе нашла должность; теперь ты имеешь кусок хлеба свой, и мне уж тебя кормить не приводится, потому на меня сплетничают. Иди на другую квартиру.
— Да я к тебе привык, Матрена Власовна.
— Мало ли што! Женись.
— Не хочу.
— А зачем за Марьей Степановой подглядываешь? Я будто не знаю. Вот и женись. Дом тебе в городе выстроят, денег дадут.
Согласился Работкин жениться на Марье Степановой я через два дня переехал на квартиру в город, а в этот день вечером у нее сидел гость, один молодой чиновник, Семен Семеныч Кольчиков, который часто приходил в гости к Работкину.
— Отчего ты не женишься? — спросила его Мирониха.
— Да денег все нет. Вот бы должность надо получить, да все наследства дожидаюсь.
— Хошь, я попрошу.
— Сделай одолжение. А я, Матрена Власовна, влюблен.
— В кого?
— В тебя.
— Поди ты!
На другой день Мирониха уже летела в город и через полчаса стояла в прихожей нового советника, назначенного вместо Толстобрюхова; но этого советника она видела всего раза два в кухне.
Лакей спросил ее: кого нужно?
— Не тебя, конечно, — самово…
— Ково самово?
— Советника Любкина.
— Дома нет его.
— Я те покажу — нет дома, рыжий черт! Скажи, веретнинка пришла, и все тут.
Вышел советник, молодой человек.
— Ваше благородье, што возьмешь за место?..
— Что такое?
— Вот теперь у тебя в отделении вакансья есть, а у меня хороший человек есть…
— Ты куда пришла? — крикнул советник на Мирониху.
— Ты не кричи, не таких видали!
— Иван, выгони ее.
— Ну-ко, смей! У меня еще не отсохли руки-то. А ты скажи: дорого ли ты берешь? Вон Толстобрюхов, так тот и масло забирал.
Лакей вытолкал Мирониху. Обидно ей сделалось.
— Подлый народ эти ваши-то! — сказала она Кольчикову, вызвав его на крыльцо.
— Надо подарить. Ишь, ныне новенькие-то начальники только треску задают, а берут помного.
— Я бы дала сотню, да ты-то как заплатишь?
— Я тебе десять копеек на рубль буду платить, только подмажь колеса-то.
Согласилась Мирониха дать ему под расписку сто рублей, и пошла прямо в свою баню. Открыла осторожно половицу, спустилась туда — и ахнула. Корчаги с накопленным ею в тридцать лет капиталом не оказалось. Порыла она везде под полом — нет. Как ошалелая, она вышла из бани, прибежала в комнатку и села на стул. Так она просидела с полчаса: «Кто украл?» — думала она.
«Работкин! Ах, злодей! Больше некому!!» — додумалась Мирониха.
Вечером зашел к ней Кольчиков и удивился, что она все молчит, такая бледная, и не слышит, что он говорит ей. — А ты не слыхала, что Работкин-то творит в городе?
— Чево?
— Дом купил.
— Врешь!!
— Ей-богу. Говорит, кто-то подарил ему из родных четыреста рублей. Я просил у него, да не дает. Триста рублей дал за дом.
Целую ночь Мирониха не спала. Начнет она дремать, ей кажется, что кто-то душить ее собирается… В семь часов она уже летела в город, но без молока, а только с луком. Порасспросила она там, правда ли, что Работкин покупает дом, и удостоверившись, что правда, она кинулась прямо в то присутственное место, где служил Работкин. Она Пошла прямо в ту комнату, в которой занимался Работкин. Оглядевшись и увидев Работкина, она подошла к нему. На нее смотрели все служащие.
— Здравствуй, — сказала она ему.
— Здравствуй, — сказал он. Чиновники захохотали.
— Чему вы, псы, смеетесь? Вы поглядите на этого варнака… Куда ты деньги девал, подлая ты рожа? — заголосила Мирониха на все отделение.
Работкин побледнел, затрясся.
— Какие деньги? — спросил он. Стол окружили все чиновники этого отделения.
— Ах ты, пес эдакой!.. На какие ты деньги дом-то покупаешь? А! Ну, говори: куда ты корчагу-то девал?! Ведь я тридцать лет копила…
Работкин встал и пошел.
— Куда ты пошел?! Держите вы его, подлеца!.. уйдет! уйдет! — закричала Мирониха, вцепилась в Работкина и давай трясти его, приговаривая: — Я тебя даром кормила! место тебе выхлопотала, твоим Толстобрюховым услуживала… Отдай, штоб те околеть, корчагу!..
— Господа, она сумасшедшая! — крикнул Работкин. Пришли сторожа и вытолкали Мирониху из отделения, а Работкина стали стыдить товарищи; но он говорил, что она давно уже с ума сошла. За Мирониху заступились веретнинцы, служащие в этом отделении, но большинство стояло за Работкина. Между тем, Мирониха не утерпела: она ворвалась в кабинет начальника Чучелы и запричитала:
— Ох, ограбили! ох, мои матушки!..
Чучело пришел в ярость, потому что баба прервала его дельные мысли. Он зазвонил в колокольчик. Пришел вахмистр.
— Позови сторожей да вытолкай ее.
— Меня? веретнинку?! Врешь! Я к самому главному пойду; тебя упеку в острог!..
Однако Мирониху вытолкали усердные сторожа на улицу, и пошла она в завод, причитая: «Батюшки! голубчики! Тридцать лет копила деньги, за всех хлопотала… А тут?.. Пятьсот рублев ведь украл Работкин-то, со всем, и с корчагой!..» Попадавшиеся ей навстречу веретнинки издевались над ней:
— Как же это так?
— Ох, в бане были!..
— Ну, вот, так и есть! Говорили мы тебе: огреет он тебя.
— В тихом-то омуте и водятся черти.
— Ну, не будет теперь лишние оники да палочки приписывать!
— Что ж ты теперь, кумушка?..
— Ой, бабы, живот болит!.. Он! И сама не знаю, што я буду делать!
Прошло с полгода с этих пор. Мирониха много изменилась: похудела, пожелтело лицо, сделалась раздражительною. Она по-прежнему работает; по-прежнему копит деньги, кладя их в чулок, а потом засовывая под нары в голбце, но как только сделается ей скучно, задумается она об украденных у ней деньгах, купит косушку, выпьет, угостит мужчин и под пьяную руку раздаст все деньги в долг, а пробудившись утром, опомнится, станет припоминать, кому она давала деньги, подойдет к стене: все стерто. Пойдет она к соседкам:
— Бабы, кто у меня вчера был из мужиков?
— А кто те знает, с кем ты амуришься.
— О, подлая! Ведь целый рубль растащили?
— Да куда тебе и беречь-то? Ведь у тебя детей махоньких нет.
— Дайте, бабоньки, опохмелиться.
Те дадут пятак; она пойдет в кабак, выпьет и говорит:
«Вот вчера украли у меня, а сегодня заняла свои же деньги…» За Миронихой ухаживают рабочие, поят ее, целуют, дразнят ее корчагой; она злится, отвертывается от них, и уходит из кабака пьяная и, пошатываясь, поет песню:
По горенке хожу, В окошечко погляжу, С помиленьким потужу! Тужит, плачет девица, Уливается слезами… и т. д.Веретнинцы и веретнинки останавливаются, дают ей проход и смотрят на нее.
— Што шары-те уставили?! — крикнет она на них.
— Што это доспелось (сделалось) с кумой-то? — спрашивают мужчины.
— Ишь, Работкин-то, ее любовник, корчагу с деньгами уволок!
— И как это она наскочила? Ах, кумушка, кумушка!..
— А он все служит?
— Все. В свой дом переехал. Сказывают, на городской хочет жениться.
На другой день Мирониха уже не пирует, а идет в город с молоком или огородными овощами — и опять копит деньги до новой выпивки. И славная она в это время, зато уж не ходит хлопотать ни за кого, только разве сосватает кому-нибудь девицу. Но хозяйство ее начинает подламливаться: в огороде плохо растут овощи, на покосе сено воруют, корова худеет, четыре курицы околели, две самые лучшие овечки неизвестно куда делись. Как посмотрит она на свое хояйство, сердце защиплет у нее — и заплачет она:
— Все подлец Работкин, да простота моя… Уж я ли не молодец была, а доконали-таки… И зачем это я совалась везде, скотинская скотина!..
И хватит Мирониха водки в кабаке, да и закутит так, что заснет там, проспит до другого дня и встанет с синяками на лице.
А Работкин все служит. Он получил чин и женился на дочери какого-то отставного чиновника, который хотя за дочерью не дал денег, но может выхлопотать Работкину хорошую должность.
1865
ПРИМЕЧАНИЯ
Впервые под заглавием «Кумушка Мирониха. Рассказ из горнозаводской жизни» напечатано в «Искре», 1865, N 42.
С измененным именем героини и в связи с этим измененным заглавием, незначительными поправками в тексте «Кумушка Мирониха. Рассказ из горнозаводской жизни» перепечатано в: Сочинения Ф. Решетникова. Т. I–II, Спб. изд. К. Н. Плотникова. 1869, Т. II. Очерки, рассказы и сцены: Серия «Добрые люди» (Состав серии: Никола Знаменский. Рассказ доктора; Тетушка Опарина. Рассказ; Кумушка Мирониха, Рассказ из горнозаводской жизни.).
Включался во все посмертные собрания сочинений.
В советский период вошел в указ. Полн. собр. соч., т. II, «Кумушка Мирониха» — один из многих рассказов и очерков Решетникова на уральскую тему, написан в 1865–1866 гг. и опубликованных в сатирических журналах «Искра» и «Будильник» («Прокопьевна», «Старые и новые знакомые», «Глухие места», «Из дорожных заметок», «Ильич», «Внучкин», «Былые чудеса», «Дедушка Онисим», «Белуга», «Шилохвостов», «На большой дороге»), К ним примыкают более ранние очерки о горнозаводских людях, об уральском мелком чиновничестве, с публикации которых в газете «Северная пчела» начался петербургский период творчества Решетникова («На палубе», «Складчина», «Лотерея», «Горнозаводские люди», «С новым годом»).
«Кумушка Мирониха» — первое произведение Решетникова, появившееся на страницах революционно-демократического журнала обличительного направления «Искра», сотрудничество с которым продолжалось до 1870 г.
О бедственном положении писателя в те годы свидетельствует дневниковая запись января 1866 г.: «Роман („Горнорабочие“. — Т. П.)… с ноября месяца не пишется. Причины тому — мое гадкое положение, доводящее меня часто до слез» (Из литературного наследия, с. 241).
В 1865–1866 гг., в пору усиления цензурного гнета с последовавшим закрытием «Современника» и «Русского слова», сотрудничество в журналах «Искра» и «Будильник» для Решетникова, как и для многих других демократических писателей, было единственным средством к существованию.
Сопоставляя незаурядные характеры героинь рассказов писателя в статье «Народный реализм в литературе», Щелгунов заключал: «К естественному здоровому типу принадлежит у Решетникова только Опарина („Тетушка Опарина“. — Т. П.) и Мирониха… Мирониха того же бойкого самостоятельного типа людей добрых, деятельных, в которых кулак-торгаш умеет ужиться с Марфой Посадницей» (Шелгунов Н. В. Литературная критика. Л., «Худож. литература», 1974, с. 311).
Т. А. Полторацкая.
Примечания к изданию: Ф.М. Решетников. Между людьми. Повести, рассказы и очерки. Изд. «Современник», М., 1985 г.
Комментарии Т.А. Полторацкой к рассказу:
… У фабрик Веретнинского казенного горного завода… — Казенными назывались горные заводы Урала, принадлежащие государственной казне; большая часть из них к концу 50-х гг. XIX в. была отдана в посессию, арендное владение, частным лицам, посессионерам.
… отстоящего от губернского города Приреченска в трех верстах… — Приреченском в рассказе названа Пермь. От нее «в трех верстах» находился один из уральских заводов — Мотовилихинский медеплавильный казенный завод («Мотовялиха») при устье р. Мотовилиха на левом берегу Камы. Из письма Ф. М. Решетникова Н. А. Благовещенскому из Перми от 10 июля 1865 г.: «Был я на четырех заводах, находящихся в. Пермской губернии». Работал на Мотовилихе в литейной фабрике, да чуть меня не зашибло воротом. Работать можно ночью в крестьянской одежде; я работал под именем семинариста, готового поступить в рекруты. (Из литературного наследия, с. 341). Эти впечатления, наблюдения за жизнью горнозаводских людей легли в основу рассказа о заводе, который назван здесь Веретнинским.
… Все у вас рыжий советник-то? — По введенной Петром I «Табели о рангах», государственные чиновники России были разделены на 14 классов. Советниками называли разные чины гражданской службы: * действительный тайный советник, чин 1 и 2 класса; * тайный, 3 класса; * действительный статский, 4 класса; * статский, 5 класса; * коллежский, 6 класса; * надворный, 7 класса; * титулярный, 9 класса.
… кренолинко… карнолин… — искаженное «кринолин» (фр.) — широкая юбка на тонких стальных обручах, бывшая в моде в середине XIX в.
… жалобу лично главному начальнику горных заводов… — Должность главного начальника Уральского горного хребта была учреждена в 1826 г.; она обеспечила заводскому начальству и заводовладельцам юридическую независимость от местной администрации, условия для эксплуатации заводских рабочих.
… Перед волей — Крепостное право в России было отменено крестьянской реформой 1861 г. в условиях революционной ситуации. Главная из буржуазных реформ 60-70-х годов проведена царским правительством в интересах помещиков-крепостников на основе «Положений 19 февраля 1861» (опубликована 5 марта 1861 г.).
… его произвели в урядники… — Урядник — здесь: рабочий урядник, десятник из младшего командного состава горных заводов Урала, поставленных на военное положение к моменту реформы 1861 г.
… Место тебе нашла, в коронную принимают… — В значении: принимают на государственную службу.
… занимался… в присутственном месте… — Присутствие (присутственное место) в дореволюционной России — государственное учреждение.
… Вахмистр — старший унтер-офицер.
… оники… приписывать! — Оник — уменьшительное название буквы «О» в старом русском алфавите.
… под нары в голбце… — Голбец — здесь: подполье, подпол нижний голбец.


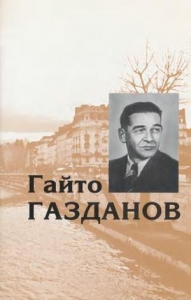

Комментарии к книге «Кумушка Мирониха», Федор Михайлович Решетников
Всего 0 комментариев