I
Станция, где задержали наш поезд, чтобы пропустить курьерский, была расположена на опушке леса. По другую сторону рельсов уходила вдаль бесконечная, тёмная равнина. На самом горизонте, где беззвёздное небо соединялось с полем, медленно выплывал ярко-оранжевый месяц, и выяснялись силуэты далёких хат. Со стороны леса пахло отсыревшей дубовой корой. Где-то очень далеко, должно быть, в самой чаще, пел соловей. Его трелей нельзя было уловить ухом, отчётливо слышалось, по временам, только так называемое "тёхканье". Был второй час ночи, но спать не хотелось. Перед этой поездкой паровоз, на котором я ездил в качестве практиканта помощника машиниста, простоял сутки в депо для промывки котла. За промывкой наблюдал сам машинист Дитмар, великодушно предоставивший мне отсыпаться в "дежурной" комнате, чем я и воспользовался. Кроме того, и ночь была уж очень хороша. С самого наступления весны не было ещё ни одной такой тихой и ласковой ночи. Дитмар спал на тендере, почмокивая губами. Наш кочегар Федот ушёл к лесу печь картошку. Было видно издали, как отблески огня перебегали по его загорелому обветрившемуся лицу. Он пел мою любимую малороссийскую песню:
«Ой ты жывешь на гори, А я пид горою… Ой чи тужышь так за мною, Як я за тобою»…Пел тихо и почти без мотива, долго вытягивая высоким фальцетом каждую последнюю строфу. Что-то ужасно грустное и безнадёжное слышалось в этой песне, точно и не песня это была, а его разговор с самим с собою… Точно он уверен был, что никогда во всю жизнь не увидит уже той, о которой так тужил. Заметив, что я подхожу, Федот вдруг смолк. Лесное эхо протяжно и грустно повторило ещё раз:
«Як я за тобою»…Я прилёг на траву возле костра. Федот посмотрел на меня своими всегда усталыми глазами и стал подгребать сухой веткой тлевшие щепки. Подложив правую руку под голову, я задумался о той совершенно новой для меня жизни, в которую окунулся после светлых коридоров технологического института и предэкзаменационной горячки. Как ни тяжела и убийственно ненормальна была эта новая жизнь, но я, незаметно для самого себя, успел полюбить и её, и тех людей, которым предстояло мириться с ней до самой смерти. Глядя на Федота и вспоминая ещё целые десятки таких же кочегаров, машинистов и их помощников, которых я узнал за это время, у меня неотступно вертелась в голове одна и та же мысль: что все эти люди, работая на паровозах, отдают службе всю свою жизнь, буквально всё своё здоровье, а иногда и всё своё семейное счастье, и никто из них не считает себя особенным тружеником. Чтобы поделиться с кем-нибудь своими думами, я попробовал вызвать на разговор Федота и спросил:
— Можно взять одну картошку?
— Что ж, берите.
— С салом это очень вкусно, правда?
Федот ничего не ответил, только дёрнул плечом, усмехнулся и стал смотреть куда-то в лесную темь. «Вкусно, коли ты завтра в зале первого класса будешь есть антрекот с гарниром, а ты бы лет десять проездил кочегаром, да сделал бы на своём веку вёрст тысяч триста, да знал бы, что никогда и помощником машиниста не будешь (Федот был неграмотен), так и картошка бы с салом надоела»… — казалось, хотел он сказать этой улыбкой. Я был глубоко убеждён, что в это время он думал именно так. Минут десять мы молчали.
— Курьер бежит, — произнёс вдруг Федот.
— Разве слышно?
— Теперь ещё по степи летит, а вот в лес вскочит, ещё слышнее будет… О, как зашумел!..
Уснувший лес действительно вдруг глухо застонал, а через несколько секунд, среди ночной тишины, ясно раздался гул бешено мчавшегося ещё версты за две поезда.
— Силенко сыпет [1], - сказал Федот.
— Ты почём знаешь?
— На уклоне на парах бежит, ещё и конус натянул, — чмыхает, опоздание нагоняет. Мы когда выезжали, он к своему паровозу А 13 шёл, ему сегодня по наряду с курьерским ехать. И бедовый же машинист!..
— Чем бедовый?
— Да так, — ездить хорошо может. А как посмотреть на него, то ничего не стоит: безусый, худой, жёлтый, только глаза блестят…
Из лесу вдруг раскатился протяжный, дрожащий свисток, и выпрыгнули сначала три ярких фонаря, затем промелькнули паровоз и освещённые электричеством окна четырёх длинных вагонов. Такта их колёс нельзя было уловить, слышен только был один сплошной звук «вввв»… Мигнули три красные точки последнего вагона. Потом резкий, но уже отрывистый свисток, и поезд пропал в темноте так же быстро, как и появился.
— От вы на тендере номера и не разобрали, а я заметил, — сказал Федот.
— Разве? — удивился я.
— Оно если бы не белой краской срисовано, то может и я проморгал бы, а то месяц как осветил, так и видно, что А и 13. Да я его и без номера знаю, восемь месяцев на этом паровозе катался; добрый паровоз, пар на нём никогда не падает и тормоз-автомат за первый сорт.
— С Силенко ездил?
— С Силенко.
При воспоминании о Силенко Федот сразу оживился.
— А дозвольте узнать, — вдруг спросил он, — что этому инженеру Стенгаузу, который тормоз-автомат выдумал, памятник где-нибудь поставлен?
— Вестингаузу? Не знаю, кажется, что нет.
— А стоило бы. Через него много людей живыми пооставалось, таких, которым беспременно пришлось бы помирать. Если бы не этот тормоз, так и я, и господин Силенко Андрей Антонович, вон там на уклоне, не доезжая леса, давно бы уже Господу Богу представились. В прошлом году, осенью, в первый день, как поехали зимним расписанием, с курьерским, он тогда здесь проходил, в семь часов утра, а может и в шесть… После дождей, да мороз сразу захватил. Ветер прямо как ножом по лицу режет. Андрей Антонович в шубу закутался, медвежий воротник поднял, папаха на лоб надвинута, только нос виден, да глаза блестят. А у меня и кожуха не было, так я поверх жилетки четыре спинжака надел, а лицо по бабьему шархвом умотал, оно и легче. Сыпем мы это вёрст по семьдесят в час, только рычаг бренчит. Стало рассветать. Завиднелся и лес. Вижу, Андрей Антонович вдруг левой рукой за колонку схватился, а правой папаху придерживает и совсем из будки свесился, вперёд смотрит, голова только от ходу мотается. Потом говорит: «А ну, Федот, глянь-ка и ты на путь, а то у меня глаза от ветру заслезились». Глянул я. Впереди, так саженей за сто, одно место на рельсах будто серой ниткой перетянуто. Может, думаю, это возле барьера дорога так показывается, ну да знаю, будки здесь не должно быть. Может, думаю, путевой сторож лопату или лом положил, а сам отдыхает, так и человека близко нигде не заметно. Хотел я это сказать Андрею Антоновичу, а он как прыгнет к регулятору — трах… и закрыл его, перекрутил рычаг, а потом за тормоз-автомат. Паровоз только дёрг, дёрг, дёрг… Меня на котёл так и бросило, губу до крови разбил. Отпустил он немного тормоз, а потом сразу на всю ручку открыл. Опять так рвануло, что страсть, а паровоз всё-таки двигается. Дёрнуло ещё раз, и стали. Спрыгнул я на землю, смотрю, шагах в двадцати от паровоза поперёк рельсов длинный железный лом проволокой прикручен. Оглянулся на поезд, и кондуктора, и пассажиры тоже повыскакивали. Какой-то старик стоит на ступеньках вагона первого класса в одном белье и сам весь белый как бумага, а из окна, через разбитое стекло, высунулась барышня с голыми плечами, кровь у неё из руки так и льёт. Должно быть, сонная от толчка с верхней полки полетела, да с перепугу в окно бросилась. Андрей Антонович, уже красный весь и без шапки, стоит над ломом, головой качает и смотрит на него, смотрит, будто глазам своим не верит. Вдруг подскакивает ко мне господин из пассажиров, в котелке, штаны на нём широкие, а книзу узкие; снимает котелок, голова у него гладко так выстрижена, и всё он этой головой кланяется.
«- Вы машинист? — спрашивает меня.
— Нет, — говорю, — я машинистом не могу быть, потому я неграмотный.
Он только плечами повёл и опять спрашивает:
— А где же он, где?
— Вон в шубе без шапки стоит.
Тот к нему опять закланялся и руку подаёт: „Я — доктор, — объясняет, и фамилию как-то чудно сказал, — позвольте вас поблагодарить, потому вы и мне, и жене, и стольким людям жизнь спасли… Спасибо вам, спасибо!..“ А сам чуть не плачет. Андрей Антонович от него только всё назад подаётся, а потом как набежит на меня:
— Ты чего смотришь? Бери зубило да молоток, западню эту нужно расклёпывать, а то потом опоздания и лопатой не выберем.
Сняли мы лом, положили к сторонке и место то, где он был прикручен к рельсам, обозначили. Смотрим, и путевой сторож бежит. Понемногу успокоились все. Главный кондуктор всё пассажиров упрашивает в вагоны садиться. Наконец, поехали опять. Андрей Антонович молчит, смотрит на путь и всё вздыхает, всё вздыхает, а после и говорит:
— Ну, если бы мы на этом месте летним расписанием ехали, в два часа ночи, пожалуй и тормоз не помог, не выскочили бы…
— А не выскочили бы.
— Ну, а как ты думаешь, Федот, что это за человек такой должен быть, который решается столько душ погубить?
— Не знаю, — говорю, — должно быть и на человека он не похож.
— Должно быть, — и опять вздохнул тяжко так.
Прибыли на станцию. Сейчас жандарма потребовали. Суета опять пошла. Нас и пассажиров допрашивали. На дрезине, на то место, где лом был, ездили. Протоколы писали. Перед самым отходом поезда приходит к паровозу опять тот доктор, что руку тряс Андрею Антоновичу, и подаёт ему какой-то пакет.
— Вы позволите предложить вам… Собственно не только от меня… Все пассажиры выразили желание… Собрали как знак особой благодарности. Правда, жизни людей дороже денег, но я и жена, мы только вчера повенчались, мы так благодарны вам. Тут всего двести двадцать рублей… Вы, конечно, не откажетесь принять…
И так у него язык заплетается как у пьяного, Андрей Антонович красный такой стал.
— Нет, — говорит, — я не могу. Я жалованье получаю, мне не нужно, да и не за что, я только тормоз повернул.
— Да, но если вы не возьмёте этих денег, вы нас всех так огорчите.
— Хм… Что же мне делать? Не могу… Ну, хорошо, только пусть эти деньги на Красный Крест, что ли, пойдут.
— Конечно, конечно, это уже от вас зависит.
— Только вы сами и передайте, а то я ей-Богу не знаю, куда и посылать нужно, да и времени у меня нет.
До тех пор торговались, пока обер-кондуктор не дал свистка к отправлению. Так Андрей Антонович и не взял этих денег. Не знаю, куда девался и господин этот, в вагон ли сел или на станции остался. Я в пути не вытерпел и говорю Андрею Антоновичу:
— Хотя бы вы для меня десяточку на сапоги взяли, ведь двести двадцать рублей из поддувала не вытрясешь.
Как закричит он:
— Да за что? Что мы с тобой пассажиров только спасали, а про себя и не думали? И сапог ты хороших всё равно не сделал бы, а купил бы за пять рублей старые, дрянные, а другую пятёрку пропил бы. Ты и так почти тридцать рублей получаешь. Что у тебя семья? Дети малые?
— Ну, — говорю, — если вы кричите, так я и рассказывать не хочу, — отворил топку и стал уголь подбрасывать.
И то потом, как раздумался, так и правда, он только тормоз повернул, а я смотрел, что из того будет».
Федот замолчал и стал выгребать из потухавшего костра картошку.
Со стороны поля потянуло предрассветной прохладой. Небо над горизонтом побледнело. Вдоль бесконечных товарных вагонов нашего поезда прошёл с фонарём в руке сторож, одетый, несмотря на теплоту ночи, в тулуп и баранью шапку. Его шаги мягко прозвучали по сырому песку и замерли где-то возле паровоза. Долго ещё только покачивался зелёный фонарик. Скоро нужно было и ехать…
II
С Силенко я познакомился в это же утро в «дежурной» комнате оборотного депо. Знакомства среди машинистов завязываются быстро и просто. Сближают общие радости и горести паровозной службы. Он сидел за грязным дубовым столом и ел нарезанную ломтиками московскую колбасу с чёрным хлебом. Возле него стояла бутылка настойки с плававшими в ней какими-то корешками. Только что поднявшееся солнце ярко освещало, через открытое окно, худую, немного сгорбленную фигуру Силенко, одетого в костюм из толстой волохатой материи и высокие смазные сапоги. На вид ему было не более двадцати пяти лет. Кожа на его лице была почти без растительности, дряблая и бледная, какая бывает у душевнобольных и у людей, страдающих от бессонницы. Его жидкие, светлые волосы казались взъерошенными: вероятно, приехав, он умывался и не вытер головы. Выражение серых быстрых глаз сразу обращало внимание, в них одновременно отражались и доброта, и лукавство. Когда встречаешь человека с таким взглядом, — думаешь: «Должно быть, очень весёлый малый». Увидев Дитмара, Силенко поздоровался с ним и сказал: «Ну, что, немец, желаешь на сон грядущий выпить настойки от всех болезней?» Дитмар потёр руку об руку, выпил две рюмки подряд и, тряхнув головою, пошёл спать. Он сильно устал.
— А вы? — обернулся ко мне Силенко.
Я не отказался и подсел к столу.
— Давно вы с немцем ездите? — спросил он и, не ожидая ответа, проглотил настойку, затем потянул в себя воздух, как будто обжёгся выпитым.
— Нет, не очень, с месяц.
— Проклинаете нашу жизнь, разумеется?
— Не совсем, в ней много интересного.
— Это редкость. Жизнь тяжёлая, отчаянная жизнь.
— Значит, она вам не нравится?
— Мне? Напротив, нравится и очень нравится, да вот, кажется, придётся бросить её. Здоровье совсем раскисло, и другие причины есть, ещё поважнее здоровья. Но куда же я пойду потом, чем займусь? Я ведь ничего не умею делать того, что делают другие люди. Могу не спать ночь и другую, могу сутки не поесть и буду свежим. Топливо беречь умею, ездить умею, ну, а чем бы я мог быть, не служа на паровозе, и вырабатывать сто-сто двадцать пять рублей в месяц, право не знаю. Скверное положение. Вроде, извините, девицы из нехорошего дома, которая и рада бы заняться чем-нибудь другим, да не может. Здоровья нет, нет и привычки к правильному труду… Ну, что же, кончим мы бутылочку? Как раз на две рюмки осталось.
Его водка мне понравилась. От неё шёл какой-то неуловимый букет и холодило во рту.
— Какая это настойка? — спросил я.
— Да я и сам хорошо не знаю. Водка хорошая, слова нет. Случалось, как угостишь ею, в добрый мороз, моего бывшего кочегара Федота, так он, дурак, от восторга даже корчится. Всегда, бывало, без собственного запаса ездит. Теперь, я слыхал, он на вашем паровозе?
— На нашем.
— Что же, вы им довольны?
— Да, с ним спокойно. Знающий он, только мрачный.
— Всё досадует, что ему помощником нельзя ездить: теперь, по новым правилам, неграмотным нельзя. Мы с ним приятелями жили. Он как будто бы и глуповат, а души в нём много. Поёт славно, ах славно поёт!..
— Он о вас тоже вспоминает, сегодня ночью рассказывал мне, как вы не захотели взять денег от пассажира, когда курьерский поезд спасли от крушения.
— Таких случаев у каждого из нас много бывает. Всем бы хорош этот Федот, да вот за одно его не люблю, — брешет много. Вы не всему верьте, что он рассказывает… Он так, иной раз целую неделю молчит, а потом как заведётся, так и не отвяжешься от него.
Силенко посмотрел на свои огромные карманные часы и вскочил с лавки.
— Через сорок минут ехать со вторым номером. Нужно ещё кое-что посмотреть на паровозе. Теперь у меня вместо Федота помощник, хоть и техник, а такой лентяй, что просто беда. Разбудить его только одно средство и есть — пятки пощекотать. Пойду. До свиданья. Спасибо за компанию. Ещё встретимся.
И, захватив свой саквояж, он быстро вышел из дежурной.
Обратно мы с Дитмаром выехали в полдень с моим любимым поездом N 11. Это единственный товарный поезд большой скорости, идущий через всю Россию с юга на север, с живностью и фруктами. С ним нет томительных часовых и двухчасовых остановок. На промежуточных станциях не заставляют делать маневров, от которых потом немеет правая рука, потому что через каждые две-три минуты нужно переворачивать тугой рычаг, изменяющий передний ход на задний.
Дитмар хорошо выспался и, не спеша, напился кофе, а потому был в отличном расположении духа. Он всё время насвистывал какой-то вальс, дирижируя самому себе указательным пальцем.
День выдался нежаркий и пасмурный. Но от этой свежести воздуха уже не веяло ничем зимним. И поля, и хутора, и отдалённые помещичьи усадьбы с тополями — всё зазеленело. Иногда поезд бежал по болотистым местам, где насыпь всегда обсажена вербами. Их только что распустившиеся листочки шумели и трепетали, проносясь мимо могучей груди паровоза, и в их шуме слышалась радость, что они опять надолго ожили. Под мерную тряску машины хорошо думалось. Невольно приходило в голову, что для природы каждый год наступают дни, когда она вся оживает и наслаждается, но нет и не может быть таких дней, когда бы все люди чувствовали себя счастливыми. Промелькнула фигура барьерной сторожихи с подвязанной щекой, и я подумал: «Пропустив поезд, она сейчас же вернётся в свой казённый домик, где пахнет тряпками, на окнах сидят тысячи мух, храпит вернувшийся с обхода участка муж и ползает по полу ребёнок с перепачканным личиком. И завтра, и послезавтра она в это время встретит такой же поезд N 11 и, вернувшись, увидит всё то же. И в следующем году… Разве только, кроме одного ребёнка, будет ещё надрываться в люльке, с мокрыми пелёнками, другой… И что жизнь этой сторожихи, вероятно, гораздо скучнее и тяжелее, чем жизнь Дитмара и Федота»…
На той станции, где мы ночью скрещивались с курьерским поездом, Федот сбегал в буфет и заварил чай в огромном жестяном чайнике. Через минуту после него из буфета вышел, вытирая рот рукавом, наш главный кондуктор, и дал свисток к отправлению. Опять едем, опять гремит рычаг. Миновали потухший костёр, в котором Федот пёк картошку и где пел заунывное:
«Ой чи тужышь так за мною, Як я за тобою»…Уклон на обратном пути стал подъёмом, и паровоз заработал медленнее и грубее. Эхо его тяжёлых вздохов гремело по всему лесу.
III
В июле казённое здание, где я жил, начали ремонтировать. Необходимо было искать новую квартиру. Обходив всё местечко, я не нашёл ни одного помещения, где бы можно было устроиться на полном пансионе, и, наконец, вспомнил о бабушке Свистунихе, у которой жил Силенко. Настоящая её фамилия была Трегубова. Свистунихой же её называли по кличке её покойного мужа, тоже машиниста. Он получил своё прозвище за манеру, приехав на склад топлива, давать непрерывные свистки до тех пор, пока не приходили рабочие, грузившие уголь на паровозы.
Свистуниха, ещё очень бодрая, только слегка дрожавшая головою, старушка, с удовольствием согласилась принять меня на полный пансион и сказала, что живший у неё в прошлом году студент-технолог был очень доволен её столом и квартирой. В лицо её машинисты называли бабушкой. О своих квартирантах она заботилась, действительно, как родная. Из них всегда хоть один возвращался или ночью, или на рассвете и всякий раз сейчас же получал и горячий борщ, и кусок свинины, и чарку настойки. После поездок, все мы, кроме Силенко, ели и пили много и даже «страшно», как выражался четвёртый наш сожитель, машинист Михайлов. Плата, вносимая бабушке квартирантами, едва оплачивала наше содержание, и казалось, что наша хозяйка дала обет посвятить остаток своей жизни людям, ездившим на паровозах.
Я поместился один в маленькой, полутёмной комнате, в которой было всегда прохладно, не надоедали мухи и так хорошо отдыхалось.
Потом, через несколько лет, я часто вспоминал нашу бабушку, удивляясь её доброте. Среди машинистов, хотя и очень редко, встречались такие, которые жили у неё в доме по целым месяцам, потом переводились в другие депо и забывали платить за квартиру совсем. Бабушка никогда не напоминала им о неаккуратности и даже не любила об этом говорить.
У бабушки мне не нужно было ни о чём заботиться, и потому в свободное время, которого выпадало очень немного, можно было погулять в окрестностях станции. Любимым местом всех железнодорожных служащих, так сказать клубом, был пивоваренный завод. Там, в густом парке, по воскресеньям, играл чешский оркестр, а в большом деревянном павильоне хорошенькая чешка, Розалия Войтеховна, продавала пиво и предлагала желающим сыграть в кегли. Я люблю бывать на заводе и за кружкой пива думать о тех людях, которые меня позабыли. Случалось, что я засиживался слишком долго, и за мной прибегал Федот звать в поездку. В ненастные дни я, лёжа в своей комнате, у бабушки, или читал, или разговаривал с Силенко.
Теперь я видел его почти каждый день. Мы сблизились. В нём было много детского добродушия и откровенности. В машинисты он попал случайно из пятого класса гимназии. После смерти отца, которого очень боялся, Силенко заленился и публично заявил учителю греческого языка, что учить ерунды не станет. Его уволили. Долго горевавшей матери едва удалось его устроить в железнодорожное училище. Там Силенко считался лучшим математиком и кончил курс первым. Иногда мне казалось, что Силенко ничем не отличается от других железнодорожных рабочих, до такой степени бывал он наивен в решении самых сложных житейских вопросов. Говоря же о механике и о паровозе, он точно лекции читал, и тогда казалось, что слушаешь очень серьёзного и учёного человека. Он был почти единственным машинистом во всём депо, который любил свою службу, как любят искусство для искусства.
«Сверху мой паровоз всегда был и будет как куколка, а в будке чистота такая как в кабинете у начальника тяги», — часто говорил Силенко. И это было на самом деле так. Я долго не мог понять, почему, несмотря на такую любовь к делу, он, иногда без всякой видимой причины, начинал говорить хныкающим тоном, что ему необходимо бросить службу, иначе он — пропащий человек. Рассказывал он это обыкновенно возвратившись от каких-то своих знакомых. Месяца через полтора для меня, наконец, стало ясным, в чём тут дело. Силенко увлёкся станционной библиотекаршей. Увлёкся искренно и страстно, что называется «вовсю». Всё свободное время он проводил не у знакомых, а возле неё, помогая сортировать книги. Спать днём перестал. Пассажирские же поезда, с которыми ему приходилось ездить, были почти все ночные. Его глаза стали блестеть ещё сильнее, и тёмные подпалины под ними выделились резче. Но на страдальца он всё же похож не был. Часто шутил и рассказывал анекдоты.
Как-то проснувшись в своей комнате, я курил папиросу и, сладко потягиваясь, думал о том, что до поездки осталось, должно быть, ещё часа три, и можно будет написать несколько писем. Вдруг дверь скрипнула и вошёл Силенко.
— Можно? — спросил он.
— Пожалуйста.
— А я боялся вас тревожить, думал, вы спите.
Он сел на стул, потёр двумя пальцами свой бледный лоб с выступившими на нём каплями пота и, понизив голос, продолжал:
— Хотел я с вами насчёт одного дела поговорить, так как имею к вам доверие, и вы — всё же образованный человек. Самому не видно. Только дайте мне слово, что ни одна душа про это знать не будет.
Я дал слово.
— Есть тут, на станции, одна барышня, настоящая барышня, образованная, красивая и чудесный человек. Знаком я с нею уже давно — с полгода. Если бы всю жизнь возле неё быть, так, кажется, ничего другого на свете не пожелал ни видеть, ни знать. Ну и вот думаю я на ней жениться… Ах, ах, ах, всё это так, но точит меня одна мысль: захочет ли Мария Ивановна быть женой машиниста? Захочет ли каждый день видеть меня грязным, чёрным? И выходит, по моему, так, что нужно бросать паровоз. А на кой чёрт я годен, если я оставлю свою службу? Как вы скажете?
— Думаю, что если она вас любит, так ей всё равно — машинист вы или нет.
— Ах, какие вы ей-Богу… Разве всё равно видеть мужа в неделю три раза и замученным или каждый день?
— Да ведь вы же пассажирский машинист и дома бываете почти каждый день.
— То-то и есть, что только почти. Днём приедешь, заснёшь, а вечером уже к шестому номеру пожалуйте. Разве это дома?
— Ну, хорошо, а что она вам говорит?
— Она? Да покамест ничего не говорит.
— Да ведь вы предложение уже сделали?
— Нет ещё. Вторую неделю собираюсь. Не идёт язык, да и шабаш. Только, кажется, вот-вот могу ей всю душу выложить, а тут кого-нибудь принесёт в библиотеку. А останемся одни, — все мысли врассыпную пойдут, всё из головы выскочит. И не трус же я. В дороге, Боже мой, каких только случаев не бывало. А вот в этаком деле на мёртвую точку стал и не сойду. Посоветуйте, как сделать? Разве письмо написать? Только не выражу я…
— Очень она вас любит?
— Да как же я это могу знать? Относится ласково, хорошо. Постоянно благодарит, если помогу ей счета свести или записать что. Улыбается. Двадцать второго числа, на её именины, я ей конфет самых лучших привёз. Тоже благодарила и ручку поцеловать дала. Стало быть…
— Нет, это ещё не стало быть.
— Разве?
Выражение его лица стало испуганным.
— Что же я вам могу посоветовать? Если бы я знал её, ну тогда ещё другое дело, а так, право трудно.
— Я вас познакомлю.
— Хорошо.
Силенко опять стал тереть лоб, по-видимому, что-то соображая, и надолго замолчал.
— Вам скоро ехать? — вдруг спросил он и поднялся со стула.
— Часа через три.
— А мне ночью, почтовым. Знаете что, дорогой мой, хороший, пойдёмте мы сейчас в библиотеку. Вы скажете, будто вам нужно руководство паровозной механики Бема. Пойдёмте, пожалуйста! В другой раз такого времени не выберется ведь днём. Хорошо?..
Мне ужасно не хотелось идти по жаре, а главное, вставать и одеваться, но не хотелось огорчать и Силенко.
— Ну, хорошо, пойдёмте. Только я не знаю, зачем? Всё равно из этого ничего не выйдет… — сказал я, глядя в его добрые, умолявшие глаза.
— Да я вас познакомлю. Ах, спасибо вам! Давайте-ка я помогу вдевать запонки в чистую сорочку, скорее будет.
Летом надевать крахмальное бельё — для меня всегда было мучением, и я невольно покривился. Но Силенко сказал об этом таким тоном, как будто идти к Марии Ивановне в блузе было решительно нельзя. По дороге в библиотеку он без умолку болтал, очень спешил и два раза споткнулся о шпалы.
Я почему-то подумал, что для него это дурное предзнаменование.
— Ах, ах, Боже мой, и как же так говорить, всё равно быть женой машиниста или вольного человека. Машиниста никто не уважает, кроме своего же брата. Руки никто не подаёт. Какой-нибудь кондуктор, глупый как индюк, и тот себя выше почитает, потому что хоть он манометр и за часы принимает, но у него, видите ли, работа чистая, и он дамам в купе ноги пледом может укутывать. Положение наше скверное, что и говорить. О машинисте вспоминают когда? Тогда, когда он или поезд разобьёт, или сонный проедет станцию, а как же не быть сонным, если нет ни дня, ни ночи? И для чего вспоминают, чтобы под суд отдать, а сами же на запасный путь и направят на товарные вагоны. Пассажирскому машинисту, правда, легче, за его отдыхом больше следят. Да ведь из пассажирского не так трудно стать товарным, а там, сами знаете, малое движение — сиди; большое движение — нет тебе ни отдыха, ни праздника, ни погоды… Ну это всё ещё туда сюда, привыкнуть можно. А как жена изменять начнёт, так и к этому разве привыкать? А как же ей не изменять, будь она сто раз образованная и добродетельная, когда она и днями и ночами без мужа.
Силенко говорил таким тоном, как будто его женитьба на Марии Ивановне была делом решённым, и потому именно, что я согласился пойти в библиотеку. От его слов мне стало и смешно, и грустно. Мария Ивановна встретила нас обоих очень равнодушно. Высокая блондинка с золотыми волосами и лукавым взглядом, она была действительно хороша. В общем же от её красоты получалось неприятное впечатление чего-то неестественного, как от изображений тех женщин, которых рисуют конфетные фабриканты на своих объявлениях.
— Позвольте вам представить, Мария Ивановна, это наш будущий начальник депо, а может быть и всей тяги, инженер… — начал Силенко.
— А пока ещё ни то, ни другое и ни третье, — перебил я его, подавая ей руку.
Мария Ивановна улыбнулась, облизала кончики своих розовых губ и проговорила:
— Очень приятно познакомиться с просвещённым тружеником механики.
Силенко многозначительно посмотрел на меня, дескать: «Слышите, как она выражается», не подозревая, что её слова меня сразу же неприятно поразили. В этой фразе так же как и в самой Марии Ивановне почувствовалась деланность. В библиотеке я был в первый раз. Но, рассмотрев Марию Ивановну, мог наверное сказать, что встречал её где-то прежде.
Перелистывая каталог, я старался восстановить в памяти эту встречу и вдруг вспомнил прошлое воскресенье и пивоваренный завод. Слушая заунывную мелодию чешского оркестра и любуясь закатом, я засиделся в одном из отдалённых павильонов парка. Когда солнце ушло за деревья, и в просветах ветвей остались только золотистые блики, моё внимание неожиданно было отвлечено звуками сочного поцелуя. Целовались где-то очень близко от меня. Потом стали шептаться. Не желая мешать счастливым, я тихонько вышел из павильона и, пройдя несколько шагов, увидел сценку, которая совсем не была редкостью в парке завода. За развесистым кустом орешника на лавочке сидел учитель станционной школы Пантюхов, обняв за талию какую-то женщину. Услыхав мои шаги, она быстро подняла свою голову с плеча учителя и испуганно посмотрела в мою сторону. Насколько возможно, я прикинулся ничего не заметившим и поспешил к кассе Розалии Войтеховны расплачиваться за пиво. Всё виденное мною забылось в ту же ночь на паровозе. Теперь же, взглянув ещё раз на Марию Ивановну, я уже не сомневался, что женщина, которую обнимал Пантюхов, была она. На душе у меня стало ужасно больно, когда я посмотрел в радостно блестевшие глаза стоявшего возле меня Силенко. Радовало только одно, что Мария Ивановна не узнала меня, вероятно, потому, что я был тогда в грязной блузе и жокейской шапочке. Посидев ещё минут пять и захватив ненужного мне Бема, мы вышли из библиотеки.
— Ну, что? Ну, как? Сразу видно, правда? — забросал меня на ходу вопросами Силенко, заглядывая мне в лицо.
— Да. Конечно. Ничего. Красивая барышня… — отвечал я ему, думая, сказать или не сказать ему всё, что я видел на заводе.
Чем веселее и радостнее звучал голос Силенко, тем печальнее казался мне его роман. Я решил ему ничего не говорить и, по возможности, устранить себя от всякого вмешательства в их отношениях с Марией Ивановной. Я был уверен, что, узнав всю правду, он счёл бы меня за клеветника.
Чтобы вернее удержаться от излишней откровенности, я сказал Силенко, будто мне нужно сейчас переменять набивки на своём паровозе, и, крепко пожав его худую руку, пошёл в депо.
IV
Марию Ивановну я потом видел довольно часто, обыкновенно гуляющей с учителем или с рябым помощником начальника станции из неудавшихся кавалеристов.
«И дёрнуло же этого Силенко влюбиться! — часто думал я, глядя на неё. — Совсем он к ней не подходит. Самым лучшим для неё мужем был бы Пантюхов, человек спокойный, полуинтеллигентный, будет по вечерам с тёщей раскладывать пасьянс, а Мария Ивановна нянчить своих детей, и больше ничего на свете им не будет нужно. А впутается Силенко со своею страстностью, — и их мещанское счастье разорит, и сам пропадёт!..» Иногда мне приходилось встречаться с Марией Ивановной в библиотеке. Она бывала со мною очень любезна. В её голосе всё время как будто звучало: «Я вас понимаю, я вам сочувствую». Здороваясь, она подавала руку мягко, точно хотела погладить. Часто принимала задумчивые позы и говорила, что её всю трясёт, когда она думает о машинистах. Но трясёт ли её от того, что их работа грязная, или от сознания, что им живётся тяжело, — разобрать было невозможно. Как-то и для меня, и для Силенко выдались целые свободные сутки. Его паровоз стал на промывку, а мой был в ремонте. Я пошёл гулять, выкупался в реке и вернулся к бабушке только часа в четыре.
— Андрей Антонович обедал? — спросил я её о Силенко.
— Как же, станет он днём обедать. С самого утра нарядился в сюртучную пару, раскричался, что тут никто не умеет манишек гладить, и убежал. Теперь разве явится завтра, когда под поезд выезжать будет нужно. Что-то с ним происходит, и сама не пойму…
Но против нашего ожидания Силенко вернулся скоро и даже сам попросил есть. Вид у него был усталый, воротник крахмальной сорочки от пота раскис, и галстук съехал на бок. После обеда он переоделся в свой волохатый пиджак, лёг на кровать, заложив ногу на ногу, и принялся что-то насвистывать. Видно было, что он зол, и на душе у него скверно.
Перед вечером, чтобы немного развлечь его, я предложил пойти вместе на станцию.
— Лучше бы уже ехать, чем там шататься, — сказал Силенко, когда мы вышли.
— А что?
— Да помилуйте. Вчера ведь человеческим голосом сказал я Марии Ивановне, что паровоз мой станет на промывку. Спрашиваю: «Будете дома?» — «Буду». А сегодня пошёл я к ним, — «Нет», — говорят. Пошёл в церковь и там нет, и в библиотеке нет. Так ведь делать не годится.
— Знаете, чем больше заискивать у женщины, тем меньше будет внимания, — сказал я.
— Может быть.
Силенко опять стал что-то насвистывать. Был седьмой час. На пассажирской платформе ожидали почтовый поезд, и по случаю праздника гуляло много народу. Я предложил Силенко пойти тоже на платформу. Он отказался.
— Не стоит. Мы ведь не публика, лучше после поезда пойдём в буфет и выпьем пива. Тогда спокойнее.
Мы сели на брёвнах по другую сторону рельсовых путей, как раз против платформы. Возле нас постоянно проходил то взад, то вперёд маневрировавший паровоз. Из его будки выглядывало весёлое лицо помощника машиниста Ольшевского. Проезжая мимо, Ольшевский каждый раз улыбался, должно быть желая выразить сочувствие тому, что мы свободны. Вечер наступал тихий, хороший. От маневрировавшего паровоза иногда проносился лёгкий запах каменноугольного дыма. Со стороны пивоваренного завода слышалась музыка. На платформу вышел лакей-татарин с салфеткой в руке и, широко расставив ноги, с удовольствием втягивал в себя свежий воздух.
Силенко сидел молча, опустив голову, потом прищурился и стал внимательно смотреть на платформу. Возле лакея появился рябой помощник начальника станции и, сделав строгое лицо, изо всех сил закричал по направлению к составителю, руководившему маневрировавшим паровозом:
— Это чёрт знает что за свинство, через двадцать минут прибудет почтовый поезд, а вы со второго пути ещё не убрали товарных вагонов!.. Ведь он на втором пути станет. Да поспешите же, что вы меня под суд хотите отдать?..
Составитель остановился, замахал красным флагом Ольшевскому, потом вскочил на ступеньку паровоза и быстро уехал вместе с ним вперёд к стоявшим на запасном пути товарным вагонам. Послышались три свистка. Затем ещё два, и через минуту товарные вагоны, задним ходом, тронулись к нам.
— Смотрите, смотрите, — вдруг сказал Силенко, схватив меня за руку и указывая на платформу.
Я посмотрел и увидел возле помощника начальника станции расфрантившуюся Марию Ивановну, с учителем под руку; она чему-то громко смеялась и размахивала своим зонтиком.
— Я пойду туда, — сказал Силенко.
— Да плюньте вы, ведь это значит — не иметь самолюбия.
— Нет, пойду.
Силенко сорвался с места, поправил фуражку и быстро пошёл через рельсы вперёд.
Угол вагона маневрировавшего поезда толкнул его и чуть не сбил с ног. Силенко не обратил на это обстоятельство никакого внимания, вероятно, ему и в голову не пришло, как близок он был к смерти. На платформе он замедлил шаги и, не доходя до Марии Ивановны и её кавалеров, вежливо поклонился, но не получил ответа. Должно быть решив, что его не заметили, он подошёл ещё ближе и опять снял фуражку. Мария Ивановна круто повернулась и, взяв крепче учителя под руку, двинулась в противоположную сторону. Силенко показался мне очень похожим на нищего, просящего подаяния, и на душе стало невыразимо больно за него. Он вдруг, в одну секунду, страшно побледнел, — так бледнеют суеверные люди при виде явления, кажущегося им сверхъестественным. Руки его точно судорогой дёрнулись вперёд и снова опустились. Не взглянув вслед Марии Ивановне, Силенко почти побежал с платформы в станционный садик. Я решил в этот день ничего у него не спрашивать, а поговорить после моего возвращения из поездки, и пошёл домой. В этот раз наш паровоз долго держали в оборотном дело, и мы с Дитмаром вернулись только через сутки в час ночи.
Придя на квартиру, я сразу заметил, что кровать Силенко была без тюфяка, а висевшие над нею фотографии сняты.
Бабушка испуганным голосом сообщила мне, что он взял полный расчёт, расплатился с нею и уехал, не сказав никому ни слова. Потом машинисты говорили, что видели его на одной из отдалённых станций сильно пьяным. Встретив как-то Марию Ивановну одну, я завёл разговор о Силенко. Она томно улыбнулась и в нос протянула:
— Я не понимаю, к чему вы мне всё это рассказываете, ведь большой беды для него не произошло никакой…
* * *
Через два года я был по службе в главных мастерских нашей дороги. Проходя по токарному отделению, у одного из станков я увидел Силенко и подошёл к нему. Он сильно изменился, под глазами были мешки, всё лицо сморщилось, и впалая его грудь стала как будто ещё уже. Мне он не обрадовался и на все расспросы отвечал неопределённо и неохотно, точно умоляя, чтобы я скорее оставил его в покое. Подав на прощание ему руку и взглянув на этого полуживого человека, я вспомнил слова Марии Ивановны: «Ведь большой беды для него не произошло никакой»…
1903
Примечания
1
На языке машинистов: летит, несётся.
(обратно)
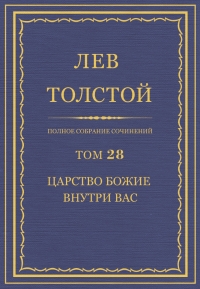
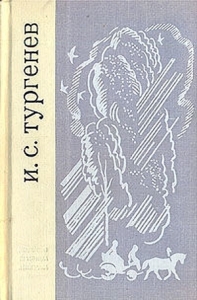

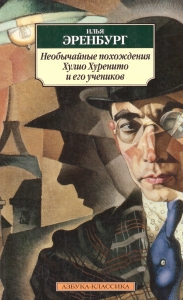
Комментарии к книге «Машинист», Борис Александрович Лазаревский
Всего 0 комментариев