Герцен
Это было в поездку между Веной и Подволочиском.
По всей Европе вы летали с экспрессами, носились, как вихрь, — от Вены к Подволочиску поезд идёт медленно, словно нехотя, — и колёса стучат:
— Читайте! Читайте!
Во всех купе читают, читают жадно, глотают, захлёбываются и, не доходя Подволочиска, из всех почти окон полетят русские книги, брошюры, листки.
Обе стороны полотна усеяны книгами. Жителям Подволочиска есть из чего свёртывать папиросы! Если бы они захотели, они могли бы составить себе огромнейшую библиотеку.
И что за странная была бы эта библиотека!
В ней «Былое и думы» Герцена стояли бы между сборником порнографических стихов и книжкой какого-то полоумного декадента, который вопиет:
— Разве террор для террора не полон уже, сам по себе, красоты и величия?
Порнография, дикий, кровавый бред и благородные мысли, — всё свалено в одну кучу!
В этом «читательском поезде» я познакомился с Герценом.
Уже от предисловия «С того берега» кровь бросилась мне в голову, слёзы подступили к горлу.
Передо мной открылся новый мир, как открывается новый мир всегда, когда вы открываете гениальную книгу.
Передо мной, счастливым, радостным, взволнованным, вставал, в величии слова и мысли, новый для меня писатель, мыслитель, художник — умерший, бессмертный.
Какое благородство мысли, какая красота форм!
И эту книгу я должен буду выбросить перед Подволочиском в окно, как порнографическую брошюру!
Из-за чего?
Разве мир не шагнул вперёд за те тридцать лет, как умер А. И. Герцен?
Разве не многое из того, что осуждал он, осуждено уже историей?
Разве во многом его книги не обвинительный акт, по которому уже состоялся обвинительный приговор истории?
Из-за чего же?
Неужели из-за рассеянных там и сям личных нападок, которые, потеряли теперь уже весь свой яд, потому что те, в кого они были направлены, уже давно померли?
Да разве ж в этих резких строчках Герцен-мыслитель, Герцен-художник, Герцен-великий патриот, отличающийся от патентованных патриотов тем, что он любил свою родину просвещённой любовью?
Разве этот великий ум, благородное сердце, великий мыслитель, несравненный художник, друг и поборник всего прекрасного, волнующий кровь благороднейшими желаниями и наполняющий ум благороднейшими мыслями, опьяняющий любовью к людям, не был бы Герценом, если бы из-под его пера не вышло нескольких обидных для личности строк?
Разве в этих строках весь Герцен?
И перечитав ещё раз, на прощанье, предисловие «С того берега», я с завистью подумал о том потомке, который будет, счастливец, свободно воспитывать свой ум и своё сердце на Герцене и читать его так же невозбранно, как читаем теперь князя Мещерского и «раскаявшегося» господина Тихомирова.
Но поезд подходил к Подволочиску, я отворил окно, — простите сентиментальность, поцеловал книгу, зажмурился и выбросил её в окно.
Зажмурился, — потому что и теперь, через много лет, один на один с самим собою, я краснею при этом воспоминании.
Так тяжело уничтожать книгу, конечно, если не занимаешься этим специально. Словно убиваешь человека. Хуже! Убиваешь лучшее, что есть в человеке, — мысль. Сотни тысяч людей прочли бы эту книгу, эти мысли, эти чувства, — и ты отнимаешь у сотен тысяч их достояние.
Я выглянул в окно. Книга белела около полотна, вдали. Она осталась по ту сторону границы.
Бедный Герцен!
Окружённый поклонением, славой, он так тосковал, так страстно, безумно тосковал по своей бедной, занесённой снегами родине.
И через тридцать лет он не может вернуться на родину.
Теперь, когда много приговоров пересмотрено историей, о нём приговор ещё не пересмотрен.
Добиться пересмотра этого приговора. — какая достойная цель для отделения словесности Академия наук!
Пусть к нам вернётся хоть только то, что было вечного и бессмертного в Герцене.
И останутся даже по ту сторону границы те вспышки раздражения, значение которых умерло вместе со смертью людей, на которых они были направлены.
Пусть отделение словесности Академии наук любящей и осторожной рукой коснётся Герцена и вернёт России её достояние.
Герцену время вернуться из Европы.
Его мать, его страна, любимая и любящая, тоскует и ждёт своего великого, своего бессмертного сына.
И втихомолку плачет о нём сегодня, в годовщину его смерти, от тяжести двойной разлуки.
Трагедия Гоголя
Однажды человек пришёл к человеку и сказал ему:
— Ведь, я тоже человек!
Начало легенды «о властителе всей Индии и самом последнем парии».Камин полыхал.
Пламя охватывало исписанные листы бумаги, — и по стенам тёмной комнаты дрожал его красный отблеск.
Красный, кровавый, зловещий.
Словно отблеск сатанинского пламени.
Словно кусочек ада бушевал за железной решёткой камина.
Перед камином, сгорбившись, сидел Человек, жалкий, великий, несчастный, избранник небес, измученный и властитель душ.
И ему казалось, что это не пламя берёт и уничтожает исписанные листы, — что сатана схватывает каждую строку.
И он, с ужасом глядя на огонь, шептал тонкими, бледными, дрожащими губами:
— Оставь меня, сатана!
А сатана был кругом, везде.
Сатанинские слова чернели на белой бумаге.
Сатана был в нём самом, наполнял его душу.
Человек глядел на горевшие листы.
Знакомые имена, слова ярко освещались огнём и исчезали в пламени.
Сколько минут смеха, веселья, вдохновенья, — сколько сладких минут творчества и радостных, подступавших к горлу, слёз — исчезало в огне.
И Человеку было так страшно, страшно жаль этих горевших в огне листов.
Жаль этих сатанинских писаний.
— Отступись, отступись от меня, сатана! — шептал он, с ужасом чувствуя, что жалеет горевшие листы.
И, борясь с грешной жалостью, он вызывал образы милых, добрых, праведных, благочестивых людей, которым будет радостна гибель творений сатаны.
— Я возрадуюсь с вами, любимые мои!
И они проходили перед ним, со смиренными лицами, пахнущие немного ладаном, немного деревянным маслом.
Человек улыбался им, они были милы ему.
И что-то забавное сквозило в их милых чертах, в их постных фигурах.
Словно умилённые просвирни!
Как забавны, как комичны они, с их ханжеством, с их перепуганными лицами, с их маленькими, куриными мозгами.
Как жалки, как ничтожны!
Как милы и ничтожны!
И они обращались в художественные образы, забавные, жалкие, смешные, — и Человек улыбался, думая о тех курьёзных фигурах, которые он создаёт из них.
И он задрожал всем телом, поймал себя на этих мыслях, на этом смехе.
— Оставь, оставь меня, сатана!
А из тёмных углов комнаты, освещённых дрожащим красным полымем камина, — выходили фигуры карликов, маленьких, несчастных, оплёванных.
Они имели вид уничтоженных, жалких людей.
Шёл городничий, и мундир висел на нём, как тряпка, шпажонка болталась и путалась сбоку. Ноздрёв имел сконфуженный вид. Манилов со слезами на глазах вёл за руку жену, не смея взглянуть на неё от стыда. Собакевич не знал, куда девать глаза. Бедняга мичман Жевакин не мог найти себе места.
И эти маленькие люди подошли к большому, к великому Человеку и подняли на него глаза и сказали:
— Ведь мы тоже люди! Разве виноваты мы в том, что мы пошлы, глупы или ничтожны? Мы не виноваты в этом! Мы жалкие и несчастные, — но братья твои. А ты, ты, великий человек… Как орёл, парящий в небесах… Что ты сделал для нас? Ты осмеял нас, ты с хохотом остановился над нашей скудостью, над нашим убожеством. Ты пригвоздил нас страшным и жгучим словом твоим. Пусть все, пусть весь мир хохочет над жалкими братьями твоими! Ты бичевал нас смехом твоим!
И жалкая толпа оплёванных людей стояла перед великим человеком и с укором, со слезами глядела на него.
— Всё, всё обнажил! До стыда, до боли обнажил! — раздался болезненный, мучительный крик из толпы.
И великий человек с ужасом смотрел на толпу маленьких, людей.
Он узнавал их.
Узнавал каждого из них.
И мало-помалу их огорчённые лица начинали казаться ему забавными.
Городничий смотрел сокрушённо.
Великому человеку показалось, что Сквозник-Дмухановский сейчас скажет:
— Чина, звания не пощадил!
Но с уст городничего вырвался такой глубокий, такой человеческий вздох.
Старик Иван Иванович смотрел укоризненно.
Казалось, он скажет сейчас:
— А что касательно будто бы Гапки, милостивый государь мой, сие, как персонально чести моей касающееся…
Но по его старческим щекам текли слёзы, а дрожащими губами он прошамкал:
— За что-с? За что?
И Человек в ужасе, в ужасе от смеха, зазвучавшего было снова в его душе, вскочил:
— Оставь, оставь меня, сатана!
И кинул в огонь все рукописи, которые лежали на полу около его кресла.
— Возьми, возьми своё, сатана! И оставь, оставь меня!
И полный ужаса пред сатаной, который наполнял его душу, — Человек, жалкий, великий, несчастный, избранник небес, рыдал, стоя на коленях, молился, дрожал.
— Оставь, оставь меня, сатана!
А сатана был его талант.
Цыплёнок (Восточная сказка)[1]
Это было в Индии.
В Индии, где боги ближе к земле, и от их благодатного дыхания на земле случаются чудеса.
Такое чудо случилось в Пенджабе. Жил-был в Пенджабе великий раджа. Премудрый и славный.
От Ганга до Инда гремела слава его. Даже далёкие страны наполнялись благоуханием его ума.
Из далёких стран сходились люди послушать его мудрости.
Божество сходило к нему и беседовало с ним, и говорило его устами народу. И он всех принимал под тенью развесистого баобаба.
Он был богат и могуч, но оставил всё и удалился в лес, и поселился там, далеко от людей и близко к божеству.
Целыми днями он стоял на коленях, устремив к небу восторженный взор.
И видел он в голубой эмали божество, доброе и грустное, с печалью и любовью смотревшее на землю. Когда же приходил кто, старый раджа прерывал для него своё созерцание божества и беседовал с пришедшим, пока тот хотел. И обращались к нему с вопросами, сомнениями все, кто хотел.
Кругом кипели войны, совершались насилия, носилось горе, — и на всё, как эхо, откликался из глубины леса страдавший и молившийся старый раджа.
Его голос то гремел, как раскаты небесного грома, то проносился, как проносится по цветам лёгкое дыханье весеннего ветерка.
Грозный к сильным, полный любви к слабым.
И звали мудреца индусы:
— Великая Совесть.
Так жил в глубине леса старый, ушедший от всех благ мира раджа.
У него были враги.
Они кричали:
— Зачем он ушёл от мира и не живёт, как прилично радже?!
— Он делает это ради славы!
— Из лицемерья!
— Он пресытился!
И были около него хуже, чем враги, — его ученики.
Они тоже бросили всё. Хотя им нечего было бросать.
Они тоже отказались от всего. Хотя им не от чего было отказываться. Они жили также под сенью окрестных деревьев, выбирая для этого баобабы, — потому что великий учитель жил под баобабом.
Они носили лохмотья, которые тлели у них на теле.
Они ползали на брюхе, боясь раздавить ногой насекомое в траве.
Встречаясь с муравьём, они останавливались, чтобы дать ему время уползти с их пути и не задавить его. И считали себя святыми, потому что, дыша, закрывали рот рукою, чтобы нечаянно не проглотить и не лишить жизни маленькой мошки.
Подражая великому учителю, они также целыми днями стояли на коленях и смотрели, не отрываясь, вверх, хотя он видел в небе божество, а они видели только кончик своего носа.
И вот однажды учёный раджа заболел. Смутились все кругом, что уйдёт из мира Великая Совесть, и бросились к инглезским врачам с мольбою:
— Спасите нам его.
Инглезские врачи, посоветовавшись с их мудростью, сказали:
— Старый раджа истощён. Возьмите цыплёнка, сварите его и дайте пить больному. Это подкрепит его силы.
Сейчас же принесли цыплёнка.
Но факиры закричали голосами, дикими, как вой шакалов:
— Что? Не он ли, когда голод изнурял нас, отдавал свой рис муравьям, потому что и муравьи в голодный год голодны также. Не он ли говорил: «Не убивайте». И вы хотите напоить кровью его сердце. Убить живое существо, чтобы спасти его.
— Но он умрёт.
— Но мы не допустим убийства!
И старый раджа умер.
А цыплёнок остался жив.
Боги близко живут к земле в великой таинственной Индии.
Увидав то, что происходило, Магадэва улыбнулся печальной-печальной улыбкой и вычеркнул завет, что начертал на золотой доске:
— Не поклоняйся идолу…
И написал с грустной улыбкой:
— Не поклоняйся цыплёнку.
Толстой и сегодняшний день
Вдали от «всякого другого жилья», около бочки, лежал на песке голый грек и грелся на припёке.
К нему с блестящей свитой подъехал царь.
Царь спросил:
— Не могу ли я что-нибудь для тебя сделать?
Грек посмотрел на стоявшую перед ним пышную толпу, вероятно, так, как мы смотрим на пёстро оперённых птиц, — с любопытством, но без зависти.
И ответил:
— Отодвинься немного от солнца.
Вероятно, многие из присутствовавших тогда с удивлением пожали плечами.
Через много-много сот лет пожал плечами и я, думая как-то случайно об этом эпизоде, случившемся так далеко и давно.
Неужели Диоген, действительно, ничего не мог попросить у Александра?
Неужели он не знал ни одного несправедливо обвинённого и не мог попросить за него царя?
Неужели в Греции все были так счастливы? И не было ни одного несчастного, чтоб сказать царю:
— Помоги ему!
Он мог бы, пользуясь царским словом, спросить несколько «талантов» и сделать на них много-много добра.
Конечно.
Только тогда он не был бы Диогеном…
К Л. Н. Толстому обращаются с вопросами:
— Что он думает о войне?
— Что он думает о той или другой форме правления?
— Что он думает о тех или других способах борьбы?
Мне кажется, что Толстой должен испытывать то же, что он испытывал, когда в Крыму к нему обратилась одна англичанка…
Не знаю, анекдот это или факт.
Говорят, что в Гаспре к Льву Николаевичу явилась целая компания туристов-англичан.
Среди них была одна дама, которая попросила карточку у великого писателя:
— Я с таким восторгом читала ваши произведения!
Лев Николаевич спросил:
— Какие же именно?
Любительница великих людей и их карточек не знала ни одного…
Я понимаю ещё, что русский человек может обращаться к Толстому со всеми этими вопросами.
Живя в России, конечно, нельзя знать Толстого.
Но совершенно непонятно, как человек может ехать из Парижа, чтобы «интервьюировать» Толстого по этим вопросам, как можно посылать ему телеграммы с уплаченным ответом «на сто слов» из Америки?
Слово из Америки стоит рубль.
Гораздо дешевле послать в ближайшую книжную лавку и купить сочинения Толстого.
Ездить, телеграфировать. Можно ли так бесполезно тратить время и деньги?
И, отправляясь к писателю, обнаруживать такое глубокое незнакомство с его произведениями?
Если бы французский журналист, отправляясь из Парижа в Ясную Поляну, купил себе на дорогу что-нибудь из произведений Толстого, — он вернулся бы обратно, не доехав до Эйдкунена.
Обратиться к Толстому с вопросом:
— Как нам лучше устроить нашу культурную жизнь?
Если бы Толстой был зол, — он подарил бы спрашивающему «Рабство нашего времени».
Я жил за границей, когда, — сразу на всех европейских языках, — вышла эта книга.
Я жил тогда в старом городе Франкфурте-на-Майне.
Зимою. Гулял по его средневековым узеньким улицам, с нависшими над головой выступами верхних этажей. Мимо покрытых инеем статуй Гуттенберга и Берне. Просиживал свободное время в маленькой «классной комнате», где Гёте написал пролог к «Фаусту».
Здесь «Der Geist»[2] беседовал «mit dem Teufel»[3].
И доставлял себе высокое удовольствие, которое — увы! — можно доставить себе только за границей. Читал параллельно «Женщину» Бебеля и «Рабство нашего времени» Толстого.
— Прежняя форма рабства исчезла, — говорит Толстой, — за ненадобностью. Есть иное средство превращать людей в рабов, на каком угодно расстоянии. Это — деньги.
— Капитал — орудие рабства, — говорит Бебель.
— Вся так называемая культура держится на рабстве! — говорит Толстой. — Деньгами одни заставляют других на себя работать!
То же говорит Бебель:
— Вся теперешняя культура держится на рабстве, и рабство держится при помощи денег.
И оба мечтают о том времени, когда этой несправедливости, этих «принудительных работ» не будет.
Так в полном согласии они доходят до… выгребной ямы.
Перед выгребной ямой они останавливаются и от выгребной ямы расходятся в разные стороны.
Вы найдёте, быть может, тон шутливым по отношению к Толстому? Ведь нынче нет читателя, — все цензоры!
Но, свободный в мысли и духе, даже перед Толстым зачем я буду стоять на коленях? Я предпочитаю улыбаться тем, кого люблю.
Толстой говорит:
— Ну, а кто, — при новом, каком бы то ни было, порядке вещей, — захочет заниматься грязной и отвратительной работой? Чистить, например, выгребную яму? Добровольно, конечно, никто не захочет! Следовательно, придётся же найти какие-нибудь средства принуждать одних делать то, чего не хотят делать другие. А принудительные работы — рабство. Следовательно, раз будет существовать культура, — будет и рабство.
Бебель говорит:
— Культура при помощи успехов техники, сумеет сделать так, что отвратительных, грязных, вредных, а потому и унизительных работ не будет совсем. Она сделает всякую, самую грязную теперь, работу чистой, безвредной, лёгкой и приятной. И чистить выгребную яму будет таким же лёгким и приятным делом, как всякое другое.
Воображению рисуется прямо идиллия.
— Пойдёмте чистить выгребную яму! — предлагает Франц Амалии, как теперь он предлагает:
— Пойдёмте играть в теннис!
— Ах, какая счастливая мысль! — радостно всплёскивает руками Амалия. — Какой восторг! Я давно не чистила выгребных ям! Мама, мама! Я иду с Францем чистить выгребную яму!
— Надень, в таком случае, чистые воротничок и рукавчики! — говорит мать, нежно глядя на радостно оживившуюся дочь. — Нельзя на такую работу идти замарашкой! Там будет вся молодёжь.
Может быть, так оно и будет…
Но теперь это вызывает улыбку. Быть может, такую же, какой улыбнулся бы мой дед, если б ему сказать:
— Из Москвы можно будет разговаривать с человеком, живущим в Петербурге.
— Как?
— По проволоке!
Это прибавило бы старичку ещё больше веселья.
И так Толстой говорит:
— Культура немыслима без принудительных, неприятных работ. Принудительные работы — рабство. Долой культуру!
Бебель говорит:
— Культура сумеет уничтожить неприятные работы! Да здравствует и развивается культура!
И вы спрашиваете у Толстого:
— Как лучше устроить культурную жизнь?
С его точки зрения, вы спрашиваете:
— Какие бы новые выдумать формы рабства?
Вы ждёте совета?
Ответа? И ответа, который бы вас удовлетворил? Который бы вам помог?
У Толстого спрашивают:
— Что он думает о войне?
И потом ужасно недовольны его ответом.
Человек считает что-нибудь преступлением. Справедливо, нет, — вопрос другого сорта. Но он убеждён:
— Это преступление.
И его спрашивают:
— А что, если преступление совершит Иван Иванович, — что это будет?
— Преступление.
— А если Пётр Петрович?
Что он может ответить?
— Тоже преступление!
— Но позвольте! Как же? Пётр Петрович ведь вам родственник, и даже близкий?!
Это у дикаря спросили:
— Что такое добро и зло?
И дикарь ответил:
— Если меня отколотят, это — зло. Если я отколочу, это — добро.
Так ведь то дикарь.
У Толстого надо заранее предполагать другую логику.
К Толстому приступают, и даже по телеграфу:
— Какую форму государственного устройства вы считаете лучшей?
Представьте себе, что к атеисту кто-нибудь обратился бы за советом:
— Как лучше достигнуть вечного блаженства в загробной жизни?
Да ведь он не верит в самое существование этой жизни.
Толстой отрицает государство.
По его мнению, это такая форма общежития, которая и служит источником многих зол.
Прав он, не прав, — другой вопрос. Но он так думает.
Как же вы спросите человека:
— Как прочнее устроить то, что вы считаете злом?
Самым забавным вопросом является вопрос Толстому:
— О способах борьбы для лучшего устройства жизни.
Человек десятки лет повторяет одно и то же:
— Вы хотите перевернуть весь мир? Нет ничего легче. Начните с себя. Сделайтесь другим. И пусть каждый человек сделается иным. И тогда весь мир сделается иным. И на земле воцарятся справедливость и добро. Никакие же иные перевороты, кроме «переворота каждым самого себя», ничему не помогут!
Он указывает средство:
— Как сделаться иным?
— Отыщите Бога и делайте всё «по-Божьему».
Отыщите в себе.
В новом рассказе Толстого: «Божеское и человеческое», содержание которого рассказывалось в иностранных газетах, сектант радостно говорит:
— Бога нашёл! Бог-то Он — во! Вот где Он!
И показывает себе на грудь:
— Вот где Он, Бог-то! И у всякого человека! А я-то Его искал! А Он здесь! Здесь Он!
Один из самых интересных людей, каких я видел когда-нибудь, сектант Галактионов, на Сахалине, говорил мне с ясными глазами:
— Небеса? Они в рост человека!
И указывал на лоб:
— Вот где небеса-то! Вот где свет-то! Вот где надо, чтоб прояснилось, — и всё будет ясно и хорошо и добро!
И я глядел ему в глаза, — или, говоря его языком:
— Глядел в окошки его души и видел, как в горнице у него светло и чисто.
А ученик йоги, в Бенаресе, говорил мне:
— Бог, это — всё, что существует. Это вы, это я. Если вы, если я, — если мы говорим друг другу светлые, добрые мысли, это Брама блещет нетленным блеском своим в вашем уме. И блеску Бога блеском Бога отвечаю я.
И все они говорили одно и то же.
И если бы вы у каждого из них спросили:
— Как ещё, помимо этого, единственного, по их мнению, пути можно устроить лучше жизнь?
Каждый из них взглянул бы на вас с изумлением.
Как на человека, который спросил бы:
— А что для этого лучше надеть? Сюртук или смокинг?
Я с большим интересом слушал беседу с Толстым о «Рассвете».
— Американский это рысак или русский?
Толстой знает лошадей.
Главное, — «лошадь он признаёт».
Но если бы я был редактором, и мне предложил бы «интервьюер»:
— Хотите, я поеду к Толстому и спрошу его о лучшей форме государственного устройства и как к ней стремиться.
Я сказал бы:
— Не беспокойте и не ездите.
Потому что «государства Толстой не признаёт».
Если бы я, сознавая ложь и ничтожество, и глупость той жизни, которую веду я и ведут все вокруг меня, захотел переменить её совершенно, — я пошёл бы к Толстому и не упал бы перед ним на колени только потому, что, свободнейший из умов, он не любит рабства поклонения.
И сказал бы учителю:
— Учитель! ты, сомневавшийся, перестрадавший уже всё, чем страдаю я, перемучившийся, передумавший, — помоги мне, слабому, своим опытом, тем знанием, которого ты достиг, своим необъятным умом. Помоги мне выйти на иную дорогу!
Но если бы мне надо было разрешить вопрос:
— Как мне лучше работать: на жалованье или за построчный гонорар. При каком условии я лучше могу сохранить свободу творчества?
Я пошёл бы посоветоваться с кем угодно, кроме Толстого.
Что он мог бы сказать мне?
— Друг мой, вопрос о творчестве не может зависеть ни от жалованья ни от гонорара уж потому, что за литературное творчество не надо брать ни жалованья ни гонорара. Если вы хотите свободы творчества, — она у вас в руках: откажитесь от жалованья и от гонорара. И вы будете писать только тогда, когда вы хотите. И только то, что вы хотите. Потому что вам не зачем будет поступать иначе.
Самое курьёзное, конечно, было бы поехать спросить Толстого:
— Лев Николаевич! как лучше приготовлять телячьи котлеты: жареными, в сухарях или паровые, под белым соусом?
Что он мог бы ответить?
— Голубчик! я — вегетарианец! По-моему, ни так ни этак котлет готовить не следует!
А между тем, к Толстому только и обращаются, что с вопросом:
— Как лучше приготовить котлеты?
А между тем его ответы вызывают глубокое волнение в сердцах.
Одни радуются:
— Смотрите, сам Толстой…
Другие опечалены:
— Как Толстой, в такую минуту…
Между тем тут нет причин ни для радости ни для печали.
— Что же, значит, Толстой сейчас не нужен?
Нужнее, чем все мы, вместе взятые. Потому что мы исчезнем, а вечность останется. Толстой же занят вечными вопросами человеческого духа.
Мы заняты этой и следующими минутами. Великое и почтенное дело. Но ведь надо же заниматься и вопросами вечными. Они тоже стоят внимания.
Не надо только к человеку, думающему над вечностью, приступать с вопросом.
— Что сегодня готовить?
Мы все немножко — Ксантиппа по отношению к этому Сократу.
— Да, но если вопрос насущный? Какое же жестокосердие в эту минуту заниматься «своими кругами»!
Приходится слышать такие речи.
При чём же тут жестокосердие?
Человек искренно убеждён, что всё, что мы делаем, не то, что надо делать.
Его спрашивают.
Он отвечает, как должен человек отвечать, — искренно, чистосердечно:
— По-моему, всё это, господа, ни к чему. Нужно не это. А это неважно.
Это не индифферентизм.
В великом сердце Толстого нет места для индифферентизма.
Это врач, великий врач, к которому приходит больная, страдающая глубоким, смертельным недугом, но не желающая лечиться ничем, кроме лавровишневых и валериановых капель, и спрашивает:
— Доктор, что мне лучше принимать: лавровишневые капли или валерьянку?
Он отвечает ей, с глубокой грустью отвечает:
— Сударыня, принимайте то или другое, — решительно безразлично Я вам прямо должен сказать: ни то ни другое вам не поможет.
Верны ли его знания? Или он заблуждается, считая свои знания верными?
Но он так думает, он в этом убеждён, он так верит. И его долг сказать то, что он думает, только то, во что он верит.
Позвольте кончить тем, с чего я начал.
Было бы превосходно, если б Диоген ответил Александру:
— Дай мне столько-то денег.
Он мог бы раздать их беднейшим жителям города, Сделать несколько добрых дел.
Только тогда не было бы Диогена.
Не было бы этого образа, — голого грека, лежащего на песке около бочки и отвечающего даже Александру Македонскому:
— Всё, что ты можешь сделать для человека, это — посторониться от солнца!
И этот образ не заставлял бы задумываться поколения и поколения и не освещал бы ярким ироническим светом вздорность и пустоту всего, кроме свободы духа.
Было бы в тот вечер несколько сытых греков, которые на утро были бы снова голодны. И исчезла бы из истории человечества фигура Диогена.
Было бы это хорошо? Не было бы это потерей?
Я очень боюсь, что какой-нибудь придирчивый читатель, — с тех пор, как стали говорить о свободе, стали все придирчивы, — боюсь, что придирчивый читатель скажет:
— Что это? Вы, кажется, «защищаете» Толстого?
Избави Боже.
Я ещё не сошёл с ума и не собираюсь загораживать Монблана от ветра своей спиной.
Но в последнее время, по поводу телеграмм, ответов на вопросы «сегодняшнего дня», столько приходится слышать о Толстом, что мне хотелось поделиться на эту тему своими мыслями.
И сказать и радующимся, и опечаленным, и негодующим, — есть даже и такие:
— Господа. Нет оснований ни радоваться ни печалиться. А негодование уж совсем запоздало. На несколько десятков лет.
Если что-нибудь в словах Толстого показалось вам сюрпризом, — виноват не он и не вы, а то, что его книги, обойдя весь мир, не могут никак переехать только маленького расстояния:
— От Эйдкунена до Вержболова.
Горький
В Спасском тупичке у Спесивцева шла стройка. Принялись заколачивать сваи.
Ранним утром, весенним, свежим и солнечным, в тупичке раздалась песня.
Тупичок был тихий переулок.
Про тупичок его жители с гордостью говорили:
— Тише нашего проулка не найтить!
Жили в нём мастерки-хозяйчики, портные, сапожники, мелкий слесарь, столяр, маленькие железнодорожные служащие.
Деньги за квартиры и комнаты платили «по прошествии», с трудом. Жили — бились и всю жизнь были кругом должны.
Все работали по своим углам, как колёсики в часовом механизме, и жизнь в тупичке шла, как часы, не отставая и не торопясь.
Когда у тупичковских обывателей спрашивали:
— Ну, как поживаете?
Они отвечали:
— Живём ровно!
Именно, как заведённая машина. Пётр Евстигнеевич на службу пошёл, — значит, восемь часов. Сапожников мальчишка за хлебом побег, — значит час скоро. Василий Терентьевич со службы идёт, ко щам поторапливается, — значит четыре уж било.
Если мальчишка бежал уж очень шибко или на ходу через тумбы прыгал, посторонние считали долгом в окно постучать и пальцем погрозиться:
— Что ты, пострел, озорничаешь?
Такой в тупичке был порядок.
С утра садились за работу, перед вечером весной и летом выходили посидеть к воротам и говорили про житейское.
По праздникам, случалось, пили.
— На то и праздник!
Но если кто выходил из колеи и напивался в будни, — того осуждали вечером, сидя у ворот, «даже удивлялись»:
— Как только домовладелец такого терпит?!
Такие случаи помнились долго, и по ним определялось время.
— Это было… Когда, бишь? Да в позапрошлом месяце, ещё когда Варсонофьев сапожник запил!
— Ну, вот! Когда Варсонофьев пил! Это было когда Панкратьев с женой скандалил!
За временем, вообще, в тупичке наблюдали плохо.
Вечно спрашивали:
— А какой, бишь, нынче день?
Но за порядком следили строго.
Петь песни в будни считалось не только зазорно, — но и грехом.
— Чай, будни!
И вдруг в тупичке в будни раздалась песня.
Пришли на Спесивцев двор золоторотцы, оборванные, ободранные, грязные, в опорках, и принялись под песню бить сваю.
Запевал высоким-высоким, тонким фальцетом, обдёрганный, из золоторотцев золоторец, — для того артелью и выбранный.
И такие сочинял запевки, что золоторотцы ржали.
— Чисто лошади! — плевались женщины, закрывая окна.
И неслась эта заухабистая песня по тихому и смирному тупичку.
— Хоть бы скорее у Спесивцева это безобразие кончилось! — говорили другие домовладельцы.
Кончилось это для тупичка даже трагедией.
Соловьёвский сын, башмачник, молодой малый, слушал-слушал, как золоторотцы с песнями сваи бьют, смотрел-смотрел на них, ободранных и озорных, — да сам в золоторотцы и ушёл.
Весь тупичок жалел:
— А какой парень-то был! Золото! День-деньской, бывало, не разгибаясь, сидел!
И весь покой тупичка был нарушен.
Мальчишку за чем пошлёшь, — мальчишка на золоторотцев смотреть забежит, на два часа пропадёт.
Сам мастер пойдёт заказ относить, у Спесивцева дома остановится.
Жена дома беспокоится: «не запил бы».
— Куда на целый день пропал?
— Так. На золотую роту посмеяться остановился.
— И житьё этим золоторотцам! — говорили мастера, прислушиваясь к песне.
— Известно, золотая рота! Вольное житьё! Ни заботы, ни печали, ни воздыханья! Заработал — пей. Пьян — лежи.
— Сам себе хозяин.
— А тут…
И шут их знает, — какие мысли неслись по тупичку с вольной песней.
Только бабы сердились и посматривали на мужей подозрительно:
— Заслушался! Музыка!
И закрывали окна.
— Чего окно-то закрываешь? Пущай!
— Не слыхал пьяных бездомников-то?!
В один желанный день ещё мертвее, унылее стало в переулке.
Золоторотцы, с вольною песнею, с гомоном, с шумом, — снялись и исчезли. Куда-то в другое место.
Словно птицы.
— Слава Те, Господи! — с облегчением вздохнули бабы.
Мастера с прежним рвением принялись за работу.
Не стало разгульной песни.
— Не мешают, по крайности!
И осуждали их и ругали их, а слушали.
Слушали, слушали.
И что-то странное просыпалось в душе…
Так гуси, степенные и жирные, откормленные на убой, вдруг вытягивают шеи, поднимают к небу головы, принимаются махать крыльями и гоготать.
Что случилось?
В синем небе, словно паутина, пронеслась стая серых, диких, — поджарых, голодных, но вольных гусей.
И в воздухе зазвенел их крик, жалобный на стон похожий, — но вольный.
И загоготали, всполошились домашние гуси, сытые, жирные, замахали бессильными крыльями.
Зависть слышится в этом гоготе.
Зависть к серым, диким, — поджарым, голодным, но вольным гусям.
Когда вы читаете Горького, мой степенный, спокойный, уравновешенный читатель, — не кажется ли вам, что где-то там, над вашей головой, высоко-высоко, шумя крыльями, пролетает стая серых, диких, — голодных, но вольных гусей?
И вы слышите плеск их крыльев, — и в воздухе дрожит их крик. Печальный, на стон похожий, — но вольный.
Вольный!
Что такое Горький?
Когда я читаю Горького, — мне представляется тюрьма.
Поверка уж кончена. Двери заперли. Но спать рано. А говорить не про что: всё переговорено людьми, обречёнными жить вместе.
И вот из тёмного угла раздаётся голос. Тюремный рассказчик «заводит своё».
Он начинает всегда с тяжёлого вздоха, иронически и вместе с тем грустно.
— И какой, я посмотрю, — ноне арестант пошёл! Нешто это арестант?
Он снова вздыхает и делает паузу.
— Нет арестанта!
Новый вздох.
— Вот Евстигнеев был. Вот это арестант!
И он начинает рассказывать про Евстигнеева чудеса.
Вот арестант! Вот бы такого арестанта!
Кто сел на нарах. Кто приподнял голову со сложенного вчетверо бушлата. Все слушают.
Слушают жадно.
Вот арестант! Вот арестант! Вот это, можно. сказать, — так арестант!
А посмотрите вы этого Евстигнеева. Он сидит в другой камере.
Так, — плёвый мужичонка и обыкновенный жулик. «Мухи, — и те на него садятся», по тюремному выражению. Бьёт его, кто хочет, делают с ним, что хотят. Терпит и сносит!
Вот вам и герой.
Евстигнеев-то герой? Что он сделал? Так как-то, невзначай, нагрубил начальству.
И то давно было.
Да жизнь-то так сера, так уныла, так однообразно тосклива, — что хочется, нужно, чтоб Евстигнеев был героем. Чтоб ярким был героем! Хоть глазу-то на чём-нибудь отдохнуть. Всё кругом так серо, так безнадёжно серо…
И эти рассказчики, в фантазии которых Евстигнеевы становятся героями, — как они ценятся тюрьмой!
— На муху, сударь вы мой, смотрю с завистью! — говорил мне один старый каторжник. — Летает-с! И муха мне орлом кажется!
Как читают Горького?
Так каторжники, как ни на есть, но накормленные, — как ни на есть, но одетые, — какой ни на есть, но имеющие кров, — с завистью слушают рассказы старого бродяги о тайге, о том, как там бродяжат.
Там с голоду пухнут, там, весь в ранах, весь в ссадинах лезь, лезь, без конца лезь сквозь густую, колючую чащу, — там всего дрожи: и зверь задерёт и свой брат, умирающий от голода бродяга, камнем в голову влепит, чтобы хоть человеческого, да мясца поесть.
Но там воля.
И как никак, а всё-таки сытые люди с завистью слушают о голодном.
Горький — властитель дум. Спорить нечего. Но почему?
Скажите, не являлась ли у вас в голове такая мысль? Безумная, но с которой и бороться безумно трудно.
Вот вы сидите между почтенными людьми, которых вы уважаете, и которые вас уважают. Они знают, что вы им скажете: что-нибудь почтенное. Вы знаете, что они вам ответят: тоже что-нибудь очень почтенное.
И вдруг у вас в голове просыпается мысль, а в сердце просыпается безумное желание.
Встать, да им и сказать… Но что сказать! Но как сказать!
Не кучу этих условностей, которыми люди обмениваются друг с другом.
А нарезать им правды, правды, правды. Наговорить того, чего не должно, не следует, не позволительно говорить.
Сказать вслух то, что на душе, — но что никогда не высказывается.
Сказать всё. Плюнуть и уйти.
Куда уйти? Всё равно куда. Только совсем.
Ведь жизнь, — во всяком кругу, консервативном, либеральном, радикальном, это всё равно, — подумайте, — ужасна. Ведь ни один каторжник никогда не был закован так!
Ведь существует даже выражение:
— Так нельзя думать!
Была ли цепь тяжелее?
Вы должны думать так, как думает ваше общество, ваша партия. Говорить только то, что «должно», что «принято». Ведь вы поступаете всегда только так, как «следует поступать».
Разве вы живёте? Вы — раб. Всего, всех. Общества, своего кружка, жены, — своего лакея.
Потому что вы должны жить так, чтоб ваш лакей относился к вам с уважением.
Неужели у вас никогда не являлось желание, — даже если вы богаты, даже если достигли всего, что можно от жизни требовать, даже если вы в общем счастливы, даже если вы любите и любимы, — неужели никогда, ни разу у вас не являлось желанья, безумного желанья «переменить участь», как говорят арестанты, приговорённые к каторге.
Стать… Ну, я не знаю чем. Превратиться в студента Латинского квартала, сделаться бродячим фотографом в Соединённых Штатах, актёром захолустной труппы. Вообще самая сумасшедшая мысль.
Но только не быть тем, чем вы «должны быть», не быть с теми, среди кого вы должны быть.
Никогда не являлось такой мысли?
Тогда вы счастливец. Но тогда вы не читатель Горького.
Человек, который захотел бы изучить подробно, глубоко и внимательно «бродячую Русь», всех этих «непомнящих», открыл бы много странного и много интересного.
Среди них не только одни «несчастные». Много людей, которым очень улыбалась жизнь, — но которые ушли от жизни, какую они «должны бы вести», и стали «сами по себе», «героями Горького».
Есть люди, ушедшие от богатства, есть люди, ушедшие от счастливой жизни. Есть люди образованные, очень развитые. Есть бывшие военные в хороших чинах, врачи, инженеры, адвокаты. Я знал среди «босяков» даже одного бывшего товарища прокурора.
Не думаю, чтоб во Франции, например, вы могли бы встретить прокурора, который вдруг пошёл в бродяги!
Не думаю, чтоб где-нибудь в мире, кроме нас, вы это встретили.
Где бы могли создаться легенды о поставленных очень высоко людях, ушедших бродяжить? И где бы такой легенде, главное, поверили?
А у нас верят:
— Потому — возможно.
— Почему?
Может быть, это явление атавизма.
Может быть, это кровь предков-кочевников вопиет и бурлит и протестует против всякой оседлости.
Кочевая кровь, которой остались капли, но которая сильна и заставляет бродить всю остальную.
У одного две капли кочевой крови, — он «меняет участь».
У другого одна капля, полкапли, и он только зачитывается рассказами о тех, кто «сам по себе».
— Сам по себе! В нём хватило сил порвать со всем и уйти. И стать «самому по себе».
И верить всему героическому, что рассказывают про такого человека.
С завистью верит.
Зависть, — зависть к вольному и сильному своей волей человеку, вот что заставляет наше общество так зачитываться Горьким.
Так зачитываться им спокойных, довольных и уравновешенных людей.
Ведь и в жилах сытых, жирных, откормленных на убой гусей течёт одна миллиардная часть дикой крови.
Оттого они и начинают бессильно трепыхать крыльями и гогочут, вытянув шею, — когда в голубом небе высоко-высоко, словно паутинка, несётся с жалобным криком стая серых, диких, голодных, но вольных гусей.
«На дне» Максима Горького (Гимн человеку)
«Человек вот правда! Что такое человек? Это не ты, не я, не они… нет! Это ты, я, они, Наполеон, Магомет. Понимаешь? Это огромно. В этом все начала и концы. Всё в человеке, всё для человека, всё же остальное дело его рук и его мозга. Человек! Это великолепно. Это звучит гордо. Человек! Надо уважать человека. Не жалеть, не унижать его жалостью. Уважать надо! Выпьем за человека, барон!»
Сатин. «На дне». 4-й акт.На дне гниют утонувшие люди.
В ночлежке живут какой-то барон, прошедший арестантские роты, «девица», гуляющая по тротуару, спившийся актёр, телеграфист, сидевший в тюрьме за убийство, вор, «наследственный вор», ещё отец его был вором и умер в тюрьме.
От них смердит.
Бывший барон за рюмку водки становится на четвереньки и лает по-собачьи. Бывший телеграфист занимается шулерничеством. Девица «гуляет». Вор ворует.
И они принюхались к смраду друг от друга.
Барон пропивает деньги «девицы», актёр пропивает деньги шулера. Вор у них первый человек.
— Нет на свете людей лучше воров!
— Им легко деньги достаются.
— Многим деньги легко достаются, да немногие легко с ними расстаются.
Им не смердит друг от друга. Чему возмущаться? Совести?
— Всякий человек хочет, чтоб сосед его совесть имел.
— Всё слиняло, один голый человек остался.
Люди, как видите, «конченные».
Бывшие люди.
Всё сгорело. Груды пепла.
Но дотроньтесь. Пепел тёплый. Где-то под пеплом теплится огонёк. Теплится.
— У всех людей души серенькие, — все подрумяниться хотят.
Вот это «подрумянить душу» и есть человеческое, вечно человеческое, «das ewig menschliches».[4]
Барон подрумянивает себе душу тем, что вспоминает, как он «благородно» пил по утрам кофе со сливками, как у него были предки и лакеи.
Актёр подрумянивает душу тем, что с гордостью произносит «громкое» название своей болезни:
— Мой организм отравлен алкоголем!
Не просто пьяница, а нечто звучное:
— Организм отравлен алкоголем!
Звучит «благородно».
«Девица» читает благородные романы. Где всё самая возвышенная любовь и самопожертвование. И воображает себя на месте героинь. И верит этому.
Телеграфист произносит «необыкновенные слова»:
— Органон… Транс-цен-ден-тальный.
— Надоели мне, брат, все человеческие слова. Все наши слова надоели. Каждое из них слышал я, наверное, тысячу раз!
Глупы эти люди, не правда ли? И румяна у них грошовые?
И вдруг эти «серенькие души» вспыхивают ярким румянцем. Не румянцем грошовых румян. А настоящим, человеческим румянцем.
Что случилось?
В ночлежку пришёл старик бродяга Лука.
И раздул пламя, которое таилось под грудою пепла.
И из этой груды грязи, навоза, смрада, отрепьев, гнусности, преступления вызвал человека.
Человека во всей его красоте.
Человека во всей его прелести мысли и чувства.
Как случилось такое чудо?
Лука не проповедник.
Лука суетливый старикашка, он говорит забавно и наивно.
Но каждое его слово сейчас же переходит в дело.
Он проповедует делами, и в этом, как в толстовском Акиме, его сила.
Лука с полицейской точки зрения — тёмная личность. С нашей — обыкновенный:
— Потерял всякую нравственную брезгливость.
Он входит со словами:
— Мне всё равно. Я и жуликов уважаю. По-моему, ни одна блоха не плоха. Все чёрненькие, все прыгают.
Лука полон веры в человека.
— А как ты думаешь, добьются люди правды?
— Да уж раз взялись, — как же не добиться. Люди добьются.
Мира будущего человеку бояться нечего:
— Ты, Анна, не бойся. Ты неба не бойся. Преставишься ты, и скажет Господь: «Приведите ко мне Анну. Я эту Анну знаю. Эта Анна много страдала, много мучилась в жизни. Отведите Анну теперь на покой. Пусть Анна отдохнёт».
У Луки религия человека.
Всегда во всём у него прежде всего «человек».
На него, когда он был сторожем, напали с топором беглые каторжники. Он «осерчал за топор». Из ружья нацелился.
— Бросай топор. Наломай веток. Пори друг друга по очереди. Зачем на человека с топором кидаетесь!
Они падают на колени перед направленным на них дулом.
— Покорми нас. Мы с голода.
Лука кормит их, берёт к себе. Беглые живут у него до весны, работают, весной прощаются и уходят бродяжить:
— Славные люди.
Эта любовь к человеку ведёт его, и ведёт правильно, даже там, где он, как в тумане, ничего не понимает.
— Спившийся актёр старается припомнить стихотворение:
— Самое любимое стихотворение! Я всегда его со сцены читал! Забыл! Забыл!
И это, казалось бы, непонятное для Луки горе сразу находит в его сердце самый настоящий, человеческий отклик.
— Как не понять? Легко ли! Даже самое любимое для человека забыть!
«Девица» рыдает:
— Верно это, всё верно написано! Со мной это было! Со мной! Студент он был. Гастошей звали!
Барон хохочет:
— А в прошлый раз звала Раулем!
— В лаковых сапожках он был! С бородкой!
Лука слушает с сочувствием.
— Гастошей, говоришь? В лаковых сапожках? Скажи, пожалуйста!
«Религия человека», который он весь пропитан, инстинктивно подсказывает ему:
— Здесь, в этих мечтах, самое дорогое для человека.
«Религия человека» подсказывает Луке, что какому человеку сейчас нужно.
Болен человек, — его надо отвести на воздух. Умирает человек, — его надо успокоить, чтоб не боялся. Убить человек хочет, — ему нужно как-нибудь невзначай помешать.
Актёр в отчаяньи:
— Отравлен алкоголем.
Лука рассказывает ему о больнице, где от этого лечат. Есть такая больница:
— Только приходи! Узнаем, где, — и иди.
Он ничего не проповедует. Он суетится и делает.
Он говорит делая.
Он и говорит и делает весело, с шутками, поёт песни.
Ему, полному «религии человека», светло и радостно. Он в храме своего божества. Кругом столько людей. И каждому можно помочь.
Для него нет ни дурных, ни плохих, ни ужасных, ни страшных. Для него есть люди. Просто люди. Только люди.
И оттого он со всеми одинаков. И оттого он весел, говоря с человеком.
— Что-то я тебя не знаю! — говорит ему мрачно городовой.
— А других-то людей разве всех знаешь? — весело шутит с ним Лука.
— В моём околотке всех.
— Ну, так это, значит, оттого, что не вся земля в твоём околотке.
Лука начинает песню.
— Не вой! — останавливает его один из ночлежников.
— А разве не любишь, когда поют?
— Люблю, когда хорошо.
— А я, значит, плохо? Скажи, пожалуйста! А я думал, хорошо. Всегда вот так-то. Человек думает, что хорошо делает. А другим-то видать, что плохо.
И перестаёт петь.
Потому что он не может стеснять человека. Не может нарушать прав человека. Не может доставлять неприятности человеку.
Как на светлом пиру, он и в ночлежке. Потому что кругом есть люди.
К вору относились все как к вору. Барону кололи глаза:
— Барином был!
«Девице» говорили только:
— Ты кто? Ты вот кто!
Актёру:
— Ты пропойца!
Телеграфисту:
— Шулер, — и больше ничего.
И вот пришёл человек, который отнёсся к ним, как к людям. Только как к людям. Увидел в них людей. Только людей.
К каждому подошёл:
— Человек.
Что этому человеку сейчас нужно? И что для этого человека сейчас сделать?
— Человек!
И от этого обращения «человек», дремавший человек проснулся и поднялся во всей гордости своей, во всей своей прелести мысли и чувства.
Как видите, и чуда здесь никакого не было.
Лука не создавал здесь человека.
Человек здесь был. Человек спал. Человек проснулся.
И только.
И только душа его, вместо грошовых румян, залилась, зарделась настоящим, человеческим румянцем.
И страшно, и радостно, и гордо было пробуждение человека.
Актёр не захотел больше жить среди грязи, смрада, падения и удавился.
Вор готов было бросить своё воровское дело:
— Мне с детства твердили: вор, воров сын. Я и говорил: я и покажу, какой я вор. И показывал.
Теперь человек в нём потребовал человеческого к себе отношения.
— Относись, — говорит он любимой девушке, — ко мне по-человечески, и я человеком буду.
И когда Сатин, бывший арестант, шулер, в ночлежном дому, поднялся со своим тостом:
— Выпьем за человека, барон!
Вы, зритель, почувствовали, что он, бывший арестант, шулер, ночлежник, выше вас в эту минуту и умственно и нравственно.
Потому что в вас человек спит, а тут человек встал, поднялся во весь свой рост, во всей красоте мысли и чувства.
Кто пробудил эти мысли? Кто заставил эти умы и чувства работать?
Лука.
Солнце заглянуло в ночлежку.
И пол залился солнцем, и весёлые зайчики заиграли по стенам. И всё стало радостно. И много-много всего осветило солнце. И светлы стали закоулки душ.
Что из этого получилось?
Ничего.
Ничего реального.
Девица пойдёт на тротуар. Иначе её из ночлежного дома прогонят. Васька Пепел, отсидев в остроге, опять воровать примется. Что ж ему другое делать? Сатин, после монологов: «человек, это звучит гордо», — будет шулерничать по-прежнему.
Жизнь этого требует.
Жизнь так сложилась, что они не могут быть иными
Только разве удавиться, как актёр.
Ничем не кончилось, ничем не могло кончиться. В жизни ничто не кончается ничем.
Жизнь идёт, идёт, идёт кругом, как колесо!
Но среди беспросветного мрака была минута, — когда ярко светило солнце.
Но по щекам бледным, исхудалым, мёртвым, — была минута, — разлился яркий, живой, горячий, радостный румянец.
Мгновенье! Будь благословенно! Ты было прекрасно.
Что принесла несчастным эта «религия человека».
Спросите у религиозного человека:
— Можно ли, прочитав молитву, освободиться ото всех грехов?
Он вам скажет:
— Надо всю жизнь изменить и молиться.
— Значит, прочитать молитву бесполезно? Не нужно?
— Нет. Нужно! Нужно! Нужно! Пусть даже среди грехов, на одну минуту в сердце человека воскреснет Бог! И наполнится душа его Богом! Значит, в этой душе живёт Бог! Это важно! Это нужно! Это важнее! Это нужнее всего! Без этого нельзя!
На минуту проснулся человек.
Во всей своей человеческой прелести, во всём своём человеческом совершенстве.
И дивное зрелище неописанной красоты представилось нашим глазам.
Под грязью, под смрадом, под гнусностью, под ужасом, в ночлежке, среди отребьев:
— Жив человек!
Это пьеса — песнь. Это пьеса — гимн человеку.
Она радостна и страшна.
Страшна.
Видя «на дне» гниющих, утонувших людей, вы говорите своей совести:
— Что ж! Они уж мёртвые. Они уж не чувствуют.
Вы спокойны, что бы с ним ни делалось.
И вот вы в ужасе отступаете:
— Они ещё живые!
Человек и его подобие (Индусская легенда)
Посвящается Максиму Горькому и г. Скитальцу.
Когда Магадэва создал человека, — человека приветствовала вся природа.
По пути его на земле вырастала трава, чтоб человеку не жёстко было ступать.
Когда человек проходил мимо, зелёные лужайки улыбались ему цветами.
Солнце грело человека, а пальмы расправляли свои листья, когда человек садился отдохнуть в их тени.
Птицы хором гремели самые лучшие песни при его приближении.
А маленькие воробьи и трясогузки скакали впереди и кричали:
— Человек идёт! Человек идёт!
Бананы протягивали ему свои плоды:
— Не хочешь ли ты есть?
И, завидев человека, на кокосовой пальме спешил созреть плод и упасть к ногам человека.
Робкие серны выглядывали из-за лиан, чтобы посмотреть на человека.
Человек был скромен и застенчив.
Он думал, — так как Магадэва дал ему беспокойную, пытливую мысль, — он думал:
— За что мне всё это?
Он старался не ступать по траве, которая вырастала на пути, — потому что, касаясь этой травы, краснели его ноги.
Его уши краснели, когда раздавались гимны птиц.
Краснели руки, когда он дотрагивался до бананов и кокосовых орехов, падавших на его пути.
Он потуплял глаза, чтоб не видеть воробьёв и трясогузок, скакавших впереди него и кричавших:
— Человек идёт! Человек идёт!
Потупив голову, боясь дышать, он проходил мимо лужаек, на которых в честь него расцветали душистые цветы.
И боялся глядеть по сторонам, чтоб не увидать любопытных и восхищённых взглядов спрятавшихся в лианах пугливых серн.
Он стыдливо и с замешательством думал:
— Чем я заслужил всё это?
А цветы продолжали расцветать при его появлении, пальмы расправлять свои листья, когда он садился под ними, маленькие воробьи и трясогузки озабоченно скакать впереди и всех предупреждать:
— Человек идёт! Человек идёт!
Пугливые серны не переставали любоваться им своими прекрасными глазами.
Тогда человек подумал:
— Они видят меня и воздают почести. А я не понимаю, за что. Быть может, это потому, что я не вижу себя?
И человек стал думать:
— Как бы мне увидеть себя? Что во мне достойного таких восторгов?
Заснувший пруд отражал в своей блестящей глади деревья и цветы, росшие на берегу, синее небо и белые, плывшие по небу облака.
Человек сказал себе:
— Вот!
И с вопросом наклонился над спящею блестящею гладью воды.
И вода ответила ему:
— Ты прекрасен!
В воде отразилось лицо, полное пытливой мысли, и глубокие глаза, горевшие огнём.
Человек отшатнулся и сказал:
— Теперь я начинаю понимать! Это не глупый воробей, не трясогузка. Воде можно поверить. Вода не станет лгать. Ведь не лжёт же она, отражая небо, облака, деревья и цветы.
Он снова наклонился над водой и долго смотрел на лицо, ему новое, до сих пор незнакомое.
— А действительно, — сказал человек, — я удался Магадэве. И Магадэва имеет право гордиться, что меня сотворил! Он выбрал для этого удачный миг. Миг, когда был полон, видно, вдохновенья! Должно быть, каждое движение моё так же полно красоты, если всё восхищается, глядя на меня?
И, повернувшись спиною к солнцу, человек стал спрашивать землю:
— Красив ли я?
Он делал телодвижение, шёл, поднимал руки к небу, протягивал их, словно срывает цветы и плоды.
И глядел на свою тень на земле.
И земля отвечала человеку:
— Ты красив! Красиво каждое твоё движенье!
Тогда, налюбовавшись своею тенью, человек радостно сказал:
— Теперь я понял всё!
И крикнул воробьям и трясогузкам:
— Вперёд! Кричите громче. Я иду!
Человек стал горд.
Ложась отдохнуть под пальмами, он с неудовольствием глядел вверх:
— Какие глупые пальмы! Почему они недостаточно широко раскрыли свои листья? Знают ли они ещё, кто под ними лежит?
Проходя мимо лужаек, расцветавших цветами, он останавливался и считал цветы.
— Сегодня не особенно много. Можно было бы расцвести и посильнее! Почему на этом стебельке нет цветка?
И когда воробьи и трясогузки робко чирикали ему в ответ:
— На этой травке никогда не бывает цветков!
Человек сердился:
— Могла бы расцвести, когда я приближаюсь! Зачем иначе и расти такой глупой траве? Просто, вы виноваты… Недостаточно громко кричали о моём приближении! Вы созданы Магадэвой для того, чтобы скакать вперёд и возвещать, что я иду! А вы! Как выполняете вы заповедь Магадэвы?
Он отбрасывал ногой падавшие на его пути кокосовые орехи:
— Эти недостаточно крупны для меня!
И от гордости частенько голодал, потому что не хотел протянуть руки к бананам, которые огромными кистями тянулись к нему:
— Могли бы быть для меня и пожелтее!
На лице его теперь часто было написано недовольство.
Он оглядывался кругом:
— Почему мало серн выглядывает из лиан на меня?
Воробьи и трясогузки с трепетом отвечали ему:
— Они пугливы, человек!
— В таком случае, прикажите замолчать птицам. Это они своим шумом и гамом пугают робких серн и мешают им любоваться мною. Да и надоели мне песни этих глупых птиц! Они поют недостаточно стройно и красиво в честь меня. Пусть лучше молчат, чем петь гимны, недостойные меня по красоте!
Если человек просыпался до восхода солнца, он сердился:
— Чего медлит это солнце? Чего оно теряет даром время, вместо того, чтобы прийти любоваться мною? Вот я уже не сплю, а оно ещё не взошло.
Когда спускался вечер, и в небе загорались звёзды, человек смеялся и приветливо махал им рукой.
— Ничего, ничего! Высыпайте толпой на небо! Вам захотелось полюбоваться мною? Выходите толпами и смотрите!
Так гордился человек своей красотой.
Магадэва на небе много смеялся над гордостью человека, но, наконец, Магадэве это надоело.
— Этому надо положить предел! — сказал Магадэва. — Это становится глупым!
И Магадэва создал обезьяну.
Проворно она спустилась с дерева и пошла рядом с человеком.
— Это что за чучело? — удивился человек, и что-то знакомое показалось ему в фигуре, шагавшей рядом с ним.
Всё кругом с удивлением смотрело на человека и обезьяну, шедших рядом.
Человек нюхал цветы, расцветавшие по пути, и обезьяна нюхала их.
У человека на лице было написано удовольствие, и у обезьяны на лице было написано удовольствие.
Пугливые серны, выглядывавшие из-за лиан, спрашивали с недоумением друг друга:
— Кто же из них человек?
И даже воробьи и трясогузки скакали теперь задом наперёд и с удивлением смотрели то на того, то на другого, крича:
— Вот идут люди! Люди идут! Люди!
Человек вспомнил своё изображение в воде, поглядел на обезьяну и с досадой сказал самому себе:
— А ведь похожи!
Но он не понимал:
— Как же так? Я красив, — это безобразно. А всё-таки мы похожи друг на друга?
Он сел и погрузился в глубокую думу.
Обезьяна села рядом и тоже сделала вид, что погрузилась в глубокую думу.
Человек пошевелился.
Обезьяна пошевелилась.
Человек встал и с досадой быстро пошёл прочь.
Но и обезьяна вскочила и также быстро пошла с ним рядом.
Человек расхохотался, глядя на её раздосадованный и озабоченный вид.
Лицо у обезьяны всё сморщилось, и она схватилась за бока.
Человек перестал смеяться.
— Неужели это, действительно, так безобразно?
И обезьяна нахмурилась.
Человек отбрасывал попадавшие на его пути кокосовые орехи.
Обезьяна делала то же.
Человек снова не мог удержаться от хохота:
— Неужели же так смешно то, что я делаю?
И перестал делать это.
Обезьяна шла рядом и повторяла каждое его движение.
И человек с ужасом видел:
— Точь-в-точь, как я!
Настал вечер.
И когда человек, увидев звёзды, по обыкновению приветливо и снисходительно замахал им руками, обезьяна тоже подняла передние руки кверху и тоже замахала, — так что человек расхохотался и стал кататься по траве:
— Великий Магадэва! Как это смешно, и глупо, и некрасиво!
Так обезьяна повторяла каждое движение человека, — и человек боялся уже сделать лишнее движение, чтоб его не повторила обезьяна, и чтоб оно не вышло глупым и смешным.
Человек стал скромно ходить по земле, боясь, чтоб обезьяна, ходившая рядом, не сделала сейчас же смешного движения.
Он боялся взглянуть по сторонам, потому что ему стыдно было пугливых серн, видевших его и обезьяну идущими рядом.
Когда загремел хор птиц, человек покраснел:
— Что ж во мне красивого, раз обезьяна похожа на меня?
И он стыдливо старался не топтать травы, росшей на его пути. Скромными улыбками отвечал на цветы, которыми улыбалась ему земля.
И, вспоминая каждое своё движение, как его передразнивала обезьяна, думал про себя:
— За что, за что мне все эти почести?
Человек стал вновь скромен и стыдлив.
Так, индусы, всё создано Магадэвой со смыслом и на пользу. Всё.
Памяти Шеллера
I
Михайлов-Шеллер…
Какое милое, какое хорошее имя.
Для людей нашего поколения в нём много музыки.
Оно звучит, как отголосок мелодии, которая доносится издалека-далека.
Оно звучит, как «юность».
Шеллер…
Мне вспоминается маленькая комната, которую ещё зовут, к моему негодованию, «детской».
Лампа под зелёным абажуром. Взятая из библиотеки книга. Юноша, почти мальчик. Его мысли.
Моя мать умирала.
Через неделю, через две «всё это кончится».
Из этого милого, тёплого дома, в котором я вырос, — откроется дверь на улицу, и из открытой двери пахнет холодом, в неё глянет тьма.
— Живи!
Через неделю, через две, я останусь один.
В целом мире один.
И думал ли знаменитый писатель, который тогда владел сердцами всех юношей, — думал ли он, занятый своими журнальными работами, что он единственный друг у молодого человека, у которого за стеной умирала мать.
Что он один разрешает все жизненные вопросы для юноши, сидящего за его книгою в комнате, которую все ещё называли «детской».
Жизнь…
Что я знал о ней?
Что знали о жизни мы все тогда, юноши моих лет, — кроме того, что нам рассказывал о ней Шеллер?
Это было время, когда в библиотеке задолго надо было записываться на его книги.
И мне рисовалась маленькая комнатка. Ещё меньше детской.
Комната от жильцов.
Стол, стул, кровать. Только самое необходимое.
Почти келья.
Несколько портретов, дорогих, как святыня, всякому интеллигентному русскому человеку.
Лампа и книга, взятая из библиотеки.
И эта лампа, освещающая раскрытую книгу, казалась мне солнцем, освещающим мир. И не было для меня картины в мире прекраснее этой.
Интеллигентный труд, скромный и безвестный, тяжёлый и упорный.
Непременно тяжёлый. В другом не было прелести.
Труд на слабых, на беспомощных, на обиженных.
Труд, которому отданы все силы, вся жизнь.
И измученному от тяжёлого труда отдых — книга, разговор о ней с такими же маленькими, скромными, незаметными тружениками.
Такою рисовалась жизнь.
Такою рисовалась она этому юному, — этим юным читателям Шеллера.
Не в Бог весть какую надзвёздную высь уносил нас он.
Но поэзию скромного труда, но сладость самоотвержения, незаметного для других, — редко кто умел так написать, как Шеллер.
Это не было солнце, ярко освещавшее нам мир.
Это была, скорее, луна, светившая нам в сумраке нашей юности, — когда перед нами открывалась дверь родительского дома:
— Иди, живи.
Луна с её мягким, нежным светом.
И лучи этого света, мягкие, и, — тут разница с лучами луны, — тёплые лились нам в душу.
Такой рисовалась нам жизнь, которою стоит жить.
Ну-с, где же теперь этот юноша, читатель Шеллера? Где его комнатка? Его железная постель с серым байковым одеялом? Его лампа? Его книга?
— Что вышло из того поколения, которое воспиталось на Шеллере?
Увы! Вся наша жизнь состоит из того, что мы даём ганнибаловы клятвы над книгами наших любимых писателей, не сдерживаем этих клятв и каемся.
Раскаиваться, всегда, это — удел интеллигентного русского человека.
Раскаяние, это — его занятие, его профессия, его «образ жизни».
Servus servorum[5], так сказать, «подчеловек» грезился идеалом нам, шеллеровским читателям, как теперь многим юношам грезится «сверхчеловек».
Этот идеал, навеянный тогда шеллеровскими произведениями, с течением времени, конечно, изменился, кое-где потускнел и выцвел, кое-где окрасился в более яркие цвета, кое в чём упал, кое в чём углубился, кое в чём вырос, кое в чём стал шире.
Но мягкий, тёплый свет, запавший в душу, всё же остался в ней, и мы, люди того поколения, чувствуем в душе теплоту от этих лучей.
Видеть поэзию в скромном труде, чувствовать и подмечать скромное, невидное посторонним, самопожертвование маленького труженика.
Это «шеллеровские лучи», запавшие нам в нашей юности.
Когда мы видим маленького труженика, скромного, незаметного, полезного, — нам чудится:
— Шеллеровский тип!
Мы видим поэзию в его скромном труде, мы умеем найти самопожертвование в его безвестном подвиге.
Мы лучше понимаем его. Он ближе нам.
Ведь мы уж давно любим его.
Мы охотнее придём к нему на помощь, вступимся за него, если это ему нужно, если мы это можем.
И если мы спросим себя:
— Почему мне так близки, так дороги, так милы и так понятны эти люди?
Мы, быть может, с благодарностью ответим:
— Шеллер был первый, кто заставил нас полюбить этих людей.
Кто знает, быть может, если б не было Шеллера в нашей юности, — мы были бы ещё хуже, чем мы есть.
Это не был набат, призывавший к героической борьбе.
Это был утренний звонок, призывавший к труду и доброму делу, прозвучавший на заре нашей юности.
Вот minimum того, что сделал Шеллер для поколения, воспитавшегося на его произведениях.
И если в нашем поколении очень сильна ненависть, очень сильно презрение ко всему фарисейскому, ко всему показному, ко всему рекламирующему, ко всему наглому, ко всему, прикрывающемуся громкими словами, бездушному и бессердечному внутри, — быть может, и за это мы должны благодарить отчасти Шеллера.
Быть может, я сейчас с трудом рассказал бы даже содержание тех шеллеровских повестей, которые в юности перечитывал по несколько раз.
Это недостаток просто памяти.
Память сердца лучше.
Я не мог бы назвать фамилий этих героев, самые их фигуры исчезли из моей памяти, но впечатления, которые они вызывали, остались в душе.
Немного забавно самому, — я до сих пор сохранил ненависть и презрение, и величайшее отвращение к титулующим себя филантропами, к их обществам, к их затеям.
К этим благотворителям, которые, давая голодной семье корочку хлеба, спешат отдёрнуть свою святую руку, чтобы не замараться.
Тип, который так великолепно умел рисовать Шеллер. Тип, с которым было достаточно познакомиться по Шеллеру, чтоб возненавидеть на всю жизнь.
Раз как-то я увлёкся было одним благотворительным обществом. Его программой, его людьми.
Оно показалось мне не таким, как другие.
Я написал даже о нём статью, достаточно прочувствованную.
Но когда мне принесли корректуру, мне вспомнился Шеллер.
Мне показалось это кому-то чему-то изменой.
Я перечитал статью:
— Кажется, я прав!
А всё-таки лучше зачеркнуть…
И я зачеркнул её, иронически улыбнувшись над собой, дружески улыбнувшись своей юности.
Ну, а потом вышло, что и это общество, так увлёкшее многих вначале, оказалось тем же, чем и все другие.
Ты был прав, друг и наставник моей юности, предостерегая от фарисейства, от лицемерия, скрытых под очень красивыми фразами.
Ты был прав, говоря:
— Не верьте фирме, не верьте рекламе, не верьте этим бутафорским громам и бенгальским огням. Всё ложь, всё лицемерие. Верьте только в маленького, незаметного, скромного труженика. Только в него.
Быть может, очень субъективно то, что я говорю. И я в таком случае прошу прощенья у читателя.
Но мне думается, что многие из людей моего поколения, прочитав эти строки, увидали бы в них отражение своих ощущений.
Ведь наша юность прошла при Шеллере.
И «Шеллер» звучит нам, как «юность».
II
Михайлов…
Это уже звучит иначе.
«Шеллер», это — та нота, которой начиналась мелодия тихая и ясная.
«Михайлов», это — уже аккорд из симфонии.
Из симфонии, которая казалась героической тогда, о которой теперь можно вспомнить с улыбкой без горечи.
Такое было время.
Теперь г. Нотович делает Бокля «доступнее» для взрослых.
Тогда гимназист четвёртого класса, не читавший «Истории цивилизации Англии», считался «отсталым».
В пятом классе мы вырабатывали устав рабочего банка «по Прудону».
И среди излюбленных книг, обязательных для прочтения всякому «мыслящему» юноше, была «История пролетариата во Франции» Михайлова.
— Он читает уже «Историю пролетариата».
Это было в те времена куда большим аттестатом зрелости, чем «аттестат зрелости».
Не зная хорошенько, что такое «история», что такое «пролетариат» и что такое «Франция», мы читали и зачитывались этой книгой.
И она больше говорила нам, чем всё, что было говорено в школе.
Думали ли создатели классицизма, куда пойдёт молодая мысль, жаждущая знанья, страстная, сгорающая от любопытства, — куда она пойдёт, куда она бежит от их классической пустыни.
Нас заставляли учить Цицерона, а мы делались «Катилинами».
Не забавно?
И вот на экзамене истории при переходе из четвёртого в пятый класс ваш покорнейший Катилина вынимает билет:
«Первая французская революция».
Можете себе представить, как я задрожал.
Вот когда я всё расскажу.
Было часа два. Измученный экзаменом, наш «историк» К. лениво протянул руку за моим билетом:
— Ну, что у вас там?
— Великая французская революция!
— Первая французская революция! — небрежно сказал К. — Ну, рассказывайте!
— Великая французская революция… — с ударением повторил я.
И пошёл!
Даже усталый вконец К. поднял голову:
— Позвольте! Позвольте! Да вы по какому же, собственно, источнику готовились?
— По «Истории пролетариата во Франции», — заносчиво отвечал я.
К. только откинулся на спинку кресла:
— Ого!
Он улыбнулся:
— По Иловайскому надо готовиться. Ну, да ладно. Расскажите-ка лучше про битву у Калки, что вы знаете?
И, глотая слёзы обиды, мне пришлось рассказывать про битву при Калке.
Так К. и не узнал истины про французскую революцию.
А жаль!
Он, к слову сказать, был магистром истории, должен был получить кафедру, но не получил, вследствие «истории»…
Не поручусь, что мы знали, — что Михайлов, автор «Пролетариата», тот же Михайлов, который пишет романы.
Быть может, многие из нас при таком известии исполнились бы величайшего изумления:
— Этого не может быть!
Михайлов-романист, — это была тихая, умилённая молитва труду, помощи ближнему, любви.
В «Пролетариате» для нас гудел набат.
Для нас…
Прочтите, как тиха и спокойна эта книга.
В ней нет ни трубных звуков ни грохота барабанов.
Почему же это слышалось нам тогда?
Время было такое.
Возьмите тлеющий уголёк, опустите его в кислород, — он вспыхнет ярким и сильным пламенем.
Воздух был такой.
III
Я не имел счастья лично знать Александра Константиновича.
Счастья, потому что это было, вероятно, большое счастье знать его.
Я слышал о нём беспрестанно, слышал от молодых людей, новичков, избравших это бесконечно дорогое, это бесконечно трудное дело — литературу.
От молодых людей, бледных, изголодавшихся, холодно одетых, почти с отчаяньем во взгляде.
Как тяжело положение молодого, начинающего литератора.
Особенно, если весь его багаж, привезённый из провинции, состоит из тетрадки стихов.
Стихов, в которых больше души, чем подчас цензуры, и в которых чувство иногда ярче сверкает, чем рифма.
Но пусть стихи будут и превосходны!
В одной редакции требуют «имени».
В другой не берут от чужих:
— Своих много.
Там сидят грозные судьи, а не просто редакторы.
Явившегося к ним молодого поэта они начинают «судить», словно он не стихи написал, а человека зарезал.
— В этом молодом человеке я замечаю что-то такое… этакое…
В другой редакции сидит господин, который говорит:
— А, валяйте! Что хотите! Как хотите! Не всё ли одно?
Избави Бог всякий молодой талант от такого редактора для начала.
Любую скрипку он превратит в балалайку.
Там редактора можно видеть всегда, но он возвращает обыкновенно рукописи не читая.
— Не годится.
— Почему?
— Голубчик, вы видите, сколько ко мне ходит народу. Не могу же я вступать со всеми в пространные объяснения!
Там к министру легче попасть, чем к редактору.
И для всех этих голодных подданных Аполлона А. К. Шеллер был «Парнасским консулом».
Они шли к нему.
Они вели к нему один другого.
И он их всех радушно принимал.
Это был старосветский литератор.
Не из тех, которые сверкают в свете, и не из тех, которые имеют вес в высших кругах.
У него собиралась за стаканом чая своя братия, и говорили о литературе.
Он ласково, радушно принимал юного собрата, умел обласкать, ободрить.
Охотно помогал советом… и не одним советом.
Он печатал их стихи в журнале, который редактировал.
А его старушка-сестра кормила этих детей Аполлона какими-то, вероятно, особенно вкусными булками домашнего печенья.
Вероятно, особенно вкусными, — потому что поэты мало о чём так восторженно рассказывали, как об этих булках.
Здесь отогревали этих несчастных юношей, которым грозил смертью петербургский холод.
И сколько молодых поэтов отогрелось у этого милого очага.
Кто из них не отогревался там? Кто не вспомнит с сердцем, полным слезами благодарности, об этом истинном «друге юности».
На похоронах Шеллера
Большая, высокая красивая церковь Митрофаниевского кладбища.
Солнечный свет из купола.
Среди пальм красивый металлический гроб.
Мудрое лицо мертвеца.
Смерть всех делает аристократами, она заостряет черты лица и придаёт им аристократическую тонкость.
Тело Шеллера было подвергнуто замораживанию.
Это не труп. Это даже не спящий человек. Даже не задумавшийся с закрытыми глазами.
Это спокойствие знания.
Мне вспоминается одно выражение, которое я слышал от брамина:
— Не думает камень и не думает Бог. Но недуманье камня не есть недуманье Бога. Камень не думает, потому что он не может думать. Бог не думает, потому что Он всё знает.
Это спокойствие знания, которое даёт лицу мертвеца выражение такое мудрое, простое, спокойное и величественное.
В храме было много народу, пришедшего по случаю престольного праздника, и очень-очень немного людей, явившихся ради Шеллера.
И беспрестанно слышался вопрос:
— Кого это хоронят?
Гроб подняли и понесли к месту последнего упокоения.
К месту, которое Шеллер для себя выбрал, приготовил и любил.
Говорят, что, заехавши к Шеллеру на новый год утром, его нельзя было застать дома.
Каждый новый год рано поутру он ездил на свою могилу.
Он ждал смерти спокойно, с ясным взором, с приветливой улыбкой.
Как человек, который здесь сделал всё, что он мог, что должен был сделать.
Гроб опустили в землю, отслужили литию, и над открытой могилой раздался тихий, взволнованный голос:
«Вейнберг-младший», г. Быков прочёл прочувствованные стихи.
Затем раздался голос немного истерический.
Это читал г. Фофанов свои красивые и звучные стихи.
Затем с бесконечными паузами прочла дама стихи, в которых рифмовала:
«Люди пошлые» и «критики дошлые».
Тихо, никому неслышно сказана была мужская речь, за нею дамская.
И раздался громкий голос:
— Со смертью Шеллера я потерял всё, что было у меня в жизни… Я, господа, не писатель… Я просто человек семидесятого века… То есть, я хотел сказать — семидесятых годов… Этот гроб служил мне всю жизнь…
Все с удивлением переглянулись.
— То есть человек, который лежит в этом гробу, служил мне всю жизнь… Я всё теряю в жизни…
В голосе не-писателя послышалась слеза.
Увы! Пьяная слеза.
Не-писатель был пьян безнадёжно.
— Уберите его! — послышались голоса.
Всем было гадко и скверно.
А он продолжал со слезами:
— Извините меня, господа, что я не умею говорить… но почтите писателя…
И в конце концов, говорят, начал кланяться в ноги.
— Да уберите же его! — говорили ближайшим соседям.
А мне вспоминался юбилей покойного Григоровича.
Юбилейный обед был кончен. Григорович обходил залы и благодарил присутствующих.
Как вдруг кто-то схватил его за ноги.
Из-под стола вылез мертвецки пьяный интеллигент, обнимал колени Григоровича, плакал и вопил:
— Я не писатель… Но я сын Антона-Горемыки и его кобылы… Благодарю вас, Дмитрий Васильевич…
Григоровича насилу отняли.
А «сына Антона-Горемыки» принялись выводить.
— Уйдите, вы пьяны!
— Я пьян?! Пьян! Но почему я пьян? — величественно спрашивал он.
И, ударив себя кулаком в грудь, со слезами воскликнул:
— От психологии я пьян! Заветов я не сдержал! И пью! От психологии пью!
Психологически пьяного человека вывели, и он долго ещё разъяснял швейцарам:
— Это понять надо, почему русский интеллигентный человек пьёт! От психологии он пьёт. Потому психологии у него во, а рюмки у вас маленькие… психологии во, а рюмки маленькие…
Такова уж, видно, участь русского писателя.
Видеть около себя представителя пьющей от психологических причин русской интеллигенции!
Будить, будить её всю жизнь, а проснётся и напьётся…
Этим глупым анекдотом закончилось всё на могиле Шеллера.
Было тяжело, было печально.
К. В. Назарьева
Сегодня, открыв газету, я прочёл:
— В ночь на 14 декабря скончалась после тяжкой и продолжительной болезни одна из русских писательниц Капетолина Валериановна Назарьева…
И никогда ещё моё сердце, сердце фельетониста, не сжималось с такою тоскою.
Я никогда не видел Назарьевой. Я не знал, была она молода или стара, интересна или не интересна в беседе. Я не знал даже, как её зовут.
Сегодня я в первый раз узнал, что её звали Капетолиной Валериановной.
А я всегда был уверен, что её зовут Калерией Назарьевой.
Это смешное имя выдумали ей мы, фельетонисты, выдумали нарочно, чтобы сделать её ещё более забавной, смешной в глазах публики.
Мы травили её, травили из года в год. Мы изощрялись над этой «многописательницей».
Мы рассказывали про неё всевозможные забавные вещи. Говорили, что она вяжет свои романы. Что она работает их на швейной машине. Мы потешались, что романы идут деточкам на фартучки.
— Героиня изменяет герою, — вот и панталончики для Юрочки!
Мы создали такой забавный образ, что публика без улыбки не могла слышать имени:
— Калерия Назарьева! Калерия!
Затравленная, загнанная нами, она пряталась от нас за псевдоним, чтобы высказывать свои мысли, часто интересные, всегда добрые, всегда гуманные.
Кто стал бы читать статью по общественному вопросу, подписанную её именем?
— Ужасно интересно знать, что думает Калерия Назарьева.
Чтобы читали её мысли, она прикрывалась мужским псевдонимом:
— Н. Левин.
«К. Назарьева», бесконечная романистка, существовала для публики, незнакомой ещё с критикой.
Для публики, более интеллигентной, был «Н. Левин».
И, быть может, часто тот, кто с интересом читал статьи Н. Левина с насмешливой улыбкой говорил о «Калерии Назарьевой».
Зачем всё это?
О Боже! Если бы Горький был становым приставом, вытащил бы с постели обнажённую учительницу, подверг бы её грязнейшему, подлейшему «исследованию», — неужели, вы думаете, на него посыпалась бы хоть половина тех ругательств, насмешек, издевательств, которые сыплются теперь, когда он только написал несколько томов рассказов?
Если б Чехов был не писателем, а исправником, самым возмутительным, самым диким, взяточником, вымогателем, — неужели на него сыпались бы в таком изобилии злые эпиграммы, брань, насмешки?
Если б Боборыкин был даже не губернатором, а «вице» самым тупым, нелепым, смешным, необразованным, — неужели на него выливались бы такие ушаты помой, какие выливались за 40 лет его литературной деятельности?
Даже сам великий Толстой, если б он был только министром, а не гениальнейшим из писателей, и если б он предписывал свои теории, а не проповедовал их, — неужели против него велась бы такая травля в литературе?
Почему же? Почему?
Ночью в степи, во время метели, на быстро несущуюся тройку налетела стая волков. Один из седоков снял с себя тулуп и кинул его.
И стая волков кинулась на тулуп. Рвёт его, рвёт из-за него друг друга.
Почему?
Потому, что тулуп особенно вкусен?
Потому, что им кинули тулуп.
Вы скажете:
— Ну, ну! Причина другая! Мы так высоко ставим сферу умственных и нравственных интересов, что всякое событие в ней считаем особо важным. Тут мы особенно строги.
Не будьте же рабами, хоть говоря с самими собою. Хоть с самими собою говорите свободно. Не лгите, не прикрывайтесь, не прячьтесь.
Ведь это рабство, одно из главных свойств рабства, это — потребность рабов, — громкими словами прикрывать самые мерзкие из своих рабских деяний.
Ведь крепостные, худшие из крепостных, — дворовые, свою «пёсью преданность» тоже называли «самоотверженной любовью» и рабство — «исполнением долга».
Кандальную тюрьму заперли «на парашу». Кандальники злы на смотрителя, злы на помощника смотрителя, злы на надзирателя. Их обкрадывают, — кормят сырым и скверным хлебом. Их дерут плетьми, розгами. И они всю свою злость выливают друг на друга. Мучат друг друга, бьют смертным боем.
Литература, запертая на парашу. О, литераторы, прикованные к тачке!
Бедная женщина, которая была виновата только тем, что она была так же несчастна, как и мы.
Как тоскливо сжимается сердце, когда перечитываешь список всех этих изданий, где она писала. Всех этих «Наблюдателей», «Звёзд», «Родин», «Новостей Дня».
«Многописательница!»
Да ведь нужно же не умереть с голоду, работая на этих «Наблюдателях», «Звёздах», «Родинах», «Новостях Дня»!
Какой-нибудь г. Липскеров, живущий в своём доме, — не в доме! В палаццо! Редактор-издатель, в жизнь не написавший ни одной строки!
Я говорю это ему не в укор. Девять десятых русских издателей неграмотны.
К. В. Назарьева писала у него романы за гроши.
И чтобы существовать и ей, и липскеровским скаковым лошадям, и г. Пятковскому, и всем этим издателям «Родин» и «Звёзд», она написала 50 романов.
Человек, который написал 50 романов, мог бы написать пять хороших.
Сколько хороших произведений съели, быть может, липскеровские скакуны. Истинно фараоновы коровы! Сожрали и остались всё-таки клячами!
И она писала за гроши, выматывая из себя романы, которые «вязала», душила своё дарование и душила других.
Да, да, душила других.
О, литература, ты — сила, которая, стремясь к добру, творит так много зла.
Как спорна ещё, как проблематична польза, которую приносит статья. Как бесспорен, как очевиден ею причиняемый вред.
Вы, блестящий столичный журналист, — вы пишете одну из удачнейших ваших статей. Я не знаю, да этого не знаете и вы сами, какую пользу она принесёт, и принесёт ли.
А вот то, что несколько семей останется без обеда из-за вашей блестящей статьи, это не подлежит сомнению.
Ну, зачем тот, другой, третий, десятый провинциальный издатель будет печатать статью своего скромного, маленького сотрудника, когда он может бесплатно перепечатать вашу, — вашу блестящую статью?
И когда вы с радостью говорите:
— Моя статья целиком перепечатана почти всеми газетами!
Вы радуетесь тому, что оставили голодными сотни людей!
Вы не знаете, сделаете ли вы что хорошее своей статьёй, но если десять строк из неё будут перепечатаны одной какой-нибудь газетой, — вы отняли уже 10 строк у вашего маленького несчастного собрата.
Писать при таких условиях!
«Касса взаимопомощи литераторов» обращается уже к доброму сердцу издателей и просит платить за перепечатки:
— На пенсии, на устройство богаделен для престарелых литераторов.
И некоторые издатели, движимые добрым сердцем, присылают там какие-то гроши:
— Сочувствуя благотворительности!
Доброе сердце! Доброе сердце! Спрячьте этот кусок сырого филея и не тычьте мне его в глаза.
Я не хочу никакого доброго сердца. Я хочу права! Я хочу справедливости!
Ich stehe auf meinem Recht![6]
Я не хочу, чтобы вы как милостыню подавали то, что принадлежит мне по праву.
Что вы все заботитесь обо мне, когда я буду стар, немощен, болен.
Богадельню для меня!
Да я не хочу вовсе никаких богаделен. Дайте мне моё, и я сам сумею устроиться, когда буду стар, немощен, болен.
И сумею обойтись без ваших богаделен.
Вы издыхайте в богадельнях, а я буду жить в своих домах. Вы хотите наоборот? Да?
Вы неграмотный, живущий, однако, литературой, будете жить в своём палаццо. А мы, создавшие это палаццо, будем издыхать в богадельне, благословляя ещё ваше доброе сердце?!
Я, литератор, не хочу благотворительности. Я хочу, я требую закона, который бы воспрещал перепечатки, который бы охранял литературную собственность, как всякую другую.
И я, литератор, требую этого не в интересах тех, кого перепечатывают. А в интересах тех тружеников, тех маленьких, несчастных собратьев, которых издатели лишают куска хлеба, перепечатывая даром чужие статьи.
— Но как же будет тогда существовать провинциальная пресса, часто бедная? Часто сама нищая? Что будет со вновь возникающими газетами, которые и так не окупают вначале своего существования?
Отлично.
Устройте нечто в роде «общества драматических писателей» Пусть оно облагает перепечатки гонораром, сообразно доходности, распространению, богатству каждой газеты. Пусть для беднейших газет оно назначает минимальнейшую плату. Пусть возникающие органы до тех пор, пока они не станут на ноги, временно освобождаются совсем от платы за перепечатки.
Но пусть прекратится эта эксплуатация наших собратьев.
Пусть издатель не оставляет без куска хлеба своего сотрудника, говоря ему:
— Зачем мне ваша статья. Да я возьму статью такого-то. У неё есть одно преимущество перед вашей: она даровая.
Какой цинизм!
— Ага! Вы хотите превратить литераторов в буржуа! Они будут «получать то, что им должно», накоплять, как накопляют лавочники, строить свои дома, чтобы под старость «не нуждаться в богадельнях».
Нет. Этого не будет.
Мы, литераторы, большинство из нас, почти все, — за очень ничтожными исключениями, — мы не настроим себе домов, мы ничего не накопим. Деньги у нас уйдут, быть может, так же бестолково, нелепо, безалаберно, как уходят сейчас.
Мы останемся в самом лучшем случае «золочёной богемой».
Но лучше закурить сторублёвкой сигару, подарить её за улыбку кокотке, кинуть за бокал шампанского на благотворительном базаре, — чем отдать эту сторублёвку неграмотному человеку, который живёт литературным трудом.
Даже у кокотки есть преимущество перед неграмотным издателем: она не живёт чужим трудом.
После даровых перепечаток ничто так не душит литературы, как дешевизна женского труда.
— Женщины, это — кули, которые душат нас, рабочих.
— Как? Вы против участия женщин в литературе? Да разве…
Литература, это — храм, где Бог — общественное благо. Пусть всякий, кто хочет молиться этому богу, идёт в этот храм. Для всех он открыт.
Но в храме тесно.
И когда вы входите в этот храм, и толпа подаётся? чтоб вас впустить, где-то там, у стены, прижат, — быть может, задушен — человек.
Мы, литераторы, говорим:
— Довольно нас переколело под забором! Довольно переколело по больницам! Довольно мы строили домов и конюшен для других! Мы сами хотим жить в тех домах, которые строили, и сами ездить на тех лошадях, которых зарабатываем!
И вы, женщины, нам мешаете в нашей работе, — мешаете вывести литераторов хоть из того гнетущего экономического рабства, в котором они находятся.
Женщины приходят с самыми скромными, с самыми маленькими, с самыми женскими требованиями.
На этот рынок рукописей, — я говорю о рынке рукописей, а не идей, успокойтесь, — вы, женщины, приходите с самым ужасным, с самым предательским оружием: вы невозможно сбиваете цены.
Вы обрекаете работников на голод.
А с голодом вы много талантов обрекаете и на гибель.
Милый, дорогой мне образ, образ друга моей юности, тебе я посвящаю эти строки. И пусть мои проклятия безграмотным издателям будут панихидой по тебе.
Спи мирно, в безвестии, товарищ, — в безвестии, хотя ты, может быть, мог бы быть и знаменит и полезен.
Это был человек, полный ума, остроумия, жизни, наблюдательности, таланта и благородства мысли.
Он писал под псевдонимом «Риваль» бульварные романы в маленьких газетах.
И, — подождите же отворачиваться с таким пренебрежением, — если вам нужен аттестат, — вот он.
Однажды мой приятель удосужился, написал большую вещь и послал её в «Вестник Европы». Она была напечатана. Она вызвала похвалы критики. Была очень замечена.
Знаете ли вы, — вы, аристократы литературы, которые родились в большой прессе, в толстых журналах, как рождаются люди в графских и княжеских семьях, что значит для настоящего литературного плебея, который заставил обратить на себя внимание не связями, не дружбой с лучшими людьми, не протекцией, а талантом, — что значит для него «выйти на открытую широкую воду»? Для него, задыхавшегося в тине и вони «мелкой» печати.
Какой это был день восторга! Какой подъём сил!
Какая энергия охватила этого беднягу.
Как он говорил о работе «теперь».
— Теперь!
Всё, что лежало на глубине души, всё, что было припрятано, накоплено в тайниках мысли, — хлынуло вверх.
Какие сюжеты он рассказывал мне. И как рассказывал.
Я не узнавал своего друга. Я никогда не знал, что жизнь так отражается в его уме, в его душе. Что он так может передавать свои мысли, наблюдения, ощущения.
Как много, оказалось, хотел он сказать, и как многое из того, что он хотел сказать, было значительно и глубоко.
Но… но… но… чтобы писать, надо было жить. Жить самому, жить близким. А жить — это значило писать фельетонные романы в маленькой газете.
Писать сегодня, чтоб было что есть завтра.
А за фельетонные романы платили 1½ копейки за строку.
— У нас Назарьева просит по 2 копейки. У неё имя!
А писать по 1½ копейки за строчку — значит писать до одурения.
Когда уж тут думать о «большой» работе.
Тут нельзя:
— Написал «им» роман! Отписался и принялся за «свою» работу.
Всю жизнь работай на «них».
И он остался задыхаться в этой «злой яме», сдавленный нуждой, прикованный заботой о завтрашнем дне, обречённый на литературную смерть этими «полутора копейками за строку», — и задохся, спился, умер от алкоголизма где-то в приёмном покое.
Он, как на Бога, молившийся на литературу, он, так её любивший…
Есть область литературы, куда женщины, входя, прямо несут смерть.
Это — переводы.
В каждую редакцию каждый день обращается по несколько женщин:
— Переводов!
И как существовать хорошему, добросовестному, талантливому переводчику, когда они просят:
— Копейку за строчку, полкопейки.
Согласны взять даже четверть копейки!
— Если только много работы.
Поторговаться, — возьмут и восьмую копейки:
— Если только уж очень много работы!
Если можно нажить чахотку!
На днях ещё ко мне обратился один очень почтенный человек:
— Будьте добры просмотреть переводы моей дочери. Небольшие рассказы, — это не отнимет у вас много времени. Могут ли они печататься? Моя дочь, конечно, не нуждается в заработке. Так, какие-нибудь пустяки. Главное — труд. Я хочу, чтоб она трудилась. Труд так облагораживает душу!
У меня была надежда, что хоть переводы окажутся плохими.
Нет! Отличные переводы! Прямо превосходные переводы!
Их охотно примут во всякой редакции. Да ещё «так за что-нибудь». Положительно находка!
— Да, ваша дочь может облагородить свою душу!
Но бедная переводчица, молодая девушка, в холодной кофточке, которая вчера приходила в редакцию с рукописью в посиневших руках.
На этом свёртке отличных переводов смертный приговор для вас.
Кто будет печатать ваши переводы по полкопейки за строчку, когда здесь можно заплатить по одной шестнадцатой.
Кто будет печатать ваши «ремесленные» переводы, переводы из-за куска хлеба, «поскорей», — когда за 1/16 копейки работает барышня, отлично образованная, с талантом, работает любительски, тщательно отделывая каждое слово.
Однако, разве так пишутся некрологи?
Разве это похоже на некролог К. В. Назарьевой?
Пусть останется так, как написалось.
Быть может, лучшая надгробная речь по литераторе, это — проклятье тем, кто выматывает жизнь и присылает венки на могилу.
Лавровый лист после смерти, когда при жизни не было даже супа!
П. И. Вейнберг
Сегодня у литературы праздник.
Большой и редкий.
50-летний юбилей, — юбилей одного из самых почтенных, из самых заслуженных писателей.
И П. И. Вейнберг, проснувшись сегодня, вероятно, почувствует себя несколько странно.
Литературный юбилей, и ему не нужно хлопотать.
— Странно!
В первый раз в его жизни случается такое удивительное происшествие!
Много мы видали юбилеев. Всяких! Но литературного юбилея, которого не устраивал бы П. И. Вейнберг, до сегодняшнего дня ещё не видел никто.
Такое небывалое, необыкновенное и из ряда вон выходящее событие объясняется только одним:
— Сегодня его собственный юбилей.
О, великая мачеха — Литература!
Где-то там, высоко-высоко, куда доносятся только орлы, восседаешь ты в сияньи немеркнущей славы на троне своём, окружённая твоими слугами, воинами, приближёнными.
Как к сказочной королеве, труден к тебе путь.
Труден путь тому, кто хотел бы приблизиться к твоему трону, с благоговением преклонить колени и коснуться устами твоей руки прекрасной и благостной.
Внизу стоит толпа.
И смотрит.
Одни думают:
— Только уж больно она высоко куда-то взобралась!
Другие полагают:
— Ишь храмина! На самой дороге! Ещё выстроили бы что путное. Фабрику. Или другое что, полезное.
И эта толпа смотрит на тех, кто идёт, взбирается, карабкается наверх.
И разражается радостным хохотом, когда кто-нибудь сорвался.
— Туда же.
Люди, не написавшие в жизни ни строчки, потешаются, что человек написал несколько неудачных строк.
Людям, у которых ни разу в голове не явилось ни одной мысли, кричат:
— Смотрите, ему пришла в голову неудачная мысль!
Дни величайшего литературного торжества для публики, это — когда прославленный поэт обмолвился неудачным стихом, хороший романист напишет слабый роман, великий мыслитель выскажет ошибочную мысль.
Тогда у публики настоящий литературный праздник.
— А? что!!!
И всякого, кто оступится, кто сорвётся, скатится вниз, истерзанный, окровавленный, толпа встречает улюлюканьем, свистом, ругательствами, травлей.
Словно он совершил великое преступление тем, что хотел приблизиться к тебе, великая, святая мачеха-Литература.
А те, кто взобрался наверх? А те, кто мужественно прошёл полпути?
Толпа говорит:
— Что ж! Они и должны. На то у них и талант!
Мрачно, сурово и сумрачно в лагере твоём.
Только стоны раненых слышны оттуда.
Ни труб ни литавр в честь победителей.
Это было несправедливо, прекрасная королева!
Добрая и светлая, ты ясными очами взглянула на старых закалённых бойцов.
— Хочу, чтоб было светло и радостно в чертоге моем!
Пусть не одни пораженья оглашаются печальным и протяжным звуком труб. Пусть празднуются и победы.
Не одни печальные тризны над могилами павших. Пусть пенятся кубки в честь живых, в честь победителей.
И среди своих приближённых ты выбрала старого воина.
Закалённого в боях, покрытого ранами. Ранами покрывавшего многих.
Славного бойца, ходившего в далёкие страны и приводившего оттуда к нам толпы пленниц: прекрасные мысли с огненными глазами, убранные цветами стихи, полную красоты, грации, пластики прозу.
Отличного певца прекрасных песен.
И сказала ему владычица дум и сердец:
— Будь моим церемониймейстером. И пусть клики радости и веселья, клики победы несутся над лагерем моих воинов, моих бойцов.
И в лагере сумрачном и суровом закипели пиры в дни торжества, и зазвенело громкое смелое слово, и запел звучный, ликующий стих.
И эти клики мужество вливали в сердца бойцов.
И смелей и бодрей смотрели воины вперёд.
И после пира шли в бой, среди лязга мечей, вспоминая победные песни.
И сказала королева своему церемониймейстеру:
— Ты был из первых в бою и на пиру. Я хочу, чтобы вспомнили все битвы и пиры на пиру в честь тебя.
И кликнула клич среди бойцов.
И радостно откликнулись все.
И пиром весёлым и шумным почтили воина и певца, первого в боях и на пирах.
Моё первое знакомство с П. И. Вейнбергом
Моё первое знакомство с П. И. Вейнбергом, — ему минет скоро уже, вероятно, 25 лет.
Я был тогда издателем журнала, имевшего большой успех, очень распространённого, влиятельного.
Я был его редактором и почти единственным сотрудником.
Это трудно, — не правда ли?
Но трудность положения увеличивалась ещё тем, что я издавал… запрещённый журнал!
Это был журнал, выходивший в 4-м классе одной из московских гимназий. Он назывался, кажется, «Муха». А может быть и «Вселенная».
Это не были счастливые нынешние времена, когда гимназические журналы издаются под редакцией классных наставников.
До 15 лет я писал, не зная никакой цензуры!
Мы писали не для того, чтобы выказать себя с самой лучшей стороны пред начальством.
Начальство не видело наших журналов. И не дай Бог, чтоб оно видело! Как мышонок, этот журнал бегал под партами.
В нём писалось то, что может интересовать 15-летнего мальчика.
Как лучше переделать мир и о том, что «немец» несправедливо ставит двойки.
Критиковались Прудон и вчерашнее extemporale[7].
Одна статья — в прозе — кончалась так:
«Прудон, видимо, не читал „Истории ассоциаций во Франции“ Михайлова. Он мог бы почерпнуть оттуда много полезных сведений».
Другая статья — в стихах — и о «педагогическом совете» — кончалась словами:
«Так что слышны далеко Крики синего собранья!»В этом журнале и была напечатана приветственная статья «г. Вейнбергу», в которой я поощрял его:
— Продолжать начатый путь: на нём г. Вейнберг может принести много пользы обществу.
Как хорошо, что П. И. Вейнберг послушался.
Я ходил в гимназию и учился в Малом театре.
Как давно, как давно это было!
Это было ещё тогда, когда А. П. Ленский был не великолепным армянином в плохом «Фонтане» и не превосходным адвокатом в «Ирининской общине».
Он был тогда увлекателен в «сцене у фонтана», но не величкинской, а пушкинской.
Он носил траурный плащ Гамлета. Он был задирой — Петруччио и весельчаком — Бенедиктом.
Тогда-то я и познакомился с П. И. Вейнбергом на галёрке.
Галёрка Малого театра!
Как часто теперь, встречаясь в партере с каким-нибудь обрюзгшим, почтенным господином, который, сюсюкая и шепелявя, говорит мне:
— Посмотрите вон та, в ложе, налево. В ней есть что-то обещающее. Вы не находите?
Я смотрю на галёрку и думаю:
— Как высоко я летал тогда.
И я кажусь себе коршунёнком, которому подрезали крылья и выучили ходить по земле.
Все мы соколы, пока цыплята, а потом вырастаем в домашних кур. Тогда мы на 35 копеек парили высоко над землёй, и нам казалось, что это нам кричит Акоста призывной клич:
«Спадите груды камней с моей груди! На волю мой язык»!И это «всё-таки ж она вертится», как Акосте, «нам» покою не давало ни день ни ночь. Детям снился Галилей.
«Под пыткою ты должен был признаться, Что земля недвижима, Но чуть минутный роздых был дан тебе, Ты на ноги вскочил, и пронеслись Над сонмом кардиналов, как громовой раскат, Твои слова: „А всё-таки ж она вертится!“»И этот Акоста, отрекающийся от отреченья, в разодранной одежде, с пылающими прекрасными глазами, — то солнце моей молодости!
Из нас никто не спал в ту ночь, когда мы впервые увидели «Уриэля Акосту».
Вот это трагедия!
Акоста! Это показалось нам выше Гамлета, выше Шекспира.
— Это выше Шекспира!
— Конечно же, выше!
— Бесконечно! Неизмеримо!
— Вот борьба! Борьба за идею!
Так говорили мы весь Кузнецкий Мост, всю Лубянку, всю Сретенку, Сухаревскую площадь. Так думали, расходясь по мещанским, на Спасскую, на Домниковскую.
И мирно спавшие дворники, разбуженные звонкими голосами:
— Борьба за идею!
Ворчали:
— Безобразники!
И засыпали вновь.
Достать «Акосту» было нашим первым делом. Выучить наизусть — вторым.
Мы все клялись быть Акостами.
И это было так девственно, так чисто, что даже Юдифи Вандерстратен, с её пламенным:
«Ты лжёшь, раввин!» не было в наших мечтах.
А почтенный редактор-издатель солидного и серьёзного журнала, — я, — писал:
«На днях мы видели г. Ленского в трагедии „Уриэль Акоста“ и не можем не похвалить артиста за такой серьёзный и идейный выбор пьесы. Говорят, г. Ленский кончил университет. „Уриэль Акоста“ — превосходная пьеса и светлая личность. До сих пор мы считали г. Ленского способным только на Шекспира, но теперь видим, что он может идти и выше. Мы не поклонники авторитетов, но немецкого писателя Гуцкова готовы признать удивительным писателем. Нашему обществу, где верность идеи представляет собою явление крайне редкое, подобные пьесы приносят огромную пользу. Нельзя не отнестись с похвалою к г. Вейнбергу, который перевёл эту пьесу для русской сцены и тем сделал её достоянием русской мыслящей молодёжи. Г. Вейнберг, переводя подобные произведения, стоит на совершенно верном пути и может принести огромную пользу обществу».
Так я познакомился с П. И. Вейнбергом на галёрке, и своим вдохновенным переводом «Акоста» он зажёг пламя в моей груди.
От пламени остались полупогасшие угли, но и они греют мою озябшую душу.
Через много лет обдёрганным полу-любителем, полу-актёром я играл Рувима в «Уриэле Акосте».
Я, который знал наизусть всего Акосту! Я, для которого в Акосте не было ни одного слова, над которым бы я не рыдал от волнения, декламируя его один, у себя в комнате, шёпотом. Шёпотом, чтобы квартирная хозяйка не выгнала «за шум и безобразие».
Я играл Рувима, а Акосту какой-то купеческий сын, который пошёл к какому-то актёру и купил у него за сто рублей искусство.
Актёр выучил его, как учат попугая. И купеческий сын играл Акосту недурно.
«Недурно» читать пламенные слова Акосты! Уж лучше бы он их читал скверно, но от себя, от души, негодяй!
Читал заученно, позируя, рисуясь,
Наслаждаясь своей игрой. Как попугай наслаждается тем, как он подражает соловью.
Репетиций было без конца, — я знал наизусть каждый жест, каждую интонацию «нашего попугая».
И вот настал спектакль.
Спектакль с избранной публикой, неплатной, приглашённой по почётным билетам.
После спектакля будет ужин. Это знали все.
И хозяина Акосту награждали аплодисментами за каждую сцену.
— Правда, недурно? — спрашивал он. — Я доволен приёмом.
И ломался, и позировал, и манерничал в пламенном Акосте.
Сцена пред отречением.
По обязанностям Рувима, я стараюсь удержать брата:
— Не отрекайся!
Он не слушает меня. Он убегает. Я остаюсь один на сцене. Один пред публикой, приглашённой на ужин. У меня крошечный монолог. Строчки в четыре.
За сценой поёт хор. Шумят статисты. Из-за кулис никто не обращает на меня внимания.
И вдруг мне приходит в голову мысль, дикая, сумасшедшая.
— Я ж тебе сорву… Акоста!
Я подбегаю к ступеням, покрытым красным сукном. Становлюсь в ту самую позу, в которую станет «попугай» после сцены отреченья.
Я начинаю его монолог:
«Спадите груды камней с моей груди!»Священное: «спадите груды камней…»
С его интонацией, с каждым его жестом. Публика смотрит на меня с недоумением.
«А всё-таки ж она вертится!» — кончаю я у авансцены, убегаю и запираюсь в уборной.
— Рувим кончил! Рувим кончил! — слышу я, пробегая, голос режиссёра.
— Акоста на сцену! Все приготовьтесь! За кулисами, значит, никто не заметил.
Я заперся. Я сижу.
Мёртвая тишина. Это Акоста читает отречение.
Зашумели статисты. Вот-вот, сейчас…
Снова всё замолкло.
И вот странный шум доносится из зала.
Смех…
Он растёт, растёт, превращается в хохот.
Гомерический! Неудержимый!
Крики! Аплодисменты!
Это «попугай» читает уже прочитанный монолог.
Я скопировал его удивительно, и, увидев те же жесты, услыхав те же интонации, даже приглашённая на ужин публика не может удержаться от хохота.
Бедный, ничего не понимающий, Акоста поражён.
Он кричит:
— Занавес! Занавес!
При рёве публики:
— Что случилось? Что случилось?
Прибежавшие из публики объясняют, в чём дело.
Рассказывают мою проделку.
Акоста лежит в обмороке.
Режиссёр, мой приятель, стучит в дверь моей уборной:
— Не отпирай лучше! Я тебя убью! Убью!
Акоста заболевает от огорчения. Спектакль не кончен. Ужин не состоялся.
А я в отчаянии схватился за голову:
— Что я наделал?! Что я наделал?!
И радуюсь вместе с тем и радуюсь. Я отомстил за тебя, Акоста, «попугаю».
Я отомстил! За всех! За вас, мой Ленский! За тебя, Гуцков! За вас, П. И. Вейнберг, пламенем души своей передавший пламя слов Акосты! Да и теперь, когда скверный актёр, ломаясь, как голодный фигляр, коверкает предо мной какое бы то ни было произведение, мне всё равно.
Я смотрю на него с презрением к его искусству и с жалостью к его голоду.
Разве мало скверных актёров на свете?! Увидать одним больше, — разве такое уже несчастье?
Но когда скверно играют Акосту, — мне не всё равно.
Акосты трогать не нужно даже с голоду. Так кажется мне.
Это — факел.
Вы сыграли сегодня Акосту. В чьей молодой груди зажгли вы пламя? Ни в чьей? Лучше бы вам не родиться, как актёру! Давно-давно он поселился в моей груди и живёт в ней, как лучшее воспоминание моей юности. И мне больно, когда его задевают.
И когда, через много-много лет меня, на каком-то литературном торжестве, подвели к человеку с профилем библейского пророка, с лицом старика и живым взглядом юноши и сказали:
— Пётр Исаевич, позвольте вам представить…
Мне хотелось сказать ему:
— Я знаком с вами давно. Вы говорили с моей душой. Я обязан вам многими часами восторга, как обязано всё поколение, к которому я принадлежу. Вы осветили нашу молодость, — и каким светом! Вы были пророком, который принёс нам откровение литературных богов.
Но это было бы слишком длинно. И я молча, с чувством глубокой благодарности, пожал ему руку.
С чувством благодарности неудавшегося Акосты к старому почтенному де-Сильва.
Дело об убийстве Симон Диманш
А. В. Сухово-Кобылин — загадка в русской литературе.
Он написал три пьесы: «Свадьбу Кречинского», — пьесу, ставшую классической, «Дело», которое произвело потрясающее впечатление, когда было поставлено, и которое редко даётся теперь потому же, почему редко даётся «Горькая судьбина» Писемского, — уж очень «отжитое время» в ней описывается, — и, наконец, «Смерть Тарелкина», с которой, наконец, снят запрет, и которая с сегодняшнего дня займёт почётное место в русском репертуаре.
Человек написал три пьесы, все три chef d’oeuvre’ы — и никогда ни до ни после этого не занимался литературой, — даже писал в предисловии к одной из пьес:
«Я не говорю о классе литераторов, который мне чужд, как и остальные четырнадцать».
Какое оригинальное явление.
Это три пьесы, вылившиеся из души. Появление их объясняется той трагедией, которая разыгралась в жизни А. В. Сухово-Кобылина.
Мы обязаны тремя превосходными пьесами — ужасной случайности.
«Свадьба Кречинского», это — плод тюремной тоски. «Дело» и «Смерть Тарелкина» — горячий, страстный протест измученного человека против порядков «отжитого времени».
А. В. Сухово-Кобылин был жертвою судебной ошибки.
И особенно своевременно извлечь на свет Божий эту историю, дремавшую в архивах старого сената, именно теперь, в эпоху нападок на новые суды.
Русское общество с сочувствием узнаёт, что горячий борец с порядками «отжитого времени» сам когда-то страдал от них.
И к симпатиям к писателю пусть присоединятся ещё симпатии к невинно страдавшему человеку.
Трагедия, которой мы обязаны знаменитой трилогией, такова.
Дело происходило при крепостном праве.
В одном из парижских ресторанов сидел молодой человек, богатый русский помещик А. В. Сухово-Кобылин, и допивал, быть может, не первую бутылку шампанского.
Он был в первый раз в Париже, не имел никого знакомых, скучал.
Вблизи сидели две француженки: старуха и молодая, удивительной красоты, по-видимому, родственницы.
Молодому скучающему помещику пришла в голову мысль завязать знакомство.
Он подошёл с бокалом к их столу, представился и после тысячи извинений предложил тост:
— Позвольте мне, чужестранцу, в вашем лице предложить тост за французских женщин!
В то «отжитое время» «русские бояре» имели репутацию.
Тост был принят благосклонно, француженки выразили желание чокнуться, было спрошено вино, Сухово-Кобылин присел к их столу, и завязался разговор.
Молодая француженка жаловалась, что она не может найти занятий.
— Поезжайте для этого в Россию. Вы найдёте себе отличное место. Хотите, я вам дам даже рекомендацию? Я знаю в Петербурге лучшую портниху, Андрие, первую, — у неё всегда шьёт моя родня. Она меня знает отлично. Хотите, я вам напишу к ней рекомендательное письмо?
Сухово-Кобылин тут же, в ресторане, написал рекомендацию молодой женщине.
На этом знакомство кончилось.
Они расстались и больше в Париже не встретились.
Но в те времена верили ещё в «русских бояр».
Прошёл год.
Однажды Сухово-Кобылин зашёл в Петербурге к Андрие с поручениями от сестры из деревни.
Поручение было исполнено, и Сухово-Кобылин уходил уже из магазина, — как вдруг к нему подошла удивительно красивая женщина, служащая в магазине.
Лицо её было как будто знакомо.
— Вы меня не узнаёте? — улыбаясь, спросила она. — Я Симон Диманш, помните, та самая француженка, которой год тому назад вы дали рекомендацию к этой фирме. Я поехала и, благодаря вашей рекомендации, получила место.
Она была очень красива.
— Но нам надо встретиться. Вы расскажите мне всё подробно. Как бы это сделать? Не хотите ли со мной пообедать на этих днях? — предложил Сухово-Кобылин.
— У меня только один свободный вечер в неделю. Четверг. Как раз сегодня.
— Превосходно. Я отозван сегодня на обед. Но я пошлю записку, что болен, и мы обедаем вместе!
Они обедали в кабинете лучшего в те времена французского ресторана в Петербурге.
За обедом красавица-француженка окончательно вскружила голову молодому помещику, и он предложил:
— Жениться я на вас не могу. Против этого были бы родные, а я от них завишу. Но хотите, — мы будем жить, как муж с женой. Едем ко мне в имение. Ну, что вам здесь, в каком-то магазине, служащей? Чего вы добьётесь? Чего дослужитесь?
Симон Диманш приняла предложение, и они уехали в деревню.
Медовый месяц промелькнул, француженка влюбилась до безумия в своего русского друга, а молодой человек стал скучать, его потянуло в город.
Они поселились в Москве, на Тверской, в собственном доме Сухово-Кобылина, — в дворянском особнячке, какие бывали в старину.
Служило им пятеро крепостных.
Охлаждение молодого человека шло crescendo, — и Симон Диманш ревновала его безумно.
«Дело», покоящееся в архивах старого сената, рассказывает следующую романическую историю.
Сухово-Кобылин безуспешно ухаживал в эту зиму за одной московской аристократкой.
В один из вечеров у этой аристократки был бал, на котором присутствовал Сухово-Кобылин.
Проходя мимо окна, хозяйка дома увидела при свете костров, которые горели по тогдашнему обыкновению для кучеров, на противоположном тротуаре кутавшуюся в богатую шубу женщину, пристально смотревшую в окна.
Дама monde’а узнала в ней Симон Диманш, сплетни о безумной ревности которой ходили тогда по Москве.
Ей пришла в голову женская, злая мысль.
Она подозвала Сухово-Кобылина, сказала, что ушла сюда в нишу окна, потому что ей жарко, отворила огромную форточку окна и поцеловала ничего не подозревавшего ухаживателя на глазах у несчастной Симон Диманш.
В тот вечер, вернувшись, Сухово-Кобылин не нашёл Симон Диманш дома.
Прислуга сказала, что барыня уехала на наёмном извозчике.
Глубокая ночь. Её всё нет.
Встревоженный Сухово-Кобылин поехал к обер-полицмейстеру и заявил ему об исчезновении француженки.
— Не случилось ли с ней чего?
Начались розыски. Искали долго, и, наконец, на Ходынском поле была сделана страшная находка.
Среди сугробов снега лежала с перерезанным горлом Симон Диманш.
Не было грабежа. Драгоценные вещи, дорогая шуба чёрно-бурой лисицы, — всё было цело.
Что это было? Самоубийство? Убийство? Не была ли несчастная убита в другом месте, и не был ли труп вывезен в поле?
Полиция сделала обыск в доме Сухово-Кобылина, и в одной из комнат были открыты следы крови.
Сухово-Кобылин и вся прислуга были арестованы.
Напрасно родные Сухово-Кобылина кинулись хлопотать.
— Он сильно запутан в это дело. Зачем он в ночь убийства являлся к обер-полицмейстеру и говорил об исчезновении Симон Диманш?
Прислуга на все вопросы отвечала:
— Знать не знаем, ведать не ведаем. Барин поехал на бал на своих лошадях. Их француженка, спустя немного, велела позвать себе извозчика и куда-то уехала. Больше мы её не видели!
Как вдруг после долгого сиденья при квартале прислуга изменила свои показания.
Они сознались квартальному в убийстве.
— Мы ненавидели француженку за жестокое обращение с нами, воспользовались, что барина не было дома, зарезали француженку и отвезли тело на Ходынское поле! — показали крепостные.
Но им не совсем поверили.
Дело шло о «дворянине Сухово-Кобылине, обвиняемом в убийстве при посредстве своих крепостных находившейся с ним в противозаконной связи француженки Симон Диманш».
— Зачем он приезжал ночью к обер-полицмейстеру?
Сухово-Кобылин и его крепостные сидели в тюрьме и были накануне каторги.
Родные его продолжали хлопотать, и вот, наконец, после бесконечных мытарств было постановлено сенатом «обратить дело к переследованию и постановлению новых решений, не стесняясь прежними».
В конце концов начали с того, с чего следовало начать, с начала самого начала, — это, впрочем, и теперь случается, — с исследования кровавых пятен.
По исследованию «медицинской конторы» оказалось, что кровь была куриная.
Комната, где найдены пятна, была людскою.
Это подтверждало первое показание повара. Он показал, что зимой резал обыкновенно птицу в людской,
Но откуда же явилось сознание крепостной прислуги?
Следствие обнаружило, что сознание это было вынуждено у людей в квартале пытками.
Квартальный надзиратель, как оказалось, кормил их селёдками и не давал пить, подтягивал допрашиваемых на блоках к потолку, так что у несчастных плечевые кости выходили из суставов, и требовал:
— Сознавайтесь, что убили!
Так было добыто «сознание».
— Имейте в виду, — говорил при этом «сознавшимся» квартальный надзиратель, — и следователям, и судьям показывайте точно так же. Измените показание, — опять вас к нам пришлют, и мы вас опять так пытать будем.
Крепостные и повторяли всем от страха «оговор на себя».
Только на одно не шли. эти несчастные в своей «рабьей верности»: как ни пытал их квартальный надзиратель «показать на барина», они и под пыткой твердили:
— Барин ни при чём!
Когда новое следствие раскрыло всё это, состоялся приговор.
Дворянина Сухово-Кобылина и его крепостных слуг, как невиновных, отпустить, дело о смерти француженки Симон Диманш предать воле Божией, а квартального надзирателя за допущенные им при допросе пытки и истязания с целью вынудить ложное сознание, лишить прав состояния и сослать на поселение в отдалённейшие места Сибири.
Вот трагедия, которой обязаны мы появлением трёх пьес Сухово-Кобылина.
Сидя в тюрьме, он от скуки рассказал в драматической форме ходивший в то время по городу анекдот об одном очень светском господине, оказавшемся шулером, который заложил известному дисконтёру стразовую булавку за брильянтовую. Так получилась «Свадьба Кречинского».
«Дело» — самая сильная, самая страстная из пьес Сухово-Кобылина. В ней вы найдёте отголосок того, что ему самому пришлось пережить в собственном «деле». Недаром в предисловии к этой страшной пьесе А. В. Сухово-Кобылин писал:
«Если бы кто-либо усомнился в действительности, а тем паче в возможности описываемых мною событий, то я объявляю, что имею под рукою факты довольно ярких колеров, чтоб уверить всякое неверие, что я ничего невозможного не выдумал и несбыточного не соплёл».
Вспомните самое возникновение «Дела».
«Дело» — возникает по доносу Расплюева на то, что Лидочка сама «запутала» себя, сказавши будто бы:
— Это моя ошибка.
Пользуясь этим, запутывают в «Дело» человека, с которого можно поживиться.
Сравните это с тем, как Сухово-Кобылин «сам себя запутал в дело», — ночью поехавши к обер-полицмейстеру.
В сценах допроса Тарелкина на дому и допроса в квартале, в «Смерти Тарелкина», несомненно, отразились сцены допроса в квартале крепостных Сухово-Кобылина.
Тюремной тоске обязаны мы «Свадьбой Кречинского», — и крик протеста, вопль измученного человека — эти две пьесы — «Дело» и «Смерть Тарелкина», в которых Сухово-Кобылин позорным клеймом, несмываемым клеймом сатиры, заклеймил «доброе, старое», слава Богу, «отжитое» уже время.
Профессор Маркевич
Я помню одну встречу с профессором А. И. Марковичем.
Это было в одесском литературно-художественном обществе.
Усталый, обливаясь потом, шёл толстый Маркевич из зала с провинившимся видом.
Он только прочитал лекцию о Золя.
Из зала толпой валили слушатели, и Маркевич, мне показалось, избегает смотреть на них: словно он сделал им какую-то неприятность.
При появлении профессора на кафедре переполненный зал встретил его громом аплодисментов. Профессор долго не мог начать. Все приветствовали.
Когда он кончил лекцию, раздалось всего несколько хлопков.
А лекция была превосходна.
— Что случилось, профессор?
Он улыбнулся сконфуженной, прямо страдающей улыбкой и извиняющимся голосом сказал:
— Длинна лекция вышла. Два часа. Длинна!
— Что за пустяки, простите, Алексей Иванович! Весь Золя в два часа! Как же вы его меньше-то уложите?
Маркевич развёл руками:
— Длинна! Длинна!
— Так вы бы сделали перерыв!
Он сделал озабоченное лицо.
— Нельзя перерыв! Раз уж они попали в залу, — им надо всё сказать. А то в антракте они разбегутся и на вторую половину не придут!
Публика расходилась, действительно, негодующая:
— Два часа!
— Битых два часа!
Это говорилось нарочно громче, чтоб виновный профессор слышал.
Чтобы наказать.
Все торопились. Одни составить грошовый винтик, другие в дальнюю комнату рвать друг у друга последний рублишко в баккара, третьи в буфет — подкреплять свои силы, словно они только что с тяжёлой работы, четвёртые флиртовать с итальянским тенором, который валялся на диване, задрав ногу на ногу, в выглядывавшей из-под грязной рубашки пропотевшей фуфайке, и грязными ногтями почёсывал в нечистых волосах.
А Маркевич, как Чацкий, один, брошенный, стоял среди гостиной.
Это была комичнейшая иллюстрация к великолепной комедии.
Глядь!..
(Оглядывается. Старики разбрелись по карточным столам, молодёжь кружится в вальсе).
И толстый, пожилой Чацкий, отирая лившийся градом пот со лба, пошёл в буфет отпиваться содовой водой.
Лекция Маркевича была блестяща. Критический очерк на редкость по глубине, силе, красоте. Публика была интеллигентная. Сюжет — захватывающего интереса. Лектор был Маркевич блестящий. Публика профессора Маркевича очень любила.
Но два часа!
— Маркевич лекцию читает! Необходимо пойти! Нельзя не пойти! Стыдно не пойти!
Маркевич вышел на кафедру.
— Любимый профессор! Овацию нужно! Аплодировать! Десять минут аплодировать! Браво, Маркевич! Браво! Господа, ещё! Мало этого! Овацию! Грандиозную овацию!
Но вместо того, чтоб поиграть сюжетом, сказать несколько фраз бойких, эффектных, блестящих, которые можно было бы прерывать аплодисментами, поклониться и уйти, он начал говорить обстоятельно, серьёзно, глубоко.
Публика обиделась:
— Здесь не университет! Мы не учиться пришли! Нас учить нечего!
Этого даже любимому профессору простить невозможно:
— Будь профессором, — твоё дело! но этим не злоупотребляй! Простых людей притеснять не смей! Что это? Заманил «обаянием своего имени», воспользовавшись этим, учить начал? Два часа учил!
Это даже коварство.
Если ты «популярный», выйди, блесни очаровательно и уйди. Но уйди!
Тогда у всякого останется самое лучшее впечатление.
— Ну, что лекция Маркевича?
— Ах, знаете, изумительно! Мы его такой овацией встретили! Такой овацией! Я все ладони отхлопал!
— Маркевичу! Следует!
— И какой лектор! Я просто не заметил, как время пролетело! Блеск! Блеск, знаете! Не успел оглянуться! Когда он ещё читать будет? Непременно пойду.
— И я!
— И я! Разумеется!
А тут…
Я не удержался и сказал Маркевичу:
— А знаете, Алексей Иванович, теперь после вашей лекции ведь публика Золя возненавидит! Назло вам возненавидит!
Этот добродушный и милый толстяк расхохотался:
— А что? Ведь, действительно, возненавидит!
Он закатывался, хохотал:
— Вот так услугу оказал писателю!
И беспомощно разводил руками:
— Не умею я для них читать, как следует!
Как следует?
Один из одесских издателей при мне умолял сотрудника:
— Голубчик, вопрос важный! О нём надо написать умно. Глубоко! Обстоятельно! Тепло чтобы было. Сильно. И чтоб не больше двадцати строк! Главное, чтоб было не больше двадцати строк.
— На двадцать трудно! — уныло говорил сотрудник.
— Голубушка, длинного не читают! Ведь публика на газету как? Как воробей на окошко! Клюнул и улетел. Цоп, схватил и упорхнул. Воробей! Ему крошка нужна. Крошка, голубушка!
— Да ведь из двадцати строк ничего не узнают!
Издатель схватился за голову в отчаянии: «вот на непонятливого человека напал».
— Да кто нынче что хочет знать!
Он стонал:
— Кто нынче знать хочет? Кому нынче знать что нужно? Обижаются: «учат!» — говорят. Как надо писать? Сверкнул, — и исчез! Читатель, — взглянул, пробежал и доволен: «Я и сам так думал! Молодцом пишет! Как в объявлении: мало строк и всё содержание!» В этом весь секрет успеха. А разговаривать публика с собой не позволяет!
И пока усталый лектор, пыхтя и отдуваясь, отпивался содовой водой, я думал:
— Вот бедняга! Вот недоразумение! Ты старался нечто вложить, — как это громко называется, — в «сокровищницу знаний», а чувствуешь себя виноватым в том, что «утрудил людей». Сконфуженным видом, сконфуженным голосом ты как будто извиняешься, как будто у всех просишь прощения. Как Раскольников на Сенной! Кланяешься на все четыре стороны: «Простите меня, люди добрые!» Извиняешься в том, что много думал, просишь прощенья за то, что много работал. Твоё преступление, что ты хотел серьёзно поделиться своей мыслью и работой, дать большой кусок, — а наказанье тебе — всеобщее порицание. Ты дал большой кусок знания. А воробьям нужны только крошки. И воробьи негодующе чирикают и отмахиваются крылышками: к этакой махине и приступиться страшно. И не лишний ли вообще в нашей жизни интеллигентный человек? Интеллигентный не потому, что он носит «интеллигентный сюртук», а потому, что у него интеллигентный ум. Настоящий интеллигентный человек, который верит в знание, и только в знание. Который знает, что знанье — всё. Если хочешь быть сильным, — знай. Если хочешь быть победителем, — знай. Если хочешь сделать будущее светлым, — знай. Кто хочет знать у нас? Ещё любят звонкие слова, но знания не хочет никто кругом. Едят, спорят, винтят, брюзжат. В антрактах между этим допускают певца, журналиста, учёного. Но певец пусть споёт только отрывок из оперы, журналист напишет тепло, но двадцать строк, профессор, чтоб не смел «утомлять». Аплодисменты вам дают, но на серьёзное внимание посягать не смейте! «Учить себя» не позволят. Как дикари, которые с удовольствием посмотрят туманные картины, но лекции по физике слушать не станут. Никто ничем не интересуется, никто ничего не хочет, действительно, знать. Как должно быть тяжело интеллигентному человеку среди «интеллигентных сюртуков».
Зато, — как говорят в Одессе, — «Маркевич может быть доволен: похоронили его великолепно».
Похороны были, действительно, грандиозны и великолепны, — как выражаются в Одессе на «магазинном языке», — до «nec plus ultra».[8]
У нас интеллигентным людям хорошо умирать, но плохо жить.
Годовщина
Год тому назад мы хоронили товарища Н. И. Розенштейна.
Ему привелось слишком мало работать в Москве, чтоб его успели узнать, узнавши — оценить, оценивши — полюбить.
На похоронах были журналисты, — и ни одного из тех, ради кого он бился, работал. Никого из публики, общества.
Это были вдвойне печальные похороны.
Но сквозь «печали облако» всё же проглянуло солнце.
Только один луч, но настоящего солнца.
Когда наш маленький кортеж прибыл на еврейское кладбище, оказалось, что надо ждать ещё часа полтора.
— Роют другую могилу.
— Почему?
— Узнав, что покойный был журналист, ему, вместо приготовленной, роют другую могилу, на почётном месте.
Это было для меня ново и оригинально.
Я «привык» уже хоронить товарищей на Ваганьковском.
Много их там лежит, — и друзей и бывших «врагов».
Мы проходим обыкновенно среди пышных мавзолеев.
«Мавзолеев первой гильдии».
Затем мы идём среди памятников, убранных засохшими лаврами.
С этих скромных памятников глядят громкие и славные имена.
Это «труппа» Ваганьковского кладбища.
Могилы великих артистов.
Мы выходим на край кладбища. Перед глазами ширь и простор. По опушке леса идут холмики безвестных могил.
Тут и вырыта могила товарища.
И при виде забытых на краю кладбища могил вспоминается горький Некрасовский стих.
Люди таланта жили, творили, страдали, а потом из них, как говорит Базаров, «растёт лопух».
И только.
Мысль положить журналиста непременно на почётном месте принадлежала простым, совсем не интеллигентным людям, заведующим еврейским кладбищем «членам погребального братства».
Они вряд ли читают газеты, и о журналисте Розенштейне никогда не слыхали.
— Он работал головой, — просто объяснил один из членов братства, — его надо положить на почётном месте.
И на почётном месте рядом лежал на еврейском кладбище не банкир, а художник Левитан.
Говорят, что евреи ценят только деньги.
Это все «знают», и в этом никто не сомневается.
Но среди еврейских книг есть книга «Кабала».
Это восточная поэма, цветистая, фантастическая.
Настоящий «ковёр из цветов фантазии», как зовут поэзию арабы.
Священную эту книгу признают из евреев только «хассидимы», — «трясущиеся», названные так потому, что они прыгают и трясутся всем телом, когда молятся. Они делают это в буквальное исполнение Писания, где сказано, что, молясь, надо радоваться и трепетать всем существом своим.
Наивно верующие люди, они считают и наивную поэму святой.
В этой поэме рассказано о конце мира.
Когда евреи придут в царство небесное, — «Тот, имени Которого не дерзает произносить язык», будет так рад увидеть Свой избранный народ, что не будет знать, чем выразить Свою радость.
У Адоная есть одна забава — рыба Левиафан.
Во время отдыха он играет с этой рыбой.
И Адонай-Иегова, чтоб показать избранному народу свою радость, изготовит эту рыбу и угостит ею желанных и жданных гостей.
— И будут есть ту рыбу, — говорит поэма, — учёные — с головы, а неучи — с хвоста.
Так думает о работе мысли тот народ, про который говорят, что он ценит только деньги.
Согласитесь, что это странно!
Люди так высоко ценят мысль, знание людей, которые «работают головой».
А между тем все «знают», что они ценят, умеют ценить, могут ценить только деньги, и ничего, кроме денег!
Откуда знают?
Талмуд говорит:
— В реке есть всякая рыба, — хорошая и плохая. Но тухлая рыба плавает сверху, воняет, и её все видят.
Видят и думают, что «знают» всю реку до дна.
В годовщину товарища мне казалось лучшим способом почтить его память: сказать несколько слов о том народе, одним из лучших представителей которого он был.
Пусть это будет на могилу труженика мысли маленьким венком из простых полевых цветов поэзии его народа.
Старый палач (Сахалинский тип)
В кандальном отделении «Нового Времени», в подвальном этаже, живёт старый, похожий на затравленного волка, противный человек, с погасшими глазами, с болезненным, землистым лицом, с рыжими полуседыми волосами, с холодными, как лягушка, руками.
Это старый палач Буренин. Сахалинская знаменитость.
Всеми презираемый, вечно боящийся, оплёванный, избитый, раз в неделю он полон злобного торжества — в день «экзекуций».
Свои мерзкие и жестокие экзекуции он производит по пятницам.
Это — «его день!»
Он берёт своей мокрой, холодной рукой наказуемого и ведёт в свой подвальный застенок.
С мерзкой улыбкой он обнажает дрожащего от отвращения и ужаса человека и кладёт его на свою «кобылу».
От этого бесстыдного зрелища возбуждается палач. Он торжествует. Задыхаясь от злобной радости, он кричит своё палаческое:
— Поддержись! Ожгу!
И «кладёт» первый удар.
— Реже! Крепче!
И опьяневший от злобы и подлого торжества палач часа три-четыре истязает жертву своей старой, грязной, пропитанной человеческой кровью, плетью.
Истязает умелой, привычной рукой, «добывая голоса», добиваясь крика.
Если жертва, стиснув зубы, полная презрения, молчит, не желая крикнуть перед палачом, злоба всё сильнее сжимает сердце старого палача, и, бледный, как смерть, он бьёт, бьёт, бьёт, истязует, калечит жертву, «добывая голоса»!
Это молчание, полное презрения, бьёт его по бледному лицу — его презирают даже тогда, когда он молчит.
И он задыхается от злобы.
Если жертва не выдержит прикосновения грязной, человеческой кровью пропитанной, плети, и у неё вырвется крик, — эти крики и стоны опьяняют палача.
— Что ты? Что ты? — говорит он с мерзкой и пьяной от сладострастья улыбкой. — Потерпи! Нешто больно? Нешто так бьют! Вот как бьют! Вот как! Вот как!
И он хлещет, уж не помня себя.
И чем чище, чем лучше, чем благороднее лежащая перед ним жертва, чем большей симпатией, любовью, уважением пользуется она, тем больше злобы и зависти просыпается в душе старого, презренного, оплёванного, избитого палача.
Тем больше ненависти к жертве чувствует он и тем больше тешит себя, терзая и калеча палаческой плетью свою жертву.
Случалось ему и вешать.
Его все избегают, и он избегает всех.
Угрюмый, понурый, мрачный, он пробирается сторонкой, по стенке, стараясь быть незамеченным, каждую минуту ожидая, что его изобьют, изобьют больно, жестоко, без жалости, без состраданья. Вся жизнь его сплошной трепет.
— Не тяжко это, Буренин?
— Должность такая, — угрюмо отвечает он, — я в палачах давно. И мне из палачей уж нельзя. Мне страх надо нагонять. Я страхом и держусь. Они меня ненавидят…
И с какой ненавистью он говорит это «они». «Они», это — все.
— Они и за человека меня не считают. Я для них хуже гадины. Я ведь знаю. Подойдёт иной, руку даже протянет. А я-то не вижу разве? Дрожь по нем пробегает от гадливости, как мою скользкую холодную руку возьмёт. Словно не к человеку, а к жабе притронулся. Тьфу!.. Убьют они меня, ваше высокоблагородие, ежели я палачество брошу.
И такая тоска, смертная тоска звучит в этом «убьют».
— И не жаль вам «их», Буренин?
— А «они» меня жалели? — и в его потухших глазах вспыхивает мрачный огонёк. — Меня тоже драли! Без жалости, без милосердия драли, всенародно. Глаз никуда показать нельзя: все с презрением, с отвращением глядят. Так драли, так драли, — с тоской, со смертной тоской говорит он, — у меня и до сих пор раны не зажили. Гнию весь. Так и я же их! Пусть и они мучатся! И я на них своё каторжное клеймо кладу. Выжигаю клеймо.
— Да ведь ваше, палаческое, клеймо не позорно, Буренин.
— А всё-таки больно. Больно всё-таки!
— И много вы, Буренин, народу… вашей плетью…
— Да, будет-таки! — подтягиваясь и выпрямляясь, отвечает старый палач, и в голосе его звучит хвастовство. — Не сочтёшь! Каких-каких людей передо мной не было! Э-эх! Вспомнишь, — сердце чешется! По Тургеневу, Ивану Сергеевичу, моя грязная плеть ходила. Чистый был человек, хрустальной чистоты, как святого его считали. Нарочно грязью плеть измазал, да по чистому-то, по чистому! Самые места такие выбирал, чтобы больней было. Попоганее бить старался, попоганее! Со внедрением в частную жизнь, можно сказать! Чтоб гаже человеку было. Гаже-с. На это у меня рука! Хлещу и чувствую, что человек не столько от боли, сколько от омерзения ко мне содрогается, сердце во мне и разгорается: как бы побольнее да погаже, попоганее-с! И кого только я вот этак… погано-то… Всё, что только лучшим считалось. Чем только люди гордились. Из художников Репин, Антокольский, Ге покойник, из писателей Короленко, Мамин, Михайловский-критик, строптивый человек…
— Почему же строптивый, Буренин?
— Похвалить я раз его задумал, с лаской к нему подошёл. Он от меня, как от нечисти, отшатнулся: «Не смей, — кричит, — меня, палач, своей палаческой рукой трогать. Истязать ты меня можешь, — на то ты и палач, но протягивать мне твоей поганой руки не смей». Гордый человек! А я ведь к нему с лаской… Эх, много, много их было. Скабичевский, Стасов, Чехов, Антон Павлович, Немирович-Данченко, Василий и Владимир, Боборыкин, Плещеев — покойник, сам Толстой, Лев Николаевич, меня знает.
— И его?
— Всех поганил. Не пересчитать! Ещё один был… Ну, да что вспоминать!
— Как же вы, Буренин, над ними действуете? Поодиночке?
— Зачем поодиночке! Какое же это удовольствие? Какая же радость? Нет-с, чтобы всех присных его истязать. Со всею семьёю, с детьми, любовницу, если есть. Со «внедрением»! Это-с пытка! Это-с мучительство! Другой храбер. Его-то плетью бьёшь, — «плевать! — говорит, — на этой плети столько праведной человеческой крови, сколько и в тебе-то крови не осталось!» А начнёшь истязать, да при всех обнажать, да срамить-то его жену, — он и закричит. Голос, — хе-хе! — подаст! Боли не выдержит. Это что, — человека взять, когда он в кабинете сидит, сочинение пишет! Нет, в спальню к нему забраться, взять его, тёпленького, когда он в постели лежит. Тогда взять его и жену и в подвал к себе привести — и перед публикой-то их голыми, голыми! Срамить! Да плетью-то не по нем, а по жене, по жене, на его-то глазах! Крикнет! Какой ни будь человек, не выдержит… Хорррошо! Тьфу! При одном воспоминании слюной давишься!
— Вы и женщин, Буренин? Тоже в частную жизнь…
— Без числа! Их-то самая и прелесть. Потому мужчину надо с опаской. А женщина, что она? Слабенькая-с… Особливо, когда заступиться за неё некому. Ну, и начнёшь! Иногда даже, случалось, перекладывал. Женщину-врача, изволили слыхать, Кашеварову-Рудневу раз взял… Ну, и того! Переложил. Под суд отдали. Посадили.
— Вас, Буренин?
— Нет, наёмного человека. Меня-то за что же-с? Я палач. Моё дело такое.
— Ну, а вешать вам, Буренин, приходилось?
Бледное лицо старого палача дёрнулось, потемнело, в потухших глазах загорелся ещё мрачнее огонь, и он сдавленным голосом ответил:
— Бывало.
— И не страшно, Буренин?
— Спервоначалу жутко. Как повесишь его, западню-то из-под него вышибешь, как закрутится он на верёвке, ногами часто-часто перебирает, — в душу подступает…
И Буренин указал куда-то на селезёнку.
— Был один тут… покойник… Фу, Ты, Господи! Даже «царство ему небесное» язык сказать не поворачивается…
Старый палач с трудом перевёл дух.
— Молодой был… Волосья длинные… Стихи он писал… И такие задушевные, грустные… словно душа с телом расставалась… Будто чувствовал, что конец его близок… Глаза были такие большие, большие… Мучительные глаза, и мученические… Чахотка у него была… Ну, я его и того… и прикончил…
— За что же, Буренин?
— Шибко я в те поры, ваше выскоблагородие, зол был. В душе аж смердело, до того лют был… Чист больно ходил!.. Чистый был человек, насквозь его видать было… Сам-то больной, еле дышит, умирающий, а где доброе дело, в пользу бедных, больных что затевается, он там первый… Не токмо притащится, на руках принесут его, умирающего… На него все только-только Богу не молились… Святым его почитали… И так мне, ваше высокоблагородие, от его чистоты моя грязь засмердела! Места себе не нахожу! Возненавидел я его, как Каин Авеля… Разгорается у меня душа… «Ведь вот, — думаю, — как людей люди любят, а я-то, я-то… словно гадина хожу, сторонятся все»… И такая меня злоба взяла… я его и покончил…
— Сразу, Буренин?
— Нет, мучил. Долго мучил. Больной он, говорю был, чахоточка у него была, кровьицей он кашлял. Так я его по больному-то, по больному-то… Хлынет у него кровь, — вижу нельзя больше, так я, кто ему ближе, дороже, раздену, обнажу, да плетью-то, плетью грязной, да при нём-то, при умирающем, при истерзанном. «Смотри, мол, хорошо? А? Хорошо?» Смотрит он своими глазами, большими, страдальческими, мучится, страждет, помочь-то не может: кровь его душит, мной же вызванная кровь… Мучил я его долго… До таких поганств доходил, до каких никогда не дохаживал… Однако, вырвали у меня его тело и в тёплые края повезли, чтоб оправился. Тут на меня прямо смрад нашёл.. Задыхаюсь… «Ужели, — думаю, — уйдёт?..» Тут я его и прикончил… Затянул петлю, — задрожал он весь, кровь пеной, пеной пошла, в моих руках и помер.
— И не жаль, Буренин?
— Страшно было очень… Потом прошло… А спервоначалу так страшно было… Кругом все сторонятся: «Убийца!..» И сам знаю, что убил, а мне всё кажется, что жив «он»… Войдёшь это, бывало, в пятницу, в свой день, в подвал свой, грязный, холодный, тёмный, человеческой кровью испачканный, замахнёшься плетью, чтоб кого истязать начать, — перед мною «он»… Глаза большие, страдальческие, по губам алая кровь бежит… На меня глядит… «Жив!» думаю… Волосы на голове шевелятся… Бросишь другого-то, да за него… Опять его вешать начнёшь… Над телом ругаешься: «Да умри, ты! Когда ты умрёшь?..» Петлю-то на мёртвом уж затягиваешь, ногами топчешь… «Умри!..» Сколько разов я покойника вешал… Повесишь и на ноги ему повиснешь: «Умри! Совсем умри!» Всё являлся. Года три мучился…
— Ну, а теперь, Буренин?
— И теперь является. Редко только… Останешься этак в кабинете один, вечером, возьмёшься за перо, глянешь, а из тёмного угла-то «он» выходит. Волосы длинные, лицо бледное, глаза большие, большие, широко раскрыты, и на губах всё кровь… Живая кровь…
— Ну, и что же, Буренин?
Лицо старого сахалинского палача передёрнулось.
— Осиновый кол покойнику в могилу затёсываю!.. И до сих пор…
— Ещё раз, — и не жаль вам, Буренин, ни себя ни других?
Он только рукой махнул.
— Себя-то уж поздно жалеть! А других? Как их, чертей, жалеть, когда бьют они меня, походя, как собаку бьют!
И в голосе старого палача зазвучала нестерпимая, непримиримая злоба, которой нет конца, нет предела.
— Как бьют, Буренин?
— Бьют! Без жалости, без милосердия бьют! Без счёта! Девушку одну, артистку, в Варшаве убили! Ну, я взял покойницу, обнажил и начал плетью, плетью… Ведь покойница, не больно ей, дай человеку душу-то, душу потешить… Так и труп отняли, и того жалко! Явились, бить явились, кричали, изломать, измолотить хотели. Я уж под стол спрятался, сидел, не дышал, боялся — увидят, изобьют, кости у меня ныли…
И когда он говорил о «трупе», он был похож на огромного разозлённого голодного ворона, у которого отняли падаль.
— Писателя одного старого… Почтенный такой был, его тоже праведником считали… Я «взял» его, как люблю… С женой, да по ней-то по ней… Сын его меня на Невском встретил да палкою, палкой… Разве «они» разбирают, как бьют! Где попадут, там и бьют. Недавно тоже… Начал я это «экзекуцию» над недругами своими производить да грязными руками за близких им людей, а — «они» собрались и меня! Как били! Косточки мои болят, как били!.. Да всех-то и не пересчитаешь, кто бил… А плюют-то, плюют как при этом…
Буренин схватился за голову.
И он был мне больше не ужасен, не отвратителен, он был мне жалок, бесконечно жалок, этот, озлобленный, оплёванный старый литературный палач.
Герои дня
Герой дня, бесспорно, г. Литвин.
О нём говорит вся русская пресса.
И благодаря нескромности газет, мы знаем имя этой «прелестной маски».
Его зовут…
Тут мне вспоминается эпизод, приключившийся когда-то с петербургским литератором Z, который был не только известен писаньем доносов, но даже служил… «и хорошо служил», как говорит Хлестаков.
В то время петербургские журналисты часто сходились в каком-то ресторанчике, носившем название «литературного».
Там же заседал всегда и один отставной генерал, большой любитель литераторов и литературы.
Однажды вечером генерал сидел в компании с литераторами, а за соседним столиком поместился в одиночестве Зет.
Зету давно хотелось познакомиться с генералом
Он улучил минутку, чтобы ввязаться в разговор, и деликатненько вставил замечание:
— Позвольте сказать, ваше превосходительство, что в данном случае вы не совсем, ваше превосходительство, по моему мнению, правы…
Генерал «воззрился»:
— А с кем имею честь говорить, имени, отчества, фамилии вашей не знаю!
Зет вскочил, шаркнул ножкой и поспешил отрекомендоваться:
— Моя фамилия — Зет!
Генерал отступил на два шага, поднял руки и, трагически потрясая ими, воскликнул с ужасом:
— Не называйся!
И так г. Литвина зовут С. К. Эфроном.
— Не называйся!
«Северо-Западное Слово» сообщает, что этот г. Эфрон давно уже знаменит в Вильне.
Он занимался маклерством, продавал какие-то зверинцы.
Пытался сорвать где-то какой-то куртаж, но, претерпев неудачу, занялся другими делами, — не лучше.
Он написал пьесу «Сыны Израиля», у которой есть история и даже география.
«Театр и Искусство» вспоминает:
— В Одессе г-жа Волгина поставила эту пьесу, но спектакля не докончили, потому что пришлось вызвать сотню казаков для полного «ансамбля».
«Будущность» припоминает:
— В январе этого года актёр г. Травинский, игравший в Екатеринбурге, хотел поставить пьесу г. Эфрона в свой бенефис, но начальник губернии не разрешил этого.
Когда её хотели поставить в Севастополе, актёры отказались играть и возвратили роли.
Когда её хотели поставить два года тому назад в Петербурге, в пьесе отказался играть г. Далматов, отказался играть г. Бравич. Теперь отказались играть г-жа Яворская, г. Яковлев.
Такова пьеса.
Её никто не хочет играть.
А когда находятся актёры, готовые сыграть даже эту пьесу, — её вышвыривает администрация.
Когда же и администрация оказывает пьесе «терпимость», — для успеха пьесы приходится вызывать сотню казаков.
И так от Екатеринбурга до Севастополя!
Пьесу вышвырнули с Александринской сцены, несмотря на то, что на ней есть бланк Крылова, — а с этим бланком на этой сцене пьесы учитываются всегда.
Он имеет кредит в учётном комитете, который называется театрально-литературным.
Когда, наконец, отовсюду изгнанный г-н Эфрон принёс подкинуть своих «Сынов» в Малый театр, то даже в Малом театре ему сказали:
— Вы бы, всё-таки, того… Прикрылись… И сами бы прикрылись и пьесу прикроете!
Г. Эфрон сам прикрылся псевдонимом «Литвин», а пьесу прикрыл названьем «Контрабандисты».
И вот Малый театр переживает теперь последний день приговорённого к смерти.
К артистам являются депутации от публики, — люди, знакомые только с тем, что лучшего есть в артисте, — с их талантом, а не с ними лично.
И говорят:
— Мы любим вас. Мы уважаем вас. Неужели вы будете играть в такой пьесе?
И эти люди — не евреи, это русские обращаются к артистам.
Растерянные артисты прибегают к знакомым, умоляя прийти на генеральную репетицию:
— Скажите, что там нужно вычеркнуть! Как «почистить» пьесу?
Опять-таки они обращаются не к евреям. Они обращаются к русским людям, потому что русскому обществу претит эта пьеса.
Русское общество возмущено.
Русское общество протестует:
— Довольно грязи! Доносов! Клеветы! Мы не хотим, чтобы и сцену превращали в кафедру гнусности.
Даже сцену Малого театра! Потому что и в «бельёрничестве» должны быть границы.
И вот среди этого шума, среди ропота негодования, раздаётся громкий женский голос:
— Пустите меня! Вперёд пустите! Меня вперёд! Меня! Меня!
Чей это знакомый голос?
Прислушаемся…
— Меня вперёд! Меня!
Да это г-жа Яворская!
— Господа, пропустите г-жу Яворскую вперёд!.. Ради Бога, что случилось?
— Я отказалась играть в этой пьесе! — трагически говорит г-жа Яворская.
— И были совершенно правы! Не приходите от этого в трагическое настроение! Раз пьеса, по вашему мнению, клевета, — всякий человек имеет право отказаться повторять клевету. И артист, конечно, в том числе. Успокойтесь! Другие до вас поступали точно так же. Из-за чего же столько волнений? Зачем впадать в трагедию? Успокойтесь! Ей Богу, вы ничего особенного не сделали!
Но г-жа Яворская взволнована.
— Я отказалась! Я отказалась! И об этом напечатано в газетах. Вот «Северный Курьер!» Читайте! Читайте! Всё, всё читайте! Об этом напечатано в газетах.
Остаётся улыбнуться и сказать:
Надо терпеть, г-жа Яворская! Что делать! Ваша судьба!
Когда г-жа Яворская едет на гастроли по провинциальным городкам, — все телеграфные проволоки звенят.
И даже в Иркутске изумлённый редактор местной газеты получает телеграмму «Российского агентства»:
Мелитополь. Гастроли г-жи Яворской возбуждают невиданный даже в Париже фурор.
Когда г-жа Яворская читает на пушкинских торжествах, не поймёшь:
— Да при чём же Пушкин в этом чествовании г-жи Яворской?
Так много в дружественных газетах пишут о г-же Яворской и так мало о Пушкине.
В г-жу Яворскую влюблены все типографские машины и телеграфные проволоки.
Что делать, сударыня! Надо терпеть! До сих пор писали только тогда, когда вы играли, теперь, оказывается, будут писать даже тогда, когда вы не будете играть! «Шла пьеса такая-то. Г-жа Яворская не играла и была очень хороша». Надо терпеть! Слава!
Тут г-жа Яворская принимает самую трагическую из своих трагических поз, мучительно сжимает свои руки, закатывает глаза. Мертвенная бледность покрывает её лицо, она говорит сквозь зубы потрясающим голосом, в котором слышно страдание и даже самая смерть:
— Я пострадала! Поймите вы! Я по-стра-да-ла!!!
Мы все наполняемся ужасом:
— Как? Когда? Где?
— Я жертва бесчеловечной мести! — трагически продолжает г-жа Яворская. — После того, как я отказалась играть в пьесе Литвина, и об этом появилось в газетах, я играла «Бесправную», и вот вам № «Нового Времени».
Она с трагическим хохотом подаёт нам нумер газеты:
— Ни слова о мне! Я жертва мщенья! Я пострадала! Я по-стра-да-ла!!!
Нам снова остаётся только улыбнуться и начать утешать страдающую женщину.
— Да полноте, да что вы? Ну, какое же тут страдание? Улыбнитесь над таким мщением! Ну, улыбнитесь! Это удар кинжала, который только заставляет смеяться людей, боящихся щекотки! Ей Богу, вы напрасно делаете из этого трагедию! Ей Богу, ничего особенного не случилось!
Сотни раз вы играли плохо, а «Новое Время» писало, что вы играли превосходно.
Театр был пуст, а «Новое Время» уверяло, что он был переполнен.
Шикали, а «Новое Время» писало:
— Была устроена грандиозная овация!
Публика смеялась, а «Новое Время» говорило:
— Публика плакала.
Теперь вы играли, а «Новое Время» об этом не сообщило.
Что же случилось особенного?
Оно лишний раз утаило от публики истину относительно вас.
Только и всего!
Наконец, вот вам утешение.
Достаньте вырезку из «Нового Времени» и прочтите знаменитую телеграмму о том, будто в Париже предполагается международный вечер с участием трёх звёзд: Сары Бернар, Элеоноры Дузэ и Сары-Элеоноры Яворской!
Тоже ничего не было, а напечатали, будто было.
Теперь было, а промолчали: словно и не было.
Вот и квиты!
Улыбнитесь же.
— Я не могу улыбаться! — говорит г-жа Яворская.
— Она по-стра-да-ла! — мрачно вторит «Северный Курьер».
Господа, зачем пугать людей и рассказывать «ужасти».
Самый забавный водевиль, — и только.
Разве до сих пор в «Новом Времени» были рецензии о г-же Яворской?
Это были панегирики, оды, акафисты, но не рецензии.
Как бы ни играла г-жа Яворская, писали:
— Превосходно!
Это было сладкое, которое подносили г-же Яворской.
Ну, вот. Г-жа Яворская рассердила г. Суворина, он и оставил её без сладкого.
Какая же это трагедия?
Ну, что это будет за трагедия? Судите сами!
Сцена представляет какую-то средневековую площадь. Стоны. Толпа.
Г-жа Яворская. К столбу меня! К столбу!
Горожанине. Да зачем? Зачем?
Г-жа Яворская. Нет, нет, к столбу! Как мученица, хочу быть у столба! Пусть меня сожгут на костре из пьесы «Контрабандисты»! Похороните меня рядом с Яном Гусом и напишите об этом в газетах.
Горожанине. Да не умирайте вы, Лидия Борисовна! Ведь это будут слёзы! Горькие слёзы!
Г-жа Яворская. Ах, не просите! Я умру, я непременно умру! Вот ещё новости! Я помирать хочу, а они говорят: не помирайте! Хочу страдать, — и страдаю. Захочу помереть, — и помру.
(В отдалении слышится голос г. Суворина).
Голос г. Суворина (поёт).
Захочу, — напишу, Захочу, — промолчу, Мне газета дана-а-а, Вся послушна мне сполна!Г-жа Яворская. Голос Торквемады! Зажигайте костёр и напишите в газетах! (Вдохновенным голосом.) Народ, народ, страдавший много! О, Агасфер — народ! Смотри, как за тебя здесь погибаю я! Я мученица, я жертва! Костёр! Огня!
1-й горожанин. Должно быть, сильно мучается барыня! Смерти просит!
2-й горожанин. Пыткам её подвергали, видно!
3-й горожанин (с увлечением). Жилы тянули-с! Да как! Медленно!
4-й горожанин (увлекаясь ещё сильнее). Колесовали!
5-й горожанин (увлёкшись окончательно). Руки, ноги, голову отрубили!
6-й горожанин. Буде врать-то! Хоть бы узнать, в чём дело. У курьера, что ли, спросить! Послушай, любезный, расскажи, в чём дело!
Северный Курьер (горячо). В наш век универсального прогресса гуманных и утилитарных идей, когда каждый индивидуум, без всякой санкции импозантных авторитетов, доктринёров дряхлеющей рутины, смело заявляет свои легальные права…
Горожане (задумчиво). Тэк-с!.. Вон оно что… Да мучили-то чем? Мучили-то?
Г-жа Яворская (умирающим голосом). Меня… меня… меня…
Горожане. Да не томи, скажи!
Г-жа Яворская. Меня оставили без сладкого!
(Народ безмолвствует).
Ну, какая же это трагедия? Это водевиль.
И там, где поднимается общественное негодование, нет места таким фарсам. Истерические выкрикивания только лишают его серьёзности и внушительности.
Мне, тем не менее, жаль г-жу Яворскую, попавшую хоть и в водевильную беду. И чтоб утешить её, я готов ей посвятить одну страничку из моих воспоминаний.
Дама в палевом платье.
(Посвящается Я. Б. Яворсвой).
Хоронили Жюля Симона.[9]
На похоронах был «весь Париж».
Процессия входила на Монмартрское кладбище.
Впереди несли гроб, покрытый трёхцветным знаменем.
За гробом шли родные, за ними — представитель президента, за ним — правительство, за ним — сенаторы. За сенаторами — депутаты. За депутатами — бессмертные в мундирах, вышитых пальмами. За бессмертными — журналисты.
А среди журналистов шла дама, которая, уж когда процессия была на кладбище, спросила:
— Кстати, кого хоронят?
Журналисты улыбнулись.
Не успели они, однако, ответить, как дама была уже среди бессмертных.
Приподняв страшно шумевшее шёлком платье, она шагала быстро и энергично.
— Ого! Как скоро прошла в бессмертные! — сказал кто-то.
«Бессмертные» с изумлением глядели на шествовавшую среди них даму.
Но не прошло и двух минут, как кто-то воскликнул:
— Смотрите, смотрите! Она уж в депутатах!
— Она проходит в сенат!
Про Жюля Симона, кажется, все забыли.
Все были заняты дамой.
— Держу пари, — воскликнул кто-то, — что она пройдёт в президенты!
А дама уж шла во главе кортежа, рядом с изумлённым представителем главы государства.
— Ей остаётся теперь только одно!
— Что именно?
— Выбросить из гроба Жюля Симона и лечь самой в гроб, чтобы быть первым лицом на похоронах.
Но дама, однако, этого не сделала.
Письмо Хлестакова
Душа Тряпичкин.
Жизнь моя проходит в хлопотах и заботах об отечестве. Что, брат, делать: хоть и из Moulin Rouge, а патриот.
Я, брат, тут теперь почётным членом русской торговой палаты состою. Меня многие за государственного человека принимают.
И знаешь, кто меня устроил? К. А. Скальковский.
Ты должен его знать. Бывший директор горного департамента, знаменитый сочинениями о возвышенностях балерин, тайный советник, написавший исследование о Фуфу. Любит биржу и изящное. Un homme d'état de chez Maxim’s.[10]
Он председателем, а меня почётным членом. Сам и ввёл.
— Рекомендую, — говорит, — молодой человек. Направления самого симпатичного. Прямо с вокзала в Moulin Rouge поехал. Не нигилист какой-нибудь. Ручаюсь.
— Ну, — говорят, — раз уж вы, Константин Аполлонович, так аттестуете… Вам эти места лучше знать.
И приняли.
У нас, брат, заседания. Хотим вопросы экспорта и импорта урегулировать. Развить, — понимаешь. Свести, так сказать, две страны.
За успех ручаться можно: меня ты знаешь, ну, а на К. А. Скальковского можешь, как на меня, положиться.
На днях он нам первый доклад делал. У Максима.
— Милостивые, — говорит, — государыни и милостивые государи! Хотя милостивых государынь между нами, к сожалению, и нет, но это ничего не значит: я всегда себе милостивых государынь мысленно представляю. И о чём бы писать ни начал, непременно сведу всё на кокоток. Так же поступлю я и теперь: известно, что строго выдержанное направление в государственном человеке прежде всего. Итак, милостивые государи! Давно занимаясь в печати горизонтальным ремеслом, т. е. описывая так называемых «горизонталок», я пришёл к убеждению, что единственный предмет французского экспорта, который всегда у нас принимался с распростёртыми объятиями, это — кокотки. Кокотку всегда принимают не иначе, как с распростёртыми объятиями, иначе нет смысла её и принимать. Чрезвычайно, чёрт побери, заманчивая профессия! Но, — увы! — милостивые государи, за последнее время замечено, что французские предметы всё более и более заменяются немецкими. С парижскими кокотками у нас случилось то же, что и с гаванскими сигарами! Их вытесняют рижские. Между тем, милостивые государи, какое же может быть сравнение между французской кокоткой и немецкой? Я считаю излишним даже говорить об этом, потому что разница между ними достаточно определена в моём опыте сравнительной кокотологии, вышедшем под названием «В Париже». Достаточно вам сказать, что немки даже чулки носят только до колен. (Разочарованное «Ну-у» среди присутствующих.) Наряду с этим во Франции замечается перепроизводство кокоток. Из моего исследования о Фуфу вам, милостивые государи, известно, сколько порядочной кокотке нужно в месяц. Увы, милостивые государи, Париж этим потребностям не удовлетворяет, и вот мы замечаем значительное движение этого рабочего элемента из Парижа в Монте-Карло. Исследованию этого переселенческого движения мною посвящён специальный фельетон в одной из петербургских газет, с указанием адресов, где можно найти страдающих от безработицы для тех добрых людей, которые захотели бы сделать доброе дело и доставить им занятие. Нужда, господа, вопиющая! Достаточно вам сказать, что масса кокоток сидит в Монте-Карло, не имея возможности даже уплатить по счетам и уехать. (Возгласы: Сделать подписку!) Нет, господа, зачем подписка! Я враг всяких подписок. Доброе дело, по-моему, надо делать скромно, один на один. Между этими кокотками, господа, царит настоящий голод. Я сам, сам видел многих, которые по три, по четыре дня не ели устриц. Многие из них не ужинают! И мне кажется, господа, что, установив правильный экспорт французских кокоток в Россию, мы тем самым разрешим вопрос об их безработице во Франции, и вместе с тем утолим кокоточный голод в России. Пора, пора, господа, дать русскому народу настоящую французскую кокотку, взамен того немецкого суррогата, который он получает из Риги. Благодаря вас за честь, которую вы сделали мне, избрав меня в председатели торговой палаты, я объявляю, что займусь, по примеру прежних лет, кокотками. Ура!
Впечатление потрясающее. На следующий день К. А. Скальковский был торжественно провозглашён доктором сравнительной кокотологии и ресторанных наук honoris causa[11], как сказано в дипломе, «в вознаграждение литературных заслуг».
Торжество происходило в Café Américain, наверху. Хотели в другом месте, но там тоже какое-то торжество происходило, — всё было занято. Председательствовала mademoiselle Фуфу и сказала премилую речь. Немножко странную, но ведь француженка многого в нашей русской жизни не понимает.
— Ami et cher papaschka![12] — так начала она свою речь. — Ваши труды в области кокоткознания у всех в памяти и не нуждаются в похвалах.
Вы принадлежите к числу тех избранных умов, которые могут заниматься несколькими предметами единовременно. Так, будучи директором горного департамента, вы, судя по вашим писаниям, более занимались изучением островов. Что касается ваших заслуг в области сравнительной кокотологии, то достаточно сказать, что с тех пор, как вы были так добры и указали, в каких именно ресторанах и в какие часы можно застать лучших кокоток, — с тех пор число русских посетителей там значительно увеличилось. За что мы и выражаем вам признательность от своего имени и от имени этих рестораторов. Да! Ami et cher papaschka, как зовём мы вас! Вы самоотверженно занимались своей публичной деятельностью, за что и потерпели гонение в отечестве. Но утешьтесь. Вы не были дипломатом, вы не устраивали франко-русского альянса, но устроили такую массу франко-русских альянсов, что и не снилось! Примите же от нас в воздаяние литературных заслуг ваших, — honoris causa — звание доктора кокотологии и присвоенную этому званию бутоньерку из разноцветных подвязок. Позвольте представить вам моих подруг!
Тут началось дефилирование. Сначала шли более, так сказать, современные особы, а потом двинулась «старая гвардия». Представляясь, они делали правой ногой на караул, — и чрезвычайно удобно, не надо было даже снимать цилиндр, чтобы раскланиваться: они сами сбивали цилиндр с головы ногой.
Вообще торжество было страшное. Не обошлось, конечно, и без неприятности.
Так, маленькая.
Когда мы выходили из кафе, на нас накинулась толпа проводников, — знаешь, вот тех, что по place de l’Opéra[13] шляются и к прохожим иностранцам пристают:
— Не желаете ли туда-то отправиться? Туда-то?
Кинулись — и прямо к К. А. Скальковскому.
— Как, — кричат, — вам, ваше превосходительство, не стыдно? У бедных людей хлеб отбиваете! Раньше мы русских господ по разным местам водили, а теперь все с вашими фельетонами ходят: «сами, говорят, найдём!» Нехорошо конкуренцию делать!
Но мы, конечно, не обратили внимания и пошли в гору, на Монмартр, — всё-таки он бывший директор горного департамента!
Так-то, душа Тряпичкин. Вот какие дела делаем. Собираюсь для пользы отечества адрес-календарь всех парижских кокоток составить, с указанием, в каких ресторанах бывают и prix-fix'ы.[14]
И вообрази, русские-то, хороши, не понимают. Встретил тут одного, рассказал проект, — говорит:
— Что ж вы такое? Международный «устроители знакомства» какой-то!
Я думаю, что он нигилист. Наверное, нигилист! Надо будет про него написать, что нигилист.
Твой друг Jean de-Хлестаков.
С подлинным верно.
Корреспондент от Maxim’а
«Le beau et celèbre»[15] г. Скальковский напечатал в свойственной ему газете корреспонденцию об открытии памятника Поль де Коку.
Г. Скальковский спешит давать материалы своему будущему биографу.
С очаровательной откровенностью артистки из «Альказара» он обнаруживает перед публикой свои интимнейшие подробности.
Он рассказывает характерные вещи.
Представьте себе, что когда г. Скальковский был ещё студентом, профессор, оказывается, кричал на него:
— Зарезал, разбойник!
Вон ещё когда!..
Г. Скальковский, по его словам, воспитан на Поль де Коке и счёл долгом присутствовать на открытии памятника писателю.
Это очень благородно с его стороны.
Г. Скальковский всегда был благородным человеком и знал, что такое уважение к мёртвым.
К тому же и картина: «Скальковский у памятника Поль де Кока» — недурной жанр.
Это стоит дон-Карлоса у гробницы Карла Великого.
Г. Скальковский описывает очень трогательно открытие памятника.
Но, к сожалению, пишет не всё.
Один мой парижский приятель описывает мне то, о чём умолчал даже г. Скальковский.
Финал торжества.
Речи были сказаны, памятник открыт. Присутствующие ушли на банкет по 6 франков.
Г. Скальковский остался у памятника один.
Воскрешая в душе своей пикантнейшие места из романов Поль де Кока.
Он любит поминать мёртвых.
В душе его воскресал «Le cocu»[16], всплывал «Le mauvais sujet»[17], проплывали «Магазинные барышни», «Молодая девушка с пятого этажа», «Девочка, которую долго считали за мальчика».
Так волновалась душа его.
Как вдруг памятник зашевелился.
Бронза стала тёплой, стала оживать, оживать.
В глазных впадинах затеплились весёлые и живые глаза.
Тёмный бронзовый загар сбежал со щёк, они стали бледными, слегка розовыми.
Губы раскрылись, грудь поднялась и вдохнула воздух.
Поль де Кок опёрся руками и с трудом, немножко кряхтя, немножко охая, вышел из пьедестала.
Перед изумлённым, испуганным г. Скальковским стоял Поль де Кок, старик Поль де Кок, с огромными седыми усами, в высоких смятых воротничках.
Стоял и улыбался.
— Votre excellence![18] — сказал Поль де Кок.
Г. Скальковский приосанился.
— Votre excellence, позвольте мне поблагодарить за ту честь, которую вы мне оказали, специально приехав на открытие моего памятника! — продолжал Поль де Кок. — Именно с вашей стороны меня особенно трогает такая честь.
— Oh, cher maitre[19], ради Бога, — смущённо пробормотал г. Скальковский, — я всегда был верен вашим заветам.
Но Поль де Кок остановил его мягким движением руки.
— Мне приятно видеть вас, как отцу своего сына. Кто присутствовал на открытии моего памятника из тех, кого я воспевал? Припомните, кто были моими созданиями? Гризетка, — их больше нет. Эта крошка, жившая на пятом этаже, которая требовала на ужин немножко хлеба и сыра и много шуток и смеха, — её нет больше!
— Хорошие были времена! — вздохнул г. Скальковский.
— Она не могла быть на моём торжестве. Она умерла! Мой любимый герой — скромный молодой человек, который не смеет признаться в любви и часами караулит на лестнице, пока пройдёт хорошенькая соседка, чтоб взглянуть ей в след и вздохнуть, — его тоже нет. Скромный молодой человек умер. Как это ужасно писателю переживать смерть своих героев. Это значит умирать во второй раз! Но не все из моих созданий умерли! Не все! Один из моих любимейших героев жив.
И голос Поль де Кока зазвучал громче и радостней.
— Если вы припомните, кроме гризетки и робкого юноши, — любимым типом, который я часто выводил, был старый порнограф. Старый порнограф, который не может видеть женской ножки без того, чтоб мысленно не взбежать по ней, как таракан, который только и делает, что раздевает в своих мыслях каждую встречную женщину, и затем слюнявыми губами рассказывает всем и каждому о «подробностях», которые он заметил или о которых догадывается своим старческим воображением. О, excellence! Я читал то, что вы писали про актрис, про кокоток, про женщин вообще.
И Поль де Кок мягким движением руки остановил готовый вырваться у г. Скальковского поток благодарностей за лестное внимание.
— Этот старый порнограф, — я любил его выводить на посмешище. Я ставил его в позорнейшие положения. Я издевался над ним. Он всегда у меня в конце концов оказывался ничтожным, жалким, презренным, противным и гадким. Excellence, позвольте мне поблагодарить за то, что вы явились на открытие моего памятника!
И, смахнув набежавшую на старые глаза слезу, Поль де Кок, кряхтя и охая, взобрался на свой пьедестал и медленно вошёл в него.
Тёплое живое тело похолодело, застыло, стало бронзовым.
Лицо замерло.
Как догоревшие лампады, погасли глаза
Чёрные впадины смотрели сурово и мрачно.
А г. Скальковский с «Le cocu» в душе долго ещё стоял перед бюстом писателя, великого и любимого.
Стоял и сказал:
— Первой книгой, которую я прочёл, была «Девочка, которую долго считали за мальчика». Я всю жизнь был тоже «девочкой, которую принимали за мальчика», — поль-де-коковским героем, которого долго принимали за государственного человека.
«Собственный корреспондент от Maxim’а» повернулся и медленно пошёл к экипажу.
— К Maxim’у, иде же многие Скальковские упокоиваются!
И сел там за свободным столиком писать корреспонденцию:
— Maxim. Такого-то сентября.
Жив Курилка
Умирая в поезде от скуки, я стоял на одной из больших станций, около «газетного буфета».
— Марк Твен есть? Джерома тоже нет?!
Газетчик тоном приказчика в гастрономическом магазине нахваливал мне свой товар.
— Газеты есть самые свежие. Последней получки-с. Дозволите отпустить?
— Да нет! Мне так что-нибудь… посмешней!
— Гражданин дозволите завернуть? Гражданин очень смешно читать-с…
— Читал. Нет ли чего повонючее? В роде, знаете, лимбургского сыра. На любителя?
— Дозвольте в таком случае «Речь» г. Окрейца вам отпустить? Никто не спрашивает-с. Любительский товар-с.
Окрейца?!
— Заверните мне Окрейца! Заверните мне Окрейца!
— Больше ничем служить не могу?
— Нет, уж после Окрейца что же?
Окрейц!
Он жив!
И целая картина предстала передо мной. Унылые коридоры полтавского окружного суда.
Я брожу в ожидании, пока начнут выдавать билеты на дело Скитских.
По унылым коридорам уныло бродит ещё унылая фигура во фраке, с какими-то упразднёнными знаками отличия отдалённых государств.
Его можно было бы принять и за престарелого фокусника, если б не факельщицкий вид.
Худой, костлявый.
Длинные грязного цвета волосы, длинная жидкая борода. Бесконечное уныние в глазах, как у людей, занимающихся самой безрадостной на свете профессией. Мне показалось даже, что одно плечо поношенного фрака особенно сильно вытерто.
«Это от постоянного таскания гробов с покойниками!» с сочувствием подумал я.
В разговоре с приставом мне пришлось упомянуть свою фамилию.
Престарелый факельщик шагнул ко мне своими длинными тонкими ногами.
— Вы такой-то?
— К вашим услугам.
— Позвольте познакомиться. Я — Окрейц.
Да это был не только факельщик, но сам покойник.
— Окрейц? Вы Окрейц?!
— Да, да. Я Окрейц.
— Окрейц?! «Инженеров следует вешать просто, концессионеров следует вешать за ребро».
Он смотрел на меня с удивлением и слушал, как знакомый мотив.
— Из какой это оперы?
— Вы забыли? Это ваше! Ваше это! Из «Луча».
Старый факельщик улыбнулся радостно. Вспомнил!
Он закивал головой.
— За ребро! За ребро! — повторял он тихо, с бесконечной нежностью. — Да, да, да!.. За ребро!
— Или вот это: «Всякого предпринимателя следует сажать на кол и держать так, пока кол не пройдёт сквозь самое горло и не поднимет черепа!»
Он радостно кивал головой.
— Моё! Моё! Черепа не поднимет! Черепа!
— Нет! Стиль-то, стиль! Не просто «через горло», а «через самое горло». Чрезвычайно стильно!
Старик был растроган.
— Вы, однако, учили мои произведения наизусть?
— Запомнились, г. Окрейц! Врезались в память! Я зачитывался вашими произведениями, г. Окрейц! Да и как же иначе? Вы писали это в 80-м году. А? В 80-м году XIX столетия, и вдруг «за ребро». Как не врезаться? Или вот это: «Такого-то присяжного поверенного следовало бы вымазать в дёгтю, вывалять в пуху и гнать так дворниками по городу, пока не падёт». У вас была изобретательность, г. Окрейц! Вы были художником, господин Окрейц! Ваш совет относительно другого присяжного поверенного: «Этого следовало бы после речи просто выкинуть из кассационного департамента в окно». А? Присяжный поверенный, летящий из Сената в окно! Первоприсутствующий, который приказывает: «Сторожа, отворите окно и киньте туда присяжного поверенного!» Такие вещи не забываются, г. Окрейц.
Старик был тронут. Больше. Он был потрясён.
— Да! Писал в своё время! Писал! А теперь… Приехал на дело Скитских от…
Он назвал один из петербургских органов.
— Нда! Газета, извините меня, действительно, довольно портерная.
— Да и не во всякой портерной ещё получают! — со вздохом махнул рукой престарый факельщик. — Захожу как-то освежиться. «Дайте мне»… — «Извините, мы этой газеты не получаем-с!» И с такою гордостью: «мы»!
— С таким-то талантом, как ваш! С такой изобретательностью! С такой фантазией!
— Спроса на меня нет. А бывало! Писал! «За ребро»! Отлично помню: «за ребро».
— Или «о пользе ввести колесование»?
— Да, да! И о пользе ввести колесование писал!
Мне показалось, что у старика на глазах даже слёзы умиления.
Он чувствовал ко мне нежность. Я разбудил самые дорогие воспоминания.
Он схватил мою руку. Он жал её своей тёплой-тёплой рукой. Ему хотелось сказать мне что-нибудь приятное.
— А мы с Пятковским читали ваши сахалинские очерки.
— С кем?
— С Пятковским, с издателем Наблюдателя. Тоже спроса теперь нет! Тоже!.. Мы читали. Какой ужас! Эти наказания, эти тюрьмы, это полное падение. И знаете, к какому заключению мы пришли с Пятковским?
— Интересно.
— Что смертная казнь необходима!
Я даже отскочил.
— Вот, знаете, никак не думал, чтобы мои очерки…
Но он снова поймал меня за руку.
— Вы это доказали! Вы это доказали!
— Послушайте! Мне делается страшно…
— Не пугайтесь! Не пугайтесь! В этом нет ничего страшного!
Он говорил тихо, нежно, словно уговаривал меня идти в палачи или просто на виселицу.
— Никаких мук, никаких страданий. Никакого произвола надзирателей, никакого человеческого падения. Ничего. Раз — и всё кончено. Это чисто! Это опрятно прежде всего! И потом — дёшево. Никаких расходов на тюрьмы, на одежду, на стол.
— Но кого же, г. Окрейц? Но кого?
— Всех-с! Обвиняется в убийстве-с, в покушении на убийство, в делании фальшивой монеты…
Он подумал с секунду.
— По третьей краже тоже можно-с. Всё равно он неисправим.
И этот «идеалист смертной казни» с такой нежностью говорил:
— «По третьей краже».
— И никаких ужасов каторги!
— Послушайте, г. Окрейц, а случаи судебной ошибки?
Он посмотрел на меня с удивлением:
— Что ж, что судебные ошибки? Никакое правосудие не может обойтись без ошибок! Вы только подумайте: каково это невинному человеку мучиться в каторге! А тут никаких мучений. Раз — и готово!
— Ну, хорошо! Возьмём хоть вот это дело, ради которого мы с вами приехали. Дело Скитских. Если б их, по вашему рецепту, взяли бы сразу и казнили…
— И превосходно-с!
Старик даже подвизгнул от радости.
— И превосходно-с! И никакого шума бы не было-с! А то, что это, помилуйте! Шум на всю Россию! Газеты кричат! Корреспонденты скачут! Что это такое? А там, — чирик, и всё кончено. И они ничего больше не чувствуют.
— А родные, г. Окрейц? Их родные?
— Что ж, что родные?! Поплакали бы и успокоились. Вот и всё. Всё равно человеку рано или поздно умирать нужно!
И этот старичок, на которого «не было спроса», с нежностью улыбался, словно уж видел перед собою «картину».
И вдруг теперь! Оказывается, он не только существует! Он издаёт журнал!
— Только никто не спрашивает-с! — жалуется газетчик.
Пусть эти строки послужат рекламой для старичка.
Господа, поддержите помешанного старичка, страдающего каким-то жестоким и кровавым бредом.
Тяжёлая форма помешательства!
Господа, когда вы умираете от скуки, покупайте «Речь».
Барон Икс
«… Но меч положите на мою могилу. Я был смелым бойцом».
Гейне.В «таинственном» доме, который в Одессе окружён легендами, в бывшей масонской ложе, в странных пяти-, восьмиугольных комнатах, жил старый «барон».
Дом и жилец подходили друг к другу.
И от того и от другого веяло романтизмом.
Поссорившись с одним старым другом, «барон» расстрелял его портрет из револьвера и послал записку:
— Ты для меня более не существуешь. Я тебя убил.
— Журнализм, это — донкихотство! — говорил мне старый «барон». — Я 25 лет воевал с невежеством, с грубостью, с глупостью. Главное — с глупостью. Расскакавшись на своём Росинанте, вонзал со всего маха копьё…
Он, иронически улыбаясь, кивнул на ручку с пером:
— В крылья ветряных мельниц… Ветряные мельницы вертятся по-прежнему, — я, разбитый, лежу на земле с выбитыми зубами. «Беззубый фельетонист». Я стараюсь утешить себя: «Приносил пользу». Разве это не тот же глупый, «волшебный» бальзам, который делал для себя Дон-Кихот! Раны от этого бальзама не проходят. Да и самый «шлем» журналиста? Кажется, я тазик цирюльника принимал за рыцарский шлем!
Кабинет «барона» был уставлен книгами.
Это были публицисты, критики, полемисты шестидесятых годов. Его «рыцарская библиотека».
Указывая на эти книги, он сказал:
— «И погромче нас были витии, да не сделали пользы пером»… Когда я буду умирать и мне скажут: «Барон Икс», — я отвечу: «Барона Икса больше нет, я Герцо-Виноградский добрый!»
Этому старику, с рошфоровским коком, с видом бреттера, в старомодно повязанном большим бантом широком галстуке, нравилось сравнение с Дон-Кихотом.
— А сколько ошибок! Сколько донкихотских ошибок! Сколько жертв злых волшебников я вообразил себе, тогда как это были обыкновенные плуты и негодяи. Сколько копий сломал из-за них, не подозревая, как смешно моё донкихотство! «Приносил пользу!» Я воюю за служащих Камбье, — знаете, этих кондукторов, кучеров конно-железной дороги. Их эксплуатирует бельгийское анонимное общество, как умеют эксплуатировать только бельгийцы! Они работают 18 часов в сутки. 18 часов на ногах, не присевши. По праздникам до 20 часов! Сотням людей сокращают жизнь. Я назвал их «неграми господина Камбье». Сравнение так верно, что иначе их теперь и не зовут. А толк? Г. Камбье разыскивает: кто мог сообщить барону Иксу все эти сведения? И гонит заподозренных служащих! Вы помните мальчика-ремесленника, за которого заступился Дон-Кихот, — и которого потом за это хозяин выдрал ещё сильнее? Да и «общество», во имя которого мы сражаемся! Это Дульсинея Тобосская, которую наша фантазия награждает красотой и всеми совершенствами! Посмотрите на Одессу. О чём она думает, о чём мечтает? Разве это не грубая, безобразная крестьянка? Какое донкихотство считать её прекрасною, знатною дамой, которую только заколдовали злые волшебники и которую можно расколдовать! В довершение сходства с «рыцарем печального образа» меня уже начинают топтать бараны!..
«Барон»…
Звучное имя «Герцо-Виноградский» существовало только для участка, где он был прописан. Для всех остальных он был:
— Барон Икс.
К нему обращались в разговорах не иначе, как «барон». Ему писали: «барон».
Простой народ, обращаясь к нему с жалобами, ища защиты, писал ему на конвертах:
— Его сиятельству барону Герцо-Виноградскому.
«Барон Икс» был то, что называется «горячей головою».
Пылкий, увлекающийся, — его жара не охладило даже путешествие по Сибири.
Вернувшись из этого путешествия в Одессу, он сразу сделался кумиром всего юга.
Он писал смело, горячо, страстно. Ни с чем не считаясь, кроме цензуры, да и с ней считаясь плохо.
Не его вина, что часто истинно пушечные заряды ему приходилось тратить на воробьёв.
Это был большой талант! Созданный вовсе не для провинции. Работай он в Париже, — его имя гремело бы.
А в провинции… В Одессе… Где газета находится не под одной цензурой, — под десятью цензорами, где всякий над газетою цензор. Тут не расскачешься. Тут всякий Пегас скоро превратится в Росинанта.
Это был блестящий журналист. С огромной эрудицией. С хорошим, литературным стилем. С настоящим, с огненным темпераментом журналиста.
Мы беседовали с ним как-то о журнализме.
— Пренелепое занятие! — смеялся он. — Ко мне сегодня приходил молодой человек. «Желаю быть журналистом». — «Журналистом? Скажите, можете ли вы ненавидеть человека, который вам ничего не сделал, которого вы никогда не видали, имя которого раньше никогда не слыхали?» Смотрит, вытаращив глаза: «Как же так?» — «Ненавидеть глубоко, искренно, всей своей душой, всем своим сердцем? Видеть в нём своего злейшего врага, только потому, что вам кажется, будто он враг общественного блага? Если да, вы можете быть журналистом. Настоящим журналистом».
Сам он был таким.
Он был «Иеремией» Одессы.
Его «развратная Ниневия», — «пшеничный город», где всё продаётся, и всё покупается, где высшая похвала:
— Второй Эфрусси!
Где, когда хотят сказать, что человек «слишком много о себе воображает», — говорят:
— Он думает, что он Рафалович!
Точно так же, как в других местах говорят;
— Он думает, что он гений!
— Он думает, что он Бог!
В жизни этой «Ниневии» облитые желчью, написанные огненным стилем пророков статьи — «плач» её «Иеремии», — играли большую роль.
Его фельетоны были набатом, который будил город, погружённый в глубокую умственную и нравственную спячку.
Он поднимал «высокие вопросы», указывал на высшие интересы, один только кричал о нравственности, о справедливости, когда кругом думали только о выгоде или убытке.
На всём юге, для которого Одесса является умственным центром, — с нетерпением ждали фельетонов барона Икса.
Много интереса к высоким задачам и высшего порядка вопросам пробудил он, много молодых сердец заставил биться сильнее.
Он обладал огромным нравственным авторитетом.
«В своё время», когда он был молод, силён, в расцвете таланта, вокруг него группировалось всё передовое интеллигентное общество Одессы.
Он был кумиром молодёжи. И что самое главное — этот суровый человек был кумиром молодёжи, не льстя ей.
На его юбилее один из ораторов, юрист, сказал:
— Вы были обер-прокурором в суде общественного мнения. Ваш кружок — кассационной инстанцией. Много общественных приговоров было отменено, как несправедливые, по вашему протесту, нравственно-авторитетным решением вашего кружка.
Другой оратор, старый студент, приветствовал «старого барона»:
— Ваша связь с Новороссийским университетом не прерывалась в течение 25 лет. Вы были сверхштатным и экстраординарным профессором нашей almae matris. Более влиятельным, чем многие из ординарных и штатных профессоров. Для молодёжи вы занимали кафедру «общественных интересов». На ваших фельетонах граждански воспитывалось молодое поколение.
Надо обладать колоссальным талантом, чтобы при условиях, в каких стоит провинциальная пресса, создать себе такой высокий авторитет, каким «в своё время» пользовался этот публицист.
«Его время» длилось лет двадцать. Год войны считается за два. Год войны провинциального журналиста можно считать за четыре. Та война, которую вёл «Барон Икс», была беспрерывной севастопольской кампанией, где считался за год месяц.
Это было сверх человеческих сил.
Больной, с разбитыми нервами, чтоб поддержать себя, «барон» прибегал к морфию.
— Я ободрал себе всю кожу, пробираясь через глухую чащу, через терновник, у меня все нервы наружу. Мне всё больно! — жаловался старый «барон». — Я живу, я пишу ещё только благодаря морфию.
Быстро и ярко сгорел талант.
Тот «барон», мой первый визит к которому я описал в начале фельетона, был уже «бароном» последним журнальных дней.
Он ещё сражался, но каждый удар стоил больше ему, чем врагам. Он ещё рубил своим старым, зазубренным мечом, и раздавались стоны, но это были его стоны, а не стоны врагов.
В это время «барон» напоминал израненного, измятого рыцаря на поле битвы.
Он лежит, он истекает кровью.
А кругом ещё жестокая сеча. Стучат мечи о железо щитов. С треском ломаются копья. Звенят латы грудь с грудью столкнувшихся бойцов.
И в полуистекшем кровью рыцаре сильнее бьётся сердце.
Он поднимается. Шатаясь, он выпрямляется во весь рост. Обеими руками он заносит над головой тяжёлый меч. Но в изрубленных, избитых, измятых руках невыносимая боль, стон вырывается у рыцаря, его меч «бессильно рубит воздух», и со стоном, с проклятием падает раненый.
На его глазах в первый раз выступают слёзы. Тяжкие свинцовые слёзы, — слёзы обиды, бессилия.
Тяжело было «Барону Иксу» переживать самого себя.
Времена переменились.
Газеты, где он так боролся с «меркантильным духом времени», стали сами делом меркантильным.
Газета из «дерзкого дела» превратилась в ценность, в акцию, на которой, как купоны, росли объявления.
Издатель из пролетария превратился в собственника.
Он щёлкал пальцем по четвёртой странице и самодовольно говорил:
— Вот они сотруднички-то! Гг. объявители! Печатают в газете свои сочинения и сами же платят! Гривенничек строчка-с! Не от меня-с, а мне-с!
На редакторском кресле сидел господин из Петербурга, выхоленный, вылощенный, истинный петербуржец с девизом:
— Мне на всё в высокой степени наплевать!
Редактор с брезгливой улыбкой кромсал этого «кипятящегося» Икса:
— Всё уж в человеке выкипело. А он всё ещё кипятится! И чего так кипятиться? Это может не понравиться.
Издатель морщился и, не стесняясь, в глаза говорил:
— Беззубо-с! «Стара стала».
«Барон», привыкший к успеху, избалованный, стонал, жаловался:
— Меня топчут уже бараны. Санчо-Панса обзавёлся своим домком, хозяйством, а меня, разбитого ветряными мельницами, Дон-Кихота из милости держит где-то на задворках. И старается об одном, чтоб я не забыл, что валяюсь на чужой соломе.
Эти последние пять лет агонии таланта были скорбным путём. Истинной «Via dolorosa».[20] Дорогой тяжких страданий.
Наступило 25-летие.
И «Ниневия» чествовала своего «Иеремию», плакавшего над нею полными любви слезами и хохотавшего полным рыданий смехом.
«Дульсинея Тобосская» оказалась «прекрасной благородною дамой», которую старому Дон-Кихоту удалось расколдовать от колдовства злых волшебников.
Никогда ещё ни один русский журналист, — «просто журналист», — не удостаивался такого общественного чествования, какое было устроено Одессой старому «барону».
Это было торжество не одесское, не «Барона Икса», — это было торжество русской журналистики, русского публициста. «Только журналиста», «всего на всё фельетониста» люди, представлявшие собою цвет интеллигенции, люди, убелённые сединами, называли «учителем».
На чествовании «Барона Икса» были представители самоуправления, суда, адвокатуры, профессуры, медицины, — всё, что есть в Одессе выдающегося и известного.
Со всего юга летели телеграммы от «учеников» старому «учителю».
А вокруг здания, где происходило чествование, стояла несметная толпа народа, — тех слабых, которые, не находя нигде защиты, привыкли грозить:
— Пожалуемся Барону Иксу!
Они кричали:
— Ура, Барон Икс!
Говоря потом о своём юбилее, растроганный «Барон Икс» говорил:
— Это были похороны «Барона Икса». Мне не хотелось бы, чтоб его «останки» валялись в газете. Но я — нищий. Я ничего не умею делать, — только писать!
Один из добрых знакомых «барона» когда-то непримиримый его оппонент в спорах, бывший одессит, занимающий теперь очень высокий пост, — выхлопотал старому писателю пенсию от академии.
Долго колебался. больной старик:
— Я не из тех, кому дают пенсии!
Надо было много увещаний друзей:
— Это не подарок. Это — то, на что вы имеете право!
Скрепя сердце, перешёл ветеран в инвалиды и принял пенсию.
Он сложил своё честное перо.
Дон-Кихота больше уж не было, — был «дон Алонзо добрый».
Так пять лет тому назад умер «Барон Икс».
На днях скончался и С. Т. Герцо-Виноградский.
Светлый ум погас, благородное сердце биться перестало.
Товарищи, славный боец ушёл, доблестный ветеран скончался.
Отдайте ему честь нашим святым оружием, — пером.
Улыбка Вольтера
«С тех пор, как я о нём узнал, это дело занимает все мои мысли. Оно не даёт мне работать, оно отравляет мои удовольствия».
Вольтер, первое письмо о деле Каласа.Как-то, бродя в антракте по фойе «Comédie Française» с одним французом-журналистом, мы остановились около гудоновской статуи Вольтера.
Вы знаете эту статую? Вольтер, старый, сгорбленный, глубоко ушёл в кресло и смотрит, улыбаясь.
— Улыбка сфинкса! — сказал француз. — Этой зимой на одном из первых представлений я гулял здесь с Жюлем Леметром. Случайно взгляд моего собеседника скользнул по статуе Гудона, и мне показалось, что Леметру неприятно встречаться со взглядом Вольтера.
— Вам не нравится этот Вольтер? — заинтересовался я.
— Он был слишком умён и не мог не презирать жизнь и людей. Но я не люблю читать этого презрения! — отвечал Леметр. — Сколько злобы в этой улыбке. Вот настоящий Мефистофель, издевающийся над миром!
— С тех пор меня интересует спрашивать людей:
— Как улыбается Вольтер?
— Эта мысль меня занимает. Вскоре после того я встретился здесь же в фойе с Анатолем Франсом. На мой вопрос он улыбнулся доброй улыбкой и сказал:
— Разве вы не видите? Он улыбается улыбкой дедушки, который смотрит на игры маленьких внучат! Они построили карточный домик и ставят на него оловянных солдатиков. Дедушка не может улыбаться иначе, как насмешливо. Сейчас домик развалится, и дети поднимут плач и начнут упрекать друг друга: «Это ты виноват! Нет, это ты». Но эта насмешка полна добродушия и любви.
На днях я встретился здесь же с Франсуа Коппе.
— Я ненавижу эту злую обезьяну! — отвечал он на мой вопрос. — Когда я смотрю на этого Вольтера, мне вспоминается его «Pucelle D’Orléans»[21]. Он представляется мне инквизитором, старым сладострастным стариком. Маркизом де Садом! Мне кажется, что при нём обнажили Орлеанскую девственницу, а он наслаждается её позором и стыдом. Эта облезлая, злая обезьяна мне противна!
«Такими разными улыбками улыбается людям Вольтер, и, может быть, можно сказать:
— Скажи, как тебе улыбается гудоновский Вольтер, и я скажу тебе, кто ты».
— Вам никогда не приходилось беседовать на эту тему с Золя?
— К сожалению, нет.
Вольтер и дело Каласа мне вспомнилось вчера, когда я читал беседу с Н. П. Карабчевским о Мультанском деле:
— … Короленко не могло оторвать от дела известие о тяжёлой болезни его горячо любимой малолетней дочери… Он забыл также горячо любимую литературу и в продолжение года не мог написать ни одной строчки…
И мне вспомнились Вольтер и дело гугенота Каласа, суждённого и осуждённого, приговорённого и казнённого за мнимое убийство сына из религиозного фанатизма.
Едва Вольтер узнал, что невежество и нетерпимость принесли человеческую жертву:
— «Это дело не даёт мне работать, оно отравляет мне удовольствие!» — жалуется старик.
И он мог вернуться к работе и снова стал находить в жизни радости только тогда, когда после героической борьбы с его стороны невежество и нетерпимость были посрамлены величайшим посрамлением, какое существует для невежества и нетерпимости, — были раскрыты, а несчастный казнённый Калас из фанатика, — за что он был суждён, осуждён, приговорён и казнён, — превратился в то, чем он был в действительности, — в жертву фанатизма.
Я, конечно, не хочу назвать В. Г. Короленко Вольтером, вторым Вольтером или нашим Вольтером.
Я не сравниваю их. Я сравниваю только их любовь к истине и к справедливости.
Вольтер… Золя… Короленко…
Они разного роста, но они одной и то же расы.
Они из одного и того же теста, потому что поднимаются от одних и тех же дрожжей.
Я не знаю, украшает ли кабинет В. Г. Короленко статуэтка гудоновского Вольтера, как она украшает кабинет его друга Н. К. Михайловского.
Но если да, я думаю, что Вольтер улыбается ему той же улыбкой, какой улыбался Эмилю Золя.
Симеон, не доживший до Сретения (Памяти Данилы Лукича Мордовцева)
Говорят, что больше всего умирает людей в предрассветный час.
В этот тяжёлый, томительный час.
Когда ночь кажется бесконечной.
На востоке как будто потянулись беловатые полоски.
Действительно ли близок рассвет?
Или это обман среди непроглядной тьмы, галлюцинация глаза, истосковавшегося по свете?
С полей прибегает ветерок. От его холода веет землёй.
Предрассветный ветерок.
А больному, умирающему кажется, что на него дышит холодом и разрытой землёю могилы.
Тяжёл предрассветный час.
Полоса на востоке всё белее, белее.
Заря заиграет пурпуром, золотом, розовыми, алыми пятнами, брызнут лучи и, словно плача от радости, брильянтами росы загорится трава.
И только он будет лежать, недвижимый, бледный, восковой. Задушенный уходившей ночью.
Словно злой, бессильный, низкий враг. Побеждённый. Бегущий. И убегая, добивающий больных, раненых, слабых и беспомощных.
Задушила и ушла.
В тяжёлый, предрассветный час умерло много больных русских людей, истосковавшихся по свету.
Михайловский… Чехов…
В предрассветный час, в Кисловодске, почти воздухе Украйны, где в тёплой, летней, влажной, бархатной тьме задумчивых ночей шепчутся пирамидальные тополи, — окончил свою праведную жизнь Данила Лукич Мордовцев.
Он давно уже принадлежал историкам литературы.
Мордовцева-бойца знали наши отцы.
Мы застали его ветераном, добрым старым дедом, тихо и буколически доживавшим свой век в литературе.
Милая, славная фигура, вызывавшая добродушную улыбку.
Старый Афанасий Иванович, оторванный от родной Украйны и принуждённый проживать в столичном городе Санкт-Петербурге.
Старику холодно на Ингерманландском болоте, он кутается в бекешу, — в бекешу из настоящих полтавских смушек! — и мечтает:
— А там вишнёвые садочки. Тополи. Песня слышится. Старая, дедовская, запорожская. «Гой вы, казаченьки». Дивчины в венках из цветов с поля идут. Парубки лихо поют. Хозяйка кулеш варит, пар от него валит. Хорошо.
Такой образ, милый, кроткий, добродушный, слегка забавный, без обиды для него, — рисовался мне, как всему нашему поколению при словах:
— Дид Мордовцев.
Пока я не увидал настоящего, реального Данилы Лукича Мордовцева.
Это было в Петербурге, на памятном первом представлении «Контрабандистов».
Предупредив обо всём полицию, г. Суворин трусливо бежал в Москву.
Умывал в это время руки в «Славянском Базаре».
— Я ни при чём-с… Помилуйте-с… это без меня-с…
Его лакеи, наглые, как могут быть наглы лакеи, чувствующие себя безнаказанными, спрятавшись за спины полиции, травили:
— Жарь! Играй! Лупи!
По сцене ходили актёры и, — слов не было слышно за рёвом урагана в зале, — кривлялись и строили рожи публике.
Они напоминали глупых и скверных мальчишек и девчонок, которые в зверинце кривляются перед клеткой и дразнят зверя, зная, что он за решёткой и их не может тронуть.
В театре стоял ураган.
Ураган общественного негодования.
Заблаговременно призванная суворинскими лакеями полиция приступила к «водворению порядка».
Раздались вопли юношей, девушек.
Взрослые люди, мужчины, падали в партере в обморок при виде того, что творилось в ложах.
Тогда старик Мордовцев пошёл за кулисы.
Говорить. Усовещивать суворинских лакеев.
Результат получился, какого надо ждать от разговора с наглыми лакеями.
Мордовцев со слезами умолял их:
— Пожалейте молодёжь. Прекратите ваши безобразия!
Лакеи, спрятавшись за широкие полицейские спины, нагличали и поглумились над плачущим стариком:
— Не ввязывайтесь! Вы кто такой здесь будете? Дело полицейское! Полиция докажет, как скандальничать! Всех скрутим! Проваливайте!
Я увидел в первый раз в жизни Мордовцева, когда он выходил из-за кулис этого учреждения, после разговора с лакеями, сучившими кулаки.
Старик дрожал и весь трясся от рыданий.
По его морщинистым щекам градом текли слёзы.
В эту минуту он напоминал скорее короля Лира.
Поруганного, обиженного, раненого в сердце, бессильного и плачущего старческими, горькими, бессильными слезами.
Лира, над которым надругался дворецкий Гонерилья.
Вопли избиваемой в ложе девушки и слёзы старика.
Такова участь молодости и старости в этой стране.
И с этих пор образ «скорей короля Лира» заслонил в моём воображении образ «Афанасия Ивановича».
И с этих пор при имени Мордовцева мне представлялась не буколическая фигура старика в бекеше из настоящих полтавских смушек, а трагическая фигура рыдающего старика.
Человек слова, он разделял участь всех русских людей:
— Молчать.
Череп русского человека — тюрьма, где томятся, чахнут и умирают его истинные мысли.
Без надежды увидеть свет.
И только у нас возможны такие недоразумения.
Короля Лира считают благодушествующим Афанасием Ивановичем.
Потому что Лир молчит.
Человек живёт среди нас, и мы не знаем его.
Кинул ли он слово ненависти тем, кого он ненавидел всей своей исстрадавшейся старой душой?
Мог ли он кинуть открыто слово привета тем, кого любил и кому в душе посылал своё старческое благословение?
И все мы умираем в одиночестве.
Не подав истинного голоса ни друзьям ни врагам.
Словно отгороженные друг от друга непроницаемыми стенами тюремных казематов.
В одиночном заключении со своими мыслями, со своими чувствами.
Так истосковавшись по свету, по солнцу, по дне, — он умер в самый предрассветный час.
Не вымолвив:
— Ныне отпущаеши…
Как Симеон, не доживший до Сретения.
Самый тяжёлый гроб — гроб русского человека.
Словно свинцом налита его грудь. Она полна невыплаканных слёз.
О Вересаеве
«Wozu denn Lärm?».[22]
Первая фраза Мефистофеля.Доктор Приклонский кончил свой доклад против Вересаева, — и председатель объявил:
— Желающие возражать — благоволят записаться.
Немедленно записалось 16 врачей.
— Объявляю перерыв на 10 минут.
Вероятно, для того, чтобы доктор Приклонский мог проститься с близкими.
Перерыв кончился, г. Приклонский поднялся на подмостки и покорно сел за стол, покрытый сукном цвета крови, — около него за зловещим пюпитром, в декадентском стиле, стал первый возражатель.
— Вам будет так удобно? — спросил его председатель с любезной улыбкой великого инквизитора.
— Покорнейше благодарю! Мне будет так очень удобно! — сказал первый возражатель, со вкусом смотря на доктора Приклонского.
Аудитория затаила дыхание.
И началось.
Мне вспомнилась сцена из «Тараса Бульбы».
На помосте сидел г. Приклонский и около него стоял оппонент.
А перед помостом чернело море голов. И молодой шляхтич в толпе объяснял сидевшей рядом с ним хорошенькой панянке:
— Вот видите, дорогая Юзя, тот, который сидит, это и есть преступник. А тот, что стоит около за декадентским столом, будет его казнить.
— Что же он сделал такое? — кокетливо спрашивала хорошенькая Юзя.
— А сделал он, душенька Юзя, то, что обругал Вересаева. И за это его будут казнить. По переменкам казнить будут, красавица Юзя. Один устанет, другой казнить начнёт. Сначала ему отрубят руки, и он будет очень кричать. Потом ему отрубят ноги, и тогда он тоже будет очень кричать. А, наконец, и совсем отрубят голову. Тогда уж он больше кричать не будет!
И море голов волновалось в ожидании интересного зрелища.
На помост один за другим всходили врачи пожилые, юноши, люди с именами, неизвестные, приезжие, здешние — и рубили доктору Приклонскому руки и ноги.
И при каждом удачном и сильном ударе публика разражалась громом аплодисментов.
Поощряя:
— Ещё его! Bis!
Какой-то молодой человек так разгорячился, что вскочил и протестовал:
— Зачем доктор Приклонский возражает каждому оппоненту в отдельности? Пусть слушает не возражая!
Но доктор Приклонский, который очень кричал, когда ему отрубали руку или ногу, заявил, что он хочет кричать после каждого удара.
И пока шла эта бесконечная экзекуция, мне казалось, что у доктора Приклонского вот-вот вырвется тяжкий вздох и пронесётся с помоста над затихнувшей толпой:
— Батько Гиппократ, слышишь ли ты меня?
Из толпы раздастся голос старого, убелённого сединами практикующего врача, который ответит за Гиппократа:
— Слышу, мой сынку, слышу!
И вздрогнет толпа.
А казнь продолжалась.
Когда доктору Приклонскому отрубили руки и ноги, поднялся г. Ермилов, журналист, с явным намерением «и совсем отрубить голову».
Он размахнулся:
— Вы? Вы критик? Вы доктор? Вы… вы… вы фельетонист!
Простонародье ругается «химиками».
Журналист г. Ермилов ругается «фельетонистом».
По мнению г. Ермилова, вероятно, это должно убивать насмерть.
Но удар попал плохо.
Доктор Приклонский поднялся с полуотрубленной головой и крикнул г. Ермилову:
— Сами вы фельетонист!
А в глазах его читалось:
— Прописал бы я тебе чего-нибудь как следует! Да «карманная книжка для врачей», где таксирована дозировка, не дозволяет!
Два российских интеллигента заспорили о материях важных.
Дошли до ража.
А мимо проходила кошка.
— У-у, проклятущая! — сказал один, потому что был взволнован, и запалил в неё камнем.
— В бок! И в кошку-то попасть не умеешь как следует!
И запалил сам:
— В ногу!
На том спор и кончился.
Высокие вопросы остались неразрешёнными, а ни в чём неповинная кошка оказалась с переломленной ногой.
Этим часто кончаются русские споры о возвышенных предметах.
Изругавши фельетонистами, спорящие разошлись.
Доктор Приклонский с полуотрубленной головой.
Г. Ермилов с недоумевающим видом:
— Думал другому усечь голову, — самому усекли!
Казнь кончилась.
Я сидел во время неё в уголке, и одна фраза не шла у меня из головы.
Первая фраза, с которой обращается к Фаусту Мефистофель:
— К чему весь шум?
На свете всегда были Вагнеры и всегда были Фаусты.
Спокойные и безмятежные Вагнеры и вечные мученики Фаусты.
Вагнеры, довольные собой, своей наукой и судьбой. И беспокойные Фаусты, вечно недовольные, вечно стремящиеся, вечно мучащиеся, вечно живущие между надеждой и отчаянием.
И Мефистофель, дух сомненья, «частицы силы той, которая, стремясь ко злу, творит одно добро», — этот демон с глазами, впалыми и пронизывающими, с исстрадавшимся лицом, с отравленной и отравляющей улыбкой на тонких губах, — является только Фаусту.
У Вагнера Мефистофель удавился бы с тоски.
У Вагнера Мефистофелю делать нечего.
Вагнер говорит:
— Я знаю, что на свете есть болезни. Но на свете есть и «Обиходная рецептура». Всё устроено премудро. Есть страдание, но есть и книги. Я верю в салициловый натр. А другая моя вера — хинин. Когда я приезжаю к больному и вижу симптомы лихорадочного состояния, я даю ему хинина или салицилового натра.
И если Мефистофель посмеет что-нибудь сказать, — Вагнер вынет «карманную книжку для врачей», где в этих случаях показан салициловый натр.
— А достаточно ли ты знаешь? — шепчет Мефистофель
Фауст ищет ответа в собственном сердце, Вагнер в кармане.
Фауст в ужасе хватается за голову:
— Я видел только пятнадцать больных! Это называется учиться?!
Вагнер спокойно развёртывает диплом:
— Вот. Как же не имею права лечить? Посещал клиники исправно, соответственно указаниям профессора. Есть экзамены. Есть государственная комиссия. Если уж государственная комиссия сказала: «можешь лечить!» — как же я не имею права лечить?
И рот сомнению заклеивается казённой печатью. Чтоб не шептало.
У Фауста есть Маргарита.
Это та девочка, о которой рассказывает Вересаев.
Она задыхалась в дифтерите, он сделал ей операцию, — освободил дыхание, и девочка, улыбаясь, прошептала ему счастливым детским голоском:
— Спасибо!
Он не мог заснуть.
Он всё видел перед собой ребёнка, и ему звучал милый детский голосок:
— Спасибо!
Этот чистый, как Гретхен, образ греет его душу.
Но неудачные операции…
Сомнения тысячами набегают на его душу.
И Мефистофель, пользуясь минутой, шепчет:
— А не кажется ли тебе, что медицина идёт по трупам? И учится на живых и страдающих людях?
И меркнет греющий душу своей улыбкой милый образ девочки, которая спасена от задушения. Бледностью покрывается её лицо. Ужас и слёзы в светившихся радостью глазах.
— А сколько детей погибло, — шепчет с ужасом её голос, — прежде чем выучились на них делать операции, в которой меня спасли?
И Фауст в ужасе, отчаянии.
— Да! Да! Это шествие по трупам!
Тогда как Вагнер спокойно сказал бы маленькой девочке:
— То, что ты говоришь, моё дитя, очень глупо. И без операции те дети всё равно бы померли. Почему же не сделать операции?
— Давай, Фауст, пересчитаем твои ошибки! — говорит Мефистофель в бессонную ночь.
И пред Фаустом появляется страшный призрак.
Призрак профессора Коломнина, который приговорил себя к смерти, потому что его ошибка стоила жизни другому человеку.
Фауст в ужасе ночью бежит к Вагнеру:
— Проснитесь! Проснитесь! Неужели вы можете спать всегда спокойно? Мне мерещатся страшные призраки! Я видел Коломнина!
— А! Помню этот неприятный анекдот! Врач не пережил больного. Он поступил неправильно. Ему следовало написать о случае в журнале. Конечно, в специальном!
— Вагнер! Вагнер! Я схожу с ума от ужаса! Вагнер, ведь я верю в нашу науку! В её будущее! Но будущее! Будущее! А сейчас, при теперешнем состоянии науки, не приносим ли массу вреда там, куда нас призывают на помощь? Какое право…
— Читайте же чаще ваш диплом, доктор Фауст. Это помогает. Напишите, пожалуй, о ваших кошмарах в медицинском журнале, — будет интересная статья. А главное, кладите ночью под подушку «карманную книжку для врачей». Это отгоняет бесов сомнения. Ну, примите, пожалуй, kali bromati, чтоб окончательно быть правым перед фармакопеей!
Фаусты спят плохо. Вагнеры спят всегда отлично, потому что у них есть диплом на право спать спокойно.
И они знают, что лучшее средство против Мефистофеля — бромистый калий.
Но в эти мучительные ночи, в которые не спят Фаусты, — и двигается человечество вперёд и вперёд по пути умственного и нравственного совершенствования.
В эти бессонные ночи, полные сомнений, и завоёвано всё-всё: успехи правды, знания, морали.
Мир движется ночью, бессонною ночью, полный грёз о будущем, кошмаров настоящего.
И, право, ужасно жаль этих бедных Вагнеров, которых казнят, когда они жалуются, что Фаусты мешают спать своим бредом.
Казнят безжалостно, казнят ужасно.
Говорят: Вересаев подвергся нападкам. Неправда!
Нападкам, общественной казни подвергаются те, кто нападает на Вересаева.
По 16 человек выходят один за другим и казнят, казнят такого человека без конца.
А общество требует:
— Ещё! Ещё! Ещё!
За что?
Где справедливость?
Вы казните Вагнера за то, что он не Фауст?
Эта казнь милого, аккуратного, добросовестного Вагнера только за то, что он не Фауст, производила бы совсем тяжкое впечатление, если бы не её гомерические размеры.
На одного Вагнера 16 Фаустов.
16 Фаустов, которые говорят, что, прочитав эти «Записки доктора Фауста», они узнали того же Мефистофеля, который приходил и к ним.
Остаётся благодарить Небо, что так много Фауста в душе русского врача, и так слабо откликается в ней голос Вагнера.
Репортёр
Я никогда в жизни не видал такой визитной карточки.
— «Икс Игрек Зет. Репортёр газеты такой-то»
Всегда:
«Корреспондент газеты такой-то».
«Хроникёр газеты такой-то».
Иногда даже:
«Интервьюер».
В крайнем случае, просто:
«Сотрудник».
И никогда:
— Репортёр.
Я даже не знаю, существует ли в русском разговорном языке слово «репортёр». Есть слово «репортёришка».
Чаще всего с прибавлением слова «всякий».
— Всякий репортёришка, — и туда же смеет писать!
Это слово ругательное, и рассерженный обыватель если хочет выругать обидевшего его журналиста, делает презрительную гримасу и говорит:
— Репортёришка!
Не мудрено, что и сами гг. репортёры стараются избегать своего звания:
— Вы уж напишите пожалуйста в редакционном удостоверении «корреспондент», а не «репортёр».
— Почему же?
— «Репортёр» — это очень плохо звучит.
Если вы видите в афише новой пьесы в числе действующих лиц репортёра, — заранее можете быть уверены, что это непременно шантажист, мошенник, человек, готовый за грош «на всё».
Какой драматический «лев» не лягнул своим копытом «репортёра?»
Если вы встречаете репортёра в повести, романе, рассказе, — можете быть спокойны, что это лицо в лучшем случае только комическое, в худшем — самое презренное.
Он залезает под стол, чтоб подслушать чужие разговоры и берёт пять рублей, чтоб не разглашать семейных тайн.
Какой из «орлов», державших в своём копыте когда-либо перо беллетриста, не «живописал» так беднягу репортёра?
«Репортёр», это — слово, мало отличающееся, по общему мнению, от слова «клеветник».
И всякий по этому случаю считает возможным и удобным клеветать на репортёра.
Раз человек клеветник, отчего же на него не клеветать?
Откуда, однако, взялась эта клевета, ставшая «общим мнением?»
Несомненно, это «общее мнение» имеет свою историческую подкладку.
Старые газетные работники помнят ещё именно таких «репортёров», каких до сих пор выводят гг. драматурги и описывают гг. беллетристы.
Грязных, нечёсаных, немытых, которых даже в редакциях не пускали дальше передней.
Они подслушивали разговоры, сидя под столом, потому что их никуда не пускали, и их никуда нельзя было пустить.
Это был безграмотный народ, писавший «ещё» с четырьмя ошибками и которых мазали за их «художества» горчицей.
Хорошенькие времена! Одинаково хороши были все: и те, кто доводил себя до мазанья горчицей, да и те, кто находил в этом удовольствие и «нравственное удовлетворение».
Но кто и теперь не говорит при виде идущего репортёра:
— Вон репортёришка бежит!
И кому какое дело, что он бежит в сущности по общественному делу!
Процессом «Владимира» интересовалась вся Россия.
Изо всех рефератов, печатавшихся в одесских газетах, лучшим был реферат покойного В. О. Клепацкого.
Этот реферат почти дословно перепечатывался чуть не всеми русскими газетами.
По крайней мере, большинством.
Когда драматург пишет пьесу, — он получает гонорар со всякого театра, где она ставится.
Если бы у нас относились с большим уважением к собственности, и перепечатки чужих произведений оплачивалась бы точно так же, как оплачивается постановка драматических произведений на сцене, — В. О. Клепацкий получил бы за свой труд, прекрасный, добросовестный, обративший на себя внимание всей русской печати, — тысячи.
А он работал на всю русскую печать, получая только свой обычный, скромный гонорар из редакции своей газеты.
Ежедневно сведения, добываемые репортёрами, перепечатываются десятками, иногда сотнями газет.
Если бы репортёры получили вознаграждение от всех газет, которые пользуются их трудом, — вид «бегающего репортёришки» прошёл бы в область преданий.
Пусть это вознаграждение со стороны каждой газеты было бы очень мало, — пропорционально достаткам каждой газеты, — в общем это составило бы солидную сумму и подняло бы благосостояние этих бедняг, получающих гроши за сведения, интересующие всю Россию.
Если хотите составить себе понятие об отношении, которое составляет интерес, возбуждаемый часто репортёрскими заметками, и гонораром, который получают авторы за эти сообщения, — я сообщу вам факт из собственной практики.
Лет 15 тому назад, когда я был репортёром, мне удалось добыть одно сведение, очень сенсационное, которое я, со свойственной репортёрам краткостью, изложил в 7 строках.
Эти семь строк обошли решительно все русские газеты.
Так как сведение, сообщённое в них имело большой общественный интерес, то оно вызвало ряд фельетонов, передовых статей во всех больших столичных газетах.
Возникла даже полемика.
А я мог внимать всему поднятому мною шуму, пересчитывая 21 (двадцать одну) копейку, полученную мною за мои 7 строк!
В особенности, стоя близко к газетному делу, становится обидно и больно: как мало и материального и нравственного вознаграждения получают эти люди за свой честный, за свой добросовестный, часто талантливый, всегда нелёгкий труд.
Эти люди, составляющие фундамент газетного дела.
Рассуждения, обобщения фельетонистов и передовиков, это — всё соус, в котором подаются факты.
Но самое ценное, самое существенное, — факты, это ведь принадлежит репортёрам.
И что же за это?
Что — этим безвестным, безымённым труженикам?
Когда умирают люди, подписывающие свои статьи, — публика хоть несколько дней поскучает, не видя в газетах привычной подписи.
Когда умирает репортёр, это проходит незаметно.
Его строк больше нет, но вместо них есть другие строки, такие же безымянные.
И эти серые строки смыкаются над его памятью, как смыкаются волны над головой утонувшего человека.
И неизвестно, — был ли здесь когда-нибудь человек!
Но пусть так!
Газета, живущая всего один день, очень плохой путь к бессмертию.
Об этом труженике очень мало думают.
Пусть и это будет так!
Ведь покупая в ювелирном магазине брошь, вы не думаете о тех, кто добывает это золото.
А не будь их, не было бы и великолепной броши.
Репортёры получают такие гроши сравнительно с интересом, который часто возбуждают их заметки, и той пользой, которую эти скромные заметки приносят.
Но пусть и это будет так!
Справедливость — очень редкая птица.
Но за что же это обидное, это незаслуженное отношение к самой профессии, не менее честной, чем все другие профессии, и более полезной, чем многие другие.
Почему репортёру неловко сказать:
— Я репортёр!
И ловко сказать доктору, что он доктор, адвокату, что он адвокат, директору банка, что он директор банка.
«Во всякой реке есть всякая рыба: и дурная и хорошая».
За что же это обидное обобщение распространяется именно на репортёров?
Почему им приходится быть тем колодцем, из которого все пьют, и в который чаще всего плюют.
Репортёры, которые были когда-то, и о которых я говорил, умерли как люди и вымерли как тип.
Представлять себе теперешних репортёров в виде тех «типов», которые по трафарету рисуют гг. драматурги и беллетристы, это — всё равно, что представлять себе артистов Малого театра или театра г. Соловцова в виде Аркашек, которых перевозят из города в город, завернувши в ковёр.
Всё изменилось.
Среди репортёров нет более людей, пишущих «ещё» с четырьмя ошибками.
Им не нужно залезать под столы, чтоб подслушивать, что происходит в заседаниях, — они желанные гости во всяком учреждении, не боящемся света.
К ним лично относятся, как относились, например, к покойному В. О. Клепацкому, — с таким же точно почтением, как и ко всякому честному человеку, занимающемуся полезным общественным делом.
И только одно, — они всё ещё не решаются, не могут решиться сказать громко и открыто, с гордостью и достоинством:
— Я репортёр!
«Пустяк!» скажете вы.
Посмотрел бы я, что сказали бы вы, если б вам неловко было назвать ту профессию честную, которою вы занимаетесь!
Вчера хоронили моего дорогого товарища В. О. Клепацкого, и это горькое чувство обиды шевелилось в моей душе; его не могли сгладить даже всеобщие сожаления, которые окружали безвременную могилу этого честного уважаемого газетного труженика.
Мне думалось:
— Да! Ты служил великому делу — гласности. Ты был «только репортёр», но ты помогал суду быть «гласным» судом, передавая отчёты об его заседаниях в газете. Ты помогал дать нравственное удовлетворение правым и обиженным, доводя до всеобщего сведения судебные приговоры. Да! Ты пользовался заслуженным уважением, как человек. Но почему-то ты, честный слуга честного дела, не мог с гордостью назвать своей профессии: «Я репортёр»!
Как скоро умирают люди, и как долго живут предрассудки…
В. И. Ковалевский (Воспоминание журналиста)
Года три тому назад ко мне в Петербурге обратился полковник Н.
— Помогите силою печатного слова!
«Печатное слово» у россиянина, это — уже последнее прибежище. Самое последнее.
Человек уж, значит, везде был и нигде ничего не добился. В консисторию, в пробирную палатку раньше человек забежит.
— Может, там что выйдет!
Всё-таки казённое место.
И, когда нигде ничего, тогда бежит в «Запорожскую Сечь»:
— Помогите хоть вы, вольные люди!
Полковник Н. служил в пограничной страже и был исключён со службы, по военному суду, за подлог.
Полковнику Н., женатому и бездетному, подкинули ребёнка.
Тысячи людей отправили бы этого ребёнка в воспитательный дом. Полковник Н. принял его на воспитание.
Мальчика усыновили, и он вырос «законным» сыном, не зная тайны своего рождения.
Больше всего боялись, чтобы он не узнал этой «тайны».
Приказывая писарю написать формуляр, полковник Н. велел вписать:
— При нём сын. Зовут так-то.
И не поставил слова «усыновлённый».
В этом и заключался весь подлог.
Полковник Н. остался без службы, без средств, нищим и опозоренным:
— За подлог осуждён!
Он обегал весь Петербург и, наконец, в отчаяньи прибег к «силе печатного слова».
— Хотел в Неву, но решил раньше к вам! — откровенно объяснил он.
— Merci.
Я написал статью, которая «имела успех». Она вызвала шум, статьи в печати, массу писем.
Одни ужасались.
Другие просили:
— Пожмите от нас крепко-крепко руку полковнику Н. Такие-то, такие-то, такие-то.
Третьи писали, что, читая, глазам не верят:
— Какой же тут подлог? Доброе дело, а не подлог.
Среди этих писем было одно:
«Глубокоуважаемый В. М. Я прочёл вашу статью и, чем могу, хотел бы быть полезен полковнику Н. Попросите его зайти ко мне как-нибудь на днях. Я бываю свободен до 10 часов утра. Пусть предупредит меня письменно, в какой день ему удобнее, — я буду его ждать. Адрес мой: Фонтанка, дом № такой-то. Примите и проч. В. Ковалевский».
Какой Ковалевский? Все знают, что есть товарищ министра финансов Владимир Иванович Ковалевский.
Но для товарища министра что-то уж очень «просто». Товарищи министров, ведь это не товарищи журналистов. Как будто так и не пишут.
Должно быть, «так Ковалевский», какой-нибудь Ковалевский, однофамилец.
Я спросил у приятеля, знакомого с В. И. Ковалевским:
— Чей это почерк?
— Как чей? Владимира Ивановича Ковалевского, товарища министра финансов.
Полковник Н. не хотел верить.
— Как? Сам товарищ министра… Меня, которого отовсюду выгнали… сам товарищ министра…
Я дал ему рекомендательное письмо:
«Глубокоуважаемый Владимир Иванович! От всей души благодарю вас за добрую отзывчивость к моей статье. Не решаюсь заехать поблагодарить вас лично, боясь отнять у вас время. Позвольте представить вам полковника Н., о котором я писал».
На следующий день полковник Н. влетел в мой кабинет. Сначала обнял меня, потом упал в кресло и зарыдал.
— Боже мой… Я человек…
— Что с вами, полковник?.. Что вы плачете? Что он с вами сделал?
У полковника понять что-нибудь было трудно:
— Я человек… Какой он человек… Я человек… Он человек…
И, немножко успокоившись, он рассказал связнее:
— Если б вы знали, как он меня принял… Меня… Куда ни обращусь, — «ничего не можем сделать. Вы за подлог?..» Как внимательно выслушал, с каким участием расспрашивал… Теперь я спасён… Теперь мы не умрём с голода.
Через три дня бравый полковник состоял уже на службе на Путиловском заводе. Ему дана была должность, требовавшая от исполнителя честности, прежде всего честности, главным образом честности.
Я сам был растроган.
Чем журналист может выразить свою глубокую, сердечную признательность?
Если у него есть книга, — он посылает свою книгу с соответствующею надписью. Книга, это — визитная карточка его души.
Через несколько дней, когда я после работы выходил от себя, швейцар сказал мне:
— Тут у вас были несколько человек. Я, как вы приказали, никого не пустил: «заняты».
Среди карточек была: Владимир Иванович Ковалевский.
— И этому господину сказал, что занят?
— Так точно. «Заняты, не приказано принимать».
Ну, уж министром-то выходил я! Я был сконфужен и на следующее утро, в половине десятого, летел к В. И. Ковалевскому.
— Их высокопревосходительство никого не приказали принимать! — величественно объявил мне министерский курьер. — Их высокопревосходительство сейчас едут на похороны князя Имеретинского.
— В таком случае передайте карточку.
Едва успел я выйти из подъезда, как меня догнал запыхавшийся курьер:
— Их высокопревосходительство вас просят к себе!
Владимир Иванович, простой, милый и обаятельный, дружески улыбаясь, встретил меня в дверях гостиной:
— Я не хотел видеть только вашу визитную карточку. А приезжать ко мне в другой раз, — вы человек занятой. Вы человек занятой, я человек занятой, но у меня есть четверть часа, сядем и поболтаем.
Я представился, начал благодарить. Но В. И. перебил меня.
— Это я должен вас благодарить. Вы своей статьёй дали мне возможность сделать хорошее дело. Я ещё в долгу у вас. Это уже второй случай. Помните, вы месяца два тому назад писали о служащем, пострадавшем при аккерманском взрыве.
В Аккермане произошёл взрыв казённого склада спирта. Несколько человек было убито. Много ранено. Среди них наиболее тяжко подвальный. У него треснул череп, ему придавило грудь, у него было сломано несколько рёбер. Ему в трёх местах переломило руку. Он потерял ногу.
И он же оказался «во всём виновным».
Никто, конечно, не ждал, что он выживет. И когда производилось расследование, виновным во всём оказались не живые невредимые заведующие складом, а «всё равно долженствующий умереть подвальный».
— Умрёт, — что ж ему будет?
Каким-то чудом он выжил. Калека, никуда не годный, он обратился с требованием, чтоб обеспечили его участь.
— А то в суд подам!
— Вы в суд? А мы вас под суд. Обеспеченье участи! Благодарите ещё Бога, что вас не сажаем на скамью подсудимых!
Тщетно обойдя всё, — и в консистории, наверное, был, — несчастный подвальный прибег к «силе печатного слова».
— Спасите, защитите, помогите.
Я написал статью и сам изумился чуду.
Прямо чудо.
Через неделю я получил от подвального телеграмму:
«Деньги мне выданы. Под суд не отдадут».
— Так это были вы, Владимир Иванович?!
— Я прочёл вашу статью и телеграфировал распоряжение глупостей не делать. Под какой там суд отдавать? Потерпевшего! Просто, — выдать деньги, которые он совершенно законно спрашивает.
И Владимир Иванович добавил:
— Да, печать может быть большой силой.
— Могла бы! — поправил я.
— Может! — настойчиво повторил он. — Вы знаете, я недавно злоупотребил вашим именем. Простите меня. Такое дело вышло. Тут в одном постороннем нашему ведомстве служащий заболел психическим расстройством. Что тут делать? Разумеется, обеспечить семью бедняги, — и только. Но там какие-то формальные причины. Словом, — невозможно. Я, знаете, и постращал главу ведомства..
Он назвал одно очень высокопоставленное лицо:
— Смотрите, в печать попадёте! Я уж слышал, что там знают. Выдали и обеспечили!
Владимир Иванович рассмеялся.
— Да, но только позвольте мне внести одну поправку, Владимир Иванович. Лицо, о котором вы говорите, между прочим, известно тем, что никогда не обращалось с жалобами на печать. Когда даже на него нападали, и нападали сильно. Есть два способа обращать внимание «на то, что пишется» в газетах. Один — проверить, обсудить и, если указание верно, им воспользоваться. Другой способ — сказать: «пусть не говорят о моём ведомстве». Да, не говорят, — и говорить не будут. Какой из этих способов у нас общеупотребительнее, предоставляю судить вам самим, Владимир Иванович.
Он улыбнулся:
— Да, это так. А всё-таки сильно обращают внимание на то, что пишется в газетах.
— Да, но в силу причины, о которой я сейчас сказал, толку-то не получается ни для дела ни для нас. О нас-то уж даже и говорить нечего. Нам одни неприятности! Наиболее свободны мы по отношению к ведомству земледелия. Там мы почти свободны. Да ещё финансовое ведомство меньше других протестует, когда мы говорим о делах, подлежащих его компетенции. По крайней мере, у нас установился такой взгляд.
— Мы делаем большое дело, — отвечал Владимир Иванович, — и нам нужны сведения, советы, указания. У нас слишком большое дело! — и он заговорил с живостью. — На нас нападают, что мы всё забираем в свои руки. Говорят: «все мы теперь под Министерством Финансов ходим». Это естественно. Мы много берём у народа. Мы берём налоги, прямые, косвенные. Если осталась у народа экономия — один пропивает её на водке. На казённой водке. Другой, бережливый, копит и несёт в сберегательную кассу. В нашу кассу. Всякий избыток, — всё поступает к нам. Мы всё берём, — мы же должны и давать. Давать, чтобы он мог нам платить, чтоб ему было из чего. Это наша обязанность. Нам и приходится брать в свои руки дела, которые подлежат компетенции других ведомств. Неизбежно приходится. Чтоб поднять платёжные средства страны, её благосостояние, — прежде всего нужно просвещение. Какие школы — всё равно. Но школы, школы. Это — главнее всего. Вот мы и взяли в свои руки профессиональное образование. Покрывайте Россию сетью школ. Наше ведомство — «молодое», недавно реформированное. У нас меньше рутины, канцелярщины, чем в других ведомствах. Обратитесь в народное просвещение: дозвольте открыть школу, реальное училище? Пойдёт, по принятому обычаю, бесконечная переписка: вызывается ли потребностями данной местности да собирание по этому поводу материалов, да то, да сё. По нашему мнению, школа нигде лишней быть не может. Везде — нужда. Прибавьте к вашему реальному училищу, — ну, столярные классы. «Профессиональная школа!» Подлежит компетенции Министерства Финансов. Завтра же разрешение — открывайте! И с тех пор, как это стало легко, сколько кинулось: «Мы желаем! Мы желаем открыть школу, училище!»
Владимир Иванович говорил с увлечением:
— Вся Россия, таким образом, покроется сетью школ! Как они будут называться, это всё — равно. Но это школы. Школы! Главное!
Это было моё первое и последнее свидание с Владимиром Ивановичем.
Я всегда смотрел на сановников, как надо смотреть на великолепного королевского бенгальского тигра.
Любуйся, но не ласкай.
Эпиграфом ко всей моей скромной журнальной деятельности всегда было:
«Минуй нас пуще всех печалей И барский гнев и барская любовь»...Я слуга общества и больше ничей.
Я никогда не надеялся напечатать этот «панегирик», потому что никогда не думал, чтоб я, журналист, «пережил» товарища министра финансов В. И. Ковалевского.
Теперь я прошу вас, г. редактор, напечатать этот маленький очерк.
В. И. Ковалевский вышел в отставку. Его место занял В. И. Тимирязев.
Ещё старик Марий сказал:
— Восходящее светило всегда имеет больше поклонников, чем заходящее.
Всех вступающих сановников приветствуют. И позвольте среди ликующих возгласов в честь вступающего раздаться моему тихому голосу в честь уходящего.
Дайте место этим «крокам», этому штриховому наброску портрета В. И. Ковалевского.
Сделать этот набросок портрета заставляет меня не только благодарность, но и сама справедливость.
Г. Г. Солодовников
Над владетелем пассажа Разразился страшный гром: Этот миленький папаша Очутился под судом. Хоть улики были ясны, Но твердил сей муж прекрасный: «Не моя в том вина! Наша жизнь, вся сполна, Нам судьбой суждена!»Так пел лет 20 тому назад в роли Ламбертуччио, в московском «Эрмитаже», у Лентовского, весёлый и остроумный Родон.
«Боккачио» из-за этого шёл чуть не каждый день.
Москва валом валила в театр:
— Гаврилу Гаврилова под орех разделывают!
— Щепки летят! Одно слово!
Все были в восторге.
И когда Родон кончал, публика аплодировала, стучала палками, орала:
— Браво!.. Бис!.. Бис!..
Куплет про «папашу» повторялся три-четыре раза.
Г. Г. Солодовников тогда только что прогремел на всю Россию всех возмутившим делом с г-жой Куколевской.
Он прожил с г-жой Куколевской много лет, имел от неё кучу детей, — затем её бросил.
Г-жа Куколевская предъявила иск, требуя на содержание детей.
Солодовников отстаивал законное право бросать женщину, с которой жил, необыкновенно мелочно и гадко.
Он представил на суд все счета, по которым платил за неё, перечень подарков, которые ей дарил, и доказывал, что она ему и так дорого стоила.
Его адвокатом был знаменитый Лохвицкий. Человек большого ума, таланта и цинизма.
В своей речи он спрашивал:
— Раз г-жа Куколевская жила в незаконном сожительстве, — какие же у неё доказательства, что дети от Солодовникова?
Эта речь, этот процесс легли несмываемым пятном на знаменитого адвоката.
А за Г. Г. Солодовниковым, с лёгкой руки В. И. Родона, так на всю жизнь и утвердилась кличка «папаши».
Это было одно из тех тяжких преступлений против истинной общественной нравственности, которые никогда не забываются.
Этого человека, за гробом которого ехали пустые кареты, знала вся Москва, и вся Москва терпеть не могла.
Когда заходила речь о «папаше», наперерыв рассказывали только анекдоты.
И анекдоты, — один другого обиднее и хуже.
Купеческая Москва любит восхищаться делячеством и способна приходить в восторг от очень уж ловкого фортеля, даже если от него и не совсем хорошо пахнет:
— Всё-таки молодчина!
По купечеству многое прощается.
Г. Г. Содовников был ловкий делец, но даже и это в нём не вызывало ни у кого восторга.
Уж слишком много лукавства было в его делячестве.
— Знаете, как «папаша» пассаж-то свой знаменитый выстроил? История! Заходит это Гаврил Гаврилыч в контору к Волкова сыновьям. А там разговор. Так, известно, языки чешут. «Так и так, думаем дом насупротив, на уголку купить. Да в цене маленько не сходимся. Мы даём 250 тысяч, а владелец хочет 275. В этом и разговор». Хорошо-с. Проходит неделя. Волкова сыновья решают дом за 275 тысяч купить. Едут к владельцу. «Ваше счастье. Получайте!» — «Извините, — говорит, — не могу. Дом уж продан!» — «Как продан? Кому продан?» — «Гаврил Гаврилыч Солодовников за 275 тысяч приехали и купили.» — «Когда купил?» — «Ровно неделю тому назад!» Это он прямо из конторы!
— Ух! Лукав!
— Нет-с, как он пассаж свой в ход пустил! Вот штука! Построил пассаж, — помещения прямо за грош сдаёт. «Мне больших денег не надо. Был бы маленький доходец». Торговцы и накинулись. Магазины устроили, — великолепие. Публика стеной валит. А Гаврил Гаврилыч по пассажику разгуливает и замечает: к кому сколько публики. А как пришёл срок контрактам, он и говорит: «Ну-с, публику к месту приучили, — очень вам признателен. Теперь по этому случаю, — вы, вместо 2 тысяч, будете платить шесть. А вы вместо трёх и все десять». Попались, голубчики, в ловушку. Он их и облупливает. Стонут!
— Он уж охулки на руку не положит!
— Шкуру с кого хошь спустит!
И вдруг, — на изумленье всей Москве, — Г. Г. Солодовников был произведён в действительные статские советники за пожертвования на добрые дела.
— Ну, дожили до генералов! Солодовников — ваше превосходительство!
— Хе-хе-с! Стало быть, время такое пришло! Солодовников — «генерал от доброго сердца!»
— Гаврил Гаврилыч «генерал от щедрости»!
И Москву утешало одно:
— С большой ему неприятностью это генеральство пришлось!
В Москве строили клиники.
Купцы и купчихи охотно жертвовали сотни тысяч.
— На клинику по нервным болезням? Ах, я с удовольствием на нервные болезни!
— Хирургическая? И на хирургическую дадим.
Но на клинику по венерическим болезням не соглашался дать никто.
— Клиника по венерическим болезням имени такого-то, — или особенно такой-то!
Ужасно приятно звучит! Купцы ни за что:
— Вся Москва зубы проскалит!
В Москве это всегда звучало страшной угрозой.
— Проходу не дадут. «Ты чего ж это так особливо венерическим-то сочувствуешь?»
Никто не хотел жертвовать на «неприличную» клинику:
— Срам!
Гаврила Гаврилыч в то время усиленно домогался генеральства.
Ему и предложили:
— Вот вам случай сделать доброе дело!
Делать нечего! Пошёл Солодовников на дело, от которого отворачивались все.
Москва «проскалила зубы» и принялась рассказывать анекдоты про «его превосходительство»
— Хлебом его не корми, только «превосходительством» назови!
Заключая контракт с нанимателем магазина, он читал договор, бормоча про себя:
— Тысяча восемьсот такого-то года, такого-то месяца, числа, мы, нижеподписавшиеся, купец такой-то, с одной стороны, и…
Тут он поднимал голос и отчеканивал громко, ясно, отчётливо:
— …действительный статский советник Гавриил Гавриилович Солодовников, — с другой…
Дальше опять он бормотал как пономарь:
— …В следующем: Первое: я купец такой-то… Второе: я купец такой-то… Третье… Четвёртое: я…
Он снова поднимал голос и читал громко и с расстановкой:
— Действительный статский советник Гавриил Гавриилович Солодовников…
Он был смешон, жалок и противен Москве, — этот выкрашенный в ярко-чёрную краску старик, ездивший на паре тощих, худых одров.
Москва ненавидела его, и он боялся людей: никогда не ходил по улице пешком.
Про его скупость, про бедность, в которой он жил, рассказывали чудеса, жалкие и забавные.
Это был Плюшкин, — старик, сидевший в грязном халате, в убогой комнате, среди старой, драной мебели, из которой торчали пружины.
А денежное могущество, настоящее могущество, благодаря которому он держал людей в железном кулаке, окружало Плюшкина мрачным, почти трагическим ореолом.
От него веяло уже не Плюшкиным а скупым рыцарем.
Вот вам современный скупой рыцарь.
На него работают не какая-то там вдова и ночной разбойник с большой дороги.
Его состояние не в глупых круглых дублонах, которые блестят, не светят и не греют в подвалах, в верных сундуках. Его состояние в «вечно живых» акциях.
— Акция-с! Я на сундуке сижу-с, а подо мной там акция живёт — и безмолвно работает-с! Живёт-с, шельмочка! Как картофель в погребе прорастает-с! Мёртвая, кажется-с, вчетверо сложена, лежит, притаилась, словно змея-с, что в клубок свернулась и замерла. А в ней жизнь переливается. Живая-с! Даже жутко… Тронуть их-с, а там где-то люди запищали. Пуповина этакая, человеческая. Оторвёшь, и истекут кровью-с!.. А ведь с виду-то? Так бумажка… Лежит, а на ней купон растёт. И невидимо зреет-с! Наливается. Как клопик-с! Налился, созрел, — сейчас его ножничками чик-с. А в это время другой шельмец купон уж наливаться начал! В другой купон жизнь перешла. Как гидра-с! Хе-хе! Ей одну башку срежешь, а у неё другая вырастает! И этак без конца-с! Там люди бьются, работают, в огне пекутся, на стуже стынут, мыслями широкими задаются, вверх лезут, срываются и падают и вдребезги расшибаются. И всё на меня-с работает! Всё! Работайте, миленькие! Контракт на вас имею. На всё, что вы сработаете, контракт имею. Акция!
Современный скупой рыцарь со своим «портфелем верным» похож на хозяина кукольного театра. Он держит в своих руках пучок ниток, на которых висят марионетки. Дёрнет, — и заплясали, как он хочет.
Вот вам современная «сцена в подвале».
Представьте себе такую фантастическую картину.
В убогой, грязной комнате, на продранных стульях, вокруг большого стола сидят десять бедно одетых барышень и, полуголодные, перебирают миллионы.
На столе — кипы «живых» бумаг.
Тишина, только щёлкают, щёлкают без умолку ножницы. И мимо рук этих голодных сыплются, сыплются, сыплются деньги.
Старик в грязном засаленном халате сидит и зорко смотрит за миллионами и за нищими.
Солодовников мог думать в эти минуты:
— Я царствую! Какая волшебная радуга! Жёлтые, красные, голубые купоны. Вот этот — ярославский! Директор там хлопочет! Я знаю, в замыслах широк он. Зарвался, кажется? Да ничего! Он извернётся! Связи есть! И мне купон мой оправдает. Работай, брат, работай! Как угорь в камнях вьётся, вейся! Работа вся твоя, мечты и связи, — всё-всё купоном станет! А вот купон казанский! Рязанским прежде был! Я помню, как правленье избирали, — ко мне пришли: «Нельзя ли на прокат нам акций. Для выборов»! Я знаю судьбу людей, — каких людей! Орлов! — держу в своих руках. Тряхнуть мне стоит, — посыплются! Да мне-то что! «Возьмите!» Десятков несколько тысченок за прокат мне принесли! Пусть воздухом бумажки верные подышат. «Возьмите на денёк». Я царствую! Какая радуга волшебная кругом! И скольких человеческих хлопот, трудов, усилий, жизней, — купон! — ты легковесный представитель!
И вот после долгих лет могущества и боязни богатства и лишений, мелкого честолюбия и наживательства, пришла смерть.
Среди запаха лекарств в комнате повеяло запахом разрытой могилы.
Его превосходительство, накрашенный старик, послал за нотариусом.
Настала минута большой общественной опасности.
Человек, у которого 48 миллионов, представляет собою уже общественную опасность.
Это нечто в роде порохового погреба среди жилых домов.
И когда умирает такой человек, это — всё равно, что в пороховом погребе поставили без подсвечника горящую свечку.
Сейчас огарок догорит, и какая катастрофа произойдёт!
48 миллионов. Какую массу тьмы можно распространить, какую массу света! Сколько счастья можно разлить на тысячи людей, — или, оставив всё одному-двум, — поставить людям одну-две новые кровесосные банки.
Момент был торжественный и в общественном смысле страшный.
Смерть стояла около и дышала могилой в лицо.
…Любезному сыну моему — 300 тысяч. Другому… ну, этому будет и ста… Брату… С ним я в ссоре… Брату ничего… Имущество ликвидировать. Продать всё, да не сразу! А так лет в десять, в пятнадцать. А то продешевишь. На биржу нельзя выбрасывать такую уйму акций. Упадут…
Это говорил его превосходительство Гаврила Гаврилыч, которого знала вся Москва, делец, который уже умирал.
А теперь заговорила бессмертная душа, которая не умирает даже тогда, когда человек живёт и, казалось бы, совсем погряз в мелочах жизни.
— 36 моих миллионов разделить на три равные части и отдать на нужды народа.
То говорил Гаврила Гаврилович, которого знали все, и в его распоряжениях слышались последние отзвуки его делячества, его симпатий, антипатий, всей его жизни, — теперь, за 5 дней до смерти, заговорил другой человек, которого не знал никто.
Новый человек!
Заговорил в первый раз.
Из ветхого, умирающего брюзги-Плюшкина выглянул живой человек и радостно и с любовью улыбнулся людям.
Словно дивную скрипку вынули из старого безобразного футляра. И прозвучала на ней чудная мелодия.
50 лет он прожил вдали от людей и за 5 дней до смерти сделался всем родной и близкий. Он почувствовал родными, близкими и дорогими всех, а не только окружающих.
— Люблю вас! — на прощанье сказал он людям.
И в этой любви родилась высокая справедливость: он отдавал другим всё, что заработано другими.
Всю жизнь деньги владели им, и за 5 дней до смерти он овладел деньгами. Кумир превратился в инструмент. И, как художник-творец, он ударил по этому инструменту и извлёк из него мощный, необыкновенной красоты аккорд.
Как это странно.
Какая-то оперетка, кончившаяся звуками Бетховена!
А ведь этот «новый» человек, которого никто не знал, жил всегда в этом старом, ветхом человеке, которого знали все.
Доказательство — духовное завещание.
12 миллионов — на устройство женских гимназий по образцу существующей в г. Орлове, Вятской губ.
Гимназия гор. Орлова — совершенно особая гимназия. Она выстроена крестьянами и существует для крестьянских девушек.
Там нет ни форменных «коричневых кашемировых» платьев ни «обязательных» чёрных передников. Нет классных дам, следящих за манерами.
Туда из окрестных сёл крестьяне свозят в телегах и на розвальнях своих дочерей. Ученицы являются в гимназию в зипунах. Сидят в классе в посконных платьях. Кормятся крестьянской едой, которую привезли из дома.
Часть из них пойдут на высшие курсы и крестьянками, знающими деревенский быт, вернутся помогать и служить деревне. Часть — пойдут в сельские учительницы и будут учить своих. Большинство просто образованными девушками вернутся домой, повыйдут замуж, внесут свет в тёмную крестьянскую жизнь, вырастят будущее, уже просвещённое, не такое, как теперь, поколение.
Об этой гимназии писали в газетах. Солодовников, следовательно, читал, интересовался, думал, пришёл к убеждению, что народу надо привить настоящее, серьёзное просвещение, а не одно только «начальное».
Ведь миллионов, и так скопленных миллионов на ветер не бросают. Значит, он думал, много думал, — и не об одних только купонах.
12 миллионов передать в ведение земств для устройства профессиональных школ.
Именно, — в ведение земств.
Следовательно, он сравнивал деятельность земств с деятельностью других ведомств, следил за нею, интересовался, принимал к сердцу, — жил жизнью настоящего гражданина.
Если деятельность земств возбуждала в нём такое доверие, если крестьянская гимназия в городе Орлове радовала его, как новое откровение, — если одни факты общественной жизни его привлекали его к себе, значит, другие факты его огорчали, печалили, заставляли страдать в душе.
Он волновался же, значит, гражданскими интересами, жил гражданской жизнью.
Но жил в душе, глубоко затаившись и молча.
Все думали, что он ходит по пассажу, думая:
«Как бы накинуть ещё на нанимателя тысченку?»
А он думал ещё:
«Как бы на эти деньги улучшить положение их несчастных приказчиков».
И вероятно, много и долго думал и взвешивал этот человек, знавший цену деньгам, прежде чем пришёл к решению:
— 12 миллионов — на постройку дешёвых квартир для бедных, чтоб стоимость квадратной сажени не превышала трёх рублей в год. Преимущество же в найме этих квартир дать бывшим приказчикам Солодовниковского пассажа.
Так под маской глубокого равнодушия ко всему, что не деньги, глубокой безучастности ко всему, что не «я», жил, таился, думал об общественных делах, молча радовался, молча печалился человек, гражданин.
Как видно из этого много и долго обдумывавшегося завещания, он был совсем не тем, чем казался.
И потому Г. Г. Солодовников мне кажется удивительно типичным русским явлением.
Он — как капля, взятая из моря. Она — той же воды, что и всё море.
Что такое современный русский человек?
Не определяется ли он так:
— Совсем не то, что кажется.
Вы полагаете, он думает то, что он говорит? Чувствует так, как он поступает?
Как часто вы попадаете впросак: и тогда, когда зовёте другого «ваше превосходительство», думая, что этим совсем его ублаготворили, — и тогда, когда другой, согнувшись, как туго натянутый лук, пускает в ваше сердце льстивое:
— Ваше превосходительство!
Что в действительности думает современный русский человек? Никогда вам не узнать этого ни по его словам ни по его поступкам.
Покойный Солодовников пожертвовал что-то на мраморную лестницу для московской консерватории.
Пожертвование на консерваторию — пожертвование «на виду».
Директор московской консерватории, взысканный богами, его превосходительство г. Сафонов, известен в музыке тем, что он умеет извлекать удивительные аккорды из московских купцов.
— Лестницу для нового здания консерватории надо? Сейчас аккорд на купцах, — и пожалуйте — лестница! Орган нужен? Лёгкая фуга на миллионерах, — и орган!
— Ваше превосходительство, Гаврила Гаврилович! Для консерватории-с! Пожертвование для консерватории на виду-с! Поощрение возможно-с!
— На консерваторию-с? Извольте, ваше превосходительство, на консерваторию-с!
И, вероятно, взысканный богами его превосходительство, г. Сафонов, думал в это время, что взял Гаврила Гавриловича целиком. Быть может, даже в душе умилялся или удивлялся:
— Чего русскому человеку нужно?! Ничего русскому человеку не нужно! Как-нибудь попасть «на вид», — и больше ему ничего не надо!
И смотрел, вероятно, на его превосходительство Гаврилу Гавриловича свысока.
А Гаврила Гаврилыч, может быть, в это время думал:
«Нет, вот 12 миллиончиков на женские гимназии для крестьянок махнут. Вот это дело. Чтобы просвещенье-то в корень самый, да настоящее, народу привить! Вот это будет дело!»
И, быть может, тоже свысока смотрел в эту минуту на его превосходительство г. Сафонова, говорившего о мраморной лестнице для московской консерватории.
— Что же за загадка русский человек?
Один раскольник как-то говорил мне:
— Так-с избёночка небольшая, дрянненькая-с. На бок её покосило. Мохом заросла. И в окна не разглядишь, что в ей деется. Потому стёкла ветром повыбиты и, взаместо стекла, оконницы пузырём затянуты. А внутре живой человек сидит. Сидит и носа не показывает. Потому на дворе сиверко. Он и сидит себе, притаился. А жив! А есть живой человек!
Да простит мне тень Г. Г. Солодовникова, что, рисуя портрет, я не утаил тёмных красок.
Но в этом контрасте света и теней и весь интерес всего странного явления.
Среди старых легенд встречаются такие рассказы. Жил-жил, человек, полный слабостей, грешником. С волками жил, по-волчьи выл, — и ещё, как сильный и могучий, громче других выл. А в конце концов вдруг сразу, как богатырь, стряхнул с себя старого, слабого грешника и праведником унёсся в небеса.
Так и Г. Г. Солодовников.
Великим грешником в глазах общественного мнения жил он много-много лет.
И великим общественным праведником унёсся с земли в вечность.
М. В. Лентовский рассказывал давно, что, смеясь, он часто говорил Г. Г. Солодовникову:
— Ну, куда ты свои миллионы, старик, денешь? Делать с ними что будешь?
— А вот умру, — Москва узнает, кто такой был Гаврила ГавриловичІ — отвечал Солодовников.
Как умеет, однако, русский человек терпеливо и долго таить в себе живого человека…
В. И. Сафонов
Известный композитор М. М. Ипполитов-Иванов, как нам сообщают, работает в настоящее время над новым произведением, — симфонией героической и в то же время весьма патетической.
«Отречение Василия Ильича Сафонова». По другим слухам, симфония будет называться иначе. Просто:
«Отречение Василия Грозного».
Работа, — как всегда композиторами, держится в секрете. Но лица, которым удалось видеть партитуру симфонии, отзываются о ней с большой похвалой.
Симфония очень оригинальна.
Она начинается унисоном духовных инструментов. Слышатся тихие звуки. Духовые варианты. Это должно изображать ворчание профессоров.
Время от времени раздаётся слабый писк флейты. Прижали то того, то другого преподавателя.
Временами раздаётся довольно отчаянный вопль кларнета. Словно кому-то наступили на хвост.
Раздастся и замрёт.
Сначала ворчанье духовых идёт под сурдинку. Затем разрастается всё шире и шире. Становится громче и смелей.
Тут вступают со своим солидным ворчаньем контрабасы.
Это уже ворчит дирекция.
Контрабасы изображают купцов, что контрабасам совсем не трудно. В их ворчаньи слышится что-то «джентльменское», но строгое.
Ворчанье растёт, превращается в целую небольшую бурю, — так, буря в стакане воды! — и вдруг прерывается страшным, громовым аккордом.
Аккордом, от которого испуганно дрожат хрустальные подвески у люстр.
Что-то ужасное!
Турецкий барабан гремит, маленькие барабаны бьют дробь, медные тарелки звенят, духовые берут fortissimo, струнные в унисон хватают высочайшую ноту, на арфе лопаются все струны.
Аккорд гремит:
— Ухожу!
Г. Конюс узнал бы в этом аккорде голос г. Сафонова.
Когда симфонию будут исполнять в новом зале консерватории, — все профессора и преподаватели при этом аккорде невольно встанут и поспешат поклониться.
За аккордом пауза.
Большая, томительная, зловещая пауза, как всегда в музыке перед несчастием.
Молчание — знак согласия.
И вот в этой мёртвой тишине тихо всхлипывают скрипки.
Они шепчутся между собой и плачут. Болтливые скрипки рассказывают всё виолончелям. Чувствительные виолончели рыдают и передают страшную весть мрачным контрабасам. Контрабасы начинают по обыкновению выть белугой — и заражают плачем весь оркестр.
Треугольник печально звенит, как будто ему разбили сердце. Большой турецкий барабан зловеще грохочет, как будто он провидит будущее и ничего не зрит в нём, кроме ужаса, мрака и горя.
Медные дают волю накопившимся в груди воплям и стонам и плачут громко, как плакала Андромаха над телом Гектора, в ужасе восклицая:
— Иллион!
Всхлипывают кларнеты, и слабонервные флейты истерически визжат.
Эта сцена ужаса, смятения и непритворного — главное, непритворного, — горя прерывается на один миг звоном, свистом, лихими аккордами.
По вздрогнувшему оркестру проносится что-то в роде безумной венгерской пляски из рапсодии Листа.
Это пляски г. Конюса.
И снова всё сменяется рыданием, которого без слёз, — без искренних слёз! — никто не в силах будет слушать. Барабаны пророчески-зловеще рокочут, флейты в истерике, медные гремят, словно в день конца мира и страшного суда.
Гобои, — эти вороны оркестра, всегда в музыке предвещающие несчастие, — поют своими замогильными голосами:
— Конец, конец консерватории!
Такова симфония, которую, по слухам, пишет г. Ипполитов-Иванов к уходу почтеннейшего директора московской консерватории Василия Ильича Сафонова.
Профессора консерватории исполнят её с особым удовольствием: если не можешь плакать сам, хорошо хоть заставить плакать инструмент.
А дирекция выслушает симфонию с радостью:
— Вот! У нас занимаются не только «службой», но и музыкой!
Симфония стоит героя, и герой стоит симфонии.
Если бы я был Корнелием Непотом и составлял жизнеописания великих людей, — биографию г. Сафонова я начал бы так:
— Сафонов, Василий Ильич, сын Давыдова и его виолончели.
«Знаменитость» В. И. Сафонова началась с того дня, когда на афише появилось:
— Концерт Давыдова и Сафонова.
Отдельно Сафонова никто не произносил. Сафонова, — выражаясь юридически, — «как такового», не существовало.
— Сафонов!
— Что за Сафонов?
— А Давыдов и Сафонов.
— А! Этот! Теперь знаю!
«Давыдов и Сафонов» это было нераздельно.
Как «Малинин и Буренин», «Мюр и Мерилиз».
(Только Давыдова-то без Сафонова знали). Давыдов и Сафонов. Это были: человек и его тень. Великий человек и его тень. Очень великий человек и тень очень великого человека.
Давыдов удивительно играл на виолончели.
В его руках виолончель плакала, рыдала, стонала.
И вот среди этих мук давыдовской виолончели на концертной эстраде, и родился «знаменитый музыкант Василий Ильич Сафонов».
Когда умер Давыдов, на его могиле вырос Сафонов!
И в эту минуту он имел такой вид, с каким обыкновенно читают пушкинский монолог:
«Тень Грозного меня усыновила,
Димитрием из гроба нарекла»…
— Человек умирает, и из него на могиле вырастает лопух! — говорит Базаров.
Базаров груб.
Давыдов умер, и на его могиле вырос лавровый куст — г. Сафонов.
Г. Сафонов, это — вдова великого человека, осенённая лучами его славы.
В «знаменитости» г. Сафонов есть одно недоразумение, которое всё никак не может разъясниться.
Г. Сафонов знаменит и у нас и за границей.
Но за границей его считают «знаменитым в России музыкантом», а у нас «музыкантом, знаменитым за границей».
Когда г. Сафонов приезжает за границу, там говорят:
— Вот едет музыкант. Он очень знаменит в России. Устроим ему достодолжный приём!
А когда Сафонов гастролирует в качестве дирижёра по русским городам, у нас говорят:
— Вот музыкант! Он очень знаменит за границей! Не ударим же лицом в грязь перед Европой.
Европа думает, что мы чтим. Мы думаем, что Европа чтит.
Недоразумение, как видите, международного свойства, и мы очень боимся, не вышло бы из-за этого конфликта и кровопролитной войны между просвещёнными народами.
Вдруг Европа возьмёт, да и спросит:
— А какое, собственно, произведение создал ваш великий музыкант?
Что мы ответим?
— Новое здание московской консерватории!
Выстроил каменный дом.
Учёные музыкальные немцы подумают, что мы над ними смеёмся, и обидятся. За немцами обидятся ещё более учёные музыкальные чехи. А за нашими друзьями чехами обидятся и наши друзья, музыкальные французы.
Так из-за г. Сафонова мы перессоримся со всем светом.
Единственное «музыкальное произведение» г. Сафонова создано из кирпичей, бетона и железных балок.
Г. Сафонов построил новое здание московской консерватории «сам», как Соломон сам построил свой великолепный храм.
Вы знаете легенду о постройке Соломонова храма? Он приснился Соломону во сне. Можете себе представить, что за сны могли сниться Соломону! Проснувшись, Соломон сказал:
— Воссоздам свой сон! Построю сам, как видел во сне!
Проснувшись, г. Сафонов сказал:
— Построю сам! Сам, как хочу!
Архитекторы говорят, что в постройке великого музыканта, вообразившего себя «великим архитектором», есть много погрешностей против архитектуры.
Но дело не в этом.
Дело в том, что г. Сафонов может спеть, как Сам-Пью-Чай в «Чайном цветке»:
— Я один!
И все должны, как в «Чайном цветке», поклониться и подтвердить:
— Он один!
Он один создал новое здание московской консерватории. Он собрал купеческие пожертвования! И богиня музыки должна поцеловать ему ручку.
Не знаю, почему, но московская консерватория всегда была слегка, — как бы это выразиться? — на лёгком «воздержании» у московских купцов.
Она всегда была слегка «капризом» московских купцов.
Московские купцы заседали в дирекции и вершили дела.
Гобой ссорился с тромбоном, и на разбирательство шли к аршину.
Какое родство между этими инструментами, понять мудрено. Но всегда было так.
Музыканты воевали друг с другом из-за контрапункта — и несли свои контрапунктовые недоразумения на разрешение… гг. купцов.
И купцы, заседавшие в дирекции, «авторитетно» разрешали:
— Контрапункт прав!
Или:
— Отменить сей контрапункт!
Или почтительно привставали и осведомлялись:
— А что говорит по сему контрапункту его превосходительство генерал-бас?
При г. Сафонове это купеческое владычество достигло апогея.
Г. Сафонов виртуоз на купцах. Что он и доказал постройкой нового здания консерватории.
Из такого неблагодарного и довольно деревянного инструмента, как купец, он умеет извлекать могучие стотысячные аккорды.
И под его гениальными пальцами из любого купца так и посыплются, так и полетят рельсовые балки, бетонные трубы и тысячи кирпичей.
Какой странный Рубинштейн!
Да, за этим великим человеком есть заслуга и, кроме того, что он аккомпанировал покойному Давыдову.
Он построил огромное новое здание консерватории. Но и прославил же он этим огромным зданием консерваторию.
История с г. Конюсом достаточно показала, что творится за этими новыми стенами.
Совсем сцена из комедии «В чужом пиру похмелье».
— Кто меня может обидеть?
— Кто тебя, Кит Китыч, может обидеть. Ты сам всякого обидишь!
При конюсовском инциденте огласился целый синодик ушедших «из-под власти Василия Ильича».
Всё молодое, талантливое, а потому смелое и державшее голову по заслугам высоко, — должно было уходить.
Таких Василию Ильичу не требовалось.
— Василий Ильич таких не любит.
Всё, что оставалось, всё, что хотело оставаться, держало голову долу и смиренно должно было твердить:
— Вы, Василий Ильич, есть наш отец и благодетель! На всё, Василий Ильич, есть ваша воля! Как уж вы, Василий Ильич!
И в этом высшем музыкальном учреждении звучал один мотив:
— Ручку, Василий Ильич!
«Духа не угашайте!»
А дух был угашен.
В этих пышных палатах, построенных на извлечённые из купцов деньги, горело электричество, но дух там не горел. А если горел, то только желанием прислужиться.
Лучше бы он не горел вовсе, чем так чадить.
В этом чаду и копоти задыхалось всё молодое и талантливое.
Один мажорный аккорд звучал в этих стенах:
— Кто построил новое здание?
Ему отвечали в миноре:
— Всё вы, Василий Ильич! Всё вы.
— Должны вы это чувствовать?
— Чувствуем, Василий Ильич, чувствуем!
Так тяжело легло на консерваторию каменное благодеяние В. И. Сафонова.
Трепетные «облагодетельствованные» спешили угадать волю «самого»!
Они готовы были съесть человека, виновного только в том, что он:
— Не угоден Василию Ильичу!
Величайшее преступление в московской консерватории.
Говоря высоким слогом, новое здание консерватории было храмом «Василия Ильича», где ему приносились человеческие жертвоприношения.
Говоря стилем не столь высокопарным, в консерватории непрерывно разыгрывалась оперетка «Чайный цветок».
Мандарин Сам-Пью-Чай пел:
— Я один!
А мелкие «мандаринчики без косточек» подпевали:
— Он один!
— Знаю всё!
— Знает всё!
А над всем этим царила дирекция, где «джентльмены», — покорные инструменты в руках могучего виртуоза, — издавали те звуки, которые угодно было извлекать из них «Василию Ильичу». «Джентльмены», пресерьёзно считавшие Василия Ильича «его превосходительством генерал-басом, как это в музыке полагатся», знали только одно:
— Василий Ильич так хочет!
Какая честь сидеть рядом с Василием Ильичем.
Какая гордость разрешить вопрос так, как его разрешил и «сам» Василий Ильич.
— Да, он решает музыкальные вопросы, как великий музыкант!
Какой ещё похвалы «джентльмену» нужно!
Так играл Василий Ильич на консерватории, как на органе, — беспрерывный гимн своему величию.
На купцах-джентльменах, как на клавишах. Профессоров нажимая, как педаль.
И вдруг этот величественный гимн прервался.
Раздадутся другие звуки.
Беспрерывный гимн Василию Ильичу прожужжал всем уши.
Купцы, и те ворчат:
— Довольно! Нельзя ли поставить какой-нибудь другой вал!
«Василий Грозный» удаляется в Александровскую слободу.
И в консерватории зазвучит героическая и патетическая симфония, написанная в честь его ухода.
Заплачут виолончели, истерически завизжат флейты, гобои зловеще загудят.
— Конец, конец теперь московской консерватории.
Не в обиду будь сказано консерваторским виртуозам, — нам кажется, что гобои врут.
Шаляпин в «Мефистофеле» (Из миланских воспоминаний)
Представление «Мефистофеля» начиналось в половине девятого.
В половине восьмого Арриго Бойто разделся и лёг в постель.
— Никого не пускать, кроме посланных из театра.
Он поставил на ночной столик раствор брома.
И приготовился к «вечеру пыток».
Словно приготовился к операции.
Пятнадцать лет тому назад «Мефистофель» в первый раз был поставлен в «Scala».
Арриго Бойто, один из талантливейших поэтов и композиторов Италии, — долго, с любовью работал над «Мефистофелем».
Ему хотелось воссоздать в опере Гётевского «Фауста», — вместо рассыропленного, засахаренного, кисло-сладкого «Фауста» Гуно.
Настоящего Гётевского «Фауста». Настоящего Гётевского Мефистофеля.
Он переводил и укладывал в музыку Гётевские слова.
Он ничего не решался прибавить от себя.
У Гёте Мефистофель появляется из пуделя.
Это невозможно на сцене.
Как сделать?
Бойто бьётся, роется в средневековых немецких легендах «о докторе Фаусте, продавшем свою душу чёрту».
Находит!
В одной легенде чёрт появляется из монаха.
15 лет тому назад «Мефистофель» был поставлен в «Scala».
Мефистофеля исполнял лучший бас того времени.
15 лет тому назад публика освистала «Мефистофеля».
Раненый в сердце поэт-музыкант с тех пор в ссоре с миланской публикой.
Он ходит в театр на репетиции. На спектакль — никогда.
Мстительный итальянец не может забыть.
«Забвенья не дал Бог, да он и не взял бы забвенья».
Он не желает видеть:
— Этой публики!
Затем «Мефистофель» шёл в других театрах Италии. С огромным успехом. «Мефистофель» обошёл весь мир, поставлен был на всех оперных сценах. Отовсюду телеграммы об успехе.
Но в Милане его не возобновляли.
И вот сегодня «Мефистофель» апеллирует к публике Милана.
Сегодня пересмотр «дела об Арриго Бойто, написавшем оперу „Мефистофель“».
Пересмотр несправедливого приговора. Судебной ошибки.
В качестве защитника приглашён какой-то Шаляпин, откуда-то из Москвы.
Зачем? Почему?
Говорят, он создал Мефистофеля в опере Гуно. А! Так ведь то Гуно! Нет на оперной сцене артиста, который создал бы Гётевского Мефистофеля, настоящего Гётевского Мефистофеля. Нет!
На репетиции Бойто, слушая свою оперу, сказал, ни к кому не обращаясь:
— Мне кажется, в этой опере есть места, которые не заслуживают свиста!
Он слушал, он строго судил себя.
Он вынес убеждение, что это не плохая опера.
Но спектакль приближается. Бойто не в силах пойти даже за кулисы.
Он разделся, лёг в постель, поставил около себя раствор брома:
— Никого не пускать, кроме посланного из театра!
И приготовился к операции.
Так наступил вечер этого боя.
Настоящего боя, потому что перед этим в Милане шла мобилизация.
Редакция и театральное агентство при газете «Il Teatro»[23] полны народом.
Можно подумать, что это какая-нибудь политическая сходка. Заговор. Лица возбуждены. Жесты полны негодования. Не говорят, а кричат.
Всех покрывает великолепный, «как труба», бас г. Сабеллико:
— Что же, разве нет в Италии певцов, которые пели «Мефистофеля»? И пели с огромным успехом? С триумфом?
Г. Сабеллико ударяет себя в грудь.
Восемь здоровенных басов одобрительно крякают.
— Я пел «Мефистофеля» в Ковенгартенском театре, в Лондоне! Первый оперный театр в мире!
— Я объездил с «Мефистофелем» всю Америку! Меня в Америку выписывали!
— Позвольте! Да я пел у них же в России!
Все басы, тенора, баритоны хором решили:
— Это гадость! Это гнусность! Что ж, в Италии нет певцов?
— Кто же будет приглашать нас в Россию, если в Италию выписывают русских певцов? — выводил на высоких нотах какой-то тенорок.
— Выписывать на гастроли белого медведя! — ревели баритоны.
— Надо проучить! — рявкали басы.
У меня ёкнуло сердце.
— Все эти господа идут на «Мефистофеля»? — осведомился я у одного из знакомых певцов.
— Разумеется, все пойдём!
Редактор жал мне, коллеге, руку. По улыбочке, по бегающему взгляду я видел, что старая, хитрая бестия готовит какую-то гадость.
— Заранее казнить решили? — улыбаясь, спросил я.
Редактор заёрзал:
— Согласитесь, что это большая дерзость ехать петь в страну певцов! Ведь не стал бы ни один пианист играть перед вашим Рубинштейном! А Италия, это — Рубинштейн!
Директор театрального бюро сказал мне:
— Для г. «Скиаляпино»[24], конечно, есть спасенье. Клака. Купить как можно больше клаки, — будут бороться со свистками.
Мы вышли вместе со знакомым певцом.
— Послушайте, я баритон! — сказал он мне. — Я Мефистофеля не пою. Мне ваш этот Скиаляпино не конкурент. Но, однако! Если бы к вам, в вашу Россию, стали ввозить пшеницу, — что бы вы сказали?
Секретарь театра «Scala» сидел подавленный и убитый:
— Что будет? Что будет? Выписать русского певца в «Scala»! Это авантюра, которой нам публика не простит!
Супруге Ф. И. Шаляпина, в его отсутствие, подали карточку:
— Signor такой-то, директор клаки театра «Scala».
Вошёл «джентльмен в жёлтых перчатках», как их здесь зовут. Развалился в кресле:
— Мужа нет? Жаль. Ну, да я поговорю с вами. Вы ещё лучше поймёте. Вы сами итальянская артистка. Вы знаете, что такое здесь клака?
— Да. Слыхала. Знаю.
— Хочет ваш муж иметь успех?
— Кто ж из артистов…
— Тенор, поющий Фауста, платит нам столько-то. Сопрано, за Маргариту — столько-то. Другое сопрано, за Елену — столько-то! Теперь ваш муж! Он поёт заглавную партию. Это стоит дороже.
— Я передам…
— Пожалуйста! В этом спектакле для него всё. Или слава или ему к себе в Россию стыдно будет вернуться! Против него все. Будет шиканье, свистки. Мы одни можем его спасти, чтобы можно было дать в Россию телеграмму; «Successo colossale, triumpho completto, tutti arii bissati»[25]. Заплатит… Но предупреждаю, как следует заплатит, — успех… Нет…
Он улыбнулся:
— Не сердитесь… Ха-ха! Что это будет! Что это будет! Нам платят уже его противники. Но я человек порядочный и решил раньше зайти сюда. Может быть, мы здесь сойдёмся. Зачем же в таком случае резать карьеру молодого артиста?
И Спарафучилле откланялся:
— Итак, до завтра. Завтра ответ. Мой поклон и привет вашему знаменитому мужу. И пожелание успеха. От души желаю ему иметь успех!
На следующий день в одной из больших политических газет Милана появилось письмо Ф. И. Шаляпина.
«Ко мне в дом явился какой-то шеф клаки, — писал Шаляпин, — и предлагал купить аплодисменты. Я аплодисментов никогда не покупал, да это, и не в наших нравах. Я привёз публике своё художественное создание и хочу её, только её свободного приговора: хорошо это или дурно. Мне говорят, что клака, это — обычай страны. Этому обычаю я подчиняться не желаю. На мой взгляд, это какой-то разбой».
В галерее Виктора-Эммануила, на этом рынке певцов, русские артисты сидели отдельно за столиками в кафе Биффи.
— Шаляпин кончен!
— Сам себя зарезал!
— Как так? Соваться — не зная обычаев страны.
— Как ему жена не сказала?! Ведь она сама итальянка!
— Да что ж он такого сделал, — спросил я, — обругал клакеров?
— Короля клакеров!!!
— Самого короля клакеров!
— Мазини, Таманьо подчинялись, платили! А он?
— Что они с ним сделают! Нет, что они с ним сделают!
— Скажите, — обратился ко мне один из русских артистов, — вы знакомы с Шаляпиным?
— Знаком.
— Скажите ему… от всех от нас скажите… Мы не хотим такого позора, ужаса, провала… Пусть немедленно помирится с клакой. Ну, придётся заплатить дороже. Только и всего. За деньги эти господа готовы на всё. Ну, извиниться, что ли… Обычай страны. Закон! Надо повиноваться законам!
И он солидно добавил:
— Dura lex, sed lex![26]
— С таким советом мне стыдно было бы прийти к Шаляпину!
— В таком случае пусть уезжает. Можно внезапно заболеть. По крайней мере, хоть без позора!
Певцы-итальянцы хохотали, болтали с весёлыми, злорадными, насмешливыми лицами.
Вся «галерея» была полна Мефистофелями.
— Ввалился северный медведь и ломает чужие нравы!!
— Ну, теперь они ему покажут!
— Теперь можно быть спокойными!
Один из приятелей-итальянцев подошёл ко мне:
— Долго остаётесь в Милане?
— Уезжаю сейчас же после первого представления «Мефистофеля».
— Ах, вместе с Скиаляпино!
И он любезно пожал мне руку.
«Король клаки» ходил улыбаясь, — демонстративно ходил, демонстративно улыбаясь, — на виду у всех по галерее и в ответ на поклоны многозначительно кивал головой.
К нему подбегали, за несколько шагов снимая шапку, подобострастно здоровались, выражали соболезнование.
Словно настоящему королю, на власть которого какой-то сумасшедший осмелился посягнуть.
Один певец громко при всех сказал ему:
— Ну, помните! Если вы эту штуку спустите, — мы будем знать, что вы такое. Вы — ничто и мы вам перестанем платить. Зачем в таком случае? Поняли?
Шеф клаки только многозначительно улыбался.
Всё его лицо, глаза, улыбка, поза, — всё говорило:
— Увидите!
Никогда ещё ему не воздавалось таких почестей, никогда он не видел ещё такого подобострастия.
На нём покоились надежды всех.
— Слушайте, — сказал мне один из итальянских певцов, интеллигентный человек, — ваш Скиаляпино сказал то, что думали все мы. Но чего никто не решался сказать. Он молодчина, но ему свернут голову. Мы все…
Он указал на собравшихся у него певцов, интеллигентных людей, — редкое исключение среди итальянских оперных артистов.
— Нам всем стыдно, — стыдно было читать его письмо. Мы не артисты, мы ремесленники. Мы покупаем себе аплодисменты, мы посылаем телеграммы о купленных рецензиях в театральные газеты и платим за их помещенье. И затем радуемся купленным отчётам о купленных аплодисментах. Это глупо. Мы дураки. Этим мы, артисты, художники, поставили себя в зависимость, в полную зависимость от шайки негодяев в жёлтых перчатках. Они наши повелители, — мы их рабы. Они держат в руках наш успех, нашу карьеру, судьбу, всю нашу жизнь. Это унизительно, позорно, нестерпимо. Но зачем же кидать нам в лицо это оскорбление? Зачем одному выступать и кричать: «Я не таков. Видите, я не подчиняюсь. Не подчиняйтесь и вы!» Когда без этого нельзя! Поймите, нельзя! Это так, это заведено, это вошло в плоть и кровь. Этому и посильнее нас люди подчинялись. Подчинялись богатыри, колоссы искусства.
— Этому вашему Скиаляпино хорошо. Ему свернут здесь голову, освищут, не дадут петь, — он сел и уехал назад к себе. А нам оставаться здесь, жить здесь. Мы не можем поступать так. Нечего нам и кидать в лицо оскорбление: «Вы покупаете аплодисменты! Вы в рабстве у шайки негодяев!»
— Да и что докажет ваш Скиаляпино? Лишний раз всемогущество шайки джентльменов в жёлтых перчатках! Они покажут, что значит идти против них! Надолго, навсегда отобьют охоту у всех! Вот вам и результат!
Эти горячие возражения сыпались со всех сторон.
— Но публика? Но общественное мнение? — вопиял я.
— Ха-ха-ха! Публика!
— Ха-ха-ха! Общественное мнение.
— Публика возмущена!
— Публика?! Возмущена?!
— Он оскорбил наших итальянских артистов, сказав, что они покупают аплодисменты!
— Общественное мнение говорит: не хочешь подчиняться существующим обычаям, — не иди на сцену! Все подчиняются, что ж ты за исключение такое? И подчиняются, и имеют успех, и отличные артисты! Всякая профессия имеет свои неудобства, с которыми надо мириться. И адвокат говорит: «И у меня есть в профессии свои неудобства. Но подчиняюсь же я, не ору во всё горло!» И доктор, и инженер, и все.
— Но неужели же никто, господа, — никто не сочувствует?
— Сочувствовать! В душе-то все сочувствуют. Но такие вещи, какие сказал, сделал ваш Скиаляпино, — не говорятся, не делаются.
— Он поплатится!
И они все жалели Шаляпина:
— Этому смельчаку свернут голову!
Мне страшно, — прямо страшно было, когда я входил в театр.
Сейчас…
Кругом я видел знакомые лица артистов. Шеф клаки, безукоризненно одетый, с сияющим видом именинника, перелетал от одной группы каких-то подозрительных субъектов к другой и шушукался.
Словно полководец отдавал последние распоряжения перед боем.
Вот сейчас я увижу проявление «национализма» и «патриотарства», которые так часто и горячо проповедуются у нас.
Но почувствую это торжество на своей шкуре.
На русском.
Русского артиста освищут, ошикают за то только, что он русский.
И я всей болью души почувствую, что за фальшивая монета патриотизма, это — патриотарство. Что за несправедливость, что за возмущающая душу подделка национального чувства этот «национализм».
Я входил в итальянское собрание, которое сейчас казнит иностранного артиста только за то, что он русский.
Какая нелепая стена ставится между артистом, талантом, гением и публикой!
Как испорчено, испакощено даже одно из лучших наслаждений жизни — наслаждение чистым искусством.
Как ужасно чувствовать себя чужим среди людей, не желающих видеть в человеке просто человека.
Все кругом казались мне нелепыми, дикими, опьянёнными, пьяными.
Как они не могут понять такой простой истины? Шаляпин — человек, артист. Суди его как просто человека, артиста.
Как можно собраться казнить его за то, что:
— Он — русский!
Только за это.
Я в первый раз в жизни чувствовал себя «иностранцем», чужим.
Всё был русский и вдруг сделался иностранец.
В театр было приятно идти так же, как на казнь.
Я знаю, как «казнят» в итальянских театрах.
Свист, — нельзя услышать ни одной ноты.
На сцену летит — что попадёт под руку.
Кошачье мяуканье, собачий вой. Крики:
— Долой!
— Вон его!
— Собака!
Повторять об успехе значило бы повторять то, что известно всем.
Дирижёр г. Тосканини наклонил палочку в сторону Шаляпина.
Шаляпин не вступает.
Дирижёр снова указывает вступление.
Шаляпин не вступает.
Все в недоумении. Все ждут. Все «приготовились».
Дирижёр в третий раз показывает вступление.
И по чудному театру «Scala», — с его единственным, божественным резонансом, — расплывается мягкая, бархатная могучая нота красавца-баса.
— Ave Signor![27]
— А-а-а! — проносится изумлённое по театру.
Мефистофель кончил пролог. Тосканини идёт дальше. Но громовые аккорды оркестра потонули в рёве:
— Скиаляпино!
Шаляпина, оглушённого этим ураганом, не соображающего ещё, что же это делается, что за рёв, что за крики, — выталкивают на сцену.
— Идите! Идите! Кланяйтесь!
Режиссёр в недоумении разводит руками:
— Прервали симфонию! Этого никогда ещё не было в «Scala»!
Театр ревёт. Машут платками, афишами.
Кричат:
— Скиаляпино! Браво, Скиаляпино!
Где же клака?
Когда Шаляпин в прологе развернул мантию и остался с голыми плечами и руками, один из итальянцев-мефистофелей громко заметил в партере:
— Пускай русский идёт в баню.
Но на него так шикнули, что он моментально смолк.
С итальянской публикой не шутят.
— Что же «король клаки»? Что же его банда джентльменов в жёлтых перчатках? — спросил я у одного из знакомых артистов.
Он ответил радостно:
— Что ж они? Себе враги, что ли? Публика разорвёт, если после такого пения, такой игры кто-нибудь свистнет!
Это говорила публика, сама публика, и ложь, и клевета, и злоба не смели поднять своего голоса, когда говорила правда, когда говорил художественный вкус народа-музыканта.
Все посторонние соображения были откинуты в сторону.
Всё побеждено, всё сломано.
В театре гремела свои радостные, свои торжествующие аккорды правда.
Пытки начались.
Прошло полчаса с начала спектакля.
Арриго Бойто, как на операционном столе, лежал у себя на кровати.
Звонок.
— Из театра.
— Что?
— Колоссальный успех пролога.
Каждый полчаса посланный:
— Fischio[28] повторяют!
— Скиаляпино овация!
— Сцена в саду — огромный успех!
— «Ecco il mondo»[29] — гром аплодисментов!
Перед последним актом влетел один из директоров театра:
— Фрак для маэстро! Белый галстук! Маэстро, вставайте! Публика вас требует! Ваш «Мефистофель» имеет безумный успех!
Он кинулся целовать бледного, взволнованного, поднявшегося и севшего на постели Бойто.
Всё забыто, маэстро! Всё искуплено! Вы признаны! Публика созналась в ошибке. Всё забыто! Забыто, не так ли? Идите к вашей публике. Она ваша. Она вас ждёт!
— А Мефистофель? — спрашивает Бойто. — Это не такой, каких видели до сих пор? Увидали, наконец, такого Мефистофеля, какой мне был нужен? Это Гётевский Мефистофель?
— Это Гётевский. Такого Мефистофеля увидели в первый раз. Это кричат все.
— В таком случае я завтра пойду посмотреть в закрытую ложу.
И Бойто повернулся к стене:
— А теперь, дружище, оставьте меня в покое. Я буду спать. Я отомщён.
Примечания
1
Писано во время болезни Л. Н. Толстого. — Примечание В. М. Дорошевича.
(обратно)2
Дух (нем.).
(обратно)3
С чёртом (нем.).
(обратно)4
Вечно человеческое (нем.).
(обратно)5
Слуга слуг (лат.).
(обратно)6
Я настаиваю на своём праве! (нем.).
(обратно)7
Экстемпорале (латинское extemporale) — письменное упражнение для изучения чужих языков, назначаемое в определенные сроки, но без предварительной подготовки или же вне очереди и без предупреждения. В нашей русской школьной практике Э. обыкновенно называются письменные переводы с русского яз. на латинский или греческий яз.
(обратно)8
доходящий до предела; идеальный (лат.).
(обратно)9
Жюль Симон (фр. Jules Simon; 1814—1896) — французский философ, публицист, политик и государственный деятель, возглавлял кабинет министров Франции с 12 декабря 1876 года 17 мая 1877 года, член Французской академии.
(обратно)10
Un homme d'État de chez Maxim’s — «государственный деятель от Максим», «chez Maxim’s» — известный парижский ресторан
(обратно)11
Почётный доктор (лат.).
(обратно)12
Друг и дорогой папашка! (фр.)
(обратно)13
Площадь Оперы. (фр.)
(обратно)14
Prix-fix — набор блюд по фиксированной цене
(обратно)15
Красивый и знаменитый. (фр.)
(обратно)16
Рогоносец. (фр.)
(обратно)17
Подозрительный тип. (фр.)
(обратно)18
Ваше превосходительство! (фр.)
(обратно)19
Дорогой метр (учитель) (фр.)
(обратно)20
Путь скорби (лат.).
(обратно)21
Орлеанская девственница (фр.).
(обратно)22
К чему этот шум? (нем.).
(обратно)23
«Театр» (название газеты)
(обратно)24
Так итальянцы читали фамилию «Шаляпин».
(обратно)25
Колоссальный успех, полный триумф, все арии исполнялись на бис (итал.).
(обратно)26
Закон суров, но это закон (лат.).
(обратно)27
Хвала, Господь (итал.).
(обратно)28
Баллада со свистом (Ballata del fischio). Название арии Мефистофеля Son lo spirito che nega («Я — тот дух, что отрицает…»)
(обратно)29
Вот он, мир (итал.).
(обратно)

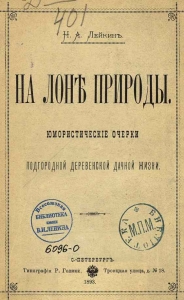
Комментарии к книге «Литераторы и общественные деятели», Влас Михайлович Дорошевич
Всего 0 комментариев