Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Собрание сочинений в пяти томах Том 1. Детство Тёмы. Гимназисты
В.А. Борисова. Н.Г. Гарин-Михайловский
Среди русских демократических писателей конца XIX — начала XX века видное место принадлежит Н. Г. Гарину-Михайловскому. «Смелый мечтатель с удивительно благородным сердцем», «необыкновенно живая душа… ум с богатейшей фантазией»[1], «человек необычайно широкой души, красивого, свободного таланта»[2] —эти характеристики, данные писателю его современниками, отнюдь не преувеличены. Многообразно одаренный, «во все стороны талантливый»[3] — Гарин-Михайловский прожил яркую, богатую событиями и впечатлениями жизнь, проявив себя не только как писатель, но и как смелый экспериментатор в сельском хозяйстве, изобретательный строитель железных дорог, любознательный и отважный путешественник.
Инженер-путеец по образованию, Гарин-Михайловский вошел в литературу в зрелом возрасте — первый очерк (если не считать ранних юношеских опытов) был написан им в возрасте 36 лет, в печати же его произведения появились только в 1892 году, то есть когда их автору было уже сорок лет.
Богатым жизненным опытом, знакомством с самыми различными сторонами русской действительности объясняется, по-видимому, тот факт, что Гарин-Михайловский не знал в своей литературной деятельности периода ученичества, «поисков себя».
И очерки «Несколько лет в деревне» и автобиографическая повесть «Детство Темы», которыми он дебютировал, отличались значительными художественными достоинствами, зрелостью мысли, в них ставились проблемы, волновавшие в те годы передовую русскую общественность. И в дальнейшем стремление откликнуться на животрепещущие вопросы современности, горячая заинтересованность в судьбах своей страны, глубокий демократизм, страстные поиски путей к «всеобщему вечному счастью», к пересозданию жизни на «неустроенной земле» характерны для всего творчества Гарина-Михайловского, типичны для него как писателя и человека, ставят его в ряд лучших прогрессивных деятелей культуры конца минувшего — начала нашего века.
* * *
Николай Георгиевич Михайловский (Гарин — его литературный псевдоним) родился 8 февраля 1852 года в Петербурге в семье богатого дворянина, николаевского офицера Георгия Антоновича Михайловского. Детство и отроческие годы будущего писателя прошли в Одессе, куда переехал его отец, выйдя в отставку в чине генерала. Начатки образования мальчик получил дома под руководством матери, Глафиры Николаевны, женщины образованной, отдававшей много сил воспитанию своих детей; потом он посещал немецкую школу и, наконец, поступил в гимназию. — Там подросток особенно увлекался математикой и словесностью, много читал, познакомившись в старших классах с произведениями Писарева, Добролюбова, Шелгунова, Дарвина, Бокля. Хорошо удавались ему классные сочинения, в которых, по свидетельству биографа писателя, П. В. Быкова, товарищи уже тогда замечали «блестки несомненного литературного дарования»[4]. По окончании гимназии Михайловский в 1871 году поступил. на юридический факультет Петербургского университета, но, проучившись там год, перешел в Институт инженеров путей сообщения. В профессии инженера-путейца он нашел свое подлинное призвание, тот любимый труд, который наряду с литературным творчеством стал содержанием всей его жизни.
Окончив институт в 1878 году, Михайловский начинает работать по специальности: перед самым концом русско-турецкой войны он участвует в работах по постройке мола и шоссейной дороги в районе Бургаса, затем, по окончании войны, направляется в Бессарабию, на строительство Бендеро-Галацкой железной дороги; в 1878 году он женится на Надежде Валериевне Чарыковой и в 1880 году с женой и маленькой дочерью уезжает на сооружение Батумской железной дороги.
В своей служебной практике молодому инженеру уже на первых порах пришлось столкнуться с мертвящей рутиной, казенщиной, пренебрежением к живой творческой мысли, всяческими хищениями и злоупотреблениями, с которыми он не желал мириться и против которых впоследствии многократно выступал в печати. На этой почве и произошел конфликт Михайловского с его непосредственным начальством на Батумской дороге. Он «бросил службу за полною неспособностью сидеть между двумя стульями — с одной стороны интересы государственные, с другой — личные, хозяйские…» и, приобретя в 1883 году в Бугурусланском уезде Самарской губернии имение Гундоровку, решил заняться там «свободной, независимой деятельностью» — сельским хозяйством. «Цели, которые мы (Михайловский и его жена Надежда Валериевна. — В Б.) решили преследовать в деревне, сводились к следующим двум: к заботам о личном благосостоянии и к заботам о благосостоянии окружающих нас крестьян», — писал Михайловский позднее в очерках «Несколько лет в деревне».
Начинание молодого помещика по духу своему имело много общего с тем социальным реформаторством, которое проповедовало либеральное народничество 80-90-х годов. Кризис революционного народничества, большой заслугой которого являлись непримиримость к существующему политическому строю, стремление поднять на революционную борьбу многомиллионные массы крестьянства, наметился уже к концу 70-х годов и ясно обнаружился в 80-е годы..
Убийство Александра II 1 марта 1881 года, приведшее лишь к смене одного монарха другим, наступившая в стране жесточайшая реакция показали несостоятельность методов индивидуального террора, породили в среде народнической интеллигенции разброд и растерянность. В значительной своей части эта интеллигенция стала на путь крайнего индивидуализма, отказа от «служения» народу в какой бы то ни было форме; другая часть «образованного общества», участвовавшая в народническом движении или сочувствовавшая ему, становилась на позиции либерализма, стремилась «заштопать, „улучшить“ положение крестьянства при сохранении основ современного общества»[5].
Вопреки явно определившемуся уже и ранее классовому расслоению деревни, проникновению туда капиталистических отношений, либеральное народничество упорно твердило о незыблемости умирающего патриархального общинного уклада, не желая видеть, что он тоже основан на «эксплуатации в соединении с бесконечными формами кабалы и личной зависимости»[6], продолжало идеализировать «усгои», считать капиталистические элементы в деревне «случайностью», питать иллюзорные надежды при помощи реформ и переделов укрепить и возродить к новой жизни примитивный общинный социализм. Эти иллюзии, свойственные значительной части интеллигенции, разделял в начале 80-х годов и Н. Г. Михайловский. Чуткий ко всякому проявлению социальной несправедливости, живой, увлекающийся, он решил «помочь тем, которые века работали» на его «дедов и прадедов», решил «возвратить крестьян к их прежнему общинному быту», видя в общине «единственный оплот против всякого рода кулака».
Горячо взявшись за дело, Михайловский ввел у себя в деревне усовершенствованные способы обработки земли, давал крестьянам ссуды, создал в селе школу, больницу, всячески старался уменьшить зависимость крестьян от сельских мироедов. Все эти мероприятия и должны были, по мысли Михайловского, укрепить гибнущую общину: овладев более успешными приемами борьбы с природой, став зажиточнее, умнее, бедный мужик «поймет, как дико и нелепо бороться с ближними», деревня станет, «как один человек». Но, несмотря на всю энергию, преданность делу, реформаторская деятельность Михайловского кончилась крахом, — она была обречена на неудачу по самой своей утопической сущности. Обозленные кулаки четырехкратными поджогами разорили помещика. Весь неудавшийся опыт хозяйничанья в деревне заставил будущего писателя серьезно задуматься над своими народническими увлечениями и критически пересмотреть их.
В 1886 году Михайловский вынужден был уехать из имения и вновь искать службу. Около года он провел на строительстве Самаро-Златоустовской железной дороги, затем с 1887 по 1890 год жил с семьей на Урале, где работал над сооружением спроектированного им туннеля на Уфимско-Златоустовской железной дороге.
Живя на Урале, Михайловский обратился к литературному творчеству. Еще студентом он пробовал писать, читал свои произведения в кругу родных и близких и один из рассказов даже пытался напечатать в столичном журнале. Рукопись не была принята, и неудача так огорчила и обескуражила автора, что он надолго бросил мысль о сочинительстве. Вновь взяться за перо Михайловского побудило, по-видимому, обилие впечатлений, пережитое и перечувствованное за годы хозяйничанья в деревне, инженерной деятельности.
В 1888 году он пишет очерк «Вариант» и приблизительно в это же время работает над очерками «Несколько лет в деревне». Возникнув на основе дневниковых записей 1883–1886 годов, эти последние рассказывали о неудачном хозяйствовании Михайловского в Гундоровке (названной здесь Князевкой), в них делалась попытка проанализировать причины этих неудач.
Безрезультатность усилий помочь трем-четырем сотням «заброшенных, никому не нужных несчастных» наводит Гарина на мысль о каких-то серьезных «общих причинах, роковым образом долженствовавших вызвать неудачу». Писатель еще не может сформулировать этих «общих причин», но «добросовестное, без всяких предвзятых соображений… воспроизведение бывшего» ведет к очень определенным и недвусмысленным выводам.
Неудачи Гарина объясняются не просто неблагодарностью крестьян или их полнейшим равнодушием к собственному благу, как думалось ему вначале; за этими фактами лежат глубокие социальные причины. Безразличие, пассивность, а иногда и прямая враждебность деревни к своему «благодетелю», ее инертность ко всякого рода новшествам обусловлены прежде всего тем, что народ стремится к коренному земельному преобразованию, не удовлетворяясь мелкой социальной филантропией, полумерами даже самого «хорошего» помещика. И Гарин не перестает подчеркивать уверенность крестьян в том, что «в самом непродолжительном времени земля от бар будет отобрана и возвращена им, как людям, единственно имеющим на нее законное право».
В крестьянах живет воспитанный веками крепостной неволи социальный антагонизм угнетаемого к угнетателю. Эту полную противоположность интересов барина и мужика прекрасно сознают и крестьяне и сами помещики. Сосед Гарина по имению, Чеботаев, яростный противник всяких новшеств, всяких попыток «мирволить» мужику, прямо говорит о том, что «в силу вещей между нами (барином и мужиком. — В. Б.) нет ничего общего; с молоком матери всасывают они убеждение, что вы — враг его, что земля его, что вы дармоед и паразит (курсив мой. — В. Б.), Вашими заигрываниями вы еще более его в том убедите». И действительно, даже в самых полезных для них начинаниях помещика крестьяне видят какой-то подвох и хитрость, а стремление внедрить те или иные нововведения путем экономического принуждения вызывают нелестные для барина сравнения с временами крепостного права. В конце концов помещик не может не признать, что совмещение интересов народа и стоящих над ним высших классов общества невозможно, что всякие попытки «поправить» хозяйство мужика «сверху» обречены на неудачу.
Терпит крах и намерение помещика возродить общину, обуздать с помощью ее кулаков-мироедов. Гарин приходит к выводу, что «единого», «нераздельного» мужика в деревне нет, что крестьянская община разлагается, становясь оплотом эксплуататоров, вырастающих из среды самого же крестьянства («хозяйственный мужичок» Беляков, Чичков и др.), что влияние кулаков в деревне огромно и зиждется прежде всего на экономической зависимости от них большинства крестьянства.
«Я, конечно, желал как лучше… Я желал, он желал, мы желали», — иронизировал позднее Гарин над своими сельскохозяйственными опытами в книге «В сутолоке провинциальной жизни», вспоминая, как он «тащил своих крестьян… в какой-то свой рай», существовавший «только в фантазии». Но объективный ход исторических событий, реальная действительность, как показывает это в своих очерках Гарин, оказываются сильнее фантазии.
Законченные в 1890 году очерки «Несколько лет в деревне» были переданы Михайловским знакомому их семьи, имевшему связи с литературным миром. В Москве рукопись была прочитана в одном из писательских кружков в присутствии видных литераторов и критиков — Н. Н. Златовратского, К. М. Станюковича, Н. К. Михайловского, В. А. Гольцева и др. — и получила всеобщее одобрение. Станюкович весной 1891 года поехал в самарскую усадьбу Михайловского, где тот вновь жил с семьей, чтобы лично познакомиться с ним и сообщить об успехе очерков. Михайловский прочел гостю отрывки из своего нового произведения — повести «Детство Темы». Горячие похвалы известного русского писателя окончательно укрепили Михайловского в решении серьезно заняться литературным творчеством.
Помимо желания лично узнать Михайловского, приезд Станюковича имел и другую цель — привлечь начинающего литератора к делу издания журнала «Русское богатство». Журнал этот хотел приобрести у его владельца Л. Е. Оболенского кружок народнических писателей и публицистов, однако у них не было достаточных средств для этого; кроме того, ни один из его членов не пользовался «незапятнанной» в политическом отношении репутацией, которая требовалась от издателя журнала. Михайловского увлекла мысль о журнале, и в том же 1891 году, заложив имение, он купил у Оболенского «Русское богатство». Официальной издательницей журнала стала жена Николая Георгиевича — Н. В. Михайловская, а редактором его — один из крупнейших деятелей и теоретиков народничества, публицист и критик Н. К. Михайловский.
В 1892 году в «Русском богатстве» (№№ 1–3) появляется повесть Н. Г. Михайловского «Детство Темы», подписанная псевдонимом «Н. Гарин», а в мартовском и последующих номерах «Русской мысли» — очерки «Несколько лет в деревне». Оба эти произведения стали событием в литературной жизни тех лет, принесли Гарину всеобщее признание, он вошел как равный в среду известных русских писателей.
Вступление Гарина в литературу совпало с переходной для России эпохой, с годами ожесточенной идейной борьбы, переоценки литературного и идеологического наследия прошлого. Начало 90-х годов характеризовалось бурным развитием капитализма в городе и в деревне. Рабочий класс выступал на арену политической жизни, как сила последовательно революционная, единственно способная возглавить освободительное движение в России. Марксистская идеология завоевывала себе приверженцев не только в среде интеллигенции, но и в среде рабочих. В обстановке зарождения и развития пролетарского движения, популяризации марксистского учения особенно вредную, реакционную роль играло либеральное народничество, имевшее значительное влияние среди демократической интеллигенции. Вопреки очевидности, оно пыталось доказать необходимость и возможность для России «особого» пути развития, прихода ее к социализму через крестьянскую общину, которую можно и должно укрепить путем частичных, проводимых сверху реформ, отдельных рациональных нововведений.
Объективная значимость и ценность произведения Гарина «Несколько лет в деревне» и определялись в момент его появления тем, что оно наносило серьезный удар по этим народническим теориям. Не удивительно, что очерки Гарина, хотя и появившиеся в народнической «Русской мысли», были холодно встречены либерально-народнической критикой, видевшей в этом произведении лишь ничего не доказывающие «записки очевидца».
По-другому оценивали очерк Гарина писатели демократического лагеря. Прочитав «Несколько лет в деревне», А. П. Чехов писал Суворину 27 октября 1892 года: «Прочтите, пожалуйста, в „Русской мысли“, март, „Несколько лет в деревне“ Гарина. Раньше ничего подобного не было в литературе в этом роде по тону и, пожалуй, искренности. Начало немножко рутинно и конец приподнят, но зато середка — сплошное наслаждение. Так верно, что хоть отбавляй»[7]. «Весьма понравились» также «скептические „Очерки современной деревни“» М. Горькому[8], пережившему в свое время увлечение идеями «хождения в народ» и быстро разочаровавшемуся в них. Очерки произвели большое впечатление и на Н. Е. Федосеева, одного из первых русских марксистов, организатора марксистских кружков в Поволжье и в Центральной России. «Помню, — пишет в своих воспоминаниях А. Санин, редактор марксистского „Самарского вестника“, — с каким захватывающим интересом читали мы с Федосеевым во Владимире весною 1892 года его (Гарина. — В. Б.) очерки „Несколько лет в деревне“, печатавшиеся тогда в „Русской мысли“. „Н. Гарин!“… Это имя нам, только что вышедшим из тюрьмы, встречалось в литературе впервые. „Кто он такой?“ — спрашивали мы. В этом талантливом писателе, уверенной рукой разбивавшем народнические иллюзии, мы сразу почувствовали человека, близкого по духу, — не единомышленника, конечно, но во всяком случае идейного союзника»[9].
«Разбивать народнические иллюзии», разрабатывать тематику и проблематику «Нескольких лет в деревне» Гарин продолжал и в последовавших за этими очерками произведениях из крестьянской жизни, созданных в первой половине 90-х годов и печатавшихся в «Русском богатстве» и некоторых других периодических изданиях.
Как и «Несколько лет в деревне», произведения Гарина по преимуществу были основаны на материале действительности, непосредственно наблюденном и пережитом писателем.
Стремление прежде всего обратиться к подлинному жизненному факту является характерной особенностью писательской манеры Гарина, проявившейся уже в самом начале его творческого пути. «В моей беллетристике выдуманных образов совсем нет: все взято прямо из жизни», — писал Гарин в 1894 году А. И. Иванчину-Писареву[10], не раз впоследствии в тех или иных вариациях повторяя это свое высказывание. Гарин считал, что сама действительность, ситуации и конфликты, встречающиеся на каждом шагу в жизни, в значительной мере делают для писателя необязательным обращение к художественному вымыслу. Эти позиции Гарина становятся особенно понятными, если учесть, что жизнь открывалась перед ним, неугомонным деятелем, «непоседой», изъездившим страну вдоль и поперек, во всем своем многообразии, обилии социальных типов, «любопытных» людей.
Нельзя не подчеркнуть в этой связи, что, и вступив на путь литературной деятельности, завоевав признание и авторитет в этой области, Гарин никогда не оставлял своей практической деятельности инженера-путейца. Постоянные разъезды, экспедиции, изыскания в известной мере мешали его труду писателя. Биографы, мемуаристы обычно отмечают, что ему приходилось создавать свои произведения второпях, «на облучке», иной раз отказываться от тщательной отделки их, что замыслы Гарина часто бывали интереснее их воплощения, что он «рассказывал превосходно и, нередко, лучше, чем писал»[11].
Однако и при всех этих издержках, вызванных напряженной практической деятельностью, тесная связь с жизнью была несомненно тем благотворным источником, который питал творчество Гарина, придавая ему неповторимое своеобразие. Именно обилие жизненных впечатлений, неисчерпаемая «копилка» наблюдений и определили «пристрастие» писателя к «малому жанру» очерка или рассказа-очерка, чаще всего основанного на автобиографическом материале и представляющего собой. ряд художественных зарисовок, наблюденных автором картин и явлений, типов людей, ряд рассказов о виденном и слышанном, скрепленных обычно воедино образом автора-рассказчика.
Жанр очерка открывал широкие возможности для непосредственного обращения писателя к читательской аудитории, для лирических и особенно публицистических отступлений, очень важных для Гарина, всегда стремившегося откликнуться на злобу дня, поделиться с читателем своими соображениями и выводами. К этому приему — публицистическим отступлениям, анализу тех или иных заинтересовавших его явлений, подкрепляемому цифрами, статистическими данными, — Гарин широко прибегал еще в очерках «Несколько лет в деревне». Он постоянно пользуется им и в других очерках и рассказах первой половины 90-х годов.
Уже одно это стремление к выводам, обобщениям, явно выраженное отношение Гарина к описываемым им фактам и явлениям, нежелание ограничиваться простым фиксированием их свидетельствовало о плодотворной реалистической основе произведений писателя. Еще определеннее реализм гаринских рассказов и очерков сказывался на самом отборе писателем материала для них.
Далеко не всякий факт, попадающий в поле зрения Гарина, находил отражение в его произведениях, далеко не случайна и группировка этих фактов. Все они, казалось бы взятые наугад, выстраиваются в стройную систему, освещаются именно в такой последовательности и с той стороны, которые превращают путевые заметки, случайную дневниковую запись в художественное произведение, идейно насыщенное, социально значимое, отражающее типические стороны русской Действительности. Всеми этими качествами — идейностью, социальной остротой, типичностью изображаемого, тенденциозностью в лучшем смысле этого слова характеризуются и произведения Гарина о деревне, рисующие «неустроенную жизнь» села и его обитателей, «белых рабов черной земли».
Большинство рассказов и очерков Гарина крестьянского цикла было создано под непосредственным впечатлением страшных для России 1891–1892 голодного и холерного годов, наблюдавшихся писателем в деревнях и селах Самарской, Казанской и других губерний, где ему приходилось бывать в то время на изысканиях.
В отличие от многих либеральных беллетристов, после краха революционного народничества вообще отказавшихся от изображения «неблагодарного мужика», писатели-демократы по-прежнему отводят крестьянству в своем творчестве центральное месю. В годы тяжкого народного бедствия появляются очерки о деревне В. Г. Короленко («В голодный год»), рассказы Н. Д. Телешова («Нужда», «Самоходы»), И. А. Бунина («На чужой стороне», «На край света») о переселенцах, изгнанных нуждой и голодом из родных мест и бредущих на поиски «счастья» в-далекую Сибирь. Картины беспредельной нищеты, голода, страданий миллионов людей, обреченных на смерть, не ждущих и не получающих никакой помощи, встают перед читателем и в очерках Гарина «Путешествие на луну» (1893), «Сочельник в русской деревне» (1893), «На ходу» (1893), «На селе» (1894) и др.
Неурожаи и эпидемии обострили социальные процессы, и до тех пор происходившие в деревне. Разоряются, погибают голодной смертью массы крестьян и одновременно прокладывает себе широкую дорогу в деревне, победоносно шествует в ней, по меткой характеристике Гл. Успенского, — «господин Купон». В изображении безудержного роста «массы мелких деревенских эксплуататоров», особенно страшных тем, что «они давят на трудящегося враздробь, поодиночке», что они «приковывают его к себе и отнимают всякую надежду на избавление»[12], Гарин прямо следует традиции Гл. Успенского и в его гневном обличении кулака-мироеда и в его страстных поисках счастья для мужика. Богатеи растут в деревне, как «грибы на навозе», там царствуют лавочник Иван Васильевич, кулак Андрей Калиныч, управитель барского имения Иван Михайлович («На селе»).
Не только каждый крестьянин в отдельности, а и пресловутая, многократно воспетая народниками община находится в руках у «Иванов Васильевичей», которые когда «умильным» словом, когда ведром водки умеют улестить «стариков» и повернуть всякое дело в свою пользу.
Ею тяготятся и зажиточные крестьяне, ибо, хоть в незначительной степени, и они вынуждены быть «ответчиками за мир», нести какую-то материальную тяготу в форме общественных отработок и выплаты податей. Но особенно страшна община для бедняков, поскольку она навечно прикрепляет их к земле, крестьяне задыхаются в кабале у помещиков и кулаков, а окончательно разоренных «мир» безжалостно выталкивает из деревни. Никакой «благостыни», никакой «общей», «высокой» правды, никаких мудрых и святых мужиков в миру нет и в помине. Индивидуализм, сделавшийся «основой экономических отношений не только между ростовщиком и должником, но между крестьянами вообще»[13], становится, как убедительно показывает Гарин, основой во взаимоотношениях членов общины. В ней много людей, «да каждый за себя», в ней «действует закон более суровый, чем сострадание к другим — закон своей рубашки», повинуясь которому «мир» безжалостно выгоняет из деревни вдову Акулину с пятью маленькими ребятами («Акулина», 1894), отказывает в помощи нищим, сиротам, голодным («На селе»). И с социальной и с моральной точек зрения община — учреждение устаревшее, мешающее развитию деревни, — такой вывод прямо следует из произведений Гарина о крестьянстве.
Отражая в этих произведениях социально-экономические условия жизни народных масс, Гарин пристально всматривается и в нравственную жизнь крестьянства. В изображении ее он так же далек от народнических канонов, как и в своем анализе общественной и экономической сторон жизни деревни. Деревня, ее быт и нравы несут в себе черты косности, невежества, грубости. Крестьяне верят в домовых, леших, ведьм («Матренины деньги», 1894); они отказываются от помощи врача умирающей роженице, так как это «зазорно» («Под вечер», 1892); грубо издеваются над женщиной («Акулина»); здесь, для того чтобы ввести хоть малейшее новшество, надо «пуды соли съесть». Персонажи рассказов и очерков Гарина ничем не напоминают мужичка «литературы старых народников», «мужичка раскрашенного в красные цвета и вкусного, как вяземский пряник»[14]. В отличие от народнических беллетристов, таких, например, как Засодимский и Златовратский, Гарин изображает крестьянина во всех его противоречиях, обусловленных его мелкособственнической природой, соединяющей в себе черты труженика и собственника. Эти черты собственничества развиваются в крестьянине вместе с укреплением в деревне «власти денег».
Гибельную власть денег, волчьи взаимоотношения, порождаемые в деревне все тем же «господином Купоном», великолепно раскрыл Гарин в целом ряде рассказов. Семнадцать рублей, украденные у крестьянки Матрены («Матренины деньги»), слух о ее богатстве развязывают в людях низменные инстинкты, влекут за собой целую вереницу трагических событий вплоть до убийства и пожара. Желание «подзаработать», «поднажиться» заставляет молодого татарина Гамида («Бурлаки», 1895) пойти на предательство интересов своей же артели. Проступок Гамида сурово, наказан — его убивают товарищи, а вслед за ним с горя умирает и его отец — старый Амзя.
Тип человека, на психику и моральный облик которого тяжелый, несмываемый отпечаток наложили накопительство, страсть к богатству, изображен в очерке «На селе» (Андрей Калиныч) и особенно ярко в рассказе «Дикий человек» (1894). Герой его — богатей Асимов — «жестокий, скупой, тяжелый человек». Некогда он был хорошим семьянином, любил жену, детей, но «в помыслах, в заботе паскудной да в корысти всю радость изжил, ненавистником стал». Из боязни быть ограбленным, потерять богатство Асимов выгоняет из дому старшего сына с больной женой и детьми, убивает младшего сына — Пимку. Очень тонко прослеживает Гарин психологическое состояние своего героя, борьбу в нем собственнического начала с остатками человеческих чувств. В конце жизни у Асимова пробуждается какое-то подобие любви к младшему внуку, тщедушному, болезненному заморышу, но один только намек на то, что родители ждут помощи от деда, снова ожесточает сердце «дикого человека». Уходя на каторгу, он отказывается сказать, где хранятся его деньги, проклинает родных и односельчан.
Не идеализируя отрицательных сторон быта и нравов деревни, Гарин сознает, что крестьянин и не может быть иным в условиях нищеты, культурной и экономической отсталости, что без земли, без знаний, без лишней копейки он «так же вянет, как сонная рыба в садке». «В некультурных условиях одинаково дичают: и человек, и животное, и растение», — эти слова, взятые в качестве эпиграфа к рассказу «Матренины деньги», определяют взгляд писателя на причины народных бедствий. Гарин, однако, непрестанно подчеркивает, что даже тяжкие условия существования не могут подавить тех качеств ума и души народа, тех свойств русского национального характера, которые позволяют понять «отчего русская земля стала есть». Следуя лучшим гуманистическим традициям русской литературы, писатель с любовью и уважением говорит о силе трудового народа, его непоколебимости перед лицом испытаний и трудностей, богатой одаренности, стремлении отыскать причины своих несчастий.
Сила духа, трудолюбие, привязанность к семье характеризуют крестьянку Акулину («Акулина»), делают ее как бы символом стойкости, душевного здоровья народа, во многом сближают ее с женскими образами поэзии Некрасова. Печальником о горе человеческом выступает в очерке «Сочельник в русской деревне» калека-старец, которому «господь с молодости дал ум неспокойный, сердце горячее… Не терпел неправды… Корень зла искал…» Желанием помочь людям, любовью к ним определяются и поступки крестьянина Михаила Филипповича («На селе»), в голодный год раздающего свои запасы односельчанам, и поведение крестьянина-вдовца («Сочельник в русской деревне»), которого не могут сломить нищета и невзгоды: «весь он олицетворенная любовь, и каждое его слово, каждая нота так и дышит этой тоской любви, этой потребностью любить».
В очерках «На ходу», «Коротенькая жизнь» (1894) писатель раскрывает природный ум, пытливость, жажду знания, живущую в народе, — среди крестьян, сопровождающих Гарина в его изысканиях, есть и философы, склонные к раздумью, обобщениям, и поэты, тонко чувствующие красоту природы, и книголюбы, «охочие до чтения», и люди, тянущиеся к точным наукам, к изобретательству («На ходу»); в мало-мальски благоприятных условиях эти способности расцветают, дают замечательные результаты. Из питомцев сельской школы помещика Александра Дмитриевича выходят впоследствии знаменитый художник, ученые, изобретатели («Коротенькая жизнь»).
Высокие нравственные качества народа, неиссякаемый запас его творческих сил и возможностей особенно зримы в сопоставлении с моральным одичанием представителей нарождающейся сельской буржуазии, с одряхлением и оскудением помещичье-дворянского класса (образы помещицы Ярыщевой в рассказе «В усадьбе помещицы Ярыщевой» (1894), молодого и старого владельцев разрушающейся усадьбы в очерке «На ходу») и являются для писателя верным залогом того, что будущее принадлежит трудовому народу.
Народ может стать активным деятелем, организатором и устроителем своей судьбы, когда он выйдет из того состояния умственного и нравственного застоя, которое порождается условиями его существования. Однако, считает Гарин, эти условия могут измениться лишь с ликвидацией экономической и культурной отсталости страны в целом, с развитием в ней в широких масштабах всех производительных сил и возможностей.
В 90-е годы Гарин был еще далек от мысли о необходимости коренных социальных преобразований, как обязательной предпосылке глубоких изменений в судьбе народа, от понимания исторической миссии пролетариата. Основным деятелем общественной жизни представлялась ему передовая демократическая интеллигенция, вдохновляемая любовью к народу, пониманием его нужд и запросов; основную же задачу эпохи писатель видел в осуществляемом этой интеллигенцией техническом прогрессе, освоении природных богатств страны, базу для которых дает бурное развитие промышленного капитала, в просвещении народных масс.
Эти мысли, проводимые Гариным и в его публицистических статьях (печатавшихся в начале 90-х годов в газете «Новое время», в журнале «Русское богатство») и в художественных произведениях, несомненно свидетельствовали об известной идейной ограниченности писателя. В то же время воззрения Гарина далеко не укладывались в рамки широко распространенной в интеллигентской среде 80-90-х годов теории «малых дел».
От этой теории, от обычного культуртрегерства, утверждавшего, что «наше время — не время великих задач», ограниченного узкими рамками «сегодняшнего дня», рассчитанного прежде всего на то, чтобы успокоить «больную» совесть «слабого» интеллигента, взгляды и умонастроения Гарина отличаются масштабностью, перспективностью, умением за каждым из пропагандируемых им мероприятий видеть широкие горизонты и «огоньки» будущего, стремлением активно вмешиваться в жизнь, бороться с ее неустройствами и неполадками. Пассивное, инертное отношение к действительности, — будь то мещанское «благоразумие», нежелание жертвовать своим покоем и благополучием, возведенные ли в философскую категорию непротивление и бездеятельность, проповедуемые толстовством («Жизнь и смерть», 1896), или неспособность народнической интеллигенции понять истинные потребности народа, — все это одинаково неприемлемо для Гарина.
Страстный обличитель всякой рутины, косности, застоя, Гарин видит свой идеал в мужественном, деятельном человеке-труженике, глубоко сознавшем свой долг перед родиной и народом и в исполнении этого долга обретающем подлинное счастье.
«Поэтом труда» назвал Гарина М. Горький[15]. Подлинным гимном труду, человеку-деятелю звучит уже ранний очерк Гарина «Вариант» (1888). Герой его — инженер Кольцов, строящий дорогу в Сибири, — вдохновенный работник, страстно любящий свое дело, связывающий его с будущим расцветом и могуществом родины, уподобляет деятельность свою и своих товарищей легендарным подвигам Ермака: «Проведением дороги мы эти необъятные края сделаем реальным достоянием русской земли. Это будет второе завоевание этого края». Близки Кольцову и персонажи ряда произведений Гарина середины 90-х годов: герои рассказа «Радости жизни» (1895), лесничий Войцех («Войцех», 1895), земский врач Колпин («Жизнь и смерть», 1896), студент Моисеенко («Гимназисты», 1893).. Все эти люди, скромные рядовые труженики, велики своим альтруизмом, преданностью избранному делу, твердой уверенностью, что «нет выше счастья, как работать во славу отчизны и сознавать, что работой этой приносишь не воображаемую, а действительную пользу».
Но Гарин не может не замечать, что среди окружающей его интеллигенции таких людей сравнительно немного, что в подавляющем своем большинстве «образованное общество» живет без идеалов, далеко от народа, что значительная часть молодежи также заражена настроениями аполитичности и бездействует или бродит «без дороги» в напрасных поисках точки приложения своих сил, своего места в жизни.
Судьбы молодого поколения особенно тревожили писателя — с ним связывались у Гарина представления о «новых людях», преобразователях «неустроенной жизни».
В чем причина низкого умственного и нравственного развития молодежи, ее практической и теоретической неподготовленности к полезной деятельности, в чем корни инертности, отсутствия прочных связей с жизнью, живых интересов и стремлений? На этот вопрос, горячо дебатировавшийся прогрессивной публицистикой и беллетристикой конца 80-х — начала 90-х годов, Гарин попытался дать ответ в своей тетралогии, состоящей из повестей: «Детство Темы» (1892), «Гимназисты» (1893), «Студенты» (1895), «Инженеры» (1906).
Основным содержанием этого цикла и является изображение того, как в условиях современного писателю социального строя, под влиянием порожденной этим строем порочной системы школьного и семейного воспитания уродуется и калечится человеческая личность, как постепенно, с самого раннего детства, вытравляются и искажаются в ней потенциально присущие натуре ребенка положительные качества, как, наконец, формируются те самые безыдейные, безвольные люди без определенной жизненной цели, без «путеводной звезды», обилию которых поражалось общество, их же породившее. Таким рефлектирующим интеллигентом, к чему-то стремящимся, но всегда быстро остывающим и постепенно приспособляющимся к обывательской среде, и является центральный герой тетралогии Артемий Карташев. Было бы ошибочным видеть в Карташеве alter ego (второе я — лат.) самого писателя и тем более делать Карташева носителем взглядов и умонастроений Гарина на том лишь основании, что материал, положенный в основу тетралогии, в известной мере автобиографичен. Используя в тетралогии определенные факты из жизни семьи Михайловских, Гарин был далек от намерения воспроизвести в художественной форме только свою личную биографию. Замысел писателя был гораздо шире: он стремился через частное передать то общее, что было характерно для судьбы целого поколения интеллигентской молодежи, росшей и развивавшейся в период 60-70-х годов XIX века.
Этому замыслу и был подчинен отбор Гариным биографического материала, — под углом зрения его типичности, общезначимости. Этим объясняется и большой удельный вес в тетралогии (особенно в ее второй — четвертой частях) художественного вымысла — обилие фактов и персонажей, отсутствовавших в личной биографии писателя. Гарин «крупным планом» изображает общественную жизнь эпохи, быт и нравы интеллигенции; он обращается также и к другим социальным слоям общества (городская беднота, крестьянство, деклассированные элементы), показывает умонастроения учащейся молодежи, ее идейные искания, стремление определить свое место в жизни. В последней части тетралогии, создававшейся в годы первой русской революции, Гарин критически изображает царскую армию, церковь, подчеркивает гнилость «устоев» буржуазно-дворянской семьи, уделяет большое место изображению революционного народничества 70-х годов. Все это придавало автобиографическим повестям Гарина характер широкого социального полотна, что и отметил М. Горький, определяя тетралогию Гарина, как «целую эпопею»[16].
В то же время своими повестями Гарин продолжил традицию распространенного в русской классической литературе жанра «семейной хроники», художественной автобиографии. Он воспринял у этого жанра в первую очередь те его особенности, которые наилучшим образом позволяли ему осуществить свое намерение — показа становления личности под влиянием общественной среды. Гарин наследует у Л. Н. Толстого и С. Т. Аксакова умение передать «диалектику души» своего героя, интерес к его внутреннему миру, формированию характера. При всей широте и многообразии отображаемых писателем жизненных явлений, образ Карташева, его судьба являются тем основным стержнем, вокруг которого формируется сюжет тетралогии, который придает стройность и единство ее композиции.
Развертывая действие тетралогии во временной последовательности, Гарин начинает повествование с изображения детских лет Карташева. Маленький Тема наделен многими чертами характера, которые при их естественном и правильном развитии сделали бы из него «настоящего», в гаринском понимании этого слова, человека — деятельного, отзывчивого к нуждам людей, хорошего и честного работника своей страны. Тема жизнерадостен, смел, активен, полон расположения и симпатии к окружающим. Бьющая в нем ключом энергия ищет выхода, проявляется в многочисленных выдумках и проказах. Но уже эти, такие естественные и понятные в его возрасте, порывы являются источником серьезных и тяжелых для восьмилетнего ребенка переживаний, первых разочарований в людях, и притом в людях самых близких. Отец Темы, Николай Семенович Карташев, генерал в отставке, — выученик николаевской армии, чужд всяких педагогических «тонкостей». В проступках сына он видит только нежелание повиноваться воле старших и готов искоренять непослушание самыми строгими мерами. Физическое наказание, порка, которой подвергает Тему отец, вызывает у мальчика чувство панического страха перед ним, даже ненависти. Страх, отчужденность, первые поползновения к лжи и обману как средству избежать незаслуженно строгого наказания — таковы следствия педагогической системы генерала Карташева.
Антиподом, казалось бы, своему мужу, добрым гением семьи выступает в «Детстве Темы» Аглаида Васильевна Карташева. В образе ее много привлекательного: она умна, образованна, ребенок для нее — это маленький человек, требующий к себе внимания, уважения, ласки. Армейские приемы мужа по отношению к детям вызывают у Аглаиды Васильевны возмущение и негодование. Такую же нетерпимость проявляет Аглаида Васильевна и к гимназическим порядкам, тяжело отразившимся на чутком и впечатлительном мальчике. Убийственное равнодушие к индивидуальности ребенка, заведомое желание педагогов видеть в ученике потенциального преступника и негодяя — все это оскорбительно и страшно для матери, вызывает ее справедливый гнев против школы.
Но по сути дела цель, преследуемая Аглаидой Васильевной при воспитании детей, та же, что и у ее мужа и у гимназии, — дать верного слугу и «советчика» царю, вырастить человека, гордого своей принадлежностью к дворянству, нетерпимого к «крамольным», революционным взглядам и мыслям. Взрослым Карташевым чужд и враждебен всякий демократизм и социальный критицизм, существующий порядок вещей кажется им вполне оправданным и единственно возможным. В этом духе воспитывают в семье Карташевых и детей.
С детских лет Теме уже свойственно взращенное семьей чувство превосходства над обитателями наемного двора — Кольками, Гараськами, Яшками, над их отцами и матерями. Нищета, несчастья, ежедневные будничные драмы, разыгрывающиеся на наемном дворе, привлекают внимание Темы, однако в семье Карташевых к горю бедняков относятся снисходительно-пренебрежительно; в тех же случаях, когда «острый вопрос» трудно обойти, Аглаида Васильевна старается доказать сыну возможность «уладить» его с помощью «добрых» и «умных» людей своего круга, — так устраивается судьба семьи умершего бедняка-учителя Бориса Борисовича.
В своей заботе о душевном покое Темы Аглаида Васильевна объективно углубляет то зло, то духовное растление, которое насаждает в детях гимназия. Так, например, она помогает сыну оправдаться перед самим собой в невольным предательстве, совершенном им по отношению к его лучшему другу — Иванову. Моральной неустойчивостью, нравственными компромиссами, которые впоследствии будут так характерны для Карташева, он обязан не только гимназии, но и семье, внешне такой добропорядочной и нравственной.
Без авторских отступлений, одним подбором фактов, мелких будничных происшествий Гарин уже в «Детстве Темы» показывает, как семья и школа отравляют сознание ребенка, стесняют волю и инициативу, приучают к лжи и приспособленчеству, порождают сознание превосходства над обитателями наемного двора, над прислугой. Но все эти качества живут в душе ребенка в зачаточном состоянии, человеческая природа Темы активно сопротивляется пагубным влияниям окружающего, в нем живут благородные стремления к осмысленной и честной жизни. В конце первой части тетралогии Тема — еще мягкий воск, из которого можно вылепить и настоящего человека и посредственного представителя своего класса. Эта дилемма решится в зависимости от той среды, тех влияний и обстановки, в которую попадет Карташев — подросток и юноша. Такой средой во второй части тетралогии — «Гимназисты» — по-прежнему является семейный круг Карташевых и — уже в гораздо большей степени, чем в первой книге, — гимназия.
Изображение быта и нравов русской пореформенной гимназии, «каторги непередаваемых мелочей, называемых обучением ума и воспитанием души», явилось уже само по себе огромной заслугой Гарина, тем более что система гимназического воспитания осталась в основных чертах прежней и ко времени выхода в свет «Гимназистов».
В обстановке общественного подъема конца 50-х — начала 60-х годов царское правительство пошло на некоторые нововведения в области просвещения, несколько демократизировало гимназию (были уничтожены сословные ограничения при поступлении в средние учебные заведения, школа и ее порядки стали достоянием общественной гласности и т. д.). Однако сколько-нибудь существенных изменений в основных принципах обучения и воспитания в средней школе не произошло. В связи с наступлением реакции после покушения Каракозова на Александра II (апрель 1866 года) министром просвещения был назначен крайний консерватор Д. Толстой, являвшийся в то же время обер-прокурором Святейшего синода. С приходом его в гимназии вновь стали возрождаться порядки времен николаевской реакции (завершившиеся толстовским указом от 19 июня 1871 года). Потому н в изображенной Гариным гимназии второй половины 60-х годов, официально еще живущей по относительно «свободному» режиму, царит бессмысленная зубрежка, большая часть учебного времени тратится на изучение «мертвых», классических языков, остальные предметы изучаются схоластически, они далеки от требований практической жизни.
Но эта жизнь, несмотря на все преграды, врывается и в стены гимназии, она не затрагивает только совершенно инертных, бесцветных, с детства «оболваненных» гимназистов, таких, как первый ученик Яковлев, или тупоумный, самодовольный Семенов. Большинство гимназистов в этом возрасте стремится к свету и знанию, ищет ответов на острые вопросы современности. К их числу относится и Тема Карташев. Он сближается с кружком гимназистов-одноклассников, занимающихся самообразованием, читает труды Писарева, Добролюбова, Шелгунова, которые будят его мысль, помогают определиться настроениям смутного недовольства собой и окружающим миром. Многое, что прививалось Теме с детства в качестве неоспоримых и незыблемых истин, под влиянием бесед в кружке, чтения книг и журналов, теперь переоценивается им. Он «с уважением пожал бы теперь руку простому человеку»; живя в имении матери, он пытается вникнуть в жизнь и нужды крестьян.
Однако беседы с мужиками текут «вяло и лениво», крестьяне и Карташев очень далеки друг от друга, да и вообще Тему поражает разительное несоответствие между мечтой и реальностью, книгой и жизнью. Гимназия не дала ему навыков самостоятельного мышления, постоянная опека семьи и школы лишили воли и настойчивости, обременили сознание условностями и предрассудками. Потому так безуспешны попытки Темы найти «истину», разобраться в поставленных жизнью проблемах, потому так легко переходит он от увлечений новыми для него мыслями и идеями к примирению с тем, что он сам ощущает, как тяжелый гнет.
Этим настроениям Темы, возвращению «блудного сына» в лоно семьи в значительной степени способствует Аглаида Васильевна. Всеми средствами старается она отвлечь сына от его «опасных» увлечений, доказать Теме несостоятельность и вредность теорий, занимающих его ум; когда в усадьбе Карташевых сгорает скирда хлеба, она прямо обвиняет сына в том, что это — результат его заигрываний с мужиками: «Ты видишь уже последствия ваших неосторожных разговоров. Полторы тысячи рублей в этом году дохода уже нет… Теория… основанная прежде всего на том, чтоб для спасения чужих своих, самых близких губить… Отвратительный эгоизм!.. Отвратительная теория, эгоистическая, грубая, несущая с собой подрыв всего…» Классовая ненависть к подобного рода «отвратительным теориям», к «скороспелым учениям Добролюбова, Писарева, Чернышевского» заставляет Карташеву, недавнюю «противницу» всякого насилия над личностью, признать необходимость для «спасения» молодежи палочной, солдатской дисциплины в гимназии. Тема не сочувствует матери, но в спорах и ссорах с ней он всегда слабее, так как у него нет твердого сознания своей правоты и готовности отстаивать ее во что бы то ни стало, мать «давит его умом и сильным характером». Постепенно у Карташева пропадает интерес и к самим теориям и к попыткам воплотить их в жизнь; самое большее, на что он способен, — маниловские мечтания о всеобщем благе, он погружен в рефлексию и ненужный, растравляющий душу самоанализ.
Подобными настроениями охвачены и многие товарищи Темы — Рыльский, Корнев, Долба; кончает самоубийством стремившийся дойти до «сути вещей» Берендя. Общей судьбы избегают в повести лишь студент Моисеенко, взгляды которого складывались, очевидно, еще в годы расцвета революционно-демократической мысли, и гимназистка Горенко, умная, волевая девушка, сирота, характер которой формировался вне влияний дворянско-буржуазной семьи. Большинство же гимназистов постепенно утрачивает жизнеспособность, веру в себя, тускнеет, становится на путь интеллигентской обывательщины.
Именно таким путем, наметившимся уже к концу гимназической жизни, и идет Карташев, став студентом.
Отъезд в Петербург, перспективы вольной студенческой жизни наполняют Карташева предчувствием чего-то радостного и необыкновенного, надеждой, что он станет «другим человеком», «будет заниматься, будет ученым — новый мир откроется перед ним… и забудется он в нем, и потеряет все то, что пошлит людей». Но в Петербург Карташева ведет прежде всего желание избавиться от тягостной опеки матери. Никаких высоких целей, стремление к которым помогало бы переносить трудности, приносило бы нравственное удовлетворение, у него по-прежнему нет. Безволие, бесхребетность, «спутанность» Темы проявляются в полной мере именно теперь, когда он остается один на один с собой, лишенный строгих шор гимназии, твердой и властной руки матери. Не подготовленный к упорному систематическому труду, к самостоятельному мышлению, Карташев скоро перестает посещать университет, он далек от студенческой массы, от передовой молодежи и ее революционных настроений.
Годы пребывания Карташева в университете, а потом в Институте путей сообщения совпадают с расцветом движения революционного народничества, в котором активно и самопожертвенно действовала и лучшая студенческая молодежь. В известной мере эти революционные настроения студенчества нашли отражение и в «Студентах» Гарина. Писатель не раз упоминает о собиравшемся в одной из студенческих столовых кружке революционной молодежи, членом которого является и бывший одноклассник и друг Темы — Иванов.
Когда-то подростки были очень близки между собой, Карташев мучительно переживал свой разрыв с Ивановым, но теперь Иванов инстинктом революционного борца чувствует в Карташеве чуждого себе человека; сдержанно, даже подозрительно относится к Теме и весь кружок Иванова. Предостережения Аглаиды Васильевны уезжающему в Петербург сыну об опасности увлечься революционным движением и попасть на эшафот или каторгу были излишни. Тема слишком инертен, слишком привык к покою и благополучию, в нем слишком прочно живут предрассудки своей среды, чтобы он мог стать на путь революционной борьбы, требующей от человека твердых, непоколебимых убеждений, готовности пожертвовать собой. Эти тенденции его характера отдаляют его от Иванова, толкают на прямые выпады против демократического студенчества, на сближение с «золотой молодежью». Угрызения совести, по временам испытываемые им, по сути дела ничего не меняют в Карташеве-студенте, типичном представителе размагниченной, безвольной буржуазно-дворянской молодежи.
Нравственное падение Карташева как бы символизируется в конце «Студентов» его позорной болезнью и подчеркивается двумя нежелательными и страшными для него встречами с Горенко и Ивановым. Карташев хочет забыть обо всем, что связывает его с прошлым, он не ищет сближения с Ивановым, ему неприятен приезд в Петербург Горенко. Но писатель настойчиво сталкивает Тему с этими людьми. Вновь встретившись с Горенко, Карташев вынужден услышать от нее слова гнева и презрения. «Сознающий эгоист» — так называет она Тему. Горенко требует, чтобы Карташев ушел из дому, где он «не может стать иным». И, как всегда покорный воле более сильной, чем его собственная, внутренне смятенный, уничтоженный, Карташев бежит из дому, собирается покинуть родной город. На вокзале, сквозь решетку арестантского вагона, он внезапно видит Иванова, спокойное лицо его заставляет Тему «как ужаленного» отскочить от окна. Дороги бывших друзей опять перекрестились, показав нравственную высоту и подвижничество одного, душевное смятение и опустошенность — другого.
Моральный тупик, отказ от идеалов юности, мучительное сознание своей душевной неприкаянности и вместе с тем бессилие изменить что-либо — таков итог пути Карташева в первой — третьей частях тетралогии, итог, обусловленный всей совокупностью социальных влияний среды. Рассматривая Карташева и его друзей как продукт пагубного воздействия современного общества на личность человека, Гарин не склонен, однако, снимать со своего героя всякую ответственность за собственную судьбу. Идеализация и оправдание «не героя», той части интеллигенции, которая под теми или иными предлогами отошла от общественной жизни, несвойственна Гарину, и в этом его отличие от массы мещанско-либеральных беллетристов 80-90-х годов (Потапенко, Щеглов, Альбов, Тихонов-Луговой и др.). Гарину дорог целеустремленный, борющийся с трудностями жизни человек, непреклонно идущий к осуществлению своих идеалов, и потому писатель отдает свои симпатии таким, как Горенко, Иванов, Моисеенко, хотя порой ему по-человечески жаль запутавшегося и свернувшего с прямого пути Тему.
Собственно, не героем, «сознающим эгоистом» Артемий Карташев остается и в последней, неоконченной части тетралогии «Инженеры», хотя в этой повести Гарин и наделяет его стремлением к моральному самоусовершенствованию, нравственному очищению.
Над повестью «Инженеры» Гарин работал, начиная с 1904 года, хотя замысел ее, как об этом свидетельствуют последние работы о творчестве Гарина, возник у автора еще в 90-х годах[17]. Писатель предполагал продолжить историю жизни Карташева до современной ему, Гарину, действительности, но смерть помешала осуществлению этого замысла. «Инженеры» охватывают очень небольшой период жизни Карташева, относящийся к концу 70-х годов, когда он кончает Институт путей сообщения и приступает к самостоятельной практической деятельности. Гарин открывает своему герою дорогу в «большую жизнь», он знакомит молодого инженера с бедственным положением народа, сталкивая его с рабочими — выходцами из деревни, ближе сводит его с представителями революционного народничества; Гарин создает ряд отрицательных образов представителей царской армии (интенданты и военные чиновники, командующие на постройке Бендеро-Галацкой дороги), показывает лицемерие и своекорыстие церкви и ее служителей; особенное внимание писателя привлекает среда технической интеллигенции, в которую попадает Карташев-инженер. За редкими исключениями это люди мелкой души, ограниченных запросов к жизни, больше всего заботящиеся о личном благополучии, — среди них Карташев резко выделяется своей увлеченностью работой, бескорыстием, отвращением ко всяким махинациям и беззакониям, симпатиями к простому народу.
Ему кажется, что труд, искренне увлекшее его дело переродили и обновили его, что он и по мыслям своим стал близок к Тёме-гимназисту. И тем не менее подлинного перерождения с Карташевым не произошло. Непримиримости к «неустройствам жизни», желания активно бороться с ними у Карташева нет, даже его деятельность инженера лишена больших перспектив, широких горизонтов, ему чужды смелые мечты Кольцова («Вариант»). При всей увлеченности Карташева работой она для него в известной мере и средство чувствовать себя «хорошим», не запачкаться «грязью» окружающего.
Самое сокровенное в Карташеве, суть его натуры, роль его и подобных ему в жизни проясняются, когда Гарин сталкивает его, как и в «Студентах», с представителями революционной молодежи. Мерилом для правильной оценки Карташева были в «Студентах» Иванов и Горенко, в «Инженерах» таким мерилом становится сестра Темы — революционерка Маня. Нельзя не заметить, что если в «Студентах» образы Горенко и Иванова (Иванова в особенности) при всей их идейной значимости были несколько схематичны, выступали как бы «на втором плане», то образ Мани в «Инженерах» гораздо живее, глубже, ему отведено в повести одно из главных мест, и в этой перестановке акцентов, в этом пристальном внимании писателя к образам передовой молодежи несомненно сказалось влияние на него революционной ситуации тех лет, когда создавалась повесть (1904–1906). Показывая полный крах семьи Карташевых, непрочность, эфемерность того «счастья», которого добивалась для своих детей Аглаида Васильевна, Гарин только Маню противопоставляет всем членам этой семьи. Жизнь ее освящена высокими идеалами, и поэтому в Мане много душевной силы и ясности, она не знает внутренней раздвоенности и мучительной интеллигентской рефлексии. Ни уже испытанная ею тюрьма, ни будущие, возможно еще более жестокие лишения не пугают ее. «Я лично счастлива, — говорит она, — что попала в лучшую струю человеческой жизни, и что бы меня ни ждало, я лучшего ничего не желаю».
Ясный ум Мани, непредвзятость суждений о жизни и людях позволяют ей дать меткую и безошибочную характеристику брату, которого она любит, но возможности которого не переоценивает. Майя еще резче, нежели Горенко, отзывается о Карташеве, называя его «одним из самых ужасных эгоистов», говоря, что он, если того потребуют обстоятельства, сможет «при всем своем неверии… и крест целовать» и даже «превратиться в одну из тех гадин, которые неуклонно… охраняют существующую каторгу нашей жизни». В этих словах Мани, в осознании самим Карташевым, что он бы не пошел с революционерами, даже если бы и знал, что «истина у них», так как никогда бы не смог, подобно сестре, отказаться от привычных удобств и радостей жизни, сон держится оценка писателем своего героя. Некоторый интерес Карташева к политике, к общественным проблемам, пробуждающийся у него под влиянием сестры, не может изменить основных тенденций его характера.
Трудно предугадать, как повернул бы Гарин в дальнейшем судьбу своего героя. Но тот текст, которым мы располагаем, заставляет говорить о Карташеве как о типичном представителе либеральной интеллигенции, который, если и не станет «охранителем» «каторги» современного общества, то и не будет ее разрушителем, ограничившись в лучшем случае характерной для его социальной прослойки «тихой скорбью о неудобствах и тяготах бытия, — тихой скорбью с легонькой гражданской ноткой» (М. Горький)[18].
Прослеживая во всех деталях — процесс «разобществления личности», превращения значительной части прогрессивно настроенной интеллигентной молодежи в безвольных и слабых обывателей, Гарин всей логикой событий и характеров тетралогии приводил к выводу о необходимости преобразования действительности, пересоздания жизни на таких началах, которые дадут полный простор развитию всего лучшего в человеке, сделают из него достойного работника на благо родины и народа. Именно этой широкой, гуманистический трактовкой проблем воспитания, образования, влияния среды на отдельную личность, которые занимают центральное место в тетралогии, и определяется ее значимость, ее удельный вес и место в творчестве Гарина.
* * *
Три книги тетралогии, большое количество очерков и рассказов, печатавшихся в журналах и объединенных затем в два отдельных сборника, — таков итог литературной деятельности Гарина 1892–1895 годов, итог особенно значительный, если учесть, что писатель даже на самое короткое время не прекращал практической работы инженера и своей общественной деятельности, шел по жизни «на полных парусах». В первой половине 90-х годов Гарин принимает активное участие в изысканиях по постройке Великого Сибирского пути, в его проектировке, работает над проектировкой Казанско-Малмыжской железной дороги, выступает в прессе с пропагандой преимуществ прокладки в России узкоколейных железных дорог, затрагивая в связи с этим вопросом и более общие проблемы развития в стране железнодорожного дела. Лишенные профессиональной сухости, искренние и страстные, резко враждебные по отношению ко всему косному и рутинному, статьи Гарина вызвали большой резонанс в среде технической интеллигенции, а в министерских кругах были встречены резко неприязненно. Не согласившись на требование министра путей сообщения прекратить выступления в печати, Гарин вынужден был в 1894 году на время уйти из министерства и работать по поручениям городов и земств — Казанского, Вятского, Костромского, Волынского и др.
Инженерная и сельскохозяйственная деятельность заставляла Гарина по-прежнему часто бывать в Самарской губернии и в самой Самаре, городе, сыгравшем заметную роль в распространении марксизма в России. Вторая половина 90-х годов была временем бурного промышленного развития, дальнейшего роста пролетариата. Рабочее движение приобретало массовый характер, начался третий — пролетарский — этап освободительного движения в России. Марксистские кружки получили широкое распространение и в Самаре, издавна являвшейся местом ссылки революционеров и «политически неблагонадежных»; в Самаре с весны 1889 по осень 1893 года жил В. И. Ленин, проводивший здесь большую пропагандистскую работу среди учащейся молодежи и интеллигенции. «Семена революционной марксистской теории, брошенные Владимиром Ильичем в Самаре, дали богатые плоды. В последующие годы Самара стала одним из провинциальных штабов марксизма»[19]. Гарин, пользовавшийся большой популярностью среди передовой самарской интеллигенции как прогрессивный писатель, как человек, оказывавший помощь общедемократической борьбе с самодержавием (он скрывал в своем имении политически «неблагонадежных», помогал им деньгами, устраивал на железнодорожные работы ссыльную молодежь), был близок к самарским марксистским кружкам, являлся соиздателем и пайщиком первой легальной марксистской газеты «Самарский вестник».
Демократ по убеждениям, «сторонник по возможности мирного закономерного развития жизни», Гарин в 90-е годы вряд ли постигал марксизм во всей его теоретической глубине и революционной сущности. В учении Маркса его привлекал прежде всего пафос движения вперед, пафос развертывания колоссальных творческих сил и возможностей человека, он находил в этом учении обоснование своей заветной мечты о технической реконструкции страны, широком использовании всех ее богатств, о покорении человечеством природы. «Я думаю, что он считал себя марксистом, потому что был инженером. Его привлекала активность учения Маркса… Марксов план реорганизации мира восхищал его своей широтой, будущее он представлял себе как грандиозную коллективную работу, исполняемую всей массой человечества, освобожденного от крепких пут классовой государственности»[20],— писал М. Горький, очень верно определяя корни сочувственного отношения Гарина к марксизму. Гарин не мог не тянуться к марксизму и потому, что ясно сознавал его историческую правоту по сравнению с народническими учениями, несостоятельность которых в период бурного промышленного подъема, дальнейшего развития капитализма в России делалась особенно явной.
Не случайно именно в период сближения с самарскими марксистскими кружками, давая согласие на участие в «Самарском вестнике» и на материальную поддержку его, писатель непременным условием ставил, чтобы газета выставила «свое против у народническое profession de foi»[21] (символ веры — франц.), чтобы ей «дано было возможно более ясно выраженное „материалистическое“ (марксистское) направление»[22].
Сделавшись в декабре 1896 года сотрудником и пайщиком «Самарского вестника», Гарин в начале 1897 года окончательно порывает с «Русским богатством». Народническое credo руководителей журнала никогда не разделялось писателем. Еще в 1892 году в письмах к жене писатель сравнивал Н. К. Михайловского с человеком, «который хороший сон прошлого хочет превратить в действительность, а потому… для живой пробивающейся жизни… почти оглох»[23], иронизировал над своим участием в «Русском богатстве», говоря, что сам он и сотрудники журнала приступают «со всем усердием и жаром к заготовке во веки веков неразрушающихся мумий»[24].
Вместе с тем в начале 90-х годов Гарин с уважением и симпатией относился к Н. К. Михайловскому, памятуя его былые связи с революционным народничеством, ценя его демократизм, искреннюю заинтересованность судьбой народа. Гарин видел в нем также «талантливого повара литературной кухни»[25], «европейски образованного с широким взглядом… публициста»[26] и рассчитывал, что ему вместе с Михайловским удастся выпускать такие книжки журнала, чтобы «из каждой била широкая струя живой воды… Чтобы каждая статья, каждая заметка воздействовала на умы и сердца! Чтобы прок был!»[27] Но расчеты Гарина не оправдались. Писатель справедливо возмущался «бессилием и слабостью мысли» народнических публицистов Карышева и Южакова, тем, что ничто свежее не заглядывает в «затхлый погреб» журнала, что там «поются сказки»[28], которым никто не верит, публике подаются «только подогретые блюда старой кухни»[29].
Недовольство Гарина общим духом журнала росло по мере того, как действительность все больше обнаруживала несостоятельность народнических представлений о ней, по мере того как народники все ожесточеннее воевали против молодого русского марксизма, сделав именно «Русское богатство» главной трибуной своих нападок. В пору оформившихся симпатий своих к марксизму Гарин не считал уже возможным для себя участвовать в этом журнале, окончательно превратившемся в «уважаемый исторический манускрипт»[30], совершенно не отвечавшем запросам времени. После закрытия цензурой очень недолго просуществовавшего «Самарского вестника» Гарин начал помещать свей произведения в журналах легального марксизма «Мир божий», «Начало», «Жизнь», а позднее — в 90-х годах, после сближения с телешовской «средой», с группой демократических писателей, объединившихся вокруг издательства «Знание» — в горьковских сборниках «Знание».
Близость к кругам революционной интеллигенции, прочные симпатии к марксизму, разрыв с «Русским богатством» сказались и на литературном творчестве Гарина конца 90-х — начала 900-х годов. Тематика и проблематика его произведений остаются в основном прежними, но значительно изменяется самый подход к материалу, разработка его углубляется, писатель еще острее видит и резче критикует «неустройства жизни», существующие общественные отношения.
«Художественное отображение факта уже не удовлетворяет его больше. Наблюдение и анализ уступают место прямому обличению, памфлету и призыву»[31], произведения писателя проникнуты ощущением сложности и противоречивости жизни, настойчивым стремлением разобраться в этих противоречиях, найти путь к их разрешению. Творческое credo писателя, его взгляд на задачи искусства находят в эту пору свое прямое выражение в сказке-аллегории «Новые звуки» (1897), в аллегорическом рассказе «Художник» (1897). Гарин прямо заявляет здесь, что искусство должно быть достоянием народа, служить ему, что цель искусства — не усыплять, а «будить душу», «на борьбу вызывать», что в нем должны звучать «слезы, стоны, презренье, ненависть, проклятье». С этих идейно-эстетических позиций и подходит писатель к изображению тех или иных привлекающих его внимание сторон действительности.
Решительно отмежевавшись даже от чисто внешних связей с народничеством, Гарин и теперь продолжает свою давнюю полемику с ними, полемику, отнюдь не утратившую своего смысла и потому, что народничество не было еще окончательно разбито, хотя позиции его в борьбе с марксизмом значительно пошатнулись, и потому, что прямыми наследниками и продолжателями «ветхого завета либерально-народнической мудрости»[32], идейными противниками марксизма выступили уже в самом начале 900-х годов эсеры. По-прежнему обращаясь к «правде факта», лично наблюденному, пережитому, писатель прослеживает дальнейший ход социально-экономических процессов в деревне: пролетаризацию крестьянства, его классовое расслоение. В поле зрения писателя попадает не только деревня средней полосы России, давно уже втянутая в русло капитализации, но и крестьянство таких глухих уголков страны, как Волынь, Керженец, находящихся, по словам Гарина, в «идеальных условиях опрощения» и тем не менее не избежавших общих для всей страны путей развития. «Железным кольцом» охватили немцы-колонисты Полесье на Волыни, где совсем недавно существовал еще общинный строй, натуральное безденежное хозяйство, скупили земли, вынудили аборигенов края — полещуков — идти на фабрики («Картинки Волыни», 1897); «горе-горькое» обитает в керженской деревушке, одной из тех, которые воспел в своих «чудных сказках» Мельников-Печерский, кондового, «крепкого» мужика тут нет и в помине, сыт и доволен один только «сильный, денежный человек» Парфений Егорыч («Мои скитания», 1898); жалкое существование влачат крестьяне-кустари, чьи попытки уберечь себя от голодной смерти, удержаться на поверхности жизни — только «суета бескорыстная»: «нужда лезет во все щели и вконец обесцененною работой не заткнуть этих щелей» («На ночлеге», 1898). Чувство страха, беззащитности перед неизбежными «роковыми» обстоятельствами, нарушающими старый, привычный уклад жизни, характерно для большинства героев из народа в очерках и рассказах Гарина второй половины 90-х и начала 900-х годов. Это ощущение сложности жизни, независимости ее хода от чьих-либо личных желаний и намерений свойственно и самому писателю. Однако сознание многообразия, противоречивости совершающихся социальных и экономических процессов еще более укрепляет его в плодотворной мысли о необходимости изучать объективные законы исторического развития, ибо только знание этих законов избавит человека от роли пассивного наблюдателя, сделает его активным, сознательным участником совершающихся событий.
Плач по уходящему, бесплодные старания вернуть «вчерашний день» чужды Гарину. В этой связи понятно и резко отрицательное отношение его ко всяким, даже чисто теоретическим попыткам доказать возможность «по-править» жизнь народа возвращением его к изжившему себя социальному укладу.
Обличением косности, реакционности патриархальных деревенских «устоев», до предела ограничивающих личную свободу крестьянина, приковывающих его к «пустому стойлу» нищенского хозяйства, проникнуты пьеса Гарина «Деревенская драма» (1903; сюжет ее намечен в последней главе очерков «В сутолоке провинциальной жизни») и рассказ «Волк» (1903).
Рассказ этот особенно силен своей активной ненавистью к обветшавшим формам общественного устройства, в нем слышатся те «будящие душу слезы и стоны», которых требовал Гарин от искусства. Жизнь героя рассказа — крестьянина Петра — безжалостно исковеркана общиной, в которой царит «азиатское надругательство над личностью»[33]. Оттого так страстно и гневно обвиняет крестьянин «мир» в своем споре с интеллигентом-народником, защищающим общину. Петр полон решимости доказать свою правоту «власть имущим» — только смерть прекращает его упорные поиски «правды-истины». В мятущейся натуре Петра как бы сконцентрирована извечная тяга народа к социальной справедливости, которую Гарин отмечал еще в своих произведениях о деревне первой половины 90-х годов.
Народ еще напряженнее, чем прежде, ждет каких-то «справедливых перемен», приезд любого незнакомого человека в деревню «русскую, татарскую, польскую, малороссийскую» влечет за собой слухи о выгодных для крестьянства новшествах, о земле, которую будут «отбирать у панов». И с тем большим критицизмом относится писатель к представителям социальных «верхов», не способных помочь народу, не могущих облегчить его существования. С уничтожающей иронией рисует Гарин в рассказе «Волк» редактора-народника, закрывающего глаза на факты действительности, рассматривающего деревню и мужика с точки зрения абстрактной книжной мудрости.
Еще резче, в гротесковых тонах изображено дворянское общество — «опора страны и трона» — в очерках «В сутолоке провинциальной жизни» (1900); полуироническая, полуснисходительная улыбка над «последышами» дворянского*сословия, еще свойственная иногда Гарину в начале 90-х годов, сменяется в этих очерках издевательским, сатирическим смехом. Уездное дворянство в изображении писателя — «заскорузлые деревенские медведи», чуждающиеся всяких новшеств, живущие по заветам дедовских времен, нередко воскрешающие в своем обиходе нравы и обычаи крепостничества. Мало отличается от этих захолустных монстров и «просвещенное» губернское дворянство — циники, пошляки, карьеристы, занятые мелкими сплетнями и дрязгами, смешные своими претензиями на светскость и образованность, отвратительные своим паразитизмом, презрительным отношением к «мужику», на шее которого они сидят.
Разлагающемуся, паразитирующему на теле народа дворянству противопоставлена в этих очерках самоотверженно работающая на благо народа демократическая интеллигенция, представленная образами учителя Писемского, учительницы Татьяны Васильевны, агронома Лихушина, доктора Колпина и др. Писатель по-прежнему искренно расположен к честным интеллигентным труженикам, однако он гораздо более скептически, чем раньше, смотрит на их возможности в деле общественного прогресса. Гарин не ищет еще положительного героя в рядах пролетариата. Однако у него нет и прежней уверенности в том, что сравнительно немногочисленный отряд демократической интеллигенции, рядовых культурных работников может играть главную роль в преодолении все обостряющихся социальных противоречий, в переустройстве жизни на новых началах. Эти сомнения, этот скептицизм сказываются и в том, что образы передовой интеллигенции занимают сравнительно небольшое место в произведениях Гарина конца 90-х — начала 900-х годов, и в том, что образы эти лишены того ореола, которым окружал их писатель в своих ранних рассказах и очерках, и в том, наконец, что основной акцент писатель делает уже не на них, а на критическом изображении отрицательных сторон буржуазно-интеллигентского общества с его ханжеской моралью, взаимоотношениями людей, основанными на неправде и лицемерии. Именно с критикой современного общества связано постоянное обращение Гарина к теме семьи, к теме женской и детской судьбы, общественной нравственности. Семья, по Гарину, это основная ячейка общества, и потому все социальные неустройства и неполадки неизбежно сказываются на отношениях супругов, на положении женщины, на воспитании и развитии ребенка.
Красной нитью проходит через рассказы и очерки Гарина мысль о том, что «без свободной женщины — мы вечные рабы, подлые гнусные рабы, со всеми пороками рабов», что «только свободная женщина… может дать свободного и свободолюбивого гражданина». Сознавая эту высокую миссию женщины-матери, воспитательницы молодого поколения, от морального и духовного облика которого зависит будущее, Гарин обрушивается на устроителей и охранителей современного общества, обрекающих женщину на роль пассивного, бесправного существа. У женщины отнято право на общественную деятельность, право самостоятельно решать свою судьбу, судьбу своих детей, и этим «уничтожением выходов создаются тяжкие преступления».
Осуждением общественных предрассудков, фарисейских представлений о «морали» проникнута драма Гарина «Орхидея» (1898). Как и другие драматические произведения писателя («Деревенская драма», «Подростки»), эта пьеса слаба в сценическом отношении: она статична, мало сюжетна, характеры ее героев раскрываются не в острых драматических коллизиях, а по преимуществу в монологах, самохарактеристиках. При всех этих недостатках «Орхидея» интересна своей идейной направленностью, обличительными тенденциями. У героини пьесы, Натальи Алексеевны Рославлевой, много общего с женщинами из повести «Клотильда» (1899), рассказов «Встреча», «Правда» (1901). Хотя у каждой из них своя, особая судьба, их объединяет то, что все они растоптаны обществом, потому что хотели большего и лучшего, чем оно давало им, претендовали на свободу чувства, свободу устраивать свою жизнь. Протестом, хотя и бесплодным, пассивным, являются самоубийства Натальи Алексеевны Рославлевой в драме «Орхидея» и героини рассказа «Правда». Последняя гибнет со страшным сознанием, что судьба ее детей находится в руках мужа, циника и пошляка, что они вырастут такими же «палачами», как и он, будут наделены пороками тех, кто создает и поддерживает весь этот «ад жизни».
Именно в связи с этими вопросами общественной морали, обусловленной всем современным социально-политическим строем жизни, и освещается писателем тема детства. Обилием «грустных детей», «озабоченных детей», не знающих счастья и в лучшую пору детства, поражает Гарина окружающая действительность. Страшны нищета и лишения, в которых вынуждены жить сотни и тысячи детей бедняков, раздетые, разутые, не имеющие возможности поесть досыта («Наташа», 1901), но не менее страшна и та беспощадность, та холодная жестокость, которые проявляет общество по отношению к ребенку, имевшему несчастье своим появлением на свет преступить границы общественных приличий и условностей. В этом плане особенно интересен рассказ Гарина «Дворец Дима» (1899), в котором трагедия детской души передана писателем необычайно тонко и проникновенно. Вся «вина» героя рассказа маленького калеки Дима в том, что он — «незаконнорожденный», и люди безжалостно дают почувствовать ему его «неполноценность». Детям соседних дач не разрешают играть с Димом, его лишают возможности познакомиться с его сводными братьями и сестрами, о существовании которых сообщает мальчику тайком кучер Егор. Ребенок полон горестного недоумения, ему трудно понять, за что отвергают его люди. Умирая, Дим мечтает о лучезарном дворце, где уже не будет тяжелых запретов и стеснений, где он станет равным среди своих сверстников. Страстной ненавистью, презрением, гневом звучат слова автора о «лживых и злобствующих лицемерах», «суетных палачах, буквой учения калечащих и убивающих душу живую». И насколько достойнее и человечнее, нежели интеллигентные мучители Дима, ведут себя в рассказе. «Счастливый день» (1898) простые люди из народа — Анна и Андрей Суровцевы, удочеряющие неизвестную, по-видимому, тоже «прижитую» на стороне девочку женщины-бродяжки. Происхождение «богоданной» дочки мало беспокоит их, — ребенок вносит в небогатую хату радость и счастье, которые разделяют с супругами и их друзья, «весь базар».
Характерно, что выразителем своих взглядов на взаимоотношения людей, на фальшь общественных отношений Гарин делает и во «Дворце Дима» человека из народа — кучера Егора, утверждающего, что «не умирать страшно, а жить», что «люди собак злее… Собака маленького щенка никогда не тронет, а его, Дима, свои же кровные гонят». Устами Егора говорит как бы весь простой народ, который по своим моральным качествам, по своим взглядам на жизнь гораздо честнее, справедливее, порядочнее, нежели представители привилегированных слоев общества. Симпатии Гарина к трудовому люду с наибольшей четкостью проявляются именно теперь, когда особенно явственными и ненавистными делаются для него ложь и фальшь тех, кто стоит над народом.
Эти симпатии сказываются не только в пристальном внимании Гарина к жизни русского крестьянства, его думам и чаяниям, но и в глубоком интересе к жизни национальных меньшинств России, будь то жители еврейской черты оседлости, обитатели чувашской или татарской деревни, или народности самых далеких окраин страны.
Ни тени безразличного этнографизма и тем более высокомерного великодержавного шовинизма нет в произведениях Гарина, в которых так или иначе затрагивается вопрос о нерусских народностях России. Писатель всегда стремится заметить лучшее, что характеризует представителей нацменьшинств, живущих в условиях еще более трудных, нежели широкие массы русского народа. В чувашском народе Гарина восхищает жизнестойкость, жизнелюбие, умение сохранить в неприкосновенности особенности своей самобытной национальной культуры («В сутолоке провинциальной жизни»); в обитателях дальнего севера — остяках и ненцах, — в монгольских и бурятских племенах, кочующих по степям Сибири, он отмечает мужество, выносливость, воспитанные борьбой с суровой природой, исключительную честность; в еврейском населении, подвергавшемся особенно жестоким преследованиям царских властей, Гарина привлекает талантливость, одаренность («Гений», 1901), он старается рассеять укоренившиеся среди малосознательной части русского народа предрассудки относительно алчности, корыстолюбия, нечестности евреев («Картинки Волыни»).
Неослабевающим интересом к чужому, мало знакомому, подчас непонятному строю жизни, уважением к национальной самобытности, национальной культуре нерусских народов проникнуты и путевые очерки Гарина «По Корее, Маньчжурии и Ляодуньскому полуострову», написанные по впечатлениям кругосветного путешествия, совершенного писателем в 1898 году после окончания работ по строительству Кротовко-Сергиевской железной дороги. Маршрут путешествия, предпринятого «для отдыха», предусматривал посещение Китая, Японии, Гавайских островов, плавание по Тихому океану, посещение Соединенных Штатов Америки и возвращение по Атлантическому океану в Европу, а оттуда домой — в Россию. Гарин не предполагал надолго задерживаться в Корее и Маньчжурии, но уже перед самым отъездом из Петербурга он принял предложение Петербургского географического общества участвовать в работе экспедиции по изучению географии Кореи, Маньчжурии и восточного побережья Ляодуньского полуострова до Порт-Артура, исследованию здесь сухопутных и водных путей сообщения. Результаты научных изысканий экспедиции были опубликованы в специальных трудах в 1898 и 1901 годах, свои же личные впечатления Гарин передал в ряде очерков «Карандашом с натуры», печатавшихся в журнале «Мир божий» за 1899 год и вышедших отдельной книгой «По Корее, Маньчжурии и Ляодуньскому полуострову» в 1904 году в издательстве «Знание».
Как и все принадлежащее перу Гарина, эта книга очерков совершенно лишена сухости, кабинетной учености, хотя нередко речь в ней заходит и о предметах сугубо специальных, она написана живым, эмоциональным языком, полна великолепных пейзажей и бытовых зарисовок, интереснейшего этнографического материала. Со страниц путевых очерков встает привлекательный образ самого автора, человека смелого, энергичного, любознательного, сохраняющего присутствие духа в самых опасных ситуациях, стремящегося понять и по достоинству оценить все то новое, необычное, что встречается ему на пути. Самостоятельность мышления, недоверие к догмам, общепринятым, условным представлениям о вещах и явлениях, всегда характерные для Гарина, сказываются и в его суждениях о жизни китайского и корейского народов. Основываясь на своих личных наблюдениях, писатель опровергает распространявшуюся западными и русскими империалистами-колонизаторами версию о «неполноценности желтой расы», о ее якобы физическом и умственном вырождении, обрекающем население Кореи и Китая на вечное рабство, подчинение более сильным «высшим» расам и нациям. Интересно в этой связи неприятие Гариным многого в творчестве Киплинга, талантливость которого он признавал, но в котором его возмущали «узко буржуазные нетерпимость и шовинизм» (очерк «В Тихом океане», 1902). Несостоятельность изречения этого певца английского колониализма: «Запад есть Запад, Восток есть Восток…», поднятого на щит международным империализмом в оправдание своей экспансионистской политики, очевидна для Гарина, близко соприкоснувшегося с жизнью населения Кореи и Китая.
В этой жизни есть много отрицательного, неприятно поражающего писателя: культурная и экономическая отсталость, застой мысли, нелепые и вредные, сохраняющиеся с незапамятных времен суеверия и предрассудки, заметная пассивность народа по отношению к социальному злу, воспитанная веками тяжкого внешнего и внутреннего угнетения. Многочисленные явления этого плана не всегда находят у Гарина достаточно правильное объяснение, иной раз он ограничивается лишь констатацией фактов, никак не поясняя их и тем самым снижая познавательную ценность своих путевых записей. Однако чаще всего недостатки экономической и общественной жизни Кореи и Китая справедливо связываются писателем с «произволом… экономическим…. произволом государственным… религиозным уродством», беззастенчивым и наглым хозяйничаньем иностранных колонизаторов. С тем большим уважением относится Гарин к народу, сумевшему и в этих условиях сохранить высокие моральные и интеллектуальные качества. Древняя богатая культура, «стремление не только к прочному, но и красивому, даже изящному» особенно поражают писателя в Китае, где он видит красивые постройки, замечательные по своему изяществу изделия из камня, слоновой кости, великолепные ткани, сработанные умелыми руками простых тружеников. Исключительное трудолюбие, энергия, дух товарищества и взаимной поддержки, отличающие китайский народ, — залог будущего расцвета нации. И пророчески звучат слова писателя: «Китайцы обещают при их любви к труду и энергии очень много», Богатые потенциальные возможности видит Гарин и в корейском народе, среди которого ему пришлось жить в течение довольно длительного времени. Писатель «не устает перечислять достоинства кротких людей этой нации» — их интеллектуальную одаренность, миролюбие, бескорыстие, честность, гостеприимство, любовь к детям, уважение к женщине. Тяжелый гнет со стороны и своих правителей и китайской администрации, постоянная угроза экспансии со стороны китайских феодалов и японских захватчиков не могут подавить в корейском народе тяги к новому, ростков, пусть пока и слабых, недовольства существующим порядком вещей. «Иначе надо жить: бросить старое платье… веру старую бросить», — такими настроениями охвачены многие из жителей Кореи.
Думы и чаяния корейцев, их моральный облик раскрываются и в корейском фольклоре, тех сказаниях и легендах, которые слушал писатель «по вечерам, после гостеприимного ужина, во время отдыха на перевалах». Лаконичные, простые по форме, эти сказки прославляют прежде всего бескорыстных и честных тружеников, труд и служение родине рассматриваются в них как лучшие, украшающие человека качества. В сказках высмеиваются, изображаются в самом невыгодном свете угнетатели народа: правители, министры, бонзы, жадные, корыстолюбивые чиновники, в них звучит постоянная мечта народа о свободной, счастливой жизни, наступление которой прямо связывается с необходимостью избавиться от негодных властителей. Корейские сказки, как и путевые записки Гарина, знакомили русского читателя с жизнью и бытом одного из ближайших восточных соседей России способствовали укреплению дружеских чувств русского народа к народу Кореи.
К путевым записям о Корее и Маньчжурии непосредственно примыкают очерки Гарина «Вокруг света», «В Тихом океане», написанные в 1902 году и опубликованные только посмертно. В них переданы впечатления писателя от пребывания его в Соединенных Штатах Америки и в странах Европы. Острота восприятия, глубина мышления, непредвзятость суждений и, как результат этого, обобщения, поражающие подчас своей правильностью даже с точки зрения сегодняшнего дня, — характерны для гаринских очерков кругосветного путешествия.
Крупнейшим капиталистическим государством, которое посетил Гарин после пребывания на Востоке, были Соединенные Штаты. По сравнению с царской Россией, крайне отсталой в экономическом отношении, все еще сохранявшей в своем общественно-политическом устройстве пережитки крепостничества, многое здесь привлекало Гарина, общественного деятеля, убежденного демократа, горячего пропагандиста технического прогресса. Гарин с восхищением пишет о высоком развитии производительных сил Америки, о ее мощной технике, о поощрении здесь творческой мысли и инициативы, о деловитости, энергии и трудолюбии американцев, о некоторых демократических свободах, в частности о самостоятельности и равноправии женщин. Но в то же время писатель подвергает резкой критике пресловутый, сложившийся уже в конце прошлого века «американский образ жизни», тот дух наживы, безудержного накопительства, которому подчиняется все и вся в Америке, который накладывает неизгладимую печать на все области жизни, на самый темп ее, на моральный и духовный облик американского общества и прежде всего верхушки его — денежной аристократии. Гарина поражает узость кругозора «деловых людей», отсутствие у них подлинного вкуса к искусству, поэзии, философии, неспособность создать что-нибудь значительное и оригинальное в этой области, преклонение перед одним только «туго набитым карманом», тупое самодовольство, презрение ко всему неамериканскому, спокойная и страшная убежденность в своем праве подчинять более слабые страны и народы во имя «интересов Америки». Еще в конце прошлого века Гарин сумел разглядеть экспансионистские, захватнические устремления американских империалистических кругов, превращение демократической Америки в Америку реакционную, «Америку для американцев», цинично заявляющую о необходимости для нее колоний и рынков, которые, «если нельзя найти мирно», то «надо завоевать».
«Интересы коммерческие, узконациональные» типичны не только для «деловых людей» Соединенных Штатов, они преобладают и среди английских дельцов, в общество которых попадает Гарин, возвращаясь пароходом в Европу. Все разговоры пассажиров — только о войне, о превосходстве одной нации над другой, о захвате чужих территорий. «Все это общество, несмотря на то, что между ними были и ученые, и люди пера, производило сильное впечатление самодовольных до пошлости, чем-то обиженных людей».
Под впечатлением от этих встреч Гарин отказывается от своего намерения посетить Лондон. Однако и Париж, где писатель побывал, возвращаясь на родину, произвел на него тягостное впечатление царящим там унынием, растерянностью, какой-то «опущенностью». Подобные настроения воспринимаются писателем как симптом надвигающейся гибели «старого буржуазного строя», который уже невозможно оздоровить «какими-нибудь паллиативами», который должен будет уступить место новой жизни, построенной на новых началах.
Вернувшись из кругосветного путешествия, Гарин на некоторое время вновь занялся сельским хозяйством, предприняв неудачную попытку выращивания дорогостоящих и сравнительно мало распространенных в то время культур — чечевицы, мака, подсолнуха. Предприятие кончилось крахом, имение писателя было продано за долги, он вновь поступил на службу и весной 1903 года уехал в Крым на строительство Южнобережной железной дороги. Живя в имении и затем переехав в Крым, Гарин часто бывает в Москве и Петербурге, по-прежнему принимая активное участие в общественной жизни страны.
В годы назревания первой русской революции писатель находился в русле той общедемократической борьбы пролетариата против самодержавия, которая захватила самые широкие слои населения России. Гарин скрывает в своем имении преследуемых царским правительством революционеров; у него хранится нелегальная литература, среди которой — начавшая издаваться в 1900 году за границей ленинская «Искра». Вместе с передовыми общественными деятелями и литераторами (М. Горький, Н. Телешов и др.) Гарин подписал протест против разгона и избиения студенческой демонстрации на Казанской площади в Петербурге 4 марта 1901 года и подвергся из-за этого административной высылке из столицы.
Большое влияние на умонастроения и политические симпатии Гарина оказало в последние предреволюционные годы сближение с М. Горьким. Гарин познакомился с Горьким еще в середине 90-х годов в Самаре, где Горький сотрудничал в «Самарской газете» и где они встречались в кружках передовой интеллигенции, в доме судебного следователя Я. Л. Тейтеля, но встречались «всегда наскоро». Более близкое знакомство произошло в самом конце 90-х годов, когда Гарин, приезжая в Москву, стал частым посетителем телешовских «сред».
Горький пристально следил за творчеством Гарина еще со времени появления в печати очерков «Несколько лет в деревне», оно было близко ему своим глубоким демократизмом, уважением к человеку-труженику, человеку-творцу, страстным протестом против всякого насилия над человеческой личностью, непримиримостью ко всему, что мешает общественному прогрессу, верой в счастливое будущее своей страны и народа. Произведения Гарина принадлежали, по мысли Горького, именно к той «легальной, но честной литературе», которая в годы революционного подъема могла сыграть «большую мобилизующую роль» в пробуждении общественного сознания пролетариата. Такой литературе и хотел открыть широкий путь Горький, возглавив, начиная с 1900 года, книгоиздательство «Знание» и объединив вокруг него большую группу прогрессивных демократических писателей, — это и побудило Горького пригласить Гарина сотрудничать в сборниках «Знания», выпустить в издательстве «Знание» ряд ранее написанных Гариным произведений («Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», очерки путешествия по Корее и Маньчжурии, «Корейские сказки»), приступить к изданию (в 1906 году) собрания его сочинений.
Гарина в свою очередь не могла не привлекать замечательная личность «буревестника революции», его выдающаяся роль в общественном и литературном движении, его яркие, проникнутые революционным пафосом произведения, в которых ставились насущные проблемы современности, волновавшие и самого Гарина. Одной из таких проблем был вопрос о положительном герое, решенный Горьким уже в начале 900-х годов в плане признания главным деятелем истории, борцом за создание нового общества революционного пролетариата, противопоставляемого разлагающемуся, обреченному на гибель классу буржуазии.
Несомненно, что идейным влиянием Горького в значительной степени объяснялся и возросший интерес Гарина к пролетариату и его гораздо более скептическое, критическое, чем в 90-е годы, отношение к русской буржуазии. Гарин никогда не идеализировал ее. Во многих своих произведениях из крестьянской жизни он разоблачал мелкую сельскую буржуазию. Однако писатель обычно акцентировал прогрессивную роль крупной промышленной буржуазии в развитии производительных сил и экономики страны, с ростом которых «придет и все остальное». Теперь, в канун первой русской революции, в годы сближения с Горьким, Гарин пристальнее всматривается в то отрицательное, что характеризует класс буржуазии в целом, подчеркивает ее физическое и моральное вырождение, ее антигуманистическую сущность.
Горьковским пафосом разоблачения капитализма проникнут рассказ Гарина «Бабушка» (1904), показывающий страшную власть капитала над теми, кто им владеет. Героиня рассказа — Анфиса Сидоровна — умная, властная старуха, владелица крупных кожевенных предприятий, многими чертами напоминает Вассу Железнову. Подобно горьковской героине, «бабушка» видит цель своей жизни в непрестанном расширении своих коммерческих предприятий, в приумножении капитала, и этой целью определяются все ее поступки, отношение к домашним, к людям вообще. Анфиса Сидоровна разлучает своего внука Федю с любимой девушкой, находит ему богатую невесту, которая приносит в дом большое состояние; во имя этого же «дела» бабушка толкает на: «грех» и жену Феди, так как дому нужен «наследник». «Все в жертву идолу: свою честь, честь семьи, счастье внука… Фирма поработила своих владельцев, как поработила она тысячи рабочих людей»[34],— писал А. В. Луначарский, давая высокую оценку гаринскому рассказу.
Параллельно и почти одновременно с рассказом «Бабушка», содержащим резкую критику буржуазии, Гарин создает рассказ «На практике» (1903), отражающий дальнейшие поиски им социальных сил, способных переустроить действительность.
Если в начале и середине 90-х годов писатель искал положительного героя в среде демократической интеллигенции, видел его в честных и скромных тружениках, работающих на благо народа, если в конце 90-х годов жизнь заставила его усомниться в силах и возможностях этой интеллигенции, то теперь, сблизившись с Горьким, наблюдая за развертывающейся борьбой пролетариата, Гарин стремится по достоинству оценить возможности этого класса и перспективы, перед ним открывающиеся. В рассказе «На практике» Гарин создает образ рабочего-машиниста Григорьева. Отличаясь от пролетариев-революционеров произведений Горького, уже обретших цель жизни в борьбе с существующим социальным строем, герой рассказа Гарина вместе с тем не похож и на тех тупых, задавленных непосильной работой, лишенных всяких духовных интересов рабочих, образы которых встречались в произведениях Куприна, Л. Андреева и некоторых других писателей-демократов. Григорьев в рассказе Гарина — мыслящий, сознающий свое человеческое достоинство работник, интеллектуально развитый человек, — наделенный высокими моральными качествами, страстно любящий свою нелегкую профессию, вкладывающий в работу всю душу. Эта последняя черта особенно дорога для писателя, в представлении которого настоящий человек должен быть прежде всего тружеником, творцом, создателем каких-то материальных или духовных ценностей.
Помимо Григорьева, в рассказе «На практике» изображены и другие рабочие, кочегары и машинисты, — они не индивидуализированы, но ко всем им писатель относится с уважением и симпатией. Эти люди — представители огромной армии труда, с подвигами которой, по словам Гарина, не могут сравниться подвиги обычных армий и обычных героев. И тем возмутительнее кажутся писателю бесправие и чудовищная эксплуатация, которой подвергаются рабочие при существующем общественном устройстве и против которой они уже начинают поднимать свой голос.
Было бы преждевременно видеть в рассказах «На практике» и «Бабушка», дающих полярное по своим акцентам изображение буржуазии и пролетариата (нравственно-психологический распад представителей класса буржуазии; высокие моральные и духовные качества рабочих), свидетельство того, что накануне революции Гарин полностью осознал революционную роль рабочего класса, понял, что будущее принадлежит ему, что именно он скажет новое слово в истории. Несомненно, однако, что, стремясь проникнуть в объективные законы исторического развития, Гарин пошел по правильному пути. Последующее развитие революционных событий и активное участие в них Гарина еще более укрепили его на этих позициях.
В апреле 1904 года, вскоре после начала русско-японской войны, Гарин уезжает в Маньчжурию. Ему было поручено проведение железной дороги в районе Сеула, одновременно он взял на себя и обязанности военного корреспондента газеты «Новости дня». Корреспондентская работа стала основной для писателя во всё время пребывания его на фронте — от постройки железной дороги пришлось отказаться в связи с неудачами и отступлениями русских войск. Многочисленные заметки, писавшиеся почти ежедневно с апреля по октябрь 1904 года, печатались в «Новостях дня», составив впоследствии отдельную книгу «Дневник во время войны».
«Я беру на себя большую ответственность перед читателем: быть правдивым», — так определял Гарин свою задачу корреспондента, и это стремление быть предельно искренним в «освещении интереснейших событий нашей эпохи» во многом определило характер его заметок о войне.
Гарин недостаточно хорошо разбирался в истинном смысле и причинах русско-японской войны, нередко ошибался в оценке военных деятелей (Стессель, Куропаткин и др.), поначалу был склонен верить официальным версиям о военной мощи России, о победоносном «мире в Токио»; ссылаясь на свою некомпетентность в военном деле, он отказывался от каких-либо обобщений и выводов, связанных с теми или иными боевыми операциями, с общим ходом военных действий. И все-таки именно в силу своей непредвзятости Гарин отразил в своих корреспонденциях многое из того, чем характеризовалась «преступная колониальная авантюра самодержавия»[35]. Ряд фактов, сведения о которых получались писателем непосредственно из «первых рук» и приводились им в заметках, говорил о слабости и неподготовленности русской армии, ее несостоятельности перед лицом располагавшего прекрасно обученными кадрами и передовой техникой противника, о настроениях солдатской массы, имевших очень мало общего с Тем стремлением «биться до победного конца», о котором писала официальная пресса. Гарин сумел подметить чуждость войны интересам народа, и не только русского, но и китайского, которому кровавая бойня, развязанная иностранными хищниками на его земле, принесла особенно много бед и разрушений.
Корреспонденции Гарина заметно выделялись из общего потока «ура-патриотических», проникнутых «шапкозакидательскими» настроениями писаний, заполнявших официальную прессу, и лучшим свидетельством их антивоенной направленности были те цензурные рогатки, которые, по словам биографа писателя, П. Быкова, ставились ему «чуть не на каждом шагу»[36].
Гарин пробыл в Маньчжурии свыше двух лет (если не считать его кратковременного приезда в Петербург летом 1905 года); революция 1905 года застала его вдали от родины. Однако он внимательно следил за разворачивающимися там событиями, приветствовал их, радуясь тому, что «дожил до свободной России», старался сам принимать участие в «обновлении жизни России»[37], помочь торжеству революции. По воспоминаниям жены писателя Н. В. Михайловской, во время пребывания в Маньчжурии он вел в 1905 году нелегальную работу по распространению в армии большевистской литературы[38]; в декабре 1905 года Гарин сообщал жене, что находится «в рядах передовых» — выбран в Харбинский комитет и принимает в нем «деятельное участие в строго с.-д. духе»; в этом же письме он советовал ей не удерживать от участия в революционной деятельности и детей, просил сына Сергея посетить Горького и через него взять поручения по оказанию помощи социал-демократической партии. «За детей не бойся, — убеждал Гарин жену. — Мы живем в такое смутное время, и вопрос не в том, сколько прожить, а как прожить»[39].
В дни революции 1905 года писатель стремился еще более четко определить свои идейные позиции, разобраться в деятельности различных политических партий.
В одном из писем к сыну Таре он формулировал свои симпатии к социал-демократической партии. «С.-д., — писал Гарин, — на основании экономических учений приходят к строго научному выводу о неизбежности эволюции жизни и достижения конечной цели — торжества труда над капиталом.
Научность постановки вопроса и наметка путей для достижения земного рая имеет громадное значение, и результаты налицо. А именно: это учение в период своего сорокалетнего существования уже дало сорганизованную армию в несколько десятков миллионов рабочих. Сорганизованную, следовательно, самосознающую. Этого самосознания и связанной с ним организации до сего времени не было в мире. Но всегда были голодные и рабы. И хотя от поры до времени они и потрясали мир своими громами (Пугачевы, Разины, крестьянские войны во Франции, Гракхи в Риме и сама Великая французская революция), но все это в конце концов сводилось только к вящему торжеству все того же господствующего имущественного класса.
И только с учением Маркса, с точным выводом законов жизни, явилась возможность не терять на ветер приобретенного, знать чего хочешь…»[40]
Правда, в этом же письме Гарин высказывает мысль о возможности победы пролетариата над господствующими классами путем парламентской борьбы, приводя пример большого влияния в германском парламенте депутатов рабочей социал-демократической партии. Но самый факт признания пролетариата основным деятелем истории, а противоречия между трудом и капиталом главным противоречием современности свидетельствовал о новом значительном сдвиге в мировоззрении писателя, обусловленном пристальным вниманием к революционным событиям, деятельным участием в них на стороне социал-демократической партии.
Гарин вернулся в Россию в сентябре 1906 года, когда революция уже шла на убыль, царизм торжествовал победу, многие представители буржуазно-либеральной и буржуазно-демократической, в том числе и писательской, интеллигенции отходили от революции, отказывались от тех прогрессивных позиций, которые занимали в период революционного подъема. Гарин не поддался этим упадочническим, ренегатским настроениям, остался верен своим передовым демократическим убеждениям. Он продолжал оказывать материальную помощь социал-демократической партии, отдав, по свидетельству Горького и Куприна, незадолго до своей смерти крупную сумму на ее нужды[41], его последние произведения проникнуты сочувствием к революционному движению и его участникам. В неопубликованном наброске «Казнь»[42] Гарин восхищался мужеством приговоренного к смерти юноши-революционера, который перед страшным концом остается верен своим убеждениям, отказывается от покаяния, с гневными словами обращается к священнику, называя его представителем «небольшой партии, которая грабит, убивает и благословляет вот этим крестом».
Образы героической молодежи выведены и в драматическом этюде «Подростки» (1906), опубликованном посмертно. Персонажей пьесы — юношей-гимназистов — занимают вопросы современной политики, идеологии, они знакомы с произведениями Маркса и горячо обсуждают их, стремятся найти правильные пути борьбы с существующим режимом, критически относятся к эсеровским методам индивидуального террора. Конец пьесы трагичен, но не пессимистичен. Арестовывают гимназиста Гарю, ему грозит смерть, но на свободе остаются его друзья, его братья, та новая, воспитанная в годы революции молодежь, которая не смутится духом, не согнется перед бурей, не откажется от своего дела.
Пьеса «Подростки» была прочитана писателем 27 ноября 1906 года на редакционном совещании большевистского журнала «Вестник жизни», членом редакции которого он состоял. На этом совещании Гарин и скончался от паралича сердца, скончался в расцвете творческих сил.
«Счастливейшая страна Россия! Сколько интересной работы в ней, сколько волшебных возможностей, сложнейших задач! Никогда никому не завидовал, но завидую людям будущего, тем, кто будет жить лет через тридцать, сорок после нас»[43], - говорил Гарин Горькому при последней встрече с ним. Писателю не удалось увидеть этого будущего, но всей своей напряженкой и многогранной деятельностью на благо родины, всем своим творчеством, непримиримым к злу и неправде, гуманным, жизнеутверждающим, смелым он способствовал его приближению.
Этим был и будет дорог и близок Н. Г. Гарин-Михайловский, человек и писатель, своим современникам, своим потомкам.
Детство Тёмы*
Из семейной хроники
I Неудачный день
Маленький восьмилетний Тёма стоял над сломанным цветком и с ужасом вдумывался в безвыходность своего положения.
Всего несколько минут тому назад, как он, проснувшись, помолился богу, напился чаю, причем съел с аппетитом два куска хлеба с маслом, одним словом — добросовестным образом исполнивши все лежавшие на нем обязанности, вышел через террасу в сад в самом веселом, беззаботном расположении духа. В саду так хорошо было.
Он шел по аккуратно расчищенным дорожкам сада, вдыхая в себя свежесть начинающегося летнего утра, и с наслаждением осматривался.
Вдруг… Его сердце от радости и наслаждения сильно забилось… Любимый папин цветок, над которым он столько возился, наконец расцвел! Еще вчера папа внимательно его осматривал и сказал, что раньше недели не будет цвести. И что это за раскошный, что это за прелестный цветок! Никогда никто, конечно, подобного не видал. Папа говорит, что когда гер Готлиб (главный садовник ботанического сада) увидит, то у него слюнки потекут. Но самое большое счастье во всем этом, конечно, то, что никто другой, а именно он, Тёма, первый увидел, что цветок расцвел. Он вбежит в столовую и крикнет во все горло:
— Махровый расцвел!
Папа бросит чай и с чубуком в руках, в своем военном виц-мундире, сейчас же пройдет в сад. Он, Тёма, будет бежать впереди и беспрестанно оглядываться: радуется ли папа?
Папа, наверное, сейчас же поедет к геру Готлибу, может, прикажет запрячь Гнедко, которого только что привели из деревни. Еремей (кучер, он же и дворник), высокий, одноглазый, добродушный и ленивый хохол, Еремей говорит, что Гнедко бегает так шибко, что ни одна лошадь в городе его не догонит. Еремей, конечно, знает это: он каждый день ездит на Гнедке верхом на водопой. И вот сегодня в первый раз запрягут Гнедко. Гнедко побежит скоро-скоро! Все погонятся за ним — куда! Гнедка и след простыл.
А вдруг папа и Тёму возьмет с собой?! Какое счастие! Восторг переполняет маленькое сердце Тёмы. От мысли, что все это счастие произошло от этого чудного, так неожиданно распустившегося цветка, в Тёме просыпается нежное чувство к цветку.
— Ми-и-ленький! — говорит он, приседая на корточки, и тянется к нему губами.
Его поза самая неудобная и неустойчивая. Он теряет равновесие, протягивает руки и…
Все погибло! Боже мой, но как же это случилось?! Может быть, можно поправить? Ведь это случилось оттого, что он не удержался, упал. Если б он немножко, вот сюда, уперся рукой, цветок остался бы целым. Ведь это одно мгновение, одна секунда… Постойте!.. Но время не стоит. Тёма чувствует, что его точно кружит что-то, что-то точно вырывает у него то, что хотел бы он удержать, и уносит на своих крыльях — уносит совершившийся факт, оставляя Тёму одного с ужасным сознанием непоправимости этого совершившегося факта.
Какой резкой, острой чертой, какой страшной, неумолимой, беспощадной силой оторвало его вдруг сразу от всего!
Что из того, что так весело поют птички, что сквозь густую листву пробивается солнце, играя на мягкой земле веселыми светлыми пятнышками, что беззаботная мошка ползет по лепестку, вот остановилась, надувается, выпускает свои крылышки и собирается лететь куда-то, навстречу нежному, ясному дню?
Что из того, что когда-нибудь будет опять сверкать такое же веселое утро, которое он не испортит, как сегодня? Тогда будет другой мальчик, счастливый, умный, довольный. Чтоб добраться до этого другого, надо пройти бездну, разделяющую его от этого другого, надо пережить что-то страшное, ужасное. О, что бы он дал, чтобы все вдруг остановилось, чтобы всегда было это свежее, яркое утро, чтобы папа и мама всегда спали… Боже мой, отчего он такой несчастный? Отчего над ним тяготеет какой-то вечный неумолимый рок? Отчего он всегда хочет так хорошо, а выходит все так скверно и гадко?.. О, как сильно, как глубоко старается он заглянуть в себя, постигнуть причину этого. Он хочет ее понять, он будет строг и беспристрастен к себе… Он действительно дурной мальчик. Он виноват, и он должен искупить свою вину. Он заслужил наказание, и пусть его накажут. Что же делать? И он знает причину, он нашел ее! Всему виною его гадкие, скверные руки! Ведь он не хотел, руки сделали, и всегда руки. И он придет к отцу и прямо скажет ему:
— Папа, зачем тебе сердиться даром, я знаю теперь хорошо, кто виноват, — мои руки. Отруби мне их, и я всегда буду добрый, хороший мальчик. Потому что я люблю и тебя, и маму, и всех люблю, а руки мои делают так, что я как будто никого не люблю. Мне ни капли их не жалко.
Мальчику кажется, что его доводы так убедительны, так чистосердечны и ясны, что они должны подействовать.
Но цветок по-прежнему лежит на земле… Время идет… Вот отец, встающий раньше матери, покажется, увидит, все сразу поймет, загадочно посмотрит на сына и, ни слова не говоря, возьмет его за руку и поведет… Поведет, чтоб не разбудить мать, не через террасу, а через парадный ход, прямо в свой кабинет. Затворится большая дверь, и он останется с глазу на глаз с ним.
Ах, какой он страшный, какое нехорошее у него лицо… И зачем он молчит, не говорит ничего?! Зачем он расстегивает свой мундир?! Какой противный этот желтенький узенький ремешок, который виднеется в складке синих штанов его. Тёма стоит и, точно очарованный, впился в этот ремешок. Зачем же он стоит? Он свободен, его никто не держит, он может убежать… Никуда он не убежит. Он будет мучительно-тоскливо ждать. Отец не спеша снимет этот гадкий ремешок, сложит вдвое, посмотрит на сына; лицо отца нальется кровью, и почувствует, бесконечно сильно почувствует мальчик, что самый близкий ему человек может быть страшным и чужим, что к человеку, которого он должен и хотел бы только любить до обожания, он может питать и ненависть, и страх, и животный ужас, когда прикоснутся к его щекам мягкие, теплые ляжки отца, в которых зажмется голова мальчика.
Маленький Тёма, бледный, с широко раскрытыми глазами, стоял перед сломанным цветком, и все муки, весь ужас предстоящего возмездия ярко рисовались в его голове. Все его способности сосредоточились теперь на том, чтобы найти выход, выход во что бы то ни стало. Какой-то шорох послышался ему по направлению от террасы. Быстро, прежде чем что-нибудь сообразить, нога мальчика решительно ступает на грядку, он хватает цветок и втискивает его в землю рядом с корнем. Для чего? Смутная надежда обмануть? Протянуть время, пока проснется мать, объяснить ей, как все это случилось, и тем отвратить предстоящую грозу? Ничего ясного не соображает Тёма; он опрометью, точно его преследуют все те ведьмы и волшебники, о которых рассказывает ему по вечерам няня, убегает от злополучного места, минуя страшную теперь для него террасу, — террасу, где вдруг он может увидать грозную фигуру отца, который, конечно, по одному его виду сейчас же поймет, в чем дело.
Он бежит, и ноги бессознательно направляют его подальше от опасности. Он видит между деревьями большую площадку, посреди которой устроены качели и гимнастика и где возвышается высокий, выкрашенный зеленой краской столб для гигантских шагов, видит сестер, бонну-немку. Он делает вольт в сторону, незаметно пригнувшись, торопливо пробирается в виноградник, огибает большой каменный сарай, выходящий в сад своими глухими стенами, перелезает ограду, отделяющую сад от двора, и наконец благополучно достигает кухни.
Здесь он только свободно вздыхает.
В закоптелой, обширной, но низкой кухне, устроенной в подвальном этаже, освещенной сверху маленькими окнами, все спокойно, все идет своим чередом.
Повар, в грязном белом фартуке, белокурый, ленивый, молодой, из бывших крепостных, Аким лениво собирается разводить плиту. Ему не хочется приниматься за скучную ежедневную работу, он тянет, хлопает дверцами печки, заглядывает в духовой ящик, внимательно осматривает, точно в первый раз видит, конфорки, фыркает, брюзжит, двадцать раз их то сдвигает, то опять ставит на место…
На большом некрашеном столе в беспорядке валяются грязные тарелки. Горничная Таня, молодая девушка с длинной, еще не чесанной косой, торопливо обгладывает какую-то вчерашнюю холодную кость. Еремей в углу молча возится с концами упряжных ремней, бесконечно налаживая и пригоняя конец к концу, собираясь сшивать их приготовленными шилом и дратвой. Его жена, Настасья, толстая и грязная судомойка, громко и сердито перемывает тарелки, энергично хватая их со дна дымящейся теплой лоханки. Вытертые тарелки с шумом летят на рядом стоящую скамью. Рукава Настасьи засучены; здоровое белое тело на руках трясется при всяком ее движении, губы плотно сжаты, глаза сосредоточены и мечут искры.
Ровесник Тёмы — произведение Настасьи и Еремея — толстопузый рябой Иоська сидит на кровати, болтает ногами и пристает к матери, чтобы та дала ему грошик.
— Не дам, не дам, сто чертив твоей мами! — кричит отчаянно Настасья и еще плотнее стискивает свои губы, еще энергичнее сверкает глазами.
— Г-е?! — тянет Иоська плаксивую монотонную ноту. — Дай грошик.
— Отчипысь, прокляте! Будь ты скажено! — кричит Настасья, точно ее режут.
Тёма с завистью смотрит на эти простые, несложные отношения. Вот она, кажется, и кричит и бранится, а не боится ее Иоська. Если мать и побить его захочет, — а Иоська отлично знает, когда она этого захочет, — он, вырвавшись, убежит во двор. Если мать и бросится за ним и, не догнав, станет кричать своим громким голосом, так кричать, что живот ее то и дело будет подпрыгивать кверху: «Ходи сюда, бисова дытына!», то «бисова дытына» понимает, что ходить не следует, потому что его побьют, а так как ему именно этого и не хочется, то он и не идет, но и не скрывается, инстинктивно сознавая, что очень раздражать не следует. Стоит Иоська где-нибудь поодаль и хнычет, лениво и притворно, а сам зорко следит за всяким движением матери; ноги у него расставлены, сам наклонился вперед, вот-вот готов дать нового стрекача.
Мать постоит, постоит, еще сто чертей посулит себе и уйдет в кухню. Иоська фланирует, развлекается, шалит, но голод заставляет его наконец возвратиться на кухню. Подойдет к двери и пустит пробный шар:
— Г-е?!
Это нечто среднее между нахальным требованием и просьбой о помиловании, между хныканьем и криком.
— Только взойды, бодай тебе чертяка взяла! — несется из кухни.
— Г-е?! — настойчивее и смелее повторяет Иоська.
Кончается все это тем, что дверь с шумом растворяется, Иоська с быстротой ветра улепетывает подальше, на пороге появляется грозная мать с первым попавшимся поленом в руках, которое и летит вдогонку за блудным сыном.
Дело уже Иоськи увернуться от полена, но после этого путь к столу с объедками барской еды считается свободным. Иоська сразу сбрасывает свой скромный облик и с видом делового человека, которому некогда тратить время на пустые формальности, прямо и смело направляется к столу.
Если по дороге он все-таки получал иной раз легкую затрещину — он за этим не гнался и, огрызнувшись каким-нибудь упрямым звуком вроде «у-у!», энергично принимался за еду.
— Иеремей, Буланку закладывай! — кричит сверху нянька. — В дрожки!
— Кто едет? — кричит снизу встрепенувшийся Тёма.
— Папа и мама в город.
Это целое событие.
— Скоро едут? — спрашивает Тёма.
— Одеваются.
Тёма соображает, что отец торопится, значит, перед отъездом в сад не пойдет, и, следовательно, до возвращения родителей он свободен от всяких взысканий. Он чувствует мгновенный подъем духа и вдохновенно кричит:
— Иоська, играться!
Он выбегает снова в сад и теперь смело и уверенно направляется к сестрам.
— Будем играться! — кричит он, подбегая. — В индейцев?!
И Тёма от избытка чувств делает быстрый прыжок перед сестрами.
Пока бонна и сестры, под предводительством старшей сестры Зины, обсуждают его предложение, он уже рыщет, отыскивая подходящий материал для луков. Бежать к изгороди слишком далеко, хочется скорей, сейчас… Тёма выхватывает несколько прутьев, почему-то торчавших из бочки, пробует их гибкость, но они ломаются, не годятся.
— Тёма! — раздается дружный вопль.
Тёма замирает на мгновенье.
— Это папины лозы! Что ты сделал?!
Но Тёма уже все и без этого сообразил: у него вихрем мелькает сознание необходимости протянуть время до отъезда, и он небрежно кричит:
— Знаю, знаю, папа приказал их выбросить — они не годятся!
И для большей убедительности он подбирает поломанные лозы и с помощью Иоськи несет их на черный двор. Зина подозрительно провожает его глазами, но Тёма искусно играет свою роль, идет тихо, не спеша вплоть до самой калитки. Но за калиткой он быстро бросает лозы; отчаянье охватывает его. Он стремительно бежит, бежит от мрачных мыслей тяжелой развязки, от туч, неизвестно откуда скопляющихся над его горизонтом. Однако с мучительной ясностью стоит в голове: поскорее бы отец и мать уезжали.
Еремей с озабоченным видом стоит около дрожек, нерешительно чешет спину, мрачно смотрит на немытый экипаж, на засохшую грязь и окончательно теряется от мысли, что теперь делать: начинать ли мыть, подмазывать ли, или уж так запрягать. Тёма волнуется, хлопочет, тащит хомут, понуждает Еремея выводить лошадь, и Еремей под таким энергичным давлением начинает наконец запрягать.
— Не так, панычику, не так, — громко замечает флегматичный Еремей, тяготясь этой суетливой, бурной помощью.
Тёме кажется, что время идет невыносимо медленно.
Наконец, экипаж готов.
Еремей надевает свой кучерской парусиновый кафтан с громадным сальным пятном на животе, клеенчатую с поломанными полями шляпу, садится на козлы, трогает, задевает обязательно за ворота, отделяющие грязный двор от чистого, и подкатывает к крыльцу.
Время бесконечно тянется. Отчего они не выходят? Вдруг не поедут?! Тёма переживает мучительные минуты. Но вот парадные двери отворяются, выходят отец с матерью.
Отец, седой, хмурый по обыкновению, в белом кителе, что-то озабоченно соображает; мать в кринолине, черных нитяных перчатках без пальцев, в шляпе с широкими черными лентами. Сестры бегут из сада. Мать наскоро крестит и целует их и спохватывается о Тёме; сестры ищут его глазами, но Тёма с Иоськой притаились за углом, и сестры говорят матери, что Тёма в саду.
— Будьте с ним ласковы.
Тёма, благоразумно решивший было не показываться, стремительно выскакивает из засады и стремительно бросается к матери. Если бы не отец, он сейчас бы ей все рассказал. Но он только особенно горячо целует ее.
— Ну, довольно! — говорит ласково мать и смутно соображает, что совесть Тёмы не совсем чиста.
Но мысль о забытых ключах отвлекает ее.
— Ключи, ключи! — говорит она, и все стремительно бросаются в комнаты за ключами.
Отец пренебрежительно косится на ласки сына и думает, что это воспитание выработает в конце концов из его сына какую-то противную слюнявку. Он срывает свое раздражение на Еремее.
— Буланка опять закована на правую переднюю ногу? — говорит он.
Еремей перегибается с козел и внимательно всматривается в отставленную ногу Буланки.
Тёма озабоченно следит за ними глазами. Еремей прокашливается и говорит каким-то поперхнувшимся голосом:
— Мабуть, оступывся.
Ложь возмущает и бесит отца.
— Болван! — говорит он, точно выстреливает из ружья.
Еремей энергично откашливается, ерзает на козлах и молчит. Тёма не понимает, за что отец бранит Еремея, и тоскливое чувство охватывает его.
— Размазня, лентяй! Грязь развел такую, что сесть нельзя.
Тёма быстро окидывает взглядом экипаж.
Еремей невозмутимо молчит. Тёма видит, что Еремею нечего сказать, что отец прав, и, облегченно вздыхая, чувствует удовлетворение за отца.
Ключи принесли, мать и отец сидят в экипаже, Еремей подобрал вожжи, Настасья стоит у ворот.
— Трогай! — приказывает отец.
Мать крестит детей и говорит: «Тёма, не шали», и экипаж торжественно выкатывается на улицу. Когда же он исчезает из глаз, Тёма вдруг ощущает такой прилив радости, что ему хочется выкинуть что-нибудь такое, чтобы все, все — и сестры, и бонна, и Настасья, и Иоська — так и ахнули. Он стоит, несколько мгновений ищет в уме чего-нибудь подходящего и ничего другого не может придумать, как, стремглав выбежав на улицу, перерезать дорогу какому-то несущемуся экипажу. Раздается общий отчаянный вопль:
— Тёма, Тёма, куда?!
— Тёма-а! — несется пронзительный крик бонны и достигает чуткого уха матери.
Из облака пыли вдруг раздается голос матери, сразу все понявшей:
— Тёма, домой!
Тёма, успевший пробежать до половины дороги, останавливается, зажимает обеими руками рот, на мгновение замирает на месте, затем стремглав возвращается назад.
— А хочешь, я на Гнедке верхом поеду, как Еремей?! — мелькает в голове Тёмы новая идея, с которой он обращается к Зине.
— Ну да! Тебя Гнедко сбросит! — говорит пренебрежительно Зина.
Этого совершенно достаточно, чтоб у Тёмы явилось непреодолимое желание привести в исполнение свой план. Его сердце усиленно бьется и замирает от мысли, как поразятся все, когда увидят его верхом на Гнедке, и, выждав момент, он лихорадочно шепчет что-то Иоське. Они оба незаметно исчезают.
Препятствий нет.
В опустелой конюшне раздается ленивая, громкая еда Гнедка. Тёма дрожащими руками торопливо отвязывает повод. Красивый жеребец Гнедко пренебрежительно обнюхивает маленькую фигурку и нехотя плетется за тянущим его изо всей силы Тёмой.
— Но, но, — возбужденно понукает его Тёма, стараясь губами делать, как Еремей, когда тот выводит лошадь. Но от этого звука лошадь пугается, фыркает, задирает голову и не хочет выходить из низких дверей конюшни.
— Иоська, подгони ее сзади! — кричит Тёма.
Иоська лезет между ног лошади, но в это время Тёма опять кричит ему:
— Возьми кнут!
Получив удар, Гнедко стрелой вылетает из конюшни и едва не вырывается из рук Тёмы.
Тёма замечает, что Гнедко от удара кнутом взял сразу в галоп, и приказывает Иоське, когда он сядет, снова ударить лошадь.
Иоське одно удовольствие лишний раз хлестнуть лошадь.
Гнедко торжественно выводится с черного на чистый двор и подтягивается к близстоящей водовозной бочке. В последний момент к Иоське возвращается благоразумие.
— Упадете, панычику! — нерешительно говорит он.
— Ничего, — отвечает Тёма с пересохшим от волнения горлом. — Ты только, как я сяду, крепко ударь ее, чтоб она сразу в галоп пошла. Тогда легко сидеть!
Тёма, стоя на бочке, подбирает поводья, опирается руками на холку Гнедка и легко вспрыгивает ему на спину.
— Дети, смотрите! — кричит он, захлебываясь от удовольствия.
— Ай, ай, смотрите! — в ужасе взвизгивают сестры, бросаясь к ограде.
— Бей! — командует, не помня себя от восторга, Тёма.
Иоська из всей силы вытягивает кнутом жеребца. Лошадь, как ужаленная, мгновенно подбирается и делает первый непроизвольный скачок к улице, куда мордой она была поставлена, но затем, сообразив, она взвивается на дыбы, круто на задних ногах делает поворот и полным карьером несется назад в конюшню.
Тёме, каким-то чудом удержавшемуся при этом маневре, некогда рассуждать. Пред ним ворота черного двора; он вовремя успевает наклонить голову, чтобы не разбить ее о перекладину, и вихрем влетает на черный двор.
Здесь ужас его положения обрисовывается ему с неумолимою ясностью.
Он видит в десяти саженях перед собой высокую каменную стену конюшни и маленькую темную отворенную дверь и сознает, что разобьется о стену, если лошадь влетит в конюшню. Инстинкт самосохранения удесятеряет его силы, он натягивает, как может, левый повод, лошадь сворачивает с прямого пути, налетает на торчащее дышло, спотыкается, падает с маху на землю, а Тёма летит дальше и распластывается у самой стены, на мягкой, теплой куче навоза. Лошадь вскакивает и влетает в конюшню. Тёма тоже вскакивает, запирает за нею дверь и оглядывается.
Теперь, когда все благополучно миновало, ему хочется плакать, но он видит в воротах бонну, сестер и соображает по их вытянувшимся лицам, что они все видели. Он бодрится, но руки его дрожат; на нем лица нет, улыбка выходит какой-то жалкой, болезненной гримасой.
Град упреков сыплется на его голову, но в этих упреках он чувствует некоторое уважение к себе, удивление к его молодечеству и мирится с упреками. Непривычная мягкость, с какой Тёма принимает выговоры, успокаивает всех.
— Ты испугался? — пристает к нему Зина, — ты бледен, как стена, выпей воды, помочи голову.
Тёму торжественно ведут опять к бочке и мочат голову. Между ним, бонной и сестрой устанавливаются дружеские, миролюбивые отношения.
— Тёма, — говорит ласково Зина, — будь умным мальчиком, не распускай себя. Ты ведь знаешь свой характер, ты видишь: стоит тебе разойтись, тогда уж ты не удержишь себя и наделаешь чего-нибудь такого, чему и сам не будешь рад потом.
Зина говорит ласково, мягко, — просит.
Тёме это приятно, он сознает, что в словах сестры все — голая правда, и говорит:
— Хорошо, я не буду шалить.
Но маленькая Зина, хотя на год всего старше своего брата, уже понимает, как тяжело будет брату сдержать свое слово.
— Знаешь, Тёма, — говорит она как можно вкрадчивее, — ты лучше всего дай себе слово, что ты не будешь шалить. Скажи: любя папу и маму, я не буду шалить.
Тёма морщится.
— Тёма, тебе же лучше! — подъезжает Зина. — Ведь никогда еще папа и мама не приезжали без того, чтобы не наказать тебя. И вдруг приедут сегодня и узнают, что ты не шалил.
Просительная форма подкупает Тёму.
— Как люблю папу и маму, я не буду шалить.
— Ну, вот умница, — говорит Зина. — Смотри же, Тёма, — уже строгим голосом продолжает сестра, — грех тебе будет, если ты обманешь. И даже потихоньку нельзя шалить, потому что господь все видит, и если папа и мама не накажут, бог все равно накажет.
— Но играться можно?
— Все то можно, что фрейлейн скажет: можно, а что фрейлейн скажет: нельзя, то уже грех.
Тёма недоверчиво смотрит на бонну и насмешливо спрашивает:
— Значит, фрейлейн святая?
— Вот видишь, ты уж глупости говоришь! — замечает сестра.
— Ну, хорошо! будем играться в индейцев! — говорит Тёма.
— Нет, в индейцев опасно без мамы, ты разойдешься.
— А я хочу в индейцев! — настаивает Тёма, и в его голосе слышится капризное раздражение.
— Ну, хорошо! — спроси у фрейлейн, ведь ты обещал, как папу и маму любишь, слушаться фрейлейн?
Зина становится так, чтобы только фрейлейн видела ее лицо, а Тёма — нет.
— Фрейлейн, правда в индейцев играть не надо?
Тёма все же таки видит, как Зина делает невозможные гримасы фрейлейн; он смеется и кричит:
— Э, так нельзя!
Он бросается к фрейлейн, хватает ее за платье и старается повернуть от сестры. Фрейлейн смеется.
Зина энергично подбегает к брату, кричит: «Оставь фрейлейн», а сама в то же время старается стать так, чтобы фрейлейн видела ее лицо, а брат не видел. Тёма понимает маневр, хохочет, хватает за платье сестру и делает попытку поворотить ее лицо к себе.
— Пусти! — отчаянно кричит сестра и тянет свое платье.
Тёма еще больше хохочет и не выпускает сестриного платья, держась другой рукой за платье бонны. Зина вырывается изо всей силы. Вдруг юбка фрейлейн с шумом разрывается пополам, и взбешенная бонна кричит:
— Думмер кнабе!..[44]
Тёма считает, что, кроме матери и отца, никто не смеет его ругать. Озадаченный и сконфуженный неожиданным оборотом дела, но возмущенный, он, не задумываясь, отвечает:
— Ты сама!
— Ах! — взвизгивает фрейлейн.
— Тёма, что ты сказал?! — подлетает сестра. — Ты знаешь, как тебе за это достанется?! Проси сейчас прощения!!
Но требование — плохое оружие с Тёмой; он окончательно упирается и отказывается просить прощения. Доводы не действуют.
— Так ты не хочешь?! — угрожающим голосом спрашивает Зина.
Тёма трусит, но самолюбие берет верх.
— Так вот что, уйдем от него все, пусть он один остается.
Все, кроме Иоськи, уходят от Тёмы.
Сестра идет и беспрестанно оглядывается: не раскаялся ли Тёма. Но Тёма явного раскаяния не обнаруживает. Хотя сестра и видит, что Тёму кошки скребут, но этого, по ее мнению, мало. Ее раздражает упорство Тёмы. Она чувствует, что еще капельку — и Тёма сдастся. Она быстро возвращается, хватает Иоську за рукав и говорит повелительно:
— Уходи и ты, пусть он совсем один останется.
Неудачный маневр.
Тёма кидается на нее, толкает так, что она летит на землю, и кричит:
— Убирайся к черту!
Зина испускает страшный вопль, поднимается на руки, некоторое время не может продолжать кричать от схвативших ее горловых спазм и только судорожно поводит глазами.
Тёма в ужасе пятится. Зина испускает наконец новый отчаянный крик, но на этот раз Тёме кажется, что крик не совсем естественный, и он говорит:
— Притворяйся, притворяйся!
Зину поднимают и уводят; она хромает. Тёма внимательно следит и остается в мучительной неизвестности: действительно ли Зина хромает или только притворяется.
— Пойдем, Иоська! — говорит он, подавляя вздох.
Но Иоська говорит, что он боится и уйдет на кухню.
— Иоська, — говорит Тёма, — не бойся; я все сам расскажу маме.
Но кредит Тёмы в глазах Иоськи подорван. Он молчит, и Тёма чувствует, что Иоська ему не верит. Тёма не может остаться без поддержки друга в такую тяжелую для себя минуту.
— Иоська, — говорит он взволнованно, — если ты не уйдешь от меня, я после завтрака принесу тебе сахару.
Это меняет положение вещей.
— Сколько кусков? — спрашивает нерешительно Иоська.
— Два, три, — обещает Тёма.
— А куда пойдем?
— За горку! — отвечает Тёма, выбирая самый дальний угол сада. Он понимает, что Иоська не желал бы теперь встретиться с барышнями.
Они огибают двор, перелезают ограду и идут по самой отдаленной дорожке.
Тёма взволнован и переполнен всевозможными чувствами.
— Иоська, — говорит он, — какой ты счастливый, что у тебя нет сестер! Я хотел бы, чтобы у меня ни одной сестры не было. Если б они умерли все вдруг, я ни капельки не плакал бы о них. Знаешь: я попросил бы, чтобы тебя сделали моим братом. Хорошо?!
Иоська молчит.
— Иоська, — продолжает Тёма, — я тебя ужасно люблю… так люблю, что, что хочешь со мной делай…
Тёма напряженно думает, чем доказать Иоське свою любовь.
— Хочешь, зарой меня в землю… или, хочешь, плюнь на меня.
Иоська озадаченно глядит на Тёму.
— Милый, голубчик, плюнь… Милый, дорогой…
Тёма бросается Иоське на шею, целует его, обнимает и умоляет плюнуть.
После долгих колебаний Иоська осторожно плюет на кончик Тёминой рубахи.
Край рубахи с плевком Тёма поднимает к лицу и растирает по своей щеке.
Иоська пораженно и сконфуженно смотрит…
Тёма убежденно говорит:
— Вот… вот как я тебя люблю!
Друзья подходят к кладбищенской стене, отделяющей дом от старого, заброшенного кладбища.
— Иоська, ты боишься мертвецов? — спрашивает Тёма.
— Боюсь, — говорит Иоська.
Тёма предпочел бы похвастаться тем, что он ничего не боится, потому что его отец ничего не боится и что он хочет ничего не бояться, но в такую торжественную минуту он чистосердечно признается, что тоже боится.
— Кто ж их не боится? — разражается красноречивой тирадой Иоська. — Тут хоть самый первый генерал приди, как они ночью повылазят да рассядутся по стенкам, так и тот убежит. Всякий убежит. Тут побежишь, как за ноги да за плечи тебя хватать станет или вскочит на тебя, да и ну колотить ногами, чтобы вез его, да еще перегнется, да зубы и оскалит; у другого половина лица выгнила, глаз нет. Тут забоишься! Хоть какой, и то…
— Артемий Николаич, завтракать! — раздается по саду молодой, звонкий голос горничной Тани.
Из-за деревьев мелькает платье Тани.
— Пожалуйте завтракать, — говорит горничная, ласково и фамильярно обхватывая Тёму.
Таня любит Тёму. Она в чистом, светлом ситцевом платье; от нее несет свежестью, густая коса ее аккуратно расчесана, добрые карие глаза смотрят весело и мягко.
Она дружелюбно ведет за плечи Тёму, наклоняется к его уху и веселым шепотом говорит:
— Немка плакала!
Немку, несмотря на ее полную безобидность, прислуга не любит.
Тёма вспоминает, что в его столкновении с бонной у него союзники вся дворня, — это ему приятно, он чувствует подъем духа.
— Она назвала меня дураком, разве она смеет?
— Конечно, не смеет. Папаша ваш генерал, а она что? Дрянь какая-то. Зазналась.
— Правда, когда я маме скажу все — меня не накажут?
Таня не хочет огорчать Тёму; она еще раз наклоняется и еще раз его целует, гладит его густые золотистые волосы.
За завтраком обычная история. Тёма почти ничего не ест. Перед ним лежит на тарелке котлетка, он косится на нее и лениво пощипывает хлеб. Так как с ним никто не говорит, то обязанность уговаривать его есть добровольно берет на себя Таня.
— Артемий Николаич, кушайте!
Тёма только сдвигает брови.
В Зине борется гнев к Тёме с желанием, чтобы он ел.
Она смотрит в окошко и, ни к кому особенно не обращаясь, говорит:
— Кажется, мама едет!
— Артемий Николаич, скорей кушайте, — шепчет испуганно Таня.
Тёма в первое мгновение поддается на удочку и хватает вилку, но, убедившись, что тревога ложная, опять кладет вилку на стол.
Зина снова смотрит в окно и замечает:
— После завтрака всем, кто хорошо ел, будет сладкое.
Тёме хочется сладкого, но не хочется котлеты.
Он начинает привередничать. Ему хочется налить на котлетку прованского масла.
Таня уговаривает его, что масло не идет к котлетке.
Но ему именно так хочется, и, так как ему не дают судка с маслом, он сам лезет за ним. Зина не выдерживает: она не может переваривать его капризов, быстро вскакивает, хватает судок с маслом и держит его в руке под столом.
Тёма садится на место и делает вид, что забыл о масле. Зина зорко следит и наконец ставит судок на стол, возле себя. Но Тёма улавливает подходящий момент, стремительно бросается к судку. Зина схватывает с другой стороны, и судок летит на пол, разбиваясь вдребезги.
— Это ты! — кричит сестра.
— Нет, ты!
— Это тебя бог наказал за то, что ты папу и маму не любишь.
— Неправда, я люблю! — кричит Тёма.
— Ласен зи ин,[45] — говорит бонна и встает из-за стола.
За ней встают все, и начинается раздача пастилы. Когда очередь доходит до Тёмы, бонна колеблется. Наконец она отламывает меньшую против других порцию и молча кладет перед Тёмой.
Тёма возмущенно толкает свою порцию, и она летит на пол.
— Очень мило, — говорит Зина. — Мама все будет знать!
Тёма молчит и начинает ходить по комнате. Зину интересует: отчего сегодня Тёма не убегает, по обыкновению, сейчас после завтрака. Сначала она думает, что Тёма хочет просить прощения у бонны, и уже вступает в свои права: она доказывает, что теперь уже поздно, что после этого сделано еще столько…
— Убирайся вон! — перебивает грубо Тёма.
— И это мама будет знать! — говорит Зина и окончательно становится в тупик: зачем он не уходит?
Тёма продолжает упорно ходить по комнате и наконец достигает своего: все уходят, он остается один. Тогда он мгновенно кидается к сахарнице и запускает в нее руку…
Дверь отворяется. На пороге появляются бонна и Зина. Он бросает сахарницу и стремглав выскакивает на террасу.
Теперь все погибло! Такой поступок, как воровство, даже мать не простит!
К довершению несчастия собирается гроза. По небу полезли со всех сторон тяжелые грозовые тучи; солнце исчезло; как-то сразу потемнело; в воздухе запахло дождем. Ослепительной змейкой блеснула молния, над самой головой оглушительными раскатами прокатился гром. На минуту все стихло, точно притаилось, выжидая. Что-то зашумело — ближе, ближе, и первые тяжелые, большие капли дождя упали на землю. Через несколько мгновений все превратилось в сплошную серую массу. Целые реки полились сверху. Была настоящая южная гроза.
Волей-неволей надо бежать в комнаты, и так как вход туда Иоське воспрещен, то Тёме приходится остаться одному, наедине со своими грустными мыслями.
Скучно. Время бесконечно тянется.
Тёма уселся на окне в детской и уныло следил, как потоки воды стекали по стеклам, как постепенно двор наполнялся лужами, как бульки и пузыри точно прыгали по мутной и грязной поверхности.
— Артемий Николаич, кушать хотите? — спросила, появляясь в дверях, Таня.
Тёме давно хотелось есть, но ему было лень оторваться.
— Хорошо, только сюда принеси хлеба и масла.
— А котлетку?
Тёма отрицательно замотал головой.
В ожидании Тёма продолжал смотреть в окно. Потому ли, что ему не хотелось оставаться наедине со своими мыслями, потому ли, что ему было скучно и он придумывал, чем бы ему еще развлечься, или, наконец, по общечеловеческому свойству вспоминать о своих друзьях в тяжелые минуты жизни, Тёма вдруг вспомнил о своей Жучке. Он вспомнил, что целый день не видал ее. Жучка никогда никуда не отлучалась.
Тёме пришли вдруг в голову таинственные недружелюбные намеки Акима, не любившего Жучку за то, что она таскала у него провизию. Подозрение закралось в его душу. Он быстро слез с окна, пробежал детскую, соседнюю комнату и стал спускаться по крутой лестнице, ведущей в кухню. Этот ход был строго-настрого воспрещен Тёме (за исключением, когда бралась ванна), ввиду возможности падения, но теперь Тёме было не до того.
— Аким, где Жучка? — спросил Тёма, войдя в кухню.
— А я откуда знаю? — отвечал Аким, тряхнув своими курчавыми волосами.
— Ты не убивал ее?
— Ну вот, стану я руки марать об этакую дрянь.
— Ты говорил, что убьешь ее?
— Ну! А вы и поверили? так, шутил.
И, помолчав немного, Аким проговорил самым естественным голосом:
— Лежит где-нибудь, притаившись от дождя. Да вы разве ее не видали сегодня?
— Нет, не видал.
— Не знаю. Польстился разве кто, украл?
Тёма было совсем поверил Акиму, но последнее предположение опять смутило его.
— Кто же ее украдет? Кому она нужна? — спросил он.
— Да никому, положим, — согласился Аким. — Дрянная собачонка.
— Побожись, что ты ее не убил! — И Тёма впился глазами в Акима.
— Да что вы, панычику? Да ей-богу же я ее не убивал! Что ж вы мне не верите?
Тёме стало неловко, и он проговорил, ни к кому особенно не обращаясь:
— Куда ж она девалась?
И так как ответа никакого не последовало, то Тёма, оглянувши еще раз Акима и всех присутствующих, причем заметил лукавый взгляд Иоськи, свесившегося с печки и с любопытством наблюдавшего всю сцену, возвратился наверх.
Он опять уселся на окно в детской и все думал: куда могла деваться Жучка?
Перед ним живо рисовалась Жучка, тихая, безобидная Жучка, и мысль, что ее могли убить, наполнила его сердце такой горечью, что он не выдержал, отворил окно и стал звать изо всей силы:
— Жучка, Жучка! На, на, на! Цу-цу! Цу-цу! Фью, фью, фью!
В комнату ворвался шум дождя и свежий сырой воздух. Жучка не отзывалась.
Все неудачи дня, все пережитые невзгоды, все предстоящие ужасы и муки, как возмездие за сделанное, отодвинулись на задний план перед этой новой бедой: лишиться Жучки.
Мысль, что он больше не увидит своей курчавой Жучки, не увидит больше, как она при его появлении будет жалостно визжать и ползти к нему на брюхе, мысль, что, может быть, уже больше ее нет на свете, переполняла душу Тёмы отчаянием, и он тоскливо продолжал кричать:
— Жучка! Жучка!
Голос его дрожал и вибрировал, звучал так нежно и трогательно, что Жучка должна была отозваться.
Но ответа не было.
Что делать?! Надо немедленно искать Жучку.
Вошедшая Таня принесла хлеб.
— Подожди, я сейчас приду.
Тёма опять спустился по лестнице, которая вела на кухню, осторожно пробрался мимо дверей, узким коридором достиг выхода, некоторое время постоял в раздумье и выбежал во двор.
Осмотрев черный двор, он заглянул во все любимые закоулки Жучки, но Жучки нигде не было. Последняя надежда! Он бросился к воротам заглянуть в будку цепной собаки. Но у самых ворот Тёма услышал шум колес подъехавшего экипажа и, прежде чем что-нибудь сообразить, столкнулся лицом к лицу с отцом, отворявшим калитку. Тёма опрометью бросился к дому.
II Наказание
Коротенькое следствие обнаруживает, по мнению отца, полную несостоятельность системы воспитания сына. Может быть, для девочек она и годится, но натуры мальчика и девочки — вещи разные. Он по опыту знает, что такое мальчик и чего ему надо. Система?! Дрянь, тряпка, негодяй выйдет по этой системе. Факты налицо, грустные факты — воровать начал. Чего еще дожидаться?! Публичного позора?! Так прежде он сам его своими руками задушит. Под тяжестью этих доводов мать уступает, и власть на время переходит к отцу.
Двери кабинета плотно затворяются.
Мальчик тоскливо, безнадежно оглядывается. Ноги его совершенно отказываются служить, он топчется, чтобы не упасть. Мысли вихрем, с ужасающей быстротой несутся в его голове. Он напрягается изо всех сил, чтобы вспомнить то, что он хотел сказать отцу, когда стоял перед цветком. Надо торопиться. Он глотает слюну, чтобы смочить пересохшее горло, и хочет говорить прочувствованным, убедительным тоном:
— Милый папа, я придумал… я знаю, что я виноват… Я придумал: отруби мои руки!..
Увы! то, что казалось так хорошо и убедительно там, когда он стоял пред сломанным цветком, здесь выходит очень неубедительно. Тёма чувствует это и прибавляет для усиления впечатления новую, только что пришедшую ему в голову комбинацию:
— Или отдай меня разбойникам!
— Ладно, — говорит сурово отец, окончив необходимые приготовления и направляясь к сыну. — Расстегни штаны…
Это что-то новое?! Ужас охватывает душу мальчика; руки его, дрожа, разыскивают торопливо пуговицы штанишек; он испытывает какое-то болезненное замирание, мучительно роется в себе, что еще сказать, и наконец голосом, полным испуга и мольбы, быстро, несвязно и горячо говорит:
— Милый мой, дорогой, голубчик… Папа! Папа! Голубчик… Папа, милый папа, постой! Папа?! Ай, ай, ай! Аяяяй!..
Удары сыплются. Тёма извивается, визжит, ловит сухую, жилистую руку, страстно целует ее, молит. Но что-то другое рядом с мольбой растет в его душе. Не целовать, а бить, кусать хочется ему эту противную, гадкую руку. Ненависть, какая-то дикая, жгучая злоба охватывает его.
Он бешено рвется, но железные тиски еще крепче сжимают его.
— Противный, гадкий, я тебя не люблю! — кричит он с бессильной злобой.
— Полюбишь!
Тёма яростно впивается зубами в руку отца.
— Ах ты змееныш?!
И ловким поворотом Тёма на диване, голова его в подушке. Одна рука придерживает, а другая продолжает хлестать извивающегося, рычащего Тёму.
Удары глухо сыплются один за другим, отмечая рубец за рубцом на маленьком посинелом теле.
С помертвелым лицом ждет мать исхода, сидя одна в гостиной. Каждый вопль рвет ее за самое сердце, каждый удар терзает до самого дна ее душу.
Ах! Зачем она опять дала себя убедить, зачем связала себя словом не вмешиваться и ждать?
Но разве он смел так связать ее словом?! И, наконец, он сам увлекающийся, он может не заметить, как забьет мальчика! Боже мой! Что это за хрип?!
Ужас наполняет душу матери.
— Довольно, довольно! — кричит она, врываясь в кабинет. — Довольно!!
— Полюбуйся, каков твой звереныш! — сует ей отец прокушенный палец.
Но она не видит этого пальца. Она с ужасом смотрит на диван, откуда слезает в это время растрепанный, жалкий, огаженный звереныш и дико, с инстинктом зверя, о котором на минуту забыли, пробирается к выходу. Мучительная боль пронизывает мать. Горьким чувством звучат ее слова, когда она говорит мужу:
— И это воспитание?! Это знание натуры мальчика?! Превратить в жалкого идиота ребенка, вырвать его человеческое достоинство — это воспитание?!
Желчь охватывает ее. Вся кровь приливает к ее сердцу. Острой, тонкой сталью впивается ее голос в мужа.
— О жалкий воспитатель! Щенков вам дрессировать, а не людей воспитывать!
— Вон! — ревет отец.
— Да, я уйду, — говорит мать, останавливаясь в дверях, — но объявляю вам, что через мой труп вы перешагнете, прежде чем я позволю вам еще раз высечь мальчика.
Отец не может прийти в себя от неожиданности и негодования. Не скоро успокаивается он и долго еще мрачно ходит по комнате, пока наконец не останавливается возле окна, рассеянно всматривается в заволакиваемую ранними сумерками серую даль и возмущенно шепчет:
— Ну, извольте вы тут с бабами воспитывать мальчика!
III Прощение
В то же время мать проходит в детскую, окидывает ее быстрым взглядом, убеждается, что Тёмы здесь нет, идет дальше, пытливо всматривается на ходу в отворенную дверь маленькой комнаты, замечает в ней маленькую фигурку Тёмы, лежащего на диване с уткнувшимся лицом, проходит в столовую, отворяет дверь в спальную и сейчас же плотно затворяет ее за собой.
Оставшись одна, она тоже подходит к окну, смотрит и не видит темнеющую улицу. Мысли роем носятся в ее голове.
Пусть Тёма так и лежит, пусть придет в себя, надо его теперь совершенно предоставить себе… Белье бы переменить… Ах, боже мой, боже мой, какая страшная ошибка, как могла она допустить это! Какая гнусная гадость! Точно ребенок сознательный негодяй! Как не понять, что если он делает глупости, шалости, то делает только потому, что не видит дурной стороны этой шалости. Указать ему эту дурную сторону, не с своей, конечно, точки зрения взрослого человека, с его, детской, не себя убедить, а его убедить, задеть самолюбие, опять-таки его детское самолюбие, его слабую сторону, суметь добиться этого — вот задача правильного воспитания.
Сколько времени надо, пока все это опять войдет в колею, пока ей удастся опять подобрать все эти тонкие, неуловимые нити, которые связывают ее с мальчиком, нити, которыми она втягивает, так сказать, этот живой огонь в рамки повседневной жизни, втягивает, щадя и рамки, щадя и силу огня — огня, который со временем ярко согреет жизнь соприкоснувшихся с ним людей, за который тепло поблагодарят ее когда-нибудь люди. Он, муж, конечно, смотрит с точки зрения своей солдатской дисциплины, его самого так воспитывали, ну и сам он готов сплеча обрубить все сучки и задоринки молодого деревца, обрубить, даже не сознавая, что рубит с ними будущие ветки…
Няня маленькой Ани просовывает свою по-русски повязанную голову.
— Аню перекрестить…
— Давай! — И мать крестит девочку.
— Артемий Николаевич в комнате? — спрашивает она няню.
— Сидят у окошка.
— Свечка есть?
— Потушили. Так в темноте сидят.
— Заходила к нему?
— Заходила… Куды!.. Эх!.. — Но няня удерживается, зная, что барыня не любит нытья.
— А больше никто не заходил?
— Таня еще… кушать носила.
— Ел?
— И-и! Боже упаси, и смотреть не стал… Целый день не емши. За завтраком маковой росинки не взял в рот.
Няня вздыхает и, понижая голос, говорит:
— Белье бы ему переменить да обмыть… Это ему, поди, теперь пуще всего зазорно…
— Ты говорила ему о белье?
— Нет… Куды!.. Как только наклонилась было, а он этак плечиками как саданет меня… Вот Таню разве послушает…
— Ничего не надо говорить… Никто ничего не замечайте… Прикажи, чтобы приготовили обе ванны поскорее для всех, кроме Ани… Позови бонну… Смотри, никакого внимания…
— Будьте спокойны, — говорит сочувствующим голосом няня.
Входит фрейлейн.
Она очень жалеет, что все так случилось, но с мальчиком ничего нельзя было сделать…
— Сегодня дети берут ванну, — сухо перебивает мать, — Двадцать два градуса.
— Зер гут,[46] мадам, — говорит фрейлейн и делает книксен.
Она чувствует, что мадам недовольна, но ее совесть чиста. Она не виновата; фрейлейн Зина свидетельница, что с мальчиком нельзя было справиться. Мадам молчит; бонна знает, что это значит. Это значит, что ее оправдания не приняты.
Хотя она очень дорожит местом, но ее совесть спокойна. И, в сознании своей невинности, она скромно, но с чувством оскорбленного достоинства берется за ручку.
— Позовите Таню.
— Зер гут, мадам, — отвечает бонна и уже за дверями делает книксен.
В последней нотке мадам бонна услыхала что-то такое, что возвращает ей надежду удержать за собой место, и она воскресшим голосом говорит:
— Таню, бариня идить!
Таня оправляется и входит в спальню.
Таня всегда купает Тёму. Летом, в те дни, когда детей не мылили, ему разрешалось самому купаться, без помощи Тани, и это доставляло Тёме всегда громадное удовольствие: он купался, как папа, один.
— Если Артемий Николаевич пожелает купаться один, пусть купается. Перед тем как вести его в ванную, положи на стол кусок хлеба — не отрезанный, а так, отломанный, как будто нечаянно его забыли. Понимаешь?
Таня давно все поняла и весело и ласково отвечает:
— Понимаю, сударыня!
— Купаться будут все; сначала барышни, а потом Артемий Николаевич. Ванну на двадцать два градуса. Ступай!
Но тотчас же мать снова позвала Таню и прибавила:
— Таня, перед тем как поведешь Артемия Николаевича, убавь в ванной свет в лампе так, чтобы был полумрак. И поведешь его не через детскую, а прямо через девичью… И чтоб никого в это время не было, когда он будет идти. В девичьей тоже убавь свет.
— Слушаю-с.
Купанье — всегда событие и всегда приятное. Но на этот раз в детской оживление слабое. Дети находятся под влиянием наказания брата, а главное — нет поджигателя обычного возбуждения, Тёмы. Дети идут как-то лениво, купанье какое-то неудачное, поспешное, и через двадцать минут они уже, в белых чепчиках, гуськом возвращаются назад в детскую.
Под дыханием мягкой южной ночи мать Тёмы возбужденно ходит по комнате.
По свойству своей оптимистической натуры она не хочет больше думать о настоящем: оно будет исправлено, ошибка не повторится, и довольно.
Чтобы развлечь себя, она вышла на террасу подышать свежим воздухом.
Она видит в окно возвращающееся из ванной шествие и останавливается.
Вот впереди идет Зина — требовательный к себе и другим, суровый, жгучий исполнитель воли. Девочка загадочно, непреклонно смотрит своими черными, как ночь юга, глазами и точно видит уже где-то далеко какой-то ей одной ведомый мир.
Вот тихая, сосредоточенная, болезненная Наташа смотрит своими вдумчивыми глазами, пытливо чуя и отыскивая те тонкие, неуловимые звуки, которые, собранные терпеливо и нежно, чудно зазвучат со временем близким сладкою песнью любви и страданий.
Вот Маня — ясное майское утро, готовая всех согреть, осветить своими блестящими глазками.
Сережик — «глубокий философ», маленький Сережик, только что начинающий настраивать свой сложный маленький механизм, только что пробующий трогать его струны и чутко прислушивающийся к этим тонким, протяжным отзвучьям, — невольно манит к себе.
— Эт-та что? — медленно, певуче тянет он и так же медленно подымает свой маленький пальчик.
— Синее небо, мой милый.
— Эт-та что?
— Небо, мой крошка, небо, малютка, недосягаемое синее небо, куда вечно люди смотрят, но вечно ходят по земле.
Вот и Аня поднялась с своей кроватки навстречу идущим — крошечная Аня, маленький вопросительный знак, с теплыми веселыми глазками.
А вот промелькнула в девичьей фигура ее набедокурившего баловня — живого, как огонь, подвижного, как ртуть, неуравновешенного, вечно взбудораженного, возбужденного, впечатлительного, безрассудного сына. Но в этой сутолоке чувств сидит горячее сердце.
Продолжая гулять, мать обошла террасу и пошла к ванной.
Шествие при входе в детскую заключает маленький Сережик, с откинутыми ручонками, как-то потешно ковыляющий на своих коротеньких ножках.
— А папа Тёму би-й, — говорит он, вспоминая почему-то о наказании брата.
— Тс! — подлетает к нему стремительно Зина, строго соблюдавшая установленное матерью правило, что о наказаниях, постигших виновных, не имеют права вспоминать.
Но Сережик еще слишком мал. Он знать не желает никаких правил и потому снова начинает:
— А папа…
— Молчи! — зажимает ему рот Зина. Сережик уже собирает в хорошо ему знакомую гримасу лицо, но Зина начинает быстро, горячо нашептывать брату что-то на ухо, указывая на двери соседней комнаты, где сидит Тёма. Сережик долго недоверчиво смотрит, не решаясь распроститься с сделанной гримасой и извлечь из нее готовый уже вопль, но в конце концов уступает сестре, идет на компромисс и соглашается смотреть картинки зоологического атласа.
— Артемий Николаич, пожалуйте! — говорит веселым голосом Таня, отворяя дверь маленькой комнаты со стороны девичьей.
Тёма молча встает и стесненно проходит мимо Тани.
— Один или со мной? — беспечно спрашивает она вдогонку.
— Один, — отвечает быстро, уклончиво Тёма и спешит пройти девичью.
Он рад полумраку. Он облегченно вздыхает, когда затворяет за собой дверь ванной. Он быстро раздевается и лезет в ванну. Обмывшись, он вылезает, берет свое грязное белье и начинает полоскать его в ванне. Ему кажется, он умер бы со стыда, если бы кто-нибудь узнал, в чем дело; пусть лучше будет мокрое. Кончив свою стирку, Тёма скомкивает в узел белье и ищет глазами, куда бы его сунуть; он засовывает наконец свой узел за старый, запыленный комод. Успокоенный, он идет одеваться, и глаза его наталкиваются на кусок, очевидно, забытого кем-то хлеба. Мальчик с жадностью кидается на него, так как целый день ничего не ел. Годы берут свое: он сидит на скамейке, болтает ножонками и с наслаждением ест. Всю эту сцену видит мать и взволнованно отходит от окна. Она гонит от себя впечатление этой сцены, потому что чувствует, что готова расплакаться. Она освежает лицо, поворачиваясь навстречу мягкому южному ветру, стараясь ни о чем не думать.
Кончив есть, Тёма встал и вышел в коридор. Он подошел к лестнице, ведущей в комнаты, остановился на мгновенье, подумал, прошел мимо по коридору и, поднявшись на крыльцо, нерешительно вполголоса позвал:
— Жучка, Жучка!
Он подождал, послушал, вдохнул в себя аромат масличного дерева, потянулся за ним и, выйдя во двор, стал пробираться к саду.
Страшно! Он прижался лицом между двух стоек ограды и замер, охваченный весь каким-то болезненным утомлением.
Ночь после бури.
Чем-то волшебным рисуется в серебристом сиянии луны сад. Разорванно пробегают в далеком голубом небе последние влажные облака. Ветер точно играет в пустом пространстве между садом и небом. Беседка задумчиво смотрит на горке. А вдруг мертвецы, соскучившись сидеть на стене, забрались в беседку и смотрят оттуда на Тёму? Как-то таинственно страшно молчат дорожки. Деревья шумят, точно шепчут друг другу: «Как страшно в саду». Вот что-то черное беззвучно будто мелькнуло в кустах: на Жучку похоже! А может быть, Жучки давно и нет?! Как жутко вдруг стало. А там что белеет?! Кто-то идет по террасе.
— Артемий Николаич, — говорит, отворяя калитку и подходя к нему, Таня, — спать пора.
Тёма точно просыпается.
Он не прочь, он устал, но перед сном надо идти прощаться, надо пожелать спокойной ночи маме и папе. Ох, как не хочется! Он сжал судорожно крепко руками перила ограды и еще плотнее прильнул к ним лицом.
— Артемий Николаич, Тёмочка, милый мой барин, — говорит Таня и целует руки Тёмы, — идите к мамаше! Идите, мой милый, дорогой, — говорит она, мягко отрывая и увлекая его за собой, осыпая на ходу поцелуями…
Он в спальне у матери.
Только лампадка льет из киота свой неровный, трепетный свет, слабо освещая предметы.
Он стоит на ковре. Перед ним в кресле сидит мать и что-то говорит ему. Тёма точно во сне слушает ее слова, они безучастно летают где-то возле его уха. Зато на маленькую Зину, подслушивающую у двери, речь матери бесконечно сильно действует своею убедительностью. Она не выдерживает больше и, когда до нее долетают вдруг слова матери: «а если тебе не жаль, значит, ты не любишь маму и папу», врывается в спальню и начинает горячо:
— Я говорила ему…
— Как ты смела, скверная девчонка, подслушивать?!
И «скверная девчонка», подхваченная за руку, исчезает мгновенно за дверью. Это изгнание его маленького врага пробуждает Тёму. Он опять живет всеми нервами своего организма. Все горе дня встает перед ним. Он весь проникается сознанием зла, нанесенного ему сестрой. Обидное чувство, что его никто не хочет выслушать, что к нему несправедливы, охватывает его.
— Все только слушают Зину… Все целый день на меня нападают, меня никто не-е любит и никто не хо-о-чет вы-ы-слу-у…
И Тёма горько плачет, закрывая руками лицо.
Долго плачет Тёма, но горечь уже вылита.
Он передал матери всю повесть грустного дня, как она слагалась роковым образом. Его глаза распухли от слез; он нервно вздрагивает и нет-нет всхлипывает тройным вздохом. Мать, сидя с ним на диване, ласково гладит его густые волосы и говорит ему:
— Ну, будет, будет… мама не сердится больше… мама любит своего мальчика… мама знает, что он будет у нее хороший, любящий, когда поймет только одну маленькую, очень простую вещь. И Тёма может ее уже понять. Ты видишь, сколько горя с тобой случилось, а как ты думаешь, отчего? А я тебе скажу: оттого, что ты еще маленький трус…
Тёма, ждавший всяких обвинений, но только не этого, страшно поражен и задет этим неожиданным выводом.
— Да, трус! Ты весь день боялся правды. И из-за того, что ты ее боялся, все беды твои и случились. Ты сломал цветок. Чего ты испугался? Пойти сказать правду сейчас же. Если б даже тебя и наказали, то ведь, как теперь сам видишь, тем, что не сказал правды, наказанья не избег. Тогда как, если бы ты правду сказал, тебя, может быть, и не наказали бы. Папа строгий, но папа сам может упасть, и всякий может. Наконец, если ты боялся папы, отчего ты не пришел ко мне?
— Я хотел сказать, когда вы садились в дрожки…
Мать вспомнила и пожалела, что не дала хода охватившему ее тогда подозрению.
— Отчего ты не сказал?
— Я боялся папы…
— Сам же говоришь, что боялся, значит — трус. А трусить, бояться правды — стыдно. Боятся правды скверные, дурные люди, а хорошие люди правды не боятся и согласны не только, чтобы их наказывали за то, что они говорят правду, но рады и жизнь отдать за правду.
Мать встала, подошла к киоту, вынула оттуда распятие и села опять возле сына.
— Кто это?
— Бог.
— Да, бог, который принял вид человека и сошел с неба на землю. Ты знаешь, зачем он пришел? Он пришел научить людей говорить и делать правду. Ты видишь, у него на руках, на ногах и вот здесь кровь?
— Вижу.
— Эта кровь оттого, что его распяли, то есть повесили на кресте; пробили ему гвоздями руки, ноги, пробили ему бок, и он умер от этого. Ты знаешь, что бог все может, ты знаешь, что он пальцем вот так пошевелит — и все, все мы сейчас умрем и ничего не будет: ни нашего дома, ни сада, ни земли, ни неба. Как ты думаешь теперь, отчего он позволил себя распять, когда мог бы взглядом уничтожить этих дурных людей, которые его умертвили? Отчего?
Мать замолкла на мгновение и, выразительно, мягко заглядывая в широко раскрытые глаза своего любимца-сына, проговорила:
— Оттого, что он не боялся правды, оттого, что правда была ему дороже жизни, оттого, что он хотел показать всем, что за правду не страшно умереть. И когда он умирал, он сказал: кто любит меня, кто хочет быть со мной, тот должен не бояться правды. Вот когда ты подрастешь и узнаешь, как люди жили прежде, узнаешь, что нельзя было бы жить на земле без правды, тогда ты не только перестанешь бояться правды, а полюбишь ее так, что захочешь умереть за нее, тогда ты будешь храбрый, добрый, любящий мальчик. А тем, что ты сядешь на сумасшедшую лошадь, ты покажешь другим и сам убедишься только в том, что ты еще глупый, не понимающий сам, что делаешь, мальчик, а вовсе не то, что ты храбрый, потому что храбрый знает, что делает, а ты не знаешь. Вот когда ты знал, что папа тебя накажет, ты убежал, а храбрый так не делает. Папа был на войне: он знал, что там страшно, а все-таки пошел. Ну, довольно: поцелуй маму и скажи ей, что ты будешь добрый мальчик.
Тёма молча обнял мать и спрятал голову на ее груди.
IV Старый колодезь
Ночь. Тёма спит нервно и возбужденно. Сон то легкий, то тяжелый, кошмарный. Он то и дело вздрагивает. Снится ему, что он лежит на песчаной отмели моря, в том месте, куда их возят купаться, лежит на берегу моря и ждет, что вот-вот накатится на него большая холодная волна. Он видит эту прозрачную зеленую волну, как она подходит к берегу, видит, как пеной закипает ее верхушка, как она вдруг точно вырастает, подымается перед ним высокой стеной; он с замиранием и наслаждением ждет ее брызг, ее холодного прикосновения, ждет привычного наслаждения, когда подхватит его она, стремительно помчит к берегу и выбросит вместе с массою мелкого колючего песку; но вместо холода, того живого холода, которого так жаждет воспаленное от начинающейся горячки тело Тёмы, волна обдает его каким-то удушливым жаром, тяжело наваливается и душит… Волна опять отливает, ему опять легко и свободно, он открывает глаза и садится на кровати.
Неясный полусвет ночника слабо освещает четыре детских кроватки и пятую большую, на которой сидит теперь няня в одной рубахе, с выпущенной косой, сидит и сонно качает маленькую Аню.
— Няня, где Жучка? — спрашивает Тёма.
— И-и, — отвечает няня, — Жучку в старый колодезь бросил какой-то ирод. — И, помолчав, прибавляет: — Хоть бы убил сперва, а то так, живьем… Весь день, говорят, визжала, сердечная…
Тёме живо представляется старый заброшенный колодезь в углу сада, давно превращенный в свал всяких нечистот, представляется скользящее, жидкое дно его, которое иногда с Иоськой они любили освещать, бросая туда зажженную бумагу.
— Кто бросил? — спрашивает Тёма.
— Да ведь кто? Разве скажет!
Тёма с ужасом вслушивается в слова няни. Мысли роем теснятся в его голове, у него мелькает масса планов, как спасти Жучку, он переходит от одного невероятного проекта к другому и незаметно для себя снова засыпает. Он просыпается опять от какого-то толчка среди прерванного сна, в котором он все вытаскивал Жучку какой-то длинной петлей. Но Жучка все обрывалась, пока он не решил сам лезть за нею. Тёма совершенно явственно помнит, как он привязал веревку к столбу и, держась за эту веревку, начал осторожно спускаться по срубу вниз; он уж добрался до половины, когда ноги его вдруг соскользнули, и он стремглав полетел на дно вонючего колодца. Он проснулся от этого падения и опять вздрогнул, когда вспомнил впечатление падения.
Сон с поразительной ясностью стоял перед ним. Через ставни слабо брезжил начинающийся рассвет.
Тёма чувствовал во всем теле какую-то болезненную истому, но, преодолев слабость, решил немедля выполнить первую половину сна. Он начал быстро одеваться. В голове у него мелькнуло опасение, как бы опять эта затея не затянула его на путь вчерашних бедствий, но, решив, что ничего худого пока не делает, он, успокоенный, подошел к няниной постели, поднял лежавшую на полу коробочку с серными спичками, взял горсть их к себе в карман, на цыпочках прошел чрез детскую и вышел в столовую. Благодаря стеклянной двери на террасу здесь было уже порядочно светло.
В столовой царил обычный утренний беспорядок — на столе стоял холодный самовар, грязные стаканы, чашки, валялись на скатерти куски хлеба, стояло холодное блюдо жаркого с застывшим белым жиром.
Тёма подошел к отдельному столику, на котором лежала кипа газет, осторожно выдернул из середины несколько номеров, на цыпочках подошел к стеклянной двери и тихо, чтобы не произвести шума, повернул ключ, нажал ручку и вышел на террасу.
Его обдало свежей сыростью рассвета.
День только что начинался. По бледному голубому небу там и сям точно клочьями повисли мохнатые, пушистые облака. Над садом легкой дымкой стоял туман. На террасе было пусто, и только платок матери, забытый на скамейке, одиноко валялся, живо напомнив Тёме вчерашний вечер со всеми его перипетиями и с сладким примирительным концом.
Он спустился по ступенькам террасы в сад. В саду царил такой же беспорядок вчерашнего дня, как и в столовой. Цветы с слепившимися перевернутыми листьями, как их прибил вчера дождь, пригнулись к грязной земле. Мокрые желтые дорожки говорили о силе вчерашних потоков. Деревья, с опрокинутой ветром листвой, так и остались наклоненными, точно забывшись в сладком предрассветном сне.
Тёма пошел по главной аллее, потому что в каретнике надо было взять для петли вожжи. Что касается до жердей, то он решил выдернуть их из беседки.
Проходя мимо злополучного места, с которого начинались его вчерашние страдания, Тёма увидел цветок, лежавший опрокинутым на земле. Его, очевидно, смыло вчерашним ливнем.
«Вот ведь все можно было бы свалить на вчерашний дождь», — сообразил Тёма и пожалел, что теперь уж это бесполезно. Но пожалел как-то безучастно, равнодушно. Болезнь быстро прогрессировала. Он чувствовал жар в теле, в голове, общую слабость, болезненное желание упасть на траву, закрыть глаза и так лежать без движения. Ноги его дрожали, иногда он вздрагивал, потому что ему все казалось, что он куда-то падает. Иногда вдруг воскресала перед ним какая-нибудь мелочь из прошлого, которую он давно забыл, и стояла с болезненной ясностью. Тёма вспомнил, что года два тому назад дядя Гриша обещал подарить ему такую лошадку, которая сама, как живая, будет бегать.
Он долго мечтал об этой лошадке и все ждал, когда дядя Гриша привезет ее ему, окидывая пытливым взглядом дядю при каждом его приезде и не решаясь напомнить о забытом обещании. Потом он сам забыл об этом, а теперь вдруг вспомнил.
В первое мгновение он встрепенулся от мысли, что вдруг дядя вспомнит и привезет ему обещанную лошадку, но потом подумал, что теперь ему все равно, ему уж не интересна больше эта лошадка. «Я маленький тогда был», — подумал Тёма.
Каретник оказался запертым, но Тёма знал и без замка ход в него: он пригнулся к земле и подлез в подрытую собаками подворотню. Очутившись в сарае, он взял двое вожжей и захватил на всякий случай длинную веревку, служившую для просушки белья.
При взгляде на фонарь он подумал, что будет удобнее осветить колодезь фонарем, чем бумагой, потому что горящая бумага может упасть на Жучку — обжечь ее. Выбравшись из сарая, Тёма избрал кратчайший путь к беседке — перелез прямо через стену, отделявшую черный двор от сада. Он взял в зубы фонарь, намотал на шею вожжи, подвязался веревкой и полез на стену. Он мастер был лазить, но сегодня трудно было взбираться: в голову точно стучали два молотка, и он едва не упал. Взобравшись наверх, он на мгновение присел, тяжело дыша, потом свесил ноги и наклонился, чтобы выбрать место, куда прыгнуть. Он увидел под собой сплошные виноградные кусты и только теперь спохватился, что его всего забрызгает, когда он попадет в свеженамоченную листву. Он оглянулся было назад, но, дорожа временем, решил прыгать. Он все-таки наметил глазами более редкое место и спрыгнул прямо на черневший кусок земли. Тем не менее это его не спасло от брызг, так как надо было пробираться между сплошными кустами виноградника, и он вышел на дорожку совершенно мокрый. Эта холодная ванна мгновенно освежила его, и он почувствовал себя настолько бодрым и здоровым, что пустился рысью к беседке, взобрался проворно на горку, выдернул несколько самых длинных прутьев и большими шагами по откосу горы спустился вниз. С этого места он опять почувствовал слабость и уже шагом пробирался глухой заросшей дорожкой, стараясь не смотреть на серую кладбищенскую стену.
Он знал, что неправда то, что говорил Иоська, но все-таки было страшно.
Тёма шел, смотрел прямо перед собой, и чем больше он старался смотреть прямо, тем ему делалось страшнее.
Теперь он был уверен, что мертвецы сидят на стене и внимательно следят за ним. Тёма чувствовал, как мурашки пробегали у него по спине, как что-то страшное лезло на плечи, как чья-то холодная рука, точно играя, потихоньку подымала сзади его волосы. Тёма не выдержал и, издавши какой-то вопль, принялся было бежать, но звук собственного голоса успокоил его.
Вид заброшенного, пустынно торчавшего старого колодца, среди глухой, поросшей только высокой травой местности, близость цели, Жучка — отвлекли его от мертвецов. Он снова оживился и, подбежав к отверстию колодца, вполголоса позвал:
— Жучка, Жучка!
Тёма замер в ожидании ответа.
Сперва он ничего, кроме биения своего сердца да ударов молотков в голове, не слышал. Но вот откуда-то издалека, снизу, донесся до него жалобный, протяжный стон. От этого стона сердце Тёмы мучительно сжалось, и у него каким-то воплем вырвался новый, громкий оклик:
— Жучка, Жучка!
На этот раз Жучка, узнав голос хозяина, радостно и жалобно завизжала.
Тёму до слез тронуло, что Жучка его узнала.
— Милая Жучка! Милая, милая, я сейчас тебя вытащу, — кричал он ей, точно она понимала его.
Жучка ответила новым радостным визгом, и Тёме казалось, что она просила его поторопиться исполнением обещания.
— Сейчас, Жучка, сейчас, — ответил ей Тёма и принялся, с сознанием всей ответственности принятого на себя обязательства перед Жучкой, выполнять свой сон.
Прежде всего он решил выяснить положение дела. Он почувствовал себя бодрым и напряженным, как всегда. Болезнь куда-то исчезла. Привязать фонарь, зажечь его и опустить в яму было делом одной минуты. Тёма, наклонившись, стал вглядываться. Фонарь тускло освещал потемневший сруб колодца, теряясь все глубже и глубже в охватившем его мраке, и наконец на трехсаженной глубине осветил дно.
Тонкой глубокой щелью какой-то далекой панорамы мягко сверкнула пред Тёмой в бесконечной глубине мрака неподвижная, прозрачная, точно зеркальная гладь вонючей поверхности, тесно обросшая со всех сторон слизистыми стенками полусгнившего сруба.
Каким-то ужасом смерти пахнуло на него со дна этой далекой, нежно светившейся, страшной глади. Он точно почувствовал на себе ее прикосновение и содрогнулся за свою Жучку. С замиранием сердца заметил он в углу черную шевелившуюся точку и едва узнал, вернее угадал, в этой беспомощной фигурке свою некогда резвую, веселую Жучку, державшуюся теперь на выступе сруба. Терять времени было нельзя. От страха, хватит ли у Жучки силы дождаться, пока он все приготовит, у Тёмы удвоилась энергия. Он быстро вытащил назад фонарь, а чтобы Жучка не подумала, очутившись опять в темноте, что он ее бросил, Тёма во все время приготовления кричал:
— Жучка, Жучка, я здесь!
И радовался, что Жучка отвечает ему постоянно тем же радостным визгом. Наконец все было готово. При помощи вожжей фонарь и два шеста с перекладинкой внизу, на которой лежала петля, начали медленно спускаться в колодезь.
Но этот так обстоятельно обдуманный план потерпел неожиданное и непредвиденное фиаско благодаря стремительности Жучки, испортившей все.
Жучка, очевидно, поняла только одну сторону идеи, а именно, что спустившийся снаряд имел целью ее спасение, и поэтому, как только он достиг ее, она сделала попытку схватиться за него лапами. Этого прикосновения было достаточно, чтобы петля бесполезно соскочила, а Жучка, потеряв равновесие, свалилась в грязь.
Она стала барахтаться, отчаянно визжа и тщетно отыскивая оставленный ею выступ.
Мысль, что он ухудшил положение дела, что Жучку можно было еще спасти и теперь он сам виноват в том, что она погибнет, что он сам устроил гибель своей любимице, заставляет Тёму, не думая, благо план готов, решиться на выполнение второй части сна — самому спуститься в колодезь.
Он привязывает вожжу к одной из стоек, поддерживающих перекладину, и лезет в колодезь. Он сознает только одно, что времени терять нельзя ни секунды.
Его обдает вонью и смрадом. На мгновенье в душу закрадывается страх, как бы не задохнуться, но он вспоминает, что Жучка сидит там уже целые сутки; это успокаивает его, и он спускается дальше. Он осторожно щупает спускающейся ногой новую для себя опору и, найдя ее, сначала пробует, потом твердо упирается и спускает следующую ногу. Добравшись до того места, где застряли брошенные жердь и фонарь, он укрепляет покрепче фонарь, отвязывает конец вожжи и спускается дальше. Вонь все-таки дает себя чувствовать и снова беспокоит и пугает его. Тёма начинает дышать ртом. Результат получается блестящий: вони нет, страх окончательно улетучивается. Снизу тоже благополучные вести. Жучка, опять уже усевшаяся на прежнее место, успокоилась и веселым попискиванием выражает сочувствие безумному предприятию.
Это спокойствие и твердая уверенность Жучки передаются мальчику, и он благополучно достигает дна.
Между ним и Жучкой происходит трогательное свидание друзей, не чаявших уже больше свидеться в этом мире. Он наклоняется, гладит ее, она лижет его пальцы, и — так как опыт заставляет ее быть благоразумной — она не трогается с места, но зато так трогательно, так нежно визжит, что Тёма готов заплакать и уже, забывшись, судорожно начинает втягивать носом воздух, необходимый для первого непроизвольного всхлипывания, но зловоние отрезвляет и возвращает его к действительности.
Не теряя времени он, осторожно держась зубами за изгаженную вожжу, обвязывает свободным ее концом Жучку, затем поспешно карабкается наверх. Жучка, видя такую измену, подымает отчаянный визг, но этот визг только побуждает Тёму быстрее подниматься.
Но подниматься труднее, чем спускаться! Нужен воздух, нужны силы, а того и другого у Тёмы уже мало. Он судорожно ловит в себя всеми легкими воздух колодца, рвется вперед, и чем больше торопится, тем скорее оставляют его силы. Тёма поднимает голову, смотрит вверх, в далекое ясное небо, видит где-то высоко над собою маленькую веселую птичку, беззаботно скачущую по краю колодца, и сердце его сжимается тоской: он чувствует, что не долезет. Страх охватывает его. Он растерянно останавливается, не зная, что делать: кричать, плакать, звать маму? Чувство одиночества, бессилия, сознание гибели закрадываются в его душу. Он ясно видит, хотя инстинктивно не хочет смотреть, хочет забыть, что под его ногами. Его уже тянет туда, вниз, по этой гладкой скользящей стене, туда, где отчаянно визжит Жучка, где блестящее вонючее дно ждет равнодушно свою, едва обрисовывающуюся во мраке, обессилевшую жертву.
Ему уже хочется поддаться страшному, болезненному искушению — бросить вожжи, но сознание падения на мгновение отрезвляет его.
— Не надо бояться, не надо бояться! — говорит он дрожащим от ужаса голосом. — Стыдно бояться! Трусы только боятся! Кто делает дурное — боится, а я дурного не делаю, я Жучку вытаскиваю, меня и мама и папа за это похвалят. Папа на войне был, там страшно, а здесь разве страшно? Здесь ни капельки не страшно. Вот отдохну и полезу дальше, потом опять отдохну и опять полезу, так и вылезу, потом и Жучку вытащу. Жучка рада будет, все будут удивляться, как я ее вытащил.
Тёма говорит громко, у него голос крепнет, звучит энергичнее, тверже, и наконец, успокоенный, он продолжает взбираться дальше.
Когда он снова чувствует, что начинает уставать, он опять громко говорит себе:
— Теперь опять отдохну и потом опять полезу. А когда я вылезу и расскажу, как я смешно кричал сам на себя, все будут смеяться, и я тоже.
Тёма улыбается и снова спокойно ждет прилива сил.
Таким образом, незаметно его голова высовывается наконец над верхним срубом колодца. Он делает последнее усилие, вылезает сам и вытаскивает Жучку.
Теперь, когда дело сделано, силы быстро оставляют его. Почувствовав себя на твердой почве, Жучка энергично встряхивается, бешено бросается на грудь Тёмы и лижет его в самые губы. Но этого мало, слишком мало для того, чтобы выразить всю ее благодарность, — она кидается еще и еще. Она приходит в какое-то безумное неистовство!
Тёма бессильно, слабеющими руками отмахивается от нее, поворачивается к ней спиной, надеясь этим маневром спасти хоть лицо от липкой, вонючей грязи.
Занятый одной мыслью — не испачкать об Жучку лицо, — Тёма ничего не замечает, но вдруг его глаза случайно падают на кладбищенскую стену, и Тёма замирает на месте.
Он видит, как из-за стены медленно поднимается чья-то черная, страшная голова.
Напряженные нервы Тёмы не выдерживают, он испускает неистовый крик и без сознания валится на траву к великой радости Жучки, которая теперь уже свободно, без препятствий выражает ему свою горячую любовь и признательность за спасение.
Еремей (это был он), подымавшийся со свеженакошенной травой со старого кладбища, — ежедневная дань с покойников в пользу двух барских коров, — увидев Тёму, довольно быстро на этот раз сообразил, что надо спешить к нему на помощь.
Через час Тёма, лежа на своей кроватке, с ледяными компрессами на голове, пришел в себя.
Но уж связь событий потерялась в его воспаленном мозгу; предметы, мысли проходили перед ним вопросами: отчего все так встревоженно толпятся вокруг него? Вот мама…
— Мама!
Отчего мама плачет? Отчего ему тоже хочется плакать? Что говорит ему мама? Отчего так вдруг хорошо ему стало? Но зачем же уходит от него мама, зачем уходят все и оставляют его одного? Отчего так темно сделалось? Как страшно вдруг стало! Что это лезет из-под кровати?!
— Это папа… милый папа!!
«Ах, нет, нет, — тоскливо мечется мальчик, — это не папа, это что-то страшное лезет».
— Иди, иди, иди себе! — с диким страхом кричит Тёма. — Иди! — И крик его переходит в какой-то низкий, полный ужаса и тоски рев.
— Иди! — несется по дому. И с напряженной болью прислушиваются все к этому тяжелому горячечному бреду.
Всем жаль маленького Тёму. Холодное дыхание смерти ярко колеблет вот-вот готовое навсегда погаснуть разгоревшееся пламя маленькой свечки. Быстро тает воск, быстро тает оболочка тела, и уже стоит перед всеми горячая, любящая душа Тёмы, стоит обнаженная и тянет к себе.
V Наемный двор
Проходили дни, недели в томительной неизвестности. Наконец здоровый организм ребенка взял верх.
Когда в первый раз Тёма показался на террасе, похудевший, выросший, с коротко остриженными волосами, — на дворе уже стояла теплая осень.
Щурясь от яркого солнца, он весь отдался веселым, радостным ощущениям выздоравливающего. Все ласкало, все веселило, все тянуло к себе: и солнце, и небо, и видневшийся сквозь решетчатую ограду сад.
Ничего не переменилось со времени его болезни! Точно он только часа на два уезжал куда-нибудь в город.
Та же бочка стоит посреди двора, по-прежнему такая же серая, рассохшаяся, с еле держащимися широкими колесами, с теми же запыленными деревянными осями, мазанными, очевидно, еще до его болезни. Тот же Еремей тянет к ней ту же упирающуюся по-прежнему Буланку. Тот же петух озабоченно что-то толкует под бочкой своим курам и сердится по-прежнему, что они его не понимают.
Все то же, но все радует своим однообразием и будто говорит Тёме, что он опять здоров, что все точно только и ждали его выздоровления, чтобы снова, вступив в прежнюю связь с ним, зажить одною общей жизнью.
Ему даже казалось, что вся его болезнь была каким-то сном… Только лето прошло…
До его слуха долетели из отворенного окна кабинета голоса матери и отца и заставили его еще раз почувствовать прелесть выздоровления.
Речь между отцом и матерью шла о нем.
Разговора в подробностях он не понял, но суть его уловил. Она заключалась в том, что ему, Тёме, разрешат бегать и играть на наемном дворе.
Наемный двор — громадное пустопорожнее место, принадлежавшее отцу Тёмы, — примыкал к дому, где жила вся семья, отделяясь от него сплошной стеной. Место было грязное, покрытое навозом, сорными кучами, и только там и сям ютились отдельные землянки и низкие, крытые черепицей флигельки. Отец Тёмы, Николай Семенович Карташев, сдавал его в аренду еврею Лейбе. Лейба, в свою очередь, сдавал по частям: двор — под заезд, лавку — еврею Абрумке, в кабаке сидел сам, а квартиры в землянках и флигелях отдавал внаем всякой городской голытьбе. У этой голи было мало денег, но зато много детей. Дети — оборванные, грязные, но здоровые и веселые — целый день бегали по двору.
Мысль о наемном дворе давно уже приходила в голову матери Тёмы, Аглаиде Васильевне.
Нередко, сидя в беседке за книгой, она невольно обращала внимание на эту ватагу вечно возбужденных веселых ребятишек. Наблюдая в бинокль за их играми, за их неутомимой беготней, она часто думала о Тёме.
Нередко и Тёма, прильнув к щелке ворот, разделявших оба двора, с завистью следил из своей сравнительно золотой темницы за резвой толпой. Иногда он заикался о разрешении побегать на наемном дворе; мать слушала и нерешительно отклоняла его просьбу.
Но болезнь Тёмы, упрек мужа относительно того, что Тёма не воспитывается как мальчик, положили конец ее колебаниям.
Как натура непосредственная и впечатлительная, Аглаида Васильевна мыслила и решала вопросы так, как мыслят и решают только такие натуры. С виду ее решения часто бывали для окружающих чем-то неожиданным; в действительности же тот процесс мышления, результатом которого получалось такое с виду неожиданное решение, несомненно существовал, но происходил, так сказать, без сознательного участия с ее стороны. Факты накоплялись, и когда их собиралось достаточно для данного вывода, — довольно было ничтожного толчка, чтобы запутанное до того времени положение вещей освещалось сразу, с готовыми уже выводами.
Так было и теперь. Упрек мужа был этим толчком, и Аглаида Васильевна пошла в кабинет к нему поговорить о пришедшей ей в голову идее. Результатом разговора было разрешение Тёме посещать наемный двор.
Через две недели Тёма уже носился с ребятишками наемного двора. Он весь отдался ощущениям совершенно иной жизни своих новых приятелей — жизни, ни в чем не схожей с его прежней, своим контрастом, неизгладимыми образами отпечатавшейся в его памяти.
Наемный двор, как уже было сказано, представлял собой сплошной пустырь, заваленный всевозможными кучами.
Для всех эти кучи были грязным сором, выбрасываемым раз в неделю, по субботам, из всех этих нищенских лачуг, но для оборванных мальчишек они представляли собою неисчерпаемые источники богатств и наслаждений. Один вид их — серый, пыльный, блестящий от кусочков битого стекла, сиявших на солнце всеми переливами радуги, — уже радовал их сердца. В этих кучах были зарыты целые клады: костяшки для игры в пуговки, бабки, нитки. С каким наслаждением, бывало, в субботу, когда выбрасывался свежий сор, накидывалась на него ватага жадных ребятишек, и в числе их — Тёма с Иоськой.
Вот дрожащими от волнения руками тянется кусочек серой нитки и пробуется ее крепость. Она годится для пускания змея, — ничего, что коротка, она будет связана с другими такими же нитками; ничего, что в ней запутались какие-то волосы и что-то прилипло, что она вся сбита в один запутанный комок, — тем больше наслаждения будет, когда, собравши свою добычу, ватага перелезет через кладбищенскую стену и, усевшись где-нибудь на старом памятнике, станет приводить в порядок свое богатство.
Тёма сидит, весь поглощенный своей трудной работой. Глаза его машинально блуждают по старым покосившимся памятникам, и он думает: какой он глупый был, когда испугался головы Еремея.
Гераська, главный атаман ватаги, рассказывает о ночных похождениях тех, которых зарывают без отпевания.
— Прикинет тебе дорогу и ведет… ведет, ведет… Вот будто, вот сейчас домой… Так и дотянет до петухов… Как кочета закричат, ну и будет, — глядишь, а ты на том же месте стоишь. Верно! Накажи меня бог! — крестится в подтверждение своих слов Гераська.
— Что ж? Это ни капельки не страшно, — пренебрежительно замечает Тёма.
— Не страшно? — воспламеняется Гераська. — А попади-ка к ним под сочельник, они тебе покажут, как не страшно! Погляжу я на тебя, когда Пульчиха…
Пульчиха, старая, восьмидесятилетняя, высокая, толстая одинокая баба, занимала одну из лачуг наемного двора. Она всегда отличалась угрюмым, сосредоточенным, несообщительным нравом и всегда нагоняла на детей какой-то инстинктивный ужас своим низким, грубым голосом, когда гоняла, бывало, их подальше от своих дверей.
Однажды дверь обыкновенно аккуратной Пульчихи оказалась затворенной, несмотря на то, что все давно уже встали. Гераська сейчас же, заметив эту ненормальность, заглянул осторожно в окошечко лачуги и с ужасом отскочил назад: выпученные глаза Пульчихи страшно смотрели на него со своего вздутого, посинелого лица.
Преодолев ужас, Гераська опять заглянул и разглядел тонкую бечевку, тянувшуюся с потолка к ее шее. Пульчиха, казалось, стояла на коленях, но не касаясь пола, а как-то на воздухе. Подняли тревогу, выломали дверь, вытащили старуху из петли, но уж все было кончено — Пульчиха умерла. Ее отнесли к «висельникам», а лачуга так и оставалась пустой, не привлекая к себе новых квартирантов.
Эта неожиданная, страшная смерть Пульчихи произвела на ватагу сильное, потрясающее впечатление.
— Ты думаешь, — продолжал Гераська, воодушевляясь, и мурашки забегали по спинам ватаги, — ты думаешь, она подохла? держи карман! Вот пусть-ка снимет кто ее хату?! А-га! Вот тогда и узнает, где эта самая Пульчиха, как она, подлая, ночью притащится на четвереньках под окно и станет смотреть, что там делают. Рожа страшная, си-и-и-няя, вздутая, зубами ляскает, а глазищи так и ворочаются, так и ворочаются… Накажи меня бог! Она и сейчас каждую ночь шляется, сволочь, и пока ей в брюхо не забьют осиновый кол, она так и будет лазить. А забьют, ну и шабаш!
Рассказ производит потрясающее впечатление. Тёма давно сорван со своих скептических подмостков и с напряженным лицом следит за каждым движением Гераськи.
Напряженнее всех всегда слушает Колька, у которого даже жилы надуваются на лбу, а рот остается открытым и тогда, когда все остальные уже давно пришли в себя.
— У-у! — ткнет ему, бывало, Яшка пальцем в открытый рот.
Поднимется хохот. Колька вспыхнет и наметит обидчику прямо в ухо. Но Яшка увернется и со смехом отбежит в сторону. Колька пустится за ним, Яшка от него. Смех и общее веселье.
Солнце окончательно исчезает за деревьями; доносятся крикливые голоса матерей всех этих Герасек, Колек, Яшек; ватага шумно карабкается по стене, с размаху прыгает во двор и расходится. Тёма некоторое время наблюдает, как родители встречают запоздалых друзей шлепками, и нехотя возвращается со своим оруженосцем Иоськой домой. Все ему так нравится, все внутри так живет у него, что он жалеет в эту минуту только о том, что не может вечно оставаться на наемном дворе, вечно играть со своими новыми друзьями.
Вечером за чайным столом сидит вся семья, сидит Тёма, и образы двора толпятся перед ним. Он как-то смутно вслушивается в разговор и оживляется лишь тогда, когда до его слуха долетает жалоба пришедшего арендатора на то, что номер Пульчихи по-прежнему не занят.
— Он и не будет никогда занят, — авторитетно заявляет Тёма.
На вопрос «почему?» Тёма сообщает причину. Заметив, что рассказ производит впечатление, Тёма продолжает, стараясь подражать во всем Гераське:
— Как кто наймет, она, подлая, полезет к окну, морда си-и-няя, зубами ляскает, сама вздутая, подлая…
Тёма все силы напрягает на последнем слове.
— Боже мой! что это?! — восклицает мать.
Тёма немного озадачен, но доканчивает:
— А вот если ей в брюхо кол осиновый загнать, она, сволочь, перестанет ходить.
На другой день Тёму на наемный двор не пускают, и весь день посвящается чистке от нравственного сора, накопившегося в душе Тёмы.
Тщательное следствие никакого, впрочем, особенного сора не обнаруживает, хотя одна не совсем красивая история как-то сама собой выплывает на свет божий.
В числе игр, развлекавших ребятишек, были и такие, в которых сорные кучи были ни при чем, а именно: «дзига» — вид волчка, свайка, мяч и орехи. Последняя игра требовала уже денег, так как орехов Абрумка даром не давал. Был, конечно, способ достать орехов в саду. Но орехи сада не годились: они были слишком крупны, шероховаты, а для игры требовались маленькие орехи, круглые и легкие. Ничего, что внутри их все давно сгнило, зато они хорошо катились в ямку. В случае крайности за три садовых ореха Тёме давали один Абрумкин. Эти садовые орехи тоже нелегко давались. Тёма должен был рвать их с риском попасться; иногда ломались ветви под его ногами, что тоже мог заметить зоркий глаз отца. Тёма придумал выход более простой. Он пришел раз к Абрумке и сказал:
— Абрумка, скоро будет мое рождение, и мне подарят двадцать копеек. Дай мне теперь орехов, а в рождение я тебе отдам деньги.
Абрумка дал. Таким образом, набралось на двадцать копеек. Тёма некоторое время не ходил к Абрумке, но нужда заставила, и, придя к нему, он сказал:
— Абрумка, дай мне еще орехов.
Но Абрумка напомнил Тёме, что в рождение ему подарят только двадцать копеек.
Тогда Тёма сказал Абрумке:
— Я забыл, Абрумка, мне Таня обещала еще десять копеек подарить.
Абрумка подозрительно покосился на Тёму. Тёма покраснел и почувствовал к Абрумке что-то враждебное и злое. Он уже хотел убежать от гадкого Абрумки и отказаться от своего намерения взять у него еще орехов, но так как Абрумка пошел в лавку, то и Тёма передумал и направился за ним. Абрумка копался за темным, грязным прилавком, отыскивая между загаженными мухами полками грязную банку с гнилыми орехами, а Тёма ждал, пугливо косясь на соседнюю, тоже темную, комнату, где в полумраке на кровати обрисовывалась фигура больной жены Абрумки. Она уже давным-давно не вставала и лежала на своей кровати, казалось, засунутая в пуховую перину, — вечно больная, бледная, изможденная, с горевшими черными глазами, с всклокоченными волосами, — и изредка тихо, мучительно стонала.
Получив орехи, Тёма опрометью бросился из лавки, подальше от страшной жены Абрумки, у которой Гераська как-то умудрился заметить хвостик и сам своими глазами видел, как она однажды верхом на метле, ночью под шабаш, вылетела в трубу. Так как Гераська при этом снял шапку, перекрестился и сказал: «Накажи меня бог!» — то сомнения быть не могло в справедливости его слов.
Получив орехи и проиграв их, Тёма больше уже не решался идти к Абрумке. Он чувствовал, что надул его, и это его мучило. Ему казалось, что и Абрум это понял. Тёма чувствовал свою вину перед ним и без щемящего чувства не мог смотреть на угнетенную фигуру вечно торчавшего у своих дверей Абрумки.
Иногда вдруг, среди веселой игры, мелькнет перед Тёмой образ Абрумки, вспомнится близость дня рождения, безвыходность положения, и тоскливо замрет сердце. Только одно утешение и было, что день рождения еще не так близок. Но беда пришла раньше, чем ждал Тёма. Однажды Абрумка, никогда не отходивший ни на шаг от своей лавочки, вдруг, заметив Тёму во дворе, пошел к нему.
Тёма при его приближении вильнул было, как будто играя, в кирпичный сарай, но Абрумка вошел и в сарай и потребовал от Тёмы денег, мотивируя нужду в деньгах неожиданной смертью жены.
Тёма уже с утра слышал от своих товарищей, что жена Абрумки умерла; слышал даже подробный рассказ, как Абрумка сам задушил ее ночью, наложив ей на голову подушку, и, усевшись, сидел на этой подушке до тех пор, пока его жена не перестала хрипеть; затем он слез и лег спать, а утром пошел и сказал всем, что его жена умерла.
— Ты сам видел? — спросил с широко открывшимися глазами Тёма.
— Накажи меня бог, видел! — проговорил Гераська и в доказательство снял шапку и перекрестился.
Теперь этот Абрумка, как будто он никогда не душил своей жены, стоял перед Тёмой в темном сарае и требовал денег.
Тёме стало страшно: а вдруг и его злой Абрумка сейчас задушит и пойдет скажет всем, что Тёма взял и сам умер.
— У меня нет денег, — ответил Тёма коснеющим языком.
— Ну, так я лучше папеньке скажу, — просительно проговорил Абрумка, — очень нужно, нечем хоронить мою бедную Химку…
И Абрум вытер скатившуюся слезу.
— Нет, не говори, я сам скажу, — быстро проговорил Тёма, — я сейчас же принесу тебе.
У Тёмы пропал всякий страх к Абрумке. Искреннее, неподдельное горе, звучавшее в его словах, повернуло к нему сердце Тёмы. Он решил немедленно идти к матери и сознаться ей во всем.
Он застал мать за чтением.
Тёма горячо обнял мать.
— Мама, дай мне тридцать копеек.
— Зачем тебе?
Тёма замялся и сконфуженно проговорил:
— Мне жалко Абрумки, ему нечем похоронить Химку, я обещал ему.
— Это хорошо, что тебе жаль его, но все-таки обещать ему ты не имел никакого права. Разве у тебя есть свои деньги? Только своими деньгами можно располагать.
Тёма напряженно, сконфуженно слушал, и когда Аглаида Васильевна вынесла ему деньги, он обнял ее и горячо ответил ей, мучимый раскаянием за свою ложь:
— Милая моя мама, я никогда больше не буду.
— Ну, иди, иди — ласково отвечала мать, целуя его.
Тёма бежал к Абрумке, и в воображении рисовалось его лицо, полное блаженства, когда он увидит принесенные ему Тёмой деньги.
Раскрасневшись, с блестящими глазами, он влетел в лавочку и, чувствуя себя хорошо и смело, как до того времени, когда он еще не сделался должником, проговорил восторженно:
— Вот, Абрумка!
Абрумка, рывшийся за прилавком, молча поднял голову и равнодушно-уныло взял протянутые ему деньги. Но, взглянув на разочарованного Тёму, Абрумка инстинктивно понял, что Тёме нет дела до его горя, что Тёма поглощен собой и требует награды за свой подвиг. Движимый добрым чувством, Абрумка вынул одну конфетку из банки, подал ее мальчику и, потрепав его по плечу, проговорил рассеянно:
— Хороший панич.
Тёме не по душе была фамильярность Абрумки, не по душе было равнодушие, с каким последний принял от него деньги, и восторженное чувство сменилось разочарованием. То, что-то близкое, что он за мгновение до этого чувствовал к обездоленному, тихому Абрумке, сменилось опять чем-то чужим, равнодушным, брезгливым. Тёма уже хотел оттолкнуть конфетку и убежать, хотел сказать Абрумке, что он не смеет трепать его по плечу, потому что он — Абрумка, а он Тёма — генеральский сын, но что-то удержало его. Он на мгновение почувствовал унизительное бессилие от своей неспособности обрезать так, как, наверно, обрезала бы Зина, и, скрывая брезгливость, разочарование, раздражение и сознание бессилия, молча взял конфетку и, не глядя на Абрумку, уже собирался поскорее вильнуть из лавки, как вдруг дверь отворилась, и Тёма увидел, что происходило в другой комнате. Там толпа грязных евреек суетливо доканчивала печальный обряд. Тёма увидел что-то белое, спеленатое и догадался, что это что-то было тело жены Абрумки. В комнате, обыкновенно темной, было теперь светло от отворенных окон; кровать, на которой лежала больная, была пуста и прибрана. «И никогда уж больше не будет лежать на ней жена Абрумки», — подумал Тёма. Ее сейчас понесут на кладбище, зароют, и останется она там одна с червями, тогда как он, Тёма, сейчас выбежит из лавочки и, счастливый, полный радости жизни, будет играть, смотреть на веселое солнце, дышать воздухом. А она не может дышать. Ах, как хорошо дышать! И Тёма вздохнул всей грудью. Как хорошо бегать, смеяться, жить!.. А она не может жить, она никогда не откроет глаз и никогда, никогда не ляжет больше на эту кровать. Как пусто, тяжело стало на душе Тёмы. Какой мрак и тоска охватили его от формулированного в первый раз понятия о смерти. Да, это все пройдет. Не будет ни Абрумки, ни всех, ни его, Тёмы, ни этой лавочки, — все, все когда-нибудь исчезнет. И все равно когда-нибудь смерть придет, и никуда нельзя от нее уйти, никуда… Вот жена Абрумки… А если б она спряталась под кровать?! Нет, нельзя, — смерть и там нашла бы ее. И его найдет… И от этой мысли у Тёмы захватило дыхание, и он стремительно выбежал из лавки на свежий воздух.
Скучно стало Тёме. Точно все — все умерли вдруг, и никого, кроме него, не осталось, и все так пусто, тоскливо кругом. Когда Тёма прибежал к игравшей в пуговки ватаге, озабоченно и взволнованно следившей за движениями Гераськи, в третий раз победоносно собиравшегося бить кон, Тёма облегченно вздохнул, но по-прежнему безучастный, присел на пыльную землю, прижавшись к стене избушки, возле которой происходила игра. Он рассеянно следил за тем, как мелькали по воздуху отскакивавшие от стены медные пуговки, как, сверкнув в лучах яркого солнца, они падали на пыльную, мягкую землю, мгновенно покрываясь серым слоем, следил за напряженными, возбужденными лицами, и невольная параллель контрастов — того, что было у Абрумки и что происходило здесь, — смутно давила его. Тут радуются, а там смерть, им нет дела до Абрумки, а Абрумке — до них, и нельзя так сделать, чтобы и Абрумка радовался. Если его позвать играть с ними? Он не пойдет. Это им, детям, весело, а большие не любят играть. Как скучно большим жить — ничего они не любят: ни бабок, ни пуговиц, ни мяча. И он будет большой, и он ничего этого не будет любить — скучно будет. Нет, он будет любить! Он условится вот с Яшкой, Гераськой, Колькой, чтобы всегда любить играть, и будет им всегда весело… Нет, не будет — он тоже разлюбит… Нет, не разлюбит, ни за что не разлюбит! И, вскочив, точно боясь, что может отвыкнуть, он энергично закричал:
— Мой кон!
И вдруг в тот момент, когда Тёма так живо почувствовал желание играть, жить, — у него неприятно ёкнуло сердце при мысли, что он обманул мать.
«Ничего! Когда я просил у мамы прощения, я думал, что прошу за то, что обманул ее, я когда-нибудь расскажу ей все».
Успокоив себя, Тёма забыл и думать обо всем этом. И вдруг все открылось как-то так, что он и оглянуться не успел, как сам же спутал себя.
К удивлению Тёмы, Аглаида Васильевна отнеслась к этой истории очень мягко и только взяла с Тёмы слово, что на будущее время он будет говорить ей всегда правду, — иначе ворота наемного двора для него навсегда запрутся.
Прошел год. Тёма вырос, окреп и развернулся. В жизни ватаги произошла некоторая перемена. Приятно было бегать по двору, лазить на кладбище, но еще приятнее было убегать в ту сторону, где синело необъятное море. В таких прогулках было столько заманчивого!.. Тёма забывал, что он еще маленький мальчик. Он стоял на берегу моря; нежный, мягкий ветер гладил его лицо, играл волосами и вселял в него неопределенное желание чего-то, еще не изведанного. Он следил за исчезавшим на горизонте пароходом с каким-то особенно щемящим, замирающим чувством, полный зависти к счастливым людям, уносившимся в туманную даль. Рыбаки, пускавшиеся в море на своих утлых челноках, были в глазах Тёмы и всей ватаги какими-то полубогами. С каким уважением он и ватага смотрели на их загорелые лица; с каким благоговейным напряжением выбивались они из сил, помогая такому собиравшемуся в путь рыбаку стащить в море с гравелистого берега лодку!
— Дяденька, пояс! — кричал какой-нибудь счастливчик, заметив забытый рыбаком на берегу пояс.
Какой завистью горели глазенки остальных, какой удовлетворенной гордостью блистали глаза счастливца, на долю которого досталось оказать последнюю услугу отважному, неразговорчивому рыбаку! Напрасно глаза жадно ищут еще чего-нибудь, забытого на песке!
— Мальчик! Поднеси-ка корзинку! Вон, вон на песке, — кричит с выступающего камня другой рыболов, поймавший на удочку рыбу.
Новая работа: ребятишки вперегонку пускаются за корзинкой, и какой-нибудь счастливец уже несется с ней.
— О-го! Здоровый! — разрешает он себе замечание, принимая в корзину пойманную рыбу.
Рыболов снова погружается в безмолвное созерцание неподвижного поплавка, корзинка относится на место, и мальчишки ищут новых занятий. Они собирают по берегу плоские камешки и с размаху пускают их по воде. «Раз, два, три, четыре» — скользя, полетел камень по гладкой поверхности.
— Чебурых! — презрительно говорит кто-нибудь, когда камень, пущенный неумелой рукою, с места зарезывается в воду, вместо того чтобы лететь касательно.
А то, засучив по колена штаны, ватага лезет в воду и ловит под камнями рачков, разных ракушек. Поймает, полюбуется и съест. Ест и Тёма и испытывает бесконечное наслаждение.
Однажды ватага забрела на бойню. Тёма, увлекшись, не заметил, как очутился в самом дворе, как раз в тот момент, когда рассвирепевший бык, оторвавшись от привязи, бросился на присутствовавших, а в том числе и на Тёму. Тёму едва спасли. Мясник, выручивший его, на прощанье надрал ему уши. Тёма был рад, что его спасли, но обиделся, что его выдрали за уши. Он стоял сконфуженный, избегая любопытных взглядов ватаги, и обдумывал план мести. Между тем мясники, кончив свою работу, нагрузили телеги и поехали в город. Тёма знал, что их путь лежит мимо дома его отца, и потому отправился за ними. Увидев у калитки дома Еремея, Тёма обогнал обоз и стал у калитки с камнем в руках. Когда выдравший его за ухо мясник поравнялся с ним, Тёма размахнулся и пустил в него камнем, который и попал мяснику в лицо.
— Держи, держи! — закричали мясники и бросились за маленьким разбойником.
Влететь в калитку, задвинуть засов — было делом одного мгновения. На улице раненый мясник благим матом вопил:
— Батюшки, убил! Убил, разбойник!
Мясники на все голоса кричали:
— Грабеж, караул! Караул, режут!
«Убил!» — пронеслось в голове Тёмы.
На крыльцо выскочили из дому испуганные сестры, бонна, а за ней и сама Аглаида Васильевна, бледная, перепуганная непонятной тревогой.
Физиономия Тёмы, его растерянный вид ясно говорили, что в нем кроется причина всего этого шума.
— Что? Что такое? Что ты сделал?
— Я… я убил мясника, — заревел благим матом Тёма, приседая от ужаса к земле.
Было не до расспросов. Аглаида Васильевна бросилась в кабинет мужа. Появление генерала дало делу более спокойный оборот. Все объяснилось, рана оказалась неопасной. Обиженный получил на водку, и через несколько минут мясники снова отправились в путь. У Тёмы отлегло от сердца.
— Негодный мальчик! — проговорила, входя с улицы, мать.
Тёма потупился и почувствовал себя действительно негодным мальчиком. Николай Семенович был не того мнения.
— За что ж ты ругаешь его? — возмущенно обратился он к жене. — Что ж, по-твоему, ему уши будут рвать, а он ручки за это должен целовать?
Аглаида Васильевна, в свою очередь, была озадачена.
— Ну, так и берите себе этого разбойника, а мне он больше не сын, — проговорила она и быстро ушла в комнаты.
Тёма не почувствовал никакой радости от поддержки отца и удовлетворенно вздохнул только тогда, когда последний ушел. На душе у него было неспокойно; лучше было бы, если бы отец его выругал, а мать похвалила. Походив с час, Тёма отправился к матери и, как полагалось, когда мать на него сердилась, проговорил:
— Мама, я больше не буду.
— Скверный мальчик! Что ты больше не будешь? Ты понимаешь, в чем ты виноват?
— В том, что дрался.
— В том, что ты такой же грубый, как и тот мясник, в которого ты швырнул камнем. Ты знаешь, что, если бы не он, бык разорвал бы тебя?
— Знаю.
— Если бы ты тонул и тебя за волосы вытащили бы из воды, ты тоже бросил бы камнем в того, кто тебя вытащил?
— Ну да… А зачем он меня за руку не взял?
— А зачем ты без позволения к нему во двор пошел? Зачем ставишь себя в такое положение, что тебя могут взять за ухо? Зачем ты без позволения на бойне был? Зачем ты злой? Зачем ты волю рукам даешь, негодный ты мальчик? Мясник грубый, но добрый человек, а ты грубый и злой… Иди, я не хочу такого сына!..
Тёма приходил и снова уходил, пока наконец само собой как-то не осветилось ему все: и его роль в этом деле, и его вина, и несознаваемая грубость мясника, и ответственность Тёмы за созданное положение дела.
— Ты, всегда ты будешь виноват, потому что им ничего не дано, а тебе дано; с тебя и спросится.
Закончилось все уже вечером притчей о талантах и рассуждением на тему: кому много дано, с того много и спросится.
Тёма внимательно и с интересом слушал, задавал вопросы, в которых чувствовалось, что он сознательно переживает смысл сказанного.
Горячая Аглаида Васильевна не могла удержаться, чтобы в такой удобный момент не подбросить несколько лишних полен…
— Ты большой уже мальчик, тебе десятый год. Один мальчик в твои годы уже царем был.
Глаза Тёмы широко раскрылись.
— А я когда буду царем? — спросил он, уносясь мыслью в сказочную обстановку Ивана-царевича.
— Ты царем не будешь, но ты, если захочешь, ты можешь помогать царю. Вот такой же мальчик, как ты…
И Тёма узнал о Петре Великом, Ломоносове, Пушкине. Он услышал коротенькие стихи, которые мать так звучно и красиво прочла ему:
Сети рыбак расстилал по брегу студеного моря; Мальчик ему помогал. Мальчик, оставь рыбака! Сети иные тебя ожидают, Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.Тёме рисовалась знакомая картина: морской берег, загорелые рыбаки, он, нередко помогавший им расстилать на берегу для просушки мокрые сети, и, вздохнув от избытка чувств, он проговорил удовлетворенно:
— Мама, я тоже помогал расстилать сети рыбакам.
Засыпая в этот вечер, Тёма чувствовал себя как-то особенно возвышенно настроенным. В сладких, неясных образах носились перед ним и рыбаки, и сети, и неведомый мальчик, отмеченный какой-то особой печатью, и десятилетний грозный царь, и все это, согреваемое сознанием чего-то близкого, соприкосновенного, ярко переливало в сонном мозгу Тёмы.
«А все-таки я хорошо сделал, что хватил мясника: теперь уж никто не захочет взять меня за ухо!» — пронеслось вдруг последней сознательной мыслью, и Тёма безмятежно заснул.
VI Поступление в гимназию
Еще год прошел. Подоспела гимназия. Тёма держал в первый класс и выдержал. Накануне начала уроков Тёма в первый раз надел форму.
Это был счастливый день!
Все смотрели и говорили, что форма ему очень идет. Тёма отпросился на наемный двор. Он шел сияющий и счастливый.
Было августовское воскресенье; яркие лучи заливали сверху, глаза тонули в мягкой синеве чистого неба. Акации, окаймлявшие кладбищенскую стену, точно спали в сиянии веселого, ласкового дня.
Семья Кейзера, вся налицо, сидит за обедом перед дверями своей квартиры. Благообразный старик, точильщик Кейзер, чопорно и сухо меряет Тёму глазами. С тою же неприветливостью смотрит и похожий на отца старший сын. Зато «Кейзеровна» вся исчезла в доброй, ласковой улыбке, и ее белый высокий чепчик усердно кивает Тёме. Маленький Кейзер — младшая ветвь, весь в мать — тоже растаял и переводит свои блаженные глаза с чепчика матери на Тёмин мундир.
— Здравствуйте, здравствуйте, Тёмочка! — говорит Кейзеровна. — Ну вот вы, слава богу, и гимназист… совсем как генерал…
Тёма сомневается, чтобы он был похож на генерала.
— Папеньке и маменьке радость, — продолжает Кейзеровна. — Папенька здоров?
— Здоров, — отвечает Тёма, смотря в пространство и роя сапогами землю.
— И маменька здорова? и братик? и сестрички? Ну, слава богу, что все здоровы.
Тёма чувствует, что можно идти дальше, и тихо, чинно двигается вперед.
У дверей своей лачуги сидит громадный Яков и наслаждается. Его красное лицо блестит, маленькие черные глаза блестят, разутые большие ноги греются, вытянутые на солнце. Он уже пропустил перед обедом… В отворенное окно несется писк и шипение сковороды, на которой жарится одна из пойманных сегодня камбал. Яков каждое воскресенье ходит удить рыбу. Шесть дней он переносит пятипудовые мешки на своих плечах с телег на суда, а в седьмой — до обеда удит, а с обеда до вечера кейфует и наслаждается отдыхом. С ним живет старуха мать, и больше никого. Была когда-то жена, но давно сбежала, и давно уже ничего о ней не знает Яков.
— Яков, я уже поступил в гимназию, — говорит Тёма, останавливаясь перед ним.
— В гимназию, — добродушно тянет Яков и улыбается.
— Это мой мундир.
— Мундир? — повторяет Яков и опять улыбается.
Наступает молчание. Яков смотрит на большой палец ноги, как-то особенно загнувшийся к соседу, и протягивает к нему руку.
— Много наловил? — спрашивает Тёма.
— Наловил, — отвечает Яков, отставив рукой большой палец ноги, который, как только его выпустил Яков, еще плотнее насел на соседний.
— А мне уж нельзя больше с тобой ходить, — говорит Тёма, вздыхая, — я теперь гимназист.
— Гимназист, — повторяет Яков и опять улыбается.
Тёма идет дальше, и везде, где только сидят, он останавливается, чтоб показать себя. Только заметив Ивана Ивановича, он спешит пройти мимо. Тёма не любит разговаривать с Иваном Ивановичем, когда он пьян. А Иван Иванович, отставной унтер-офицер, сослуживец отца, несомненно пьян. Он сидит на завалинке, качается и поводит кругом мутными глазами.
— Стой! — кричит он, увидав Тёму, — на караул!
— Дурак, — отвечает, не останавливаясь, Тёма.
— Стой!! Едят тя мухи с комарами!
И Иван Иванович делает вид, что бросается за Тёмой.
Тёма пускается в рысь, а Иван Иванович весело визжит:
— Держи, держи!
Тёма скандализован; он заворачивает за угол, оправляется и опять чинно идет дальше.
Появление Тёмы перед ватагой произвело надлежащий эффект. Тёма наслаждается впечатлением и рассказывает, с чужих слов, какие в гимназии порядки.
— Если кто шалит, а придет учитель и спросит, кто шалил, а другой скажет, — тот ябеда. Как только учитель уйдет, его сейчас поведут в переднюю, накроют шинелями и бьют.
Ватага, поджав свои босые грязные ноги, сидела под забором и с разинутыми ртами слушала Тёму. Когда небольшой запас сведений Тёмы о гимназии был исчерпан, кто-то предложил идти купаться. Поднялся вопрос, можно ли теперь идти и Тёме. Тёма решил, что если принять некоторые меры предосторожности, то можно. Он приказал ватаге идти поодаль, потому что теперь уже неловко ему — гимназисту — идти рядом с ними. Тёма шел впереди, а вся ватага, сбившись в тесную кучу, робко шла сзади, не сводя глаз со своего преобразившегося сочлена. Тёма выбирал самые людные улицы, шел и беспрестанно оглядывался назад. Иногда он забывал и по старой памяти ровнялся с ватагой, но, вспомнив, опять уходил вперед. Так они все дошли до берега моря.
Ах, какое чудное было море! Все оно точно золотыми кружками отливало и сверкало на солнце и тихо, едва слышно билось о мягкий песчаный берег. А там, на горизонте, оно, уж совсем спокойное и синее-синее, уходило в бесконечную даль. Там, казалось, было еще прохладнее.
Но и тут хорошо, когда скинешь горячий мундир и останешься в одной рубахе. Тёма оглянулся, где бы уложить новенький мундир?
— А вот дайте, я подержу, — проговорил вдруг высокий, худой старик.
Тёма с удовольствием принял предложение.
— Да вы бы, сударь, немного подальше от этих… неловко вам, — шепнул Тёме на ухо старик, когда Тёма собрался было раздеваться.
«Это верно!» — подумал Тёма и, обратившись к ватаге, сказал:
— Нам в гимназии нельзя… нам запрещено вместе… Вы здесь купайтесь, а я пойду подальше…
Ватага переглянулась, а Тёма со стариком ушли.
— Ну, вот здесь уж можно, — проговорил старик, когда ватага скрылась из глаз благодаря выступающему камню. Тёма разделся и полез в воду. Пока он купался, старик сидел на берегу и не мог надивиться искусству Тёмы. А Тёма старался.
— Я могу вон до тех пор доплыть под водой, — кричал он и с размаху бросался в воду. — Я и на спине могу, — кричал опять Тёма. — Я могу и смотреть в воде!
И Тёма опускался в воду, открывал глаза и видел желтые круги.
— А я могу… — начал снова Тёма, да так и замер: ни старика, ни платья не было больше на берегу. В первую минуту Тёма и не догадался о печальной истине: ему просто стало жутко от одиночества и пустоты, которые вдруг охватили его с исчезновением старика, и он бросился к берегу. Он думал, что старик просто перешел на другое место. Но старика нигде не было. Тогда он понял, что старик обокрал его. Растерянный, он пришел к ватаге, уже выкупавшейся и одетой, и сообщил ей свое горе. Розыски были бесполезны. Все пространство, какое охватывал глаз, было безлюдно. Старик точно провалился сквозь землю.
— Может, это нечистый был, — сделал кто-то предположение, и у всех пробежали мурашки по телу.
— Пойдем, — предложил Яшка, не отличавшийся храбростью, и, быстро вскочив, напялил шапку на мокрые волосы.
— А я как же? — жалобно проговорил Тёма.
Была одна комбинация: остаться Тёме на берегу и ждать, пока дадут знать домой. Но одному было страшно, а из ватаги никто не хотел оставаться с ним. Всех напугал нечистый, всем было страшно, все спешили уйти, и Тёма волей-неволей потянулся за всеми.
— У-ла-ла-а! Голый мальчик!
— Голый мальчик! Голый мальчик! — и толпа городских ребятишек, припрыгивая и улюлюкая, бежала за Тёмой.
Голый мальчик не каждый день ходит по улицам, и все спешили посмотреть на голого мальчика. Тёма шел и горько плакал. Почти каждый прохожий желал знать, в чем дело. Но Тёма так плакал, что говорить сам не мог; за него говорили его друзья. Это было очень трогательно. Все останавливались и слушали, слушал и Тёма. Когда рассказ доходил до мундира, Тёма не выдерживал и начинал снова рыдать.
— Но почему же вы не возьмете извозчика? — спросил Тёму господин в золотых очках.
«Извозчика?!» — думал Тёма. Разве мало убытков папе и маме от пропавшего платья! Нет, он не возьмет извозчика.
Два господина остановили процессию и тоже пожелали узнать, в чем дело. Выслушав, один из них спросил Тёму:
— Как ваша фамилия?
— Ка-ка-рташев, — ответил, захлебываясь, Тёма.
— Генерала Карташева? — переспросил удивленно господин и, посмотрев насмешливо на своего спутника, проговорил пренебрежительно: — Венгерский герой!
— А-га! — протянул небрежно его спутник. И оба прошли, чему-то улыбаясь.
Сердце Тёмы болезненно сжалось от этих туманных, насмешливых намеков. Ему ясно было одно: над его отцом смеются! И ему стало так больно, что он забыл, что он голый, и весь потонул в мучительной мысли. Теперь, когда спрашивали его, как фамилия, Тёма отвечал уже нерешительно и робко. Съежившись, он снова ждал какого-нибудь обидного намека и пытливо смотрел в глаза спрашивавших.
— Вы сын генерала?
— Да, — отвечал почти шепотом Тёма.
— Бедный мальчик! Возьмите извозчика.
Слава богу, этот ничего не сказал.
— Генерала Карташева?! Николая Семеныча?!
Тёма стоял ни жив ни мертв. Это было на базарной площади, и говорил высокий, здоровый, немного пьяный старик.
«А вдруг он меня сейчас ударит?!» — подумал Тёма.
— Батюшки мои! Да ведь это мой генерал! Я ведь с ним, когда он эскадронным еще… Я и жив через него остался. Лизка! Лизка-а!
Подошла толстая краснощекая торговка.
— Воз давай! — орал старик.
— Какой еще воз?
— Давай воз! Генеральский сын! Того генерала, что жизнь мою… Помнишь, дура, говорил тебе сколько раз… Офицер на войне… Ну, вот из-под лошади… Э, дура!
«Дура» вспомнила и с любопытством осматривала Тёму.
— Ну, так вот сын его… Ну, давай, что ли, воз! Сам повезу… С рук на руки сдам. Вот что!
— А кавуны? С десяток еще осталось.
— Ну их! Какие тут кавуны! Давай воз! Ах ты, грех какой! Ну, беда! Ах он, окаянный!
Так причитая, размахивая руками, то наклоняясь к Тёме, то опять выпрямляясь, ораторствовал старик, пока дочь его, сидя на краю телеги, поворачивала лошадь в толпе.
— Вот какое дело вышло! — продолжал кричать старик, обращаясь к окружающим, — первый генерал, можно сказать, и на~ вот!.. То ись, значит… одно слово! Прямо отец!.. Строг!.. А чтоб обидеть — ни-ни! Тут вот сейчас смерть твоя, а тут отошел, отошел… и нет его: голыми руками бери! И любили ж! Ну, прямо вот скажи: ложись и помирай! Сейчас! Ей-богу!
— Конечно, ежели, к примеру, хороший господин… — поддержал старика мастеровой.
— То ись, вот какой господин — что тебе, солдату, полагается, значит, бери, а водку особо. Вот какой господин!
Этот довод окончательно убедил толпу.
— Такому господину и послужить можно!
— Известно, можно!
— То вже не то що як, а то господын…
А старик уже сидел на возу и только молча одобрительно кивал головой на сочувственные отзывы толпы. Сидел и Тёма, укутанный в свиту, с наслаждением прислушиваясь к словам старика.
— Ты хорошо знаешь моего отца? — спрашивал Тёма.
— Ах ты, мой милый, милый! — говорил старик, — отца твоего я во как знаю. Я двадцать лет его изо дня в день видал. Этакого человека нет и не будет! Он за тебя и душу свою, и себя самого, и рубаху последнюю снимет! Вот он какой!
Тёма уж так расстроился, что не мог удержаться от слез; слезы радости, слезы счастья за отца текли по его щекам. Ватага не отставала от Тёмы и вся шла тут же возле телеги.
— Вы тут что? — накинулся было на них старик.
— Это мои мальчики, они со мной, — вступился Тёма. — Они у нас живут в доме.
— Вот как! Дружки, значит? Так что ж… айда в телегу и вы!
Ватага не заставила себя упрашивать и, живо вскарабкавшись, разместилась, кто как мог. Через несколько минут ребятишки веселым шепотом еще раз передавали случившееся, на этот раз передавая все с комическим оттенком. Как ни был опечален Тёма, но и он не мог удержаться и фыркал, когда Яшка передавал, как они утекали от нечистого. Нередко на чью-нибудь меткую остроту раздавался дружный, сдержанный смех остальной компании.
— Прысь, прысь! — говорил старик, за спиной которого шушукались дети, как котята в мешке.
И, откинувшись к ним, старик долго любовался своим грузом:
— Вишь, как они!.. Как мухи к меду… Не брезгуешь…
И, повернувшись назад, старик убежденно докончил:
— И господь не побрезгует тобой.
Только через неделю была готова новая форма.
Когда Тёма появился в первый раз в классе, занятия были уже в полном разгаре.
Тёму проводили из дому с большим почетом. Приехавший батюшка отслужил молебен. Мать торжественно перекрестила его с надлежащими наставлениями новеньким образком, который и повесила ему на шею. Он перецеловался со всеми, как будто уезжал на несколько лет. Сережику он обещал принести из гимназии лошадку. Мать, стоя на крыльце, в последний раз перекрестила отъезжавших отца и сына. Отец сам вез Тёму, чтобы сдать его с рук на руки гимназическому начальству. На козлах сидел Еремей, больше чем когда-либо торжественный. Сам Гнедко вез Тёму. В воротах стоял Иоська и сиротливо улыбался своему товарищу. Из наемного двора высыпала вся ватага ребятишек, с разинутыми ртами провожавшая глазами своего члена. Тут были все налицо: Гераська, Яшка, Колька, Тимошка, Петька, Васька… В открытые ворота мелькнул наемный двор, всевозможные кучи, вросшие в землю избушки, чуть блеснула стена старого кладбища. Вспомнилось прошлое, мелькнуло сознание, что все уж это назади, как ножом отрезано… Что-то сжало горло Тёмы, но он покосился на отца и удержался. Дорогой отец говорил Тёме о том, что его ждет в гимназии, о товариществе, как в его время преследовали ябед — накрывали шинелями и били.
Тёма слушал знакомые рассказы и чувствовал, что он будет надежным хранителем товарищеской чести. В его голове рисовались целые картины геройских подвигов.
У дверей класса Тёма поцеловался в последний раз с отцом и остался один.
Сердце его немного дрогнуло при виде большого класса, набитого массою детских фигур. Одни на него смотрели с любопытством, другие насмешливо, но все равнодушно и безучастно; их было слишком много, чтобы интересоваться Тёмой.
Вошел Иван Иванович, высокий черный надзиратель, совсем молодой еще, конфузливый, добрый, и крикнул:
— Господа, есть еще место?
На каждой скамейке сидело по четыре человека. Свободное место оказалось на последней скамейке.
— Ну, вот и садись, — проговорил Иван Иванович и, постояв еще мгновение, вышел из класса.
Тёма пошел скрепя сердце на последнюю скамейку. Из рассказов отца он знал, что там сидят самые лентяи, но делать было нечего.
— Сюда! — строго скомандовал высокий, плотный, краснощекий мальчик лет четырнадцати.
Тёму поразил этот верзила, составлявший резкий контраст со всеми остальными ребятишками.
— Полезай! — скомандовал Вахнов и довольно бесцеремонно толкнул Тёму между собой и маленьким черным гимназистом, точно шапкой покрытым мохнатыми, нечесаными волосами.
Из-под этих волос на Тёму сверкнула пара косых черных глаз и снова куда-то скрылась.
Несколько человек бесцеремонно подошли к соседним скамьям и смотрели на конфузившегося, не знавшего куда девать свои руки и ноги Тёму. Из них особенно впился в Тёму белобрысый некрасивый гимназист Корнев, с заплывшими небольшими глазами, как-то в упор, пренебрежительно и недружелюбно осматривая его. Вахнов, облокотившись локтем о скамейку, подперев щеку рукой, тоже осматривал Тёму сбоку с каким-то бессмысленным любопытством.
— Как твоя фамилия? — спросил он наконец у Тёмы.
— Карташев.
— Как? Рубль нашел? — переспросил Вахнов.
— Очень остроумно! — едко проговорил белобрысый гимназист и, пренебрежительно отвернувшись, пошел на свое место.
— Это — сволочь! — шепнул Вахнов на ухо Тёме.
— Ябеда? — спросил тоже на ухо Тёма.
Вахнов кивнул головой.
— Его били под шинелями? — спросил опять Тёма.
— Нет еще, тебя дожидались, — как-то загадочно проговорил Вахнов.
Тёма посмотрел на Вахнова.
Вахнов молча, сосредоточенно поднял вверх палец.
Вошел учитель географии, желтый, расстроенный. Он как-то устало, небрежно сел и раздраженно начал перекличку. Он то и дело харкал и плевался во все стороны. Когда дошло до фамилии Карташева, Тёма, по примеру других, сказал:
— Есть.
Учитель остановился, подумал и спросил:
— Где?
— Встань! — толкнул его Вахнов. Тёма встал.
— Где вы там? — перегнулся учитель и чуть не крикнул: — Да подите сюда! Прячется где-то… ищи его.
Тёма выбрался, получив от Вахнова пинка, и стал перед учителем.
Учитель смерил глазами Тёму и сказал:
— Вы что ж? Ничего не знаете из пройденного?
— Я был болен, — ответил Тёма.
— Что ж мне-то прикажете делать? С вами отдельно начинать с начала, а остальные пусть ждут?
Тёма ничего не ответил. Учитель раздраженно проговорил:
— Ну, так вот что, как вам угодно: если чрез неделю вы не будете знать всего пройденного, я вам начну ставить единицы до тех пор, пока вы не нагоните. Понятно?
— Понятно, — ответил Тёма.
— Ну, и ступайте.
— Ничего, — прошептал успокоительно Вахнов. — Уж без того не обойдется, все равно, чтоб не застрять на второй год. Ты знаешь, сколько я лет уж высидел?
— Нет.
— Угадай!
— Больше двух лет, кажется, нельзя.
— Три. Это только для меня, потому что я сын севастопольского героя.
Следующий урок был рисование. Тёме дали карандаш и бумагу.
Тёма начал выводить с модели какой-то нос, но у него не было никаких способностей к рисованию. Выходило что-то совсем несообразное.
— Ты совсем не умеешь рисовать? — спросил Вахнов.
— Не умею, — ответил Тёма.
— Сотри! Я тебе нарисую.
Тёма стер. Вахнов в несколько штрихов красиво нарисовал ему большой, выпуклый, с шишкой нос.
— Разве он похож на этот нос? — спросил огорченно Тёма, сравнивая его с моделью римского носа.
— Ну, вот глупости, ты можешь рисовать всякий, какой захочешь… Лишь бы был нос. Ну, скажешь, что у дяди твоего такой нос… вот и все. Это все глупости, а вот хочешь, я покажу тебе фокус, только крепко держи.
Вахнов сунул в руку Тёмы какой-то продолговатый предмет.
— Крепко держи!
— Ты что-нибудь сделаешь?
— Ну вот… только держи… крепче! — И Вахнов с силой дернул шнурок.
В то же мгновение Тёма с пронзительным криком, уколотый двумя высунувшимися иголками, хватил со всего размаха Вахнова по лицу.
Учитель встал со своего места и подошел к Тёме.
— Только выдай, сегодня же отделаем под шинелями, — прошептал Вахнов.
Учитель, с каким-то болезненным, прозрачным лицом, с длинными бакенбардами, с стеклянными глазами, подошел и уставился на Тёму.
— Как фамилия?
— Карташев.
— Встаньте!
Тёма встал.
— Вы что ж, в кабак сюда пришли?
Тёма молчал.
— Ваше рисование?
Тёма протянул свой нос.
— Это что ж такое?
— Это моего дяди нос, — отвечал Тёма.
— Вашего дяди? — загадочно переспросил учитель. — Хорошо-с, ступайте из класса!
— Я больше не буду, — прошептал Тёма.
— Хорошо-с, ступайте из класса. — И учитель ушел на свое место.
— Иди, это ничего, — прошептал Вахнов. — Постоишь до конца урока и придешь назад. Молодец! Первым товарищем будешь!
Тёма вышел из класса и стал в темном коридоре у самых дверей. Немного погодя в конце коридора показалась фигура в форменном фраке. Фигура быстро подвигалась к Тёме.
— Вы зачем здесь? — наклонясь к Тёме, спросил как-то неопределенно мягко господин.
Тёма увидел перед собой черное, с козлиной бородой лицо, большие черные глаза с массой тонких синих жилок вокруг них.
— Я… Учитель сказал мне постоять здесь.
— Вы шалили?
— Н… нет.
— Ваша фамилия?
— Карташев.
— Вы маленький негодяй, однако! — проговорил господин, совсем близко приближая свое лицо, таким голосом, что Тёме показалось, будто господин этот оскалил зубы. Тёма задрожал от страха. Его охватило такое же чувство ужаса, как в сарае, когда он остался с глазу на глаз с Абрумкой.
— За что Карташев выслан из класса? — спросил он, распахнув дверь.
При появлении господина весь класс шумно встал и вытянулся в струнку.
— Дерется, — проговорил учитель. — Я дал ему модель носа, а он вот что нарисовал и говорит, что это нос его дяди.
Светлый класс, масса народа успокоили Тёму. Он понял, что сделался жертвой Вахнова, понял, что необходимо объясниться, но, на свое несчастье, он вспомнил и наставление отца о товариществе. Ему показалось особенно удобным именно теперь, пред всем классом, заявить, так сказать, себя сразу, и он заговорил взволнованным, но уверенным и убежденным голосом:
— Я, конечно, никогда не выдам товарищей, но я все-таки могу сказать, что я ни в чем не виноват, потому что меня очень нехорошо обманули и ска…
— Молчать!! — заревел благим матом господин в форменном фраке. — Негодный мальчишка!
Тёме, не привыкшему к гимназической дисциплине, пришла другая несчастная мысль в голову.
— Позвольте… — заговорил он дрожащим, растерянным голосом, — вы разве смеете на меня так кричать и ругать меня?
— Вон!! — заревел господин во фраке и, схватив за руку Тёму, потащил за собой по коридору.
— Постойте… — упирался сбившийся окончательно с толку Тёма. — Я не хочу с вами идти… Постойте…
Но господин продолжал волочить Тёму. Дотащив его до дежурной, господин обратился к выскочившему надзирателю и проговорил, задыхаясь от бешенства:
— Везите этого дерзкого сорванца домой и скажите, что он исключен из гимназии.
Отец, успевший только что возвратиться из города, передавал жене гимназические впечатления.
Мать сидела в столовой и занималась с Зиной и Наташей. Из отворенных дверей детской доносилась возня Сережика с Аней.
— Так все-таки испугался?
— Струсил, — усмехнулся отец. — Глазенки забегали. Привыкнет.
— Бедный мальчик, — трудно ему будет! — вздохнула мать и, посмотрев на часы, проговорила: — Второй урок кончается. Сегодня надо будет ему торжественную встречу сделать. Надо заказать к обеду все любимые его блюда.
— Мама, — вмешалась Зина, — он любит больше всего компот.
— Я подарю ему свою записную книжечку.
— Какую, мама, — из слоновой кости? — спросила Зина.
— Да.
— Мама, а я подарю ему свою коробочку. Знаешь? Голубенькую.
— А я, мама, что подарю? — спросила Наташа. — Он шоколад любит… я подарю ему шоколаду.
— Хорошо, милая девочка. Всё положим на серебряный поднос и, когда он войдет в гостиную, торжественно поднесем ему.
— Ну, и я ему тоже подарю: кинжал в бархатной оправе, — проговорил отец.
— Ну, уж это будет полный праздник ему…
Звонок прервал дальнейшие разговоры.
— Кто б это мог быть? — спросила мать и, войдя в спальню, заглянула на улицу.
У калитки стоял Тёма с каким-то незнакомым господином в помятой шляпе. Сердце матери тоскливо ёкнуло.
— Что с тобой?! — окликнула она Тёму, входившего с каким-то взбудораженным, перевернутым лицом.
На этом лице было в это мгновение всё: стыд, растерянность, какая-то тупая напряженность, раздражение, оскорбленное чувство, — одним словом, такого лица мать не только никогда не видала у своего сына, но даже и представить себе не могла, чтобы оно могло быть таким. Своим материнским сердцем она сейчас же поняла, что с Тёмой случилось какое-то большое горе.
— Что с тобой, мой мальчик?
Этот мягкий, нежный вопрос, обдав Тёму привычным теплом и лаской семьи, после всех этих холодных, безучастных лиц гимназии потряс его до самых тончайших фибр его существования.
— Мама! — мог только закричать он и бросился, судорожно, безумно рыдая, к матери…
После обеда Карташевы, муж и жена, поехали объясняться к директору.
Господин во фраке, оказавшийся самим директором, принял их в своей гостиной сухо и сдержанно, но вежливо, с порядочностью воспитанного человека.
Горячий пыл матери разбился о нервный, но сдержанный и сухой тон директора. Он деликатно, терпеливо слушал ее взгляды на воспитание, какие именно цели она преследовала, слушал, скрывая ощущение какого-то невольного пренебрежения к словам матери, и, когда она кончила, как-то нехотя начал:
— В моем распоряжении с лишком четыреста детей. Каждая мать, конечно, воспитывает своих детей, как ей кажется лучше, считает, конечно, свою систему идеальной и решительно забывает только об одном: о дальнейшем, общественном уже воспитании своего ребенка, совершенно забывает о том руководителе, на обязанности которого лежит сплотить всю эту разрозненную массу в нечто такое, с чем, говоря о практической стороне дела, можно было бы совладать. Если каждый ребенок начнет рассуждать с своей точки зрения о правах своего начальника, забьет себе в свою легкомысленную, взбалмошную голову правила какого-то товарищества, цель которого прежде всего скрывать шалости, — следовательно, в основе его — уже стремление высвободиться от влияния руководителя, — зачем же тогда эти руководители? Будем последовательны — зачем же вы тогда? Мне кажется: раз вы почему-либо признаете необходимостью для вашего сына общественное воспитание, раз вы почему-либо отказываетесь от его дальнейшего обучения и передаете его нам, вы тем самым обязаны беспрекословно признать все наши правила, созданные не для одного, а для всех. К этому обязывает вас и справедливость; мы не мешались в воспитание вашего сына до поступления его в гимназию…
— Но ведь он остается же моим сыном?
— Во всем остальном, кроме гимназии. С момента его поступления ребенок должен понимать и знать, что вся власть над ним в сфере его занятий переходит к его новым руководителям. Если это сознание будет глубоко сидеть в нем — это даст ему возможность благополучно сделать свою карьеру; в противном случае рано или поздно явится необходимость пожертвовать им для поддержания порядка существующего гимназического строя. Это я прошу вас принять, как мой окончательный ультиматум как директора гимназии, а как частный человек — могу только прибавить, что если б даже я желал что-нибудь изменить в этом, то мне ничего другого не оставалось бы сделать, как выйти в отставку. Говорю вам это, чтоб яснее обрисовать положение вещей. Сын ваш, конечно, не будет исключен, и я должен был прибегнуть к такой крутой мере только для того, чтобы прекратить невозможную, говоря откровенно, возмутительную сцену. Безнаказанным его поступка тоже нельзя оставить… для других. Я верю в его невинность и в самом скором времени постараюсь удалить эту язву, Вахнова, которого мы держим из-за раненого отца, оказавшего в севастопольскую кампанию большие услуги городу… Но всякому терпению есть граница. Педагогический совет определит сегодня меру наказания вашему сыну, и сегодня же я уведомлю вас. Больше, к сожалению, я ничего не могу для вас сделать.
Мать Карташева молча, взволнованно встала. В ней все бурлило и волновалось, но она как-то совершенно потеряла под собой почву. Она чувствовала свое полное бессилие и вместе с тем чувствовала, что ее все больше охватывало желание чем-нибудь задеть неуязвимого директора. Но она побоялась повредить сыну и предпочла лучше поскорее уехать.
— Я хотел только сказать, — проговорил, вставая за женой Карташев, — я вполне разделяю все ваши взгляды… Я сам военный, и странно было бы не сочувствовать вам… Дисциплина… конечно…. Но я хотел только вам сказать насчет товарищества… Все ж таки, мне кажется, нельзя отрицать его пользы…
Жена с неудовольствием нетерпеливо ждала конца начатого мужем совершенно бесполезного разговора.
— Совершенно отрицаю в том виде, как оно вообще понимается, — ответил директор, — а именно — скрывать негодяев, заслуживающих наказания.
— Боже мой, — прошептала Карташева, — нашаливший ребенок — негодяй!
И вдруг то, чего она боялась, что еще держала в себе, вылетело как-то само собой:
— Но этот негодяй заслуживает все-таки, чтобы его выслушали, прежде чем осыпать его бранью?
Директор вспыхнул до корня волос.
— Сударыня, если я смею сказать вам у себя в доме… Я сказал бы… Я сказал бы, что не считаю себя ответственным в своих поступках перед вами.
Карташева спохватилась.
— Я прошу вас извинить мою невольную горячность… Это все так ново… пожалуйста, извините… У вашей жены есть дети? — обратилась она с неожиданным вопросом к директору.
— Есть, — озадаченно ответил он.
— Передайте ей, — дрожащим голосом проговорила Карташева, — что я от всего сердца желаю ей и ее детям никогда не пережить того, что пережили сегодня я и мой сын.
И, едва сдерживая слезы, она вышла на лестницу и поспешно спустилась к экипажу.
Сидя в экипаже, она ждала мужа, который остался еще, чтобы какой-нибудь прощальной фразой смягчить впечатление, произведенное его женой на директора… Мысли беспорядочно, нервно проносились в ее голове. Чужая… Совсем чужая… Все пережитое, перечувствованное, выстраданное — не дает никаких прав. Это оценка того, кому непосредственно с рук на руки отдаешь свой десятилетний, напряженный до боли труд. Убийственное равнодушие… Общие соображения?! Точно это общее существует отвлеченно, где-то само для себя, а не для тех же отдельных субъектов… Точно это общее, а не они сами, со временем станет за них в ряды честных, беззаветных работников своей родины… Точно нельзя, не нарушая этого общего, не топтать в грязь самолюбия ребенка.
— Едем, — проговорила она нервно садившемуся мужу, — едем скорее от этих неуязвимых людей, которые думают только о своих удобствах и не в состоянии даже вспомнить, что сами были когда-то детьми.
Вечером было прислано определение педагогического совета. Тёма в течение недели должен был на лишний час оставаться в гимназии после уроков.
На следующий день Тёма с надлежащими инструкциями был отправлен в гимназию уже один.
Поднимаясь по лестнице, Тёма лицом к лицу столкнулся с директором. Он не заметил сначала директора, который, стоя наверху, молча, внимательно наблюдал маленькую фигурку, усердно шагавшую через две ступени. Когда, поднявшись, он увидел директора, — черные глаза последнего строго и холодно смотрели на него.
Тёма испуганно, неловко стащил шапку и поклонился.
Директор едва заметно кивнул головой и отвел глаза.
VII Будни
Мелкий ноябрьский дождь однообразно барабанил в окна.
На больших часах в столовой медленно-хрипло пробило семь часов утра.
Зина, поступившая в том же году в гимназию, в форменном коричневом платье, в белой пелеринке, сидела за чайным столом, пила молоко и тихо бурчала себе под нос, постоянно заглядывая в открытую, лежавшую перед ней книгу…
Когда пробили часы, Зина быстро встала и, подойдя к Тёминой комнате, проговорила через дверь:
— Тёма, уже четверть восьмого.
Из Тёминой комнаты послышалось какое-то неопределенное мычание.
Зина возвратилась к книге, и снова в столовой раздался тихий, равномерный гул ее голоса.
В комнате Тёмы царила мертвая тишина.
Зина опять подошла к двери и энергично произнесла:
— Тёма, да вставай же!
На этот раз недовольным, сонным голосом Тёма ответил:
— И без тебя встану!
— Осталось всего пятнадцать минут, я тебя ни одной минуты не буду ждать. Я не желаю из-за тебя каждый раз опаздывать.
Тёма нехотя поднялся.
Надев сапоги, он подошел к умывальнику, раза два плеснул себе в лицо водой, кое-как обтерся, схватил гребешок, сделал небрежный раздел сбоку — кривой и неровный, несколько раз чеснул свои густые волосы; не докончив, пригладил их нетерпеливо руками, и одевшись, застегивая сюртук на ходу, вошел в столовую.
— Мама приказала, чтоб ты непременно стакан молока выпил, — проговорила Зина.
Тёма только сдвинул молча брови.
— Я не буду такой бурды пить… Пей сама! — ответил Тёма, толкая поданный Таней стакан чаю.
— Артемий Николаевич, мама крепкий чай не позволяют.
Тёма посидел несколько мгновений, затем решительно вскочил, взял чайник и подлил себе в стакан крепкого чаю.
Таня посмотрела на Зину, Зина на Тёму; а Тёма, довольный, что добился своего, макал в чай хлеб и ел его, ни на кого не глядя.
— Молоко будете пить? — спросила Таня.
— Полстакана.
После молока Зина встала и, решительно проговорив: «Я больше ни минуты не жду», — начала спешно собирать свои тетради и книги.
Тёма не спеша последовал ее примеру.
Брат и сестра вышли в подъезд, где давно уже ждал их со всех сторон закрытый, точно облитый водой, экипаж, мокрая Буланка и такой же мокрый, сгорбившийся, одноглазый Еремей.
В экипаж исчезли сперва Зина, а за ней Тёма.
Еремей застегнул фартук и поехал.
Дождь уныло барабанил по крыше экипажа. Тёме вдруг показалось, что Зина заняла больше половины сиденья, и потому он начал полегоньку теснить Зину.
— Тёма, что тебе надо? — спросила будто ничего не понимавшая Зина.
— Ну, да ты расселась так, что мне тесно!
И Тёма еще сильнее нажал на Зину.
— Тёма, если ты сейчас не перестанешь, — проговорила Зина, упираясь изо всех сил ногами, — я назад поеду, к папе!..
Тёма молча продолжал свое дело. Сила была на его стороне.
— Еремей, поезжай назад! — потеряв терпение, крикнула Зина.
— Еремей, пошел вперед! — закричал в то же время Тёма.
— Еремей — назад!
— Еремей — вперед!
Окончательно растерявшийся Еремей остановился и, заглядывая через щель единственным глазом к своим неуживчивым седокам, проговорил:
— Ну ей-же-богу, я слизу с козел, и идьте, як хотыте, бо вже не знаю, кого и слухаты!
Внутри экипажа все стихло. Еремей поехал дальше. Он благополучно добрался до женской гимназии, где сошла Зина. Тёма поехал дальше один.
Фантазия незаметно унесла его далеко от действительности, на необитаемый остров, где он, всласть навоевавшись с дикарями и со всевозможными чудовищами мира, надумался наконец умирать.
Умирать Тёма любил. Все будут жалеть его, плакать; и он будет плакать… И слезы вот-вот уж готовы брызнуть из глаз Тёмы… А Еремей давно уже стоит у ворот гимназии и удивленным глазом смотрит в щелку. Тёма испуганно приходит в себя, оглядывается, по царящей тишине во дворе соображает, что опоздал, и сердце его тоскливо замирает. Он быстро пробегает двор, лестницу, проворно снимает пальто и старается незамеченным проскользнуть по коридору.
Но высокий Иван Иванович, размахивая своими длинными руками, уже идет навстречу. Он как-то мимоходом ловит за плечо Тёму, заглядывает ему в лицо и лениво спрашивает:
— Карташев?
— Иван Иванович, не записывайте, — просит Тёма.
— Учитель же все равно запишет, — отвечает флегматично Иван Иванович, у которого не хватает духу прямо отказать.
— У нас батюшка… я попрошу…
Иван Иванович нерешительно, нехотя говорит:
— Хорошо…
Тёма отворяет большую дверь и как-то боком входит в свой класс. Его обдает спертым, теплым воздухом, он торопливо кланяется батюшке и спешит озабоченно на свое место.
По окончании урока маленькая фигурка бежит за священником:
— Батюшка, сотрите мне abs.[47]
Батюшка идет, переваливаясь с боку на бок, не спеша откидывает свою шелковую рясу, достает платок, сморкается и спрашивает Тёму:
— А зачем же вы опаздываете?
За Тёмой и батюшкой, толкаясь, бежит целый хвост любопытных учеников. Всякому интересно хоть одним ухом послушать, в чем дело.
— У нас часы отстают, — отвечает Тёма, понижая голос так, чтобы другие не слышали. — Я теперь их поставлю на четверть часа вперед.
— Вы часов не портите, а лучше сами вставайте на четверть часа раньше, — говорит батюшка и исчезает в дверях учительской.
Хвост фыркает.
Тёма подавляет недоумение, делает беспечную физиономию перед насмешливо смотрящими на него учениками и спешит в класс. Там он садится на свое место, поднимает оба колена, упирается ими в скамью и, стараясь смотреть равнодушно, вдумывается в смысл батюшкиных слов.
Вахнов свернул бумажку и, помочив ее слюнями, водит ею вокруг шеи и лица Тёмы. Тёма досадливо говорит:
— Ну, отстань же!
Но Вахнов не отстает.
— Ну, что ты за свинья! — говорит Тёма.
В ответ Вахнов хватает Тёму за руку и выкручивает ее ему за спину. У Тёмы закипает бессильная злоба, ему хочется «треснуть» Вахнова, и он пускается на хитрость.
— Ну, оставь же, — повторяет уже ласково Тёма.
Вахнов смягчается, снисходительно дает Тёме щелчок и выпускает его руку. Тёма быстро вскакивает на скамью и, «треснув» Вахнова, мчится от него по скамьям. Верзила Вахнов несется за ним. Тёма прыгает на пол и бросается к двери. Вахнов настигает его, мнет и со всего размаха бьет ладонью по лопаткам.
— Ну, что ты за свинья?! — говорит тоскливо Тёма.
Вахнов отвечает увесистыми шлепками.
— Оставь же, — уже жалобно молит Тёма. — Ну, что ты меня мучишь?
В голосе Тёмы слышатся Вахнову слезы. Ему делается жаль Тёму.
— Му-мочка! — говорит Вахнов и опять, уже от избытка чувств, тискает Тёму.
По коридору идет молодой, в очках, учитель латинского языка Хлопов. При входе учителя все уже по местам. Хлопов внимательно осматривает класс, быстро делает перекличку, затем сходит с своего возвышения и весь урок гуляет по классу, не упуская ни на мгновение никого из виду. Проходя мимо скамьи, где сидит маленький с кудрявой головой и потешной птичьей физиономией Герберг, учитель останавливается, нюхает воздух и говорит:
— Опять чесноком воняет?!
Герберг краснеет, так как аромат несется из его ящика, где лежит аппетитный кусок принесенной им для завтрака фаршированной щуки.
— Я вас в класс не буду пускать! Что это за гадость?! Сейчас же вынесите вон! — И, помолчав, говорит вслед уносящему свое лакомство Гербергу:
— Можете себе наслаждаться, когда уж так нравится, дома.
Ученики фыркают, смотрят на Герберга, но на лице последнего, кроме непонимания: как может не нравиться такая вкусная вещь, как фаршированная щука, — ничего другого не отражается. Тёма с любопытством смотрит на Герберга, потому что он сын Лейбы, и Тёма, постоянно видевший Мошку за прилавком отца, никак не может освоиться с фигурой его в гимназическом сюртуке.
— Корнев, склоняйте, — говорит учитель.
Корнев встает, перекашивает свое и без того некрасивое, вздутое лицо и кисло начинает хриплым, низким голосом.
Учитель слушает и раздраженно морщится.
— Да что вы скрипите, как немазаная телега? Ведь, наверно же, во время рекреации[48] умеете говорить другим голосом.
Корнев прокашливается и начинает с более высокой ноты.
— Иванов, продолжайте…
Сосед Тёмы, Иванов, встает, смотрит своими косыми глазами на учителя и продолжает.
— Неверно! Вахнов, поправить!
Вахнов встрепанно вскакивает и молчит.
— Карташев!
Тёма вскакивает и поправляет.
— Ну? Дальше!
— Я не знаю, — угрюмо отвечает Иванов.
— Вахнов!
— Я вчера болен был.
— Болен, — кивает головой учитель. — Карташев!
Тёма встает и вздыхает: недаром он хотел повторить перед уроком — все выскочило из головы.
— Ну, не знаете, говорите прямо!
— Я вчера учил.
— Ну, так говорите же!
Тёма сдвигает брови и усиленно смотрит вперед.
— Садитесь!
Учитель в упор осматривает Вахнова, Карташева и Иванова.
Вахнов самодовольно водит глазами из стороны в сторону. Иванов, сдвинув брови, угрюмо смотрит в скамью. Затянутый, бледный Тёма огорченно, пытливо всматривается своими испуганными голубыми глазами в учителя и говорит:
— Я вчера знал. Я испугался…
Учитель пренебрежительно фыркает и отворачивается.
— Яковлев, фразы!
Встает первый ученик Яковлев и уверенно и спокойно говорит:
— Asinus excitatur baculo.
— Швандер! Переводите.
Встает ненормально толстый, упитанный, чистенький мальчик. Он корчит болезненные рожи и облизывается.
— Пошел облизываться! Да что вы меня есть собираетесь, что ли?!
Ученики смеются.
Швандер судорожно нажимает большой палец на скамью, делает усилие и говорит:
— Осел…
— Ну?
— Погоняется…
Швандер делает еще одну болезненную гримасу и кончает:
— Палкою.
— Слава богу, родил.
Вторая половина урока посвящается письменному ответу.
Учитель ходит и внимательно следит, чтобы не списывали. Глаза его встречаются с глазами Данилова, в которых вдруг что-то подметил проницательный учитель.
— Данилов, дайте вашу книжку.
— У меня нет книжки, — говорит, краснея, Данилов и неловко поднимается с места, зажимая в то же время коленями латинскую грамматику.
Учитель заглядывает и собственноручно вытаскивает злополучную книгу.
Данилов сконфуженно смотрит в скамью.
— Тихоня, тихоня, а мошенничать уже научился, Стыдно! Станьте без места!
Симпатичная сутуловатая фигура Данилова как-то решительно идет к учительскому месту и становится лицом к классу. Его сконфуженные красивые глаза смотрят добродушно и открыто прямо в глаза учителю.
Раздается давно ожидаемый, отрадный для ученического слуха звонок.
— К следующему классу…
Учитель задает по грамматике, потом фразы с латинского на русский, затем сам диктует с русского на латинский и, отняв еще пять минут из рекреационных, наконец уходит.
Больше всего огорчают учеников эти лишние пять минут.
После урока Хлопова как-то мало оживления. Большинство сидит в любимой позе — с коленками, упертыми в скамью, и устало, бесцельно смотрит.
На учительском возвышении неожиданно появляется старый, толстый учитель русского языка.
— У попугая на шесте было весело! — монотонно, нараспев тянет он и чешет свою лысину о приставленную к ней линейку.
Тёме с Вахновым тоже весело, и никакого дела им нет ни до попугая, ни до учителя, ни до его системы, в силу которой учитель считал необходимым прежде всего ознакомить детей с синтаксисом.
— Герберг, где подлежащее?
— На шесте, — вскакивает Герберг и впивается своей птичьей физиономией в учителя.
— Дурак, — тем же тоном говорит учитель, — ты сам на шесте…. Карташев!..
Тёма, только что получивший в самый нос щелчок, встрепанно вскакивает и в то же мгновение совсем исчезает, потому что Вахнов ловким движением своей ноги стаскивает его на пол.
— Карташев, ты куда девался? — кричит учитель.
Тёма, красный, появляется и объясняет, что он провалился.
— Как ты мог провалиться, когда под тобою твердый пол?
— Я поскользнулся…
— Как ты мог поскользнуться, когда ты стоял?
Вместо ответа Тёма опять едет под скамью. Он снова появляется и с ожесточенным отчаянием смотрит украдкой на Вахнова. Вахнов, положив локоть на скамью, прижимает ладонью рот, чтобы не прыснуть, и не смотрит на Тёму. Тёма срывает сердце незаметным пинком Вахнову в плечо, но учитель увидел это и обиделся.
— Карташеву единицу за поведение.
Лысая, как колено, голова учителя наклоняется и ищет фамилию Карташева. Тёма, пока учитель не видит, еще раз срывает свой гнев и теребит Вахнова за волосы.
— Карташев, где подлежащее?
Тёма мгновенно бросает Вахнова и ищет глазами подлежащее.
Яковлев, отвалившись вполуоборот с передней скамьи, смотрит на Тёму. «Подскажи!» — молят глаза Тёмы.
— У попугая, — шепчет Яковлев, и ноздри его раздуваются от предстоящего наслаждения.
— У попугая, — подхватывает радостно Тёма.
Общий хохот.
— Дурак, ты сам попугай… С этих пор Карташев не Карташев, а попугай. Герберг не Герберг, а шест. Попугай на шесте — Карташев на Герберге.
Класс хохочет. Яковлев стонет от восторга.
Толстая, громадная фигура учителя начинает слегка колыхаться. Добродушные маленькие серые глаза прищуриваются, и некоторое время старческое «хе-хе-хе» несется по классу.
Но вдруг лицо учителя опять делается серьезным, класс стихает, и тот же монотонный голос нараспев продолжает:
— В классе — где подлежащее?
Гробовое молчание.
— Дурачье, — добродушно, нараспев говорит учитель. — Все попугаи и шесты. Сидят попугаи на шестах.
Между тем Тёма не спускает глаз с Яковлева.
— Разве он смеет подсказывать глупости? — не то советуется, не то протестует Тёма, обращаясь к Вахнову.
Как только раздается звонок, он бросается к Яковлеву:
— Ты смеешь глупости подсказывать?!
— А тебе вольно повторять, — пренебрежительно фыркает Яковлев.
— Так вот же тебе! — говорит Тёма и со всего размаха бьет его кулаком по лицу. — Теперь подсказывай!
Яковлев первое мгновенье растерянно смотрит и затем порывисто, не удостоивая никого взглядом, быстро уходит из класса. Немного погодя появляется в дверях бритое, широкое лицо инспектора, а за ним весь в слезах Яковлев.
— Карташев, подите сюда! — сухо и резко раздается в классе.
Тёма поднимается, идет и испуганно смотрит в выпученные голубые глаза инспектора.
— Вы ударили Яковлева?
— Он…
— Я вас спрашиваю: ударили вы Яковлева?
И голос инспектора переходит в сухой треск.
— Ударил, — тихо отвечает Тёма.
— Завтра на два часа без обеда.
Инспектор уходит. Тёма, воспрянувший от милостивого наказания, победоносно обращается к Яковлеву и говорит:
— Ябеда!
— А по-твоему, ты будешь по морде бить, а тебе ручки за это целовать? — грызя ногти и впиваясь своими маленькими глазами в Тёму, ядовито-спокойно спросил Корнев.
Вошел новый учитель — немецкого языка, Борис Борисович Кноп. Это была маленькая, тщедушная фигурка. Такие фигурки часто попадаются между фарфоровыми статуэтками: в клетчатых штанах и синем, с длинными узкими рукавами, фраке. Он шел тихо, медленною походкой, которую ученики называли «раскорякой».
В Борисе Борисовиче ничего не было учительского. Встретив его на улице, можно было бы принять его за портного, садовника, мелкого чиновника, но не за учителя.
Ученики ни про одного учителя ничего не знали из его домашней жизни, но про Бориса Борисовича знали всё. Знали, что у него жена злая, две дочки — старые девы, мать — слепая старуха, горбатая тетка. Знали, что Борис Борисович бедный, что он трепещет перед начальством не хуже любого из них. Знали и то, что Борису Борисовичу можно перо смазывать салом, в чернильницу сыпать песок, а в потолок, нажевав бумаги, пускать бумажных чертей.
В последнее время Борис Борисович стал заметно подаваться.
Сделав перекличку, он с трудом сошел с возвышения, на котором стоял его стол, и расслабленно, по-стариковски, остановившись перед классом, начал не спеша вынимать из заднего кармана фрака носовой платок.
Высморкавшись, Борис Борисович поднял голову и обратился к ученикам с благодушной речью, в которой предложил им не шуметь, слушать спокойно урок и быть хорошими, добрыми детьми.
— Пожалуйста, — кончил Борис Борисович, и в голосе его зазвучала просьба усталого, больного человека.
Но Борис Борисович сейчас же спохватился и уже более строго прибавил:
— А кто не захочет смирно сидеть, того я без жалости буду совсем строго наказывать.
Несколько минут все шло хорошо. Болезненный вид учителя смирил учеников. Но Вахнов, уже наладив опытной рукой перо, издал им тонкий, тревожный, хорошо знакомый учителю звук.
Борис Борисович вскипел.
— Вы свиньи, и с вами нельзя по-человечески говорить… Вы тогда только чувствуете уважение к человеку, когда он вас вот как душить будет.
И, дрожа от бешенства, Борис Борисович поднял свой кулачок и показал, как будет душить.
— Ах ты, немецкая селедка! — прошептал кто-то и, разжевав бумагу, искусно влепил ее в борт фрака Бориса Борисовича.
Учитель опешил. Несколько секунд длилось молчание.
— Хорошо, — наконец как-то подавленно проговорил он. — Я вот так с этим и пойду к директору. Я покажу ему это. Я расскажу ему, что вы со мной делаете, как вы меня мучаете. Я приведу его в класс, и пусть он сам смотрит на всех этих чертей (учитель показал на висевших по потолку на ниточке чертей), на это перо и на эту чернильницу, и я скажу, что самый главный и злой, самый грубый, бессмысленный скот — это Вахнов.
— За что вы ругаетесь?! — вскочил Вахнов. — Вы всегда надо мной издеваетесь. Я ничего не делаю, а вы ругаетесь.
И Вахнов вдруг завыл благим матом.
Учитель растерялся и полез в карман за табакеркой. Он медленно вынул ее из кармана, постучал по ней пальцем, открыл крышку, достал щепотку табаку и, не сводя глаз с Вахнова, начал потихоньку нюхать. Вахнов продолжал выть, внимательно наблюдая сквозь пальцы учителя.
— Я пойду жаловаться инспектору, — проговорил Вахнов, перестав вдруг завывать, и порывисто направился к двери.
— Вахнов, назад! — остановил его нерешительно учитель.
— А за что вы ругаетесь? Вы меня поймали? Когда поймаете…
— А не пойман, так не вор? Эхе-хе… Вахнов… Нехорошо…
В ответ Вахнов, садясь на место, дернул за перо.
— Ты и теперь скажешь, что не ты.
— Теперь я со злости.
— Со злости? — огорченно переспросил учитель и покачал головой. — Вахнов, Вахнов…
Учитель глубоко вздохнул и задумался.
Вахнов начал пищать так, как пищат маленькие, еще слепые щенки.
— Ва-а-хнов!.. — уныло проговорил учитель.
— Я давно знаю, что я Вахнов.
— Ты знаешь… Ты много знаешь… У тебя хорошее сердце, Вахнов… Сердце лошади… иди жалуйся.
Борис Борисович закрыл глаза и опустил голову на руки. Он чувствовал какой-то особенный упадок сил.
— Иди жалуйся на меня, — повторил он снова, с трудом открывая глаза. — Иди скажи, что тебе надоел старый, больной Борис Борисович, у которого пять человек на плечах…
Вахнов опять задергал перо.
Учитель бессильно опустил голову.
— Да брось, — обратился к Вахнову Касицкий, — ведь болен же человек!
Но на Вахнова нашло. Он, спрятав голову под скамью, начал хрюкать.
Борис Борисович беспомощно оглянулся.
— Послушай ты, идиот! — вскочил Корнев, обращаясь к Вахнову. — Господа, да уймите же его! — обратился он к ближайшим товарищам Вахнова.
Серб Августич, сорвавшись с места, каким-то клубком подлетел к Вахнову и, как зверь, скаля зубы, с налитыми кровью глазами, прохрипел своим твердым наречием:
— Скотына! Убью!
Вахнов так и обмер.
— Дрань!
— Я больной, — прошептал тихо Борис Борисович, — пожалуйста, скорее позовите надзирателя.
Августич бросился в коридор. Дети испуганно стихли.
— Ничего, ничего, это пройдет, — тоскливо шептали побелевшие губы учителя.
В классе воцарилась мертвая тишина. Учитель точно застыл, наклонившись и едва держась рукой за край стола. Весь класс замер в неподвижных позах, и только бумажные черти, подвешенные к потолку и приводимые в движение сквозняком, тянувшим из отворенной в коридор двери, медленно и беззвучно раскачивались над головой больного.
— Пожалуйста… — тоскливо обратился учитель к вошедшему Ивану Ивановичу. — Я немножко болен. Пожалуйста, помогайте мне.
И учитель с помощью надзирателя, грузно опершись на его руку, медленно и тихо потащился из класса.
Последний урок был Томылина — учителя естественной истории.
Ученики свободно и непринужденно встретили входившего средних лет, представительного, полного учителя.
Он шел и легко, красиво нес в своих руках фигуры разных зверей. Положив их на стол, он вынул чистый, белый платок, смахнул им пыль с рукавов своего, безукоризненно сидевшего на нем, синего фрака и вытер руки. Еще на ходу, окинув весело класс, он бросил свое обычное, как будто небрежное:
— Здравствуйте, дети!
Но это «здравствуйте, дети!» током пробежало по детским сердцам и заставило их весело встрепенуться.
Сделав перекличку, учитель поднял голову и проговорил:
— Я принес вам, дети, прекрасный экземпляр чучела очковой змеи.
Учитель взял коробку и осторожно вынул змею. Он высоко поднял руку, и ученики приподнялись, с напряжением всматриваясь в страшную змею с большими желтыми, точно в очках, глазами.
— Очковая змея, — проговорил учитель, — ядовита. Укус ее смертелен. Яд помещается, так же как и у других ядовитых змей, в голове, возле зубов.
Томылин нажал пружинку, и змея открыла рот.
— Просунь осторожно палец, — сказал Томылин, обращаясь к Августичу. — Не бойся…
Когда Августич просунул палец, Томылин отпустил пружину, и змея снова закрыла рот.
Августич нервно отдернул палец. Все и Томылин рассмеялись.
— Ты видишь на своем пальце черные полоски: это безвредная, простая жидкость, заменяющая собою яд. Теперь смотри, как этот яд из головы проходит в зубы змеи.
Учитель поднял часть кожи на голове змеи, и Августич чрез стеклянный череп увидел возле зубов маленькое черное пятнышко с тоненькими ниточками, исчезавшими в зубах.
Ученики вскочили с своих мест и наперебой спешили заглянуть в аппарат.
— Не теснитесь, всем покажу, — произнес Томылин.
Когда осмотр кончился и класс снова пришел в порядок, Томылин заговорил:
— Дети, сегодня эта дверь затворилась, и, может быть, навсегда, за вашим учителем, потому что Борис Борисович страдает тяжелой, неизлечимой болезнью. Там, за этой дверью, ждут его пять бедных, не способных зарабатывать себе хлеб женщин, которые без него останутся без куска хлеба…
Учитель замолчал, прошелся по классу и проговорил:
— Ну, начнем. Тёма, отвечай!
Тёма, всегда добросовестно учивший естественную историю, на этот раз не знал урока, потому что, по расписанию, Томылин должен был в этот урок рассказывать.
Тёма сгорел со стыда, прежде чем открыл рот. Когда он кончил, Томылин, огорченный, не то спросил, не то сказал:
— Не выучил?
Тёма сел и расплакался.
Томылин вызвал другого, третьего и, казалось, забыл о Тёме.
Тёма перестал плакать и угрюмо-сконфуженно сидел, облокотившись на локоть. В нем шевелилось злое чувство и на себя, и на весь класс — свидетелей его слез, — и на Томылина. И он еще угрюмее сдвигал брови.
— К следующему классу выучишь урок? — спросил вдруг, мимоходом, Томылин, по обыкновению положив руку на волосы Тёмы и слегка поднимая его голову.
Тёма нехотя поднял глаза, но встретил такой приветливый, ласковый взгляд учителя, взгляд, проникший в самую глубь его души, что сердце Тёмы ёкнуло, и он быстро ответил:
— Выучу.
— Отчего ты на сегодня не выучил?
— Я думал, что вы будете рассказывать.
— Ну, выучи, я еще раз спрошу.
Последний урок кончился. Ученики толпами валят на улицу.
Тёма заходит за Зиной, и они оба идут пешком домой.
Зина весела. Она получила пять и вдобавок несет матери целый ворох самых интересных, самых свежих новостей.
— Спрашивали? — обращается она к Тёме. — Сколько?
— Тебе какое дело?
— А мне пять, — говорит Зина.
— Ваша пятерка меньше нашей тройки, — отвечает Тёма презрительно.
— Поче-е-му?
— А потому, что вы девочки, а учителя больше любят девочек, — говорит авторитетно Тёма.
— Какие глупости!
— Вот тебе и глупости.
За обедом Зина ест с аппетитом и говорит, говорит. Тёма ест лениво, молчит и равнодушно-устало слушает Зину. К общему обеду они опоздали. В столовой тем не менее, кроме отца, все налицо. Мать сидит, облокотившись на стол, и любуется своей смуглой, раскрасневшейся дочкой. Переведя глаза на сына, мать тоскливо говорит:
— Ты совсем зеленый стал… Отчего ты ничего не ешь?
— Мама, оттого, что он всегда на свои деньги сласти покупает.
— Неправда, — отвечает Тёма, пораженный сообразительностью Зины.
— Ну да, неправда.
— Я поеду и попрошу директора, чтоб он устроил для желающих завтраки, — говорит мать.
Тёме представляется фигура матери с ее странным проектом и сдержанная, стройная фигура директора. От одной мысли ему делается неловко за мать, и он торопится предупредить ее, говоря совершенно естественно:
— Одна мать уже приезжала, и директор не согласился.
После обеда Тёма идет в сад, где ветер уныло качает обнаженные деревья, сквозь которые видны все заборы сада, и кажется Тёме, что меньше как будто стал сад. Из сада Тёма идет к Иоське, который в теплой, грязной кухне, сидя где-нибудь в уголке и распустив свои толстые губы, возится над чем-то. Тёма идет на наемный двор, пробирается между кучами и ищет глазами ватагу. Но уже нет прежних приятелей. И Гераська, и Яшка, и Колька — все они за работой. Гераська — за верстаком, Яшка и Колька — ушли в город помогать родителям.
У забора копошатся остатки ватаги. Много новых, всё маленькие: красные, в лохмотьях, посиневшие от холода, усердно потягивают носом и с любопытством смотрят на чужого им Тёму. Знакомая пуговка блестит на воздухе, но нет уже больше ее веселых хозяев. Тёма любовно, тоскливо узнает и всматривается в эту, пережившую своих хозяев, пуговку, и еще дороже она ему. Какие-то обрывки неясных, грустных и сладких мыслей — как этот замирающий день, здесь холодный и неприветливый, а там, между туч, в том кусочке догорающего неба, охватывающий мальчика жгучим сожалением, — толпятся в голове Тёмы и не хотят, и мешают, и не пускают на свободу где-то там, глубоко в голове или в сердце как будто сидящую отчетливую мысль.
— Тёмочка, зайдите на часок ко мне, — выскакивает, увидев в окно Тёму, Кейзеровна.
Тёма входит в теплую, чистую избу, вдыхает в себя знакомый запах глины с навозом, которой заботливая хозяйка смазывает пол и печку, скользит глазами по желтому чистому полу, белым стенам, маленьким занавесочкам, потемневшему лицу рыхлой Кейзеровны и ждет.
— Тёмочка, кто у вас учитель немецкого языка?
— Борис Борисович, — отвечает Тёма.
— Вы знаете, Тёмочка, у Бориса Борисовича моя сестра в услужении.
Тёма ласково, осторожно говорит:
— Он сегодня немножко заболел.
— Заболел? Чем заболел? — встрепенулась Кейзеровна.
— У него голова заболела, он не докончил урока.
— Голова? — И Кейзеровна делает большие глаза, и губы ее собираются в маленький, тесный кружок. — Ох, Тёмочка, сестре они больше тридцати рублей должны. Надо идтить.
Тёма слышит тревожную, тоскливую нотку в этом «идтить», и эта тревога передается и охватывает его.
В его воображении рисуются больной учитель и пять старых женщин, которых Тёма никогда не видал, но которые вдруг, как живые, встали перед ним: вот горбатая, морщинистая старуха — это тетка; вот слепая, с длинными седыми волосами — мать.
— Кейзеровна, у матери учителя бельма на глазах?
— Нет.
— Они бедные?
— Бедные, Тёмочка! Не дай бог его смерти, хуже моего им будет.
— Что ж они будут делать?
— А уж и не знаю… Старуху и тетку, может, в богадельню возьмут… пастор устроит, а жена и дочери — хоть милостыньку на улицу иди просить.
— Милостыньку? — переспрашивает Тёма, и его глаза широко раскрываются.
— Милостыньку, Тёмочка. Вот когда вырастете, будете ехать в карете и дадите им копеечку…
— Я рубль дам.
— Что бросите, за все господь заплатит. Бедному человеку подать, все равно что господа встретить… и удача всегда во всем будет. Ну, Тёмочка, я пойду.
Тёма неохотно встает. Ему хочется расспросить и об учителе еще, и об этих женщинах, которые обречены на милостыньку. Мысли его толпятся около этой милостыньки, которая представляется ему неизбежным выходом.
Придя домой, он утомленно садится на диван возле матери и говорит:
— Знаешь, мама, Борис Борисович заболел… Кейзеровны сестра у них служит. Я ей сказал, что он заболел… Знаешь, мама, если он умрет, его мать и тетку в богадельню возьмут, а жена и две дочки пойдут милостыню просить.
— Кейзеровна говорит?
— Да, Кейзеровна. Мама, можно мне яблока?
— Можно.
Тёма пошел достал себе яблоко и, усевшись у окна, начал усердно и в то же время озабоченно грызть его.
— А ты хочешь поехать к Борису Борисовичу?
— С кем?
— Со мной.
Тёма нерешительно заглянул в окно.
— Тебе хочется?
— А это не будет стыдно?
— Стыдно? отчего тебе кажется, что это стыдно?
— Ну хорошо, поедем, — согласился Тёма.
В доме учителя Тёма неловко сидел на стуле, посматривая то на старушку — мать его, маленькую, худенькую женщину в черном платье, с зеленым зонтиком на глазах, то на высокую, худую девушку с белым лицом и черненькими глазками, ласково и приветливо посматривавших на Тёму. Только жена не понравилась Тёме, полная, недовольная, бледная женщина.
Сказали учителю и повели Тёму к нему. За ситцевыми ширмами стояла простая кровать, столик с баночками, вышитые красивые туфли.
«Какой же он бедный, — пронеслось в голове Тёмы, — когда у него такие туфли?»
Тёма подошел к кровати и испуганно посмотрел в лицо Бориса Борисовича. Ему бросились в глаза бледное, жалкое лицо учителя и тонкая, худая рука, которую Борис Борисович держал на груди. Борис Борисович поднял эту руку и молча погладил Тёму по голове. Тёма не знал, долго ли он простоял у кровати. Кто-то взял его за руку и опять повел назад. Он вошел в гостиную и остановился.
Его мать разговаривала с Томылиным. Тёму как-то поразило сочетание красивого лица учителя и возбужденного, молодого лица матери. Мать приветливо улыбнулась сыну своими выразительными глазами.
Тёме вдруг показалось, что он давно-давно уже видел где-то вместе и мать, и Томылина, и себя.
— Здравствуй, Тёма, — проговорил Томылин, ласково притянул его к себе и, обняв его рукой, продолжал слушать Аглаиду Васильевну.
— Я понимаю, конечно, — говорила она, — и все-таки можно было бы иначе устроить. Все основано на форме, на дисциплине, на страхе старших уронить как-нибудь свое достоинство, но из-за этого достоинство ребенка ни во что не ставится и безжалостно попирается на каждом шагу нашими педагогами. А посмотрите у англичан! Там уже десятилетний мальчуган сознает себя джентльменом. Я не о вас говорю… Ваши уроки совершенно отвечают тому, как, по-моему, должно быть поставлено дело. И я не могу удержаться, чтобы не сказать, monsieur Томылин… — мать посмотрела на Тёму, на мгновение остановилась в нерешительности, вскинула глазами на Томылина и быстро продолжала по-французски: —…чем вы влияете на детей и чем получаете широкий доступ к их сердцам: вы щадите чувство собственного достоинства ребенка; он знает, что его маленькое самолюбие вам так же дорого, как и ваше собственное.
— Если приятна деятельность, то еще приятнее оценка ее…
— Она приятна и необходима, по-моему. Поверьте, что мы, родители, ничем не повредили бы вам, если б имели возможность почаще делиться с вами, учителями, впечатлениями. А в теперешнем виде ваша гимназия мне напоминает суд, в котором есть и председатель, и прокурор, и постоянный подсудимый и только нет защитника этого маленького и, потому что маленького, особенно нуждающегося в защитнике подсудимого…
Томылин молча улыбнулся.
— Ах, какая прелесть твой Томылин, — сказала дорогой мать, полная впечатлений неожиданной встречи.
Тёма был счастлив за своего учителя и тоже переживал наслаждение от бывшего свидания.
— Мама, за что тебя у Бориса Борисовича благодарили?
— Я предложила им переговорить с тетей Надей, чтобы устроить одну дочь классной дамой, а другую учительницей музыки.
— В институте?
— В институте. Вот видишь, и не будут просить милостыню, если даже, не дай бог, и умрет Борис Борисович…
Тёме после всего пережитого совсем не хотелось приниматься за приготовление уроков для другого дня.
Зина давно уже сидела за уроками, а Тёма все никак не мог найти нужной ему тетради. Брат и сестра занимались в маленькой комнатке, всегда под непосредственным наблюдением матери, которая обыкновенно в это время что-нибудь читала, сидя поодаль в кресле.
Тёма уже двадцатый раз рассеянно переходил от стола к этажерке, где на отдельной полке, в невозможном беспорядке, в контрасте с полкой сестры, валялась перепутанная, хаотическая куча книг и тетрадей.
Зина не выдержала и, молча, бросив работу, наблюдала за братом.
— Показать тебе, Тёма, как ты ходишь? — спросила она и, не дожидаясь, встала, вытянула шею, сделала бессмысленные глаза, открыла рот, опустила руки и с согнутыми коленками начала ходить бесцельно, толкаясь от одной стенки к другой.
Тёме решительно все равно было как ни тянуть время, лишь бы не заниматься, и он с удовольствием смотрел на сестру.
Мать, оторвавшись от чтения, строго прикрикнула на детей.
— Мама, — проговорила Зина, — я уже полстраницы написала.
— Моя тетрадь где-то затерялась, — в оправдание проговорил нараспев Тёма.
— Сама затерялась? — строго спросила мать, опуская книгу.
— Я ее вот здесь положил вчера, — ответил Тёма и при этом точно указал место на своей полке, куда именно он положил.
— Может быть, мне поискать тебе тетрадь?
Тёма сдвинул недовольно брови и уже сосредоточенно стал искать тетрадь, которую и вытащил наконец из перепутанной кучи.
— Я ее сам закинул, — проговорил он, улыбаясь.
На некоторое время воцарилось молчание.
Тёма погрузился в писание и с чувством начал выводить буквы, или, вернее, невозможные каракули.
Зина, вскинув глазами на брата, так и замерла в наблюдательной позе.
— Тёма, показать тебе, как ты пишешь?
Тёма с удовольствием оставил свое писание и, предвкушая наслаждение, уставился на сестру.
Зина, расставив локти как можно шире, совсем легла на стол, высунула на щеку язык, скосила глаза и застыла в такой позе.
— Неправда, — проговорил сомнительно Тёма.
— Мама, Тёма хорошо сидит, когда пишет?
— Отвратительно.
— Правда — похоже?
— Хуже даже.
— А, что? — торжествующе обратилась Зина к брату.
— А зато я быстрее тебя стихи учу, — ответил Тёма.
— И вовсе нет.
— Ну, давай пари: я только два раза прочитаю и уж буду знать на память.
— Вовсе не желаю.
— Зато через час и забудешь, — проговорила мать, — а Зина всю жизнь будет помнить. Надо учить так, как Зина.
— А, что? — обрадовалась Зина.
— Ну да, если б я все так учил, как ты, — проговорил самодовольно Тёма, помолчав, — я бы давно уж дураком был.
— Мама, слышишь, что он говорит?
— Это почему? — спросила мать.
— Это папа говорил.
— Кому говорил?
— Дяде Ване. Если б я, говорит, все учил, что надо, — я бы и вышел таким дураком, как ты.
— А дядя Ваня что ж сказал?
— А дядя Ваня рассмеялся и говорит: ты умный, оттого ты и генерал, а я не генерал и глупый… Нет, не так: ты генерал потому, что умный… Нет, не так…
— То-то — не так. Слушаешь, не понимаешь и выдергиваешь, что тебе нравится. И выйдешь недоучкой.
Опять водворилось молчание.
— Зато я играю лучше тебя, — проговорила Зина.
— Это бабья наука, — ответил пренебрежительно Тёма.
Зина озадаченно промолчала и принялась опять писать.
— А как же Кравченко? — вдруг спросила она, вспомнив своего учителя музыки. — Он, значит, баба?
— Баба, — ответил уверенно Тёма, — оттого у него и борода не растет.
— Мама, это правда? — спросила Зина.
— Глупости, — ответила мать. — Не видишь разве, что он смеется над тобою?
— У него и хвостик есть, вот такой маленький, — проговорил Тёма, показывая рукой размер хвоста.
— Мама?!
— Тёма, перестань глупости говорить.
Тёма смолк, но продолжал показывать руками размеры хвоста.
— Мама?!
— Тёма, что~ я сказала?
— Я ничего не говорю.
— Он показывает руками — какой хвостик.
— Еще одно слово — и я вас обоих в угол поставлю, — не глядя на Тёму, ответила мать.
Он безбоязненно опять показал Зине размеры хвоста. Зина мгновение подумала и в отместку высунула язык. Тёма в долгу не остался и начал делать ей гримасы. Зина отвечала тем же, и некоторое время они усердно старались перещеголять друг друга в этом искусстве. Тёма окончательно взял верх, скорчив такое лицо, что Зина не выдержала и фыркнула.
— Тёма, садись за маленький столик спиною к Зине и не смей вставать и поворачиваться, пока не кончишь уроков. Стыдись! Ленивый мальчик.
Водворилась тишина, и Тёма наконец благополучно кончил свои занятия. Последнюю латинскую фразу ему лень было учить, и он, отвечая матери и указывая, до каких пор ему было задано, показал пальцем до выпущенных им предлогов. Вообще проверка по латинскому языку была слаба; мать в нем знала меньше Тёмы и познакомилась с языком при помощи самого же Тёмы, с целью хоть как-нибудь проверять занятия своего ленивого сына. Но это приносило скорее вред, чем пользу, и Тёма, ради одного школьничества, часто морочил мать, смотря на нее как на подготовительную для себя школу по части надувания более опытных своих учителей.
Когда уроки кончились, Тёма, посмотрев на часы, с наслаждением подумал об остающемся до сна часе, совершенно свободном от всяких забот. Он заглянул в темную переднюю и, заметив там Еремея, топившего соломой печь, через ворох соломы перебрался к нему и, сев рядом с ним, стал, как и Еремей, смотреть в ярко горевшую печь. Все новая и новая солома быстро исчезала в огне. Тёма усердно помогал Еремею задвигать солому и с интересом ждал, когда потемневшая печь справится с новой порцией. Вот только искры да пепел сквозят через свежую охапку, и кажется, никогда она не загорится; вот как-то лениво вспыхнуло в одном, другом, третьем месте, и, охваченная вдруг вся сразу, солома с страшной, откуда-то взявшеюся силой огня уже рвется и исчезает бесследно в пожирающем ее пламени. Ярко и тепло до боли.
И опять оба, и Еремей и Тёма, ждут нового взрыва.
— Еремей, ты от брата получил письмо из деревни?
— Получил, — отвечает Еремей.
— Что он пишет?
— Пишет, что, слава богу, урожай был. Четвертую лошадь купили.
Еремей оживляется и рассказывает Тёме о земле, посеве, хозяйстве, которое совместно с ним ведет брат.
— Вот, к празднику, если бог даст, попрошусь у папы в деревню, — говорит Еремей.
— Как, на елке не будешь?
Еремей снисходительно улыбается и говорит:
— Там же ж у меня рыдня — сваты, дружки…
— Ты кого больше всех любишь?
— Я всех люблю.
И от сладкой мысли свидания у Еремея рисуются приятные сердцу картины: повязанные головы хохлуш, хустки, тяжелые чеботы, расписная хата, на столе вареники, галушки, горилка, а за столом разгоревшиеся, добродушные, веселые и «ледащие лыца» Грицко, Остапов, Дунь и Марусенек.
— Как ты думаешь, Еремей, мне что~ подарят на елку?
Еремей оставляет мечты и внимательно смотрит своим одним глазом в огонь:
— Мабуть, ружье?
— Настоящее?
— Настоящее, должно буть, — нерешительно говорит Еремей.
— Вот, Тёмочка, — говорит подошедшая и присевшая Таня, — вырастайте скорей да в офицеры поступайте… сабля сбоку, усики такие…
— Я не буду офицером, — равнодушно говорит Тёма, задумчиво смотря в огонь.
— Отчего не будете? Офицерам хорошо.
И Еремей соглашается, что офицерам хорошо.
— Енералом будете, як папа ваш.
— Мама не хочет, чтобы я был офицером.
— А вы попросите.
— Не хочу. Я ученым буду… как Томылин.
— Не люблю я их; я одного учителя видала, — такой некрасивый, худой… Военный лучше… усики.
— У меня тоже будут усы, — говорит Тёма и старается посмотреть на свою верхнюю губу.
Таня смотрит и целует его. Тёма недовольно отстраняется.
— Зачем ты целуешь?
— Скорее расти будут усы…
— Отчего скорее?
Таня молча смотрит лукаво на Еремея и улыбается. Тёма переводит глаза на Еремея, который тоже загадочно улыбается и весело глядит в печку.
— Еремей, отчего?
— Да так, она шуткует, — говорит Еремей и медленно встает, так как топка печки кончилась.
Тёма тоже встает и идет.
В столовой Зина, придвинув свечку, осторожно держит над ней сахар, который тает и желтыми прозрачными каплями падает на ложку, которую Зина держит другой рукой.
Наташа, Сережа и Аня внимательно следят за каждою каплей.
— И я, — говорит Тёма, бросаясь к сахарнице.
— Тёма, это для Наташи, у нее кашель, — протестует Зина.
— У меня тоже кашель, — отвечает Тёма и с сахаром и ложкой лезет на стол. Он усаживается с другой стороны свечи и делает то же, что Зина.
— Тёма, если ты только меня толкнешь, я отниму свечку… Это моя свечка.
— Не толкну, — говорит Тёма, весь поглощенный работой, с высунутым от усердия языком.
У Тёмы на ложку падают какие-то совсем черные, пережженные, с копотью, капли.
— Фу, какая гадость, — говорит Зина.
Маленькая компания весело хохочет.
— Ничего, — отвечает Тёма, — больше будет… — И он с наслаждением набивает себе рот леденцами в саже.
— Дети, спать пора, — говорит мать.
Тёма, Зина и вся компания идут к отцу в кабинет, целуют у него руку и говорят:
— Папа, покойной ночи.
Отец отрывается от работы и быстро, озабоченно одного за другим рассеянно крестит.
Тёма у себя в комнате молится перед образом богу.
Медленно, где-то за окном, с каким-то однообразным отзвуком, капля за каплей падает с крыши вода на каменный пол террасы. «День, день, день», — раздается в ушах Тёмы. Он прислушивается к этому звону, смотрит куда-то вперед и, забыв давно о молитве, весь потонул в ощущениях прожитого дня: Еремей, Кейзеровна, дочка Бориса Борисовича, Томылин с матерью…
«Вот хорошо, если б Томылин был мой отец», — думает вдруг почему-то Тёма.
Эта откуда-то взявшаяся мысль тут же неприятно передергивает Тёму. Томылин в эту минуту как-то сразу делается ему чужим, и взамен его выдвигается образ сурового, озабоченного отца.
«Я очень люблю папу, — проносится у него приятное сознание сыновней любви. — И маму люблю, и Еремея, и Бориса Борисовича, всех, всех».
— Артемий Николаевич, — заглядывает Таня, — ложитесь уже, а то завтра долго будете спать…
Тёма неприятно оторван.
Да, завтра опять вставать в гимназию; и завтра, и послезавтра, и целый ряд скучных, тоскливых дней…
Тёма тяжело вздыхает.
VIII Иванов
Через несколько дней Борис Борисович умер. Мать его и тетка поступили в приют, жена и старшая дочь, заботами Аглаиды Васильевны, попали в институт, жена — экономкой, дочь — классной дамой. Младшую дочь Аглаида Васильевна взяла к себе, а бывшую у нее фрейлейн устроила надзирательницею детского приюта.
На место Бориса Борисовича пришел толстый, краснощекий молодой немец, Роберт Иванович Клау.
Ученики сразу почувствовали, что Роберт Иванович — не Борис Борисович.
Дни пошли за днями, бесцветные своим однообразием, но сильные и бесповоротные своими общими результатами.
Тёма как-то незаметно сошелся с своим новым соседом, Ивановым.
Косые глаза Иванова, в первое время неприятно поражавшие Тёму, при более близком знакомстве начали производить на него какое-то манящее к себе, особенно сильное впечатление, Тёма не мог дать отчета, что в них было привлекательного: глубже ли взгляд казался, светлее ли как-то был он, но Тёма так поддался очарованию, что стал и сам косить, сначала шутя, а потом уже не замечая, как глаза его сами собою вдруг скашивались.
Матери стоило большого труда отучить его от этой привычки.
— Что ты уродуешь свои глаза? — спрашивала она.
Но Тёма, чувствуя себя похожим в этот момент на Иванова, испытывал бесконечное наслаждение.
Иванов незаметно втянул Тёму в сферу своего влияния.
Вечно тихий, неподвижный, никого не трогавший, как-то равнодушно получавший единицы и пятерки, Иванов почти не сходил с своего места.
— Ты любишь страшное? — тихо спросил однажды, закрывая рукою рот, Иванов во время какого-то скучного урока.
— Какое страшное? — повернулся к нему Тёма.
— Да тише, — нервно проговорил Иванов, — сиди так, чтобы незаметно было, что ты разговариваешь. Ну, про страшное: ведьм, чертей…
— Люблю.
— В каком роде любишь?
Тёма подумал и ответил:
— Во всяком роде.
— Я расскажу тебе про один случай в Испании. Да не поворачивайся же… сиди, как будто слушаешь учителя. Ну, так. В одном замке в Испании пришлось как-то заночевать одному путешественнику…
У Тёмы по спине уже забегали мурашки от предстоящего удовольствия.
— Его предупреждали, что в замке происходит по ночам что-то страшное. Ровно в двенадцать часов отворялись все двери…
У Тёмы широко раскрылись глаза.
— Опусти глаза!.. Что ты смотришь так?.. Заметят… Когда страшно сделается, смотри в книгу!.. Вот так. Ровно в двенадцать часов отворялись сами собою двери, зажигались все свечи, и в самой дальней комнате показывалась вдруг высокая, длинная фигура, вся в белом… Смотри в книгу… Я брошу рассказывать.
Тёма, как очарованный, слушал.
Он любил эти страшные рассказы, неистощимым источником которых являлся Иванов. Бывало, скажет Иванов во время рекреации: «Не ходи сегодня во двор, буду рассказывать». И Тёма, как прикованный, оставался на месте. Начнет и сразу захватит Тёму. Подопрется, бывало, коленом о скамью и говорит, говорит — так и льется у него. Смотрит на него Тёма, смотрит на маленький, болтающийся в воздухе порыжелый сапог Иванова, на лопнувшую кожу этого сапога; смотрит на едва выглядывающий, засаленный, покрытый перхотью форменный воротничок; смотрит в его добрые светящиеся глаза и слушает и чувствует, что любит он Иванова, так любит, что жалко ему почему-то этого маленького, бедно одетого мальчика, которому ничего, кроме его рассказов, не надо, — что готов он, Тёма, прикажи ему только Иванов, все сделать, всем для него пожертвовать.
— Как много ты знаешь! — сказал раз Тёма, — как ты все это можешь выдумать?
— Какой ты смешной, — ответил Иванов. — Разве это моя фантазия? Я читаю.
— Разве такие вещи печатают?
— Конечно, печатают. Ты читаешь что-нибудь?
— Как читаю?
— Ну, как читаешь? Возьмешь какой-нибудь рассказ, сядешь и читаешь.
Тёма удивленно слушал Иванова. В его голове не вмещалось, чтоб можно было добровольно, без урока, сидеть и читать.
— Ты вот попробуй, когда-нибудь я принесу тебе одну занимательную книжку… Только не порви.
Во втором классе Тёма уже читал Гоголя, Майн-Рида, Вагнера и втянулся в чтение. Он любил, придя из гимназии, под вечер, с куском хлеба, забраться куда-нибудь в каретник, на чердак, в беседку — куда-нибудь подальше от жилья, и читать, переживая все ощущения выводимых героев.
Он познакомился с Ивановым по дому и, узнав его жизнь, еще больше привязался к нему. Добрый, кроткий с теми, кого он любил, Иванов был круглый сирота, жил у богатых родственников, помещиков, но как-то заброшенно, в стороне от всей квартиры, в маленькой, возле самой кухни, комнатке. К нему никто не заглядывал, он тоже не любил ходить в общие комнаты и всегда почти просиживал один у себя.
— Тебе он нравится, мама? — приставал Тёма по сту раз к своей матери и, получая утвердительный ответ, переживал наслаждение за своего друга. — Мама, скажи, что тебе больше всего в нем нравится?
— Глаза.
— Правда, глаза? Знаешь, мама, его мать умерла перед тем, как он поступил в гимназию. Я видел ее портрет. Она казачка, мама… Такая хорошенькая… Он на груди в маленьком медальоне носит ее портрет. Он мне показывал, только сказал, чтобы я никому ничего не говорил. Ты тоже, мама, никому не говори. Ах, мама, если б ты знала, как я его люблю!
— Больше мамы?
Тёма сконфуженно опускал голову и нерешительно произносил:
— Одинаково…
— Глупый ты мальчик! — улыбаясь, говорила мать.
— Мама, он говорит, чтобы летом я ехал к ним в деревню. Там у них пруд есть, рыбу будем ловить, сад большой; у него большой кожаный диван под окнами, и вишни прямо в окно висят. У дяди его пропасть книг… Мы вдвоем запремся и будем читать. Пустишь меня, мама?
— Если перейдешь в третий класс — пущу.
— Ах, вот счастье будет! Я тебе привезу много вишен. Хорошо?
— Хорошо, хорошо. Пора уж заниматься.
— Так не хочется… — говорил Тёма, сладко потягиваясь.
— А в деревню хочется?
— Хочется, — смеялся Тёма.
Иногда утром, когда Тёме не хотелось вставать, когда почему-либо перспектива идти в гимназию не представляла ничего заманчивого, Тёма вдруг вспоминал своего друга, и сладкое чувство охватывало его, — он вскакивал и начинал одеваться. Он переживал наслаждение от мысли, что опять увидит Иванова, который уж будет ждать его и весело сверкнет своими добрыми черными глазами из-под мохнатой шапки волос. Поздороваются друзья, сядут поближе друг к другу и радостно будут улыбаться Корневу, который, грызя ногти, насмешливо скажет:
— Сто лет не видались… Поцелуйтесь на радостях.
В такие минуты Тёма считал себя самым счастливым человеком.
IX Ябеда
Но ничто не вечно под луною. И дружба Тёмы с Ивановым прекратилась, и мечты о деревне не осуществились, и на самое воспоминание об этих лучших днях из детства Тёмы жизнь безжалостно наложила свою гадливую печать, как бы в отместку за доставленное блаженство.
Учитель французского языка, Бошар, скромно начавший карьеру с кучера, сохранивший свою представительную фигуру, заседал на своем учительском месте так же величественно и добродушно, как в былые дни восседал на козлах своего фиакра. Как прежде, бывало, он по временам стегал свою клячу длинным бичом, так и теперь, от времени до времени, он хлопал своей широкой, пухлой ладонью и кричал громким равнодушным голосом:
— Voyons, voyons donс![49]
Однажды, по заведенному порядку, шел урок Бошара. Очередной переводил, остальной класс был в каком-то среднем состоянии между сном и бодрствованием.
В маленькое, круглое окошко класса, проделанное в дверях, заглянул чей-то глаз.
Вахнов сложил машинально кукиш, полюбовался им сначала сам, а затем предложил полюбоваться и смотревшему в окошечко.
При всем своем добродушии Иван Иванович, который и смотрел в окошко, не вытерпел и, отворив дверь, пригласил Вахнова к директору.
Вахнов струсил и стал божиться, что это не он. В подтверждение своих слов он сослался на Бошара, будто бы видевшего, как он, Вахнов, сидел смирно.
Бошар, видевший все и с любопытством естествоиспытателя наблюдавший сам зверька низшей расы — Вахнова, проговорил с пренебрежением удовлетворенного наблюдателя:
— Allez, allez, bête animal![50]
Вахнов скрепя сердце пошел за Иваном Ивановичем в коридор, но когда дверь затворилась и они остались одни с глазу на глаз, Вахнов, не долго думая, встал на колени и проговорил:
— Иван Иванович, не губите меня! Директор исключит за это, а отец убьет меня. Честное слово, я говорю, правду: вы знаете моего отца.
Иван Иванович хорошо знал отца Вахнова, который был в полном смысле слова зверь по свирепости и крутости нрава. Он славился на весь город этими своими качествами, наряду, впрочем, и с другими, признанными обществом: идеальной честностью и беззаветным мужеством.
— Встаньте скорей! — сконфуженно и растерянно заговорил Иван Иванович и сам бросился поднимать Вахнова.
Вахнов, для усиления впечатления, вставая, чмокнул надзирателя в руку. Иван Иванович, окончательно растерявшись, опрометью бросился от Вахнова, отмахиваясь и отплевываясь на ходу. Вахнов, постояв немного в коридоре, снова вошел в класс.
Какими-то судьбами эта история все-таки дошла до директора, и педагогическим советом Вахнов был приговорен к двухнедельному аресту по два часа каждый день.
Убедившись, что донес не Иван Иванович, Вахнов остановился на Бошаре, как на единственном человеке, который мог донести. Это было и общее мнение всего класса. Хотя и не горячо, но почти все высказывали порицание Бошару.
«Идиот» Вахнов на мгновение приобрел если не уважение, то сочувствие. Это сочувствие пробудило в Вахнове затоптанное сперва отцом, а потом и гимназией давно уже спавшее самолюбие. Он испытал сладкое нравственное удовлетворение, которое чувствует человек от сочувствия к нему общества. Но что-то говорило ему, что это сочувствие ненадежное и, чтоб удержать его, от него, Вахнова, требовалось что-то такое, что заставило бы навсегда забыть его прошлое.
Бедная голова Вахнова, может быть, в первый раз в жизни, была полна другими мыслями, чем те, какие внушало ей здоровое, праздное тело пятнадцатилетнего отупевшего отрока. Его мозги тяжело работали над трудной задачей, с которой он и справился наконец.
За мгновение до прихода Бошара Вахнов не удержался, чтобы не сказать Иванову и Тёме (по настоянию Иванова они и во втором классе продолжали сидеть втроем и по-прежнему на последней скамейке) о том, что он всунул в стул, на который сядет Бошар, иголку.
Так как на лицах Иванова и Тёмы изобразился какой-то ужас вместо ожидаемого одобрения, то Вахнов на всякий случай проговорил:
— Только выдайте!
— Мы не выдадим, но не потому, что испугались твоих угроз, — ответил с достоинством Иванов, — а потому, что к этому обязывают правила товарищества. Но это такая гнусная гадость…
Тёма только взглядом ответил на так отчетливо выраженные Ивановым его собственные мысли.
Спорить было поздно. Бошар уже входил, величественный и спокойный. Он поднялся на возвышение, стал спиной к стулу, не спеша положил книги на стол, оглянул взглядом сонного орла класс и, раздвигая слегка фалды, грозно опустился.
В то же мгновение он вскочил, как ужаленный, с пронзительным криком, нагнулся и стал щупать рукой стул. Разыскав иголку, он вытащил ее с большим трудом из сиденья и бросился из класса.[51]
Совершенно бледный, с провалившимися вдруг куда-то внутрь глазами, откуда они горели огнем, влетел в класс директор и прямо бросился к последней скамейке.
— Это не я! — прижатый к скамье, в диком ужасе закричал Тёма.
— Кто?! — мог только прохрипеть директор, схватив его за руку.
— Я не знаю! — ответил высоким визгом Тёма.
Рванув Тёму за руку, директор одним движением выдернул его в проход и потащил за собой.
Тёма каким-то вихрем понесся с ним по коридору. Как-то тупо застыв, он безучастно наблюдал ряды вешалок, шинелей, грязную калошу, валявшуюся посреди коридора… Он пришел в себя, только очутившись в директорской, когда его слух поразил зловеще щелкнувший замок запиравшейся на ключ двери.
Смертельный ужас охватил его, когда он увидел, что директор, покончив с дверью, стал как-то тихо, беззвучно подбираться к нему.
— Что вы хотите со мной делать?! — неистово закричал Тёма и бросился в сторону.
В то же мгновение директор схватил его за плечо и проговорил быстрым, огнем охватившим Тёму шепотом:
— Я ничего не сделаю, но не шутите со мною: кто?!
Тёма помертвелыми глазами, застыв на месте, с ужасом смотрел на раздувавшиеся ноздри директора.
Впившиеся черные горящие глаза ни на мгновение не отпускали от себя широко раскрытых глаз Тёмы. Точно что-то, помимо воли, раздвигало ему глаза и входило через них властно и сильно, с мучительной болью вглубь, в Тёму, туда… куда-то далеко, в ту глубь, которую только холодом прикосновения чего-то чужого впервые ощущал в себе онемевший мальчик…
Ошеломленный, удрученный, Тёма почувствовал, как он точно погружался куда-то…
И вот, как жалобный подсвист в бурю, рядом с диким воем зазвучали в его ушах и посыпались его бессвязные, слабеющие слова о пощаде, слова мольбы, просьбы и опять мольбы о пощаде и еще… ужасные, страшные слова, бессознательно слетавшие с помертвелых губ… ах! более страшные, чем кладбище и черная шапка Еремея, чем розги отца, чем сам директор, чем все, что бы то ни было на свете. Что смрад колодца?! Там, открыв рот, он больше не чувствовал его… От смрада души, охватившего Тёму, он бешено рванулся.
— Нет! Нет! Не хочу! — с безумным воплем бесконечной тоски бросился Тёма к вырвавшему у него признание директору.
— Молчать! — со спокойным, холодным презрением проговорил удовлетворенный директор и, втолкнув Тёму в соседнюю комнату, запер за ним дверь.
Оставшись один, Тёма как-то бессильно, тупо оглянулся, точно отыскивая потерявшуюся связь событий. Затихавшие в отдалении шаги директора дали ему эту связь. Ослепительной, мучительной болью сверкнуло сознание, что директор пошел за Ивановым.
— И-и! — ухватил себя ногтями за щеки Тёма и завертелся волчком. Натолкнувшись на что-то, он так и затих, охваченный какой-то бесконечной пустотой.
В соседнюю комнату опять вошел директор. Снова раздался его бешеный крик.
Тёма пришел в себя и замер в томительно напряженном ожидании ответа Иванова.
— Я не могу… — тихой мольбой донеслось к Тёме, и сердце его сжалось мучительной болью.
Опять загремел директор, и новый залп угроз оглушил комнату.
— Я не могу, я не могу… — доносился как будто с какой-то бесконечной высоты до слуха Тёмы быстрый, дрожащий голос Иванова. — Делайте со мной, что хотите, я приму на себя всю вину, но я не могу выдать…
Наступило гробовое молчание.
— Вы исключаетесь из гимназии, — проговорил холодно и спокойно директор. — Можете отправляться домой. Лица с таким направлением не могут быть терпимы.
— Что ж делать? — ответил раздраженно Иванов, — выгоняйте, но вы все-таки не заставите меня сделать подлость.
— Вон!!
Тёма уже ничего не чувствовал. Все как-то онемело в нем.
Через полчаса состоялось определение педагогического совета. Вахнов исключался. Родным Иванова предложено было добровольно взять его. Карташев наказывался на неделю оставаться во время обеда в гимназии, по два часа каждый день.
Тёме приказали идти в класс, куда он и пошел, подавленный, униженный, тупой, чувствуя отвращение и к себе, и к директору, и к самой жизни, чувствуя одно бесконечное желание, чтобы жизнь отлетела сразу, чтобы сразу перестать чувствовать.
Но жизнь не отлетает по желанию, чувствовать надо, и Тёма почувствовал, решившись поднять наконец глаза на товарищей, что нет Иванова, нет Вахнова, но есть он, ябеда и доносчик, пригвожденный к своему позорному месту… Неудержимой болью охватила его мысль о том светлом, безвозвратно погибшем времени, когда и он был чистым и незапятнанным; охватило его горькое чувство тоски, зачем он живет, и рыдания подступили к его горлу.
Но он удержал их, и только какой-то тихий, жалобный писк успел вырваться из его горла, писк, замерший в самом начале. Что-то забытое, напомнившее Тёме Жучку в колодце, мелькнуло в его голове…
Тёма быстро, испуганно оглянулся… Но никто не смотрел на него.
Передавая дома эту историю, Тёма скрыл, что выдал товарища.
Отец, выслушав, проговорил:
— Иначе ты и не мог поступить… И без наказания нельзя было оставить; Вахнова давно пора было выгнать; Иванов, видно, за что-нибудь намечен, а ты, как меньше других виноватый, поплатился недельным наказанием. Что ж? отсидишь.
Сердце Тёмы тоскливо ныло, и, еще более униженный, он стоял и не смел поднять глаз на отца и мать.
Аглаида Васильевна ничего не сказала и ушла к себе.
Не дотронувшись почти до еды, Тёма тоскливо ходил по комнатам, отыскивая такие, в которых никого не было, и, останавливаясь у окон, неподвижно, без мысли, замирал, смотря куда-то. При малейшем шорохе он быстро отходил от своего места и испуганно оглядывался.
Когда наступили сумерки, ему стало еще тяжелее, и он как-то бессознательно потянулся к матери. Он рассмотрел ее возле окна и молча подошел.
Тёма, расскажи мне, как все было… — мягко, ласково, но требовательно-уверенно проговорила мать.
Тёма замер и почувствовал, что мать уже догадалась.
— Все расскажи.
Этот ласковый, вперед прощающий голос охватил Тёму какою-то жгучей потребностью — все до последнего передать матери.
Передав истину, Тёма горько оборвал рассказ и униженно опустил голову.
— Бедный мой мальчик, — произнесла охваченная той же тоской унижения и горечи мать.
Тёма облокотился на спинку ее кресла и тихо заплакал.
Мать молча вытирала капавшие по его щекам слезы. Собравшись с мыслями и дав время успокоиться сыну, она сказала:
— Что делать? Если мы видим свои недостатки и если, замечая их, стараемся исправиться, то и ошибки наши уже являются источниками искупления. Сразу ничего не приходит. Все достается тяжелой борьбой в жизни. В этой борьбе ты уже нашел сегодня одну свою слабую сторону… Когда будешь молиться, попроси у бога, чтобы он послал тебе твердость и крепкую волю в минуты страха и опасности.
— Ах, мама, как я вспомню про Иванова, как вспомню… так бы, кажется, и умер сейчас.
Мать молча гладила голову сына.
— Ну, а если б ты пошел к нему? — спросила она ласково.
Тёма не сразу ответил.
— Нет, мама, не могу, — сказал он дрогнувшим голосом. — Когда я знаю, что больше не увижу его… так жалко… я так люблю его… а как подумаю, что пойду к нему… я больше не люблю его, — тоскливо докончил Тёма, и слезы опять брызнули из его глаз.
— Ну и не надо, не ходи. Когда-нибудь в жизни, когда ты выйдешь хорошим, честным человеком, бог даст, ты встретишься с ним и скажешь ему, что если ты вышел таким, то оттого, что ты всегда думал о нем и хотел быть таким же честным, хорошим, как он. Хорошо?
Тёма молча вздохнул и задумался. Мать тоже замолчала и только продолжала ласкать своего не устоявшего в первом бою сына.
Вечером, в кровати, Тёма осторожно поднял голову и, убедившись, что все уже спят, беззвучно спустился на пол и, весь проникнутый горячим экстазом, охваченный каким-то особенным, так редко, но с такой силой посещающим детей огнем веры, — жарко молился, прося бога послать ему силы ничего не бояться.
И вдруг, среди молитвы, Тёма вспомнил Иванова, его добрые глаза, так ласково, доверчиво смотревшие на него, вспомнил, что больше его никогда не увидит… и, как-то завизжавши от боли, впился зубами в подушку и замер в безысходной тоске…
X В Америку
Тоскливо, холодно и неприветливо потекла гимназическая жизнь Тёмы. Он не мог выносить классной комнаты — этой свидетельницы его былого счастья и паденья, хотя между товарищами Тёма и встретил неожиданную для него поддержку. Через несколько дней после тяжелого одиночества Касицкий, подойдя и улегшись на скамейке перед Тёмой, подперев подбородок рукой, спросил его ласково и сочувственно, смотря в глаза:
— Как это случилось, что ты выдал? Струсил?
— Черт его знает, как это вышло, — заговорил Тёма, и слезы подступили к его глазам, — раскричался, затопал, я и не помню…
— Да, это неприятно… Ну, теперь ученый будешь…
— Теперь пусть попробует, — вспыхнул Тёма, и глаза его сверкнули, — я ему, подлецу, в морду залеплю…
— Вот как… Да, свинство, конечно… Жалко Иванова?
— Эх, за Иванова я полжизни бы отдал!
— Конечно… водой ведь вас, бывало, не разольешь. А моя-то сволочь, Яковлев, радуется.
Каждый день Касицкий подсаживался к Тёме и с удовольствием заводил с ним разговоры.
— Послушай, — предложил однажды Касицкий, — хочешь, я пересяду к тебе?
Тёма вспыхнул от радости.
— Ей-богу… у меня там такая дрянь…
И Данилов все чаще и чаще стал оглядываться на Тёму. Данилов подолгу, стараясь это делать незаметно, вдумчиво всматривался в бледное, измученное лицо «выдавшего», и в душе его живо рисовались муки, которые переживал в это время Тёма. Чувство стыдливости не позволяло ему выразить Тёме прямо свое участие, и он ограничивался тем, что только как-то особенно сильно жал, при встрече утром, руку Тёмы и краснел. Тёма чувствовал расположение Данилова и тоже украдкой смотрел на него и быстро отводил глаза, когда Данилов замечал его взгляд.
— Ты куда? — спросил Данилов Касицкого, который с ворохом тетрадей и книг несся весело по классу.
— А вот, перебраться задумал…
Эта мысль понравилась Данилову; он весь урок что-то соображал, а в рекреацию, подойдя решительно к Тёме и став как-то, по своей привычке, вполуоборот к нему, спросил, краснея:
— Ты ничего не будешь иметь против, если и я пересяду к тебе?
— Я очень рад, — ответил Тёма, в свою очередь краснея до волос.
— Ну, и отлично.
— И ты? — увидав Данилова, проговорил обрадованый и возвратившийся откуда-то в это время Касицкий.
И он заорал во все горло:
Вот мчится тройка удалая!Один из двух старых соседей Касицкого, Яковлев, шепнул на ухо Филиппову:
— Карташев и им удружит…
И оба весело рассмеялись.
— Моя дрянь смеется, — проговорил Касицкий, перестав петь. — Сплетничают что-нибудь. Черт с ними!.. Постойте, теперь надо так рассесться: ты, Данилов, как самый солидный, садись в корень, между нами, двумя сорванцами. Ты, Карташев, полезай к стене, а я, так как не могу долго сидеть на месте, сяду поближе к проходу.
Когда все было исполнено, он проговорил:
— Ну вот, теперь настоящая тройка! Ничего, отлично заживем.
— Ты любишь море? — спросил однажды Данилов у Тёмы.
— Люблю, — ответил Тёма.
— А на лодке любишь кататься?
— Люблю, только я еще ни разу не катался.
Данилов никак не мог понять, как живя в приморском городе, до сих пор ни разу не покататься на лодке. Он давно уже умел и грести и управлять рулем. Он, сколько помнил себя, все помнил то же безбрежное море, их дом, стоявший на самом берегу, всегда вдыхал в себя свежий запах этого моря, перемешанный с запахом пеньки, смоляных канатов и каменноугольного дыма пристани. Сколько он помнил себя, всегда его ухо ласкал шум моря, то тихий и мягкий, как шепот, то страстный и бурный, как стон и вопли разъяренного дикого зверя. Он любил это море, сроднился с ним; любовь эту поддерживали и развили в нем до страсти молодые моряки, бывавшие у его отца, капитана порта.
Он спал и грезил морем. Он любовался у открытого окна, когда, бывало, вечером луна заливала своим чудным светом эту бесконечную водную даль со светлой серебряной полосой луны, сверкавшей в воде и терявшейся на далеком горизонте; он видел, как вдруг выплывшая лодка попадала в эту освещенную полосу, разрезая ее дружными, мерными взмахами весел, с которых, как серебряный дождь, сбегала напитанная фосфорическим блеском вода. Он любил тогда море, как любят маленьких хорошеньких детей. Но не этой картиной море влекло его душу, вызывало восторг и страсть к себе. Его разжигала буря, в нем подымалась неизведанная страсть в утлой лодке померяться силами с рассвирепевшим морем, когда оно, взбешенное, как титан, швыряло далеко на берег свои бешеные волны. Тогда Данилов уж не был похож на мягкого, обыкновенного Данилова. Тогда, вдохновенный, он простаивал по целым часам на морском берегу, наблюдая расходившееся море. Он с какою-то завистью смотрел в упор на своих бешено набегавших врагов — волны, которые тут же, у его ног, разбивались о берег.
— Не любишь! — с наслаждением шептали его побледневшие губы, а глаза уже впивались в новый набегавший вал, который, точно разбежавшийся человек, споткнувшись с размаха, высоко взмахнув руками, тяжело опрокидывался на острые камни.
«Э-эх!» — злорадно отдавалось в его сердце.
Однажды Данилов сказал Тёме и Касицкому:
— Хотите завтра покататься на лодке?
Тёма, замирая от счастья, восторженно ответил:
— Хочу.
Касицкий тоже изъявил согласие.
— Так прямо из гимназии и пойдем. Сначала пообедаем у меня, а потом и кататься.
Вопрос у Тёмы был только в том, как отнесутся к этому дома. Но и дома он получил разрешение.
Прогулки по морю стали излюбленным занятием друзей в третьем классе. Зимой, когда море замерзло и нельзя было больше ездить, верные друзья ходили по берегу, смотрели на расстилавшуюся перед ними ледяную равнину, на темную полосу воды за ней, там, где море сливалось с низкими свинцовыми тучами, — щелкали зубами, синели от холода, ежились в своих форменных пальтишках, прятали в короткие рукава красные руки и говорили всё о том же море. Главным образом говорил Данилов; Тёма с раскрытым ртом слушал, а Касицкий и слушал, и возражал, и развлекался.
— А вот я знаю такой случай, — начинал, бывало, Касицкий, — один корабль опрокинулся…
— Килевой? — спрашивал Данилов.
— Килевой, конечно.
— Ну и врешь, — отрезывал Данилов. — Такой корабль не может опрокинуться…
— Ну, уж это дудки! Ах, оставьте, пожалуйста. Так может…
— Да понимаешь ты, что не может. Единственный случай был…
— Был же? Значит, может.
— Да ты дослушай. Этот корабль…
Но Касицкий уже не слушал; он завидел собаку и бежал доказывать друзьям, что собака его не укусит. Эти доказательства нередко кончались тем, что собака из выжидательного положения переходила в наступательное и стремительно рвала у Касицкого то брюки, то пальто, вследствие чего у него не было такого платья, на котором не нашлось бы непочиненного места. Но он не смущался и всегда находил какое-нибудь основание, почему собака его укусила. То оттого, что она бешеная, то нарочно…
— Нарочно поддразнил, — говорил снисходительно Касицкий.
— Ну да, нарочно? — смеялся Тёма.
— Дура, нарочно! — смеялся и Касицкий, надвигая Тёме на лицо фуражку.
Если ничего другого не оставалось для развлечения, то Касицкий не брезгал и колесом пройтись по панели. За это Данилов снисходительно называл его «мальчишкой». Данилов вообще был старшим в компании — не летами, но солидностью, которая происходила от беспредельной любви к морю; о нем только и думал он, о нем только и говорил и ничего и никого, кроме своего моря, не признавал. Одно терзало его, что он не может посвятить всего своего времени этому морю, а должен тратить это дорогое время и на сон, и на еду, и на гимназию. В последнем ему сочувствовали и Тёма и Касицкий.
— Есть люди с твердой волей, которые и без гимназии умели прокладывать себе дорогу в жизни, — говорил Данилов. Тёма только вздыхал.
Есть, конечно, есть… Робинзон… А все эти юнги, с детства попавшие случайно на пароход, прошедшие сквозь огонь и медные трубы, закалившиеся во всех неудачах. Боже мой! Чего они не видали, где не бывали: и пустыни, и львы, и тигры, и американские индейцы.
— А ведь такие же, как и мы, люди, — говорил Данилов.
— Конечно, такие.
— Тоже и отца, и мать, и сестер имели, тоже, вероятно, страшно сначала было, а пересилили, не захотели избитым путем пошлой жизни жить, и что ж — разве они жалели? Никогда не жалели: все они всегда вырастали без этих дурацких единиц и экзаменов, женились всегда на ком хотели, стариками делались, и все им завидовали.
И вот понемногу план созрел: попытать счастья и с первым весенним днем удрать в Америку на первом отходящем пароходе. Мысль эту бросил Касицкий и сейчас же забыл о ней. Данилов долго вдумывался и предложил однажды привести ее в исполнение. Тёма дал согласие, не думая, главным образом ввиду далекой еще весны. Касицкий дал согласие, так как ему было решительно все равно: в Америку так в Америку. Данилов все тонко, во всех деталях обдумал. Прежде всего совсем без денег ехать нельзя; положим, юнге даже платят сколько-нибудь, но до юнги надо доехать. А потому необходимо было пользоваться каждым удобным моментом, чтобы откладывать все, что можно. Все ресурсы должны были поступать в кассу: деньги, выдаваемые на завтраки, — раз, именинные — два, случайные (вроде на извозчика), подарки дядей и пр. и пр. — три. Данилов добросовестно отбирал у друзей деньги сейчас же по приходе их в класс, так как опыт показал, что у Касицкого и Тёмы деньги в первую же рекреацию улетучивались. Результатом этого был волчий голод в компании во все время уроков, то есть с утра до двух-трех часов дня. Данилов крепился, Касицкий без церемонии отламывал куски у первого встречного, а Тёма терпел, терпел и тоже кончал тем, что просил у кого-нибудь «кусочек», а то отправлялся на поиски по скамьям, где и находил всегда какую-нибудь завалявшуюся корку.
Было, конечно, довольно простое средство избавить себя от таких ежедневных мук — это брать с собой из дому хоть запасный кусок хлеба. Но вся беда заключалась в том, что после утреннего чая, когда компания отправлялась в гимназию, им не хотелось есть, и с точки зрения этого настоящего они каждый день впадали в ошибочную уверенность, что и до конца уроков им не захочется есть.
— На что ты похож стал?! Под глазами синяки, щеки втянуло, худой, как скелет! — допытывалась мать.
Хуже всего, что, удерживаясь, Тёма дотягивал обыкновенно до последней рекреации, и уж когда голод чуть не заставлял его кричать, тогда он только отправлялся на фуражировку. Вследствие этого аппетит перебивался, и так основательно, что, придя домой, Тёма ни до чего, кроме хлеба и супа, не касался.
Обдумывая в подробностях свой план, Данилов пришел к заключению, что прямо в гавани сесть на корабль не удастся, потому что, во-первых, узнают и не пустят, а во-вторых, потребуют заграничные паспорты. Поэтому Данилов решил так: узнав, когда отходит подходящий корабль, заблаговременно выбраться в открытое море на лодке и там, пристав к кораблю, объяснить, в чем дело, и уехать на нем. Вопрос о дальнейшем был решен в утвердительном смысле на том простом основании, что кому же даровых работников не надо? Гораздо труднее был вопрос о лодке. Чтоб отослать ее назад, нужен был проводник. Этим подводился проводник. Если пустить лодку на произвол судьбы, — пропажа казенного имущества — отец подводился. Все это привело Данилова к заключению, что надо строить свою лодку. Отец Данилова отозвался сочувственно, дал им лесу, руководителей, и компания приступила к работе. Выбор типа лодки подвергся всестороннему обсуждению. Решено было строить килевую и отдано было предпочтение ходу перед вместимостью.
— Весь секрет, чтобы было как можно меньше сопротивление. Чем она у~же…
— Ну, конечно, — перебивал нетерпеливый Касицкий.
— Понимаешь? — спрашивал Данилов Тёму.
— Понимаю, — отвечал Тёма, понимающий больше потому, что это было понятно Данилову и Касицкому: что там еще докапываться? Уже — так уже.
— Мне даже кажется, что эта модель, самая узкая из всех, и та широка.
— Конечно, широка, — энергично поддержал Касицкий. — К чему такое брюхо?
— Отец настаивает, — нерешительно проговорил Данилов.
— Еще бы ему не настаивать, у него живот-то, слава богу; ему и надо, а нам на что?
— А мы, чтоб не дразнить его, сделаем уже, а ему благоразумно умолчим.
— Подлец, врать хочешь…
— Не врать, молчать буду. Спросит — ну, тогда признаюсь.
Всю зиму шла работа; сперва киль выделали, затем шпангоуты насадили, потом обшивкой занялись, а затем и выкрасили в белый цвет, с синей полоской кругом.
Собственно говоря, постройка лодки подвигалась непропорционально труду, какой затрачивался на нее друзьями, и секрет этот объяснялся тем, что им помогали какие-то таинственные руки. Друзья благоразумно молчали об этом, и когда лодка была готова, они с гордостью объявили товарищам:
— Мы кончили.
Впрочем, Касицкий не удержался и тут же сказал, подмигивая Тёме:
— Мы?!
— Конечно, мы, — ответил Тёма. — Матросы помогали, а все-таки, мы.
— Помогали?! Рыло!
И Касицкий, рассмеявшись, добавил:
— Кой черт, мы! Ну, Данилов действительно работал, а мы вот с этим подлецом все больше насчет глаз. Да ей-богу же, — кончил он добродушно. — Зачем врать.
— Я считаю, что и я работал.
— Ну да, ты считаешь. Ну, считай, считай.
— Да зачем вам лодка? — спросил Корнев, грызя, по обыкновению, ногти.
— Лодка? — переспросил Касицкий. — Зачем нам лодка? — обратился он к Тёме.
Тёму подмывало.
— Свинья! — смеялся он, чувствуя непреодолимое желание выболтать.
— Чтоб кататься, — ответил Данилов, не сморгнув, что называется, глазом.
Корнев видел, что тут что-то не то.
— Мало у отца твоего лодок?
— Ходких нет, — ответил Данилов.
— Что значит — ходких?
— Чтоб резали хорошо воду.
— А что значит — чтоб резали хорошо воду?
— Это значит, что ты дурак. — вставил Касицкий.
— Бревно! — вскользь ответил Корнев, — не с тобой говорят.
— Ну, чтоб узкая была, шла легко, оказывала бы воде меньшее сопротивление.
— Зачем же вам такую лодку?
— Чтобы больше удовольствия было от катанья.
Корнев подозрительно всматривался по очереди в каждого.
— Эх ты, дура! — произнес Касицкий полушутя-полусерьезно. — В Америку хотим ехать.
После этого уже сам Корнев говорил пренебрежительно:
— Черти, с вами гороху наесться сперва надо, — и уходил.
— Послушай, зачем ты говоришь? — замечал Данилов Касицкому.
— Что~ говорю? Именно так действуя, ничего и не говорю.
— Конечно, — поддерживал Тёма, — кто ж догадается принять его слова за серьезные.
— Все догадаются. Вас подмывает на каждом слове, и кончится тем, что вы все разболтаете. Глупо же. Если не хотите, скажите прямо, зачем было и затевать тогда.
Обыкновенно невозмутимый, Данилов не на шутку начинал сердиться. Касицкий и Тёма обещали ему соблюдать вперед строгое молчание. И хотя нередко на приятелей находило страстное желание подсидеть самих себя, но сознание огорчения, которое они нанесут этим Данилову, останавливало их.
Понятное дело, что тому, кто едет в Америку, никаких, собственно, уроков готовить не к чему, и время, потраченное на такой труд, считалось компанией погибшим временем.
Обстоятельства помогли Тёме в этом отношении. Мать его родила еще одного сына, и выслушивание уроков было оставлено. Следующая треть, последняя перед экзаменами, была весьма печальна по результатам: единица, два, закон божий — три, по естественной — пять, поведение — и то «хорошего» вместо обычного «отличного». На Карташева махнули в гимназии рукой, как на ученика, который остается на второй год.
Тёма благоразумно утаил от домашних отметки. Так как требовалась расписка, то он, как мог, и расписался за родителей, что отметки они видели. При этом благоразумно подписал: «По случаю болезни, за мать, сестра З. Карташева». Дома, на вопрос матери об отметках, он отделывался обычным ответом, произносимым каким-то слишком уж равнодушным и беспечным голосом:
— Не получил еще.
— Отчего ж так затянулось?
— Не знаю, — отвечал Тёма и спешил заговорить о чем-нибудь другом.
— Тёма, скажи правду, — пристала раз к нему мать, — в чем дело? Не может быть, чтоб до сих пор не было отметок?
— Нет, мама.
— Смотри, Тёма, я вот встану и поеду сама.
Тёма пожал плечами и ничего не ответил: чего, дескать, пристали к человеку, который уже давно мысленно в Америке?
Друзья назначили свой отъезд на четвертый день пасхи. Так было решено с целью не отравлять родным пасху.
Заграничный пароход отходил в шесть часов вечера. Решено было тронуться в путь в четыре.
Тёма, стараясь соблюдать равнодушный вид, бросая украдкой растроганные взгляды кругом, незаметно юркнул в калитку и пустился к гавани.
Данилов уже озабоченно бегал от дома к лодке.
Тёма заглянул внутрь их общей красавицы — белой с синей каемкой лодки, с девизом «Вперед», и увидел там всякие кульки.
— Еда, — озабоченно объяснил Данилов. — Где же Касицкий?
Наконец показался и Касицкий с какой-то паршивой собачонкой.
— Да брось! — нетерпеливо проговорил Данилов.
Касицкий с сожалением выпустил собаку.
— Ну, готово! Едем.
Тёма с замиранием сердца прыгнул в лодку и сел на весло.
«Неужели навсегда?» — пронеслось у него в голове и мучительно-сладко где-то далеко-далеко замерло.
Касицкий сел на другое весло. Данилов — на руль.
— Отдай! — сухо скомандовал Данилов матросу.
Матрос бросил веревку, которую держал в руке, и оттолкнул лодку.
— Навались!
Тёма и Касицкий взмахнули веслами. Вода быстро, торопливо, гулко заговорила у борта лодки.
— Навались!
Гребцы сильно налегли. Лодка помчалась по гладкой поверхности гавани. У выхода она ловко вильнула под носом входившего парохода и, выскочив на зыбкую, неровную поверхность открытого моря, точно затанцевала по мелким волнам.
— Норд-ост! — коротко заметил Данилов.
Весенний холодный ветер срывал с весел воду и разносил брызги.
— Навались!
Весла, ровно и мерно стуча в уключинах, на несколько мгновений погружались в воду и снова сверкали на солнце ловким движением гребцов обращенные параллельно к воде.
Отъехав версты две, гребцы, по команде Данилова, подняли весла и сняли шапки с вспотевших голов.
— Черт, пить хочется, — сказал Касицкий и, перегнувшись, зачерпнул двумя руками морской воды и хлебнул глоток.
То же самое проделал и Тёма.
— Навались!
Опять мерно застучали весла, и лодка снова весело и легко начала резать набегавшие волны.
Ветер свежел.
— К вечеру разыграется, — заметил Данилов.
— О-го, рвет, — ответил Касицкий, надвигая чуть было не сорвавшуюся в море шапку.
— Экая красота! — проговорил немного погодя Данилов, любуясь небом и морем. — Посмотрите на солнце, как наседают тучи! Точно рядом день и ночь. Там все темное, грозное; а сюда, к городу, — ясное, тихое, спокойное.
Касицкий и Тёма сосредоточенно молчали.
Тёма скользнул глазами по сверкавшему вдали городу, по спокойному, ясному берегу, и сердце его тоскливо сжалось: что-то теперь делают мать, отец, сестры?! Может быть, весело сидят на террасе, пьют чай и не знают, какой удар приготовил он им. Тёма испуганно оглянулся, точно проснулся от какого-то тяжелого сна.
— Что, может, назад пойдем, Карташев? — спросил спокойно Данилов, наблюдая его.
«Назад?!» — радостно рванулось было сердце Тёмы к матери. А мечты об Америке, а гимназия, экзамены, неизбежный провал…
Тёма отрицательно мотнул головой и угрюмо молча налег на весло.
— Пароход! — крикнул Касицкий.
Из гавани, выпуская клубы черного дыма, показался громадный заграничный пароход.
— Пойдем потихоньку навстречу.
Лодка сделала красивый полукруг и медленно пошла навстречу.
Пароход приближался. Уже можно было разобрать толпу пассажиров на палубе!
«Через несколько минут мы уже будем между ними», — мелькнуло у каждого из друзей.
— Пора!
Все было наготове.
Согласно законам аварий, Касицкий выстрелил два раза из револьвера, а Данилов выбросил специально приготовленный для этого случая белый флаг, навязанный на длинный шест.
Тяжелое чудовище летело совсем близко, высоко задрав свои могучие борты, и гул машины явственно отдался в ушах беглецов, обдав их запахом пара и перегорелого масла.
Лодку закачало во все стороны.
Ура! Их заметили. Целый ворох белых платков замахал им с палубы. Но что ж это? Зачем они не останавливаются?
— Стреляй еще! Маши платком.
Друзья стреляли, махали и кричали как могли.
Увы! Пароход уж был далеко и все больше и больше прибавлял ходу…
Разочарование было полное.
— Они думали, — проговорил огорченно Тёма, — что мы им хорошей дороги желаем.
— Я говорил, что все это ерунда, — сказал Касицкий, бросая в лодку револьвер. — Ну кто, в самом деле, нас возьмет?! Кто для нас остановится?!
Уныло, хотя и быстро было возвращение обратно. Норд-ост был попутный.
— Надо обдумать… — начал было Данилов.
— Ерунда! Ни в какую Америку я больше не поеду, — сказал Касицкий, когда лодка пристала к берегу. — Все это чушь.
— Ну, вот уж и чушь, — ответил сконфуженно Данилов.
— Да, конечно, чушь, и пора понять это.
Тёма грустно слушал, задумчиво смотря вдаль так коварно изменившему пароходу.
— Надо обдумать…
— Как выдержать экзамены, — фыркнул Касицкий и, нахлобучив шапку, пожав наскоро руки друзьям, быстро пошел в город.
— Духом упал. Все еще можно поправить, — грустно докончил Данилов.
— Прощай, — ответил Тёма и, пожав товарищу руку, тоже побрел домой.
Да, не выгорела Америка! С одной стороны, конечно, приятно опять увидеть мать, отца, сестер, братьев, с которыми думал уже никогда, может быть, не встретиться, но, с другой стороны, тяжело и тоскливо вставали экзамены, почти неизбежный провал, все то, с чем, казалось, было уже навсегда покончено.
Да, жаль, — а хороший было придумали выход.
И Тёма от души вздохнул.
Когда после пасхи в первый раз собрались в класс, все уже перемололось, и Касицкий не удержался, чтобы в веселых красках не передать о неудавшейся затее. Тёма весело помогал ему, а Данилов только снисходительно слушал.
Все смеялись и прозвали Данилова, Касицкого и Тёму «американцами».
XI Экзамены
Подошли и экзамены.
Несмотря на то, что Тёма не пропускал ни одной церкви без того, чтобы не перекреститься, не ленился за квартал обходить встречного батюшку, или в крайнем случае при встречах хватался за левое ухо и скороговоркой говорил: «Чур, чур, не меня!», или усердно на том же месте перекручивался три раза, — дело, однако, плохо подвигалось вперед.
Дома тем не менее Тёма продолжал взятый раньше тон.
— Выдержал?
— Выдержал.
— Сколько поставили?
— Не знаю, отметок не показывают.
— Откуда ж ты знаешь, что выдержал?
— Отвечал хорошо…
— Ну, сколько же, ты думаешь, тебе все-таки поставили?
— Я без ошибки отвечал…
— Значит, пять?
— Пять! — недоумевал Тёма.
Экзамены кончились. Тёма пришел с последнего экзамена.
— Ну?
— Кончил…
Опять ответ поразил мать какою-то неопределенностью.
— Выдержал?
— Да…
— Значит, перешел?
— Верно…
— Да когда же узнать-то можно?
— Завтра, сказали.
Назавтра Тёма принес неожиданную новость, что он срезался по трем предметам, что передержку дают только по двум, но если особенно просить, то разрешат и по трем. Это-то последнее обстоятельство и вынудило его открыть свои карты, так как просить должны были родители.
Тёма не мог вынести пристального, презрительного взгляда матери, устремленного на него, и смотрел куда-то вбок.
Томительное молчание продолжалось довольно долго.
— Негодяй! — проговорила наконец мать, толкнув ладонью Тёму по лбу.
Тёма ждал, конечно, сцены гнева, неудовольствия, упреков, но такого выражения презрения он не предусмотрел, и тем обиднее оно ему показалось. Он сидел в столовой и чувствовал себя очень скверно. С одной стороны, он не мог не сознавать, что все его поведение было достаточно пошло; но, с другой стороны, он считал себя уже слишком оскорбленным. Обиднее всего было то, что на драпировку в благородное негодование у него не хватало материала, и, кроме фигуры жалкого обманщика, ничего из себя и выкроить нельзя было. А между тем какое-то раздражение и тупая злость разбирали его и искали выхода. Отец пришел. Ему уже сказала мать.
— Болван! — проговорил с тем же оттенком пренебрежения отец. — В кузнецы отдам…
Тёма молча высунул ему вдогонку язык и подумал: «Ни капельки не испугался». Тон отца еще больше опошлил перед ним его собственное положение. Нет! Решительно ничего нет, за что бы уцепиться и почувствовать себя хоть чуточку не так пошло и гадко! И вдруг светлая мысль мелькнула в голове Тёмы: отчего бы ему не умереть?! Ему даже как-то весело стало от мысли, какой эффект произвело бы это. Вдруг приходят, а он мертвый лежит. Вот тогда и сердись сколько хочешь! Конечно, он виноват — он понимал это очень хорошо, — но он умрет и этим вполне искупит свою вину. И это, конечно, поймут и отец и мать, и это будет для них вечным укором! Он отомстит им! Ему ни капли их не жалко, — сами виноваты! Тёма точно снова почувствовал презрительный шлепок матери по лбу. Злое, недоброе чувство с новой силой зашевелилось в его сердце. Он злорадно остановил глаза на коробке спичек и подумал, что такая смерть была бы очень хороша, потому что будет не сразу и он успеет еще насладиться чувством удовлетворенного торжества при виде горя отца и матери. Он занялся вопросом, сколько надо принять спичек, чтоб покончить с собой. Всю коробку? Это, пожалуй, будет слишком много, он быстро умрет, а ему хотелось бы подольше полюбоваться. Половину? Тоже, пожалуй, много. Тёма остановился почему-то на двадцати головках. Решив это, он сделал маленький антракт, так как, когда вопрос о количестве был выяснен, решимость его значительно ослабела. Он в первый раз серьезно вник в положение вещей и почувствовал непреодолимый ужас к смерти. Это было решающее мгновение, после которого, успокоенный каким-то подавленным сознанием, что дело не будет доведено до конца, он протянул руку к спичкам, отобрал горсть их и начал потихоньку, держа под столом, осторожно обламывать головки. Он делал это очень осторожно, зная, что спичка может вспыхнуть в руке, а это иногда кончается антоновым огнем. Наломав, Тёма аккуратно собрал головки в кучку и некоторое время с большим удовольствием любовался ими в сознании, что их проглотит кто угодно, но только не он. Он взял одну головку и попробовал на язык: какая гадость!
С водой разве?!
Тёма потянулся за графином и налил себе четверть стакана. Это много для одного глотка. Тёма встал, на цыпочках вышел в переднюю и, чтоб не делать шума, выплеснул часть воды на стену. Затем он вернулся назад и остановился в нерешительности. Несмотря на то, что он знал, что это шутка, его стало охватывать какое-то странное волнение. Он чувствовал, что в его решимости не глотать спичек стала показываться какая-то страшная брешь: почему и в самом деле не проглотить? В нем уж не было уверенности, что он не сделает этого. С ним что-то происходило, чего он ясно не сознавал. Он, если можно так сказать, перестал чувствовать себя, как будто был кто-то другой, а не он. Это наводило на него какой-то невыразимый ужас. Этот ужас все усиливался и толкал его. Рука автоматично протянулась к головкам и всыпала их в стакан. «Неужели я выпью?!» — думал он, поднимая дрожащей рукой стакан к побелевшим губам. Мысли вихрем завертелись в его голове. «Зачем? Разве я не виноват действительно? Я, конечно, виноват. Разве я хочу нанести такое горе людям, для которых так дорога моя жизнь? Боже сохрани! Я люблю их…»
— Артемий Николаич, что вы делаете?! — закричала Таня не своим голосом.
У Тёмы мелькнула только одна мысль, чтобы Таня не успела вырвать стакан. Судорожным, мгновенным движением он опрокинул содержимое в рот… Он остановился с широко раскрытыми, безумными от ужаса глазами.
— Батюшки! — завопила режущим, полным отчаяния голосом Таня, стремглав бросаясь к кабинету. — Барин… барин!..
Голос ее обрывался какими-то воплями:
— Артемий… Николаич… отравились!!
Отец бросился в столовую и остановился, пораженный идиотским лицом сына.
— Молока!
Таня бросилась к буфету.
Тёма сделал слабое усилие и отрицательно качнул головой.
— Пей, негодяй, или я расшибу твою мерзкую башку об стену! — закричал неистово отец, схватив сына за воротник мундира.
Он так сильно сжимал, что Тёма, чтоб дышать, должен был наклониться, вытянуть шею и в таком положении, жалкий, растерянный, начал жадно пить молоко.
— Что такое?! — вбежала мать.
— Ничего, — ответил взбешенным, пренебрежительным голосом отец, — фокусами занимается.
Узнав, в чем дело, мать без сил опустилась на стул.
— Ты хотел отравиться?!
В этом вопросе было столько отчаянной горечи, столько тоски, столько чего-то такого, что Тёма вдруг почувствовал себя как бы оторванным от прежнего Тёмы, любящего, нежного, и его охватило жгучее, непреодолимое желание во что бы то ни стало, сейчас же, сию секунду снова быть прежним мягким, любящим Тёмой. Он стремглав бросился к матери, схватил ее руки, крепко сжал своими и голосом, доходящим до рева, стал просить:
— Мама, непременно прости меня! Я буду прежний, но забудь все! Ради бога, забудь!
— Все, все забыла, все простила, — проговорила испуганная мать.
— Мама, голубка, не плачь, — ревел Тёма, дрожа, как в лихорадке.
— Пей молоко, пей молоко! — твердила растерянно, испуганно мать, не замечая, как слезы лились у нее по щекам.
— Мама, не бойся ничего! Ничего не бойся! Я пью, я уже три стакана выпил. Мама, это пустяки, вот, смотри, все головки остались в стакане. Я знаю, сколько их было… Я знаю… Раз, два, три…
Тёма судорожно считал головки, хотя перед ним была одна сплошная, сгустившаяся масса, тянувшаяся со дна стакана к его краям…
— Четырнадцать! Все! Больше не было, — я ничего не выпил… Я еще один стакан выпью молока.
— Боже мой, скорей за доктором!
— Мама, не надо!
— Надо, мой милый, надо!
Отец, возмущенный этой сценой, не выдержал и, плюнув, ушел в кабинет.
— Милая мама, пусть он идет, я не могу тебе сказать, что~ я пережил, но если б ты меня не простила, я не знаю… я еще бы раз… Ах, мама, мне так хорошо, как будто я снова родился! Я знаю, мама, что должен искупить перед тобою свою вину, и знаю, что искуплю, оттого мне так легко и весело. Милая, дорогая мама, поезжай к директору и попроси его, — я выдержу передержку, я знаю, что выдержу, потому что я знаю, что я способный и могу учиться.
Тёма, не переставая, все говорил, говорил и все целовал руки матери. Мать молча, тихо плакала. Плакала и Таня, сидя тут же на стуле.
— Не плачь, мама, не плачь, — повторял Тёма. — Таня, не надо плакать.
Исключительные обстоятельства выбили всех из колеи. Тёма совершенно не испытывал той обычной, усвоенной манеры отношения сына к матери, младшего к старшему, которая существовала обыкновенно. Точно перед ним сидел его товарищ, и Таня была товарищ, и обе они и он попали неожиданно в какую-то беду, из которой он, Тёма, знает, что выведет их, но только надо торопиться.
— Поедешь, мама, к директору? — нервно, судорожно спрашивал он.
— Поеду, милый, поеду.
— Непременно поезжай. Я еще стакан молока выпью. Пять стаканов, больше не надо, а то понос сделается. Понос очень нехорошо.
Мысли Тёмы быстро перескакивали с одного предмета на другой, он говорил их вслух, и чем больше говорил, тем больше ему хотелось говорить и тем удовлетвореннее он себя чувствовал.
Мать со страхом слушала его, боясь этой бесконечной потребности говорить, с тоской ожидая доктора. Все ее попытки остановить сына были бесполезны, он быстро перебивал ее:
— Ничего, мама, ничего, пожалуйста, не беспокойся.
И снова начинался бесконечный разговор.
Вошли дети, гулявшие в саду. Тёма бросился к ним и, сказав: «Вам нельзя тут быть», — запер перед ними дверь.
Наконец приехал доктор, осмотрел, выслушал Тёму, потребовал бумаги, перо, чернила, написал рецепт и, успокоив всех, остался ждать лекарства. У Тёмы начало жечь внутри.
— Пустяки, — проговорил доктор, — сейчас пройдет.
Когда принесли лекарство, доктор молча, тяжело сопя, приготовил в двух рюмках растворы и сказал, обращаясь к Тёме:
— Ну, теперь закусите вот этим все ваши разговоры. Отлично! Теперь вот это! Ну, теперь можете продолжать.
Тёма снова начал, но через несколько минут он как-то сразу раскис и вяло оборвал себя:
— Мама, я спать хочу.
Его сейчас же уложили, и, под влиянием порошков, он заснул крепким детским сном.
На другой день Тёма был вне всякой опасности и хотя ощущал некоторую слабость и боль в животе, но чувствовал себя прекрасно, был весел и с нетерпением гнал мать к директору. Только при появлении отца он умолкал, и было что-то такое в глазах сына, от чего отец скорее уходил к себе в кабинет. Приехал доктор, и мать, оставив Тёму на его попечении, уехала к директору.
— Я сяду заниматься, чтоб не терять времени, — заявил весело Тёма.
— Вот и отлично, — ответил доктор.
Тёма забрал книги и отправился в маленькую комнатку, а доктор ушел в кабинет к старику Карташеву.
Когда разговор коснулся текущих событий, генерал не утерпел, чтобы не пожаловаться на жену за неправильное воспитание сына.
— Да, нервно немножко… — проговорил доктор как-то нехотя. — Век такой… Вы, однако, с сыном-то все-таки помягче, а то ведь можно и совсем свихнуть мальчугана… Нервы у него не вашего времени…
— Пустяки, весь он в меня…
— Может, в вас он… да уж… одним словом, надо сдерживать себя.
— Пропал мальчик, — с отчаянием в голосе произнес отец.
Доктор добродушно усмехнулся.
— Славный мальчик, — заметил он и забарабанил пальцами по столу.
— Эх! — махнул огорченно отец и зашагал угрюмо по комнате.
Приехала мать с радостным лицом.
— Разрешил?! — спросил Тёма, выскакивая с латинской грамматикой. — Мама, я вот уже сколько прошел!
Неделя промелькнула для Тёмы незаметно. Он не мог оторваться от книг. В голову, строчка за строчкой, вкладывались страницы книги, как в какой-то мешок. Иногда он закрывал глаза и мысленно пробегал пройденное, и все в систематическом порядке, рельефно и выпукло проносилось перед ним. Довольный опытом, Тёма с новым жаром продолжал занятия. Передержка была по русскому, латинскому и географии, но уже она сидела вся в голове. Иногда он звал сестру и говорил ей:
— Экзаменуй меня.
Зина добросовестно принималась спрашивать, и Тёма без запинки отвечал с малейшими деталями. В награду Зина говорила огорченно:
— Стыдно с такими способностями так лениться.
— Я на будущий год буду отлично заниматься, сяду на первую скамейку и буду первым учеником.
— Ну да…
— Хочешь пари?
— Не хочу.
— А-га, знаешь, что могу!
— Конечно, можешь — да не будешь.
— Буду, если Маня меня будет любить.
Зина засмеялась.
— Будет любить?
— Не знаю… если заслужишь.
— А я знаю, что она меня любит!
— И неправда.
— А зачем не смотришь? А я знаю, что она тебе говорила в беседке.
— Ну, что?
— Не скажу.
— А я скажу, если хочешь: она говорила, что ты ей надоел.
Тёма озадаченно посмотрел на Зину и потом весело закричал:
— Неправда, неправда! А зачем она мне сказала, что любит Жучку, потому что это моя собака?
— А ты и уши развесил.
— А-га! — торжествовал Тёма. — Передай ей, когда увидишь, что я влюблен в нее и хочу жениться на ней.
— Скажите пожалуйста! Так и пойдет она за тебя.
— А почему не пойдет?
— Так…
В день экзамена Таня разбудила Тёму на заре, и он, забравшись в беседку, все три предмета еще раз бегло просмотрел. От волнения он не мог ничего есть и, едва выпив стакан чаю, поехал с неизменным Еремеем в гимназию. Директор присутствовал при всех трех экзаменах. Тёма отвечал без запинки.
По исхудалому, тонкому, вытянутому лицу Тёмы видно было, что не даром дались ему его знания.
Директор молча слушал, всматриваясь в мягкие, горящие внутренним огнем глаза Тёмы и в первый раз почувствовал к нему какое-то сожаление.
По окончании последнего экзамена он погладил его по голове и проговорил:
— Отличные способности. Могли бы быть украшением гимназии. Будете учиться?
— Буду, — прошептал, вспыхнув, Тёма.
— Ну, ступайте домой и передайте вашей матушке, что вы перешли в третий класс.
Счастливый Тёма выскочил, как бомба, из гимназии.
— Еремей, я перешел! Все экзамены выдержал, всё без запинки отвечал.
— Слава богу, — заерзал, облегченно вздыхая, Еремей. — Чтоб оны вси тые екзамены сказылысь! — разразился он неожиданной речью. — Дай бог, щоб их вси уж покончали, да в офицеры б вас произвели, — щоб вы, як папа ваш, енералом булы.
Выговорив такую длинную тираду, Еремей успокоился и впал в свое обычное, спокойное состояние.
Тёма мысленно усмехнулся его пожеланиям и, усевшись поудобнее в экипаж, беззаботно отдался своему праздничному настроению.
— Ну? — встретила его мать у калитки.
— Выдержал.
— Слава богу, — и мать медленно перекрестилась. — Перекрестись и ты, Тёма.
Но Тёме показалось вдруг обидным креститься: за что? он столько уже крестился и всегда, пока не стал учиться, резался.
— Я не буду креститься, — буркнул обиженный Тёма.
— Тёма, ты серьезно хочешь вогнать меня в могилу? — спросила его холодно мать.
Тёма молча снял шапку и перекрестился.
— Ах, какой глупый мальчик! Если ты и занимался и благодаря этому и своим способностям выдержал, так кто же тебе все дал? Стыдно! Глупый мальчик.
Но уж эта нотация была сделана таким ласкающим голосом, что Тёма, как ни желал изобразить из себя обиженного, не удержался и распустил губы в довольную, глупую улыбку.
«Да, уж такой возраст!» — подумала мать и, ласково притянув Тёму, поцеловала его в голову. Мальчик почувствовал себя тепло и хорошо и, поймав руку матери, горячо ее поцеловал.
— Ну, зайди к папе и обрадуй его… ласково, как ты умеешь, когда захочешь.
Окрыленный, Тёма вошел в кабинет и в один залп проговорил:
— Милый папа, я перешел в третий класс.
— Умница, — ответил отец и поцеловал сына в лоб.
Тёма, тоже с чувством, поцеловал у него руку и с облегченным сердцем направился в столовую.
Он с наслаждением увидел чисто сервированный стол, самовар, свой собственный сливочник, большую двойную просфору — его любимое лакомство к чаю. Мать налила сама в граненый стакан прозрачного, немного крепкого, как он любил, горячего чаю. Он влил в стакан весь сливочник, разломил просфору и с наслаждением откусил, какой только мог большой кусок.
Зина, потягиваясь и улыбаясь, вышла из маленькой комнаты.
— Ну? — спросила она.
Но Тёма не удостоил ее ответом.
— Выдержал, выдержал, — проговорила весело мать.
Напившись чаю, Тёма хотя и нехотя, но передал все, не пропустив и слов директора.
Мать с наслаждением слушала сына, облокотившись на стол.
В эту минуту, если б кто захотел написать характерное выражение человека, живущего чужой жизнью, — лицо Аглаиды Васильевны было бы высокоблагородной моделью. Да, она уж не жила своей жизнью, и всё и вся ее заключалось в них, в этих подчас и неблагодарных, подчас и ленивых, но всегда милых и дорогих сердцу детях. Да и кто же, кроме нее, пожалеет их? Кому нужен испошленный мальчишка и в ком его глупая, самодовольная улыбка вызовет не раздражение, а желание именно в такой невыгодный для него момент пожалеть и приласкать его?
— Добрый человек директор, — задумчиво произнесла Аглаида Васильевна, прислушиваясь к словам сына.
Тёма кончил и без мысли задумался.
«Хорошо, — пронеслось в его голове. — А что было неделю тому назад?!»
Тёма вздрогнул: неужели это был он?! Нет, не он! Вот теперь это он.
И Тёма ласково, любящими глазами смотрел на мать.
XII Отец
Сильный организм Николая Семеновича Карташева начал изменять ему. Ничего как будто не переменилось: та же прямая фигура, то же николаевское лицо с усами и маленькими, узенькими бакенбардами, тот же пробор сбоку, с прической волос к вискам, — но под этой сохранившейся оболочкой чувствовалось, что это как-то уже не тот человек. Он стал мягче, ласковее и чаще искал общества своей семьи.
Тёму особенно трогала перемена в отце, потому что с ним отец был всегда строже и суровее, чем с другими.
Но при всем добром желании с обеих сторон сближение отца с сыном очень туго подвигалось вперед.
— Ну, что твое море? — спросил Тёму как-то отец во время вечернего чая, за которым, кроме семьи, скромно и конфузливо сидел учитель музыки — молодой худосочный господин.
— Да, что море? — огорченно заметила мать, — гребут до изнеможения, вчера восемь часов не вставали с весел… Ездят в бурю и кончат тем, что утонут в своем море.
— Я в этом отношении фаталист, — сказал отец, исчезая в клубах дыма. — Двум смертям не бывать, а одной — как ни вертись, все равно не миновать. За делом-то, пожалуй, и приятнее умереть, чем так сидеть да дожидаться смерти.
Глаза Тёмы сверкнули на отца.
— Ну, пожалуйста, — обратилась мать к сыну. — Сначала дело свое сделай, как папа, курс кончи, обзаведись семьей.
— Я никогда не женюсь, — ответил Тёма. — Моряку нельзя жениться, у моряка жена — море.
Он с удовольствием потянулся.
— Данилов тоже, конечно, не женится? — спросила Зина.
— Конечно, не женится, мы с ним будем всегда вместе, на одном корабле.
— Вместе и командовать будете, конечно? — пошутил отец.
Отец был в духе.
Тёма, пригнувшись к столу так, что только торчала его голова, ответил весело, сконфуженно улыбаясь:
— Ну-у, командовать…
— Не надеешься? — быстро, немного пренебрежительно спросил отец и, затянувшись, проговорил: — А не надеешься — и командовать никогда не будешь… По поводу фатализма… — обратился он к учителю музыки. — В нашей военной службе, да и во всякой службе не фаталист не может сделать карьеры… Под Германштадтом наш полк, — отец бросил взгляд на сына, — стоял на левом фланге. Я тогда был еще командиром эскадрона, а командиром полка мой же дядя был. Я считался непокорным офицером. Никакого непокорства не было, но раздражали нелепые распоряжения. Ну-с… Так вот. Сижу я на своем Черте…
— Папина лошадь, — подсказала мать.
— …и говорю офицерам… А так, с косогора, нам вся картина как на ладони видна: стоит в долине авангардом каре венгерцев — человек тысяча, два орудия при них, а за ними остальной табор — тысяч четырнадцать. С этой стороны по косогору наши войска. Я и говорю: «Вот сбить бы с позиции это каре да под их прикрытием и двинуть вперед; без одного выстрела подобрались бы». Командир и говорит: «Тут целый полк перебьешь, пока до этого каре доберешься только». Заспорил я с ним, что с одним своим экскадроном собью каре… конечно, в сущности, какое ж это войско было? Пушки дрянные, ружья… да и войско-то: сапожник, шарманщик, франт… так — сброд. А наши ведь: николаевские. Дядя и говорит: «Э, сумасшедший человек! Мелешь чепуху, потому что еще пороху как следует не нюхал, а послать тебя, так тогда бы и узнал…» Как будто отрезал! Подлетает адъютант главнокомандующего и передает приказание выслать эскадрон против каре. Я, долго не думая, и говорю дяде на ухо: «Ну, дядя, выбирай: или дай мне возможность делом смыть твои слова с моей чести, или я должен буду выбрать другой какой-нибудь способ искать удовлетворения…» Говорю, а сам и бровью не моргну. А дядя уж был семейный, — как стоянка, сейчас жене письма… дети уж были, — какая там дуэль! Покосился он на меня вроде того, что за черт такой к нему привязался, плюнул и говорит, обращаясь к офицерам: «А что, господа, признаете за ним право идти в атаку?» Неприятно, конечно: всякому хочется, ну, а действительно так ловко вышло, что право-то за мной. «Ну, говорит, будем любоваться, как ты умудришься смерти в глотку влезть да вылезть оттуда. Кстати уж скажи — куда и на сорокоуст отдать: ведь, кроме меня, за тебя-то, бешеного, и молиться некому».
Отец усмехнулся и несколько раз энергично затянулся.
Тёма так и замер на своем месте.
Раскурив трубку, отец боковым взглядом посмотрел на сына и продолжал:
— А молиться-то за меня и в самом деле некому было: я сиротой рос… Ну-с… Подскакал я к своему эскадрону: «Ребята! Милость нам — в атаку! Живы будем, от царя награда, а от меня хоть залейся водкой!» — «Хоть к черту в зубы веди!..» Скомандовал я, и стали мы заходить… А так: овраг кончался, и этакий холмик стоял в долине, — я и хотел было за ним выстроить эскадрон и тогда уже сразу развернутым фронтом ударить на каре. Тут как тут, смотрю — проклятая речушка, — не заметил, надо бы правой стороной оврага спускаться… — дрянь, сажени три, а топкая. Сунулся один, увяз, — уж по лошади пролез назад… Нечего делать, пришлось идти до мостика и уж в открытом месте переходить речку: мостик жиденький, только-только одному в поводу пройти с лошадью. Заметили… Сейчас же, конечно, огонь открыли… В движении, на ходу не чувствуешь как-то этой тоски смерти: ну, свалится лошадь, сорвется человек с седла — не слышно. А тут упадет и стонет. Вижу, у солдатиков уж дух не тот. Ну, и самому-таки и жутко и неловко: как-никак виноват. Нечаянно зло сделаешь, пустое, и то мучит, а здесь ведь жизнь человеческая: тут, там пятнадцать человек уложили, пока переходили, — всё на твою совесть. Повернулся я к солдатам — смотрят покорно, конечно, а тоже ведь всё понимают. Так как-то вырвалось: «Ну, братцы, виноват — оплошал! Жив буду — заслужу, а теперь не выдавайте!»
Отец затянулся.
— Встрепенулись… «Отцом был — не выдадим!» Конечно, николаевские времена: с человеком, как со скотом… Ласку ценили… Ну, и меня, конечно, тронуло. Да и минута ведь какая же! Может, и сам уже стоишь перед своим смертным часом… Прямо — отец, а это твои дети: и не то, чтобы жаль, а так как-то, вот за каждого самого последнего солдата, как за самого родного, вот сейчас всю душу свою положить готов. И у всех такое же чувство… вот какое только после причастия бывает… Нет, сильнее! Ну вот, точно вдруг само небо раскрылось и сам господь благословил нас и дал нам одно тело, одну душу и сказал: идите. Куда и страх девался! Под огнем, а как на плацу выстроились. И картина же действительно! Уланы… Один к одному — красавцы на подбор!.. Чепраки малиновые… Лошади вороные… Солнце блестит, в небе ни тучки… двадцать пятое июля… наши войска как на ладони… Эх!! Нет уж того, что было, теперь нет и не будет. Впереди смерть, ад… тысячи ружей в упор, десять смертей на одного, а на душе, как тронулись, точно прямо в рай лететь собрался.
Отец остановился и опять несколько раз затянулся.
— Ну-с, так вот… Тронулись мы… Собрал я своего Черта и стал выпускать понемногу. А Чертом я называл свою лошадь оттого, что не выносила она, когда ее между ушами трогали, сразу освирепеет: стена не стена, огонь не огонь, — одним словом, черт! А так — первая лошадь. И уж сколько мне говорили: сломишь голову; жаль расстаться, хоть ты что… Ну-с, так вот… Стали забирать кони… шибче, шибче… Марш-марш, в карьер!.. И-ить!.. Весь эскадрон, как один человек… только земля дрожит… пики наперевес… Лошадь врастяжку, точно на месте стоишь… А там ждут… Да хоть бы стрелял… Ждет… в упор хочет… Смотрит: глаз видно!.. Тошно, прямо тошно: бей, не томи! Пли!!! Все перевернуло сразу… эскадрон как вкопанный! Пыль… лошади… люди… Каша. «Вперед!!» Ни с места! Так секунда… Назад?! Серая шинель?! Позор?! А мои уж поворачивают коней… «Ребята, что ж вы?!» И не смотрят. Э-эх!.. За сердце схватило!.. «Па-а-длецы!» Да как хвачу меж ушей своего Черта…
Несколько мгновений длилось молчание.
— Уж и не помню… Так, вихрь какой-то… Весь эскадрон за мной, как один человек: врезались, опрокинули, смяли… Бойня, настоящая бойня пошла… прямо бунчуками, — перевернет пику да бунчуком, как баранов, по голове и лупит. Люди… Что люди?! Лошади остервенели; вот где настоящий ужас был: прижмет уши, оскалит зубы, изовьет шею, вопьется в тело и рванет под себя.
Отец замолчал и потонул в облаках дыма.
Молчание длилось очень долго.
— А ты сам, папа, много убил? — спросила Зина.
— Никого, — ответил, усмехнувшись, отец. — У меня и сабля не была отточена. Да и сабля-то… Так, ковырялка. Никита, мой денщик, шельма, бывало, все ею в самоваре ковырялся.
— Папа, а как же ты Черта удержал? — спохватилась вдруг аккуратная Зина.
— Да уж не я его удержал… Кто-то другой… Пуля ему угодила: мне назначалась, а он мотнулся, ему прямо в лоб и влепилась. Упал он и прижал мне ногу… ну, а ведь давят, бьют, режут… только я было на локоть, чтобы рвануться, смотрю — прямо в меня дуло торчит! Глянул: батюшки, смерть, — целит какая-то образина! Ну, уж тут я… вторую жизнь прожил… а ведь всего какая-нибудь секунда… Смотрю: а уж Бондарчук, унтер-офицер — пьяница, шельма, а молодец, в плечах сажень косая — бунчуком по башке его… и не пикнул… И что значит страх?! Рожей мне показался невообразимой, а как посмотрел на него, когда уж он упал: шляпа откинулась — лежит мальчик лет пятнадцати, не больше, ребенок! Раскидал ручонки, точно в небо смотрит… лицо тихое, спокойное… Господи! вот уж насмотрелся… Ночью что было: не могу заснуть. Стоят перед глазами… Бондарчук, которого сейчас же после того, как он спас меня, свалили — стоит: глаза стеклянные, посинел, — стоит и смотрит, смотрит прямо в глаза! Тьфу ты! А в ушах: ая-яй! ая-яй! Открою глаза, зажгу свечку, выкурю папироску, успокоюсь, потушу… опять потянулись: венгерец весь в крови, с разорванным лицом лезет из-под лошади, солдатик Иванчук, пуля в живот попала, скрутился калачиком, смотрит на меня, качает головой и воет; лошадь с выпученными потрохами тянется на четвереньках, а головой так и ищет туда и сюда, а глаза… ну, ей-богу же, как у человека. А как дойдет опять до Бондарчука, встанет и стоит: ну, хоть ты что хочешь делай! Смешно, а ведь хоть плачь! Вдруг слышу, Никита: «Ваше благородие, ваше благородие, чи вы спите?» — «Тебе чего?» — спрашиваю. «Бондарчук воскрес». Тьфу ты, черт! Я думал, что с ума сойду. Действительно: и так не знаешь, куда деваться, а тут еще такой сюрприз! Бросился я, как был. А так, саженях в ста положили всех убитых рядышком, смотрю — действительно идет Бондарчук; весь эскадрон уж выскочил: все любили его — пьяница, а балагур-товарищ. «Ты что ж это, с того света?» — спрашиваю. «Так точно, ваше благородие». На радостях я и пошутил. «Ты зачем же, говорю, назад пришел». А он, мерзавец, вытянулся, руку к козырьку, да самым этак заковыристым голосом: «Опохмелиться, ваше благородие, пришел: там не дают!» Ну, тут уж и я и солдаты прыснули. Что ж оказалось?! Он, подлец, на случай атаки с собой в манерку водки взял; пока оврагом спускались — он и нализался. А пьяного только царапни ведь: он сейчас, как мертвый, свалится. А проснется, встанет как ни в чем не бывало.
— Ну, что ж, дал, папа, на водку ему? — спросила Зина.
— Водки-то всем дал… А Бондарчуку, как возвратились, на стоянке, после похода, тысячу рублей ассигнациями дал… только не ему уж, а жене.
— Доволен был?
— Надо думать, — ответил отец, вставая и уходя к себе.
Однажды, вскоре после описанного рассказа, Николай Семенович почувствовал себя так нехорошо, что должен был слечь в кровать, — слечь и уж больше не вставать. Походы, раны, ревматизм — сделали свое дело.
Теперь по наружному виду это уж был не прежний Николай Семенович. Без мундира, в ночной рубахе, с бессильно опущенною на подушку головой, укрытый одеялом, из-под которого сквозило исхудавшее тело, — Николай Семенович глядел таким слабым, беспомощным.
Эта беспомощность щемила сердце и вызывала невольные слезы.
Иногда, не выдержав, Тёма спешил выйти из комнаты отца, путаясь на ходу с маленьким девятилетним Сержиком.
— Чего тебе?! — выскочив за дверь, спрашивал Тёма, всматриваясь сквозь слезы в Сержика.
Бледное, растерянное лицо Сержика смотрело в лицо Тёмы, и дрогнувший голос делил с ним общее горе:
— Жалко папу!
«Жалко папу» — вот ясная, отчетливая фраза, которая болью охватывала сердца детей, которая, как рычажок, заставляла сбегаться в морщинки их лица, трогала клапан слез и вызывала жалобный, тихий писк тоски и беспомощности.
— Тише, тише, — шепотом и жестами останавливал Тёма и свои и Сержика слезы, и вместе с Сержиком, который судорожно удерживался, толкаясь головой в брата, они спешили куда-нибудь поскорее выбраться подальше, где не было б слышно их слез.
Однажды, придя из гимназии, Тёма по лицам всех увидел и догадался, что что-то страшное уже где-то близко.
Наскоро поев, Тёма на носках пошел к кабинету отца.
Он осторожно нажал дверь и вошел.
Отец лежал и задумчиво, загадочно смотрел перед собою.
Тёму потянуло к отцу, ему хотелось подойти, обнять его, высказать, как он его любит, но привычка брала свое, — он не мог победить чувства неловкости, стеснения и ограничился тем, что осторожно присел у постели отца.
Отец остановил на нем глаза и молча, ласково смотрел на сына. Он видел и понимал, что происходило в его душе.
— Ну, что, Тёма, — проговорил он мягким, снисходительным тоном.
Сын поднял голову, его глаза сверкнули желанием ответить отцу как-нибудь ласково, горячо, но слова не шли на язык.
«Холодный я», — подумал тоскливо Тёма.
Отец и это понял и, вздохнув, как-то загадочно тепло проговорил:
— Живи, Тёма.
— Вместе, папа, будем жить.
— Нет уж… пора мне собираться… — И, помолчав, прибавил: — В дальнюю дорогу…
Воцарилось тяжелое, томительное молчание. И отец и сын жили каждый своим. Отец весь погрузился в прошлое. Сын мучился сложным чувством к отцу и неумением его высказать.
Глаза отца смотрели куда-то вдаль долгим, каким-то преобразившимся, ясным взглядом, полным мысли и чувства всей долгой пережитой жизни.
Так глубокой осенью, когда солнце давно уже исчезло в непроглядном сером небе, когда глаз повсюду уже освоился с однообразным, оголенным, унылым видом, вдруг под вечер ворвется в окно сноп ярко-красных лучей и, скользя, заиграет на полу, на стенах, тоскливо напомнив о прожитом лете.
— Жил, как мог… — тихо, как бы сам с собой, заговорил отец. — Все позади… И ты будешь жить… узнаешь много… а кончишь тем же, — будешь, как я, лежать да дожидаться смерти… Тебе труднее будет, жизнь все сложнее делается. Что еще вчера хорошо было, сегодня уж не годится… Мы росли в военном мундире, и вся наша жизнь в нем сосредоточивалась. Мы относились к нему, как к святыне, он был наша честь, наша слава и гордость. Мы любили родину, царя… Теперь другие времена… Бывало, я помню, маленьким еще был: идет генерал, — дрожишь — бог идет, а теперь идешь, так, писаришка какой-то прошел. Молокосос натянет плед, задерет голову и смотрит на тебя в свои очки так, как будто уж он мир завоевал… Обидно умирать в чужой обстановке… А впрочем, общая это судьба… И ты то же самое переживешь, когда тебя перестанут понимать, отыскивая одни пошлые и смешные стороны… Везде они есть… Одно, Тёма… Если…
Отец поднялся и уставил холодные глаза в сына.
— Если ты когда-нибудь пойдешь против царя, я прокляну тебя из гроба…
Разговор кончился.
В немом молчании, с широко раскрытыми глазами сидел Тёма, прижавшись к стенке кровати…
Начинались новые приступы болезни. Отец сказал, что желает отдохнуть и остаться один.
Вечером умирающему как будто стало легче. Он ласково перекрестил всех детей, мягко удержал на мгновение руку сына, когда тот по привычке взял его руку, чтоб поднести к губам, тихо сжал, приветливо заглянул сыну в глаза и проговорил спокойно, точно любуясь:
— Молодой хозяин.
Потрясенный непривычной лаской, Тёма зарыдал и, припав к отцу, осыпал его лицо горячими, страстными поцелуями.
В комнате все стихло, и только глухо, тоскливо отдавалось рыдание сиротевшей семьи.
Не выдержал и отец… Волна теплой, согретой жизни неудержимо пахнула и охватила его… Дрогнуло неподвижное, спокойное лицо, и непривычные слезы тихо закапали на подушку… Когда все успокоились и молча уставились опять в отца — на преображенном лице его, точно из отворенной двери, горела уже заря новой, неведомой жизни. Спокойный, немного строгий, но от глубины сердца сознательный взгляд точно мерял ту неизменную бездну, которая открывалась между ним, умирающим, и остающимися в живых, между тем светлым, бесконечным и вечным, куда он уходил, и страстным, бурливым, подвижным и изменчивым — что оставлял на земле. Голосом, уже звучавшим на рубеже двух миров, он тихо прошептал, осеняя всех крестом:
— Благословляю… живите…
В половине ночи весь дом поднялся на ноги. Началась агония…
Тихо прижавшись к своим кроваткам, сидели дети с широко раскрытыми глазами, в тоскливом ожидании прочесть на каждом новом появлявшемся лице о чем-то страшном, ужасном, неотвратимом и неизбежном.
К рассвету отца не стало.
Вместо него на возвышении в гостиной, в массе белого, в блеске свечей, утопало что-то, перед чем, недоумевая, замирало все живое, что-то и вечное, и тленное, и близкое, и чужое, и дорогое, и страшное, вызывая одно только определенное ощущение, что общего между этим чем-то и тем, кто жил в этой оболочке, — ничего нет. Тот папа, суровый и строгий, но добрый и честный, тот живой папа, с которым связана была вся жизнь, который чувствовался во всем и везде, который проникал во все фибры существования, — не мог оставаться в этом немом, неподвижном «чем-то». Он оторвался от этого, ушел куда-то и вот-вот опять войдет, сядет, закурит свою трубку и, веселый, довольный, опять заговорит о походах, товарищах, сражениях…
Ярко горят и колеблются свечи, сверкает катафалк и вся длинная, нарядная процессия; жжет солнце, сквозь духоту и пыль мостовой пробивается аромат молодой весны, маня в поле на мягкую, свежую мураву, говоря о всех радостях жизни, а из-под катафалка безмолвно и грозно несется дыхание смерти, безжизненно мотается голова, протяжно разносится погребальное пение, звучит и льется торжественный погребальный марш, то тоскливо надрывающий сердце, то напоминающий о том, что скоро скроется навсегда в тесной могиле дорогое и близкое сердцу, то примиряющий, говорящий о вечности, о смертном часе, неизбежном для каждого пришедшего на землю. А слезы льются, льются по лицу молодого Карташева; жаль отца, жаль живущих, жаль жизни. Хочется ласки, любви — любить мать, людей, любить мир со всем его хорошим и дурным, хочется жизнью своею, как этим ясным, светлым днем, пронестись по земле и, совершив определенное, скрыться, исчезнуть, растаять в ясной лазури небес…
Гимназисты*
Из семейной хроники
I Отъезд старых друзей в Морской корпус
Однажды осенью, когда на дворе уже пахло морозом, а в классах весело играло солнце и было тепло и уютно, ученики шестого класса, пользуясь отсутствием непришедшего учителя словесности, по обыкновению разбились на группы и, тесно прижавшись друг к другу, вели всякие разговоры.
Оживленнее других была и наиболее к себе привлекала учеников та группа, в центре которой сидели Корнев, некрасивый, с заплывшими глазками, белобрысый гимназист, и Рыльский, небольшой, чистенький, с самоуверенным лицом, с насмешливыми серыми глазами, в pince-nez на широкой тесемке, которую он то и дело небрежно закладывал за ухо.
Семенов, с простым, невыразительным лицом, весь в веснушках, в аккуратно застегнутом на все пуговицы и опрятном мундире, смотрел в упор своими упрямыми глазами на эти движения Рыльского и испытывал неприятное ощущение человека, перед которым творится что-нибудь такое, что хотя и не по нутру ему, но на что волей-неволей приходится смотреть и терпеть.
Это бессознательное выражение сказывалось во всей собранной фигуре Семенова, в его упрямом наклонении головы, в манере говорить голосом авторитетным и уверенным.
Речь шла о предстоящей войне. Корнев и Рыльский несколько раз ловко прошлись насчет Семенова и еще более раздражили его. Разговор оборвался. Корнев замолчал и, грызя, по обыкновению, ногти, бросал направо и налево рассеянные взгляды на окружавших его товарищей. Он уж несколько раз скользнул взглядом по фигуре Семенова и наконец проговорил, обращаясь к нему:
— Если б и не знал я, что отец твой военный, то можно угадать это по твоей осанке.
Семенов удовлетворенно, но в то же время выжидательно оправился, и лицо его приняло еще более официальное и важное выражение.
— Полковник? — спросил Корнев.
Семенов кивнул головой.
— Я видел его… Денщиков бьет?
— Если виноват, спуску не даст.
— Вот этак, — сказал Корнев и, скорчив свирепую физиономию, идиотски скосив глаза, сунул кулаком в воздух.
Все рассмеялись.
— Ты, конечно, тоже будешь военный? — спросил Рыльский.
— Об этом еще рано теперь говорить, — ответил, еще более надувшись, Семенов.
— Дело тятькино, — рассмеялся Рыльский.
Семенов злобно покосился на него и сдержанно ответил:
— Что ж делать? настолько еще не развит, что признаю власть отца.
— Понятно, — с комичной серьезностью поддержал его Рыльский и опять рассмеялся.
— Настолько глуп, что в бога верю… Терпеть не могу поляков за их чванливое нахальство.
— Это к прежнему счету, — продолжал тем же тоном Рыльский, — немцев не терплю за их возмутительное высокомерие, французов — за их пустое легкомыслие…
— Собственно, это очень характерно, — вмешался Корнев, — ты, значит, все нации, кроме русской, не любишь?
— Вовсе нет.
— Ну, кого же ты любишь?
Семенов подумал.
— Испанцев, — ответил он.
— Ты видел хоть одного испанца? — спросил Корнев так, что все рассмеялись.
— Я и Америки не видел… По-твоему, значит, чего не видел, о том и говорить нельзя?
— Ну хорошо, за что ты, собственно, испанцев любишь?
— За бой быков, — заговорил Рыльский, — за учреждение ордена иезуитов…
— Иезуиты уж это ваше польское дело… По-моему, каждый поляк иезуит.
— По-моему? — вспыхнул Рыльский. — А по-моему, ты самодовольная свинья, которая вместо того, чтоб думать, гордишься тем, что думать не хочешь.
— А ты… — начал было Семенов, но в это время дверь отворилась, и в класс вошел инспектор.
Все встали и быстро оправились.
Бритое широкое лицо инспектора на этот раз не было таким деревянным, как обыкновенно. Даже и в голосе его, сухом и трескучем, теперь отдавались какие-то незнакомые, располагавшие к себе нотки. Да и дело, по которому пришел инспектор, выходило из ряда вон. В его руках был печатный лист с приглашением желающих поступить в морской корпус.
Сообщив условия поступления, инспектор ушел, а класс превратился в улей, набитый всполошившимися пчелами.
Все говорили, все волновались, всех охватило приятное чувство сознания, что они уж не дети и могут располагать собою, как хотят. Конечно, это был, в сущности, только обман чувств, — у каждого были родители, но об этом как-то не хотелось думать, особенно Карташеву, и он так же решительно, как и его друзья Касицкий и Данилов, заявил о своем твердом и непреклонном намерении тоже ехать в корпус.
Волнение улеглось, больше желающих не оказалось, и товарищи смотрели на нераздельную тройку, как на что-то уже отрезанное от них.
Одни относились к отъезжавшим с симпатией и даже с завистью, и это льстило тройке, другие, вроде Корнева, не сочувствовали.
Корнев, грызя свои ногти, заявил, что не находит в карьере моряка ничего привлекательного.
— Еще бы тебе находить в ней какую-нибудь прелесть, когда тебя и в лодке укачивает, — сказал пренебрежительно Касицкий.
Корнев покраснел и ответил:
— Я-то уж, конечно, какой моряк, но если б меня и не укачивало, я все-таки не избрал бы карьеры моряка.
— Почему?
— Потому что не вижу никакой разницы между любым армейским офицером и моряком: та же бессмысленная жизнь.
— Почему бессмысленная? — огрызнулся Семенов.
— Да потому, что все, в конце концов, сводится: на-а плечо! на краул!.. Да ей-богу! Ну что, собственно, какую цель вы преследуете? Ну, будете ездить на пароходе, будете лупить линьками матросов и в то же время любоваться морем. Трогательная идиллия, чушь с маслом, такая же бессмысленная жизнь, как жизнь любого юнкера.
Данилов схватился с Корневым.
Доводы Данилова сводились к прелестям морской жизни, прелестям борьбы с морем.
— Собственно, — возражал Корнев, — какой в этой прелести, в сущности, смысл: победа? — ну, победил сегодня с тем, что завтра оно уже побеждено? Нет, завтра опять побеждай, и послезавтра, и до тысячи раз. В конце концов вся жизнь сведется к счету рейсов — одним больше, одним меньше…
Доводы Корнева сильно охладили отношения учеников к собиравшейся к отъезду тройке.
Карташеву тоже как-то в ином освещении представился корпус.
Тем не менее друзья попрощались, выходя из гимназии, с твердым намерением ехать в корпус.
Карташев пришел домой и к концу обеда приступил к переговорам с матерью.
Мать со страхом прислушивалась к словам сына, но делала спокойное лицо и ласково смотрела, пока он, глотая красный сочный арбуз, рассказывал ей о вызове желающих поступить в корпус и о решении его, Данилова и Касицкого.
— Поезжай… — проговорила мать серьезным, грустным голосом, когда он кончил.
Она вздохнула.
— Я мечтала о другой карьере, думала, что мой сын принесет мне университетский диплом… Жаль, что не исполнила папиного желания, когда тебе было десять лет, и сразу не отдала в корпус.
— В корпус, чтобы выйти офицером, я сам бы не пошел. Моряк и сухопутный офицер — громадная разница.
— Нет, уж хоть не обманывай себя: никакой разницы нет.
Наступило молчание. Карташева невольно поразило сходство взглядов матери и Корнева. Насколько Корнев при этом возвысился в его глазах, настолько же себя он почувствовал как-то униженным перед Корневым.
— Делай как хочешь, — продолжала, помолчав, мать. — Я думала, что ты поможешь мне по хозяйству без папы. Делай как хочешь.
Аглаида Васильевна встала расстроенная и вышла из столовой.
Карташев не ожидал такого конца.
— По-моему, Тёма, это глупость, — сказала его рассудительная сестра Зина. — У мамы здоровье слабое, ты, старший в доме, бросишь семью, уедешь в корпус… а кто ж здесь будет ходить в наемный двор, как мы останемся без мужчины?
— Я что ж, по-твоему, так и буду всю жизнь около вас торчать? — спросил с досадой Карташев.
— Да мне-то ты ни капельки не нужен, — поезжай хоть сейчас и куда тебе угодно.
И Зина ушла.
Карташев чувствовал себя окончательно сбитым с позиции: морской корпус, еще так недавно казавшийся делом решенным, отодвинулся куда-то далеко-далеко.
Наташа, вторая сестра, с любовью и грустью смотрела на брата.
— Ты когда, Тёма, поедешь? — спросила она, стараясь скрыть волновавшие ее чувства под маской простого любопытства.
Тёма заглянул в глаза сестры.
— Никуда я не поеду, — ответил он, вздохнув, и, встав, направился в кабинет.
Там он шагал в сознании принесенной им жертвы. Может быть, для жертвы его вид был слишком спокоен, но тем не менее это не мешало ему считать себя жертвой, и ему казалось, что он сразу точно вырос на несколько лет. Он лег на диван, заложил за голову руки и задумался о том, что жизнь не такая простая и легкая вещь, какой она кажется по наружному виду.
Так и уснул он, думая все о том же.
II Новые друзья и враги
Тем и кончился вопрос о корпусе. Данилов и Касицкий уехали, и Карташев расстался с друзьями, с которыми три года прожил душа в душу.
Новое время, новые птицы, — новые птицы, новые песни. Новые отношения, странные и запутанные, на какой-то новой почве завязывались между Карташевым, Корневым и другими.
Это уже не была дружба, похожая на дружбу с Ивановым, основанная на обоюдной любви. Не было это похоже и на сближение с Касицким и Даниловым, где связью была общая их любовь к морю.
Сближение с Корневым было удовлетворением какой-то другой потребности. Лично Корнева Карташев не то что не любил, но чувствовал к нему какое-то враждебное, раздраженное, доходящее до зависти чувство, и все-таки его тянуло к Корневу. Не было больше для него удовольствия, как схватиться с ним на словах и как-нибудь порезче оборвать его. Но как ни казалось легким с первого взгляда это дело, тем не менее выходило всегда как-то так, что не он обрывал Корнева, а наоборот, он от Корнева получал очень неприятный отпор.
В своей компании с Даниловым и Касицким относительно Корнева у них давно был решен вопрос, что Корнев хотя и баба, хотя и боится моря, но не глупый и, в сущности, добрый малый.
Когда друзья уехали, Карташев на первых порах по отношению к Корневу старался удержаться на этой позиции. Иногда в споре, чувствуя, что почва уходит из-под ног, Карташев говорил:
— Послушай, Корнев, ты добрый, в сущности, малый, но эта твоя бабья черта…
— Я очень тебе благодарен за снисхождение, — сухо перебивал его Корнев, — но оставь его для тех, кто в нем нуждается.
Тогда Карташев, уязвленный саркастическим тоном Корнева, распалялся и начинал ругаться. Но и это плохо помогало и удовлетворения Карташеву не приносило. И не только не приносило, но мучило и искало выхода. Выходило как-то так, что все, что ни скажет он, все не то, всегда Корнев ловко, искусно сейчас же собьет его с позиции.
Карташев начал впадать даже в уныние: «Что ж, я глуп, значит? Глупее его?» — думал он, и его гордость не мирилась с таким выводом.
Они спорили решительно обо всем. Началось с религии. Сперва Карташев был горячим защитником ее, но постепенно он стал делать уступки.
— Не понимаю, — говорил раз Корнев, грызя свои ногти. — Или ты признаешь, или не признаешь: середины нет. Говори прямо, верующий ты?
— В известном смысле да, — ответил уклончиво Карташев.
— Что это за ответ? Верующий, значит… С этого бы и начал. А в таком случае о чем тогда с тобой разговаривать?!
— Ты переврешь всякое мое слово и воображаешь, что это очень остроумно.
— А это не умно и не остроумно, — вставил саркастически Рыльский.
Рыльский держал себя как-то пренебрежительно по отношению к Карташеву, как, впрочем, и к громадному большинству класса.
Вставка Рыльского так взбесила Карташева, что он покраснел как рак и выругался:
— Болван!
Рыльский поднял высоко брови и спокойно, насмешливо сказал:
— Вот теперь окончательно убедил: молодец!
Карташев открыл было рот, но вдруг, круто обернувшись, пошел и сел на свое место.
— Что, кончил уже? — окликнул его тем же тоном Рыльский.
— С такой свиньей, как ты, говорить не стоит, — ответил Карташев.
— Ну, конечно…
— Постой… — перебил Рыльского Корнев и, обращаясь к Карташеву, проговорил: — Ну, хорошо: ты говоришь, что я перевираю твои слова, так сделай милость, объясни, как же понимать тебя.
— Я не могу спорить, когда один перевирает, а другой горохового шута из себя корчит.
Рыльский открыл было рот для ответа.
— Молчи… — потребовал Корнев.
Рыльский замолчал и только рассмеялся.
— Ну, вот он молчит. Я тоже вовсе не желаю заниматься перевиранием твоих слов: ты сказал, что ты верующий в известном смысле. Я понял это так, что ты все-таки верующий. Выходит, я переврал: так объясни.
Если бы в классе были только Корнев и Рыльский, Карташев, вероятно, так и отказался бы от дальнейшего диспута, но тут было много других, и все ждали с интересом, что скажет теперь Карташев. В числе этих других многие любили Карташева, верили в его способность отбиться от Корнева, и Карташев скрепя сердце начал:
— Я признаю религию как вещь… как вещь, которая связывает меня с моим детством, как вещь, которая дорога моим родным…
Рыльский, повернувшийся было вполоборота, когда Карташев начал говорить, весело покосился на Корнева, отвернулся спиной к Карташеву, махнул рукой и уткнулся в книгу.
— Значит, ты сознательно обманываешь себя и родных? Выходит, что тебя связывает с ними ложь. Такая связь не стоит того, чтобы за нее держаться.
— А тебе разве не доставляет удовольствия на пасху не спать ночь?
— Никакого…
— Врет, — заметил Семенов, упрямо наклоняя голову.
— Да, наконец, это уже другая почва… удовольствие… И в снежки играть удовольствие, да не пойдешь же!
— А отчего мне не идти, если мне этого хочется?
— Ну, иди, — ответил Корнев. — Снег скоро выпадет. Вон товарищи уже ждут.
Корнев показал в окно на толпу уличных ребятишек.
Карташев тоже посмотрел и рассмеялся.
— Рыло, — сказал добродушно Корнев.
Впрочем, таким мирным образом споры редко кончались.
— Ты ему напрасно спускаешь, — брюзжал Семенов Карташеву, когда они по окончании уроков шли домой.
— Я вовсе не спускаю.
— Ну-у, спускаешь… В прошлом году, помнишь, как оттрепал его, а теперь уж сам говоришь: «В известном смысле…»
— Послушай, нельзя же действительно со всем соглашаться…
Карташев рассеянно скользнул взглядом по проходившей даме, по прилавку, заваленному грушами, персиками, виноградом, молодыми орехами в зеленой скорлупе, втянул в себя аромат этих плодов и договорил:
— Я верю… но не могу же я, например, представить себе небо иначе, как оно есть, то есть не простым воздухом.
И Семенов и Карташев, как бы для большей наглядности, подняли глаза в прозрачную синеву осеннего неба. С неба их взгляд упал на залитую солнцем улицу, скользнул туда, где ярко синело бесконечное море, теперь прохладное, спокойное, уснувшее в своем неподвижном величии.
Друзья остановились на перекрестке, откуда Карташеву надо было сворачивать домой.
— Я провожу тебя, — предложил Карташев.
И приятели отправились дальше. Они шли, и то сходились так, что плечи их касались друг друга, то расходились, рассеянно, мимоходом глазея на выставленные в окнах магазинов вещи.
— Конечно, есть в природе, — продолжал Карташев, — что-то непонятное, недоступное нашему уму… Я был бы слишком глуп, если бы не признавал того, что признавали люди, может быть, в тысячу раз умнее какого-нибудь Корнева или Рыльского.
— Терпеть не могу этого Рыльского, — перебил Семенов, упрямо наклонив голову.
— И моя душа к нему не лежит, — согласился Карташев. — У Корнева есть все-таки…
— Да я тебе скажу, что Корнев просто под влиянием Рыльского.
— Ты думаешь?
— Уверен… Просто сам разобраться не может, а Рыльского боится: все, что тот ему наговорит, то и повторяет.
— Нет, положим, Корнев и сам по себе не глупый малый.
Семенов сжал как-то губы и произнес сухо:
— По-моему, просто фразер.
— Да фразеры-то они оба.
— Ты посмотри, они обо всем берутся рассуждать. Ну что ж, в самом деле можем мы действительно обо всем иметь правильное понятие?.. Что, в сущности, их рассуждение? Мальчишество.
— Конечно, мальчишество.
— И я тебе скажу, опасное мальчишество, которое может привести ни больше ни меньше как к исключению… Это ведь все не ихнее… из книжек разных… Рыльский из воды сухим выйдет, а Корнев, как дурак, попадется. Вот отчего я и не могу считать Корнева умным человеком… Самое лучшее — подальше от них, — закончил Семенов.
Он оправился, как-то особенно выставил грудь, надулся и раскланялся с проезжавшим на извозчике военным.
— Плац-адъютант, — объяснил он Карташеву.
И оба оглянулись и смотрели, как ехал на извозчике плац-адъютант в полной форме, с наброшенным поверх мундира форменным пальто.
— Глупая у них форма, — сказал Семенов, — так, что-то среднее, — не то кавалерия, не то пехота: не разберешь.
Друзья прошли еще одну улицу.
— Ну, мне уж пора, — остановился Карташев.
— Еще через мост.
И они пошли через мост.
— Я бы тебя проводил, — сказал Семенов, смотря на часы, — да опоздаю к обеду… Отец насчет этого формалист… Да и действительно… ну, прощай.
Друзья попрощались у последнего поворота, откуда виднелся желтый с мезонином дом-особняк, где жила семья Семенова. Семенов и направился к нему спешной деловой походкой, а Карташев лениво побрел назад, щурясь от солнца и представляя себе, как Семенов торопливо взбежит по узкой лестнице в мезонин, положит там ранец, умоется, расчешет перед зеркалом волосы, а денщик почистит его щеткой. Затем он быстро спустится вниз; пройдет большой пустой зал и войдет в столовую, где уже собралось все семейство и глава его, худой, с суровым лицом полковник, в расстегнутом кителе, в синих штанах, молча шагает своими сухими ногами по комнате. Семенов подойдет, с выправкой шаркнет ножкой, наклонится и поцелует жилистую руку отца, произнося безличным тоном:
— Здравствуйте, папаша.
Затем подойдет к худой, с некоторой претензией одетой даме, небрежно подхватит ее руку, поднесет к губам, покровительственно нагнется, поцелует ее в губы, заглянет в ее добрые усталые глаза и скажет:
— Здравствуй, мамаша, как себя чувствуешь?
На младших братьев, Борю и Петю, Семенов вскользь только взглянет и пойдет к своему месту, потому что отец, посмотрев на часы, уже берется за свой стул.
За обедом всегда кто-нибудь из полковых, разговор по чину, а после обеда обязательная часовая пильня на скрипке. Семенов сам уже знает, торопливо благодарит и спешит наверх. Оттопырив губы, он аккуратно вынимает из ящика скрипку, достает смычок, долго настраивает, прислушиваясь, весь сосредоточенный, с поднятыми бровями, и, кончив скучную, но приятную по своим результатам работу, становится в позицию, вытягивает руку со смычком, прицеливается глазами в ноты, склоняет голову, и по дому несется твердый однообразный звук низких и высоких нот громкой скрипки. А там, в кабинете, сидит сухой полковник, курит, смотрит в окно, одним ухом слушает полкового, а другим — твердые отчетливые звуки нравящегося ему своей определенностью инструмента.
Эта хорошо знакомая Карташеву картина ярко рисуется ему, пока он в блеске веселого, безоблачного дня идет домой, и ему завидной делается эта налаженная, систематическая жизнь… Жизнь его родных и он сам представляется ему чем-то разбросавшимся, несобранным. Книги его, почти не связанные, то и дело скользят в руках, в голове бродит мысль и перескакивает от Семенова к Беренде, тоже скрипачу, игравшему, в контраст с Семеновым, так мягко и мелодично. Он вспоминает Корнева, Рыльского, вспоминает опасения Семенова, его охватывает какой-то страх за их судьбу, но последний совет Семенова «подальше от них» производит на него как раз обратное действие, и его тянет к ним, и он даже как-то мирится с неприятною внешностью Корнева и Рыльского; мирит его главным образом то, что это они говорят не свое, что не пред ними, Корневым и Рыльским, приходится преклоняться, а пред тем, чему и они поклоняются сами. А пред тем, чему даже Корнев и Рыльский поклоняются, пред тем и никому не обидно… «Все-таки они умные и умнее Семенова», — закончил Карташев свои размышления.
И даже нетерпимая внешность их, резкие выходки и те осветились иначе: «Просто мальчишки, — узнали, да и не говорят откуда, а вот если б я первый узнал, они бы не знали, что говорить. Все-таки я умный: они по книжкам, а я без книжек, и то совсем почти им не поддаюсь».
Весь класс разбился на две неравные партии: Корнева, немногочисленную, и — партию Карташева.
Группа Корнева сблизилась между собой и вне гимназии, — ходили друг к другу в гости, но так, впрочем, что с семействами не имели никакого соприкосновения. Обыкновенно компания собиралась в комнате товарища, — там курили, читали, туда приносили им чай. Если собрание было более обыкновенного, им уступались иногда и парадные комнаты, показывались на мгновение родные и уходили, сопровождаемые благодарственными взглядами молодежи. Что могло быть приятнее, как чувствовать себя совершенно свободными от необходимости чинно сидеть, чинно говорить. Какое удовольствие испытывала компания, когда дверь затворялась за непрошеным взрослым членом семьи! Корнев даст сейчас, бывало, козла. Рыльский поправит свой шнурок от pince-nez и снисходительно пустит: «Ха-ха!» Дарсье, потомок изящных французов, оглянется с комичной миной, подберет фалды и бултыхнется на диван.
— Послушай, француз, — скажет Корнев, — сегодня тебе спать не дадут.
— Откуда ты взял, что я буду спать? — фыркал Дарсье, поплотнее умащиваясь.
Корнев некоторое время добродушно рассматривал Дарсье и произносил с каким-то пренебрежительным снисхождением:
— Рыло.
— Сам ты… — так же добродушно огрызался француз.
— Что с ним церемониться? — говорил Рыльский, обращаясь к Дарсье. — Вот тебе постановление коммуны: если ты не повторишь последней фразы, когда остановятся, то каждый раз с тебя том Писарева.
— Ну… — размахивая руками, подскакивал До лба, — давай, брат, деньги, по крайней мере, без всякой помехи спать будешь.
— Дурачье, — смеялся вместе со всеми Дарсье, — не дам.
— Тем хуже для тебя…
— Хорошо, хорошо… — кивал головой Дарсье, — посмотрим еще.
Начиналось чтение: и в то время как все слушали с напряженным вниманием, Дарсье напрасно изнемогал в непосильной борьбе: что-то лезло на глаза, закрывало их, и Дарсье кончал тем, что сладко засыпал коротким чутким сном. Очень чутким. Чуть остановятся, уж Дарсье знал, в чем дело, и, еще не проснувшись, лениво повторял последнюю фразу.
А Рыльский делал жест и продолжал читать.
— А кто слишком склонен к Яни, того больно бьют по пяткам… Дарсье, повтори.
Дарсье вскакивал и быстро повторял, и от сумасшедшего хохота дрожали стекла, потому что Яни — и бог земли, и в то же время фамилия красавицы гимназистки, к которой неравнодушно французское сердце Дарсье: вся фраза выдумана Рыльским без всякой связи с предыдущим и последующим чтением, специально для Дарсье.
— Ну, так хоть это запомни хорошенько… — наставительно говорил Рыльский.
И снова шло чтение, а затем споры, рассуждения. Подымались разные вопросы, решались. Это решающее значение обыкновенно принадлежало Корневу и Рыльскому. Иногда выдвигался Долба — здоровенный ученик из крестьян, в прыщах, с красным лицом, с прямыми черными волосами и широким большим лбом.
— Лбина-то у тебя здоровенная… — говорил Корнев, внимательно всматриваясь в Долбу.
— Бык, — отвечал Долба и, расставя ноги, смеялся мелким деланным смехом.
Только глазам было не до смеха, и они внимательно, пытливо всматривались в собеседника.
Корнев грызет, бывало, ноготь, подумает и проговорит:
— На Бокля похож.
Долба вспыхнет, смеряет четвертью свой лоб, скажет «ну» и опять рассмеется.
— Способная бестия… — заметит опять Корнев не то раздумчиво, не то с какою-то завистью.
— Дурак я, — ответит Долба, потом заглянет в глаза Корневу и, пригнувшись, рассмеется своим мелким смехом.
— Да что ты все смеешься?
— Дурак, — ответит уклончиво Долба.
— Глаза хитрые…
— Мужицкие глаза.
— Положительно загадочная натура, — высказывал свое мнение Корнев в отсутствие Долбы и задумывался.
— Рисуется немного… но талантливый, подлец, — соглашался Рыльский.
Многочисленная партия Карташева была полной противоположностью партии Корнева. Все это были люди, которые ничего не читали, ничем не интересовались, ни о чем не помышляли, кроме ближайших интересов дня. Они ходили в гимназию, лениво учили уроки и в свободное от занятий время скучали и томились.
Корнев с компанией язвили их, вышучивали, донимали и осмеивали все то, что в их глазах казалось неприкосновенным.
Карташев был представителем своей партии. Случилось это как-то само собой: Карташев усердно отстаивал тех, кто попадал на острые зубы противной партии; он обладал даром слова, находчивостью в спорах; он, наконец, был добр и не мог выносить бессердечия партии Корнева ко всем тем, кто или стоял ниже их в умственном отношении, или не разделял их взглядов.
Начнет, бывало, Корнев без церемонии ругать кого-нибудь, а Карташев чувствует такое унижение, как будто его самого ругают. Выругается Корнев и примется за чтенье.
— Я не понимаю этого удовольствия, — заговорит Карташев скрепя сердце, — говорить человеку в глаза «идиот».
— А я не понимаю удовольствия с идиотами компанию водить, — ответит небрежно Корнев и примется за свои ногти, продолжая читать.
— Если б даже и идиот он был, что ж, он поумнеет оттого, что его назовут идиотом?
Корнев молчит, погрузившись в чтение.
— Если не поумнеет, то отстанет, — бросит за него Рыльский.
— Или в морду даст? — пустит со своего места Семенов.
— Испугал!
— А вот назови меня…
Рыльский весело смеялся.
— Ну, а если два человека назовут тебя идиотом. Тоже в морду дашь?
— Дам, конечно.
— Ну, а три?..
— Хоть десять.
Корнев отрывается от чтения и говорит мягким, ласковым голосом:
— Если бы ты встретил неприятеля, мой друг, ты что бы сделал? — Он делает свирепое лицо. — Приколол бы, ваше превосходительство. — А если ты десять неприятелей встретил? — Приколол бы! — Мой друг, разве ты можешь десять человек приколоть? Подумай хорошенько. — Так точно, не могу.
Корнев меняет тон и говорит наставительно:
— Солдат, и тот понял.
— Так ведь то солдат, — поясняет Рыльский, — а он сын полковника… Вот, погоди, подрастет он, один всю Европу приколет.
— Ах, как остроумно! — говорит Семенов.
В числе карташевской партии, между прочим, были Вервицкий и Берендя. Они сидели на одной скамейке и дружили, хотя по виду дружба их была очень оригинальна: друзья постоянно ссорились.
Вервицкий был широкоплечий блондин, с голубыми глазами, с круглым лицом, с грубым, сиплым голосом, сутуловатый, с широкими плечами.
Берендя, или Диоген, как называл его язвительно Вервицкий, худой, высокий, ходил, подгибая коленки, имел длинную, всегда вперед вытянутую шею, какое-то не то удивленное, не то довольное лицо, носил длинные волосы, которые то и дело оправлял рукой, имел желто-карие лучистые глаза и говорил так, что трудно было что-нибудь разобрать.
Главным недостатком Беренди Вервицкий считал его глупость. Он этим и донимал своего друга.
Надо отдать справедливость, Вервицкий умел подчеркнуть глупость друга. Когда он, бывало, вытянув шею, подгибая коленки, шел, стараясь изобразить Берендю, класс умирал от смеха. В мастерской передаче Вервицкого так ясно было, что Берендя действительно глуп. А еще яснее это было, когда Берендя вступал в спор.
Рот только откроет Берендя, а уж Вервицкий упрется на локоть, уставится в друга и с наслаждением слушает. Берендя с какой-то особой манерой откинется, вытянет длинные ноги и, устремив в пространство свои лучистые глаза, начнет, поматывая головой, длинную речь. Слушает Вервицкий, слушает и начнет сам поматывать головой, потом скосит немного глаза, на манер Беренди, что-то зашепчет себе под нос и кончит тем, что и сам расхохочется, и в публике вызовет смех.
Сбитый с позиции, Берендя обрывался и бормотал:
— Мне кажется странно, право, такое отношение…
Остальное исчезало в какой-то совершенно непонятной воркотне и в поматывании головой.
— Дурак ты, дурак, — говорил в ответ Вервицкий, с искренним сокрушением качая головой. — И всегда будешь дурак, хоть сто лет живи… Вот так и будешь все мотать головой, на кладбище повезут, и то мотать будешь, а о чем — так и не разберет никто.
— Ну, что ж, это очень грустно, — говорил Берендя.
— А ты думаешь, весело? — перебивал своим сиплым голосом Вервицкий.
— Очень грустно… очень грустно… — твердил Берендя.
— Тьфу! Противно слушать… не только слушать, смотреть.
— Очень грустно… очень грустно…
— И думает, что очень умную вещь говорит.
Такие стычки не мешали, однако, друзьям вместе готовить трудные уроки, ходить друг к другу в гости, поверять свои тайны и понимать друг в друге то сокровенное, что ускользало от наблюдения толпы, но что было в них и искало сочувствия.
Бывало, излившись друг перед другом, друзья ложились вместе на одну кровать, в загородной квартире Беренди, в доме мещанки, у которой Берендя снимал квартиру со столом и самоваром за двенадцать рублей в месяц. Берендя то начинал острить на свой счет, и тогда друзья хохотали до слез. А то вставал, вынимал скрипку и, смотря своими лучистыми глазами в зеленые обои своей комнаты, начинал играть. Чувствительный Вервицкий присаживался к окну, подпирал подбородок рукой и задумчиво смотрел в окно.
Время летело, скучный урок лежал нетронутым, наступали сумерки, темная ночь охватывала небо и землю, охватывала душу сладкой истомой, и было так хорошо, так сладко и так жаль чего-то.
А на другой день рассердится, бывало, Вервицкий и бесцеремонно начнет перед всем классом черпать доводы о глупости Беренди из тех же сокровенных сообщений, которые делал ему приятель накануне. Вспыхнет, бывало, покраснеет Берендя и забормочет, заикаясь, что-то себе под нос.
А Вервицкого еще больше подмывает:
— Ба-ба-ба! Ба-ба-ба! Пошел пилить! Ты говори прямо: я наврал? ты не говорил?
И как ни отделывался Берендя, а в конце концов, поматывая головой и пощипывая свою пробивающуюся бородку, едва внятно лепетал:
— Ну, говорил…
— А зачем же ты сразу забормотал так, как будто я сам все выдумал? Вот это и подлость у тебя, что ты все: туда-сюда… туда-сюда… как змея головой, когда уж ей некуда деваться…
И Вервицкий впивался в друга, а друг, под неотразимыми доводами, только молчал, продолжая поматывать головой.
— Что?! Замолчал!!
Кличку Диогена Берендя получил при следующих обстоятельствах.
— Мы изучаем Диогена, — однажды философствовал он, — и говорим, что он мудрец. Но если я полезу в бочку, буду со свечой искать человека… меня, по крайней мере, посадят в сумасшедший дом.
— И посадят когда-нибудь, — уверенно ответил Вервицкий. — Ты, знаешь, напоминаешь мне метафизика из басни. Ты хочешь непременно своим умом до всего дойти, а ума-то и не хватает: и выходит — веревка вервие простое…
— По-позволь…
— Не позволю: надоел и убирайся к черту.
— Как угодно… я только хотел сказать, что ту-ту-тут неладно… кто-нибудь из нас дурак — или Диоген, или мы…
— Ты дурак.
— Я утешаю себя, что, явись вот перед тобой сейчас Диоген, — тебе ничего не осталось бы, как и его назвать дураком.
— Ну, хорошо. Теперь, когда я захочу тебя выругать дураком, я буду тебе говорить: «Диоген». Хорошо?
— Мне очень приятно будет…
— Ну, и мне приятно будет.
Так и осталась за Берендей кличка Диоген.
Выдавались иногда дни, когда между партиями Корнева и Карташева водворялся род перемирия. Тогда Корнев и Карташев точно сбрасывали свои боевые доспехи и чувствовали какое-то особенное влечение друг к другу.
Один из таких дней подходил к концу. Последний урок был математика. Оставалось четверть часа до звонка. Учитель математики, маленький, с белым лицом и движениями, напоминавшими заведенную куклу, кончил объяснение и сел за стол. Он наклонил голову к журналу, понюхал фамилии всех учеников и произнес голосом, от которого заранее становилось страшно:
— Корнев.
Корнев побледнел и, перекосив, по обыкновению, лицо, пошел к доске.
Математика не давалась ему. В этом отношении перевес был на стороне Карташева, который хотя и не делал ничего, но все-таки держался на спасительной тройке. Корнев пытался доказывать теорему голосом человека, который твердо убежден, что он ничего не докажет, да и не дадут ему доказать.
— Возьмем треугольник ABC и наложим на треугольник DEF так, чтобы точка А упала в точку D.
Учитель слушал и в то же время внимательно, с любопытством бегал глазами по лицам учеников.
Яковлев, первый ученик, молча поднял брови. Рыльский досадливо опустил глаза. Долба с сожалением смотрел в сторону, а один ученик, Славский, не утерпел и даже искренне чмокнул губами.
— Как же вы это сделаете, чтоб точка А попала в точку D? — спросил учитель, смотря в то же время в лица учеников.
— Наложу так…
Наступила пауза. Учитель вытянул шею и внушительно сухо сказал:
— У вас, Корнев, выражения совершенно не математические.
— Я не способен к математике, — ответил Корнев, и раздраженное огорчение зазвучало в его голосе.
Учитель не ожидал такого ответа и, недоумевая, обратился к нему:
— Ну, так оставьте гимназию…
— Я себе избрал специальность, в которой математика ни при чем…
— Меня ни капли не интересует, какую вы специальность себе избрали, но вас должно интересовать, я думаю, то, что я вам скажу: если вы не будете знать математики, то вам придется отказаться от всякой специальности.
— А если я не способен?..
— Нечего и лезть…
По коридору уже несся звонок.
Учитель собрал тетради, пытливо заглянул в глаза Корневу и, сухо поклонившись классу, вышел своей походкой заведенной куклы.
— Охота тебе с ним вступать в пререкания? — обратился к нему с упреком Рыльский.
— Да ведь пристает…
— Ну и черт с ним. Человек мстительный, требовательный, только создашь такие отношения…
— Черт его знает, обидно стало: я, главное, знаю, чего ему хочется. Чтоб я сказал, что вот будем вращать до тех пор, пока вершина А совпадет с вершиной D…
Рыльский, Долба и Дарсье удивленно смотрели на Корнева.
— Если знал, зачем же ты не сказал?
— Да когда же я в этом смысла не вижу.
— Ну, уж это… — махнул рукой Рыльский и засмеялся.
Рассмеялся и Долба.
— Нет, ты уж того…
— Ну, какой смысл, объясни?! — вспыхнул Корнев.
— Да никакого, — сухо смерил его глазами Рыльский, — а экзамена не выдержишь…
— Ну и черт с ним…
— Разве, — проговорил пренебрежительно Рыльский.
— Я, собственно, совершенно согласен с Корневым, — вмешался Карташев, — не все ли равно сказать: будем вращать или наложим.
— Ну, и говорите на здоровье. Станьте вот перед этой стенкой и пробивайте ее головой.
— Эка мудрец какой, подумаешь, — возразил Корнев, раздумчиво грызя ногти.
— Вот тебе и мудрец… Вечером у тебя?
— Приходите…
Дальше всех по одной и той же дороге было Семенову, Карташеву и Корневу.
Когда они дошли до перекрестка, с которого расходились дороги, Корнев обратился к Карташеву:
— Тебе ведь все равно: пойдем со мной.
Карташев обыкновенно ходил с Семеновым, но сегодня его тянуло к Корневу, и он, не смотря на Семенова, сказал:
— Хорошо.
— Идешь? — спросил отрывисто Семенов, протягивая руку, и сухо добавил: — Ну, прощай.
Карташев постарался сжать ему как можно сильнее руку, но Семенов, не взглянув на него, попрощался с Корневым и быстро пошел по улице, маршируя в своем долгополом пальто, выпячивая грудь и выпрямляясь, точно проглотил аршин.
— Вылитый отец, — заметил Корнев, наблюдая его вслед. — Даже приседает так, хотя воображает, вероятно, что марширует на славу.
Карташев ничего не ответил, и оба шли молча.
— Послушай, — начал Корнев, — я тебя, откровенно сказать, не понимаю. Ведь не можешь же ты не понимать, что вся та компания, которой ты окружил себя, ниже тебя? Я не понимаю, какое удовольствие можно находить в общении с людьми, ниже тебя стоящими? Ведь от такого общества поглупеть только можно… Ведь не можешь же ты не понимать, что они глупее тебя?
Корнев остановился и ждал ответа. Карташев молчал.
— Я положительно не могу понять этого, — повторил Корнев.
Карташев сам не знал, что ответить Корневу. Согласиться, что его друзья глупее его, ему не позволяла совесть, а вместе с тем слова Корнева приятно льстили его самолюбию.
— А я тебя не понимаю, — мягко заговорил Карташев, — твоей, да и всех вас резкости со всеми теми, кого вы считаете ниже себя…
— Например?
— Да вот хотя с Вервицким, Берендей, Мурским…
— Послушай, да ведь это же окончательные дураки.
— Но чем же они виноваты? А между тем они так же страдают, как и другие. Ты бросишь ему дурака и думать забыл, а он мучится.
— Ну, уж и мучится.
— И как еще!.. Да я тебе откровенно скажу про себя: другой раз вы мне наговорите такого, что положительно в тупик станешь: может, действительно дурак… Тоска такая нападет, что, кажется, лег бы и умер.
— Да и никогда тебя дураком и не называл никто; говорили, что ты… ну, не читаешь ничего… Ведь это ж верно?
— Собственно, видишь ли, я читаю и много читал, но только все это как-то несистематично.
Корнев усиленно грыз ногти.
— Писарева читал? — спросил он тихо, точно нехотя.
— И Писемского читал.
— Не Писемского, а Писарева. Писемский беллетрист, а Писарев критик и публицист.
«Беллетрист», «публицист» — всё слова, в первый раз касавшиеся уха Карташева. Его бросило в жар, ему сделалось стыдно, и уж он открыл было рот, чтобы сказать, что и Писарева читал, как вдруг передумал и грустно признался:
— Нет, не читал.
Искренний тон Карташева тронул Корнева.
— Если хочешь, зайдем — я дам тебе.
— С удовольствием, — согласился Карташев, догадываясь, что Писарев и был тот источник, который вдохновлял Корнева и его друзей.
— Странная вещь, — говорил между тем Корнев. — Говорят, твоя мать такая умная и развитая женщина — и не познакомила тебя с писателями, без знания которых труднее обойтись образованному человеку, чем без классического сухаря…
— Моя мать тоже против классического образования. Я теперь вспоминаю, она мне Писарева даже предлагала, но я сам, откровенно говоря, все как-то откладывал.
— Не могла ж она не читать… Вы какие журналы получаете?
— Мы, собственно, никаких не получаем.
— Вы ведь богатые люди?
Карташев решительно не знал, богатая женщина его мать или нет, и скорее даже был склонен думать, что никакого богатства у них нет, потому что и дом и именье были заложены, но ответил:
— Кажется, у матери есть средства.
— У нас ничего нет. Только вот что батька заработает. Мой отец в таможне. Но хотя там можно, он ничего не берет, — это я знаю, потому что у нас, кроме двух выигрышных билетов, ничего нет. Родитель молчит, но мать у меня из мещанок, жалуется и не раз показывала.
Голос Корнева звучал какой-то иронией, и Карташеву неприятно было, что он так отзывается о своей матери.
Они подошли к высокому белому дому, в котором помещалась женская гимназия, как раз в то время, когда оттуда выходили гимназистки.
В самой густой толпе учениц, куда, как-то ничего не замечая, затесались Карташев и Корнев, Корнева окрикнула стройная гимназистка лет пятнадцати.
— Вася! — проговорила она, сверкнула своими небольшими острыми глазками и весело рассмеялась.
— А-а! — ответил небрежно Корнев. — Наше вам.
— Ну, довольно, довольно…
— Сестрица, — отрекомендовал пренебрежительно Корнев, обращаясь к Карташеву.
— Вот я маме скажу, какой ты невежа, — ответила гимназистка, вспыхнув и покраснев до волос. — Разве так знакомят?
Карташев залюбовался румянцем девушки и, встретившись с ней глазами, сконфуженно снял шапку.
— Ах, скажите пожалуйста! — прежним тоном сказал Корнев. — Ну познакомьтесь… Сестра… Карташев…
— У вас есть сестра?
И едва Карташев успел ответить, она засыпала его вопросами: так же ли он груб с своими сестрами? так же ли от него мало толку? так же ли он никуда с ними ходить не хочет и такие же ли у него друзья, которые всё читают какие-то дурацкие книжки и никого знать не хотят?
— Поехали, — сказал Корнев и стал грызть ногти.
Карташев, идя с сестрой Корнева, сделал новое открытие, а именно, что он образцовый брат, хотя Зина и не скупилась ему на упреки. Приняв это к сведению, он стал выгораживать, как мог, своего товарища и уверять, что все это ей только кажется.
— Пожалуйста, не трудись, — перебил его Корнев. — Все, что она говорит, одна чистая правда, но дело в том, что я не желаю быть другим…
— Видите, какой он…
И, посмотрев на брата, топнув ногой, прибавила:
— У-у, противный!
Она отвернулась. Карташев смотрел на ее каштановые, небрежной волной выбившиеся волосы, так мягко оттенявшие нежную кожу ее белой шеи. Огонь пробегал по нем, и он страстно думал, что, если б у него была такая сестра, он молился бы на нее богу.
Она встретила его взгляд, и он испугался, как бы она не прочла его мыслей. Но она не только не прочла, но смотрела на него ласково и шла совсем близко около него. От мысли ли, что она ничего не заметила, от чего ли другого, но Карташев чувствовал себя как-то особенно хорошо и легко. Маня, еще три года назад овладевшая его фантазией, сразу стушевалась перед этой ослепительной, мягкой, женственной девушкой.
Что Маня? Что он, собственно, любил в ней? — думал он и радовался, что Маня тает там где-то, в его сердце, и уступает свое место чему-то более жгучему и определенному, чем какая-то заоблачная идиллия. Маня, которую он, вероятно, и не увидит больше, а эта шла рядом с ним, и он чувствовал ее так, словно ступала она не по мостовой, а прямо по его сердцу.
Они вошли в калитку небольшого чистого, обсаженного акациями двора, прошли двор и в углу его между скамьями пробрались к подъезду.
Из маленькой передней виднелась гостиная, большая, но невысокая комната, вправо из передней дверь вела в комнату Корнева, а влево была дверь в домашние комнаты. Корнев, раздевшись, указывая рукой, проговорил:
— Милости просим…
Карташев, неловко оправлявший свой испачканный мундир и растрепанные волосы, только что было собирался шагнуть в комнату Корнева, как из левой двери вышла маленькая сморщенная женщина, в которой Карташев сейчас же узнал мать Корнева.
— А-а, — произнес Корнев, — ну вот… маменька, еще мой товарищ, Карташев.
— Очень приятно, очень приятно… Я вашего батюшку видала, бывало, в соборе в царские дни… в орденах… Ваш-то батюшка меня-то уж, конечно, может, и не видел… Куда уж нам! мы люди маленькие…
— Ах, маменька, уж вы начинаете, — вспыхнула сестра Корнева.
Мать Корнева как-то испуганно поджала губы, морщинки сбежались на ее лице, и она огорченно ответила:
— Что ж, нельзя и род свой вспомянуть?
— Все это не важно, — перебил Корнев. — Род ваш отличный, и никто от него не думает отказываться, а ежели бы вот к тому же кофейку, так и ручку даже можно поцеловать.
— Ох ты, мой голубчик! — проговорила мать и, обратившись к Карташеву, весело спросила: — Ну, видали вы кого лучше? — и, сделав добродушно-лукавое лицо истой хохлушки, она подняла руку по направлению к сыну.
Карташев, как очарованный, смотрел на эту обворожившую его простоту и готов был, если б не стыдно только было, поцеловать эту сморщенную маленькую добрую женщину.
— Да ей-богу же, поцелую, — сказала мать Корнева и, обняв Карташева, поцеловала его в лоб.
Карташев так покраснел, что покраснели и мать и сестра, которая даже захлопала в ладоши.
— Это мой! — говорила мать, положив руку на плечо Карташеву. — Тих усих соби бери, а ций такий же дурень, як ты. Хоть ему голову всунь, не откусит.
Подали кофе, и, несмотря на неоднократные попытки Корнева, Карташев так и не уединился с ним, а все время оставался с его семьей. Только перед самым уходом он зашел к нему в комнату и взял два тома Писарева.
— Довольно покамест, прочтешь, еще дам.
— Ну, отлично.
— Смотрите же, приходите, — сверкнула ему своими жгучими глазами сестра. — И не к Васе, а к нам.
— К нам, к нам, — кричала вдогонку мать.
Карташев блаженно улыбался, поворачивался и, энергично срывая с головы шапку, все кланялся и кланялся.
— Вот, Вася, первый твой товарищ, который действительно симпатичный, — решительно сказала сестра.
— Да, он ничего себе, — согласился Корнев.
— У него сердце, как на ладонце, ото друг, а твой Долба только и глядит, як тый вивк, по сторонам… Рыльский важный: кто его знае, що там в середке у него.
— И красивые глаза у него…
— Влюбись, тебе недолго.
— Да уж скорее, чем в твоего Рыльского.
И сестра сделала капризную, пренебрежительную гримасу.
— Ну, ну, деточки… раночки, раночки.
А Карташев шел, точно волна его несла: он думал о сестре Корнева, целовал ее волосы, шею, называл уменьшительными именами и сильнее прижимал к своему боку два аккуратных томика Писарева. Все было хорошо — и новое знакомство, и сестра Корнева, и Писарев. Сегодня же он постигнет премудрость, уже у него этот ключ знания того, что дает такую силу словам Корнева. И опять его мысли возвращались к сестре Корнева, и опять она смотрела на него, и он весь замирал под охватывающим его волнением.
Ах, если б волшебной силой можно было разорвать все путы, броситься к ней и сказать: «Я люблю тебя, я твой до конца жизни! Видеть тебя, смотреть в твои глаза, целовать твои волосы — вот все счастье, вся радость моей жизни».
Карташев вспомнил, как она переходила дорогу, вспомнил маленький след, отпечатавшийся на земле от ее новенькой резиновой калоши, и его и к следу ее потянуло так, что он сам не знал, что сильнее отпечаталось в его сердце — этот ли след или — вся она, отныне царица и мучительница его сердца.
III Мать и товарищи
Дома Карташев умолчал и о Писареве, и о семействе Корнева. Пообедав, он заперся у себя в комнате и, завалившись на кровать, принялся за Писарева.
Раньше как-то он несколько раз принимался было за Белинского, но тот никакого интереса в нем не вызывал. Во-первых, непонятно было, во-вторых — все критика таких сочинений, о которых он не слыхал, а когда спрашивал мать, то она говорила, что книги эти вышли уже из употребления. Так ничего и не вышло из этого чтения. С Писаревым дело пошло совсем иначе: на каждом шагу попадались знакомые уже в речах корневской компании мысли, да и Писарев усвоялся гораздо легче, чем Белинский.
Когда Карташев вышел к чаю, он уж чувствовал себя точно другим человеком, точно вот одно платье сняли, а другое надели.
Принимаясь за Писарева, он уже решил сделаться его последователем. Но когда начал читать, то, к своему удовольствию, убедился, что и в тайниках души он разделяет его мнения. Все было так ясно, так просто, что оставалось только запомнить получше — и конец. Карташев вообще не отличался усидчивостью, но Писарев захватил его. Места, поражавшие его особенно, он перечитывал даже по два раза и повторял их себе, отрываясь от книги. Ему доставляла особенно наслаждение эта вдруг появившаяся в нем усидчивость.
Иногда он наталкивался на что-нибудь, с чем не соглашался, и решал обратить на это внимание Корнева. «Что ж, что не согласен? Сам Писарев говорит, что не желает слепых последователей».
Карташев чувствовал даже удовольствие от мысли, что он не согласен с Писаревым.
«Наверно, Корневу это будет неприятно». — думал он.
На другой день под предлогом нездоровья он не пошел в гимназию, следующий был воскресенье, а когда в понедельник он наконец отправился в класс, то уж оба томика Писарева были исправно прочитаны.
От матери не скрылось усиленное чтение сына, и она, войдя к нему в кабинет, некоторое время смущенно рассматривала книгу.
Карташев внимательно наблюдал ее.
— Ты читала? — спросил он.
— Откуда ты взял? — спросила, в свою очередь, мать.
— У товарища одного: Корнева.
— Читала, — сказала мать и задумалась. — Я хотела, чтоб ты позже познакомился с этой книгой.
— Я и так почти единственный в классе, который не читал Писарева. Я думаю, и тебе неприятно, чтоб твой сын, как дурак, мигал и хлопал глазами, когда другие говорят умные вещи…
— Мне, конечно, это неприятно, но мне еще неприятнее было бы, если б мой сын, как дурак, повторял чужие слова и мысли, не будучи в силах сам критически к ним отнестись.
Карташев, ничего не говоря, подошел к своему столу и взял исписанный лист бумаги.
— Прочти… это тебе покажет, умею ли я критически относится к тому, что читаю.
— Это что?
— Это выписаны места, с которыми я не согласен.
Заметки были вроде следующего:
«Я не могу согласиться насчет музыки, — он любил сигары, а я музыку».
Мать подавила улыбку и проговорила:
— Читай.
— Знаешь, Корнев сказал: «Как это у тебя такая умная и развитая мать и до сих пор не дала тебе Писарева».
Карташев любовался исподтишка смущением матери и ждал ее ответа.
— Корневу мать дала?
— Нет… У Корнева мать простая совсем.
— Ты видел ее?
— Я вот заходил, когда книги брал у него.
— Кто ж у него еще?
— Сестра есть.
— Большая?
— Лет пятнадцати, верно.
— Учится?
— Да, в гимназии. Мы ее и встретили возле гимназии, когда шли… Вот Зина жалуется на меня, а посмотрела бы на Корнева…
— Что ж, он обижает сестру?
— Не обижает, а воли ей над собой не дает.
— А над тобой кто ж волю дает?
— Ну-у…
— Что ж, Корнев и к тебе станет ходить, или ты только к нему?
Карташев сдвинул брови.
— Я его не звал.
— В обществе, по крайней мере, принято, что раз ты бываешь, то и у тебя должны бывать.
— Какое ж мы общество?
— Да уж раз вам дело до Писарева, значит, вы взрослые.
— Писареву все равно, будут ли люди соблюдать разные такие житейские церемонии или нет, — усмехнулся Карташев.
— Вот ты как! Ну, а все-таки я бы тебя попросила — пока ты у меня в доме, бывать только у тех, кто и тобой не пренебрегает.
— Да за что же ему мной пренебрегать?
— А в таком случае зачем же он к тебе не идет? Ты уж не маленький и должен понимать, что самолюбие выше всего: раз позволишь себе наступить на ногу — и конец, — на тебя всегда будут сверху вниз смотреть.
— Да я уверен, что он и придет ко мне.
— Посмотрим.
После первых двух томов Писарева Карташев прочел еще несколько других, заглянув в Добролюбова, просмаковал введение Бокля, читал Щапова и запомнил, что первичное племя, населявшее Россию, было курганное и череп имело субликоцефалический.
Отношения Корнева и Карташева изменились: хотя споры не прекращались и носили на себе все тот же страстный, жгучий характер, но в отношения вкралось равенство. Карташева стала приглашать партия Корнева на свои вечера: Карташев потянул за собой и свою компанию. Даже Семенов примирился, бывал на чтениях и убедился, что там не происходит ничего, за что могло бы последовать исключение кого бы то ни было из гимназии.
Берендя тоже с жаром и страстностью набросился на чтение и постепенно приобрел некоторое уважение в кружке как человек начитанный, с громадной памятью, как ходячая энциклопедия всевозможных знаний.
Иногда, если у компании хватало терпения, его дослушивали до конца, и тогда из тумана высокопарных слов выплывала какая-нибудь оригинальная, обобщенная и обоснованная мысль.
Корнев тогда задумывался, грыз ногти и пытливо заглядывал ему в глаза, пока высокий Берендя, в позе танцора, подымаясь еще выше на носки и осторожно прижимая руки к груди, спешно выкладывал перед всеми свои соображения.
Только в глазах Вервицкого Берендя сохранил свой прежний вид дурня и растеряхи в практической жизни. Впрочем, таким он и был в общежитейских отношениях: был на счету у начальства неспособным, имел плохие отметки, по математике из двойки не вылезал и только по истории имел круглую пятерку. Историю, и особенно русскую, он любил до болезни. Обладая громадною памятью, он помнил все года и перечитал массу исторических русских книг.
Барометр товарищеских отношений — Долба снисходительно трепал Берендю по плечу и добродушно говорил:
— Бокль не Бокль, а дай же, боже, щоб наше теля да вивка съило.
Аглаида Васильевна добилась наконец своего. Однажды Карташев после долгих колебаний (он все боялся, что не захотят к нему прийти) пригласил к себе Корнева, Рыльского, Долбу и прежних своих приятелей — Семенова, Вервицкого и Берендю.
Прежние приятели уже собрались и пили вечерний чай за большим семейным столом, когда раздался звонок и в переднюю ввалились вновь прибывшие. Они раздевались, переглядывались между собою и громко перебрасывались словами.
Рыльский, прежде чем войти, вынул чистенький гребешочек, причесал им и без того свои гладкие, мягкие, золотистые волосы, оправил pince-nez, весело покосился на замечание Корнева «хорош», проговорив «рыло», и первый вошел в гостиную. Увидев общество в другой комнате, он уверенно направился туда.
За ним вошел Корнев, невозможно перекосив лицо и с каким-то особенно глубокомысленным, сосредоточенным видом.
Сзади всех, покачиваясь, с оттенком какого-то пренебрежения и в то же время конфузливости, шел Долба, потирая руки и ежась, точно ему было холодно.
Карташев вышел в гостиную навстречу гостям и сконфуженно пожал им руки. Несколько мгновений он стоял перед своими гостями, а гости стояли перед ним, не зная, что с собою делать.
— Тёма, веди своих гостей в столовую! — выручила мать.
Раскланиваясь перед Аглаидой Васильевной, Рыльский шаркнул, наклонив голову, и, вежливо еще раз поклонившись, пожал протянутую ему руку. Корнев слил все в одном поклоне, сжал крепко руку, низко наклонил голову и еще больше перекосил лицо. Долба размашисто наклонился и после пожатия, поднимая голову, энергично тряхнул волосами, и они, разлетевшись веером, опять улеглись на свои места.
— Очень приятно, очень рада, господа, познакомиться, — говорила Аглаида Васильевна, приветливо и внимательно окидывая взглядом гостей.
Карташев в это время весь превратился в зрение и, по своей впечатлительности, не замечал, как он и сам кланялся, когда представлялись его товарищи.
— Ты, чем кланяться, представь-ка лучше сестре, — посоветовал добродушно Рыльский, смотревший в это время на сестру Карташева в нерешительном ожидании, когда его представят.
Зинаида Николаевна весело рассмеялась, Рыльский тоже — и все сразу получило какой-то непринужденный, свободный характер.
Рыльский сел возле Зинаиды Николаевны, смеялся, острил, ему помогал Семенов. Корнев завел серьезный разговор с Аглаидой Васильевной. Долба разговаривал с Карташевым, Вервицкий и Берендя молча слушали.
Зинаида Николаевна, уже семнадцатилетняя барышня, в последнем классе гимназии, ожидавшая гостей брата с некоторым пренебрежением, раскраснелась, разговорилась, и мать с удовольствием подметила в своей дочери способность и занимать гостей, и уметь нравиться без всяких шокирующих манер. Все в ней было просто до скромности, но как-то естественно изящно: поворот головы, смущенье, манера опускать глаза — все удовлетворяло требовательную Аглаиду Васильевну. Зато Тёма оставлял желать многого: он конфузился, разбрасывался, не зная, что делать с своими руками, и невыносимо горбился.
Корнев еще хуже горбился. Зато Рыльский держал себя безукоризненно. Его поклоны и манеры обворожили всех. Долба производил какое-то болезненное впечатление желанием чем-нибудь, как-нибудь выдвинуться. У Семенова была видна домашняя дрессировка. Вервицкий и Берендя были для Аглаиды Васильевны старые знакомые медвежата.
Общество перешло в гостиную. Аглаида Васильевна, пропустив всех, мысленно определяла место своего сына в обществе его товарищей.
Зинаида Николаевна села за рояль, Семенов принялся открывать свою скрипку. Рыльский стал возле рояля, Корнев и Долба с кислой физиономией ходили вдоль окон и посматривали по сторонам. Корнев жалел, что пришел и теряет вечер в неинтересной для него обстановке.
Аглаида Васильевна ушла и возвратилась, держа за руку Наташу.
Стройная пятнадцатилетняя Наташа, вся разгоревшись, смотрела своими глубокими большими глазами так, как смотрят в пятнадцать лет на такое крупное событие, как первое знакомство с таким большим обществом. Она как-то и доверчиво, и неуверенно, и робко протягивала свою изящную ручку гостям. Ее густые волосы были заплетены в одну толстую косу сзади.
Появление ее было встречено общим удовольствием: она сразу произвела впечатление. Корнев впился в нее глазами и энергично принялся за свои ногти. Лучистые глаза Беренди стали еще лучистее.
Зина мельком окинула сестру, гостей, и удовольствие пробежало по ее лицу. Ей был приятен и эффективный выход сестры, и, может быть, и то, что Семенов и Рыльский остались при ней. Это она почувствовала сразу по свойству женской натуры. Почувствовала это и мать и, оставив дочь возле Корнева, принялась за Долбу.
Долба горячо и уверенно говорил с ней о притеснениях урядников в деревне. Аглаида Васильевна никогда не предполагала, чтобы урядники были таким злом. У нее у самой именье… Он сам откуда? Недалеко от ее имения? Вот как! Очень приятно. Летом, она надеется…
— Очень приятно, — говорил Долба, смеялся и шаркал ногами.
Только он ведь медведь, простой деревенский медведь, он боится быть скучным, неинтересным гостем.
Аглаида Васильевна на мгновение опустила глаза, легкая усмешка пробежала по ее лицу, она посмотрела на сына и заговорила о том, как быстро идет время и как странно ей видеть таким большим своего сына. Он совсем почти большой, шутка сказать, через каких-нибудь два года уже в университете. Долба слушал, смотрел на Аглаиду Васильевну и весело думал: «Ловкая баба».
Семенов устроился, наладился, вытянул руку, и по зале понеслись твердые звуки скрипки вперемежку с мягкой мелодичной игрой Зинаиды Николаевны.
— Хорошо Зинаида Николаевна играет, — похвалил Рыльский.
Зинаида Николаевна вспыхнула, а Семенов сосредоточенно кивнул головой, продолжая выводить ровные твердые звуки.
— А вы играете? — спросил Корнев, заглядывая в глаза Наташи.
— Плохо, — робко, обжигая взглядом, ответила Наташа так, как будто просила извинения у Корнева. Корнев опять принялся за ногти и чувствовал себя особенно хорошо.
Вечер прошел незаметно и оживленно. Аглаида Васильевна с большим тактом сумела позаботиться о том, чтобы никому не было скучно: было и свободно, но в то же время чувствовалась какая-то незаметная, хотя и приятная рука.
С приездом последнего гостя, Дарсье, сразу очаровавшего всех непринужденностью своих изящных манер, совершенно неожиданно вечер закончился танцами: танцевали Дарсье, Рыльский и Семенов. Даже танцевали мазурку, причем Рыльский прошелся так, что вызвал общий восторг.
Наташа сперва не хотела танцевать.
— Отчего же? — иронически убеждал ее Корнев. — Вам это необходимо… Вот года через три начнете выезжать, там… ну, как все это водится.
— Я не люблю танцев, — отвечала Наташа, — и никогда выезжать не буду.
— Вот как… отчего ж это?
— Так… не люблю…
Но в конце концов и Наташа пошла танцевать.
Ее тоненькая, стройная фигурка двигалась неуверенно по зале, торопливо забегая вперед, а Корнев смотрел на нее и сосредоточеннее обыкновенного грыз свои ногти.
— Н-да… — протянул он рассеянно, когда Наташа опять села возле него.
— Что да? — спросила она.
— Ничего, — нехотя ответил Корнев. Помолчав, он сказал: — Я все вот хотел понять, в чем тут удовольствие в танцах… Я, собственно, не против движений еще более диких, но… это удобно на воздухе где-нибудь, летом… знаете, находит вот этакое настроение шестимесячного теленка… видали, может, как, поднявши хвост… Кажется, я употребляю выражения, не принятые в порядочном обществе…
— Что тут непринятого?
— Тем лучше в таком случае… Так вот и я иногда бываю в таком настроении…
— Бывает, бывает, — вмешался Долба, — и тогда мы его привязываем на веревку и бьем.
Долба показал, как они бьют, и залился своим мелким смехом. Но, заметив, что Корневу что-то не понравилось, он смутился и деловым и в то же время фамильярным голосом спросил:
— Послушай, брат, а не пора ли нам и убираться?
— Рано еще, — вскинула глазами Наташа на Корнева.
— Да что тебе, — ответил Корнев, — сидишь и сиди.
— Ну что ж: кутить так кутить…
Корнев не жалел больше о потерянном вечере.
Уже когда собирались расходиться, Берендя вдруг выразил желание сыграть на скрипке, и сыграл так, что Корнев шепнул Долбе:
— Ну, если б теперь луна да лето: тут бы все и пропали…
На обратном пути все были под обаянием проведенного вечера.
— Да ведь маменька-то, черт побери, — кричал Долба, — старшая сестра: глаза-то, глаза. Ах, черт… глаза у них у всех…
— Ах, умная баба, — говорил Корнев. — Ну, баба…
— Да-да… — соглашался Рыльский. — Наш-то под каблучком.
— Та-а-кая тюря!
И Долба, приседая, залился своим мелким смехом. Ему вторил веселый молодой хохот остальной компании и далеко разносился по сонным улицам города.
У Карташевых долго еще сидели в этот вечер. В гостиной продолжали гореть лампы под абажурами, мягко оттеняя обстановку. Зина, Наташа и Тёма сидели, полные ощущения вечера и гостей, которые еще чувствовались в комнатах.
Зина хвалила Рыльского, его манеру, его находчивость, остроумие; Наташе нравился Корнев и даже его манера грызть ногти. Тёме нравилось все, и он жадно ловил всякий отзыв о своих товарищах.
— У Дарсье и Рыльского больше других видно влияние порядочной семьи, — говорила Аглаида Васильевна.
Карташев слушал, и в первый раз с этой стороны освещались пред ним его товарищи: до сих пор мерило было другое, и между ними всегда выдвигался и царил Корнев.
— У Семенова натянутость некоторая, — продолжала Аглаида Васильевна.
— Мама, ты заметила, как Семенов ходит? — быстро спросила Наташа, и, немного расставив руки, вывернув носки внутрь, она пошла, вся поглощенная старанием добросовестно представить себе в этот момент Семенова.
— А твой Корнев вот так грызет ногти! — И Зина карикатурно сгорбилась в три погибели, изображая Корнева.
Наташа внимательно, с какой-то тревогой следила за Зиной и вдруг, весело рассмеявшись, откидывая свою косу, сказала:
— Нет, не похож…
Она решительно остановилась.
— Вот…
Она немного согнулась, уставила глаза в одну точку и раздумчиво поднесла свой маленький ноготок к губам: Корнев, как живой, появился между разговаривавшими.
Зина вскрикнула: «Ах! как похож!» Наташа весело рассмеялась и сразу сбросила с себя маску.
— Надо, Тёма, стараться держать себя лучше, — сказала Аглаида Васильевна, — ты страшно горбишься… Мог бы быть эффектнее всех своих товарищей.
— Ведь Тёма, если б хорошо держался, был бы очень представительный… — подтвердила Зина. — Что ж, правду сказать, он очень красив: глаза, нос, волосы…
Тёма конфузливо горбился, слушал с удовольствием и в то же время неприятно морщился.
— Ну, что ты, Тёма, точно маленький, право… — заметила Зина. — Но все это у тебя, как начнешь горбиться, точно пропадает куда-то… Глаза делаются просительными, точно вот-вот копеечку попросишь…
Зина засмеялась. Тёма встал и заходил по комнате. Он мельком взглянул на себя в зеркало, отвернулся, пошел в другую сторону, незаметно выпрямился и, направившись снова к зеркалу, мельком заглянул в него.
— А как ловко танцевать с Рыльским! — воскликнула Зина. — Не чувствуешь совсем…
— А с Семеновым я все сбивалась, — сказала Наташа.
— Семенову непременно надо от двери начинать. Он ничего себе танцует… с ним удобно… только ему надо начать… Дарсье отлично танцует.
— У тебя очень милая манера, — бросила мать Зине.
— Наташа тоже хорошо танцует, — похвалила Зина, — только немножко забегает…
— Я совсем не умею, — ответила Наташа, покраснев.
— Нет, ты очень мило, только торопиться не надо… Ты как-то всегда прежде кавалера начинаешь… Вот, Тёма, не хотел учиться танцевать, — закончила Зина, обращаясь к брату, — а если бы тоже танцевал, как Рыльский.
— А ты бы мог хорошо танцевать, — сказала Аглаида Васильевна.
У Тёмы в воображении представился он сам, танцующий, как Рыльский: он даже почувствовал его pince-nez на своем носу, оправился и усмехнулся.
— Вот ты в эту минуту на Рыльского был похож, — вскрикнула Зина и предложила: — Давай, Тёма, я тебя сейчас выучу польку. Мама, играй.
И неожиданно, под музыку Аглаиды Васильевны, началась дрессировка молодого медвежонка.
— Раз, два, три, раз, два, три! — отсчитывала Зина, приподняв кончик платья и проделывая перед Тёмой па польки.
Тёма конфузливо и добросовестно подпрыгивал. Наташа, сидя на диване, смотрела на брата, и в ее глазах отражались и его конфузливость, и жалость к нему, и какое-то раздумье, а Зина только изредка улыбалась, решительно поворачивая брата за плечи, и приговаривала:
— Ну, ты, медвежонок!
— Ой, ой, ой! Четверть первого: спать, спать! — заявила Аглаида Васильевна, поднявшись со стула, и, осторожно опустив крышку рояля, потушила свечи.
Жизнь шла своим чередом. Компания ходила в класс, кое-как готовила свои уроки, собиралась друг у друга и усиленно читала, то вместе, то каждый порознь.
Карташев не отставал от других. Если для Корнева чтение было врожденною потребностью в силу желания осмыслить себе окружающую жизнь, то для Карташева чтение являлось единственным путем выйти из того тяжелого положения «неуча», в каком он себя чувствовал.
Какой-нибудь Яковлев, первый ученик, ничего тоже не читал, был «неуч», но Яковлев, во-первых, обладал способностью скрывать свое невежество, а во-вторых, его пассивная натура и не толкала его никуда. Он стоял у того окошечка, которое прорубали ему другие, и никуда его больше и не тянуло. Страстная натура Карташева, напротив, толкала его так, что нередко действия его получали совершенно непроизвольный характер. С такой натурой, с потребностью действовать, создавать или разрушать — плохо живется полуобразованным людям: demi-instruit — double sot,[52] — говорят французы, и Карташев достаточно получил ударов на свою долю от корневской компании, чтоб не стремиться страстно, в свою очередь, выйти из потемок, окружавших его. Конечно, и читая, по множеству вопросов он был еще, может быть, в большем тумане, чем раньше, но он уже знал, что он в тумане, знал путь, как выбираться ему понемногу из этого тумана. Кое-что уж было и освещено. Он с удовольствием жал руку простого человека, и сознание равенства не гнело его, как когда-то, а доставляло наслаждение и гордость. Он не хотел носить больше цветных галстуков, брать с туалета матери одеколон, чтоб надушиться, мечтать о лакированных ботинках. Ему даже доставляло теперь особенное удовольствие — неряшливость в костюме. Он с восторгом прислушивался, когда Корнев, считая его своим уже, дружески хлопал его по плечу и говорил за него на упрек его матери:
— Куда нам с суконным рылом!
Карташев в эту минуту был бы очень рад иметь самое настоящее суконное рыло, чтоб только не походить на какого-нибудь франтоватого Неручева, их соседа по имению.
Компания после описанного вечера, как ни весело провела время, избегала под разными предлогами собираться в доме Аглаиды Васильевны. Аглаиду Васильевну это огорчало, огорчало и Карташева, но он шел туда, куда шли все.
— Нет, я не сочувствую вашим вечерам, — говорила Аглаида Васильевна, — учишься ты плохо, для семьи стал чужим человеком.
— Чем же я чужой? — спрашивал Карташев.
— Всем… Прежде ты был любящим, простым мальчиком, теперь ты чужой… ищешь недостатки у сестер.
— Где же я их ищу?
— Ты нападаешь на сестер, смеешься над их радостями.
— Я вовсе не смеюсь, но если Зина видит свою радость в каком-нибудь платье, то мне, конечно, смешно.
— А в чем же ей видеть радость? Она учит уроки, идет первой и полное право имеет радоваться новому платью.
Карташев слушал, и в душе ему было жаль Зину. В самом деле: пусть радуется своему платью, если оно радует ее. Но за платьем шло что-нибудь другое, за этим опять свое, и вся сеть условных приличий снова охватывала и оплетала Карташева до тех пор, пока он не восставал.
— У тебя все принято, не принято, — горячо говорил он сестре, — точно мир от этого развалится, а все это ерунда, ерунда, ерунда… яйца выеденного не стоит. Корнева ни о чем этом не думает, а дай бог, чтоб все такие были.
— О-о-о! Мама! Что он говорит?! — всплескивала руками Зина.
— Чем же Корнева так хороша? — спрашивала Аглаида Васильевна. — Учится хорошо?
— Что ж учится? Я и не знаю, как она учится.
— Да плохо учится, — с сердцем пояснила Зина.
— Тем лучше, — пренебрежительно пожимал плечами Карташев.
— Где же предел этого лучше? — спрашивала Аглаида Васильевна, — быть за неспособность выгнанной из гимназии?
— Это крайность: надо учиться середка наполовинку.
— Значит, твоя Корнева середка наполовинке, — вставляла Зина, — ни рыба ни мясо, ни теплое ни холодное — фи, гадость!
— Да это никакого отношения не имеет ни к холодному, ни к теплому.
— Очень много имеет, мой милый, — говорила Аглаида Васильевна. — Я себе представляю такую картину: учитель вызывает: «Корнева!» Корнева выходит. «Отвечайте!» — «Я не знаю урока». Корнева идет на место. Лицо у нее при этом сияет. Во всяком случае, вероятно, довольное, пошлое. Нет достоинства!
Аглаида Васильевна говорит выразительно, и Карташеву неприятно и тяжело: мать сумела в его глазах унизить Корневу.
— Она много читает? — продолжает мать.
— Ничего она не читает.
— И не читает даже…
Аглаида Васильевна вздохнула.
— По-моему, — грустно говорит она, — твоя Корнева пустенькая девчонка, к которой только потому нельзя относиться строго, что некому указать ей на ее пустоту.
Карташев понимает, на что намекает мать, а скрепя сердце принимает вызов:
— У нее мать есть.
— Перестань, Тёма, говорить глупости, — авторитетно останавливает мать. — Ее мать такая же неграмотная, как наша Таня. Я сегодня тебе одену Таню, и она будет такая же, как и мать Корнева. Она, может быть, очень хорошая женщина, но и эта самая Таня при всех своих достоинствах все-таки имеет недостатки своей среды, и влияние ее на свою дочь не может быть бесследным. Надо уметь различать порядочную, воспитанную семью от другой. Не для того дается образование, чтоб в конце концов смешать в кашу все то, что в тебя вложено поколениями.
— Какими поколениями? Все от Адама.
— Нет, ты умышленно сам себя обманываешь; твои понятия о чести тоньше, чем у Еремея. Для него не доступно то, что понятно тебе.
— Потому что я образованнее.
— Потому что ты воспитаннее… Образование одно, а воспитание другое.
Пока Карташев задумывался перед этими новыми барьерами, Аглаида Васильевна продолжала:
— Тёма, ты на скользком пути, и если твои мозги сами не будут работать, то никто тебе не поможет. Можно выйти пустоцветом, можно дать людям обильную жатву… Только ты сам и можешь помочь себе, и тебе больше, чем кому-нибудь, грех: у тебя семья такая, какой другой ты не найдешь. Если в ней ты не почерпнешь сил для разумной жизни, то нигде и никто их не даст тебе.
— Есть что-то выше семьи: общественная жизнь.
— Общественная жизнь, мой милый, это зал, а семья — это те камни, из которых сложен этот зал.
Карташев прислушивался к таким разговорам матери, как удаляющийся путник слушает звон родного колокола. Он звенит и будит душу, но путник идет своей дорогой.
Карташеву и самому теперь приятно было, что не у него собирается компания. Он любил мать, сестер, признавал все их достоинства, но душа его рвалась туда, где весело и беззаботно авторитетная для самих себя компания жила жизнью, какой хотела жить. Утром гимназия, после обеда уроки, а вечером собрания. Не для пьянства, не для кутежа, а для чтения. Аглаида Васильевна скрепя сердце отпускала сына.
Карташев уже раз навсегда завоевал себе это право.
— Я не могу жить, чувствуя себя ниже других, — сказал он матери с силой и выразительностью, — а если меня заставят жить иной жизнью, то я сделаюсь негодяем: я разобью свою жизнь…
— Пожалуйста, не запугивай, потому что я не из пугливых.
Но тем не менее с тех пор Карташев, уходя из дому, только заявлял:
— Мама, я иду к Корневу.
И Аглаида Васильевна обыкновенно с неприятным ощущением только кивала головой.
IV Гимназия
В гимназии было веселее, чем дома, хотя гнет и требования гимназии были тяжелее, чем требования семьи. Но там жизнь шла на людях. В семье каждого интерес был только его, а там гимназия связывала интересы всех. Дома борьба шла глаз на глаз, и интереса в ней было мало: все новаторы, каждый порознь в своей семье, чувствовали свое бессилие, в гимназии чувствовалось такое же бессилие, но тут работа шла сообща, был полный простор критики, и никому не дороги были те, кого разбирали. Тут можно было без оглядки, чтоб не задеть больного чувства того или другого из компании, примеривать тот теоретический масштаб, который вырабатывала постепенно себе компания.
С точки зрения этого масштаба и относилась компания ко всем явлениям гимназической жизни и ко всем тем, кто представлял из себя начальство гимназии.
С этой точки зрения одни заслуживали внимания, другие — уважения, третьи — ненависти и четвертые, наконец, не заслуживали ничего, кроме пренебрежения. К последним относились все те, у которых в голове, кроме механических своих обязанностей, ничего другого не было. Их называли «амфибиями». Добрая амфибия — надзиратель Иван Иванович, мстительная амфибия — учитель математики; не добрые и не злые: инспектор, учителя иностранных языков, задумчивые и мечтательные, в цветных галстуках, гладко причесанные. Они, казалось, сами сознавали свое убожество, и только на экзаменах их фигуры обрисовывались на мгновение рельефнее, чтоб затем снова исчезнуть с горизонта до следующего экзамена. Все того же директора любили и уважали, хотя и считали его горячкой, способным сгоряча наделать много бестактностей. Но как-то не обижались на него в такие минуты и охотно забывали его резкости. Центром внимания компании были четверо: учитель латинского языка в младших классах Хлопов, учитель латинского языка в их классе Дмитрий Петрович Воздвиженский, учитель словесности Митрофан Семенович Козарский и учитель истории Леонид Николаевич Шатров.
Молодого учителя латинского языка Хлопова, преподававшего в низших классах, не любили все в гимназии. Не было большего удовольствия у старшеклассников, как толкнуть нечаянно этого учителя и бросить ему презрительно «виноват» или подарить его соответствующим взглядом. А когда он пробегал торопливо по коридору, красный, в синих очках, с устремленным вперед взглядом, то все, стоя у дверей своего класса, старались смотреть на него как можно нахальнее, и даже самый тихий, первый ученик Яковлев, раздувая ноздри, говорил, не стесняясь, услышат его или нет:
— Это он красный оттого, что насосался кровью своих жертв.
А маленькие жертвы, плача и обгоняя друг друга, после каждого урока высыпали за ним в коридор и напрасно молили о пощаде.
Насытившийся единицами и двойками учитель только водил своими опьяненными глазами и спешил, не говоря ни одного слова, скрыться в учительскую.
Нельзя сказать, чтоб это был злой человек, но вниманием его пользовались исключительно оторопелые, и по мере того как эти жертвы под его опекой пугались все больше и больше, Хлопов делался все нежнее к ним. И те, в свою очередь, благоговели перед ним и в порыве экстаза целовали ему руки. Хлопов и между учителями не пользовался симпатией, и кто из учеников заглядывал во время рекреации в щелку учительской, всегда видел его одиноко бегающим из угла в угол, с красным возбужденным лицом, с видом обиженного человека.
Он говорил быстро и слегка заикаясь. Несмотря на молодость, у него уже было порядочно отвислое брюшко.
Маленькие жертвы, умевшие плакать перед ним и целовать его руки, за глаза, пораженные, вероятно, несоответственностью его брюшка, называли его «беременной сукой».
В общем, это был тиран — убежденный и самолюбивый, про которого рассказывали, что на юбилее Каткова, когда того качали, он так подвернулся, что Катков очутился сидящим на его спине. Так и звали его поэтому в старших классах: катковский осел.
Учитель словесности, Митрофан Семенович Козарский, был маленький мрачный человек со всеми признаками злой чахотки. На голове у него была целая куча нечесаных, спутанных курчавых волос, в которые он то и дело желчно запускал свою маленькую, с пальцами врозь, руку. Он всегда носил темные, дымчатые очки, и только изредка, когда снимал их, чтобы протереть, ученики видели маленькие серые, злые, как у цепной собаки, глаза. Он и рычал как-то по-собачьи. Трудно было заставить его улыбнуться, но когда он улыбался, еще труднее было признать это за улыбку, точно кто насильно растягивал ему рот, а он всеми силами этому противился. Ученики хотя и боялись его, и зубрили исправно разные древние славянские красоты, но и пытались заигрывать с ним.
Такое заигрыванье редко сходило даром.
Однажды, как только кончилась перекличка, Карташев, считавший своею обязанностью во всем сомневаться, что, впрочем, выходило у него немного насильственно, встал и решительным, взволнованным голосом обратился к учителю:
— Митрофан Семенович! Для меня непонятно одно обстоятельство в жизни Антония и Феодосия.
— Какое-с? — сухо насторожился учитель.
— Я боюсь спросить вас, так оно несообразно.
— Говорите-с!
Козарский нервно подпер рукою подбородок и впился в Карташева.
Карташев побледнел и, не сводя с него глаз, высказал, хотя и путано, но в один залп, свои подозрения в том, что в назначении боярина Федора было пристрастие.
По мере того как он говорил, брови учителя подымались все выше и выше. Карташеву казалось, что на него смотрят не очки, а темные впадины чьих-то глаз, страшных и таинственных. Ему вдруг сделалось жутко от своих собственных слов. Он уж рад был бы и не говорить их, но все было сказано, и Карташев, замолчав, подавленный, растерянный, глупым, испуганным взглядом продолжал смотреть в страшные очки. А учитель все молчал, все смотрел, и только ядовитая гримаса сильнее кривила его губы.
Густой румянец залил щеки Карташева, и мучительный стыд охватил его. Наконец Митрофан Семенович заговорил тихо, размеренно, и слова его закапали, как кипяток, на голову Карташева:
— До такой гадости… до такой пошлости может довести человека желанье вечно оригинальничать…
Класс завертелся в глазах Карташева. Половина слов пролетела мимо, но довольно было и тех, которые попали в его уши. Ноги подкосились, и он сел, наполовину не сознавая себя. Учитель нервно, желчно закашлялся и схватился своей маленькой, растрепанной рукой за впалую грудь. Когда припадок прошел, он долго молча ходил по классу.
— В свое время в университете с вами подробно коснутся того печального явления в нашей литературе, которое вызвало и вызывает такое шутовское отношение к жизни.
Намек был слишком ясен и слишком обидным показался для Корнева.
— История нам говорит, — не утерпел он, бледнея и подымаясь с перекосившимся лицом, — что многое из того, что современникам казалось шутовским и не стоящим внимания, в действительности оказывалось совсем другим.
— Ну-с, а это не окажется, — круто повернул к нему свои темные очки учитель. — И не окажется по тому по самому, что это — история, а не передержка. Ну-с, во всяком случае, это не современная тема. Что задано?
Учитель погрузился в книгу, но сейчас же оторвался и снова заговорил:
— Мальчишеству нет места в истории. Пятьдесят лет тому назад живший поэт для понимания требует знания эпохи, а не выдергиванья его из нее и привлечения в качестве подсудимого на скамью современности.
— Но стихи этого поэта «Подите прочь»[53] мы, современники, учим на память…
Митрофан Семенович высоко поднял брови, оскалил зубы и молча смотрел, как скелет в синих очках, на Корнева.
— Да-с, учите… должны учить… и если не будете знать, получите единицу… И не вашей-с компетенции это дело.
— Может быть, — вмешался Долба, — мы не компетентны, но хотим быть компетентными.
— Ну-с, Дарсье! — вызвал учитель.
Долба встретился глазами с Рыльским и пренебрежительно потупился.
Когда урок кончился, Карташев сконфуженно поднялся и вытянулся.
— Что, брат, отбрил тебя? — добродушно хлопнул его по плечу Долба.
— Отбрил, — неловко усмехнулся Карташев, — черт с ним.
— Да не стоит с ним и спорить, — согласился Корнев. — Что ж это за приемы? неграмотные, мальчишки… А если бы только его грамотой ограничивались, так были бы грамотные?
— Положим… — начал было своим обычным авторитетным тоном Семенов.
— Пожалуйста, не клади, — весело перебил его Рыльский, — потому что положишь и не подымешь.
Учитель истории Леонид Николаевич Шатров давно завоевал себе популярность между учениками.
Он поступил учителем в гимназию как раз в тот год, когда описываемая компания перешла в третий класс.
И своей молодостью, и мягкими приемами, и тем одухотворенным, что так тянет к себе молодые, нетронутые сердца, Леонид Николаевич постепенно привлек к себе всех, так что в старших классах ученики относились к нему и с уважением и с любовью. Одно огорчало их, что Леонид Николаевич славянофил, хотя и не «квасной», как пояснял Корнев, а с конфедерацией славянских племен, с Константинополем во главе. Это смягчало несколько тяжесть его вины, но все-таки компания становилась в тупик: не мог же он не читать Писарева, а если читал, то неужели же он так ограничен, что не понял его? Как бы то ни было, но ему извиняли даже славянофильство и урок его всегда ожидался с особым удовольствием.
Появление его неказистой фигуры, с большим широким лбом, длинными прямыми волосами, которые он то и дело закладывал за ухо, с умными, мягкими, карими глазами, всегда как-то особенно возбуждало учеников.
И его «пытали». То книжку Писарева нечаянно забудут на столе, то кто-нибудь пустит вскользь на тему из области общих вопросов, а то выскажет и связное соображение. Учитель выслушает, усмехнется, пожмет плечами и скажет:
— Сократитесь, почтеннейший!
А то заметит:
— Экие еще ребята!
И так скажет загадочно, что ученики не знают, радоваться им или печалиться, что они еще ребята.
Леонид Николаевич очень любил свой предмет. Любя, он заставлял и соприкасавшихся с ним любить то, что любил сам.
В тот урок, когда он, сделав перекличку, скромно подымался и, закладывая прядь волос за ухо, говорил, спускаясь с своего возвышения: «Я сегодня буду рассказывать», — класс превращался в слух и готов был слушать его все пять уроков подряд. И не только слушали, но и аккуратно записывали все его выводы и обобщения.
Манера говорить у Леонида Николаевича была какая-то особенная, захватывавшая. То, расхаживая по классу, увлеченный, он группировал факты, для большей наглядности точно хватая рукой их в кулак своей другой руки, то переходил к выводам и точно вынимал их из зажатого кулака взамен тех фактов, которые положил туда. И всегда получался ясный и логичный вывод, строго обоснованный.
В рамках научной постановки вопроса, более широкой, чем программа гимназического курса, ученики чувствовали себя и удовлетворенными и польщенными. Леонид Николаевич пользовался этим и организовал добровольную работу. Он предлагал темы, и желающие брались, руководствуясь указанными им источниками и своими, если боялись одностороннего освещения вопроса.
Так, в шестом классе одну тему — «Конфедерация славянских племен в удельный период» — долго никто не хотел брать. Решился наконец Берендя, выговорив себе право, что если, после знакомства с указанным учителем главным источником, Костомаровым, постановка вопроса ему не понравится, то он волен прийти к другому выводу.
— Обоснованному? — спросил Леонид Николаевич.
— Ко-конечно, — прижал Берендя свои пальцы к груди и поднялся, по обыкновению, на носки.
Однажды Леонид Николаевич пришел в класс против обыкновения расстроенный и огорченный.
Новый попечитель, осмотрев гимназию, остался недоволен некоторой распущенностью учеников и недостаточностью фактических знаний.
Между другими был вызван к попечителю и Леонид Николаевич, и прямо с объяснения, очевидно неблагоприятного для него, он пришел в класс.
Ученики не сразу заметили скверное расположение духа учителя.
Сделав перекличку, Леонид Иванович вызвал Семенова.
Ученики надеялись, что сегодняшний урок пройдет в рассказе.
Разочарование было неприятное, и все со скучными лицами слушали ответ Семенова.
Семенов тянул и старался выехать на общих местах.
Леонид Николаевич, наклонив голову, слушал, скучный, с болезненным лицом.
— Год? — спросил он, заметив, что Семенов уклонился от указания года.
Семенов сказал первый, подвернувшийся ему на язык, и соврал, конечно.
— Храбро, но Георгиевского креста не получите, — заметил полураздраженно, полушутя Леонид Николаевич.
— Он его получит при взятии Константинополя, — вставил Рыльский.
Леонид Николаевич нахмурился и опустил глаза.
— Никогда не получит, — задорно отозвался Карташев с своего места, — потому что федерация славянских племен с Константинополем во главе — неосуществимая ерунда.
— Вы, почтеннейший, сократитесь, — сказал Леонид Николаевич, поднимая на Карташева загоревшиеся глаза.
Карташев сконфузился и замолчал, но Корнев вступился за Карташева. Он проговорил язвительно и едко:
— Хороший способ полемизировать!
Леонид Николаевич побагровел, и жилы налились на его висках. Некоторое время длилось молчание.
— Корнев, станьте без места.
С третьего класса Леонид Николаевич никого не подвергал такому унизительному наказанию.
Корнев побледнел, и лицо его перекосилось.
Гробовое молчание воцарилось в классе.
— Я не стану, — ответил замогильным голосом Корнев, приподымаясь с места.
Опять все смолкло. Что-то страшное надвинулось и вот-вот должно было воплотиться в какой-то непоправимый факт. Все напряженно ждали. Леонид Николаевич молчал.
— В таком случае прошу вас выйти из класса, — проговорил он, не поднимая глаз.
Точно камень свалился с плеч у каждого.
— Я не считаю себя виноватым, — заговорил Корнев. — Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что я не сказал ничего такого, чего бы вы не разрешили мне сказать в другое время. Но если вы признаете меня виноватым, то я пойду…
Корнев начал пробираться к выходу.
— Начертите карту Древней Греции, — вдруг сказал ему Леонид Николаевич, указывая на доску, когда Корнев проходил мимо него.
Вместо наказания Корнев принялся вырисовывать на доске заданное.
— Карташев! Причины и повод крестовых походов.
Это была благодарная тема.
Карташев по Гизо изложил обстоятельно причины и повод крестовых походов.
Леонид Николаевич слушал, и, по мере того как говорил Карташев, с лица его сбегало напряженное, неудовлетворенное чувство.
Карташев хорошо владел речью и нарисовал яркую картину безвыходного экономического положения Европы как результат произвола, насилия и нежелания своевольных вассалов считаться с назревшими нуждами народа… Приведя несколько примеров обострившихся до крайности отношений между высшим и низшим сословиями, он перешел к практической стороне дела: к поводу и дальнейшему изложению событий.
Леонид Николаевич слушал оживленную речь Карташева, смотрел в его возбужденно горевшие глаза от гордого сознания осмысленности и толковости своего ответа, — слушал, и им овладевало чувство, может быть, схожее с тем, какое испытывает хороший наездник, обучая горячую молодую лошадь и чуя в ней ход, который в будущем прославит и лошадь и его.
— Ну-с, прекрасно, — с чувством заметил Леонид Николаевич, — довольно.
— Рыльский, экономическое состояние Франции при Людовике Четырнадцатом.
В речи Рыльского не было тех ярких красок и переливов, какими красиво сверкала речь Карташева. Он говорил сухо, сжато, часто обрывал свои периоды звуком «э», вообще говорил с некоторым усилием. Но в группировке фактов, в наслоении их чувствовалась какая-то серьезная деловитость, и впечатление картины получалось не такое, может быть, художественное, как у Карташева, но более сильное, бьющее фактами и цифрами.
Леонид Николаевич слушал, и чувство удовлетворения и в то же время какой-то тоски светилось в его глазах.
— Кончил, — заявил Корнев.
Леонид Николаевич повернулся, быстро осмотрел исписанную им доску и сказал:
— Благодарю вас… садитесь.
Совершенно особого рода отношения существовали между учениками и учителем латинского языка Дмитрием Петровичем Воздвиженским.
Это был уж немолодой, с сильной проседью, красноносый человек, сутуловатый и сгорбленный, с голубыми глазами цвета нежного весеннего неба, составлявшими резкий контраст с угреватым лицом и щетинистыми, коротко подстриженными на щеках и бороде волосами. Эти волосы торчали грязной седоватой щетиной, а большие усы шевелились, как у таракана. Вообще «Митя» был неказист с виду, часто приходил в класс выпивши и обладал способностью действовать на своих учеников так, что те сразу превращались в первоклассников-мальчишек. И Писарев, и Шелгунов, и Щапов, и Бокль, и Дарвин сразу забывались на те часы, когда бывали уроки латинского языка.
Никому не было дела до политических убеждений Мити, но много дела было до его красного большого носа, маленьких серых глаз, которые по временам вдруг делались очень большими, до его сутуловатой фигуры.
Еще издали заметивший его идущим по коридору влетал в класс с радостным криком:
— Идут!!
В ответ раздавался дружный рев сорока голосов. Подымалось вавилонское столпотворение: всякий по-своему, как хотел, спешил выразить свою радость. Ревели по-медвежьи, лаяли по-собачьи, кричали петухами, бил барабан. От избытка чувств вскакивали на скамьи, становились на голову, лупили друг друга по спинам, жали масло.
В дверях показывалась фигура учителя, и все мгновенно стихало, а затем, в такт его походки, все тихо, дружно приговаривали:
— Идут, идут, идут…
Когда он всходил на кафедру и останавливался вдруг у стола, все враз отрывочно вскрикивали:
— Пришли!
А когда он опускался на стул, все дружно кричали:
— И сели!
Водворялось выжидательное молчание. Нужно было выяснить вопрос: пьян Митя или нет?
Учитель принимал суровую физиономию и начинал щуриться. Это был хороший признак, и класс радостно, но нерешительно шептал:
— Щурится.
Вдруг он широко раскрывал глаза. Сомнения не было.
— Выкатил!! — раздавался залп всего класса.
Начиналась потеха.
Но учитель не всегда бывал пьян, и тогда при входе он сразу обрывал учеников, говоря скучным и разочарованным голосом:
— Довольно.
— Довольно, — отвечал ему класс и так же, как он, махал ручкой.
Затем следовало относительное успокоение, так как учитель хотя и был близорук, но так знал голоса, что, как бы ученики их ни меняли, всегда безошибочно угадывал виновника.
— Семенов, запишу, — отвечал он обыкновенно на какой-нибудь крик совы.
Если Семенов не унимался, то учитель и записывал его на лоскутке бумажки, причем говорил:
— Дайте мне клочок бумажки, — я вас запишу.
А класс на все лады повторял:
— Дайте мне клочок бумажки, — я вас запишу.
И все наперерыв спешили подать ему требуемое с тою разницею, что если он был трезв, то подавали бумагу, а если пьян, то несли, что могли: книги, шапки, перья — одним словом, все, только не бумагу.
Услыхали ученики, что учитель получил чин статского советника. В ближайший урок никто его иначе не называл, как «ваше превосходительство»… Причем каждый раз, как он собирался что-нибудь сказать, дежурный обращался к классу и испуганным шепотом говорил:
— Тс!.. Его превосходительство хотят говорить.
Известие, что Митя — жених, вызвало в учениках еще больший восторг. Это известие пришло как раз перед его уроком. Даже невозмутимый Яковлев, первый ученик, и тот поддался.
Рыльский согнул немного коленки, сгорбился, надул лицо и, приставив палец к губам, тихо, медленно, как надувшийся индюк, стал ходить, изображая Митю и приговаривая низким басом:
— Жених.
— Господа, надо почтить Митю, — предложил До лба.
— Надо, надо!
— Почтить Митю!
— Почтить! — подхватили со всех сторон и с жаром приступили к обсуждению программы празднества.
Решено было избрать депутацию, которая бы передала учителю поздравления класса. Выбрали Яковлева, Долбу, Рыльского и Берендю. Карташева забраковали по той причине, что он не выдержит и все дело испортит. Все было готово, когда в конце коридора появилась знакомая сутуловатая фигура учителя.
Долгополый форменный сюртук ниже колен, конусом вниз какие-то казацкие штаны, сверток под мышкой, густые волосы, щетина на щеках, колючая борода, торчащие усы и вся нахохлившаяся фигура учителя производила впечатление помятого после драки петуха. Когда он вошел, все чинно встали, и в классе воцарилась мертвая тишина.
Всех так и подмывало рявкнуть, потому что Митя был интереснее обыкновенного. Он шел, нацелившись, прямо к столу, неровно, быстро, стараясь соблюсти достоинство и стремительность в достижении цели, шел так, точно боролся с невидимыми препятствиями, боролся, одолевал и победоносно подвигался вперед.
Было очевидно, что на завтраке успели усердно поздравить жениха.
Лицо его было краснее обыкновенного: угри, налитый красный нос так и блестели.
— Просто хоть воду жми, — весело, громко заметил Долба, пожимая плечами.
Учитель усиленно заморгал, на мгновение задумался, уставившись в окно, и проговорил:
— Садитесь.
— Не можем, — ответил ему класс почтительным шепотом.
Митя опять задумался, выкатил глаза, замигал и повторил:
— Пустое, садитесь.
Тихий стон умирающих от нестерпимых судорог смеха сорока человек пронесся по классу.
С задних скамеек поднялись четыре выборных для поздравления депутата. Все они шли, каждый отдельно, по четырем проходам к учительскому месту, чинно и торжественно.
Учитель щурился, они шли, а класс, замирая, наблюдал.
Лучше других был Яковлев. Он священнодействовал. На его лице было написано такое величественное, несокрушимое достоинство, такое серьезное проникновение своей ролью и в то же время так коварно раздувались его ноздри, что без смеха на него нельзя было смотреть.
У Долбы получалось нечто неестественное, натянутое, желание разодолжить. Рыльский хотел быть актером и зрителем, к своей роли относился недостаточно серьезно. Долговязый Берендя шагал слишком невдохновенно своей обычной походкой человека, которого то и дело толкают в шею.
Когда депутаты вышли вперед скамеек, они остановились, выровнялись в одну линию и все враз, круто повернувшись лицом к классу, низко поклонились товарищам. Класс чинно и торжественно ответил своим уполномоченным таким же поклоном.
Митя по-прежнему только щурился на все эти загадочные действия и внимательно наблюдал то кланявшихся депутатов, то отвечавших им товарищей.
Откланявшись классу, депутаты, по два в ряд друг против друга, поклонились один другому сперва прямо, а затем накрест.
Новым маневром депутаты, четыре в ряд, стояли уже перед учителем и низко, почтительно кланялись ему в пояс. Приходилось волей-неволей выйти из роли наблюдателя.
Учитель сделал какое-то движение, среднее между поклоном и кивком головы, как бы говорившим: «Ну, положим… что ж дальше?»
Яковлев, слегка прокашлявшись, раздувая ноздри, начал:
— Дмитрий Петрович! товарищи поручили нам благодарить вас за честь, которую вы оказали одному из наших товарищей, вступая с ним в родство. Класс счастлив, узнав о вашем браке, и преподносит вам свои искренние поздравления.
— О да, искренние и самые сердечные поздравления, — пробасил кто-то.
— Кви-кви! — пронеслось по классу.
— Дмитрий Петрович! — говорил Яковлев, почтительно наклоняясь к учителю и раздувая ноздри.
Учитель, успевший и выкатить и прищуриться, задумался и, махнув, по обыкновению, ручкой, произнес своим обычным голосом:
— Пустое.
— Что, собственно, пустое? — почтительно спросил Яковлев.
— Все пустое.
— То есть как? Дело идет о браке… о счастье двух нежно любящих друг друга…
— Его нос любящий, — сорвался чей-то голос.
Класс завыл.
— Господа, я не могу… — сказал Яковлев, уже захлебываясь от смеха. — Вы мне мешаете…
Он зажал рот и не то заплакал, не то засмеялся.
Началось что-то совсем выходящее из ряда обыкновенного. Точно бешеный вихрь, пропитанный пьяными парами, ворвался в класс. Вскакивали, взвизгивали, били друг друга. Толпа ошалевала. Карташев, точно обезумевший, сорвался с места и подлетел к учителю.
Учитель прищурился на него.
— Что вам угодно?
Меньше всего мог ответить Карташев, чего ему было угодно. Что-то подпирало ему бока; горло судорожно сжималось, хотелось выкинуть что-нибудь такое, чтоб и он и другие сразу лопнули от смеха.
— Мне угодно…
Какая-то молния пронизала Карташева.
— Жениться… — взвизгнул он, не помня себя, и присел к полу.
Ответ Карташева окончательно выбил учеников из колеи. Уже не стесняясь, забыв о присутствии учителя, весь класс охватился безумием Карташева.
— О-ой! Па-а-длец! — стонал Корнев, вскакивая и снова падая на скамью.
Учитель совсем ошалел.
— Вы кто? — всматриваясь, спросил он Карташева.
На секунду Карташев, приподнявшись, попытался было вдуматься в серьезность и ответственность своего положения. Но слишком уж расходилась пьяная поверхность неудержимого веселья. Новая ее волна захлестнула благоразумный порыв, и, охваченный этой волной, с новым подмывающим чувством ответственности Карташев с каким-то бесшабашным отчаянием взвизгнул:
— Я частный пристав.
Дикий вопль, рев пронесся в ответ по классу.
Учитель встал и заговорил вдруг голосом, сразу отрезвившим всех:
— Стыдитесь!
И, быстро захватив свой сверток, он вышел из класса.
Сразу оборвалось веселье, и все смотрели друг на друга, точно после крушения бешено разлетевшегося поезда.
Первое движение было чувство страха, что Митя пошел жаловаться.
Но пришел Иван Иванович и на невинный вопрос Долбы о Дмитрии Петровиче ответил:
— Заболел… домой ушел.
Значит, не пожаловался. Всех охватило вдруг раскаяние. Набросились на Карташева, стали упрекать его, что он вечно пересолит, что он испортил дело. Карташев принялся было оправдываться, передавать свои ощущения, как это все нечаянно вышло. Обвиняемый начал самым серьезным тоном, но, охваченный вдруг наплывом воспоминаний, кончил тем, что и сам, и все его судьи попадали на скамьи и зафыркали.
— Тише, господа, тише, — остановил Иван Иванович, выходя из своей задумчивости.
Урока два после этого в классе царило образцовое молчание, да и учитель приходил трезвым. Но потом Митя пришел опять выпивши и, по обыкновению, выкатив глаза, лукаво спросил, улыбаясь:
— Что ж так тихо, господа?
На это ему сначала рявкнули, а затем запели серенаду на мотив, специально для него сочиненный:
Воспеть тебя, о нос чухонский, В полночный час дерзаю я: И синь ты, нос, как свод небесный, И ал, как алая заря!«И синь» «и ал» с каким-то меланхолическим воплем подхватывал на разные голоса весь класс.
Митя внимательно выслушал и снисходительно произнес:
— Не так громко.
Конечно, никто его не послушал, и все пошло по-старому.
Чего только не предпринимало гимназическое начальство, чтоб водворить надлежащий порядок на уроках Дмитрия Петровича: оставляло без обеда и в розницу, и всем классом, ставило единицы за поведение и даже временно исключило одного, но ничто не помогало.
Было только одно средство прекратить беспорядок на уроках Дмитрия Петровича: это удалить его. Но Дмитрию Петровичу оставалось до пенсии всего два года, и были причины, почему все хотели помочь этому человеку как-нибудь дотянуть до конца свою службу. Когда случалось кому-нибудь из товарищей Дмитрия Петровича слушать восторженные рассказы учеников о проделках на его уроках, вместо веселого смеха учитель говорил с горечью:
— Эх, господа, если б вы знали этого человека… Это была звезда между нами.
Жизнь Дмитрия Петровича начиналась при счастливых условиях. Он был уже магистром, собирался жениться, как вдруг за что-то попал в крепость. Через три года он вышел оттуда. Невеста его уж была замужем за другим; он долго не мог получить никакого занятия. Прежние его покровители от него отвернулись. Он начал пить и принял единственное место, какое соглашались ему дать: место учителя латинского языка.
— Слабый человек, — говорили о нем все в один голос, — но прекрасной души и прекрасных правил.
В кругу тех, кто приходился ему по душе, Дмитрий Петрович был другим человеком, с громадным запасом знаний, остроумным, незлобивым, с ясным взглядом на жизнь европейски образованного человека. Но для учеников он был только Митя, старый, пьяный Митя, который терпеливо и весело позволял издеваться над собой, сколько кому было угодно.
V Журнал
Когда классы после вакаций только что начинались, рождество казалось таким далеким маяком среди однообразного, серого моря гимназической жизни.
Но вот и рождество: завтра сочельник и елка. Ветер гонит холодный снег по пустынным улицам и распахивает холодное форменное пальто Карташева, который один, не в обычной компании, спешит домой с последнего урока. Как быстро пролетело время. Где Данилов и Касицкий теперь? Море замерзло, вероятно. Давно, с тех пор как уехали друзья, не видал его Карташев.
Как переменилось все с тех пор. Совсем другая жизнь, другая обстановка. А Корнева? Неужели он влюблен? Да, влюблен безумно, и чего бы он не дал, чтоб быть всегда с ней, чтоб иметь право смотреть смело ей в глаза и говорить ей о своей любви. Нет, никогда не оскорбит он ее своим признанием, но он знает, что любит, любит и любит ее. А может быть, и она его любит?! Иногда она так заглядывает в глаза, что так и хочется схватить, обнять… Жарко Карташеву среди снежной метели: полурасстегнуто пальто, и, как во сне, шагает он по знакомым улицам. Давно уж он ходит по ним. И лето и зиму шагает. Какая-нибудь радостная мысль в голове свяжется с домом, на который упадет его взгляд, и этот дом и потом будит память. И мысль эта забудется, а дом все чем-то притягивает к себе. Вот на этом углу он как-то встретил ее, и она кивнула ему и улыбнулась так, как будто вдруг обрадовалась. Зачем он тогда не подошел к ней? Она оглянулась еще раз издали, и сердце его замерло и заныло, и рванулось к ней, но он испугался, что она вдруг догадается, зачем он стоит, и он быстро пошел с озабоченным лицом. Ну, а если б она и догадалась, что он любит ее? О, это была бы, конечно, такая дерзость, которую ни она, никто не простил бы ему. Узнали бы все, отказали бы от дома, а Корнев какими бы глазами посмотрел бы на него? Нет, не надо! И так хорошо: любить в своем сердце. Карташев оглянулся. Да, вот и рождество, две недели никаких уроков, на душе и пустота, и удовольствие праздника. Он всегда любил рождество, и память связывала в одно и елку, и подарки, и аромат апельсинов, и кутью, и тихий вечер, и груду лакомств. А там, на кухне, колядуют. Они приходят оттуда с своими незатейливыми лакомствами: орехи, рожки, винные ягоды, им дарят платья, вещи.
Так шло всегда, сколько он помнит себя. В ярких огнях елки и камина, сейчас же после ужина, опять вдруг вспомнится любимая кутья, и он весело бежит и возвращается с полной тарелкой, садится против камина и ест. Наташа, его поклонница, крикнет: «И я». За ней Сережа, Маня, Ася, и все опять тут с тарелками кутьи. Не выдержит и Зина. Всем весело и смешно, и мать, нарядная, довольная, ласково смотрит на них. Что ему в этом году подарят? — подумал Карташев, звоня у подъезда.
На другой день вечером ему подарили фунт табаку и табачницу. И хотя он давно уже потихоньку курил, но теперь, получивши подарок, он долго еще не решался закурить при матери. И когда закурил, то с серьезным, озабоченным лицом сейчас же сел за подаренные Сереже сказки и начал внимательно читать их. Мать улыбалась, смотрела на него и, встав, молча подошла к нему и поцеловала его в голову. Он смущенно поцеловал ей руку и опять поспешно уткнулся в книгу. Кругом было обычное возбуждение и радость всех, а он думал: «Что-то теперь делает компания?»
Как раз в это время раздался звонок, и скоро в передней послышались топанье ног и веселый, уверенный голос Корнева:
— Эй, кто в бога верует, можно колядовать.
Раздался смех остальных: Рыльского и Долбы.
Карташев обрадовался товарищам, точно вечность не видался с ними. Он бросился в переднюю. Гости вошли. Аглаида Васильевна ласково встретила их:
— Вот это мило с вашей стороны.
— Ну, и отлично, — сказал Корнев. — А мы так думали, думали, да и решили к вам.
— Пожалуйста, — подсунул Карташев свой табак гостям.
— Это что?! Разрешение? Поздравляю!
— Ведь мы, надо вам знать, с третьего класса курим.
Корнев добродушно подмигнул Аглаиде Васильевне, принимаясь за папироску.
— Очень жаль.
— Да, конечно, очень, очень жаль… А-а, наше вам…
Вошли Зина и Наташа. Хотели было играть на рояле, но Аглаида Васильевна по случаю поста не позволила.
— Что ж мы делать будем? — спросил Корнев.
— Так сидите, вот чаю напьетесь…
— Мы всегда в этот вечер Гоголя или Диккенса читаем, — сказала Наташа.
И, подумав, она прибавила:
— Давайте Гоголя читать.
— Ну что ж, Гоголя так Гоголя, — согласился Корнев.
— Вы его заставьте, — сказал Долба, — он так читает, что вы лопнете от смеха.
— Ну, какое там чтение! — сконфузился Корнев.
Но его заставили, и он читал так, что и Аглаида Васильевна вытирала слезы от смеха.
Сидели, слушали и в то же время щелкали орехи, фисташки, миндаль. Потом подали чай. Карташев разошелся на скользком вопросе о религии, и дело дошло до маленького скандала.
— Для чего, собственно, совершенство? — рассуждал, как равноправный и взрослый, Карташев. — Всякое совершенство тем совершеннее увидит зло и придет в отчаянье, отчаянье — порок. А если оно равнодушно, то это вдвое порок… Бесчувственное.
— Тёма! Как ни неприятно, а я должна тебя попросить замолчать.
Карташев сконфуженно уткнулся в свой стакан.
— Это что ж, цензура? — спросил Корнев.
— Да, цензура, — ответила твердо Аглаида Васильевна.
Рыльский пригнулся к сластям и рылся в них.
— Цензура достигает цели? — спросил он, ни к кому не обращаясь.
— Да, вполне, — сухо ответила Аглаида Васильевна.
— Гм… — Рыльский поднял голову, скользнул взглядом по лицам товарищей и, сделав серьезное лицо, опустил глаза.
Карташев обиделся на мать, посидел немного и, встав, ушел к себе в комнату.
Разговор и оживление оборвались.
Когда окончили чай, гости один за другим тоже направились в комнату Карташева.
— Ты что лежишь? — спросил его Корнев.
— Так, — нехотя ответил Карташев.
— Эх-хе-хе, покурить, что ли? Эх, табак там оставили!
Карташев позвал Таню и приказал принести табак. Посидели еще, и Рыльский предложил:
— А не пойти ли нам к Дарсье?
— Так что? — встрепенулся Долба.
— Ну, останемся, — сказал Карташев.
— Идем, — уговаривал Корнев.
Карташеву и самому хотелось.
— Неловко перед матерью.
— Ну пойди, выдумай ей что-нибудь, — сказал Рыльский, — не тебя учить.
— Вот что, — предложил Долба, — мы скажем ей, что мы по очереди решили сегодня всех обойти… были у вас, а теперь к Дарсье… Ты вот что… ты брось дуться… Мы теперь опять пойдем как ни в чем не бывало в гостиную, и ты иди, а немного погодя мы и поведем линию.
Через полчаса компания, проделав, что задумала, и захватив Карташева, уже шагала к Дарсье. Аглаиду Васильевну уговорили даже отпустить его ночевать к Дарсье, так как все решили там остаться.
— Надо вот что, — говорил Рыльский, отворачиваясь от ветра, — надо, чтоб Дарсье послал за Берендей и Вервицким.
— У! Непременно! Черт побери, устроим ночное бдение! — воскликнул Корнев.
— А может, он спит, подлец? — спросил Долба.
— Кто, Дарсье? Нашел дурака. Он спит только во время чтенья.
У Дарсье любили собираться. Он хотя жил за городом, но в его распоряжении был целый дом, прекрасно меблированный. В другом доме, рядом, жила его семья, которая в изобилии снабжала его гостей всякой едой, не исключая и водки. Компания любила пройтись по маленькой, а Берендя постоянно обнаруживал склонность повторить. При появлении водки он оживлялся, желтые глаза его весело лучились, он возбужденно поматывал головой, говорил, острил и на эти короткие мгновения делался душой компании. Вервицкий не упускал случая упрекнуть друга, предсказывая ему будущность пьяницы, но тот, весело прицеливаясь глазами в него, загадочно говорил, поднося к губам вторую рюмку:
— Дурак ты.
— Ну, уноси, уноси! — командовал Вервицкий, — и веселая, франтоватая прислуга уносила на больших серебряных подносах граненые графинчики с водкой.
Такие закуски и чай со всевозможными сортами острых сыров и вкусных печений подавались обыкновенно, когда компания, начитавшись, утомлялась и начинала чувствовать какую-то пустоту внутри.
Этот момент всегда ловко угадывал Дарсье.
— А не закусить ли, черт возьми! — вскакивал обыкновенно он первый, выходя сразу из того летаргического состояния, в какое впадал при чтении.
Это воззвание к еде всегда было так весело, такой искрой пробегало по остальным, что чтение бросалось и все спешили только полнее отдаться приятному удовлетворению своего голодного желудка.
Дарсье в описываемый вечер был на половине своих родных, где на импровизированном балу усердно танцевал с своими кузинами.
Компания не любила общества Дарсье. Это все были красивые, затянутые барышни и безукоризненные франты-кавалеры. Их встречала компания на главной улице в часы гулянья в цилиндрах и цветных перчатках и при встрече с ними пренебрежительно фыркала.
Дарсье выскочил к товарищам и радостно, пожимая им руки, говорил:
— Черт, откуда вы? Идем к матери.
Но все наотрез отказались, как он ни уговаривал.
— Если ты занят, мы уйдем? — сказал наконец Корнев.
— Кой черт, занят! Ну, хорошо… подождите… я только пойду… скажу гостям, что… что им сказать? Постой! Я скажу, что умирает… Корнев, товарищ… приехали за мной.
— Ну, валяй, — махнул рукой Корнев.
Через несколько минут Дарсье вернулся.
— Ну что?
— Плачут.
— Послушан, надо за Берендей и Вервицким послать.
— Непременно.
— Эй, ты, француз, — крикнул ему вдогонку Рыльский, — ты не забудь, что мы того… голодные.
Через час на столе стояла обычная закуска и выпивка, и холодные еще с мороза Вервицкий и Берендя уже закусывали.
Долба, расставив ноги, энергично жевал кусок сочного балыка и говорил вперемежку с едой:
— Господа… Давайте на праздниках свой журнал затеем?
Это была неожиданная, но эффектная мысль. Долба пригнулся к новому куску балыка. Корнев торопливо проглотил кусок и усиленно принялся за свои ногти. Рыльский молча внимательно ел. Задумался и Карташев, больше о том, что вот-де какая простая мысль, а ни разу не пришла ему в голову. Он точно искал глазами, не найдется ли и на его долю что-нибудь, и простое, и новенькое, и эффектное.
Берендя был весь поглощен заботой выпить третью рюмку и к предложению Долбы отнесся как-то равнодушно.
Вервицкий отозвался первый.
— Что ж, — одобрил он, — это хорошо.
— Рыло, — сказал Корнев, — с такой рожей говорит, точно у него миллион доводов сейчас посыплется. Ну, почему хорошо?
Все рассмеялись.
Но у Вервицкого было больше оснований сочувствовать, чем можно было предполагать. К общему удивлению, оказалось, что он давно уже пописывает. Для начала Вервицкий даже предложил свой рассказ под заглавием «Дворник».
— Ти-ти-ти, писатель…
Берендя в исключительные минуты лишался дара слова.
— Ти-ти-ти… — передразнил его Вервицкий. — Терпеть не могу… чего тут удивляться? Что ты дурак, так, думаешь, и все дураки?
— Вот так штука! — продолжал Берендя, незаметно протягивая руку за третьей рюмкой, — кто бы мог думать?
— Вот, ей-богу, дурак, — волновался Вервицкий.
— Смотри, смотри, — показал Долба на Берендю.
Но Берендя уж быстрым движением успел опрокинуть в рот рюмку.
— Ах ты, подлец!
И, в то время как Вервицкий тузил Берендю, Берендя, весело пригнувшись, выбирал на столе, чем бы заесть.
— Так ты писатель? — продолжал он и опять потянулся к графину.
— Убирай водку! — решительно скомандовал Вервицкий. — Горькая пьяница, пропойца! Дрянь, тряпка!
— Господа, давайте его качать! — предложил вдруг Берендя и залился подмывающим смехом.
— Да ну вас к черту, — запротестовал Долба, — давайте как следует обсуждать дело.
Мысль о журнале была одобрена. Не откладывая в долгий ящик, тут же был избран редактором Долба. Во-первых, потому, что ему первому пришла эта мысль; во-вторых, и главным образом потому, что на нем мирились все. Если бы, например, выбрать Корнева — Карташеву будет обидно. Выбрать Карташева было тоже неудобно. Карташев по-прежнему нет-нет и выпалит что-нибудь такое, что совсем не согласовалось с общим тоном; так, он стоял за независимость убеждений, и эта независимость в конце концов сводилась, по мнению партии Корнева, к тому, чтобы иметь право поменьше читать и побольше рубить сплеча, побольше говорить того, что только взбредет в голову. Рыльский не годился в редакторы опять по другим причинам. Он имел одну слабость, которую не разделял даже Корнев: был слишком поляк. Это вызывало постоянные столкновения с Семеновым, Вервицким и даже с Карташевым.
Был выяснен и материальный вопрос. Необходимые средства получались равномерным распределением расходов между участниками. Главный расход заключался в бумаге и переписке статей. Ввиду ограниченности средств решено было издавать журнал в двух экземплярах, из которых один переходил бы из рук в руки по мере прочтения, причем право держать у себя журнал ограничивалось сутками. Были намечены и отделы: беллетристический, политико-экономический, исторический, научный, критика и фельетон с картинками из общественной жизни.
Вервицкий взял на себя поставку беллетристических произведений, Долба взялся за фельетон, по историческому отделу вызвались двое: Рыльский и Берендя. Рыльский взял тему: социальные причины, вызвавшие отпадение Малороссии от Польши. Берендя остановился сперва на теме из русской истории: доказать исторически, что русская раса идет общечеловеческим путем в деле прогресса. Статья имела целью нанести окончательный и решительный удар славянофилам вообще и учителю истории, Леониду Николаевичу Шатрову, — в частности.
На праздниках несколько раз собирались по поводу журнала. Генеральное совещание было назначено у Долбы.
Карташев по дороге зашел за Корневым, и если бы не Корнев, то он так бы и остался там.
— Послушайте, Карташев, — выскочила на крыльцо сестра Корнева, — приходите после Долбы к нам чай пить.
Карташев покраснел от счастья до корней волос и голосом, ясно говорившим, что разве смерть помешает прийти, ответил:
— Приду.
— Пораньше.
— Как только кончится. Кончится скоро… уходите, а то простудитесь.
И, заглянув еще раз в глубь смотревших на него издали глазок, он скрепя сердце пошел чинно рядом с Корневым.
Долбу приятели застали сидящим за своим столом и погруженным в какие-то глубокомысленные соображения. Он рассеянно пожал им руки, толкнул небрежно лежавшую перед ним рукопись Вервицкого и проговорил озабоченно:
— Черт его знает… Для первого номера и такую неудачную штуку…
— Плохо? — спросил Корнев.
— Почему дворник, — размышлял Долба, — а не точильщик или водовоз…
Он пожал плечами.
— Фартук разве… Ничего типичного; ни быта, ни идеи… так, какие-то детские картинки… Ну вот…
Долба взял рукопись и прочел наудачу:
— «Семен любил после обеда со своим другом посидеть на завалинке, где-нибудь на улице, так, чтоб был виден заход солнца. Если при этом друзья бывали выпивши, а это случалось нередко, они тихо мурлыкали себе под нос какую-нибудь однообразную песнь и меланхолично провожали глазами опускавшееся на покой солнце…» И дальше описание заходящего солнца… третье по счету.
— Да, не завлекательно, — сказал раздумчиво Корнев.
— И вдобавок неграмотно, как только может быть…
Долба засмеялся своим мелким смехом.
— Покажи.
Корнев взял рукопись и стал просматривать ее.
— Неважное блюдо, — сказал он, возвращая назад рукопись.
Долба взял опять рукопись, уставился в нее, пожал плечами и проговорил:
— Ну, черт с ним!
Он схватил карандаш и написал под заглавием «Патологический очерк».
— Валяй. По крайней мере, редакцию ни к чему не обязывает.
— Собственно, почему же патологический?
— Да потому, что поручиться за то, что не может быть такой Семен дворником, особенно когда все мы его знаем и видим каждый раз, когда приходим к автору, — Долба фыркнул, — нельзя, а с другой стороны, и не тип это… Очевидно, патологический очерк!
— Да, конечно, — согласился Корнев.
— По крайней мере, рамка литературная.
Долба отложил рукопись Вервицкого в сторону и, придвинув слегка исписанный листок, скромно проговорил, всматриваясь в глаза Корневу и Карташеву:
— Я свой фельетон начал уже…
— А… начал… интересно послушать.
— Очень интересно, — насторожился Карташев.
— Да неважно… так, черновик.
— Ну, да уж там видно будет. Читай.
Долба смущенно рассмеялся, растрепал свои волосы, мгновение помолчал и начал:
— Фельетон… Картинки общественной жизни… «Все идет по-старому от начала времени по предопределенному пути…»
— Ты что ж, не признаешь, что путь этот изменялся и способен и впредь изменяться?
— Да, пожалуй, это не совсем удачный оборот… Да это, впрочем, для начала… надо ж с чего-нибудь… Как-то это начало все равно, что вот в купанье: разделся… попробуешь лезть в воду… одной ногой, другой… так, этак… все неловко — пока, наконец, соберешься с силами: бултых сразу…
— Конечно…
— Ну-с… «Все так же мчится на своем рысаке счастливый собственник и меньше всего думает о том, что есть миллионы людей, которые позавидовали бы не то что его жизни — жизни кучера его, жизни рысака, а даже жизни его экипажа, который приедет, и его поставят в крытый сарай, а миллионы и такого сарая не имеют. Что ж? Экипаж может испортиться, а непромокаемый плащ — человеческая кожа — не боится, как известно, ни дождя, ни ветра».
Долба оторвался и, рассмеявшись, уставился в слушателей.
— Ничего… — сказал Корнев.
Карташев был занят вопросом: мог ли бы он так написать? И, подавленный мастерством пера Долбы, он похвалил:
— Очень, очень хорошо.
— Разве? — спросил Долба и весело рассмеялся.
— Ну, валяй, валяй… Любит, чтоб хвалили… — заметил недовольно Корнев.
— Ну вот… Ну ладно…
— «А между тем вторая тысяча лет истекает с того великого момента, когда на земле раздались вечные слова братства, равенства и свободы…»
Корнев усиленно загрыз ногти и перебил автора:
— Здесь, некоторым образом, игра ума…
— Ну, так ведь я уж, конечно, так, чтоб посильнее…
Дверь отворилась, и вошли Вервицкий и Берендя.
Долба положил свою рукопись и, здороваясь с пришедшими, заявил Вервицкому:
— Твоя завтра в набор… смотри.
Вервицкий посмотрел, увидел надпись, внимательно прочел и повторил с некоторым вопросом в голосе:
— Патологический?
— Значит, если буквально, — пояснил Долба, — болезненный.
— Чем же болезненный? — немного огорчился Вервицкий.
Все рассмеялись.
Берендя принялся объяснять ему.
Но Вервицкому не понравилось его объяснение, и он нетерпеливо перебил его:
— Ти-ти-ти… терпеть не могу, когда ты лезешь не в свое дело, берешься за то, чего сам не понимаешь.
— Но… позволь, почему я не понимаю?
— Да, не понимаешь — и конец. Объясни, — обратился он к Корневу.
Корнев объяснил, стараясь облечь все в такую форму, чтоб не задеть самолюбия Вервицкого.
Вервицкий стоял, засунув руки в карманы, расставил ноги и слушал, смотря внимательно в пол.
В передаче Корнева ничего обидного для его авторского самолюбия не оказалось, и он проговорил удовлетворенно:
— Теперь понимаю… А то ти-ти-ти, ти-ти-ти, и ни черта.
— Я… я… тебе то же самое говорил, с тою разницею, что не принял твоего самолюбия, что ли…
— Ерунда… — перебил его Вервицкий, — опять ерунда…
— Да… да… какая же ерунда?
И Берендя нежно приложил пальцы к своей груди.
— А вот такая, — ответил упрямо Вервицкий.
— Ты… ты… сердишься, Гораций, значит, ты не прав, — сказал Берендя.
Вервицкий передразнил его и заключил:
— Выдернет ни к селу ни к городу и рад.
Затем, не удостаивая больше вниманием своего друга, он обратился к Долбе:
— Ты что ж, уже читал мое сочинение?
— Прочел.
— Ну что, как?
Несмотря на грубоватую решительность, в голосе Вервицкого слышались тайная тревога и страх.
— Да ведь что ж? Небольшая вещица… Да ничего.
— Я ведь ее так, между прочим, и написал, — объяснил Вервицкий. — Ну ничего, так ничего: и то добре и то в шмак… Э, и ты написал. Ну, покажи, покажи…
В это время пришли Семенов и Рыльский.
Вервицкий, схватив рукопись Долбы, уселся к окну и принялся читать ее с таким решительным и вдумчивым видом, с каким только когда-либо автор читал новую вещь своего собрата.
Началось обсуждение тем.
— Ты на чем же остановился? — обратился Долба к Карташеву, когда до него дошла очередь.
— Я, собственно, еще ни на чем не остановился.
— Что-нибудь историческое? — посмотрел Долба на Корнева.
— Отчего, собственно, историческое? — насторожился Карташев.
— Ну, что хочешь…
— Научное разве что-нибудь, — нерешительно произнес Карташев.
— Что ж из научного? — спросил Корнев. — Я думаю, этот отдел нам не по плечу… Какую научную статью мы можем написать?
— Отчего ж? — сказал Долба. — Популяризацию, например, Фохта, Молешота, Бюхнера.
— Их в русском переводе нет: по Писареву разве.
— Ну, это уж будет популяризация популяризации, — ответил огорченно Карташев.
— Я беру на себя, — заявил Корнев, — отдел критики… собственно, конечно, не критики, а сжатое изложение и некоторые соображения по части текущей литературы.
— Ну, что ж, отлично… Это красивый отдел, и у тебя выйдет. Ну, останавливайся и ты на чем-нибудь…
— Нет, я ничего не буду писать, — сказал Карташев, отчего-то вдруг обидевшись.
— Да ты чего? Ну, пиши научное…
— Нет, да я… нет.
— Послушай: да ты, может быть, критический отдел хотел… так бери, пожалуйста.
— Нет, нет…
— Да пиши… Ведь в критическом отделе могут и двое работать. Собственно даже, я думаю, для большего интереса можно и полемику устроить: один написал, а кто-нибудь, может быть, возражать станет.
— Это хорошо, — повеселел Карташев. — Ну, так вот, ты и пиши, а я тебе возражать в следующем номере буду…
— Да, может, и не придется?
— Наверно, придется.
Все рассмеялись.
— А теперь я вот что возьму, — продолжал Карташев. — Я напишу о вреде классического образования.
— С какой стороны?
— Со всех… Во-первых, теоретически докажу.
— То-то теоретически, — вставил Рыльский, — а то практически…
Все рассмеялись.
— Ты напиши, — дал совет Корнев, — что практически неудобно классическое образование в том отношении, что есть иногда опасность умереть от смеха. И знаешь: маленькую иллюстрацию к этому… Картинки…
Карташеву было обидно, что его тему вышучивают.
— Шутить так шутить, а серьезно говорить — так и давайте. Одно дело — наш Дмитрий Петрович… ничего общего здесь нет с общей постановкой классического образования.
— Да нет… тема благодарная, — согласился Корнев.
Но как он ни старался проговорить это серьезно, в голосе его чувствовалась подозрительная нотка, и Рыльский подхватил ее:
— И я тебе советую, когда уж все там изложишь, что хочешь, — привести, как последний аргумент, такой: из всех времен только у самих классиков не было классиков, а между тем они-то и являются идеалом.
— Сиречь, — перебил Долба, — надо, двигаясь вперед, стать передом не к заду…
— Я ничего не буду писать, — обиделся окончательно Карташев.
Бросили шутки, и все начали урезонивать его.
— Да ничего не хочу, — упрямо твердил он. — Не буду. Вышутили, вышутили, и пиши. Не буду.
— Послушай, ну, что ты в самом деле… Ну что ж, нельзя, значит, пошутить? Далай-лама ты, что ли?
— Не далай-лай…
Карташев как ни был обижен, но не мог не рассмеяться тому, что не мог выговорить: далай-лама.
— Рыло ты, — сказал Корнев, добродушно путая густые волосы Карташева, который после своего невольного смеха сидел с глупой физиономией, напрасно стараясь придать ей обиженный вид.
— Ну, кто серьезно вышучивал? Глупо же… Прекрасная тема, вполне современная, назревшая.
— Может ведь так, братец мой, выйти, — заметил серьезно Семенов, — так напишешь, что и классическое-то образование все к черту отменят.
Как не удерживалась компания от смеха, чтоб еще больше не огорчить Карташева, но сил не хватило, и все опять расхохотались.
— Дурачье, — проговорил, фыркая, Карташев.
— Ну, послушай… — сказал Рыльский. — Брось к черту, да и бери, что ли… Мне пора… Я должен идти сегодня с родными.
Карташев вспомнил про свое обещание сестре Корнева, ее приглашение и, окончательно развеселившись, согласился:
— Ну, хорошо, черт с вами.
— А Дарсье так и не приехал.
— Врешь, приехал, — ответил вошедший Дарсье, по обыкновению одетый с иголочки.
— Ну, а ты что берешь?
— Ему отдел мод завести, — предложил Рыльский.
И, пока все смеялись, Дарсье добродушно повторял:
— Свиньи… Право, свиньи…
— Нет, в самом деле, ты что берешь?
— В сущности, я ведь совсем не владею пером.
— Не будь скромен, — вставил Рыльский, — ни пером, ни языком.
Дарсье сконфуженно провел рукой по своему лицу:
— Не злоупотребляю, может быть.
— О-го! — ответил Рыльский и запустил руку в кудрявую шевелюру Дарсье.
— Ну, уж это пожалуйста, — Дарсье отшатнулся, — языком мели, что хочешь, а рукам воли не давай. Знаешь пословицу: jeu des mains, jeu des vilains.[54]
— По-русски это выходит, — перевел Долба, смеясь своим смехом, — у всякого человека свой гонор есть.
Однажды Карташев, взволнованный, пришел из класса домой, наскоро пообедал и заперся в кабинете.
Лежа на диване, он держал только что вышедший гимназический журнал и читал с наслаждением свою статью, переписанную четким, крупным почерком. Карташеву казалось, что это не он писал: так плавно и гладко читалось теперь написанное.
Он прочел залпом. Ему не захотелось больше ничьих статей читать, и с журналом в руках, торжествующий и смущенный, он пришел в столовую, где сидела Аглаида Васильевна с детьми: Зина пытливо вскинула глаза на брата, остановилась на мгновение на его тетради и проговорила тем разочарованным голосом, когда вперед уже знаешь, в чем дело:
— А-а, журнал…
— Покажи, — протянула руку Аглаида Васильевна.
Карташев дал ей журнал и с довольной гримасой небрежно сел на стул у стола.
Аглаида Васильевна перелистывала довольно толстую тетрадь и, остановившись на статье сына, начала ее читать.
— Мама, читай громко, — потребовала Зина.
Карташев напряженно следил за ней глазами все время, пока она читала. Иногда она улыбалась, и тогда он вскакивал и смотрел в журнал: чему именно улыбается мать.
Когда она кончила, он впился в нее глазами. Мать некоторое время молчала и наконец сказала с усмешкой:
— Глупенький ты.
Карташев не ожидал такого отношения. Он покраснел и смутился. Он спросил, стараясь быть равнодушным:
— Тебе не нравится?
Мать недоумевающе пожала плечами:
— Не-ет… ничего…
Какая-то непривычная сухость тона еще тяжелее задела Карташева.
Мать начала читать следующую статью Корнева: «Нечто о художественном».
— У него очень логически развивается мысль, — заметила она мимоходом и опять сосредоточенно погрузилась в чтение.
Кончив, она вскользь окинула взглядом сына и, задумавшись, смотрела в окно. Карташеву казалось, что она думала в это время о том, что Корнев написал прекрасную статью, а он, ее сын, написал бездарную, плохую, и ей стыдно теперь за него. Сердце Карташева тоскливо сжалось. Он сидел смущенный, растерянный и весь был охвачен мыслью, как бы хоть не заметили и не угадали его душевного состояния. Никто ничего не заметил: мать встала и вышла из комнаты. Зина, тоже вдруг потеряв интерес к его журналу, продолжала заниматься. Карташев посидел еще и, незаметно захватив журнал, ушел с ним к себе.
Там он бросил журнал на стол, а сам, улегшись на диване, долго лежал с открытыми неподвижными глазами, заложив руки за голову.
— Ну, что ж, — подавленно произнес он вслух, — не буду больше никогда писать — и конец.
И в гимназии говорили о статьях Корнева, Долбы, Беренди, но о Карташеве все молчали. Он видел это, и больное чувство мучило его каждый раз, когда речь заходила о журнале. Он старался делать равнодушное лицо и давал себе всевозможные клятвы никогда не брать пера в руки. Но часто по вечерам, когда уже все расходились спать, он садился за письменный стол и подолгу сидел над белым листом бумаги. Иногда он пробовал писать, не думая, что подвернется, и страница-другая увлекали его, но, перечитав написанное, он, испуганно оглядываясь, уничтожал рукопись.
VI Вервицкий и Берендя
Однажды Вервицкий и Берендя возвращались вместе из гостей.
Друзья шли молча.
— А не любит меня Корнев за то, что я ему правду-матку режу, — проговорил Вервицкий.
— Да ты когда резал?
— Да всегда.
Друзья опять замолчали.
— Зайдешь, что ли? — пригласил Вервицкий, подходя к воротам своего дома.
— А можно?
— Только долго не сиди и вперед уговор: больше двух папирос не дам.
— А к чаю хлеб будет?
— Этого сколько хочешь: тятькин.
Друзья, низко пригнувшись, вошли в калитку, прошли под освещенными окнами верхнего этажа, причем Берендя для чего-то даже пошел на цыпочках; затем свернули в маленький, темный проход и стали осторожно спускаться по крутой лестнице.
— Ой! — споткнулся Берендя и ухватился за плечо Вервицкого.
— Да ну!.. пусти, — ответил своим грубоватым, сиплым голосом Вервицкий и отворил дверь в низкую комнату, освещенную висячей лампой. Он быстрым пытливым взглядом обвел комнату и сейчас же что-то заметил.
— Ну, теперь поймал подлецов.
Он встал на табурет, достал с полки ящик с табаком и внимательно, долго смотрел в него. На лице его было и удовлетворение от искусно выполненного плана, и огорчение о погибшей безвозвратно горсти табаку. Его охватила злоба, он начал браниться и, наконец крикнув: «Отцу скажу!» — выскочил из комнаты.
Берендя как-то весь съежился во время этой сцены, и только когда Вервицкий ушел, он облегченно вздохнул. Рассеянно скрутив папиросу, он осторожно уселся на стул и, смотря в окно, стал пускать густые клубы дыма.
Сверху донесся сперва голос Вервицкого, затем резкий громкий — отца, затем визг братьев.
«За уши дерет», — мелькнуло в голове Беренди, и он испуганно раскрыл глаза и насторожился.
Дверь быстро отворилась, и вошел Вервицкий. Он остановился, неприятно огорченный клубами дыма.
— Начадил уж, — обратился он ворчливо к другу.
Но, заметив при этом и неимоверно толстую папиросу, он окончательно взбесился:
— Ты бы уж из всего табаку сделал!
— Если тебе обидно, я назад положу.
— Обидно, что табак переводишь. Хотя бы затягивался. — Вервицкий отворил фортку. — Сядь хоть около фортки, чтоб дым выходил.
— Изволь, — согласился Берендя.
Наступило молчание.
— Ну что, им уши надрал отец?
— Конечно, надрал, — ворчливо ответил Вервицкий. — Подлецы, каждый раз. А я откуда возьму? отец вот дает рубль в месяц — и изворачивайся на него.
— Да тебе на что при всем готовом?
— На что? Да вот табак.
— Глупости.
— Глупости, когда чужой, а купи его.
— Куренье вредно.
— Зачем же куришь?
— Я ведь, только если угостят.
— А я вот не могу… Не на что купить — лучше курить не буду, а чужого не попрошу.
— Послушай, я вот получу деньги, подарю тебе полфунта.
— Слышали.
— Право, подарю… А давно не высылали: хозяйка, того и гляди, выгонит… Чай вышел…
— Приходи ко мне чай пить. Идешь в гимназию — зашел, вечером зашел: напился и пошел.
— Я ведь, собственно, не любитель чаю. У меня в библиотеке полтора рубля есть… мог бы.
— Ну, уж я этого не понимаю.
Принесли чай, и друзья жадно набросились на еду.
Наевшись, напившись, Берендя улегся на кровать, причем Вервицкий, подобрев, добродушно проговорил: «Постой», — и подостлал под ноги Беренди, чтоб не запачкать одеяло, пальто гостя, а сам, усевшись к окну, взял гитару и, куря и смакуя, начал тихо наигрывать малороссийские мотивы. По низкой комнате в облаках дыма понеслись жалобные прерывающиеся звуки. Под них Вервицкий мечтал о своей будущей литературной славе, о Зиночке Карташевой, а Берендя лежал и не хотел ни о чем думать. На первом плане у него стоял вопрос о деньгах и о причине их невысылки, хорошо известной ему: вероятно, отец опять запил, и с этим вместе рисовалась ему вся тяжелая домашняя обстановка чиновника с грошовым жалованьем, громадной семьей да к тому же пьющего запоем.
Наигравшись, Вервицкий тоже пожелал поваляться на кровати и, слегка толкнув друга, сказал «пусти», улегся рядом с Берендей.
Он продолжал плавать в волнах своей будущей славы, той славы, которую всю без остатка он сложит к ногам Зиночки.
Беренде хотелось говорить. Все то, что в данный момент парализовало его мыслительные способности, просилось на язык.
— Ты знаешь, мой отец запоем пьет, — проговорил он.
— Гм! — ответил неопределенно Вервицкий.
— Собственно, если рассказать все — черт знает, ведь это какой трагизм, в сущности… Он ведь, когда напьется… ночью…
Берендя понизил голос и широко открыл свои желтые глаза.
— Отец пьяный, в одной рубахе, качается и бежит за нами по комнатам, а мы с матерью все от него… кричим…
— Послушай, — перебил его Вервицкий, — ты не обижайся: я тебе совет дам — никогда не рассказывай этого, потому что делу ты этим не поможешь, а сам выходишь в каком-то таком несимпатичном свете…
— Да я никогда никому и не говорю, — испуганно успокоил друга Берендя.
— И не надо говорить.
Друзья опять замолчали.
Мысли Вервицкого получили другое направление. Он думал о своем друге, о том, что он не то что дурак, а так, черт его знает что, без всякого такого уменья все это так делать, чтобы выходило по-людски. Ему жалко стало своего обездоленного друга, ему даже захотелось как-нибудь смягчить свое резкое замечание, которое он сказал от доброго сердца для его же пользы. Он стал уже придумывать что-нибудь, но в это время его вдруг точно что кольнуло в сердце, он быстро схватился за отвислый карман своей старой, из отцовской переделанной, жилетки, и, пощупав тяжелые серебряные часы, удачно купленные на толкучке за четыре рубля, вынул их, приподнялся на локоть к свету, сперва скользнул взглядом с удовольствием по крышке, затем, нажав пружину, посмотрел, который час, и, свистнув, проговорил:
— Э-ге-ге-ге! Десятого двадцать минут… Иди, иди, — добродушно обратился он к Беренде, — я еще ничего не готовил.
— О! — встревожился Берендя, — и мне тоже ведь надо.
Он оделся, скрутил на дорогу еще одну папироску, третью по счету, предварительно спросив:
— Можно?
— Ну, да крути, да не разбрасывай хотя, — ответил Вервицкий.
И пока Берендя крутил, поглядывая в то же время добродушно-лукаво на Вервицкого, что вот, дескать, не в счет, последний с добродушно-разочарованной миной следил за неумелым крученьем Берендей папироски и за исчезавшим в папироске табаком. Ему жаль было не табаку, а все того же Берендю, который и этой мелочью, и неуменьем крутить, и посягательством на эту третью папироску так характерно обрисовывался в глазах молодого писателя.
— Да, мелочи рисуют людей, — вздохнул Вервицкий, когда Берендя уже скрылся за дверью. И он продолжал стоять в той же позе и все так же смотреть с высоты своего умственного пьедестала на ушедшего Берендю. И таким маленьким и жалким казался ему его друг и все делался меньше, пока не превратился наконец в какую-то точку и не слился с длинным лучом свечки, на которую так долго, не мигая, засмотрелся Вервицкий, — так долго, что у него наконец заболели глаза. Он усиленно сжал веки, а когда открыл, то уж перед ним не было ни Беренди, ни литературной славы, ни Зиночки: перед ним стоял его белый некрашеный стол, а на нем лежал ранец с учебными тетрадями. «Наука горька, но плод ее сладок», — и Вервицкий решительно, ни о чем больше не думая, потянулся за ранцем.
А Берендя шел, волоча свои длинные ноги, по пустым спящим улицам; желтоватые глаза его бесцельно смотрели вперед, и он машинально, но все дымил своей папироской, пока она не искурилась до того, что начала не на шутку жечь его пальцы.
— А, черт с тобой, — проворчал он, на мгновение отвлекшись от своего созерцательного настроения и бросая окурок.
Затем он опять погрузился в свое состояние и вышел из него только тогда, когда где-то вблизи раздался сиплый, пьяный голос человека, который, очевидно, разговаривал сам с собой.
Действие уже происходило за городом, в том месте, где большой темный бульвар отделял собственно город от предместья.
Берендя сделал несколько шагов и наткнулся на сидевшего на скамье какого-то громадного верзилу.
— Ты… ты что кричишь? — спросил Берендя, немного смущенно пятясь от верзилы.
— А ты что? — проговорил сиплый голос, и, вдруг поднявшись, верзила быстро схватил Берендю за горло. — Давай денег.
«Задушит», — судорожно, мучительно мелькнуло в голове Беренди и, метнувшись, он прохрипел странным, не то просящим, не то раздраженным голосом:
— Да пусти же.
— Давай деньги.
— Нет же! — с горечью ответил Берендя. — Я гимназист… Какие у меня деньги?
— Зачем же ты шляешься по ночам? — смущенно пробормотал верзила, опуская руки.
— Я занимался у товарища и домой иду… Нарочно ходил к товарищу, чтоб хоть двадцать копеек достать… чаю, сахару нет.
— Дурак же ты…
— Ну что ж… — поматывая, по обыкновению, головой, ответил Берендя.
Он остановился и подумал: в сущности, добрый человек.
— Ну, спасибо, что отпустил, — нерешительно проговорил он и протянул руку верзиле. — Я Берендя.
— Петр Семенович, — угрюмо отрекомендовался верзила.
— Милости просим ко мне. Я живу на Почтовой, в доме Терениной.
«Черт его знает, зачем я его в гости зову», — подумал Берендя.
— Приду, — лаконически ответил верзила и вдруг, засунув руку в карман, вынул оттуда два двугривенных и, протягивая Беренде, сказал:
— Ты ходил за деньгами — на.
Берендя мгновение колебался.
— Отдашь.
— Спасибо, Петр Семенович, как бы только вас это не стеснило…
— Не беспокойтесь.
— Слушайте, Петр Семенович, в таком случае и вы дайте мне свой адрес: я скоро получу деньги.
— В любом кабаке спросите.
Верзила указал наискосок бульвара.
— Утром, в то время как в гимназию ходите, я почти всегда там.
Берендя еще раз поблагодарил, пожал руку и добродушно заметил, уходя:
— А вы мне, Петр Семенович, таки помяли шею.
— Да уж… извините… — угрюмо ответил верзила, с опущенной головой исчезая в кустах бульвара.
«Что за черт, — думал Берендя, шагая дальше с сорока копейками в кармане, помятой шеей и с неясным впечатлением от всей этой неожиданной встречи, — надо посмотреть, не в крови ли деньги?»
Войдя в улицу, он подошел к фонарю и внимательно осмотрел оба двугривенных. Деньги оказались чистыми. Берендя усмехнулся, спрятал их в карман и пошел дальше.
Вернувшись домой, он долго ходил по своей комнатке, все обдумывая свою неожиданную встречу. В общем, она оставила в нем какое-то приятное впечатление от поставленного по существу вопроса.
«Он человек, я человек», — и Берендя останавливался, смотрел своими лучистыми глазами вперед, пожимал плечами, усмехался и говорил: «Вот, черт побери!»
С общепринятой точки зрения тем не менее дело выходило из ряда вон, и Берендя не знал, на чем остановиться: считать ли себя правым, что пригласил этого бродягу к себе и не только пригласил, но и взял у него деньги, или смотреть на себя чуть ли не как на участника этого бродяги. Им овладевало по временам брезгливое чувство, и он повторял свое «черт возьми» уже с раздражением и решал, что обо всем этом не следует никому, а уж тем более Вервицкому, и заикаться. Но опять, продолжая рыться в своих ощущениях, он наталкивался на что-то другое, перед чем все условное отодвигалось на задний план, а впереди стоял только человек…
«Во времена классиков, — иронизировал сам с собою Берендя, — какой-нибудь Диоген…»
Берендя вспомнил сегодняшнюю тему Карташева и раздраженно усмехнулся.
«Только и учишь весь этот классический мир для того, чтобы не сметь и думать о той классической простоте и ясности существа вещей, какая была. С каким-нибудь пропойцей, может быть, разбойником, я, мальчишка, договариваюсь в два слова до человеческого, а в взрослом обществе этот человек доходит до пропойства, до потери человеческого».
Берендя плюнул и подумал:
«Я очень рад, что и пригласил его и деньги принял».
Берендя с удовольствием ощупал пальцами деньги и подумал:
«А недурно бы что-нибудь съесть да рюмочку водки…»
Он осторожно подошел к двери, приотворил ее и долго стоял, всматриваясь в темноту и прислушиваясь. Но все было тихо, все давно спали, и Берендя, затворив опять дверь, возвратился к себе. Он нерешительно остановился перед учебниками, отошел от них, приблизился было к скрипке, но, вспомнив, что все спят уже, он и скрипку оставил и, взяв книгу, повалился с ней на кровать.
Он читал до тех пор, пока весь керосин не сгорел в лампе, пока слабый рассвет не заглянул в окна, и только тогда, наскоро раздевшись, он лег на кровать. Но долго еще ворочался, чутко прислушиваясь к шороху, к каждому скрипу, переживая неприятное ощущение не то страха, не то какого-то нервного переутомления. Даже засыпая, он постоянно вздрагивал всем телом, и ему казалось, что он все падает с размаху, все срывается стремительно в какую-то пропасть. Наконец он заснул нервным, тревожным сном, мечась по кровати и отчаянно скрипя зубами.
Этот скрип на друга его Вервицкого всегда наводил панический ужас и был еще лишней причиной относиться пренебрежительно к Беренде, считая его каким-то недоделкой.
VII Пропойцы
— Ну-с! Так как же? — обхватив за руки Берендю, как-то в классе во время рекреации остановил последнего Долба.
Берендя, притиснутый Долбой к стене, смотрел на него и вдруг решил поделиться с ним своим секретом.
— П…послушай, — начал он таинственно, — вот, че…черт возьми, у меня есть два знакомых…
— Каких знакомых?
— Пропойцы!
Берендя фыркнул.
— Какие пропойцы?
— Один техник, другой учитель… — Берендя рассказал Долбе о своей фантастической встрече и знакомстве с Петром Семеновичем и его товарищем, Васильем Ивановичем, которого вскоре привел к Беренде Петр Семенович.
— И… интересный тип… умные, — кричал Берендя.
— Ну?!
— Вот… вот… тебе крест… Черт знает что такое.
— И сошелся с ними?
— Да… да, сошелся…
Берендя, как-то пригнувшись и показывая свои гнилые зубы, всматривался нерешительно в Долбу. Долба смотрел на него некоторое время и наконец залился своим мелким смехом.
— Ах, черт! — тряс он головой, и трудно было сказать, что означал его смех: сочувствие Беренде, удивление или презрение к нему.
Смех Долбы так долго продолжался, что Корнев, сидевший в это время за какой-то книгой и усердно обгрызавший свои ногти, оторвался и лениво окрикнул его, не поворачиваясь:
— Ну, чего там?
Долба в ответ еще энергичнее рассыпался своим мелким смехом, покраснел и усиленно тряс головой. Корнев бросил книгу и, подойдя к нему и Беренде, проговорил:
— Ну?
Между смехом Долба передал о знакомстве Беренди с пропойцами.
— Ну? — переспросил Корнев, когда кончил Долба.
— Ну, и ничего, — ответил немного уже смущенный Долба.
— Чему же ты смеешься?
— Отчего мне не смеяться?
— Рыло!
— За…замечательно интересный народ, — приложил Берендя свои пальцы к груди.
— Гм! — протянул раздумчиво Корнев.
— Посмотреть бы их надо? — не то советуясь, не то советуя, предложил Долба.
— Их, что же, за деньги показывают? — спросил Корнев.
— За…зачем? — не понял Берендя остроты, — так прямо п…приходите.
Посмотреть новых знакомых Беренди собрались: Корнев, Рыльский, Долба, Карташев. Корнев привел к Беренде и своего двоюродного брата Моисеенко, студента университета. К Моисеенко и Корнев, и вся компания относились с уважением.
Моисеенко был простой с виду, вдумчивый и серьезный, весь поглощенный своими мыслями человек. Казалось, не было книги, которой бы он не прочел. На все, что для компании представлялось неясным, у Моисеенко всегда были определенные и точные разъяснения. Он охотно давал их, ставил ни во что свою эрудицию и поэтому пользовался в кружке Корнева авторитетом. Можно было спорить с Корневым, с Рыльским и Долбою, но с Моисеенко не спорил никто, и когда молчавший до того Моисеенко начинал говорить, то все споры сами собой кончались. Для компании это был тот же Писарев, Бокль, Дарвин, с тою разницею, что те были далеки, бывали не всегда понятны, а этот был близок и понятен.
С виду, впрочем, никакого поклонения или почитания не было — относились даже как будто пренебрежительно.
Отношения Беренди к пропойцам были очень своеобразные. Они брали у него деньги, изредка заглядывали в его квартиру, а то встречались с ним в той части бульвара, где он жил.
Берендя уже знал их историю, выслушивал терпеливо проклятия Петра Семеновича по адресу своих врагов и блаженный лепет товарища его Василия Ивановича:
— Вы умный, хороший, вы честный, вы очень умный…
— Че-чем я умный? — растерянно говорил Берендя.
— Вы скромный и умный… Вы поняли жизнь лучше нас… вам жить.
— Расслюнявился, — обрывал его Петр Семенович. — Ум тоже нашел… Вам сколько лет? — обращался он пренебрежительно к Беренде.
— Семнадцать.
— Семнадцать, — у вас на губах молоко не обсохло еще, а в ваши годы я уж в морду залепил профессору… Подлец хоть бы пожаловался… ей-богу! «Я, говорит, семейный человек, не губите меня».
— Ах, Петр Семенович, я как подумаю… какой талант в вас погиб…
Берендя тоже был склонен видеть в Петре Семеновиче что-то выдающееся. На смотринах Корнев усиленно грыз ногти и пытливо всматривался в странных знакомых Беренди. Василий Иванович, по обыкновению, во все глаза смотрел в каком-то ошалелом восторге на всех. Петр Семенович угрюмо ежился и старался подавить всех своим презрением.
Моисеенко молча, внимательно наблюдал их, изредка задавая вопросы и опять продолжая слушать.
Когда приятели ушли, Корнев раздумчиво заметил:
— У этого… Василия Ивановича, что ли? что-то жалкое. А тот, другой, очевидно, совсем потерял всякий образ человеческий… Во всяком случае… я не знаю… интересного мало… а впрочем…
Корнев сосредоточенно принялся за свои ногти.
Es ist eine alte Geschichte Die bleibt doch immer neu; Und wem sie just passieret, Dem bricht das Herz entzwei,[55] —продекламировал Долба и лениво улегся на кровать.
Корнев встал, подошел и, сказав: «Пусти», — лег рядом с ним.
Долба приподнялся на локоть и, рассматривая широкое бледное лицо Корнева, машинально оправлял свободной рукой его густые волосы.
— В сущности, если так вдуматься, — говорил Корнев, — собственно, ведь страшная вещь жизнь… Все как будто идет себе шаг за шагом, а чем кончается… Может быть, и между нами…
— Ничего не может быть подобного, — решительно проговорил Моисеенко, вставая и подходя к окну.
Он стоял спиной, смотрел в далекую перспективу улицы и говорил тем охватывающим живым голосом, каким говорят нервные, убежденные люди.
— Почва, на которой они поломали себе ноги, — я знаю их историю, — безыдейность. При таком условии, чем лучше человек, чем больше в нем сил, тем скорее он разобьется. Ну, пароход с сильной машиной без компаса и карт на полном ходу… Отчасти, конечно, они жертвы безвременья… Жизнь нашего поколения начинается при иных условиях: цели ясно намечены, и пути обозначились… период брожения, процесс оклассования, конечно, неизбежен.
— Как ты сказал? — спросил Корнев.
— Оклассования… тот процесс, что на Западе уже заканчивается. Период чистой идеи… ну, хоть эпохи конца прошлого столетия во Франции… сменяется периодом приспособления этой идеи к жизни… классы общества вступают в свои права, и в силу того или другого влияния класса идея видоизменяется, идет процесс борьбы, она или обуржуаживается, или в более чистом виде проникает в жизнь. Являются люди теории… практические деятели, рядом уступок проводящие по частям свою идею. Запутаться в этом хотя и сложном, но ясном процессе теперь можно только при неразвитости; нет, конечно, выполнения того, что выработала человеческая мысль лучшего, но разборка идет, и той каши понятий, того сумбура искусственных потемок, которые губят, уже нет. А следовательно, и места отчаянию нет и быть не может. То есть, конечно, жизнь всегда может разбиться при преследовании личных эгоистических целей: хотел быть сановитым — не выгорело, хотел устроить свое состояние — лопнуло все. Таких и жалеть нечего, — вольно же выбирать то временное счастье, которое всякая роковая случайность жизни шутя и легко может вырвать и разбить вдребезги! Есть другое счастье на земле… истинное и единственное… счастье, заключающееся в самосознании, кто ты и что ты, в идее, в той жизни для других, в той сфере, которая недоступна ни грязным рукам проходимца, ни роковым случайностям. Способность жертвовать собою для блага других присуща натуре человека: не глуши ее, и она явится таким источником счастья, с которым разве сравнится то эфемерное, которое под своей красивой скорлупой таит только постоянную необходимость заглушать в себе гордость сознания своего человеческого чувства. Всю жизнь здесь дрожи непрерывно перед риском потерять все, всю жизнь, вынужденный роковою последовательностью, будь злом. В альтруистической жизни совершенно обратное; ты не нуждаешься во лжи и фальши, потому что для тебя нужен минимум: десятирублевый сюртук так же хорош, как и сторублевый, одна комната для тебя то же, что для другого несколько этажей. В этом страшная сила и преимущество: тебе нечего терять. Другое преимущество в том, что в то время как одни только и заняты тем, что для тебя совершенно не нужно, ты все свое время употребляешь на положительную работу — уничтожение зла, приведением его шаг за шагом к самосознанию. Как бы ни была скромна твоя роль, тебе тем удобнее это. Ученый — ты разъясняешь людям незыблемые законы человеческого благополучия; ты вместо пальца, приставленного ко лбу, силой вещей заставляешь, указывая промахи, считаться с знанием. Практический деятель ты, ну хоть сторож железнодорожной будки, но раз твой умственный микроскоп умеет работать, ты наблюдаешь и изучаешь великий мир, одинаковый в своих проявлениях и в капле воды, и в океане. Причины, почему в одной деревне плохо живется, необходимы для понимания общих причин упадка, как слагаемые нужны для общей суммы. Одним словом, жизнь людей альтруистических — будущая жизнь всего человечества: внешность им не нужна, единение их основано не на количестве платьев, не на цвете подкладки, не на всем том, во что могут нарядить человека, как куклу, чужие деньги и чужие руки; не на наивной гордости не сознающих своей роли, а на счастье иметь возможность сознавать свое человеческое достоинство, на сознании, что это достоинство возмутится одною мыслью, что ты наденешь, может быть, и золотые, но унизительные цепи преступного раба. Чудная басня Лафонтена: голодный, но свободный гражданин. Здесь, в этом обществе, одно тебе необходимо: знание и самосознание, то есть надлежащее развитие. Стоит потрудиться, потому что, во-первых, и труд благородный, и результат труда — счастье жизни. Духовное счастье: жизнь отнять его не может. Великое преимущество! У людей времени Петра Семеновича было то неудобство, что не было общества таких людей, то есть оно было, конечно, но не многочисленное, не распространенное… Теперь таких людей везде встретишь и найдешь, а в веселой компании и кусок честно заработанного черного хлеба съешь с бо~льшим наслаждением, чем какие-нибудь трюфели богатого ресторана в обществе людей, узнающих друг друга только по меткам портных, а перепутай портной метки — и все пропало… Какое ж это счастье? Счастье улицы… достояние любого проходимца… грош ему цена!
— Ну и бритва язык, — сказал Долба и, тряхнув головой, весело рассмеялся.
Моисеенко, в разговоре рассеянно переходивший от окна к столу, перебравший и перетрогавший, кажется, все вещи по пути, остановился, посмотрел на всех, точно соображая, где он и как попал сюда, озабоченно сдвинул брови и, суетливо застегивая свой пиджак, взялся за шапку.
— Куда? Постой, — удерживал Корнев.
— Ку-куда вы? — спросил, в свою очередь, Берендя, поднимаясь.
— Нужно на урок.
Моисеенко торопливо попрощался со всеми и вышел.
За Моисеенко разошлись и другие.
На перекрестке Рыльский и Долба ушли в одну сторону, а Корнев, Карташев и Берендя стояли в раздумье: что предпринять и куда идти.
— Идем на бульвар, — предложил Берендя. — Там увидим, наверно, и моих гостей.
Все трое пошли.
Петр Семенович и Василий Иванович действительно сидели на скамье боковой аллеи бульвара.
Было тихо и уютно.
Вдали с щемящей грустью сумерек неподвижно застыла далекая готическая церковь; засыпавший в мартовском вечере бульвар; розовые полосы мягкого влажного весеннего заката, когда белые сочные облака так свободно купаются в нежной и бледной вечерней лазури небес. Кругом никого не было.
— Мо-можно присесть? — спросил Берендя.
— Садитесь, садитесь, — заволновался Василий Иванович, с каким-то восторгом и счастьем осматривая подошедших.
Василий Иванович чувствовал себя уютно и заглядывал вопросительно-счастливо им в глаза.
В Карташеве неприятное, брезгливое чувство к расплывшемуся заискивающему Василию Ивановичу подавлялось сознанием необходимости отвечать ему чем-нибудь ласковым. Но он не мог отделаться в душе от тяжелого брезгливого ощущения: что-то точно насильно забиралось в него в образе этих заискивающих, жалобно смотрящих голубых глаз пропившегося человека в грязном костюме, в оборванных рукавах, из-под которых выглядывало темное от грязи белье. Он чувствовал, что не может и оттолкнуть этого ласкового взгляда, и места ему нет в его душе. Даже радость Василия Ивановича была ему неприятна и отталкивала от себя чем-то грязным и нечистоплотным. Ему вспомнилась Жучка в тот момент, когда, вытащенная из колодца, она с размаху бросилась и лизнула его, грязная, прямо в губы. И это воспоминание, невольная параллель Жучки с этим оборванцем смутила его укором совести и прогнала все неприятное. Он, как мог, ласково кивнул Василию Ивановичу головой.
Василий Иванович напряженно, точно ожидавший этого, вспыхнул, и его лицо осветилось таким мягким светом счастья, от которого весело и легко стало Карташеву.
— Мы вот с Василием Ивановичем о вас толковали, — проговорил Петр Семенович. — Он видит, по своему обыкновению, в вас что-то особенное… ерунда все это… вы не больше тростника… трах — и ничего нет… так голыми руками вас всех переломаешь, как хочешь, а жизнь… Надо жизнь знать, что за зловредная это штука… Как в песне где-то: «На смех людям породыла вас маты».
— Ах, Петр Семенович, — страшно заволновался Василий Иванович, — зачем же… разбивать надежды… Не верьте ему… Жизнь трудна, но есть выход… и может быть так прелестна, так хороша…
Василий Иванович судорожно забрал воздух в себя и замер. Слезы одна за другой закапали по его лицу.
— Ну, что вы, ей-богу, Василий Иванович… Люди подумают, водка в вас плачет…
Карташев передал матери о своем новом знакомстве.
Аглаида Васильевна насторожилась.
— Если людям нет выхода, — говорил сын, — что ж им остается делать? Не изменять же своим убеждениям? Во времена язычества какой-нибудь анахорет уносил свою идею в пустыню, к зверям, и оттуда мир она завоевала.
— Уносил с водкой? — спрашивала Аглаида Васильевна.
— Ну да… ну, так они и не знаменитости какие-нибудь… Просто честные люди.
— Перестань, Тёма, глупости говорить… Честные люди — не нашедшие себе другого занятия, как хватать ночью за горло, просить милостыню и пропивать чужие деньги в кабаках!
— А у него очень оригинальная теория: он говорит, что стоил бы людям гораздо дороже, если б он делал то, что другие…
— Он пьян, может говорить что угодно, но ты, кажется, не пьешь?
— Не пью.
— Стыдно, Тёма, быть таким наивным. К чему же и образование тогда, если ты не можешь разобраться, где истина, а где бред опустившегося пьяницы.
— Ведь я не защищаю его. Я говорю, что есть некоторая правда…
— Должно быть снисхождение, но правды нет. Слишком святая вещь правда, чтоб она не нашла себе другого места, как кабак.
— Теперь нашла, а прежде могла и не найти… Крепостной сидел в кабаке, а с ним и правда сидела. Правда бежала в Сечу, а Сеча была, в сущности, что ж, как не разбойничий кабак? Собственно, я бы так даже поставил вопрос: в кабаке всегда сидит та правда, до которой люди еще не додумались…
Карташев, сказав это, сам удивился и прибавил:
— А знаешь, мама, это очень тонкая мысль.
Аглаида Васильевна улыбнулась.
— Некоторая доля правды есть, конечно.
— А если есть, то и знакомство с такими людьми полезно, — поймал сын.
— Но эту правду, не исковерканную, ты можешь и в жизни наблюдать.
— Ну-у, в жизни!.. все равно что в книге искать неизвестную страницу… а тут уже знаешь, где искать.
— По-твоему, значит, наука в кабак должна перейти?
— Не в кабак…
— Ты же сам говорил о закрытии кабаков?
— Ну — да, конечно…
— Что конечно?
— Ну, значит, что, может быть, и слишком прямолинейно думать, что закрыл кабак и конец злу… Более сложно выходит…
— Вот в этой сложности и сила. Было бы очень просто иначе: пошел в кабак и все узнал. Чтоб понять эту сложность, и учатся люди.
— А собственно, жизнь, как подумаешь, очень сложная история… глу-у-бокая… дна не достанешь…
— Сколько знания приобретешь, столько и достанешь.
— Какого знания?
— Да хоть какого-нибудь.
— Латинской грамматикой не достанешь.
Карташев вздохнул.
— Шесть часов в неделю: четвертая часть времени куда пропадает. А еще греческий прибавят. Я вот в своей статье все это высчитываю… А то, что в это время мог бы узнать полезного, а то, что потупеешь от непроизводительной работы!.. Дай я тебе в пищу стружки буду подкладывать, разве не испорчу тебе желудок? Ужасно обидно…
— Не так уж ужасно…
— Тебе не так, а вот когда сидишь за этой грамматикой проклятой, так обидно, так унизительно себя чувствуешь, как будто… если б в каком-нибудь обществе вдруг тебя на колени поставили.
— Скажите пожалуйста!.. Величайшие умы учили латинский язык, и это не помешало им сделаться великими и не унизило их, а вас унижает.
— Величайшие умы!.. Они наряжались в туфли, наряжались в парики, пудрились… Ну, а я все это проделаю?.. У них сознания не было, а у нас есть сознание бесполезности, у всех есть, а делаем… точно назло… на вот тебе…
— Ну уж это совсем глупости начинаешь говорить.
— Вовсе не глупости, — возразил Карташев, все более увлекаясь своим молодым задором. — В эпоху Возрождения латынь понадобилась потому, что своего ничего не было. Теперь своего столько, что вся наука древнего мира в моем каблуке поместится, а, собственно, та бестолковая грамматика, которую мы зубрим, совсем бессмысленная ерунда, которую одинаково не знаем ни мы, ни сами древние, ни учителя… Шутовской предмет, которого уважать нельзя, нельзя уважать и того, кто берется выдавать его за что-то серьезное… Выходит обман, фальшь, унижение… обидное унижение… Так иногда взял бы да пустил этой грамматикой в чей-нибудь деревянный лоб.
— Ах, как мило! ты его в лоб, он тебя в нос: доказали. Нет уж, милый! — вспыхнула Аглаида Васильевна, — когда дело до рук доходит, тогда конец всему: и прав будешь — один останешься, и друзья отвернутся, если у тебя других доводов нет.
— Сколько угодно есть…
— А если есть, то при чем тут руки?
— Досада…
— Досада? это уж личное чувство, а с личным никто и считаться не станет. Все личное только унизит и погубит: вот как этот спившийся техник.
— А его товарищ — совершенно обратное.
— Середину нужно… такт… понимание жизни; а раз понимаешь — твое я и потонет, и воли рукам незачем давать… Так же унизительно, как то непроизводительное зубрение грамматики, о котором ты говоришь.
— Так, значит, зло так пусть и будет, а ты смотри да радуйся?
— Мелодраматических злодеев нет, мой милый… Сознательно одно зло все не могут делать… Если ты чувствуешь в себе призвание видеть зло там, где другие видят добро, так и имей терпение выяснить это, представить тому неопровержимые данные.
— А если их знать не хотят?
— Что ж, знать не хотят? Сила не в тех, кто знать не хочет, а сила в твоей истине. Ты сам анахоретов приводил… Я тебе Христа приведу… Не унизил же он свою истину участием рук; наоборот, унизились те, кто его распяли… И люди оценили, поклонились распятому… две тысячи лет тому назад величайший деятель человечества показал единственный путь проведения в жизнь своих идеалов: сам прими страдания за них, если убежден, но волоса не тронь неубежденного; не смей унижать свою истину потому только, что ты малодушен.
— Значит, все-таки сложи руки и сиди: тебе будут плевать в глаза, а ты будешь говорить — божья роса?
— И в Христа плевали.
— Так то ж Христос.
— Вот-вот, и идея его — достояние мира.
— Нет, это все в теории хорошо, а на практике не годится.
— Именно… Поверь, эта мысль была еще яснее такому же практику, как ты, который стоял на Голгофе в момент распятия Христа.
— По-вашему, французская революция не должна была быть?
— По-моему, французская революция не убедила современников, сколько ни резали, — через десять лет уже сидел Наполеон.
— Но теперь все-таки ясно людям всё…
— Но не ясно вот что: может быть, истины эти, при распространении знания, сами собой прошли бы в жизнь…
— А теперь наверно прошли.
— И ученье Христа прошло.
Карташев напряженно уставился в мать:
— Учению Христа помогло небо, а здесь ум человеческий…
— Провел истины Христа, — докончила мать.
— Я что-то не помню там патера с распятием…
— Ну, об этом довольно…
VIII Экзамены
Прошла пасха. Начались переходные экзамены из шестого в седьмой. На экзамене истории с Карташевым случился скандал. Было задано на письменную тему — причины крестовых походов. Успех был обеспечен, но Карташеву захотелось отличиться, и он, разложив на коленях конспект, начал списывать с него. Директор, увидев это, встал и подошел к Карташеву.
— Это что-с?
— Я хотел по Гизо.
Директор пересматривал общую тетрадь Карташева, где были и полезные заметки, и фигуры голых женщин, а Карташев, смущенный и сконфуженный, стоял перед ним.
— Стыдитесь! — вспыхнул вдруг, как порох, директор.
Тетрадь полетела в угол залы, а за ней и все мысли Карташева. Мало того, что директор швырнул тетрадь, он приказал Карташеву поднять ее.
Карташев чувствовал, что директор не имел права так поступать, и в душе шевелилась мысль сказать ему это, но другая мысль, о том, что его за это исключат, заставила Карташева с помертвелым лицом покорно пойти и поднять свою тетрадь. Это был тяжелый удар самолюбию, и, если бы Карташеву сказали вперед, что он так поступит, — он, наверно, обиделся бы. А теперь обижаться ему не на кого было, он исполнил, по его мнению, лакейскую обязанность и испытывал своеобразное удовлетворение: хоть и унизился, а остался целым и невредимым.
Он, конечно, чувствовал себя оскорбленным и, отвечая, не смотрел на директора, но это был такой ничтожный протест, который и самого Карташева не удовлетворил.
Он получил по пяти и за устный и за письменный ответ. На письменный ему задали новую тему, и так как он ее не знал, то опять смошенничал, приняв на этот раз большие предосторожности. Последнее обстоятельство давало злое удовлетворение, но в общем, возвращаясь с экзамена, он хотел, чтобы весь экзамен этот был только сном, о котором можно было бы, проснувшись, забыть.
Конечно, было благоразумно с его стороны, что он не сделал скандала: выгнали бы — и только, а теперь все обошлось благополучно и получил даже две пятерки. Корнев получил четыре, Рыльский — три, но Долба тоже получил две пятерки. С Долбой директор был очень любезен и даже смеялся по поводу чего-то, а Долба держал себя уверенно, развязно и, кончив, так равнодушно тряхнул волосами, как бы говорил: «Иначе и быть не могло».
«Хорошо ему, — думал Карташев, — а случись это с ним, и он бы, наверно, поднял тетрадь, и Корнев, и Рыльский, и все».
Карташев чувствовал себя скверно: точно уменьшился вдруг ростом. «Все равно, день, два, а там и забудется, — думал он, — а пятерки останутся… Черт с ним, и с директором, и со всей этой историей. Я, что ли, виноват? На его душе грех… Эх, перелететь бы куда-нибудь к счастливым людям, где радость в том, что сознают свое достоинство, где молодость ярка и сильна, где люди ищут удовлетворения не в унижении других, а в уважении в этих других такого же человека, как они… Да, да, где эта счастливая страна?» И Карташев напряженно и нехотя зевал и гнал от себя бесполезные скучные мысли. Что-то продолжало сосать сердце, и вечером в ароматном садике, на дворе у Корневых, где все уже знали, конечно, про скандал, он сидел, стараясь быть естественным, и Маня Корнева спрашивала его:
— Что с вами?
Он слышал насмешку в ее голосе, чудилось ему пренебрежение и сожаление со стороны Рыльского, Долбы и даже Корнева. Он уж не любил в эту минуту Маню, он ничего не хотел, его тянуло домой, и, когда он шел по темным улицам и вспоминал, как любезна была Корнева с Рыльским, он уныло шептал: «А черт с тобой!.. Ну и кокетничай с своим Рыльским… С кем хочешь… Черт с вами со всеми!»
С этого вечера после экзамена по истории, когда Корнева кокетничала с Рыльским, все переменилось в их отношениях. Прежняя близость сразу исчезла, и Карташев чувствовал, что он вдруг стал чужим для нее. Только мать Корнева по-прежнему ласково гладила его по голове и даже нежнее обыкновенного говорила ему:
— Голубчик ты мой.
Но дочь ее, смотревшая прежде с удовольствием, когда мать ласкала Карташева, теперь равнодушно говорила:
— Ну, мама, уж пошла…
И она смеялась своим естественным, веселым и беззаботным смехом, от которого, казалось, все смеялось, и прибавляла уже серьезно, с ноткой пренебрежительного раздражения:
— Да, ей-богу же, смешно.
Карташев ежился и робко смотрел на Корневу: куда девалась та прежняя Маня, с которой так легко и весело ему было? Только с Рыльским она была прежняя. Теперь Карташев еще сильней любил ее и с непередаваемой болью видел, как пылкая, увлекающаяся Маня все больше заинтересовывалась Рыльским и смотрела на него так ласково, как никогда не смотрела на Карташева. А Рыльский, равнодушный и веселый, так смотрел на Маню, как никогда бы себе не позволил Карташев. Это было утешением для Карташева, и иногда он спрашивал Семенова:
— Как ты думаешь, Рыльский может сделать подлость?
— Какую? — переспрашивал Семенов и делался сразу серьезным и строгим.
— Вообще подлость?
Семенов несколько мгновений думал и без снисхождения утверждал, наклоняя, по обыкновению, голову:
— Может.
— Я тоже думаю.
— Может, — повторял убежденно Семенов.
IX Семья Корнева
Экзамены кончились. У Карташева и Корнева была осенью передержка по-латыни. Это их мало печалило, а Карташева даже радовало, что он в компании с Корневым срезался. Эта передержка сблизила их. Вообще с тех пор, как его сестра охладела к Карташеву, Корнев стал к последнему более расположенным, а от Рыльского, напротив, как будто отдалился. Что до Карташева, то он искренне полюбил Корнева и горячо звал его ехать к матери в деревню. Звала его и Аглаида Васильевна, но Корнев тянул и не решался. Отчасти мать Корнева, Анна Степановна, была против разлуки с сыном, когда и без того через год предстояла разлука, так как сын собирался в Петербург в медико-хирургическую академию. Отчасти не решался Корнев ехать и просто потому, что как-то странно было так сразу бросить налаженную обстановку и ехать в совершенно чужую семью: как примут его, как отнесутся при более близком знакомстве. Он знал, что пользовался в семье Карташева некоторым престижем, был уверен даже, что престиж этот был больше того, на какой он имел право рассчитывать, и тем более боялся за этот престиж. С другой стороны, его завлекала незнакомая ему совершенно деревенская жизнь. Он тянул с решением и пока отдавался приятному ничегонеделанию наступивших вакаций; ходил в гости, принимал у себя, валялся по диванам с книжкой в руках. В открытые окна врывался веселый, звонкий шум летней улицы; мягкий ветерок играл волосами, шелестел листами книги и радостно шептал, что впереди целый ряд беззаботных, свободных от занятий дней.
Корнев, сколько помнил себя, всегда помнил все ту же обстановку. Та же квартира, веселая, чистая, с невысокими комнатами, мебель в белых чехлах, солнце, канарейка, тиканье всевозможных часов в разных комнатах. Тот же порядок, заведенный и установленный раз навсегда. Отсутствие роскоши, во всем солидная прочность, начиная с мебели и кончая бельем, всегда безукоризненно чистым, без модных фасонов, но с основательными внутренними достоинствами. Роскошь допускалась только в двух вещах: в вине и сигарах. То и другое получалось непосредственно, минуя пошлины, и вследствие этого стоило сравнительно дешево. Отец Корнева, Павел Васильевич, любил побаловать себя и своих друзей, или, как он называл их, собутыльников, и хорошим вином, и сигарами.
В доме Корневых гости редко показывались. Появляясь же, сразу принимались за еду и питье. Жена Павла Васильевича, Анна Степановна, не то дичилась, не то боялась друзей мужа, скрывая, впрочем, то и другое под маской любезной, гостеприимной хозяйки, кормила их разными вкусными блюдами простой кухни, — гости ели, пили и хвалили хозяйку, когда она заглядывала к ним в столовую.
— Анна Степановна!.. милейшая!.. по божеской и человеческой совести, такого пирога, как ваш, нет нигде во всем городе, хоть повесьте меня, — гремел обыкновенно главный запевала компании, Александр Иванович Злобецкий, громадная туша на высоких расставленных ногах.
— Так когда-нибудь и уйдем увси от вас без языка; бо проглотымо, истинно говорю, проглотымо… Да поддержите… чи вже проглотылы? — обращался Александр Иванович к остальной молчавшей компании.
— И сам назвонишь, — отвечал равнодушно чиновник таможни, Иван Николаевич Пономаренко, с оплывшим бледным лицом, маленькими черными, непокорными глазами. — Добре подвесили, слава богу, язык… как только влезли на такую колокольню!
— Возможно ли терпеть сие оскорбление? — спрашиваю я вас, любезная наша хозяйка, Анна Степановна… Пожалуйте ручку…
— Эх! Юбочник.
— Что-о? — завидно…
— Кушайте, кушайте на здоровье, — говорила Анна Степановна, робко пятясь к двери, и, еще раз окинув взором стол с едой, тарелками и винами, спешила из накуренной комнаты в кухню пополнить исчезнувшее со стола.
— Вот кому счастье господь бог послал, — говорил ей вслед Александр Иванович и кивал на хозяина. — Давай меняться на мою фурумуру… двух сестер в придачу дам.
— Терпи, терпи, — пренебрежительно утешал его Пономаренко, — в рай попадешь.
— Да брешешь же, не попаду: в раю мученики, а дурней и оттуда гонят.
— Бачилы прокляты очи, що покупалы: ижты ж, хоть повылазты.
— О, отозвався казак! Та не ешьте ж бо, а пийты. — И Александр Иванович запевал излюбленную песню.
В кухню к Анне Степановне доносилось нестройное громкое пение:
А кто пье, тому наливайте, Кто не пье, тому не давайте, А мы будем пить И горилку лить И за нас, И за вас, И за неньку Стареньку, Шо научила пи-и-ть, Го-о-рилочку лы-ы-ть.Пьяные голоса один за другим замирали над последним протяжным аккордом.
Анна Степановна слушала, уставившись в блюдо, на которое накладывалось новое кушанье, и была довольна, что ряд комнат отделял ее от пировавших. Еще более радовалась этому, когда дом вздрагивал от взрывов сильного смеха или когда несся по комнатам громкий, горячий говор, шум, а то и крики. Анна Степановна только тревожно оглядывалась на двери, боясь, что вот-вот и сюда кто-нибудь заберется.
На рассвете, заплетаясь, компания удалялась наконец восвояси, и громадный «сам», как она называла мужа, бритый, молчаливый, стараясь сохранить свою обычную величественную осанку, поджав губы, мрачный, не смотря на нее, направлялся, лавируя, в свою спальню. Анна Степановна легко вздыхала и, разбитая, измученная, но успокоенная, плелась по комнатам, тушила лампы и наконец ложилась, долго еще растирая свои отекшие от непрерывного стояния больные ноги.
По мере того как подрастали дети, характер кутежей и самый состав компании немного изменился. Устраивался род вечеров, и до ужина все шло чинно.
Под аккомпанемент дочери то solo, то хором распевались разные песни, и главным образом малороссийские: «Гей ты, казаче Софроне», «Заплакала Украина». Их запевал смуглый, с длинными черными усами, уверенный в себе регент соборной церкви, под магическим взглядом черных глаз которого Маня Корнева чувствовала себя как-то особенно хорошо.
А то вдруг без музыки затягивал Александр Иванович:
Ей кажут: встань раненько, Причешися чопурненько; Она встаты не хоче, Як та видьма все цокоче.И, кончив, он обнимал молодого Корнева и весело говорил:
— Так-то-сь, мой почтеннейший… Все бабы ведьмы, и нет ни единой, у которой хотя бы такой малесенький хвистик не торчал. По опыту докладываю вам…
— Вот как, — отвечал Корнев, ежась и понижая свой голос до баса.
— Поверьте опытному человеку… и сладкое забвение от сей горькой истины сокрыто на дне сих сосудов… во исполнение реченного: и из горького выйдет сладкое… а потому предлагаю…
— Не пью.
— Напрасно… Чему же учат вас в таком случае?
— Ерунде больше.
— О, отозвався казак… Будьте ж здоровеньки…
В обыкновенное время жизнь в доме Корневых протекала однообразно и монотонно. «Сам» ходил на службу, а возвратившись, обедал, надевал халат, и его громадная фигура в халате казалась еще больше в невысоких комнатах.
Иногда он заглядывал в общие комнаты, загадочно смотрел, поджимал губы и испускал не то мычанье, не то вздох, не то несколько нот какого-то ему одному известного мотива и опять уходил к себе.
Проводив с утра детей в гимназии, мужа на службу, Анна Степановна принималась за хозяйство. Горничная прибирала комнаты, — она помогала ей. Вытирала с добродушной, энергичной гримасой пыль, вытирала зеркала тряпочкой, смоченной в водке, разговаривала с горничной, расспрашивая ее о ее житье, о родных, вникала во все подробности ее прежней жизни, докапывалась до противоречий и, смотря по впечатлению, или привязывалась к ней, или начинала ее мягко, но неуклонно так выводить на свежую воду, что горничная отказывалась от места. Насколько часто менялись горничные (может быть, здесь действовала и ревность: Павел Васильевич старых горничных не терпел), настолько кухарки жили долго. Возраст здесь не играл роли, и кухарки всегда у Анны Степановны были пожилые. Несколько лет уже жила старая, но веселая кухарка Марина, большая сплетница, в честность которой Анна Степановна верила, как в свою. С Мариной Анна Степановна отдыхала душой и всегда с удовольствием ждала ее возвращения с базара. Марина проворно раскладывала на большой чистый стол принесенную провизию: свежую красную говядину, белый хлеб, морковь, кочаны капусты, бублики; Анна Степановна с удовольствием подсаживалась поближе, вдыхала в себя свежий аромат от провизии, помогала кухарке и внимательно слушала, переспрашивая, разные городские новости. И Анна Степановна знала всегда все: и какой обед у Карташевых, и какая родня у Рыльского, и кто из ее знакомых к кому чаще ходит, — все передавала кухарка, что успевала узнавать на базаре от своих подруг. И все складывала в себя и тщательно берегла Анна Степановна. Запас этих сведений помогал ей разбираться в сложных отношениях незнакомого ей общества. Разговаривая с нею, ее добрые знакомые и не подозревали, что она каждый день приподнимает ту таинственную завесу их домашней жизни, которую обыкновенно стараются так тщательно закрывать от непосвященных глаз. Из-за этой запрещенной завесы Анна Степановна видела большею частью совсем других людей, чем те, какими желали изобразить себя эти люди. Добрый радетель о чужих бедах выходил прижимистым, сухим, несправедливым эгоистом; красноречивая дама с бегающими глазками, так ищущими общего сочувствия, пользовалась общею ненавистью прислуги за свой несносный черствый характер. И это постоянное двойное освещение, под которым Анна Степановна видела людей, в связи с природной чуткостью, делало то, что она никогда не ошибалась в своих симпатиях и всегда говорила и действовала наверняка.
Сознательно или бессознательно, но признавал это и всегда сосредоточенно-величественный и загадочно-молчаливый муж ее, и молодой, считавший себя далеким от ее влияния, сын. В этом отношении она имела несомненное влияние в семье, и тем более сильное, чем меньше оно сознавалось и ею и семьей. В остальном, в глазах сына, она была маменькой, которую он любил и старался забыть и ее неразвитость, и ее мещанское звание, которое невольно, но часто подчеркивалось в обществе. Но дочери оно доставляло много мучительного. Оно вносило раздражение, может быть, и зависть в сношения ее с подругами и влияло на выбор подруг. Мещанство матери было самым больным местом дочери, и неосторожный намек в этом смысле заливал ее щеки, шею и уши ярким румянцем. К чести Марьи Павловны надо сказать, что она не то что стыдилась за мать, а просто раздражалась и обижалась. Что думал «сам», этого никто не знал, не знала и Анна Степановна. Понимая всех своих знакомых, она с совершенным недоумением останавливалась перед своим мужем. Известный инстинкт подсказывал ей, конечно, манеру обращения, но, сильный и верный с другими, инстинкт действовал здесь робко, наугад и часто невпопад. Существовало что-то, в чем так и не могла разобраться Анна Степановна. И это бессознательно мучило ее и заставляло напряженно рыться в прошлом, в бесполезном усилии найти затерянное начало; все с самого начала таким было, сразу как-то потерялась руководящая нить, с самой первой встречи.
Покончив со всякими делами по хозяйству, надев большие черепаховые очки, Анна Степановна садилась где-нибудь в залитой солнцем комнатке, где особенно звонко заливались канарейки, за починку и штопанье старого белья и часто отдавалась воспоминаниям об этой первой встрече.
Да, двадцать лет прошло, точно вот вчера все это было. Все, как живое, стояло перед глазами.
Пошла она в собор и надела, как сейчас помнит, синенькое с белыми звездочками платье. На самой груди была маленькая вырезка и в ней крестик, маленький, серебряный, позолоченный, на бархатной ленточке. Стоит она в церкви, молится; уж к кресту пошли, уж идут мимо нее назад; только и она было собралась двинуться, как вдруг… Анна Степановна опускала работу при воспоминании, как это случилось. Стоит перед ней молодой человек, высокий, в синем воротнике, в золотых пуговицах; волосы этак короткие, причесанные назад, светлые-светлые, глаза голубые так насквозь и смотрят… И вдруг… крестится, наклоняется да прямо в крестик, что в прорезе у нее на груди, губами… Завертелось все в глазах: и страшно, и стыдно, и вот точно волю всю ее отнял, — а слезы так и льются по щекам. Взял он ее под руку и повел из церкви. Очнулась уж в какой-то улице. Спрашивает ее:
— Вы где живете?
Глянула она на него, вспомнила и говорит:
— За что же это вы меня на всю жизнь опорочили?
— Простите… ради бога, простите…
А сам идет все да говорит, говорит что-то…
Разливаются канарейки, льются их трели, лежит на коленях работа, а Анна Степановна все смотрит и смотрит куда-то вдаль.
Двадцать лет пронеслось… Все такой же он: веселый — называет ее «Анна Степановна»; сердитый — скажет: «сударыня», подожмет губы — туча тучей. Так и упадет ее сердце, и жизнь не в жизнь, ходит, шепчет себе: «Закатилось мое солнышко», — да вздыхает. А боже сохрани при нем вздохнуть. Как услышит его шаги, сама себя испугает — идет, идет! И примет спокойный вид. Пройдет он — смотрит ему вслед, смотрит потухшим, непонимающим взглядом.
Павел Васильевич и с детьми был чужой. Больше других разрешалось дочери; разрешалось, или она сама себе разрешала: не боялась она как-то его угрюмого вида даже и тогда, когда деньги приходилось просить.
Сын относился к отцу с какой-то смесью страха, непонимания и того характерного недружелюбия, которое всегда является результатом далеких отношений отца к детям. Недружелюбие это было не по существу, — в каком-то отвлечении его не существовало, но от этого текущие отношения не были ближе. В этом отвлечении сын, в общем, уважал отца. От матери он узнал историю их брака, знал некоторые подробности из его жизни, дававшие ясное представление о том, что его отец был, по крайней мере, прежде (теперь он молчал), человеком чутким к высшим потребностям жизни. Об этом же говорила громадная библиотека отца, которую сын оценил, начав серьезное чтение. Уважал он отца и за отсутствие всякой рисовки. Некоторое сочувствие отца к его развитию сын угадывал, но в редкие минуты беседы на эту тему отец высказывался так определенно и категорично, что чувствовалось, что всякий спор с ним был совершенно бесполезен. Вообще Корнев считал, что отец — существующий факт, который надо принимать так, как он есть, ничего здесь не переменишь, и лучшее, чтобы не раздражать и не раздражаться, — это избегать с ним всяких лишних разговоров, не идущих к делу. А деловые разговоры всегда были коротки и лаконичны: «выдержал», «срезался» и в очень редких случаях: «папенька, позвольте денег».
X Пикник
Наташа Карташева, державшая экзамен в казенную гимназию в тот же класс, где была и Корнева, познакомилась таким образом с Маней, и, по настоянию братьев, они обе познакомились и домами между собой. Зина Карташева держала себя в стороне от подруг Наташи. Месяц тому назад она кончила курс в частной гимназии и теперь была уже на правах взрослой барышни. С товарищами брата у нее тоже было мало общего.
Зинаида Николаевна кончила ученье, выходила, так сказать, уже на дорогу жизни, а компании предстояло еще столько же, если не больше, учиться: ходили к тому же слухи о восьмом классе, о греческом языке, о каком-то циркуляре попечителя. Все это занимало и волновало компанию, но все это уж не интересовало Зинаиды Николаевны: напротив, товарищи брата в ее глазах еще больше превращались в мальчиков. Компания чувствовала это отношение к себе Зинаиды Николаевны и понемногу, затаив недовольство, стала отдаляться от нее. Зинаида Николаевна и довольна была отделаться от мальчишек, и в то же время чувствовала пустоту: ученье кончилось, новая жизнь не сложилась. Не было даже подходящего кружка знакомых, где общность интересов связывала бы ее с этим кружком. Она бывала у нескольких подруг, эти подруги бывали у нее, но все это было как-то не «по-большому», не налажено и, главное, не интересно: не было даже настоящих кавалеров, взрослых, окончивших курс, интересных, если не считать одного судебного следователя да брата одной подруги, молодого учителя гимназии — Логинова, которого Зинаида Николаевна маленькой девочкой встречала, бывало, в церкви в гимназическом мундире. Оба эти кавалера у Аглаиды Васильевны в доме не бывали, и встречалась с ними Зинаида Николаевна или у подруги, или на бульваре, куда на прогулку ее и подруг провожали эти кавалеры.
Компания, шляясь и наталкиваясь на Зинаиду Николаевну и ее общество, размашисто, не без иронии раскланивалась с ней и пускала по ее адресу, в отсутствие Карташева, остроты, смысл которых был тот, что «Зинаида Николаевна теперь стали большие, им нужно женихов, и они, мальчишки, для них больше не интересны».
— Ну, и скатертью дорога, — говорил Корнев, — на здоровье! Хотя, не в обиду будь сказано, господин следователь имеет вид голодного галчонка, а господин учитель был известен своей глупостью еще в тот период, когда впервые узнал, откуда у него ноги растут.
Зинаида Николаевна точно чувствовала, что означали эти боковые довольные взгляды, которыми компания, проходя мимо, дарила ее и ее общество, краснела и испытывала неприятное, немного враждебное чувство к друзьям брата.
— Гм, гм! — говорил Долба, оглядываясь на приличной дистанции на проходившее общество Зинаиды Николаевны. — На трех барышень двух кавалеров маловато.
— Дежурство устроят, — отвечал Рыльский, поправляя свой шнурок.
Что до Наташи, то она училась и не думала еще о том времени, когда ее сверстники превратятся вдруг в мальчишек. Теперь эти мальчишки и ее и Корневу очень интересовали; как-то незаметно, само собой происходило обоюдное сближение, и Наташа и компания в обществе друг друга чувствовали себя легко и свободно. Иногда даже компания при Наташе прохаживалась насчет ее старшей сестры, иногда серьезный подымался разговор на тему, что значит, собственно, «кончила курс».
Окончание экзаменов решено было отпраздновать пикником. Так как следующее после экзаменов воскресенье совпало к тому же с днем рождения Корнева, то и постановили: обедать у Корневых и сейчас же после обеда ехать на лодках на дачу к подруге Корневой — Горенко. Наташа, сошедшаяся быстро с Горенко, тоже участвовала со всеми и в обеде и в пикнике.
В воскресенье с утра, по обыкновению, вся семья Корневых (за исключением Анны Степановны, болевшей ногами) отправилась в собор.
Как-то давно уже Павел Васильевич коснулся раз навсегда этого вопроса по поводу высказанного сыном взгляда на религию.
— М-м-м… — протянул Павел Васильевич, сжав губы, и уставился, точно задумался, в пол. Так он стоял долго и наконец, решительно подняв голову, произнес:
— Да-с…
И опять задумался.
— Вот что…
Павел Васильевич сделал еще одну паузу, собрал губы и заговорил, свободно модулируя свой голос:
— Там как угодно… Все человечество… величайшие умы… Ну-с, все равно… это меня не касается… Но у вас есть сестра…
Павел Васильевич в торжественных случаях говорил своим домочадцам «вы». Он еще раз сжал губы и кончил:
— Я желал бы, чтоб формальности были соблюдаемы.
Ту же мысль Аглаида Васильевна своему сыну высказала так:
— Там, веришь ли ты или не веришь, мне решительно все равно. Я верю, что, когда надо будет, господь пожалеет меня и сделает тебя верующим; но вот чего я не могу позволить — это касаться сестер. «Горе соблазнившему единого от малых сил»… помнишь? Ни люди, ни бог не простят. И в церковь извольте ходить.
Таким образом, и Корнев и Карташев ходили в церковь. Ходила, впрочем, и остальная компания и даже католик Рыльский, потому что в церкви можно было встретить всех: Аглаиду Васильевну с дочерьми, сестру Корнева, подруг и ее, и Зининых, и Наташиных.
День был настоящий летний, так и тянуло куда-нибудь подальше от душного города. Город со своими нарядными, звонкими улицами, панелями в тени акаций, с белыми маркизами, с красивым тенистым бульваром, с сверкавшим там, внизу, синим морем, залитый ярким солнцем, — точно спал в неподвижном воздухе.
В соборе шла обедня. Было прохладно и просторно. Редкие шаги по каменному полу собора звонким эхом отдавались в ушах. Над головами в высоком куполе, точно живые, двигались волны ладана и таяли там, вверху, в неподвижных золотых лучах солнца. По церкви, вибрируя, неслись и мягкие дрожащие звуки протодиаконского баса, и стройное пение архиерейских певчих. В раскрытые окна заглядывал веселый, праздничный день, тихий, неподвижный, точно заглянул и притих, проникнутый торжественной службой. По временам лишь вдруг врывался звонкий треск мостовой или мягко шумела в окнах молодая, вся в белом цвету, листва акаций.
У алтаря, с левой стороны, ближе к решетке, стояла Аглаида Васильевна, спокойная, сосредоточенная, внимательная к службе; Зинаида Николаевна, сдержанная, строгая; Наташа, усталая, рассеянная; Анна Петровна Горенко, с живыми синими глазами, которые быстро, пытливо, в контраст с безмятежными большими глазами Наташи, всматривались во все окружающее. Подальше стоял громадный «сам» — Павел Васильевич Корнев, с плотно сжатыми губами, со сложенными на животе руками, иногда вдруг всем туловищем поворачивавшийся назад и смотревший куда-то вдаль над головами молящихся. Позади него стояла Маня Корнева с дочерью хозяина того дома, где жили Корневы, нарядной, красивой бесцветной девушкой. Еще дальше в легких парусиновых костюмах, облокотившись о колонны, стояли Корнев и Карташев.
Карташева мучила все та же мысль о Мане Корневой. Сердце его тоскливо ныло. Он то смотрел, задумавшись, вперед, то, убегая от своих неприятных мыслей, исчезал взглядом в окне, следя, как нежный воздух в нем млел, рябил и уносился мелкими струйками вверх, в прозрачное небо. Там, в голубой дали, точно купался высоковысоко орел! Счастливый орел! Ему нет преград: он прилетел из степей, видит теперь синее море и опять улетит назад в степи… куда захочет: может быть, в Крым, на Кавказ… увидит горы… снег на них… полетит в другие степи, ровные, гладкие, с болотистой рекой, высокими камышами, низким небом… Завывает камыш, качается над рекой. Мутная река бежит мимо: камыш машет ей вслед, точно хочет догнать ее и не может… Маня Корнева чужая ему и любит Рыльского… Близко стоит она, как и прежде, а чужая… Ее желтенькое барежевое платье… тоже чужое… В окно свежая волна воздуха несет аромат моря, жасмина, акаций и мучительно проникает в сердце. Нет, не чужая! — шепчет, точно просит, чей-то голос… Чужая! чужая! чужая! — упрямо твердит другой… А в голове точно поет кто-то тоскливо и сладко:
Любил я вас сердцем И любил душою, Вы же, как младенцем, Забавлялись мною. Вы не понимали Ни моих страданий…Не понимала!.. Слезы сверкали в глазах Карташева. Эх, забыть бы все и улететь туда в окно, где белая акация тонет в нежном голубом небе, где орел черной точкой только виднеется уже там, вдали. Глупая его любовь, глупый он сам… слава богу, никто не знает о его любви, и никогда не узнает… и она, что любил он ее… Наташа повернулась и смотрит на него, точно задумалась, жаль ей его. Неужели угадала? Нет, слава богу, не угадала; перевела спокойно глаза на Корнева и смотрит так, как будто и его о чем-то спрашивает. Счастливая Наташа! не мучится. И Анна Петровна оглянулась и смотрит на него ласково, внимательно… синие-синие глаза, зубки белые, думает что-то и кусает губы… губы маленькие, красивые. Покраснела и отвернулась. Может быть, он неловко посмотрел?.. Отчего ему всегда кажется, что он вдруг сделает когда-нибудь что-то такое, чего уж и поправить нельзя будет?.. Рассеянным не надо быть, надо постоянно думать.
Карташев стряхнул с себя мысли и повернулся к алтарю: затворялись царские врата, певчие теснее обступили смуглого регента с черными усами, в расстегнутом сюртуке; подумал про него, что ему жарко; замер на мгновение над поднявшимся вверх камертоном и окончательно пришел в себя, когда воздух дрогнул, и полились, и зазвенели, и загудели трескучие залпы торжественного: «Тебе бога хвалим».
«Скоро конец», — подумал Карташев и устало посмотрел назад. Он весело встрепенулся: пробирались Семенов, Долба и Рыльский. Корнев, какой-то праздничный, настоящий именинник, причесанный с боковым пробором светлых густых волос, тоже повернулся, и из монгольских припухших прорезов смотрели его серо-зеленые пытливые глаза.
Семенов шел впереди, выпятив грудь, с сияющим выражением своего красного в веснушках лица. Он был доволен собой: успел отстоять обедню с родными и попал вовремя в собор. Из-за Семенова выглядывали большие карие глаза Долбы, а из-за Долбы смотрело беззаботно-веселое, насмешливое лицо Рыльского. Он с каким-то затаенным любопытством и некоторым страхом косился по сторонам, точно вот-вот узнают, что он католик, догадаются, зачем он пришел, и вдруг выведут его из церкви. Он усиленно обмахивал свою грудь каким-то полукатолическим, полуправославным крестом и еще веселее поглядывал вперед, где стояла знакомая публика.
Приблизившись, Семенов в упор нажал на Карташева и, сохраняя свой надутый вид, толкнул его слегка в бок кулаком. Корнева повернулась, весело скользнула глазами по прибывшим, на мгновение остановилась на Рыльском и, отвернувшись, уставилась в золотое сияние над алтарем.
Компания оживленно зашушукала, послышался сдержанный тихий смех. Корнева, опять повернувшись и сдвинув брови, старалась строго смотреть на шумевших. В ответ Рыльский быстро закрестился, закланялся, не спуская с нее глаз. Она тоже смотрела на него своими влажными карими глазками и уже не строго, но с какою-то вызывающею пренебрежительною гримасою; смотрела ему в глаза, на крестившуюся руку и опять в глаза. Что-то точно кольнуло ее в сердце, в глазах ее сверкнул огонек, и, не выдержав, она отвернулась к алтарю. Только видны были ее красные ушки да аккуратно высоко вверх подобранные волосы. Карташев видел все. Не было сомнения. Растерянный, сконфуженный, он старался забыть и о Корневой и о Рыльском, старался думать о постороннем и был рад, когда служба кончилась и все начали здороваться между собою. Он тоже потянулся, поздоровался с Маней, торопливо избегая ее взгляда, подошел к Наташе и Горенко.
— Приезжайте же сегодня с сестрой к нам на дачу, — сказала Анна Петровна ласково.
Карташев рассеянно поклонился.
— У нас хорошо: море близко, купанье отличное, вечером такая прелесть… так бы и не ложился спать.
— Ах, как жалко, что мы едем в деревню! — с огорчением сказала Наташа, — я так люблю море.
— В деревне тоже хорошо, — упавшим голосом ответил Карташев, грустно следя, как Корнева пошла к выходу.
— Послушай, — дернул его Семенов, — Марья Павловна поручила тебе сказать, чтобы ты пришел на бульвар, когда проводишь сестер.
Карташев вспыхнул, а Семенов, попрощавшись, быстро зашагал вдогонку за скрывавшимися Корневой, Рыльским и Долбой.
— Вы к нам в деревню приезжайте, — повеселел вдруг Карташев, обращаясь к Анне Петровне.
— Я не могу: у меня брат больной.
Она встревоженно отвела глаза, без интереса скользнула ими по проходящим и начала прощаться. Наташа крепко поцеловалась с нею.
— Ах, как я ее люблю! — говорила Наташа брату, идя с ним из церкви. — Она ужасно гордая… не гордая, а самолюбивая… и добрая: все готова отдать… Как она любит брата! Брат тоже симпатичный… Жаль его! — он, наверно, умрет: у него чахотка.
— Она очень симпатичная, — согласился Карташев.
— Сегодня как раз восемнадцать лет, — говорила Аглаида Васильевна, сходя с паперти и равняясь с сыном, — как мы переехали из Петербурга сюда. Я еще маленькой мечтала всегда о юге, и мне кажется, если б мне пришлось возвратиться в Петербург, я умерла бы там… Без солнца, без воздуха, без моря нельзя жить…
Она вошла в аллею.
— А я люблю север, зиму, — ответил сын.
— Ни того ни другого ты не видал. А если придется тебе жить на севере, ты никогда его не будешь любить: север — бледная тень юга, слабая копия плохими красками… А особенно ты… Когда я ждала тебя на свет, я по целым часам просиживала на берегу моря, читала Вальтера Скотта, «Консуэло» Жорж Занд, Диккенса, постоянно смотрела на портрет Пушкина… Целую галерею портретов устроила.
— Ну, ни на Пушкина, ни на Диккенса, ни на Вальтера Скотта я, кажется, не похож.
— Мальчик ты еще…
— Не совсем и мальчик, — ответил сын, косясь на свои пробивающиеся усы.
— Для меня всегда мальчик.
— Удобная позиция, — усмехнулся он, — по крайней мере, надежды никогда не потеряете, что из меня выйдет что-нибудь.
Мать улыбалась и удовлетворенно провожала глазами обгонявших их пешеходов.
Подходя к дому, Карташев нетерпеливо прибавлял ходу.
— Тёма совсем уже перестал дома сидеть, — сказала Зина.
Карташев покосился на мать.
— Налюбуемся еще друг на друга за лето в деревне, — ответил он угрюмо.
— А пока Маней… Спеши… — пренебрежительно кончила Зина.
Тёма почувствовал какой-то намек на Рыльского, сверкнул глазами, но, овладев собой, принял равнодушно спокойный вид.
— Я не мешаюсь в твои дела, — прошу и в мои не мешаться.
— Во-первых, у меня никаких дел нет, — обиделась Зина.
— Очень жаль.
— Ну, уж это не твое дело.
— Тёма, Зина, что это такое? — вмешалась Аглаида Васильевна. — Право, чем больше вы растете, тем у вас хуже манеры.
— Я никогда с Тёмой больше не буду разговаривать. Он каждое мое слово перевирает.
— Да и не разговаривай, пожалуйста. Воображает, что кончила курс…
— Стыдно, Тёма, — оборвала Аглаида Васильевна. И, понизив голос, хотя Зина и ушла, Аглаида Васильевна добавила: — Сестра курс кончила: вместо того чтоб сделать ей что-нибудь приятное, ты точно такой же чужой ей, как какой-нибудь Долба, который только и рад, когда подметит что-нибудь… Стыдно. В этом отношении с Корнева бери пример, никогда против сестры…
— Ну, уж и никогда.
— Никогда… так пошутит, но он любит и, смотри, как горой встанет, чуть что… Кстати, что ж он, едет?
— Он хочет… мать, кажется… поедет!
— Мы во вторник вещи отправляем.
— Я сегодня спрошу его… Наташа, не опоздай к Корневым.
Мать вошла в дом, а Карташев пошел назад, расстроенный и огорченный. Дойдя до перекрестка, он остановился, подумал и вместо бульвара повернул к квартире Корневых.
Зина, уйдя от брата, вошла первой в гостиную, остановилась посреди комнаты спиной к входившей Наташе и проговорила:
— Тёма дурак: не видит, что его Корнева по уши влюблена в Рыльского… Никакого самолюбия нет. Рыльский так ухаживает явно…
— Рыльский же в тебя влюблен, — пустила булавку сестра.
— Что ж из этого? Можно ухаживать за кем угодно. Да мне решительно, впрочем, все равно, в кого влюблен Рыльский. Мальчишка…
— А ты что за маменька?
— Я сегодня выйду замуж, у меня через год дети, а он мальчишка…
— Тоже может жениться… Сын Акима таких же лет, а собирается же жениться.
Сестра так возмутилась, что даже не сразу ответила.
— Какие ты глупости говоришь.
— Почему глупости?
— Да потому, что глупости. Там животная жизнь, а им надо учиться и учиться.
— В таком случае выходит, что ты старше их только тем, что перестала учиться.
Зина вместо ответа села на стул и, как была в шляпке, расплакалась.
Наташа смущенно смотрела на сестру.
— Я совсем тебя не хотела обидеть, — растерянно проговорила она.
— Да я вовсе не оттого и плачу, — ответила Зина, вытирая слезы и отворачиваясь к окну. — Лезут, лезут… пристают… Точно преступление какое сделала, что курс кончила… Я в монастырь уйду…
— Зачем же в монастырь? — растерялась совсем Наташа.
Зина не ответила и, вытерев слезы, смотрела своими черными строгими глазами на улицу, по которой один за другим мчались нарядные экипажи, уносившие сидевших в них на дачи.
Вошла Аглаида Васильевна, оглянула дочерей, поцеловала выскочивших к ней Маню и Асю, спросила, где Сережа, скользнула взглядом по Зине, подошла к ней и, обняв ее голову двумя руками, наклонилась и, ласково поцеловав ее, проговорила:
— Умница моя.
Зина молча поцеловала руку матери.
— Все придет в свое время…
Аглаида Васильевна точно подслушала разговор сестер.
— И я в твои годы, когда кончила курс, также не знала, что с собой делать. Все идут одной и той же дорогой: только кажется, что с нами вот именно и происходит что-то особенное… Вот приедем из деревни, я знакомства возобновлю…
— Да я и не хочу их, — огорченно перебила дочь.
— Ну, не хочешь, ложу в театр возьмем… К тете в Петербург поедешь… Только не плачь: это портит цвет лица, будешь бледная, со вздутыми глазами. Ты что ж, поедешь сегодня на дачу к Елищевым?
— Кажется, поеду.
— Если бы Тёма был свободен, — сказала мать, — ему бы тоже поехать надо было.
— Страшно занят, — не утерпела Зина, — для всех время есть, кроме сестер.
— Рожденье Корнева, — заступилась Наташа.
— С сестрой за брата отпразднует…
— Ну, ну, — заметила Аглаида Васильевна, — уж ты сегодня расходилась.
— Вы, мама, всегда за Тёму заступаетесь…
— Ах, скажите пожалуйста, — рассмеялась Аглаида Васильевна, гладя волосы дочери, — вы, кажется, и до мамы добираетесь.
Зина встала и горячо поцеловала мать.
— Надо, детки, мягче относиться друг к другу, — говорила мать, целуя, в свою очередь, дочь.
Павел Васильевич Корнев шел от обедни, выступая по улице как-то боком, размахивая правой рукой так же свободно, как будто он шагал не по улице, а по своему кабинету. Он сдвинул легкую соломенную шляпу на затылок, отдувался, пускал свое «фу» и по временам обмахивался большим полотняным платком, который за два конца держал в правой руке.
Обгоняя его, прошли его сын и племянник, студент местного университета. Оба шли возбужденно и быстро.
Корнев сосредоточенно слушал и, по обыкновению, обгрызал свои и без того обглоданные ногти.
— Я прочитал твою статью, — говорил студент. — Видишь ли… Да брось, — нетерпеливо ударил он по руке Корнева. — Скверная привычка какая… главное, хочешь быть медиком: трупное заражение готово.
— Скверная привычка, — ответил вскользь Корнев и принялся опять за ногти.
— Да… так вот я говорю… — поймал свою мысль студент, всматриваясь большими близорукими глазами в проходившего господина. — Если смотреть на жизнь как на удовольствие, тогда, конечно, отчего и не прикрасить ее для большего еще, что ли, удовольствия… Но если жизнь…
Студент поискал глазами, оглянулся для чего-то назад и, точно поймав нужное слово, продолжал:
— …но если жизнь — серьезный труд, решение весьма важной задачи, на которую полагается весьма ограниченное время, именно наша жизнь — время, из которого мы не имеем права терять ни одной секунды.
Студент на мгновение нервно открыл глаза, еще раз оглянулся.
— Тогда все то, что понимается под словом «художественно»…
— Понятно, — озабоченно произнес Корнев, прибавляя шагу.
Они почти бежали по улице. Опередив немного Корнева, ухватив его за пуговицу парусинового пиджака, студент продолжал:
— Не только потеря времени, но и вред!
Последнее слово крикнул он на всю улицу.
— И вот почему! Человек с самой серьезной физиономией говорит:
Пока не требует поэта К священной жертве Аполлон, В заботах суетного света Он малодушно погружен.[56]Мне представляется такая картина: сидит чучело с длинными волосами, сидит и ждет, пока его потребуют и поволочат в широкошумные дубравы. А так как сидеть скучно, то он и погружается малодушно и делается между сынами земли самым ничтожным… Вот к чему это приводит: патент на бездельничанье. Напрягся и потек, потек и изнемог. Та же мысль, только красивее передана. А в погоне за этой красотой гибнет знание. Человек, вместо того чтобы учиться и с этим знанием, как анатом со скальпелем, идти в жизнь, развертывать ее не в фотографическом изображении, в каком мы ее и без того все видим, но осмыслить не можем, а в систематичном изложении постоянно накопляющегося, неотразимого вывода, — человек сидит болваном и ждет, пока его идиот Аполлон потащит в широкошумные дубравы… пакость! Уж если этакому болвану охота время свое тратить, так и пусть его, ну, а читать его ерунду прямо уж преступление… В этом и зло этого принципа искусства для искусства.
— Да, конечно…
— А вот ты в своей статье и не подчеркнул этого… Есть и еще очень скверная сторона здесь. Художественная форма очень капризная вещь: удается не то, что хочешь, а то, что выходит; ведет, следовательно, форма, а не суть. И еще: художественно ты можешь воспроизвести то, что видел, положим, но то, что ты слышал, например, тебе не удается облечь в художественные формы, — ты бросаешь, а между тем, может быть, слышанное по содержанию гораздо важнее наблюденного. Опять содержание гибнет из-за формы. А между тем жизнь не форма, и за каждое предпочтение формы перед сутью приходится дорого платить. Вся задача людей, все их развитие сосредоточено на том, чтобы по возможности расширять формы жизни, — это мерило цивилизации: у китайца под формой все протухло, тина, болото… У американца жизнь бьет ключом. Больше можно сказать: форма — мерило силы народной, и преобладание ее над сутью — бессилие народа. Литература и должна разбивать эти мешающие жить формы. И что ж? Она же сама, этот, так сказать, таран рутины сам превратился в такую рутину, что современному русскому живому, умному человеку, не обладающему этой формой, приходится, не раскрывши, что называется, рта, являться и сходить с подмостков жизни… А между тем это живое слово необходимо. В прежнее время без пара, электричества, без этих страшных рычагов цивилизации там, может быть, и можно было дожидаться сочетания и содержания и формы, а теперь… когда выпячивает и с боков и снизу… когда чуть не караул впору кричать, сидеть и ждать златокудрого Аполлона может только какая-нибудь Коробочка или идиот, довольный тем, что он освободил себя от обязанности давать отчет за свои благоглупости. Наше время машин и механики, время прозы, ремесленное время, время усиленной грязной работы с засученными рукавами, время ума, а не время тонкостей маркизов и помпадурш, и литература должна быть на высоте. Не форма ее задача, а простым человеческим языком объяснение смысла этой работы, направление к цели, ободрение работников, подготовка и воспитание этих работников, которые бы полюбили свою работу, умели бы умирать за нее, а не придумывать разные отговорки в пользу сытого брюха… «семья, семья…». Так не женись, черт тебя побери, если нельзя найти другой семьи!
— Видишь ты, я указал…
— Бледно!! Это должно выпятиться так, чтобы слова из бумаги лезли.
— Да, пожалуй…
Последнюю фразу Корнев проговорил уже во дворе, в том углу его, где стоял стол, застланный чистой скатертью. Он снял фуражку и, положив ее на стол, сам сел в кресло.
— Сам идет? — спросила озабоченно Анна Степановна, показавшаяся в дверях.
— Идет, — рассеянно ответил сын. — Зайдет, вероятно, к приятелю своему Жану. — Корнев раздраженно кончил: — Да что вы, маменька, пугаете сами себя; точно в самом деле зверь какой идет. Человек никогда вам резкого слова не сказал, а вы его боитесь, точно вот он схватит сейчас палку и пойдет бить посуду.
— Ох, боюсь, — ответила Анна Степановна и, комично сморщившись, посмотрела на сына и племянника и весело рассмеялась. — До смерти боюсь… Так затрепыхается, заколотится в середке, ноги подкосятся… Ей-богу.
Калитка скрипнула, и вошел Карташев.
— О-о! Мой! — просияла Анна Степановна, и, когда Карташев подошел, она обняла его и, подмигивая, проговорила: — Ось як.
Карташев присел к столу и был рад, когда на него перестали обращать внимание. Облокотившись на локоть, он под разговор Корнева с братом задумался, и его сердце тревожно билось, что Корнева теперь с Рыльским и, вероятно, не скоро заглянет сюда: лучше было бы пойти прямо на бульвар. Может быть, она обрадовалась бы его приходу. Карташев вздохнул.
— Ох, тяжко жить! — ласково заметила Анна Степановна, кладя руку на мягкие волнистые волосы Карташева.
Корнев уже несколько раз поглядывал на приятеля. За последнее время он начинал чувствовать какую-то особенную симпатию к Карташеву.
— Ты что это в самом деле? — спросил он.
— Устал, — ответил смущенно Карташев и, отгоняя от себя свои мысли, спросил: — Ну что? решил ехать с нами?
— Куда это? — поинтересовался двоюродный брат Корнева.
— К ним… в деревню, — ответил Корнев.
— Ты что ж, едешь?
Корнев озабоченно посмотрел на мать. Анна Степановна только вздохнула.
— Не решил еще.
— Отчего ж тебе не ехать? — спросил его брат. — Деревня…
Но Карташев перебил его:
— В деревне так интересно.
Студент ждал, что он еще скажет.
— Наши хохлы такие симпатичные, оригинальные… Когда узнаешь их — их нельзя не полюбить. А степи наши… Сначала они никакого впечатления не производят, но постепенно так привязываешься к ним, как к человеку. Знаешь, этот простор, одиночество степи… и ты один…
«Один!» — охватило Карташева с щемящей болью и сильнее потянуло в степь.
Он вздохнул всей грудью.
— А осенью в степи!.. Небо синее, синее… воздух прозрачный, неподвижный… видно на десятки верст: только скирды да где-нибудь стадо овец, да орел на скирде… спокойно… тихо… так и кажется, что степь спит… дышит…
— Не храпит? — добродушно улыбнулся Корнев и посмотрел на брата. Карташев сконфуженно провел рукой по лицу и тоже улыбнулся.
— Смейся, а если бы поехал…
— В деревне есть что посмотреть, — сосредоточенно, избегая Карташева, заговорил студент. — Как разворачивают «Отечественные записки» эту деревню… Успенский, Златовратский — какая прелесть!
— Немножко скучно только, — вставил Корнев. — У Успенского и Златовратского хоть талантливо, а у других уж так серо…
— Ну можно ли так говорить? — вспыхнул студент. — Тебе серо читать, а им жить в этом сером надо. Что ж, оно само посветлеет, если мы от него отворачиваться станем? Разве удовольствия искать в таком чтении? Материал здесь важен, и всякий хорош, лишь бы верный был. В этом отношении «Отечественные записки» и ставят вопрос в том смысле, в каком я выше говорил, — никакой формы не надо, суть давай, — потому что речь здесь идет о решении самой насущной в жизни государства задачи. Здесь нечего разводить эстетику: нужно знание… Для человека с хорошими мозгами в деревне первая пища.
— Да нет… что ж? я, собственно, поехал бы, — согласился Корнев и покосился на вошедшую мать.
Анна Степановна покачала головой.
— Да уж поезжай, — вздохнула она и, обратившись к Карташеву, спросила: — Где-то моя коза? Вы не бачили часом?
Сердце Карташева екнуло, и он ответил, стараясь придать своему голосу свободный тон:
— Она на бульвар ушла.
— Вертит тому Рыльскому голову, — покачала головой Анна Степановна. — И в кого она уродилась.
— Не в вас? — спросил племянник.
— Не знаю, я и молодой не була…
Анна Степановна скользнула взглядом по сыну и закончила:
— Так сразу на своего наскочила.
— А за ним уж и весь свет пропал?
Анна Степановна только подняла подбородок и добродушно махнула рукой.
Корнева с Рыльским возвращались с бульвара, пропустив далеко вперед Семенова с хозяйской дочкой. Долба еще на бульваре отстал, встретив какого-то знакомого.
— Слушайте, Рыльский, как вам нравится Аглаида Васильевна? — спрашивала своего спутника Корнева.
— Умная баба, ловко за нос водит своего сына.
— Знаете, я не понимаю Карташева: в нем какая-то смесь взрослого и мальчика.
— Я думаю, в этом и выражается ее влияние: она давит его и умом, и сильным характером.
Корнева весело рассмеялась и проговорила:
— Посмотрите на Семенова, как он тает.
Смеялась ли Корнева, сердилась — все у нее выходило неожиданно, всегда искренне и непринужденно.
Рыльский взглянул на Семенова и усмехнулся.
— Семенов! — позвала Корнева.
Семенов оглянулся, сразу собрался и деловито зашагал к отставшим.
— Вам нравится ваша дама? — тихо спросила Корнева, когда он подошел к ней.
— Вот дурища! — весело, по секрету сообщил Семенов. Все трое фыркнули. — Я…
— Идите, идите…
Семенов зашагал назад к своей даме.
Корнева и Рыльский опять пошли вдвоем.
— Слушайте, отчего мне так весело? А вам весело?
Рыльский ответил сначала глазами и потом прибавил:
— Весело.
Корнева пытливо заглянула в его глаза и произнесла с набежавшим вдруг огорчением:
— Мне все кажется, что вы шутите, а на самом деле думаете совсем другое.
— Я говорю, что думаю.
Корнева наблюдала Рыльского. Рыльский делал вид, что не замечает, и серьезно провожал глазами встречавшихся гуляющих.
— Отчего, когда я хочу на вас сердиться, — я не могу. Пожалуйста, не думайте: я ужасно чувствую вашу самонадеянность и презренье ко всем. Иногда так рассержусь, вот взяла бы вас и побила.
Она рассмеялась.
— А посмотрю на вас… и все пропадет… Ведь это не хорошо… правда?
— Что не хорошо? — спросил Рыльский.
Они вошли под тень акаций.
На них пахнуло сильным ароматом цветов.
— Ах, как хорошо пахнет, — сказала Корнева.
Рыльский подпрыгнул и сорвал белую кисть цветка.
— Дайте…
Она оглянулась и, пропустив свидетелей, прикрепила цветок у себя на груди. Она прикрепляла и смотрела на цветок, а Рыльский смотрел на нее, пока их взгляды не встретились, и в ее душе загорелось вдруг что-то. Она закрыла и открыла глаза. Ее сердце сжалось так, будто он, этот красавец с золотистыми волосами и серыми глазами, сжал ее в своих объятиях.
Она пошла дальше, потеряв ощущение всего; что-то веселое, легкое точно уносило ее на своих крыльях.
— Ах, я хотела бы… — вздохнула она всей грудью и замерла.
Нет, нельзя передать ему, что хотела бы она унестись с ним вместе далеко, далеко… в волшебную сторону вечной молодости… Хотела бы вечно смотреть в его глаза, вечно гладить и целовать золотистые волосы.
— Нет, ничего я не хочу… Я хотела бы только, чтобы вечно продолжалась эта прогулка…
Но они уже стояли у зеленой калитки их дома. Сквозь ажурную решетку увидала она брата, спину уныло облокотившегося о стол Карташева и, оглянувшись назад, произнесла упавшим голосом:
— Уже?
Эхо повторило ее вздох в веселом дне, в залитой солнцем улице и понесло назад в ароматную тень белых акаций, в безмятежное синее море, в искристый воздух яркого летнего дня.
После обеда компания отправилась кататься на лодках. Поехал и Моисеенко, соблазненный заездом на дачу Горенко, с которой он был знаком и которой интересовался. По поводу приглашения дочери хозяина Корнев было запротестовал, но Семенов энергично обратился к нему:
— Ты молчи… понимаешь?
Так как Семенова поддержала и Корнева, то Корнев только рукой махнул.
Вервицкий тоже ехал и, сбегав домой, захватил на всякий случай с собой гитару и удочки. А Берендя принес скрипку.
В гавани Вервицкий, вынув из кармана карандаш и книжку, как признанный уже писатель, приготовился записывать свои путевые впечатления.
Это очень занимало и веселило компанию, пока приготовляли лодки.
— Ты что же будешь записывать? — спросил Долба.
— Так, что придется.
— А уж написал что-нибудь?
— Чистая…
Наняли две лодки, так как одной, достаточно поместительной, не оказалось. Вопрос — кто где сядет — решился как-то сам собой. Карташев, избегая Корневой, как только она вступила в лодку, прыгнул в другую, за ним прыгнула Наташа, за ней Корнев, а за Корневым Моисеенко.
— Ну-с, держитесь, только и видели нас! — крикнул весело Долба с своей лодки.
Карташев сделал презрительную гримасу. Как опытный моряк, он сразу увидел, что их лодка ходче и парус больше. Но, чтоб найти себе в чем-нибудь утешение, он взял рифы, вследствие чего лодка Долбы обогнала его. Карташев сам сидел на руле.
— Не подвезти ли? — раскланялись из первой лодки.
Карташев молча злорадно посмотрел, волнуясь от нетерпения. Пропустив первую лодку, выехав уже в море, он с отданными рифами, с подтянутыми кливер и фокашкотами направил лодку в сторону от ехавших впереди. Лодка понеслась стрелой, сильно накренившись на левый бок, только не черпая воду, ныряя и описывая громадный полукруг.
— Куда это они? — спросила Корнева, сидевшая рядом с Рыльским.
Лодка Карташева на мгновение качнулась, круто стала против ветра, болтнулись паруса, и уже правым галсом понеслась наперерез второй лодке.
— А красиво, — заметил Вервицкий.
— Записывай скорей, — крикнул Рыльский.
Лодка неслась и была совсем близко. Шум воды, точно кипевшей у ее носа, угрожающе усиливался.
— Что ж это они, прямо на нас? — взволновался Вервицкий.
Он схватился за борт и принялся делать отчаянные взмахи рукой, долженствовавшие указать Карташеву истинный путь.
— Да, ей-богу, он опроки…
Лодка Карташева пронеслась у самого носа их лодки: то, что называется у моряков, нос обрезала.
— Ну, разошелся Карташев, — сердился Рыльский, — он теперь не успокоится, пока или нас, или их не перетопит.
— Ей богу, шалый какой-то, — сказал Долба, — не может, как люди.
— Ну его к черту, поедем, господа, назад, — предложил Семенов.
Карташев уже успел повернуть свою лодку и опять резал воду, направляясь на противников.
— Послушай, мы не потопим друг друга? — спросил Корнев.
— Ну!.. я ведь собаку съел…
— Ну, съел так съел, — согласился Корнев и, оставив всякую заботу, продолжал разговор с Наташей и братом.
Разговор вертелся на Горенко. Говорила больше Наташа, а кавалеры слушали: Моисеенко — потому, что речь шла о Горенко, Корнев — потому, что говорила Наташа.
Карташев, почти налетев опять на лодку, круто повернул было, чтобы плыть рядом, но не рассчитал расстояния, и кончилось тем, что чужим парусом чуть было не выбросило Семенова в воду.
Семенов, взбешенный, еще бледный от избегнутой опасности, властно закричал Карташеву:
— Сумасшедший ты… Отнимите от него руль!
И Семенов, красный, решительный, своими маленькими горящими, как угли, глазами впился в Карташева. На мгновение все поддались его команде. Только Наташа, сконфуженная, улыбалась и ласково смотрела на брата.
— Ну, ты, отец командир, сокращайся, — пренебрежительно крикнул Корнев Семенову, — не утопили… Чего петушишься?
— Садись, садись, — дернул Семенова Долба.
— Да это черт знает что такое, — волновался Семенов, усаживаясь, — сумасшедшее нахальство какое-то… Надоело жить — топи себя…
Намек Семенова вызвал улыбку у всех. Семенов успокоился.
Только Берендя ничего не понял и, довольный, что все благополучно кончилось, пробормотал:
— Че… черт побери… если б опрокинули, я… я утонул бы.
Он так глубокомысленно и серьезно вник в миновавшую опасность, лучистые глаза его так раскрылись и уставились, что все покатились со смеху.
— Ти… ти… ти… отчего ж бы утонул? — спросил Вервицкий.
— Ду… дурак, — обиделся Берендя, — я плавать не умею.
И лодка опять задрожала от смеха.
Неудача Карташева кончилась тем, что он должен был уступить руль лодочнику-греку, который, воспользовавшись удобным моментом и чувствуя за собой большинство, решительно отнял у него руль.
Окончательно развенчанный, Карташев с горя полез на нос и, устроившись там за кливером так, чтобы его никто не видел, придумывал план мести всем: коварной изменнице и отныне своему заклятому врагу, Рыльскому, и Семенову, и даже лодочнику. Относительно Мани у него уж не было теперь никаких сомнений: теперь они сидели рядом, и это убеждало его, что он в отставке.
Было из-за чего залезть за парус, страдать, сознавая глупость страдания, и поздно жалеть, что поехал.
На лодке, где сидела Корнева, послышалось пение. Пел Долба. Его приятный, сильный и характерный голос хохла мелодично несся по воде.
Все притихли и отдались очарованию пения и тихого, безмятежного вечера. Было часов восемь. Ветер совсем стихал. Солнце садилось и золотило своими лучами синюю даль моря. Море точно вздыхало от избытка безмятежного покоя. И воздух, и море, и небо там, на далеком западе, точно засыпали, утомленные, сладким сном. Запал как загорелся, так и горел, залитый огненной массой. Только ближе к горизонту, точно зажатый, сквозил клочок прозрачного золотисто-зеленого неба; точно вход туда, за пределы земли.
Корнев засмотрелся в эту точку. Неожиданной волной вдруг хлынуло на него далекое прошлое. Точно какие-то таинственные двери этого далекого, милого детства вдруг отворились в этом клочке золотисто-зеленого неба и мягко звали в свою вечную даль. Прильнув к стеклу окна своей детской, он, опять мальчик, смотрит на это заходящее солнце, смотрит на сад, на целый лес других садов. Далеко за ними ярко горят в заходящих лучах окна какой-то башни. Что это за башня? Кто в ней живет? Давно зашло солнце, потухли окна волшебной башни, едва догорает розовая полоска на далеком западе, а он все не может оторваться от чарующего вида. Уже сонного укладывает его няня в кровать, но и в кровати долго еще мучит он свою старую няню трудными для нее вопросами, куда делась башня, и куда солнце ушло, и что за полоска там далеко, далеко так тоскливо светится в надвигающейся темной, пока еще прозрачной в вечернем сумраке, ночи.
И старушка няня, как умеет, отвечает на трудные для нее вопросы: солнце спать ушло, полоска оттого, что солнышко дверь забыло затворить, принцессу заколдовал злой волшебник и посадил в башню. Он вырастет, убьет волшебника и уедет с принцессой в ту страну, куда ушло солнышко, где так хорошо, что и сказать нельзя. Теперь и не помнит он, и что это за башня, и где это все было, и няни уже нет. А стоит, как живая, будто стоит там за дверьми его вечной детской, тихо возится и ждет, когда он приведет к ней заколдованную принцессу.
Корнев вдруг очнулся, недовольно сдвинул брови и покосился на своего двоюродного брата.
Ветер совсем стих. Паруса сердито хлопнули и опустились. Лодочники перебросились между собою несколькими греческими фразами и стали убирать паруса. Карташеву хотелось принять участие в уборке, но он был сердит на лодочника. Он равнодушным недружелюбным взглядом наблюдал, как тот возился, и не двинул пальцем. Когда лодочник, забравшись на нос, задевал его, он брезгливо, так, что лодочник замечал, сторонился от его загорелых, засученных рук, от его черной бороды, обветренных глаз и красной фески.
Долба продолжал петь.
Когда он кончил, Берендя заметил:
— За…замечательно мелодичны малороссийские песни.
— Типично… именно с оттенками хохла, — поддержал Рыльский.
— Что? — спросил его с подъехавшей в это время лодки Корнев.
Лодки поехали рядом.
— Я говорю, типично поет он.
— Да, — согласился Корнев.
— И голос у вас выразительный какой, — сказала Наташа. — Спойте еще.
— Еще? Что ж еще? Я принимаю похвалу только оттенку. Наши песни только тот споет так… чтоб передать душу хохлацкую… а наша душа в степи, в тоске по степи, когда ее нет… в удали казацкой… в любви, — есть дивчина, любит ее, сколько пустит, — нет — потопит свое горе и душу без думки, с размаху, так — только чтоб дух захватило в славном деле… Спеть так может только тот, кто рос в степи, кто кормился в ней подпаском, плакал, когда били его, радовался, когда дивчина-сердце по той степи шла да светилась на весь божий мир. О! такой запоет про степь: запоет, як про мамку свою рыдну, затоскует и заплачет, как про дивчину, от которой оторвали люди, а сердце не забыло…
Ой, мамо, мамо, Сердце не бажае, Кого раз полюбит — С тем и помирае.Он оборвался и раздраженно проговорил:
— Это не та хохлуша поет, что полурусский костюм надела, да и думает, что она хохлуша. Это не в три яруса перевязанная кацапка поет, которой хоть в очи наплюй… кисель какой-то… тесто: облепит своего мужа так, что и застрял и скис… Это поет дивчина, без которой и Сечи и воли не было бы у казака… та, которая не боится искать, а уж «знайдет», так сумеет взять то, что ей бог, а не люди дали, спрашивать не станет… даст свое счастье, кому захочет.
— Ну, однако, жена Тараса Бульбы не похожа на ту, которая тебе снится, — заметил Корнев.
— Мне или Гоголю снится? Была бы Сечь, если б бабы не гоняли их туда? Вся история наша не с бою? А кацапы всё киселем: закиселили татар, закиселили французов… Та-а-рас! Посмотрел бы я на твоего Тараса, если б ему русская трехъярусная попалась.
— Слушайте, Долба, я хохлуша? — спросила Корнева.
Долба поднял голову и, облокотившись локтями о колени, ловя губой свои подстриженные усы, смотрел ей в глаза и загадочно щурился.
Корнева не выдержала. В глазах ее мелькнуло что-то.
— Ведьма! — быстро наклонился к ней Долба и залился веселым смехом.
— Благодарю, — обиделась Корнева.
— Нет, так сразу нельзя ответить… Вы знаете, у нас, у хохлов, как паробки дивчат узнают: кохаются.
— Что значит кохаются?
— Кохаются?.. Воля полная… у нас девушка до свадьбы совершенно вольная, и критики на нее нет: хочет — с одним жартуется, с другим, — пока не подберутся друг к другу.
— Что ж, это разврат… — заметил Семенов.
— Нет, разврата нет: воля. Разврат, где воли нет, а здесь воля полная… И дело до разврата не доходит.
— Ну… — кивнул головой Семенов.
— Под устав не подходит, — в тон ему сказал Рыльский.
— Под устав нравственности не подходит, — ответил с ударением Семенов и уставился в глаза Рыльскому.
Рыльский понял, на что хотел намекнуть Семенов, и спросил, слегка прищуриваясь:
— Чувствуешь себя хорошо?
— Очень хорошо.
— Ну, и проповедуй своей невесте…
— Я надеюсь, что моя невеста сама это будет знать, — ответил многозначительно Семенов.
Наступило общее неловкое молчание.
— Описать тебе твою невесту? — предложил Долба Семенову.
— Опиши, — вызывающе протянул Семенов.
— Красивая, — начал Долба, отсчитывая по пальцам, — конечно, с хорошими манерами, — словом, то, что называется воспитанная.
— Надеюсь.
— Будете играть: ты на скрипке, она на рояле.
— Обязательно.
— Ну, что ж еще? По утрам станете играть, под вечер гулять ходить будете… Ты будешь затягиваться с двойным наслаждением против теперешнего и будешь ей всё объяснять: «Вот это, моя милая, хороший человек, а это дурной, а по сторонам, когда я говорю, не смотри, а то я обижусь. А если я обижусь, я не скрипку, а тебя пилить стану. А если ты не образумишься, я тебя попру своим презреньем и понятием о чувстве собственного достоинства вообще и о том, что такое порядочная, воспитанная женщина в особенности…»
— Ну, потрудитесь теперь свою невесту описать.
— Моя? моя будет или из деревни, или одного со мной ума и развития, которую бы учить не пришлось, потому что все равно не научишь, а сам засосешься в ее киселе. Ну, вольная будет, умная…
— Все умных возьмут, а дуры куда же денутся? — спросил Вервицкий.
Долба весело посмотрел на него.
— Выбирать-то мы с тобой будем…
— Ну что же? кому ж нибудь все-таки достанется глупая, — сказал Вервицкий.
Долба оглянул всех и ответил, почесывая затылок:
— Не сообразил. Ты что не пишешь?
— Не пишется, — пожал плечами Вервицкий.
Все рассмеялись, и даже Карташев не удержался, фыркнул за парусом.
На горе из-за сада показалась дача Горенки. Лодки пристали к мягкому песчанистому берегу.
Пока соображали, как подтянуться к сухому месту, Долба, проговорив: «Эх вы!» — прыгнул и по колени в воде потащил за канат лодку.
— Постой, и я, — предложил было Берендя. Но, пока он собирался, носы лодок уже лежали на сухом берегу.
Один за другим попрыгали все, за исключением Карташева.
— Обиделся, — тихо махнул рукой Рыльский.
Еще подождали, и, наконец, Долба спросил Карташева:
— Ты что ж?
— Я не пойду, — ответил Карташев.
— Пойдем, Тёма, — попросила было сестра.
— Не пойду, — отрезал Карташев и отвернулся.
Переглянулись все и стали медленно подниматься в гору.
— Что с ним сегодня? — спросила Корнева.
Рыльский молча пожал плечами.
— Ну, что ж? не хочет, и бог с ним, — сказал Семенов.
Карташев лежал в лодке так плотно, точно прирос, злорадно провожая глазами исчезавшую между деревьями компанию.
Горенко сидела на ступеньках террасы и, увидев многочисленное общество, пошла к ним навстречу.
— Наташа! — радостно бросилась она.
Она быстро поцеловала Наташу, посмотрела на дорожку, откуда пришли все, и спросила:
— А брат твой?
— Капризничает… в лодке лежит, — ответила Корнева.
— Просто не в духе, — сказала Наташа, — с утра он еще… там дома у него вышла одна история неприятная.
По лицу Горенки пробежала тень.
— Что ж, он боится, что при виде меня ему еще неприятнее станет?
Анна Петровна обиженно улыбнулась, пожала плечами и повернулась к остальным:
— Милости просим на террасу.
Моисеенко как поздоровался, так и стоял, продолжая смотреть на нее.
— Вы как попали? — спросила его Горенко.
— Только под одним условием и поехал, чтобы к вам на дачу, — выдала его Корнева.
Горенко покраснела и, по привычке кусая губы, пошла за другими рядом с Моисеенко.
— Как брат?
— Ничего… сегодня лучше.
Манера говорить Анны Петровны была оригинальная и своеобразная: она отвечала не сразу, как будто ее отделяла от говорившего какая-то изолирующая среда, звук чрез которую проходил не сразу, а нужно было время. Иногда казалось, что она не слышала, но проходило время, и она отвечала так, как будто отвечала себе, но могли слушать и другие. Эта манера на Моисеенко действовала в смысле усиления того особенного и впечатления, и уважения, и обаяния, какое он чувствовал к ней.
Брат Горенко, Сергей Петрович, стройный, худой, с темным лицом, тусклыми черными небольшими глазами, с черной, окаймлявшей лицо бородкой, смотрел подавленно, вопросительно протягивал свою худую руку и старался приветливо улыбаться.
— Любуетесь? — спросил его Долба и показал на море.
Часть берега скрывалась за садом, но дальше был открытый вид, и ничто не мешало взгляду сразу охватить и потонуть в безбрежной, точно позолоченной, морской глади. Только в левом углу террасы сквозь деревья просвечивал обрывистый берег с торчавшими из воды острыми камнями, поросшими длинной морской травой. Каждый раз, как волна плескала о камни, трава эта как веером расплывалась по ней. В то время, когда везде царила мертвая тишина, были неподвижны и воздух, и море, и сад, в том уголке все продолжало бурлить, все несло какой-то шум и постоянно привлекало к себе тревожные взгляды больного. Но опять он обращался к далекому горизонту, где все в ярком огне лучей точно застыло в неподвижном покое, и опять стихал и удовлетворенно, без мысли, смотрел в пространство.
— Мы не стесняем? — спросил Анну Петровну тихо студент.
— Нет, нет… Сейчас чай будем пить.
Наташа была не в духе.
Корнев грыз ногти и старался дать себе отчет, что он чувствует к Наташе: ему нравились ее глаза, ее волосы, фигура, но не было цельного впечатления: захватывающего интереса. И он еще пытливее заглядывал в ее черные глаза и еще озабоченнее грыз ногти.
«А может быть, просто я ей не интересен? Это само собой разумеется, — спешил он себе ответить, — но и с остальными она такая же».
Только при брате она оживлялась, и тогда Корнев чувствовал ее сильнее. Зато в отсутствие его она вся была пред ним налицо, и это доставляло ему и тайное удовольствие, и огорчение. Сидит, бывало, за уроком и вспомнит вдруг ее: на мгновение потонет в воспоминаниях, спохватится и гонит их от себя, и после этого еще противнее ему «таянье», как он называл ухаживанье Семенова. В такие минуты нежных воспоминаний ему казалось, что и он не лучше Семенова — такой же, уныние наводящий своим ухаживающим видом, донжуан.
— Вы как будто не в духе? — спросил Моисеенко Анну Петровну.
Она окинула взглядом гостей, покусала губы и ответила сама себе:
— Семь человек, бабушка восьмая… — И, повернувшись к Моисеенке, сказав: — Да, мне немножко не по себе, — ушла с террасы.
Начали накрывать на стол, пришла бабушка, старая, сгорбленная, маленькая и почти глухая. Это была единственная родственница Горенки.
В ожидании чая компания сидела, вяло перебрасываясь фразами.
— Слушайте, странная эта Горенко какая-то, вы не находите? — наклонилась Корнева к уху Долбы.
Долба кивнул головой.
— Зачем мы приехали?
Долба ответил молчаливым пожатием плеч.
— Наташа, что ж твой брат? Так и будет там сидеть? Я пошлю за ним Машу… — вошла Горенко.
— Не придет, — вздохнула Наташа.
— Я пошлю все-таки.
Молодая горничная нашла Карташева все там же в лодке. Он с изысканной вежливостью, но бесповоротно заявил ей, что чувствует себя не совсем хорошо и потому прийти не может.
— Барышня будет очень жалеть, если вы не придете.
— Мне самому очень жаль…
Карташев не лгал: вечер так тихо догорал, так золотилось море, с таким сожалением выглядывало в последний раз, исчезая, солнце, что сердце Карташева невольно тоскливо сжималось от мысли, что он обречен в такой вечер на такую неприятную роль.
И горничной его было жаль. Она все стояла и наконец проговорила, ласково смотря на него:
— Может, пойдете?
— Нет, благодарю вас, право же, не могу…
Горничная ушла, но почему-то ее брало все раздумье, так ли уж он болен, что и до террасы не дойдет.
На повороте она еще раз оглянулась, постояла и, приподняв одной рукой платье, тихо стала подниматься в гору.
Карташева приятно тронуло внимание горничной. Он с удовольствием переживал ощущение взгляда ее ласковых глаз.
Прибежала Наташа, узнав, что он болен.
— Тёма, ты болен? Что с тобой?
Надо было хорошо врать.
— Просто меня укачало и теперь тошнит.
— Тебя никогда не укачивало!
— Я и сам не знаю… я думаю, оттого, что я лежал…
Карташев с наслаждением видел, что Наташа начинает верить, и думал с удовольствием в то же время, что его хоть вверх ногами поставь, и то не укачает.
— Может, домой поедем?
— Напротив, я и болен оттого, что закачало: я рад так полежать…
Наташа поверила и ушла, успокоенная.
Солнце село, быстро надвигались сумерки, поднималась свежесть с моря и с сада, распустилось масличное дерево и разлило свой чудный и сильный аромат. На горизонте медленно выплыла луна: большая, нежная, точно какой-то прозрачный шар. Первые лучи ее скользнули в полумраке, и, как в зеркале, отразились и потемневшее море, и загоравшиеся в небе звезды, и смолкнувший берег. В деревьях мелькнул огонек, и заблестели окна дачи. Блеск от них проникал до берега и слабо отражался в воде.
Все жалели Карташева и удивлялись, как это укачало его. Подали чай. Понемногу все освоились с обстановкой и уж не чувствовали себя так неуютно. Долба смешил всех своими мокрыми ногами и наконец ушел на кухню сушить их. Вервицкий, напившись чаю, что-то записал в книжку и пошел, как ни удерживали его, ловить рыбу.
— Это мое правило: что назначил — выполнить; не надо было назначать…
И он так пожал плечами, так убежденно посмотрел на всех, что ясно было, что он, во всяком случае, пойдет ловить рыбу.
Корнева хотела было хитростью удержать его.
— Вы играть хотели на гитаре?
Он только с сожалением развел перед ней руками: та, которой принадлежит его гитара, не здесь, и гитара не изменит ее памяти. Это была, и это знали все — Зина Карташева.
— Ну, и идите, нам Берендя сыграет.
— По крайней мере, сыграет! — подзадорил Рыльский ему вслед.
— На здоровье, — равнодушно ответил из сада голос Вервицкого.
Полились звуки мягкой, нежной игры Беренди.
На сердце у Карташева становится спокойнее, тише: аромат берега, огни в саду, глухой шум моря, блеск луны, музыка — вытесняли оттуда всю будничную прозу действительности, внеся взамен жгучее очарование волшебного вечера.
Если б не было стыдно, он даже пошел бы наверх; но он не пошел и слышал, как после скрипки зашумели стулья и по ступенькам раздались шаги… Он пожалел, что так скоро кончилось все и поедут назад. Но назад не поехали, вышли на берег и пошли налево. Две фигуры повернули к нему, еще две пошли было и отстали.
— Здравствуйте, Артемий Николаевич, — сказала ему Горенко грустным, ласковым голосом.
— Здравствуйте, — ответил с удовольствием Карташев из своей засады.
— И поздороваться не хотите?
— Тёма, Нина ни к кому другому не пришла бы первая.
— Что ты говоришь, Наташа?
Наташа сконфузилась, и все, что нашлась сделать, — это крепко поцеловала подругу.
Горенко рассмеялась и проговорила:
— Ну, хорошо, я пришла… хотя я очень, очень обиделась, что вы не захотели даже…
Но Карташев уже карабкался из своей засады и за шумом и треском своих прыжков не слышал конца.
— Тёма, может быть, тебе лучше немножко… пойдем с нами, — попросила Наташа.
— Если вам будет нехорошо, мы вас под руки поведем.
— Я попробую, — произнес смущенно Карташев, придавая голосу искренний тон.
— Ведут! — закричал Долба, когда подходил Карташев, и все весело бросились к нему.
Карташев шел и улыбался.
— Слушайте, Карташев, скажите правду: на кого вы сердитесь? — спросила Корнева.
— Я ни на кого не сержусь…
— На меня?
— А уж на вас, во всяком случае, нет.
— Врешь, сердишься, — настаивал Долба, — на кого-нибудь сердишься. Говори: мы сейчас того бить будем.
— Я и сам могу.
— Ну так бей, — сказал Семенов, подставляя спину.
— Чего мне бить тебя?
— Мир, значит? ну, давай руку… послушай, мы идем гулять.
— Я с Карташевым пойду, — заявила Корнева. — Не мешайте нам… у меня с ним дело…
Корнева увлекала Карташева вперед.
— Слушайте, Карташев, ничего по мне не заметно?
Карташев на законном основании поднял на нее глаза, увидя опять ту, которая так мучила его, и произнес, подавляя волнение:
— Ничего.
— Ничего? — спросила она, и на него посыпались знакомые искры. — Ничего?! Сказать вам?!
Карташев опять поднял глаза, опять увидел ее совсем, совсем близко, почувствовал одуряющий аромат масличного дерева, и в сердце его начало тревожно закрадываться предположение, сладкое, страшное, мучительное.
— Сказать?! — тревожно, замирая, повторяла Корнева, не спуская с него глаз.
— Говорите… — прошептал он.
— Я невеста Рыльского…
Так отчетливо отпечатлелись дорожка и кусты вдоль нее, а ниже деревья, и луч луны, и сухой аромат сада, и ее белая рука… Ему вдруг показалось, что это мертвая рука, и стало жутко.
— Что ж вы молчите?
— Я поздравляю вас… Я очень рад и за Рыльского.
— Слушайте, как, по-вашему, Рыльский хороший человек?
— Очень хороший… Я очень люблю и уважаю Рыльского.
— Слушайте… он мне позволил сказать вам…
— Я ему очень благодарен…
— Только — это се-е-крет.
Карташев вздохнул всей грудью.
— Я никогда его никому не скажу…
Корнева улыбнулась.
— По крайней мере, до свадьбы… Слушайте… Я вас очень люблю… Больше всех товарищей ваших… Скажите мне: я не опрометчиво поступила?
— Немножко рано, но и то… нет, ничего: Рыльский очень серьезный человек.
Сзади подошел Рыльский и сконфуженно спросил:
— Я вам не помешаю?.. о чем?
— Я говорю, что рад за Марью Павловну и тебя… со всяким другим это было бы рано, но ты, если уж говорить откровенно, и серьезнее и умнее нас всех.
Карташев горячо сжал руку взволнованного Рыльского и быстро пошел назад.
— Карташев, — ласково, мягко позвал Рыльский, — никому, пожалуйста.
— Будь спокоен.
Они еще раз пожали друг другу руки, и Карташев возвратился к отставшим. Но вдруг он бросился в сторону и стал в кусты.
Мимо прошел Семенов с своей дамой, Наташа и Рыльский с Берендей, Горенко со студентом и Долбой.
Когда все ушли, он облегченно вздохнул и тихо вернулся назад. У него не было уже ни гнева, ни раздражения: ему просто хотелось быть одному.
Высоко взошла луна на небе, когда наконец стали собираться домой.
Из тени вынырнула встревоженная фигура долговязого Беренди и снова исчезла в кустах.
— Что за черт — сбился я? О!
Перед ним стоял Карташев.
— С…слушай, где я? — спросил Берендя. — Я потерял их.
— Идем к лодке…
Они вышли на дорожку.
Корнев и Наташа отстали, сбились и напрасно искали остальных по залитому луной саду. Какая-то особая тревога охватывала их в этом неподвижном, светлом, точно мертвом или очарованном саду.
— Тьфу! черт! — обрадовался Корнев, наткнувшись на Карташева и Берендю. — Где ж остальные?
— Мы сами их ищем.
— Кричать надо. — И Корнев, приложив руки ко рту, закричал.
Все притихли и ждали. Прошло несколько секунд, пока пришел назад далекий ответ.
— Вон куда их занесло, — заметил Корнев.
— Е-хать по-ра-а!
— Иде-ем!
— Это Долба орет.
Один за другим сбегали к берегу со своими проворными тенями маленькие фигурки и останавливались в немом очаровании. Серебром заливались море и берег. Светлая полоса резала воду, сливалась на горизонте, дрожала и мигала в ярком блеске луны. Млел воздух, пропитанный наркотическим запахом жасмина и масличного дерева. Охваченное негой и страстью, море напрасно сдерживало свое тяжелое дыхание. Волна за волною ночного прибоя подкатывалась к отлогому мокрому берегу и с бессильным вздохом падала в объятия жгучей волшебной ночи.
Корнев первый пришел в себя.
— Ну, едем… Я чувствую, что или я поглупел, или все остальные поумнели.
— Все поглупели… че… черт возьми! — весело воскликнул Берендя.
И, обратившись к подходившему Вервицкому, он еще веселее закричал:
— Те…теперь пиши нас: мы все поглупели.
XI Дорога
Через неделю после дня рождения Корнева Карташевы отправились в деревню. С ними ехал и Корнев.
Поезд отходил в шесть часов вечера.
Аккуратная Аглаида Васильевна забралась на вокзал за час до отхода. Корнев, Наташа и Карташев пошли гулять на площадь, а Аглаида Васильевна с остальной семьей сидела на платформе в тени искусственной ограды из цветов.
В пустую залу первого класса вошел господин лет тридцати пяти, самоуверенный, с неприятной, заносчивой манерой и, заглянув в противоположное зеркало, устало, раздраженно опустился в кресло. Отразились вызывающие, с морщинками уже, черные глаза, маленькая из серого шелка шапочка, черная, слегка полысевшая на самом подбородке, на две стороны расчесанная борода, подержанная фигура, в легком, хорошего покроя платье, в светлых с застежками ботинках. Несмотря на изящный костюм, претензию и фатоватость даже, солнце и ветер степей положили на лицо господина свою властную печать. Особенно пострадал нос: покраснел и лупился. Это подчеркивало мелкие следы того уже надвигавшегося возраста, который у некоторых можно сравнить с неприятным пробуждением после веселого вечера, где всего было довольно: и вина, и женщин, и проигранных денег.
Увидав вошедшую Аглаиду Васильевну, господин с установленной любезностью тех светских отношений, когда нельзя избегнуть встречи и отсутствие общих интересов делает эту встречу скучной и неинтересной, подошел к Аглаиде Васильевне.
Аглаида Васильевна сдержанно, почти сухо поздоровалась с ним и огорченно подумала, что придется ехать вместо третьего класса во втором.
Возвратившиеся Корнев, Наташа и Карташев нашли Аглаиду Васильевну и Зину в обществе этого господина.
— Это кто? — спросил Корнев, отходя с Карташевым.
— Неручев, — ответил Карташев, — наш сосед: страшный богач, но запутался так, что, вероятно, все с молотка пойдет.
— На здоровье, — проговорил равнодушно Корнев.
Узнав, что решено ехать во втором классе, Корнев сморщился и сказал Карташеву:
— А твоя мать пропитана все-таки всей этой ерундой в значительной степени.
Карташев не любил критиковать мать и, промолчав, пошел хлопотать насчет багажа.
Раздался третий звонок, и поезд тронулся. Он медленно извивался в предместьях и дачах города, и, только завидев открытую степь, он, точно увлекшись развернувшеюся далью, весело помчался вперед, разбрасывая по воздуху клочья пара. Оторванные белые клочья медленно таяли в свежевшем небе. Садившееся солнце, скрывшееся было за садами, опять выглянуло и заиграло на стенках вагона.
Через окно от того, в которое смотрели Корнев и Карташев, выглядывала Наташа, жадно подставившая свое лицо встречному ветру.
Соскучившись смотреть, Корнев отвернулся от степи и покосился, нет ли места возле Наташи.
Наташа, точно угадав, вышла из отделения, где сидели Аглаида Васильевна и Зина, и прошла к свободному окну.
Корнев нерешительно потянулся за ней и сел возле на скамью.
— Вы тоже любите степь? — спросил он.
— Люблю, — весело ответила Наташа.
— А вы во многом похожи на брата.
— Я очень рада, — ответила Наташа, стоя боком к окну и смотря вперед.
Ветер играл ее небрежно расчесанными волосами, выбивал их и наконец так рассыпал, что Наташа распустила свои волосы совсем, чтоб собрать поплотнее.
В этой ажурной рамке волос, в косых лучах солнца еще рельефнее светились ее черные большие глаза и манили к себе Корнева своей, как ему казалось, бездонной глубиной.
Она с трудом справлялась с волосами и смотрела на Корнева так, как смотрят, когда без зеркала заматывают там, где-то сзади, косу: непринужденно и внимательно к своей работе. В рассеянности она даже наклонилась немного к Корневу и, казалось, озабоченно всматривалась в него. Корнев чувствовал ее близость, ее безмятежное спокойствие, и его охватывала беззаботная удовлетворенность молодого туриста в приятном обществе расположенных к нему людей.
Корнев в первый раз выезжал из города; в первый раз он был в обстановке, в которой не чувствовалась та проза гимназии, то неудовлетворенное чувство не то тревоги, не то ответственности за что-то, которое так хорошо знакомо всякому гимназисту. Не было риска встретить начальство врасплох, не было в голове завтрашних уроков и полученной единицы. В первый раз все это выпустило на волю свою жертву и осталось в исчезнувшем большом городе. Даже и удовольствие свободного чтения в деревне уступило теперь место потребности полного, беспредельного отдыха.
Кончив с волосами, Наташа опять повернулась к окну, став так, чтобы не мешать Корневу.
На Корнева из-за Наташи в ярких переливах заходящего солнца смотрела беспредельная догорающая степь. Легкий ароматный воздух полей становился еще легче и сильнее охватывал нежным душистым запахом свежего сена. В неподвижном воздухе, в стихающем дне только шум поезда нарушал общий покой, задумчиво сливаясь в однообразный, далеко кругом разносившийся гул. Солнце точно втягивало в себя свои длинные, скользившие по степи лучи и собирало их вокруг себя в ярком без боли сиянии. Только ядро раскаленно сверкало, и рельефнее отсвечивал какой-то там, за горизонтом, океан света и безмятежной дали. Потянулись в ту даль и перламутровые с золотым отливом тучки, и степь, и сам поезд, казалось, мчался туда, чтобы вместе с размаху потонуть и исчезнуть в неведомой дали.
Наташа стояла, облокотившись, смотрела и отдавалась той приятной щемящей задумчивости, какая охватывает под вечер у открытого окна в быстро несущемся поезде, когда глаз так легко скользит по полям, когда так жаль чего-то и так тянет туда, где прихотливо вьется в золотистом море желтеющих хлебов дорожка, где высоко над ней черной точкой в огне заходящего солнца замер и бьется в истоме отшельник степей — дикий кобчик.
Карташев засмотрелся, и мысли улетали в открытое окно и неслись то к поспевавшему хлебу, то к скирдам, то к свежей пашне с седыми быками, лениво ползущими по борозде. И вдруг вспомнилась ему прошлогодняя история с Одаркой в деревне, и сердце его тоскливо-приятно екнуло. Как-то в полдень в саду, на берегу пруда, в самой чаще густо сплетенного вишняка, в ажурной тени его тонких ветвей, в неподвижном, млеющем ароматом темных вишен воздухе, лежал он с книгой в руках и читал. И все так ярко отпечатлелось в памяти: он вдруг поднял голову и увидел шедшую вброд по пруду стройную красавицу, гибкую, как змейка, казавшуюся ему всегда каким-то видением неба, — молодую Одарку. Так и замерли в нем навеки: сверкавший пруд, Одарка, ее небольшое лицо, миндальные глаза, куча каштановых волос, небрежной волной обмотанных вокруг головы, безмятежный взгляд по сторонам, круги по воде и белое тело Одарки, так ярко сверкавшее над прозрачной водой. А он, прильнувший, затаивший дыхание, святотатственно смотрит… И вдруг треск… Одарка видит его, держит в руках свое платье, не знает, на что решиться, и с стыдливой мольбой смотрит на него своими мягкими затуманившимися глазами. Покорный, он идет прочь, но его тянет назад, к ней; он раздумывает, борет порыв, а сильная волна страсти снова охватывает его. Но Одарка уже мелькает между деревьями, и он остается, неудовлетворенный, один с своими жгучими ощущениями. Растерянный, ищущий, он идет назад, туда, где за минуту так ярко искрился пруд, где шла Одарка, где нежно и сильно кто-то пел чудную песнь, где таким жгучим огнем разливался по телу пьянящий аромат темных вишен… Но уж там пусто, только пруд равнодушно мигает да комар поет над ухом свою назойливую, скучную песнь.
Что-то связало с тех пор его с Одаркой, и при встрече с ней загорался и далеко в ее затуманенные глаза проникал его ищущий взгляд. И теперь, при воспоминании, охватило его ощущение взгляда красавицы Одарки, и сердце сильнее забилось предчувствием скорого свидания. Он тяжело вздохнул и высунулся из окна.
Потянуло какою-то свежею сыростью: словно дождем запахло. Последние лучи, короткие и красные, сиротливо скользили, прощаясь со степью. Степь задумывалась и заволакивалась, точно волнами дыма, обманчивым просветом сумерек. Сильней пахнуло ароматом полей, и в небе уже сверкнула и, точно испуганная своим ранним появлением, опять скрылась первая звезда. Вторая, третья — и задрожали в темной синеве яркие трепещущие звезды.
Карташев подсел к Корневу.
— Туда, дальше… когда ночи темнее будут, мы станем ездить на ночевки в степь… прямо в поле… костер, на нем котел с галушками, палочки такие заостренные… Покамест варится, ляжешь у костра и лежишь… закроешь глаза — и вдруг пахнет в лицо свежим ветерком; откроешь — темно… пламя от костра высоко-высоко уйдет вверх и качается там, а ночь так и хватает его со всех сторон: точно живая, точно тени какие ищут чего-то… Вдруг крикнет чайка, и встрепенется все: зашуршит, затрещат кузнечики, и потянет свежим сеном…
— И теперь пахнет сеном, — сказала Наташа, жадно вдохнув в себя ночной аромат свежей степи.
Карташев за Наташей выглянул в окно. В темном небе широкой рекой разлился блестящий Млечный Путь, и от ярких звезд его еще темнее кажется в степи. Точно вспугнутый, быстрее убегает поезд вперед, рассыпая свой огненный след в мягкой ночи. Как будто смотрит что-то оттуда из темной степи. Точно тени былых хозяев глядят в яркие окна вагонов на неведомых, в странном сочетании громадного общества несущихся мимо путников.
На горизонте показалось зарево, и заспорила Зина с братом — где горит. Долго спорили; третью деревню, уступая, назвал Карташев, когда вдруг весело вскрикнул:
— Луна!
Красно-дымчатое зарево мало-помалу собиралось в знакомые очертания. Уже блестящий, неправильный шар поднялся и осветил вокруг себя мягкую прозрачную синеву неба. Выше поднялся он, и первые лучи встревоженно убежали в темную степь — туда, где вдруг выглянула бледная травка, сверкнул бугорок и показались из мрака неподвижные темные скирды.
Неручев сидел в своем купе первого класса и задумчиво смотрел в окно. Вспоминалась вчерашняя ночь в мягком будуаре с открытыми окнами на бульвар, с ароматом этой ночи в блеске моря и в шуме цветущих акаций. Вспоминалась вся неделя сутолоки в городе и необходимость скоро опять ехать в город за деньгами.
Природа, как самый тонкий враг, заманивала туманными надеждами, втягивала в громадные посевы и безбожно обманывала.
Думал он лет десять тому назад, оставляя службу в богатом полку, похозяйничать и возвратиться в столицу богатым, независимым помещиком. Думал повести какую-то деловую жизнь в деревне. Думал избавиться на время от приятного, но разорительного общества дорогих товарищей. И ничего не вышло: нашел товарищей, сам же создал разоряющую его и их обстановку… Неприятное что-то надвигалось и было близко.
Неручев раздраженно тряхнул головой и внимательнее засмотрелся в окно.
Утомилась степь и спит неподвижно в сиянии лунных лучей, спят и лучи в сонной траве. Неподвижный, вдали так отчетливо обрисовался чьей-то заботливой рукой сдвинутый в кучу лесок. Прогудел поезд, сверкнула речка и отразила в себе далекую луну.
— Высь! — радостно встрепенулся Карташев.
«Высь» магической силой охватила молодых, задремавших было путешественников.
Высоко в небо забралась маленькая луна и льет свой волшебный свет на высокую колокольню, неподвижные белые хаты, на постоялый двор, в котором запрягают экипажи приехавших с поездом господ.
Неручев предложил свой экипаж, и Зина с Аглаидой Васильевной едут с ним.
Наташа в теплом пальто, охваченная дремотой и свежестью ночи, жмется и ждет знакомой коляски с Николаем на козлах.
Из-под темных длинных навесов уже несется сонный голос Николая:
— Вперед!
Топчутся лошади, и с гулом выезжают на площадь два экипажа.
Фыркают кони, бегут в ровной степи, и кажется Наташе, что кружится степь и бегут лошади как-то назад, а высокая луна надела белый саван и тоже бежит у нее за плечами и вот-вот хочет обхватить ее… Вскрикнула Наташа и открыла глаза. Встрепенулся и Корнев и смотрит испуганно на нее, стараясь спросонков разобраться, где он и что с ними.
Только на рассвете, точно в панораме, вдруг показалась сверху вся Высь.
Было время, бушевала здесь вольная запорожская жизнь. Но давно уж это было. Точно после осевшей от дождя пыли, спит на заре ясная, спокойная, умытая своей казацкой стариной далекая Высь с своими белыми хатами, вишневыми садочками, с колокольнями на далеком горизонте. Из густого сада уже сквозит красная крыша господского дома, выглядывает мезонин с крыльцом в ту сторону, где за прудом лентой сверкает в густых камышах Высь. Пока еще неподвижно смотрит в воду камыш, пока еще спит село и точно задумались его белые хаты, пока господский дом пустыми окнами глядит в зеркальную поверхность розового от зари пруда, — осторожно выплывают из камыша на гладкую речку то дикая утка с выводками, то нырки, а то и пара серых гусей. Ох! Раньше их забрался и стоит истуканом с ружьем Конон. Стоит терпеливо с засученными штанами по колена в воде и только поводит своими ястребиными черными глазами. Холодно. Дрожь так и хватает, но станет тепло, когда прогремит по реке выстрел и закружится подстреленный гусь на прозрачной воде. Нет, не поспеет новый заряд вдогонку за другим, улетевшим. Уж тонет он в розовой дали и несется все дальше в далекую степь — туда, где ждет его тихий прудок, где дикие дрохвы пасутся да одинокие скирды стоят, где зорким сторожем станет отовсюду стеречь его вольная степь.
Уже встал старый-старый отец Даниил, вышел на крыльцо и смотрит на речку. Дивчата с ведрами потянулись. Одарка назад идет и низко кланяется. Конон с убитым гусем плетется по пригорку. Пыль поднялась за рекой: погнали пастухи коров. Весело играет рожок, и уж потянулись волы с возами в поле.
Тихо в господском доме. Чуть-чуть качаются шторы открытых окон. Чрез решетчатый забор уже видны в аллее подъезжающие экипажи. Свернувшись клубочком, сладко спит у ворот старый сторож Грицко и не слышит, как над ним жуют удила усталые кони и ломятся в запертые ворота.
— Куда вас черти несут! — рассердился вдруг Николай, подбирая выпавшие как-то вожжи. — Тпру, скаженные! Отворяй!
XII
На другой день после приезда в деревню Корнев проснулся, когда еще Карташев, раскинувшись, сладко спал с раскрытым ртом.
Он оглянулся: угловая, невысокая, но большая комната была оклеена цветными обоями с рисунком серых кораблей и красных китайских матросов. Мягкая старая мебель — большой диван, круглый стол, несколько стульев. Корнев напряженно искал глазами чего-нибудь, что помогло бы ему скорее получить впечатление деревни. Все было старое, самое обыкновенное, но в то же время чувствовалось во всем и что-то особенное. Как-то спокойнее здесь стояла мебель возле этих кораблей — этот диван стоял так, может быть, уже десятки лет; эта картина, изображавшая каких-то разряженных охотников в париках, тоже говорила о чем-то бесконечно далеком; висел масляный портрет какого-то мужчины со строгим профилем, длинным носом, черными глазами и косичкой, в однобортном мундире с красным воротником и негустыми черными волосами, которым художник, видимо, хотел придать пышность. Под портретом — разные сабли: и длинные и короткие, а в середине — громадная медная. Портрет какого-нибудь прадеда, который здесь жил когда-то, ходил по этому дому, был в этой комнате. Дом был старый, со множеством низких комнат.
Помещение молодых людей находилось в левой стороне, на самом краю, и отделялось от остального дома коротким крытым коридором. Проходя вчера, Корнев видел множество дверей. Карташев показал рукой на одну из них и пояснил:
— Бывшая капелла моего прадеда.
— Он разве католик был? — спросил Корнев.
— Нет, православный, но так как-то — неопределенно… Вероятно, увлекался католицизмом. Знаю, что был франкмасон.
Теперь Корнев посмотрел внимательно на портрет. «Не этот, — подумал он, — у этого в лице никакой мысли: вероятно, рубил себе направо и налево в полной уверенности, что это и есть самая суть жизни». Корнев пренебрежительно отвернулся и стал смотреть в окна. Они выходили в глухую часть сада. В голубом, безоблачном небе неподвижно вырисовывались деревья, точно уснувшие в ясном утре. У самого окна прижался куст сирени, заглядывая и словно прося впустить его. Корневу хотелось отворить окно, но хотелось и лежать, — и он был в раздумье, когда дверь тихо скрипнула и в ней появилась высохшая фигура Степана, старика, который еще при старом барине состоял в господской дворне — по его словам, был первым у него «лакеем».
Как бы то ни было, в глазах деревни Степан пользовался бесспорным авторитетом, который он еще больше поддерживал всяким враньем про себя. В сущности, это было безобидное существо, и зимой, когда господа жили в городе, он отлично мирился с простой деревенской жизнью: был хорошим семьянином, любил общество своих сверстников, усердно молился богу и помогал сыну по хозяйству. Но с приездом на лето господ на него находила, как говорили крестьяне, «фанаберия», нападал «гец», — он делался заносчив, суетлив и бестолков. Особенно он любил показать себя перед появлявшимися в усадьбе мужиками. В такие моменты, стоя на черном крыльце, он кричал о чем-нибудь в кухню так громко, что и на деревне слышно было. Никто, впрочем, не смущался этими криками. Кучер Николай так же равнодушно сплевывал, продолжал обдумывать важный вопрос — не направиться ли ему теперь через пробитую дорожку «по пид яблонями» в шинок на деревню; повар Тихон — прекрасный повар и горький пьяница, — тихий и невозмутимый, правда, робко съеживался при крике Степана, но сейчас же успокаивался и, поглядывая осторожно в окно, тоже мечтал о том времени, когда, исполнив свои обязанности, он уйдет в шинок, где променяет всю принесенную им провизию на дорогую его сердцу водку.
Степан продолжал стоять у дверей и радостно смотрел на Корнева. Корнев не сразу сообразил — кто это, так как вчера Степан проспал приезд господ.
— Прикажете умываться? — почтительно спросил Степан.
Корневу, в сущности, не хотелось еще вставать, но, чувствуя неловкость перед Степаном, он сказал: «Хорошо», — и поднялся с кровати.
Степан усердно бросился помогать ему, насильно напяливал носки, надевал ему сапоги и даже подхватил Корнева, чтобы помочь ему встать. Корнев стесненно терпел все, но, когда Степан усомнился даже, способен ли он сам встать «на ножки», Корнев возмутился и решительно проговорил:
— Как вас зовут?
— Что-с? — Степан от старости стал глохнуть.
— Как вас зовут?
— А-а… Степан, сударь.
— Так вот, Степан, у меня такие же руки, такие же ноги, как и у вас, да к тому же и помоложе ваших… Я могу и сапоги надеть, и встать, и привык сам все это делать. Вы мне только умыться дайте.
— Слушаю-с, сударь… пожалуйте! — И Степан осторожно прислонил свою руку к двери, в которую проходил Корнев, чтобы в случае возможного ушиба удар смягчился об его старую, морщинистую руку. «Чучело какое-то», — подумал Корнев, сразу недружелюбно расположившийся к старому Степану.
Обряд умыванья у отворенного окна совершался с такой предупредительностью со стороны Степана, что Корнев, кое-как умывшись, хотя с дороги и запылился, поспешил убраться поскорее в свою комнату. Но от Степана не так легко было отделаться. Счастливый, что дорвался наконец до исполнения своих обязанностей, он не выпускал свою жертву ни на мгновение. Увидев, что Карташев уже открыл глаза и молча наблюдает всю сцену, Корнев проговорил вполголоса:
— Что это за чучело? Я не понимаю, что за охота держать таких идолов.
Степан, с выражением своих старых глаз веселого щенка, ожидающего чего-то, повел глазами в ту сторону, куда теперь смотрел Корнев, и, увидев, что Карташев глядит, суетливо-радостно кинулся к своему барину.
— Убирайся! — рассмеялся Карташев, пряча руки, — так поцелуй!
Степан, всхлипывая от восторга, повторял: «Барин мой милый», — и трижды поцеловался с Карташевым.
Корнев раздраженно следил глазами за Степаном.
— Все живеньки ли — здоровы? Еремей Андреевич как?
— Едет.
— И Татьяна Ивановна здоровы?
— И она здорова.
— Слава тебе господи! сподобил еще господь послужить своим господам… Эх! И Орлик же, — с новым приливом восторга произнес Степан, — просто удила грызет.
Карташев весело рассмеялся.
— Орлик — моя лошадь, — пояснил он.
— Беда, сударь: играет, вот так и играет… Вся деревня высыпет… Николай его проезживает.
— Он льстец, к тому ж лукавый царедворец, — заметил Корнев, раздумчиво принимаясь за ногти.
— Просто шут гороховый.
— Так точно, — ответил с наслаждением Степан, не расслышав слов.
Карташев, а за ним и Корнев фыркнули, а счастливый Степан с восторгом и умилением смотрел то на того, то на другого.
— Это мой друг, — сказал ему Карташев.
— Так, так!.. дружки, значит, будете, — кивнул Степан и вздохнул.
— Чай сюда прикажете? или на балкон?
— На балкон.
— Слушаю-с.
Друзья через коридор прошли в дом. Карташев повел Корнева окружным путем — через целый ряд комнат. Все стояло на своих местах, висели картины, портреты, и все еще больше усиливало впечатление чего-то старого, давно налаженного. Во всех этих комнатах, и голубых, и синих, и красных, особенно в тех, где сохранилась масляная окраска стен, на всей этой мебели — и старинной и более новой, — важно застывшей на своих местах, некогда сидели другие люди, разговаривали, волновались, курили из своих длинных чубуков. След их здесь, тень их — глазами неподвижных портретов — провожает уже новых хозяев. Эти портреты как бы говорят: «Мы терпеливо ждали других, — дождемся и вас, и ваши дела и жизнь, как и наши, станут достоянием других».
— Собственно, у вас очень богатая обстановка, — заметил Корнев.
Карташеву было это приятно, и он, отворив дверь на балкон, сказал:
— А вот и сад.
Перед террасой был разбит разнообразный цветник. Дальше шел сад, и между ближайшими стволами деревьев заманчиво мелькала большая аллея с желтым песком.
«Здесь ходила Наташа, Аглаида Васильевна, Зина», — думал Корнев и жадно искал неуловимых следов, связывавших и этот сад и этот балкон с обитателями, с милым образом Наташи, которая его тянула к себе так мягко и сильно, без всяких порывов, тянула, как тянет к чему-то близкому, что в отвлеченном окристаллизованном виде, потеряв все недостатки, сосредоточивает в себе всю прелесть родного чувства. Он бессознательно наслаждался безмятежным утром, потонувшим в глубоком небе, неподвижностью сада, избытком воздуха, его ароматом и свежестью. В густой тени террасы было еще свежее. На столе сверкали скатерть, стаканы и пока пустой поднос от самовара. Раскорякой, держа далеко от себя самовар, старыми ногами по боковой аллейке уже шел Степан, и, поставив самовар, опять ушел — за печеньем. В дверях показалась только что вставшая, только что умытая, с немного заспанными глазами Наташа и весело щурилась на ясное утро, на стоявших Корнева и брата, бессознательно умываясь еще раз свежим воздухом.
Корнев оглянулся, и в этой простой обстановке яркого утра деревни Наташа показалась ему еще свежее, еще чище во всей своей несознаваемой чистоте, чем когда бы то ни было.
— Здравствуйте, — произнес он, и в голосе его зазвучало чувство удовольствия и радости, то чувство, которое он обыкновенно старался скрывать, а теперь хотел делиться им с Наташей и со всеми окружающими. Он смотрел, лаская Наташу глазами. Наташа, почувствовав это, лениво ответила, маскируя смущение: «Здравствуйте», — и села на первый стул.
— Хорошо у вас, — сказал Корнев. — Я представлял себе деревню, но у вас совсем особенная, оригинальная обстановка: на каждом шагу каждая мелочь будит воспоминания, и кажется, что я сам здесь уже был, когда-то видел все это…
Наташа ласково кивнула головой, смотря, прищурившись, то на него, то в сад сквозь деревья.
— Теперь понимаешь, отчего мы так любим деревню? — спросил Карташев.
— Что ж тут понимать? Мой друг, здесь вопрос денег — и, если они есть, можно любить все.
— Ну, пустяки: я бы и в хате с удовольствием жил и наслаждался деревней.
— И я, — решительно согласилась Наташа.
Корнев молча посмотрел на Наташу, на Карташева и о чем-то задумался. Самовар продолжал кипеть, пустой чайник стоял, но никто не думал о заварке. Возвратившийся с печеньем Степан поставил его на стол и бросился целовать руки Наташе.
— Здравствуйте, здравствуйте! — быстро и весело говорила она, пряча свои руки.
Степан огорчился, что не пришлось поцеловать ручку барышни. Чувствуя себя лишним, он, постояв несколько мгновений, медленно, с опущенной головой, пошел за угол.
— Тихона работа, — сказал Карташев, задумчиво смотря на лепешки. — Папины любимые.
— Вещи переживают людей, — заметил Корнев и, помолчав, прибавил: — Но он настоящий кондитер, ваш повар.
— Ах, какой он симпатичный! — воскликнула Наташа. — Пойдем к нему… пока тут чай заварят… Жаль только, что пьет. Впрочем, говорят, он бросил.
Все трое спустились в аллею. Корнев вдыхал в себя мягкий аромат цветов, сада, деревни, чего-то нового, сильного и свежего, и ему казалось, что никогда он так легко и свободно не шел, как сегодня, в этом безмятежном нарядном уголке природы, по этой аллее с кустами жасмина вдоль белой стены дома, возле этой бочки для стока воды. Все находило место в открытом для впечатлений сердце Корнева. Между деревьев показались постройки: длинный белый флигель, другой под углом, каретник, сарай, большой чистый двор. С крыльца бокового флигеля выжидательно, с чувством собственного достоинства, спускалась фигура мужчины лет тридцати, загорелая, отчего еще рельефнее сверкали его синие глаза и белые белки. Из-под стертой шапки его выбивались русые волосы, от тяжелых высоких сапог сильно пахло ворванью, отчего точно делалось жарче среди этого ясного утра. Карташев, заметив его, быстро пошел навстречу. Тогда и он прибавил шагу. Это был управляющий именьем, Конон Львович Могильный. Привязанная верховая лошадь с опущенной головой и усталым видом говорила, что ее хозяин уже много сегодня ездил.
— Уже успели в поле быть? — спросила Наташа.
Конон Львович только небрежно махнул рукой.
— Вы, вероятно, и не ложились после нашего приезда?
— Я вставал уже…
— Мы к Тихону идем.
— А-а… А я в поле.
Они еще постояли, посмотрели, как он сел, стреноженным галопом пустил лошадь, и пошли в кухню.
Тихон, с длинной бородой и большой лысиной, спокойно возился у своего стола.
— Здравствуйте, Тихон! — приветствовала его Наташа.
Тихон сдержанно повернулся и, рукой придерживая свою лысину, почтительно поклонился.
— Все ли живеньки, здоровы? — спросил он с бледной улыбкой больного человека.
— Спасибо, — ты как поживаешь?
— Живем, — односложно, с легким вздохом, ответил он.
И еще резче этот вздох обнаружил перемену в Тихоне. Когда-то это красивое лицо невольно останавливало на себе внимание выражением особого благородства и осмысленности. Только пьяным оно менялось: опускалось, и глаза смотрели воспаленно и дико. Из-за пьянства его и в городе не держали. Когда в такие минуты его тащили к исполнению его обязанностей, он упирался и грозно кричал: «Пусти! Убью!» Но Конон шептал ему что-то веселое на ухо, и мрачное сопротивление сменялось веселым порывом. Он стремительно бросался вперед, обгоняя даже своих временных тюремщиков, и кричал: «Вперед, наша!» Но в воротах усадьбы коварный Конон бросал два презрительных слова: «дурный сказався», — и Тихон сразу стихал и уж покорно шел в кухню. Долго пьянство не имело никакого влияния на здоровый организм Тихона, но теперь желтое лицо его осунулось, начало проваливаться, нос потерял свою форму. Только глаза Тихона смотрели по-прежнему. Было в них что-то угрюмое, и напряженное, и что-то детски чистое, грустное и беспомощное, что тоскливо хватало за сердце. Незадолго до приезда господ Тихон бросил пить, но это еще резче обнажило разрушение. На деревне только головами качали.
— Не жилец, — с пророческим видом шептала высокая костлявая Домаха.
Кучер Николай в ожидании выхода господ стоял у конюшни в красной новой рубахе, подпоясанной тонким пояском, в широких плисовых шароварах. Он курил трубку, старался как можно равнодушнее сплевывать и делался удовлетвореннее каждый раз, когда взгляд его падал на щегольские сапоги бутылкой.
— Николай, выведи Орлика! — крикнул Карташев, появляясь из кухни.
Николай молча кивнул головой. Он даже дверь притворил за собой, как бы желая дать понять, что господам не след шататься по конюшням. Но нетерпеливый Карташев, а за ним и Наташа и Корнев вошли следом за Николаем в темную, грязную конюшню.
«Ты тут с прошлого года так и не чистил?» — хотел было спросить Карташев, но удержался, треснул по дороге Белого и сердито крикнул:
— Ну, ты!
Белый энергично переступил на другую сторону и, снова повернувши морду, тряхнул ею так, как бы говорил: «Это мы видели… а дальше что?»
— У-у! — потрепал его Карташев.
Белый внимательно насторожился и настойчиво, уверенно продолжал смотреть Карташеву прямо в глаза. Карташев не вытерпел и полез к нему в стойло. Белый, вздрагивая, слабо заржал и еще энергичнее, вплоть уже, обнюхивал Карташева. Карташев подставил ему ладонь: Белый быстро заерзал губами по ладони и сердито фыркнул.
— Даром что скотина, тоже понимает, — философски заметил Николай.
— Принеси хлеба.
Николай повернулся, прошел ровно столько, чтобы показать свою фигуру во дворе, и закричал:
— Несите сюда, кто там, шматок черного хлеба с солью.
Эта русская фигура, напускная важность и простота хохлацкой речи не вязались между собою и производили смешное впечатление неудавшегося, преждевременно разоблаченного маскарада. Корнев с пренебрежительным любопытством следил за Николаем. Тот это чувствовал и конфузился. Хлеб принесла Одарка. Принимая его, Карташев встретился с ее ласковыми, спокойными глазами. Что-то сжало его сердце, сверкнуло радостно и отдалось в глазах вспыхнувшей вдруг Одарки. Она быстро опустила голову и поспешно вышла из конюшни.
— Ах, какая красавица! — вырвалось у Корнева.
— Правда, красавица? — спросила Наташа и, весело выглянув во двор, вернула Одарку.
Наташа стояла с лукавой усмешкой, пока сконфуженная девушка, с опущенными глазами, точно зная, зачем ее зовут, медленно приближалась к ней.
— Что же вы, Одарка не здороваетесь? — спросила Наташа.
Красавица вскинула своими темными глазами, и румянец залил ее щеки. Она сконфуженно рассмеялась, сверкнула своими белыми мелкими зубами и, проговорив: «Здравствуйте, барышня», — нагнулась к руке.
— Так поцелуемся. — И Наташа крепко, энергично обняла Одарку.
Случайно так вышло, что в момент поцелуя темные глаза Одарки вдруг смело и глубоко на мгновение потонули в глазах Карташева, — и все: и конюшня, и Белый, и Корнев с Наташей скрылись куда-то, была одна Одарка, ее головка, взгляд, подаривший его порывом восторга. Он чувствовал, что опять любит Одарку, и мелькнувшая вдруг мысль, что если б крестьянка Одарка сделалась его женой, обожгла его сильно и сладко. Так и будет: ей он посвятит себя, ей, прекрасной дочери своего народа!.. Белый напрасно беспокойно поворачивался во все стороны, приспособляясь как-нибудь выхватить заманчивый кусок, который замер в протянутой руке Карташева. Кусок и совсем исчез, потому что Карташев с ним вместе вылез из стойла и стремительно бросился к Одарке.
— А со мной?
— Та вже здравствуйте, — рассмеялась Одарка и закрылась рукой.
— Нет, поцелуемся.
Карташев порывисто обнял рукой талию Одарки и поцеловал ее прямо в ее мягкий, открывшийся слегка ротик. Из-под полуопущенных век сверкнул на него замерший, испуганный взгляд Одарки, и, вырвавшись, она уже хотела было скрыться, как Корнев энергично заявил и свои права:
— Что ж, и со мной надо; я — друг его. — Корнев показал на Карташева.
Одарка посмотрела на Наташу и, мягко рассмеявшись, с жестом стыдливости проговорила:
— Ой лышеньки ж мои!
Наташа только развела руками, и Одарка поцеловалась с Корневым.
Посреди двора стоял Конон и внимательно наблюдал всю сцену.
— Добре нацилувалась? — пренебрежительно бросил он Одарке, когда та проходила мимо него.
— Одчепись, — ответила она и, смущенно отвернувши свое раскрасневшееся лицо, прошла в людскую. Конон молча, с плохо скрытым чувством злобы смотрел ей сперва в лицо, затем вслед и наконец тихо, раздраженно покачал головой, когда Одарка скрылась. Он долго еще смотрел и на захлопнувшуюся за ней дверь и отвел глаза только тогда, когда из конюшни вышли панычи с барышней, а за ними Николай, ведя в поводу Орлика. Тогда он угрюмо подошел ближе и, заложив руки в широкий пояс холщовых штанов, стал вызывающе пытливо наблюдать за действующими лицами.
Орлик — вороная, среднего роста лошадка, с сухой красивой головкой, с синеватым отливом больших глаз, на тонких стройных ножках — стоял неподвижной картинкой, изогнув немного шею и насторожив свои веселые ушки.
— Пусти его! — крикнул Карташев.
Николай выпустил одной рукой повод и трусливо отскочил, схватившись обеими руками за другой конец повода. Орлик начал выделывать всевозможные прыжки.
— Ты на нем ездишь? — недоверчиво спросил Корнев.
— Езжу, — соврал с гордостью Карташев, хотя только всего раз и пробовал проехаться в прошлом году, да и то шагом по двору.
Соврав, Карташев задумался и проговорил:
— Собственно, настоящая езда только в этом году будет, а в прошлом только так.
— Соврал, значит?
— Нет, я уже садился на него… Николай, садился я?
— Сколько раз!
— Ну положим, один раз, — добродушно поправил Карташев, — да и то шагом, — прибавил он, помолчав, и облегченно рассмеялся.
— Рыло! — усмехнулся Корнев.
Заметив вдруг, что Орлик хромает, Карташев огорченно спросил:
— Он хромает?
— Заступил… тесно… лошадь молодая…
— Мокрец, — пренебрежительно оборвал Конон, — от сырости.
— Действительно, что сырость…
— Здравствуй, Конон! — поздоровался Карташев, заметив его.
— Здоровеньки булы, — неопределенно ответил тот, небрежно кивнув головой.
Корнев на последнее замечание Николая пробурчал себе: «Шут», — и внимательно впился в Конона. Конон произвел на него благоприятное впечатление.
— Это наш охотник, — пояснил Карташев.
— Теперь вже плугатарь, — презрительно махнул рукой Конон, — буде охотничувыты… Сегодня назначили в поле…
— А кто же охотник?
Конон равнодушно пожал плечами.
— Та нема ни якого.
— Отчего?
— Доводи вже, — неопределенно насмешливо произнес он, с каким-то небрежным раздражением смотря мимо Карташева.
Карташеву были одинаково непонятны — и раздражение Конона, и его ответы. Бессознательно как-то он сказал:
— Я с тобой и не поцеловался.
Конон, покачиваясь, молча подошел, снял большую соломенную шляпу, вытер своим толстым рукавом губы и приготовился к поцелую. Его черные волосы плотно прилегали ко лбу, черные ястребиные глаза смотрели твердо; тонкий красивый нос, сжатый характерный рот и маленькая черная пушистая бородка делали его лицо очень красивым, но вызывающим и дерзким. Карташев три раза поцеловался, и на мгновение по лицу Конона пробежала тень удовлетворенного примирения, но она сейчас же исчезла, когда в дверях кухни показалась Одарка и, облокотившись о косяк, стала смотреть на группу у конюшни. Конон, встретившись с ней, сердито отвернулся, а Карташев, напротив — во все глаза стал глядеть на Одарку. Та только плотнее прижималась к двери и робко изредка вскидывала глаза на Карташева. Карташеву хотелось, чтоб она так же смело и открыто смотрела на него, как он на нее, — так хотелось, что он готов был сейчас же объявить, тут же, что любит Одарку. Но он не объявил: Наташа напомнила о чае, и все трое ушли.
Во дворе остался Николай, о чем-то разговаривая с Кононом, в окно выглядывал безжизненный Тихон, и, облокотившись о косяк, продолжала стоять Одарка.
Николай повел Орлика в конюшню, а Конон, не смотря на Одарку, пошел по знакомой дорожке через сад на деревню. Скрылся и Тихон, только Одарка все продолжала стоять и смотреть раздумчиво вслед ушедшему Конону. Чуяло или нет ее сердце, что в душу паныча она забросила новую искру любви?.. Ее дорога была уже определена — с Кононом она уже «жартовалась», и осенью назначена была их свадьба. Дело стояло только за деньгами, за урожаем. И урожай обещал быть обильным. А там, после свадьбы, хата «с краю села», вишневый садочек, пара волов и… прощай вольная жизнь!..
Одарка повела своими робкими глазами, подавила вздох и пошла назад в людскую кухню исполнять свои обязанности судомойки.
Карташев некоторое время обдумывал, что сказала бы мать, если б он действительно подвел к ней Одарку как свою невесту. Это было так ни с чем не сообразно, что он даже и представить себе не мог — как бы это он сделал? Да и нельзя сделать: это ясно. Тем не менее он сейчас же после чая уединился, в надежде встретить на дорожке Одарку…
Наташа увела Корнева в сад — показать ему свое любимое место.
С большой аллеи они повернули на дорожку роз, которые цвели и наполняли воздух своим ароматом, затем свернули на едва приметную тропинку в кустах крыжовника и смородины. Под этими кустами земля была влажная, и Наташа, останавливаясь осмотреть ягоды на кустах, оставляла на ней маленький след своей ножки. Добравшись до конца сада, они начали осторожно пробираться в густой поросли орешника.
— Далеко же ваше место, — заметил Корнев.
— Сейчас… вот…
Наташа остановилась и смотрела вперед. На ее лице застыла не то улыбка, не то гримаса, она слегка открыла рот: это выражение не шло к ней, но вызывало в Корневе какое-то особое чувство сожаления.
Из заброшенного уголка сада в близком расстоянии открывался вид на старую церковь села. Дальше за ней выглядывал уголок далекой степи. Легкий ветерок точно манил в нее — тихую, спокойную, беспредельную. В густой зелени ограды рельефнее выделялась серая деревянная колокольня, ее подгнившие ступени, темный крест. Колокольня шла уступами, расширяющимися книзу, и их поддерживал целый ряд старых, мохом обросших деревянных колонн. В уступах были вырезаны ряды маленьких окошечек — пустых, без стекол, рам. От церкви веяло стариной, пустотой времени, окошечки смотрели своими темными покосившимися отверстиями неподвижно-задумчиво. В общем, в тишине летнего дня здесь было уютно, царил безмятежный покой, и весь вид точно рассказывал какую-то забытую простую, приятную и грустную историю.
— У вас здесь есть лучше этого виды, — сказал Корнев, — здесь колокольня мешает.
— Этот вид мне больше всех нравится.
— Отчего?
— Я не знаю… Иногда мне кажется, что я пойду в монастырь… Может быть, от этого…
— Вас тянет?
— Я люблю монастырь: так мне кажется… Мама говорит: если она умрет и мы не выйдем замуж, чтобы шли в монастырь.
— Зачем же в монастырь?
— Да, конечно, это только так… Кто теперь идет в монастырь.
— И слава богу… Мало ли живого дела.
— Ну-у… На всякое дело нужны люди… Богу тоже нужны…
— Нет, оставьте, — испуганно перебил Корнев. — На земле мы нужны земле.
— Разве не то же самое?
— Как то же самое? Есть живая работа: общество погрязло в разврате прошлого, в эгоизме, масса зла кругом… предрассудки… неправда… Что здесь поможет монастырь, формы которого веками налажены, установлены и с миром ничего общего не имеют? Может быть, и было время монастырей, но каждому времени свое: стоит ли появляться на свет, чтобы повторять дела других. Нет, это и думать бросьте, Наталья Николаевна, это так обидно…
— Да я так только, — уклончиво усмехнулась Наташа, — конечно, не пойду в монастырь.
— И говорите это с грустью…
— Потому что люблю…
— Оставьте.
— Ну, да не пойду, сказала вам… А все-таки люблю.
Наташа упрямо, по-детски рассмеялась и заглянула в глаза Корневу. Корнев сосредоточенно принялся за ногти.
— Ну, не пойду, не пойду!..
— И отлично.
— Ну и бросьте ногти.
— Вы, может быть, думаете, что я рассердился? — спросил Корнев.
— Вы когда принимаетесь за ногти, то или думаете, или сердитесь.
— Нет… я думал… Вы мне так ясно вдруг представились, вон у тех ступенек, на коленях в монашеском костюме… с белым подвязанным платком… Я, в сущности, впечатлительный ужасно… Ну, вот и задумался: какая может быть ваша судьба в жизни…
— Ну?
— Не знаю, не могу ничего сказать…
Корнев помолчал и огорченно прибавил:
— Вероятно, выйдете замуж… Аглаида Васильевна подыщет вам жениха… важного…
— Никогда, — рассмеялась Наташа, — мама никогда нас не будет стеснять в выборе, — не она, а я буду искать. Все это, впрочем, глупости… Наши, верно, уж встали; пойдемте к ним. А после чаю, если хотите, будем читать вслух.
— Пожалуй.
— Вальтера Скотта?
— Ну, что ж, Вальтера Скотта… А что?
— «Айвенго».
— Вы разве не читали?
— Нет еще. Я мало читала.
— Я тоже не читал…
Оба весело рассмеялись.
Когда Наташа и Корнев пришли, Аглаида Васильевна уже сидела за чайным столом.
Прищурившись на подходивших, она тихо, добродушно сказала Зине:
— У моей Наташи отвратительный вкус.
Зина оторвалась от книги, вскользь посмотрела на праздничное лицо Корнева, и ей вдруг стало жаль его. Она ответила:
— Здесь вкус не играет никакой роли.
— Пожалуйте, — предупредительно встретил Корнева Степан, подавая ему стул.
— Очень вам благодарен, — расшаркался перед ним Корнев. И, когда все рассмеялись, он прибавил полушутя, полураздраженно: — Он на меня производит, знаете, такое же впечатление, как и ваши картины… Мне все кажется, что он выскочил из какой-то рамки и бегает, пока его не усадят назад. Я решил отучивать его от любезностей двойной любезностью.
Наташа не могла видеть без смеха, как Корнев приводил в исполнение свой план. Это смешило всех. Корнев раздраженными глазами стерег Степана и чуть что — сам спешил ему на помощь. «Степан, блюдечко дай…» — и Корнев стремительно бросался к блюдечку, расшаркивался перед озадаченным Степаном и подавал кому следовало блюдечко. Наташа уже прямо плакала от смеха. По временам она поднимала голову, и Корнев спешил выкинуть какую-нибудь новую штуку. Он расшалился до того, что, когда Степан все-таки успел ему что-то подать, вскочил и протянул ему руку. Степан сперва опешил, затем бросился целовать руку.
— Не надо, — с комическим достоинством ответил Корнев, ограничившись пожатием.
— Он вам протянет когда-нибудь руку при гостях, — заметила Аглаида Васильевна.
— Что ж? Поверьте, с удовольствием пожму.
— Ну, я хотела бы посмотреть.
— Да могу вас уверить… да накажи меня бог… да лопни мои глаза.
Сама Аглаида Васильевна не могла удержаться от смеха.
— Мне нечего и спрашивать, как вам понравилась деревня, — обратилась она к Корневу.
— Совершенно справедливо, — ответил он, — я никогда еще себя таким теленком не чувствовал.
Он сделал несколько туров по террасе и запел:
Невольно к этим грустным берегам Меня влечет неведомая сила.Он пел верно и в высшей степени выразительно.
— У вас прекрасный голос, — похвалила Зина.
— Откуда это? — спросила Наташа.
— Есть такая опера: «Русалка»… слова Пушкина.
— Пропойте все.
— С удовольствием, если нравится.
Оказалось, Корнев знал много романсов и арий.
Вместо чтения все время до обеда прошло в пении, причем то Зина, то Наташа аккомпанировали Корневу. Он и сам играл с удовольствием, хотя медленно разбирал ноты. В антрактах он не оставлял своих комичных выходок, и Степан представлял для него в этом отношении неиссякаемый источник.
— У вас большой юмористический талант, — заметила Аглаида Васильевна.
— Мне говорили, что я мог бы сделать карьеру на этом поприще.
— Отчего же вы не делаете? — спросила Наташа.
— Отчего вы в монастырь не идете? — повернулся к ней Корнев и, увидя вспыхнувшее лицо Наташи, быстро проговорил уже серьезно: — В монастырь… в оперу… всех нас, наверное, куда-нибудь тянет, но все идут одной дорогой: наше время ремесленное, да и дело наше маленькое, и мы маленькие — нечего и соваться с суконным рылом в калашный ряд.
— При чем тут это, — возмутилась Зина, — если у вас есть талант.
— Талант положительно есть, — поддержала ее Аглаида Васильевна, — но, конечно, сперва надо сделать свое прямое дело…
— Э-э! — перебила Зина, — так и пойдет шаг за шагом…
— Я согласна с Зиной, — сказала Наташа.
— И я согласна, — присоединилась Маня.
Тринадцатилетняя Маня произнесла это серьезно, как взрослая. Зине резнуло ухо, и она заметила:
— Ты еще, Маня, слишком мала, чтобы высказывать свое мнение о таких вещах.
— Отчего мне не высказывать? — Маня сделала спокойно-пренебрежительное движение плечами. Она смотрела, наклонив голову, своими круглыми какой-то красивой птицы глазами, и на ее тоненьком и бледном лице играло что-то вызывающее и дразнящее.
— Оттого, что тебе тринадцать лет.
— Мне будет и больше, — ответила Маня и, властно тряхнув головой, рассмеялась.
Ее смех выходил каким-то звуком «кар», легким, гортанным, мягким и веселым.
— Вы заметили, — обратился Корнев к Аглаиде Васильевне, — как смеется Марья Николаевна? и приятно, и вместе с тем неприятно: этот несимпатичный гортанный звук напоминает какую-то птицу… Какую птицу?
— Ворону, — ответила Аглаида Васильевна.
— Совершенно верно…
— Ха-ха-ха! Маня, благодари!
— «Кар!»
— Но так же, как вот иногда урод напоминает красавицу… Я вот так похож на свою мать.
— Ну, нечего скромничать.
— Да я вовсе не скромничаю. Но если бы я не сознавал, кто я и что я, то заслуживал бы презрения… — с комичным достоинством произнес Корнев и затем сильно и выразительно запел:
Гей, выводите та и выводите Та на ту высоку могылу, А с тыи могылы Видна вся Вкраина…— Нет, положительно я никогда себя так не чувствовал, как у вас.
— Это высшая любезность хозяйкам, — улыбнулась Аглаида Васильевна.
— Это не любезность, это правда, — резко перебил Корнев.
— Тем приятнее… Но где пропадает Тёма?
— Я его видела в саду, а потом не знаю, куда он ушел, — ответила Маня.
— Он ушел к батюшке, — сказал, входя и конфузливо садясь, Сережа.
— Ах, кстати, покажите мне капеллу вашего прапрадедушки.
— Только пра, — сказала Зина.
Все пошли в капеллу.
В низкой длинной комнате возвышался у противоположной стены помост, стоял тяжелый четырехугольный стол, вместо образов — распятия, — и русские и католические, и в центре других большое, темное, с очень большим выпуклым изображением черепа. В разноцветные окна пробивался свет, бледно играя на всех предметах. На подставке лежала бархатная малиновая шапочка.
— Ничего особенного, — резюмировал свои впечатления Корнев, останавливаясь перед изображением мадонны. Это было изображение прекрасной женщины с золотистыми волосами и глазами почти круглыми, необыкновенно выразительными: что-то было доброе, ласковое, своеобразное в этих глазах, во всем лице и позе.
— Вот Марья Николаевна! — воскликнул Корнев.
— Правда, похожа? — спросила Зина.
— Поразительно.
— Это портрет прабабушки… Она умерла молодой… Прадедушка где-то в Италии заказал этот портрет.
— Замечательная работа!
— Говорят, замечательная.
— А вот и мы все, — обратила внимание Корнева Наташа на другую картину, где был изображен Христос, благословляющий детей. В числе детей были все дети Аглаиды Васильевны. Наташа, маленькая, стояла лицом к зрителю, вбок к Христу, и смотрела в упор своими большими черными глазами.
Корнев чрезвычайно долго всматривался.
— У вас всегда были большие черные глаза, — произнес он.
— Вы очень наблюдательны, — прошлась на его счет Зина.
Над картиной было кругом написано: «Если не будете как дети — не войдете в царство небесное».
— В каком смысле? — спросил Корнев Аглаиду Васильевну.
— В самом прямом.
— Отличительная черта детей, — проговорил Корнев, принимаясь за ногти и косясь на Аглаиду Васильевну, — их прямолинейная логика.
— Чистая, — вставила Аглаида Васильевна.
— Конечно.
К обеду пришел Карташев.
— Ну, что отец Даниил?
— Ничего.
— Вот от него всегда такие сведения, — заметила Зина.
— Ну, пойди сама, — огрызнулся Карташев.
— Конечно, пойду.
— Он сам придет после обеда, — сказал Карташев.
— Постарел? — спросила Аглаида Васильевна.
— Нет, все такой же.
— А я все-таки на вашем месте сделалась бы актером, — заговорила Маня, садясь против Корнева.
— Ну, вот ты так и сделай, — усмехнулась Зина, — кстати, у тебя голос, кажется, будет, — поступай в оперу.
— Если будет, то и поступлю.
— Только если первоклассный, — прибавила Аглаида Васильевна.
— Первоклассным у всех быть не может, — вмешался Корнев.
— В таком случае незачем и поступать.
— А я все-таки поступлю.
— Даже если мама против?
— А если мне хочется?
— Очень грустно в таком случае.
Корнев скорчил Мане гримасу. Маня заглянула ему в лицо, как бы ища ответа.
— Я бы подождала, пока все умрут.
— Ну, тогда делайте, что хотите, только на могилу ко мне не ходить…
— А я приду, — сказала Маня, лукаво и в то же время просительно глядя на мать, так что Аглаида Васильевна ласково усмехнулась.
— Дурочка ты…
— Гм! Гм! — заерзал Корнев.
Маня весело смотрела на него.
— Вот никогда не думала, чтобы вы были такой веселый, — сказала Зина.
— Мне теперь кажется, что я всегда такой.
— Вы всегда вот какой…
Зина исподлобья посмотрела, грызя ногти.
— Нет, это уж Наташа пусть представит, — сказала Аглаида Васильевна, — она замечательно вас копирует.
— Вот как… много чести!.. не знал… Пожалуйста…
— Я не умею.
— Ну… пожалуйста… умоляю… на коленях прошу.
Корнев закончил отчаянной рожей.
— Кар! — передразнил он Маню.
— У вас хороший «подражательный талант», — кивнула ему Наташа.
— Вы похожи, говорите, на вашу маму? — спросила Маня и, подняв головку, лукаво ждала ответа.
— И это в тринадцать лет! — воскликнул Корнев. — О, благодарю тебя, создатель, что к ее времени я уж буду стариком.
— К ее времени вы начнете только жить, — улыбнулась Аглаида Васильевна.
— А теперь, позвольте узнать, что мы делаем?
— А теперь вы только скользите по поверхности жизни.
— Как водяные пауки, — вставила Зина.
— Понимаю, — ответил Корнев и, повернувшись к Мане, сказал: — Во всяком случае, вы замечательно оригинальная… И что-то мне напоминаете… я никак не могу выразить… Вы видали картины Рубенса, Рембрандта… Я одинаково не видал ни одной картины ни того, ни другого, но это все равно… А вот это «кар» я уж окончательно не знаю, чему приписать.
— Вороне же, — напомнила Зина.
— Да ведь оказалось, что ворона так же похожа на Марью Николаевну, как я на мать… Так, если не ошибаюсь? Я скорее бы сравнил вот… есть такой инструмент… я его тоже никогда не видал… Я, кажется, начинаю совсем уж чушь нести…
Степан поднес Корневу блюдо с пирожным.
— Благодарю покорно… Дай бог вам и вашим деткам много лет здравствовать.
Корнев вскочил и раскланялся перед Степаном.
— И вам, сударь, дай бог… милостивую хозяйку, так чтоб, как наши барышни, красавица была, да деток кучу.
— Мой друг, это… это… благодарю… Позвольте мне с вами облобызаться?!
Корнев вытер салфеткою рот и торжественно расцеловался со Степаном.
Степан принял это за чистую монету и, довольный, удовлетворенный, понес блюдо дальше. Лицо Степана было так серьезно и торжественно, что было неловко и смеяться. Все наклонили головы, чтоб спрятать свои улыбки.
— А ведь наступят когда-нибудь такие отношения, — заговорил Карташев.
— В раю такой Степан, может быть, выше нас с тобой, мой друг, займет место, — убежденно произнесла Аглаида Васильевна.
— На этом основании нельзя ли ему предложить маленький уголок за этим столом? — сказал Корнев.
— Здесь нельзя, — твердо ответила Аглаида Васильевна.
— Маленькая как будто непрямолинейность… Я вспомнил надпись в капелле.
— Вы, конечно, знаете, откуда эта надпись? Ну, там же: «Рабы, повинуйтеся господам своим».
— Рабов уже нет, теперешний раб имеет в кармане деньги и завтра сам будет иметь рабов.
— И будет…
— Чему же в таком случае повиноваться? — огрызнулся Карташев. — Капиталу?
— И рад… Выберите лучше другую тему…
— Отчего же? и эта интересна, — настаивал сын.
Из-за стола встали.
— Интересная, но не для меня.
Карташев продолжал упорствовать.
— Тёма, а если я не хочу? — уже сухо спросила Аглаида Васильевна.
Карташев насмешливо поклонился.
— Позвольте, я его выведу, — предложил Корнев, заминая надвигающуюся размолвку. — Зинаида Николаевна, сыграйте нам марш.
И под звуки марша Корнев увел упиравшегося Карташева.
— Ну, иди… — ласково не то понуждал, не то уговаривал он приятеля.
Пройдя несколько комнат, Корнев воскликнул: «О господи! я лопну, так наелся», — и с размаху упал в кресло.
Вошел Сережа и, стоя у двери, смотрел на брата и Корнева.
— Что вы, молодой человек, конфузитесь все? — спросил Корнев, подходя и встряхивая Сережу за его худенькие руки.
— Я не конфужусь.
— Вы вот берите пример с этого нахала… Право.
Корнев показал на Карташева. Карташев, снова повеселевший, проговорил: «Бери пример!» — подпрыгнул и упал на диван.
— Вот так? — спросил Корнев, падая на другой диван.
Он поднялся, посмотрел на Карташева и, весело рассмеявшись, опять откинулся на спину и заболтал ногами.
— Очень мило! — произнесла Маня, заглядывая и скрываясь.
— Mille pardons…[57]
— Я буду спать… — сказал Карташев.
— Неужели будешь? — живо спросил Корнев.
Карташев не ответил.
— А я чем хуже?
Корнев повернулся на бок и закрыл глаза. Через несколько минут оба уже спали.
— Спят, — осторожно заглянула Маня. За ней заглянули Наташа и Сережа…
— Спят, — прошептала Наташа, входя на цыпочках на террасу.
— Надо ставни закрыть, — сказала Аглаида Васильевна. — Сережа, позови Степана… Очень симпатичный Корнев и деликатный, не смотря на кажущуюся резкость.
— Он деликатный, — согласилась Зина, — это в городе, в компании Рыльского, Долбы…
— Он всегда был деликатный, — горячо вступилась Наташа. — Он замечательно отзывчивый, остроумный…
Зина улыбнулась и закрылась книгой.
— Пожалуйста, не думай… я вовсе в него не влюблена.
— Я вовсе ничего не думала…
— Дети, — остановила Аглаида Васильевна, — пожалуйста, без этих ужасных мещанских слов: «влюблена». Кто в ваши годы бывает влюблен?
— Конечно, — согласилась Наташа, — симпатичный человек, и я очень рада, что он гостит… Степан, осторожно закрой у папиной комнаты ставни — они в голубой… Не стучи.
Степан для меньшего шума пошел на цыпочках. Маня, перегнувшись, весело его наблюдала.
— Некрасивый Корнев, — проговорила она, — вот Рыльский красивый.
Корнев проснулся первый и не сразу сообразил, где он. В щели пробивались уже низкие лучи солнца и густой золотистой пылью играли полосами по дивану и стенам; виднелся кусочек голубого неба и весело манил к себе. Корнев с удовольствием потянулся, оглядывая в полумраке уже знакомую обстановку голубой диванной.
— Ты… черт… спишь?
Карташев открыл глаза.
— Не сплю, дьявол.
— Мне кажется, что я здесь уж сто лет безвыездно живу. Тебе не кажется? Квасу бы.
— Крикни.
Корнев помолчал и вдруг заорал:
— Дьяволы, квасу!
— Слушаю-с, — ответил за дверью Степан.
— О! — рассмеялся Корнев и даже поднялся. Потом опять лег.
Когда Степан принес квас, Корнев сел на диван, взял стакан, выпил залпом и крякнул. Он облокотился руками о колени и так остался.
— Еще прикажете?
— Нет, спасибо.
Но так как Степан все еще стоял в ожидании, то Корнев громко, немного раздраженно повторил:
— Спасибо… не хочу.
Степан ушел, а Корнев продолжал сидеть в той же позе, наблюдая с интересом самого себя: действительно ли он ни о чем не думает?
— Окончательное бревно… ни одной мысли… И черт с ними! — Он величественно поднялся, наскоро оправил костюм и, с засунутыми в карманы руками, с откинутой головой, напевая что-то себе под нос, пошел по комнатам. В миниатюре это был теперь вылитый портрет своего отца. Он нашел Зинаиду Николаевну в одной из комнат в углу, в удобном кожаном кресле.
— Читать изволите? — осведомился как-то небрежно Корнев.
— Да, — ответила Зина.
— Что-с?
— Жорж Занд: «Орас».
— Так-с… Не читал.
— Выспались?
— Как бык… Pardon за выраженье… Сегодня в голову все особенные какие-то лезут…
— Вы никогда не стеснялись, кажется, в выражениях.
— Вы думаете? Тем лучше… Нет, я окончательно в каком-то ошалелом состоянии. Мне кажется, что все это мое, что я здесь вечно жил и в моем распоряжении и жизнь и смерть или, по крайней мере, тысяча душ. Это много или мало?
— Не знаю.
— У вашей маменьки сколько было?
— Не знаю.
Корнев подумал.
— Вы не находите, что я как будто поглупел?
Зина рассмеялась.
— Не знаю.
— Вы, кажется, тоже находитесь в каком-то особенном состоянии незнания. Нет, я теперь положительно убеждаюсь, что я поглупел. Тем лучше: глупцам принадлежат радости жизни… Это я сказал или великий философ? С точки зрения высшей философии, еще вопрос открытый: кто менее гениален — глубочайший философ с вопросами, которых не решит, или величайший глупец, который не думает о них… Это шекспировская глубина, или я олух царя небесного.
— Это со сна, — рассмеялась Зина.
— Сосна? Не олух, а сосна… Гм!
— Вы в каком-то особенном ударе…
— Да, я кончу тем, если буду продолжать так, что выйду из гимназии и поступлю в полк.
— Прекрасная карьера!
— Я так и думал. Не смею больше утруждать вашего превосходительства… Pardon, я думал, что я уже в полку вашего супруга… Знаете, анфилада комнат… Аглаида Васильевна что изволит делать?
— На балконе с батюшкой.
— Говоря простым жаргоном — «с попом»… Наталья Николаевна?
— В саду.
— Честь имею…
Корнев с заложенными руками пошел дальше.
— Я положительно чувствую себя как дома, — оглянулся он в дверях.
— И отлично, — ответила Зина.
— Очень рад…
— У нас есть, — вернулся Корнев, — один родственник, старичок. Он сошел с ума, то есть не с ума, а забыл всех. Придет к нему дочь: «Здравствуйте, папаша». — «Позвольте узнать: с кем имею честь говорить?» — «Я ваша дочь». — «Очень рад… а ваша мамаша кто?»
Зина положила книгу на колени, откинулась в кресло и тихо, буззвучно смеялась.
— Я пойду знакомиться с батюшкой: «Очень рад, а ваша мамаша кто?»
Зина пошла за ним. Выйдя на балкон, Корнев несколько мгновений стоял и смотрел на батюшку и Аглаиду Васильевну.
— Товарищ моего сына.
— Очень рад, — проговорил Корнев и покосился на Зину.
Та едва удержалась от смеха и поспешила скрыться в комнаты.
Отец Даниил, маленький, с косичкой, с большим вздернутым носом и грубым крестьянским лицом, осторожно придерживая кресло, почтительно поздоровался с Корневым.
— Выспались? — спросила Аглаида Васильевна.
— Благодарю вас, — ответил величественно Корнев и, засунув руки, стал спускаться по ступенькам в сад.
Он шел, мурлыкая какую-то песню, и бессознательно отдавался прелести чудного вечера. Сквозь деревья вырывались брызги последних лучей и, казалось, осыпали сад облаками золотой пыли. Где-то хлопал бич, несся чей-то голос, мычал возвращавшийся скот, а еще дальше, где-то в степи, замирала тихая, нежная, полная грусти и мелодии малороссийская песня. Корнев подошел к пруду и долго смотрел вдаль на греблю, на поникшие ветлы, на золотую поверхность пруда и отраженное с белыми облаками небо, вдыхал в себя с новой силой поднимавшийся аромат сада, тот особенный аромат смолистого, старого, густо поросшего сада, который смешивался теперь с сухим ароматом далекой степи. Корнев опустил голову на грудь и задумался; какие-то неясные, сладкие думы неслись легко, ласкали душу и рисовали жизнь в какой-то сказочной, волшебной перспективе. Идеалы жизни вставали в чудных, красивых образах и манили к себе. Корнев поднял голову и, точно проснувшись, оглянулся. Он не отдавал себе отчета: он положительно забылся в каком-то очаровании… Он ли это? Мог ли он думать, что с ним может произойти что-либо подобное? Может быть, он способен теперь читать и стихи Фета? Что это: недостаточная способность смертного или высший порыв человеческого организма?
«Какая ерунда», — подумал Корнев, провел рукой по лицу.
Между деревьями на скамеечке сидела Наташа, и Корнев только теперь заметил ее. При виде Наташи новая волна радости охватила его.
— Я не заметил вас, — сказал он.
— А я видела и знаю, о чем вы думали.
— Я не думал… я стоял…
— И наслаждались природой.
Наташа сидела, облокотившись о дерево, и в рамке зеркального пруда, в огне заходящего солнца казалась каким-то воздушным видением.
— Да, откровенно говоря, я совсем охвачен, очарован, подавлен… и просто нет меня. Хочу чувствовать и не могу. Думаю, и как будто не я это думаю… так кто-то, где-то… Нет, положительно такого чувства я еще не переживал. Знаете, в воспоминании и поездка наша кажется мне каким-то сплошным очарованием: мне кажется, я бог знает когда уже уехал из города. Нет, надо Тёму сюда. Он там спит и пропускает прелесть…
— Засыпающего дня?
— Да… засыпающего под какую-то тихую, особенную, непрерывную музыку какого-то полного без конца оркестра. Вы замечаете? Еще немножко, и я начну стихами говорить.
— Ведите Тёму.
Карташев, проснувшись, лежал и думал об Одарке. Она ему приснилась, и взгляд ее глаз он еще ощущал в душе. Из гостиной доносилась музыка Мани, игравшей «La donna e mobile».[58] Он вспомнил, как, бывало, в детстве, сидя на окне, под вечер, любил слушать шарманку, игравшую эту арию; кусок сыра был так вкусен, и так нежно-тоскливо замирала последняя нота в гаснувшем дне… Он встал, вышел в другую комнату и, наткнувшись на открытую книгу о Данте, увидел стихи, присел и начал читать. Ему понравились две строчки, и он, сидя же, их выучил. Еще одни были длинные стихи, они тоже пришлись ему по вкусу, и он принялся и за них.
— Ты не спишь? Я думал, ты спишь, — сказал, входя, Корнев. — Идем на пруд. Ты, как поэт, совсем ошалеешь.
— Какой я поэт? — обиделся Карташев.
— Ну, брось… Я совсем в каком-то особенном состоянии. Ничего подобного я не видал… Действительно, природа имеет свою неизъяснимую прелесть.
— Природа… а любовь?
— Рыло!
Когда они пришли на пруд, солнце уже село, и весь запад горел прозрачным, красным огнем. В этом огне, в красном просвете, деревья точно замерли. С пруда слетела позолота, но пурпур запада еще фантастичнее отражался в зеркальной поверхности. Легкая дымка подымавшегося тумана смешалась с отражением, сливалась с окружавшими предметами и придавала им ту таинственную прелесть, когда действительность уже сливается с прихотливыми и нежными узорами фантазии. Карташев потянул в себя всей грудью воздух и какими-то пьяными глазами смотрел вокруг. Одарка чувствовалась в каждом штрихе.
Он начал декламировать только что выученные итальянские стихи.
— Так и есть: сразу на разных языках начал, — сказал Корнев. — Ну переведи.
— «Я так устроен, что пишу, когда меня вдохновляет любовь; смотря по тому, что она диктует внутри меня самого, я то и повторяю».
— Откуда это?
— Из Данте.
— Ты разве знаешь итальянский язык?
— Я не знаю его, но я знаю, что это мой девиз в жизни.
— Но у Данте, — сказала с грустью Наташа, — была только одна Беатриче.
— У него будет их двести! — махнул рукой Корнев.
— Двести?! — спросил Карташев. — Ах, черт возьми! Мефистофель, ты должен быть здесь. Ты в этом огне. Ты зажигаешь кровь очарованьем. И жги! Давай мне все, что может дать жизнь, и, черт с тобой, плачу тебе вечностью!
— Безумный Тёма, — произнесла, подымаясь в каком-то ужасе, Наташа, точно Мефистофель уже стоял перед ее братом.
— О да! да! — весело закричал Карташев. — Одно мгновение без удержу, чтоб все охватить, всю жизнь, все постигнуть, и к черту ее, как не годную больше дрянь!
Корнев не мог не отнестись критически:
— Так для чего тебе это мгновенье? для личных целей?
В кустах, по дороге в деревню, вдруг мелькнула Одарка. Сердце Карташева замерло в истоме.
— Но любить все-таки нужно? — загадочный, счастливый, сверкнул он глазами, — если любовь в сердце — мир побежден!!
— Любовь, любовь! — недовольно заметила, появляясь, Аглаида Васильевна, — вы, господа, совсем опьянели.
— Какие глупости тут Тёма говорил, если б ты знала, — сказала Наташа, — совсем с ума сошел!
Взгляд Карташева ушел в небо и остановился на горевшем облаке.
— Мама, смотри в небо: вон лев держит в зубах какую-то девушку… вон тает, расходится… корона… гроб… Это моя судьба! Женщины! В них царство и смерть, ужасная смерть… смерть искупленья. Согласен! Смерть, какую только может выдумать человеческая фантазия…
— Тёма, глупости! — прикрикнула Аглаида Васильевна.
— Да, да! Я должен погибнуть, иначе из меня ничего не выйдет.
— Он совсем с ума сходит, — любуясь братом, заметила Наташа.
— Дай пульс, — серьезно сказал Корнев и, сделав озабоченный вид, стал щупать пульс.
— Поздно! — вырвался Карташев и, скрываясь за деревьями в прозрачной темноте красного зарева, закричал: — Сатана уж со мной, и я подписываю договор.
— Тёма! — раздался грозный оклик Аглаиды Васильевны.
— Ха-ха-ха! — ответил Тёма смехом Мефистофеля.
— Ха-ха-ха! — уже дальше и глуше пронеслось.
— Ха-ха-ха! — возбужденно и глухо замерло в саду.
Карташев остановился и оглянулся. Что-то особенное было в воздухе: деревья теснее сводили свои вершины; едва горело где-то там, в темной бездне, и казалось отверстием в преисподнюю. Сумерки сменялись быстро разливавшейся темнотой. Что-то уходило или подходило, что-то беззвучно, таинственно пряталось в темноте неподвижных кустов, в непроницаемой тени деревьев. Звонко трещали кузнечики, ярко мигали светляки, что-то трогало лицо… Подкравшаяся ароматная ночь сразу охватила своими жгучими объятиями, влила тревогу и истому, и возбужденный Карташев прошептал:
— Ну что ж, если я люблю?
Он побежал дальше. Тревога разливалась по его телу. Он чувствовал робость от встречи и твердил, замирая:
— Надо, надо, потом будет хорошо, — и бежал дальше.
В темноте обрисовалась фигура Одарки. Собрав остатки мужества, он догнал и обнял ее. Одарка испуганно рванулась. Он смутился, вторично поймал ее и взволнованно произнес:
— Одарка, хочешь быть моей женой?
— Пустыть, панычику! — вырываясь, резко ответила Одарка.
— Хочешь? — уже испуганно спросил Карташев.
— Панычику, пустыть! — настойчиво повторяла Одарка.
Карташеву начинало казаться, что это не он стоит и обнимает Одарку, и не Одарку, а что-то грубое, чужое, с скверно пахнувшим к тому же платьем.
Он тоскливо-стесненно заговорил:
— Одарка, я люблю тебя… Одарка, ты… ты, Одарка… ты хохлуша, и я хохол… я буду тебя любить… Хочешь?!
— Ой, панычику, пустыть… Конон зобачит…
— Конон? зачем Конон? он твой жених?
— Так вже ж…
— Я не знал, — растерялся Карташев, — а ты?.. ты любишь его? — Одарка опустила глаза.
— А вже ж люблю, — ответила она тихо, в недоумении поднимая плечо.
Карташев почувствовал себя в роли Дон-Кихота. Он быстро проговорил:
— Ну, любишь, так что ж тут. Ты скажи Конону, что я не знал.
— Та я ему ничего казати не буду. Пустыть, панычику.
Карташев обиделся.
— Нет, скажи, — я не знал. Что ж, если любишь. А я тебя все-таки буду всю жизнь любить.
— Пустыть, панычику.
Карташеву было жаль выпускать Одарку.
— Можно тебя еще раз поцеловать?
— Ой, боюсь, панычику.
Карташев выпустил Одарку.
— Ну иди…
Одарка ушла и даже не оглянулась, а он остался.
— Как это все глупо вышло, — громко вздохнул он.
Он подождал, пока затихли шаги Одарки, и медленно пошел по дорожке…
— Ну, начинайте.
Корнев перестал петь и покорно заговорил:
— Горю, горю пень.
— Зачем горишь?
— Тебя хочу.
— Не «тебя», а «поймать хочу».
— Поймать хочу.
— Кого?
— Тебя самого.
— Вы никогда так не поймаете!
— Да, — раздумчиво согласился Корнев, возвращаясь один.
— Ну, становитесь опять.
Корнев снова запел.
— Да вы хотите играть?
— Обязательно.
— Тёма, будем в горелки? — закричала Наташа, увидев фигуру брата на террасе.
— Не хочется, — ответил Карташев, садясь в тени террасы.
— У Тёмы всегда контрасты, — раздался недовольный голос Зины.
К Карташеву подошла Аглаида Васильевна.
— Тёма, как можно такие глупости говорить, — с мягким упреком сказала она.
— Я шутил же, — устало, без возбуждения ответил Карташев.
— И шутить такими вещами не надо. У меня просто сердце сжалось. Такой глупый мальчик. Я так и вижу тебя в жизни… так сам беду на себя и накличешь.
Мать ласково гладила голову сына. Карташев, пригнув шею, молча смотрел в сад. Аглаида Васильевна постояла еще и ушла в гостиную. Мягкие звуки рояля понеслись в открытые окна в сад и слились там в одно с живой возбужденной ночью, с волнами света из окон. Карташев подсел к окну и, увидев на нем стихотворения Алексея Толстого, машинально раскрыл на переводе из Гейне:
Расписаны были кулисы пестро, Я так декламировал страстно, И мантии блеск, и на шляпе перо, И чувства — все было прекрасно. Но вот, хоть уж сбросил я это тряпье, Хоть нет театрального хламу, Доселе болит еще сердце мое, Как будто играю я драму!Карташев оставил книгу и упорно, задумчиво смотрел в сад.
«Отчего я вообразил, что Одарка меня любит?! Схватил… грубо… набросился. Как все это глупо и пошло!»
Он встал. Его потянуло к письменному столу.
Он ушел к себе в комнату. На зеленом с пятнами столе мирно горела лампа под абажуром, что-то точно махало из темного окна, было чисто, тихо и светло. Он сел в кресло перед столом и, полный нахлынувших ощущений, с карандашом в руках и белой бумагой перед собой, задумался, с чего начать. Он нерешительно грыз карандаш. Осторожно, точно делая преступление, написал он первую строчку. Немного погодя он уже ожесточенно то писал, то смотрел вперед, отыскивая рифмы. Потом, зачеркнув все, он задумался и сразу написал:
Сердце рвется на простор, Сердце ищет дела, А живешь, как жалкий вор, Глупо и несмело.Он прочел и оборвал сам себя:
— Глупо! И стихи плохие, и, собственно, какой простор и какое дело? За Одаркой ухаживать?
Он сам себе в эту минуту напомнил свою мать и еще строже заглянул в свою душу: фальшь! — повторил он и, зачеркнув, написал:
Фальшивый, жалкий человек…Опять зачеркнул и вновь написал:
Промчится жалкий век бессилья, —но, заслышав шаги Корнева, он поспешно скомкал все написанное и выбросил в окно.
— Ты что тут?
— Да так… хотел было…
— О-о-й!
Карташев тоже рассмеялся.
— Ужинать-с пожалуйте, — заглянул Степан.
— Эх, здорово засну, — сладко зевнул Корнев, идя за Карташевым в столовую.
Дни шли за днями в приятном ничегонеделанье, в еде, прогулках по саду, пении и изредка, когда все надоедало, чтении вслух. Иногда ездили в поле, устраивались кавалькады. Корнев сперва энергично отказывался, но потом сдался и даже увлекся верховой ездой. Он выбрал себе совершенно простую лошадь Буланку и был счастлив, когда Буланка, после энергичных и комических понуканий, пускалась в галоп. Тогда он, подпрыгивая и направо и налево, и взад и вперед, работая локтями, победоносно смотрел вокруг и предоставлял смеяться над собой желающим, сколько им было угодно. Если ветер срывал его шляпу, он подвязывал ее носовым платком, отчего горбившаяся его фигура делалась похожей на фигуру бабы. И это его нимало не смущало.
— Смешно? — спрашивал он небрежно и обращался к своей лошади не то с приказанием, не то с сомнением: «Но-о!» — а когда убеждался, что Буланка и на этот раз была так же глупа, он ожесточенно ударял ее плетью и уже властно кричал: «Но, животное!»
Они ездили на сенокос и пашню. Иногда Карташев принимался экзаменовать Корнева и спрашивал его, какой тот или другой хлеб. Корнев путался и постоянно становился в тупик. Когда ему надоедало, стоя перед полем, напрасно ломать голову, он кончал:
— Ну, и убирайся к черту! Так и напиши в своем сочинении, что я, восемнадцатилетний болван, не только не знаю где, и что, и какой это хлеб, но если б ты стал божиться, что жареные булки растут прямо на дереве, то и то поверю.
— Не жареные, а печеные, — поправляли его.
— Ну, хоть вареные!.. Что в самом деле пристали?
Однажды, проснувшись после обеда, Корнев, грызя ногти, сказал Карташеву:
— Послушай… Сколько времени мы уж в деревне, а, собственно, я почти еще никакого представления о деревенской жизни не имею. У нас как-то удивительно изолированно устроена жизнь от всей остальной деревенской обстановки.
— Общая помещичья. Ты напрасно не хочешь к батюшке ходить, — он ближе к деревне, — ответил Карташев.
— Так что ж? Я, собственно, по принципу, а то отчего же? Пойдем хоть сегодня.
Но в этот день посещение отца Даниила не состоялось: приехал Неручев и провел весь вечер. Сперва его чистый, даже щеголеватый вид, немного заносчивая манера оттолкнули было Корнева, но жажда впечатлений заставила его насторожиться.
— Пожалуйста, господа, — успела предупредить Аглаида Васильевна, — не травите моего Неручева: помните, что он гость.
Неручев держал себя с достоинством, но вежливо и охотно вступал в разговор. Корнев старался подбирать нейтральные темы — расспрашивал об урожаях, о хозяйстве, о крестьянах. Неручев говорил с видимым знанием дела, жаловался на отсутствие инициативы, указал на многочисленные опыты в своей деревне. Коснувшись крестьян, он отметил, как главное зло — отсутствие образования.
— Это совсем культурный человек, — изумился Корнев, когда уехал Неручев.
— Его отец был замечательный человек, — заметила Аглаида Васильевна, вскользь бросив взгляд на Зину.
— С виду это хлыщ, — сказал Корнев. И, раздумчиво принимаясь за ногти, он докончил, пожав плечами: — Как можно иногда ошибиться.
Неручев, уезжая, настоятельно звал осмотреть его усадьбу, в которой много было старинных редкостей.
В условленный день Аглаида Васильевна, Зина, Корнев и Карташев поехали к нему в коляске четверкой.
Это была очень большая нарядная усадьба в чугунной высокой ограде. Двухэтажный дворец раскинулся посреди двора, и, огибая зеленый круг, дорога заканчивалась у такого подъезда с зеркальными окнами, каким мог бы щегольнуть любой барский дом-особняк в Петербурге. Навстречу высыпал целый штат прислуги: тут были и лакеи в штиблетах, синих фраках с большими металлическими пуговицами с графскими гербами, и лакеи просто в черных фраках, горничные в чепчиках и просто босые девки. Неручев в своей богатой обстановке произвел еще более сильное впечатление дельного барина, умеющего соединить любовь к роскоши с деловитостью, не уступающей даже крестьянской: он говорил, что сам умеет и плуг починить, и плотника поймать на всякой плутне, а что касается хозяйства, то он в курсе всех мелочей и ведет все сам. Корнев даже с удовольствием пожал ему на прощанье руку, совершенно подкупленный главным образом тем, что Неручев постоянно отзывался о крестьянах с симпатией. Вскользь даже как-то выяснилось, что Неручев им уступает все за полцены.
— У вас тоже так? — спросил Корнев, когда они возвращались домой.
— Я не знаю, — ответил Карташев.
— Но отчего же он разоряется?
— Неурожаи… Но в этом году он совершенно поправил свои дела, — ответила Аглаида Васильевна.
— Он ничего… красивый, — сказал Корнев и покосился на Зину. Аглаида Васильевна сделала суровое лицо и молча, строго смотрела в поле. Корнев сконфуженно замолчал. Зина едва приметно улыбнулась и загадочно смотрела куда-то вдаль.
Корнев грыз ногти, посматривая мельком на Зину, старался уяснить, нравится ли ей Неручев, и представлял ее в роли madame Неручевой. Он с любопытством искал в ее лице, глазах чего-нибудь такого, что помогло бы ему разобраться. Зина знала, о чем думает Корнев, ее разбирал смех, и она, в свою очередь, также его наблюдала, но не подавала и виду.
XIII
Отцу Даниилу восемьдесят четыре года. Дни за днями идут, проносятся годы в вихрях зимних метелей, аромате бузины, полевых цветов, темных вишен тенистого садика, а в маленьких, с запахом васильков и других пахучих трав, комнатах отца Даниила все то же. Все такой же и отец Даниил: выдуло его ветром, выжгло солнцем, загар так и не сходит с лица, как и запах васильков не оставляет его. Старая рука потемнела и высохла.
Привыкли к нему крестьяне: без него и праздник не в праздник, и жнитво не в жнитво. Возьмет в руки колос, разотрет, сдует с зерна шелуху, оставит ладонь и смотрит — и дивчата и паробки притихли, следят с открытыми глазами и ртом, как смотрит старый поп, а с ним и все его восемьдесят четыре года, видавшие всякие хлеба на своем веку, еще при отцах их и дедах, а то и прадедах. Вся вечность для них в этом высохшем попе, и чрез него одного их связь со всем, что отделяет их степи, их Высь, их деревню от всего остального, что есть и на земле и на небе. И не только того, что есть, но что и было. Никто так, как отец Даниил, не сумеет вспомнить и рассказать, что и как было.
Помнил он время, когда воз с солью и волами стоил два рубля, помнил, когда солдаты еще пудрили мукой свои косы, помнил времена гайдамачины и сам угощал знаменитых когда-то в околотке разбойников: Калиша, Явтуха и Перестрила. Даром что безбородые еще были, а вся округа дрожала от одного их имени, и не чета им теперешняя мелкота, хоть бы и тот самый Конон. Помнил все отец Даниил и умел рассказать о старине, о том, что было, что в землю ушло, — как говорил он, — из чего, как из корней, цветет и зеленеет веселая жизнь.
Не одни крестьяне любили слушать старого летописца: собирались издалека послушать его. Бывало, метель злится, и крутит, и стучит в маленькие окна его дома, а в домике тепло и уютно. Накормит отец Даниил своих гостей чем бог послал — варениками со сметаной, молочной лапшой, а то и борщом с уткой, с кусками прозрачного вареного сала, и поведет их спать в отведенную для них комнату.
Тут уж чиниться не перед кем, да чинись не чинись — всем одна честь: всем сена довольно, все на полу в ряд, а батюшка у порога. Перед ним каганец, а в каганце сало, в сале фитиль. Сидит батюшка, оправляет горящий фитиль, — сальные свечки еще роскошью тогда были, — тискает сало и говорит о том, что было. Облокотившись на локти, гости нюхают то ароматное сено, то копоть каганца и слушают. Какой-нибудь молодой городской франт забудет и про красный галстук свой, и про барышень, которые в церкви так охорашивались да бросали на него ласковые взгляды. Качается неровное пламя, падает на старое лицо батьки, на его косичку, падает на слушателей, заглядывает в темные уголки, точно ищет испуганных следов того, о чем рассказывает неказистый старый поп. И в сенях слушатели: паробки и дивчата, хоть и лузгают семечки. Изредка батюшка прикрикнет в их сторону: «Цыц, вы!» — и продолжает свой рассказ.
Начнет, бывало, еще с Запорожской Сечи, когда ключом била жизнь и волнами доходила и до Выси. О том ему еще дед передавал. Сам же он пришел на Высь как раз тогда, когда прадед Аглаиды Васильевны, из Черногории, в начале нынешнего столетия получил это поместие в дар и выстроил всю эту усадьбу, которая и сейчас стоит.
— Ото детками Аглаиды Васильевны и кончится проклятие. Только первого из их роду и не видел я, того полковника, что беду накликал на весь свой род. А было так дело. В турецкую кампанию тысяча семьсот семьдесят второго года штурмовали в Болгарии один греческий монастырь. Уж господь его знает, как, из-за чего, только монастырь не сдавался, да и полковник тоже крутоват был… Отлички, может, хотел, а то просто огненный воин был: разгорелся, и дело до штурмана дошло. Ну, что же? монастырь не крепость, и монахи не воины — в развалину весь монастырь обратил. А все-таки еще не взял, бо ночь пришла. Ну, до свету отложили дело. Готовится войско. Не спят. Ночь темная, хоть глаз выколи. Пялят часовые глаза. Ну, что же? смотри не смотри — развалины, развалины и стоят; только что сумно: оно, конечно, сказать — святыня… Только вот в полночь вдруг звон — тихий, жалостливый, как по покойнику… И звон с часовни идет, а часовни уже нет — развалили… Пение погребальное… Ближе да ближе… Не про смертное сердце то пение бывает. Не доведи его никому господь услышать. Еще ближе — огонь показался, факелы, а тут и процессия — в саванах… идут да поют. Услышал и полковник, выскочил, хотел было скомандовать, да нет… посильней хозяин сыскался… так и остался, будто пришибли его. Прошла процессия на стены. И слышат воины чей-то голос — проклятие читает войску всему и полковнику, а ему и с потомством до шестого поколения. Кончил голос, и все пропало. Нет ни монахов, ни процессии… опять темно. Развалины одни. Повскакали воины, поглядели друг на дружку: не то было, не то виденье какое… Утром на приступ — никого… точно провалились куда монахи. Обыскали весь монастырь, в пещеру спустились… глядят: лежат в саване в ряд монахи — и все покойники. Вот он: и славы нет, и душу загубили. Так с похода никто и не вернулся, а того полковника турки захватили и на кол посадили. То первый был…
Второй-от той, что дом тый состроил, крутой же, скупой был. Так шел слух, что только-только не повесили его в милиции. Деньги, бывало, в лесу держал. Каждый год уж в страстную пятницу едет новую кучу зарывать… Раз этак копал он, а тут откуда взялся ворон, да прямо над ним и закаркай. Поднял он голову, ворон на ветке сидит, смотрит в него человечьими глазами, машет ему крыльями. Так он и обмер, домой приехал уже без языка — и свалился, а через три дня и богу душу отдал. Только уж перед самой смертью опамятовался, языка нет… Потыкал, потыкал пальцем меж тремя пальцами в другую руку: дескать, меж трех деревьев деньги в лесу, да где же их сыщешь? Везде во всем лесу все три дерева.
— А как узнали, что ворон над ним каркал, когда он без языка приехал?
Старый батюшка не любил перерывов…
— Я говорю, что~ знаю… как да как… не следствие с меня снимаешь…
У этого, что вот помер, сын в гвардии был, женатый, тоже полковник. Приезжал на похороны. Молодец, высокий, ус черный, длинный, глаз черный, одна природа у всех. Так через год, не больше, слышим, трах! застрелился… неизвестно с чего. От него четверо осталось детей: сын да дочь, да сын еще, да вот мать Аглаиды Васильевны. Эти вот сын да дочь с матерью в этом доме жили. Мать-то, господь ее знает, не то больная… слабость ли в ней к детям была… Видная из себя, глаза голубые… вот как вижу. Придворная дама. Войдешь: не знаешь, куда и косичку свою сунуть от робости — так с виду царица, а обходительная… И детки-то, а-ах! и сын и дочка красоты удивительной: она в мать, он в отца. Жили они в детстве особняком друг от друга: обоих где-то там у французов образовали. Съехались тут уж, в деревне эти-то двое… не наглядятся друг на друга… за руку ходят, говорят, говорят, по-французски всё… по саду ходят… В степь верхами… она по-дамски боком, а он на этаком корытце сидит… просто так вот, как ладонь, и маленькое… хорошо ездили, твердо в седле сидели, даром что вот как и удержаться не за что. И лошадка у него была — аргамак породой, ушки стриженые, картинка лошадь, а нравом — дьявол… никто, кроме него, и не подумай сесть. А он вскочит, и не знаешь, на кого и смотреть: у коня — глаза загорятся, и пойдет под ним выделывать штуки, а он качается в седле, словно прирос… вот будто игрушка им обоим… сердце радуют друг другу, а уж чего? на моих глазах берейтора этот аргамак сбил, так просто, с одного маху… берейтора! А этому и горя мало. А на сестре лица нет: смотрит, не оторвется…
Ну, и досмотрелись! Что уж там было, не знаю. Одним словом, гадость этакая вышла, и кончилось тем, что она в пруде утопилась, а он на нижней аллее в саду, у самого колодца, на дереве удавился. И мать тут же в этот день за ними скончалась. Кто, сердце, говорил, разорвалось у нее с горя, а кто прямо, что у нее яд в флакончике был приготовлен. Темное дело… все-таки ее похоронили по обряду, а тех двух так в одном гробе у дороги и зарыли… потом уж часовню поставили… Рассказывают в народе… уж, конечно, выдумают несогласное с религией… ну, да уж и говорить не приходится об этом, да и знать доподлинно, как и что, никто не может: думаем мы человеческим умом и так и этак, а помрем, все по-иному, конечно, выходит…
И мать Аглаиды Васильевны — эта другая дочка — тоже так пропала; с мужем развелась… дочка тут, эта самая Аглаида Васильевна родилась. Мать-то ее еще из первых в губернии была… Государя в этом самом доме принимала. Когда умерла, так за комодом, уж не скоро, бриллиант вот с орех сыскали. А брат ее, дядя Аглаиды Васильевны, помер уж вот в Балайхуре, верст пять-десять отсюда жил; это прежде всё их же земли были… грани там городами означались. Страшное богатство было! Этот вот Антон, что в Балайхуре, несметно же был богат и хозяин хороший. Бывало, все толковал, что корень зла всякого — ученье… человек, дескать, выучится и сам не знает, чего и хочет… Вроде того, что ум за разум зашел у него… так он детям своим никакого образования и не дал, только что грамоте… Господи, с этаким богатством… только-только свою фамилию подписать могли. При этом говорит: богатому и без ученья можно прожить. А ведь наука не простой головой удумана — можно сказать, все нации, все народы друг перед дружкой вытягиваются. Ему одному облегчение пришло… Ну что ж? Твоя воля на все… А детей у него всех восемнадцать человек было да незаконных всяких еще… Всех поровну поделили. От этих опять пошли… Сейчас в одной деревне их человек пятьдесят. Богатство, что было, растрясли, осталась земля только, и ту в залог пустили. Тут воля подошла, и вовсе осели… И народ! Ни господа, ни мужики: разврат пошел, содом и гоморра… мерзость запустения… Простой мужик перед ним, как земля от неба, отличается. А все уж как наладились, так и пошли: обман, сутяжничество, зависть да разврат… Тьфу, прости господи… Так иной раз думаешь: как-то теперь Антон Иванович с того света на дело своих рук глядит… А може, и не думает: наделал дел, а уж тут как знаешь, так и расхлебывай… И расхлебать-то, главное, нельзя.
— Ну, а у Аглаиды Васильевны, слава тебе господи, кажется, покамест?..
— Срок-то еще не вышел… Сама ведь она, положим, ой-ой, баба… умная. А ведь и то сказать: прежнего нет уж. Только вот Благодатная. А Божий Дарик, Арсеньевка все ведь у чужих людей. А земли какие были! Помню, бывало…
И пойдет батюшка рассказывать, что он помнит. Слушают гости, слушают и сами не заметят, как заснут и захрапят так, что и себя перестанет батюшка слышать.
Посмотрит он потухшими глазами, вздохнет и сам пойдет на боковую. Вспомнит, что недолго уж и ему скрипеть на белом свете, что скоро останется он вот так же один в своей пустой могиле, и заворчит:
— Эх-хе-хе… так-то вот и живем и все думаем, что по нашей воле все так и этак сходится — все умно… А как станут люди разбирать после тебя, что к чему, — тут-то и помянут тебя, умного, вот не лучше, как Антона Ивановича… Прости господи!
Корнев и Карташев стали часто заходить к отцу Даниилу и, сидя за маленьким чайным столом с веселым самоварчиком в густо поросшем саду, любили слушать интересные рассказы старика. Рассказчик вскользь касался прошлого семьи Карташевых и останавливался только на светлых воспоминаниях, но о соседях говорил все, что знал.
Рассказывал об отце Неручева, которого крепостным был повар Тихон, рассказывал, отчего у Тихона лысина образовалась.
— Там у них в усадьбе есть такая приступочка: со двора, как раз под окнами столовой. Вот как обед начнут подавать, бывало, Тихон уж и стоит на своем эшафоте: борщ там или суп испорчен — прямо на голову. А то и на конюшню сведут…
Корнев грыз ногти, внимательно слушал и осторожно подбирался с вопросами к батюшке, желая выяснить то, что его интересовало.
— Что ж, — говорил он небрежно-равнодушным голосом, — конечно, если виноват, так нельзя и без наказания… Но это все-таки был уважаемый человек?
— Уважаемый, пока жил. Можно сказать, первое лицо был на всю губернию: уж что он скажет — так уж закон. Там это насчет порядку, как с народом, насчет строгостей… Или в проповеди… ну, как-нибудь не тем словом обмолвишься — и слушать больше не станет: уйдет из церкви. И жди от архиерея… Фальшивый был человек. И вот какое дело: и мужики у него такие же вышли — на словах одно, а в деле все фальшь. Хуже теперь его мужиков нет — пьяницы, воры, ну, просто постыдный народ…
Однажды Корнев пришел один.
— Ну, а теперешний Неручев? — спросил он.
— Да и теперешний хоть… Тоже фальшивый человек… Только та и разница, что тот жмот, скупой был, а этот пыль в нос пускает, покамест все не распылит.
— Он хвалится.
— Да ведь за похвальбу денег не платят. Кто себе враг? не по словам, как говорится, а по делам.
— Он говорил, что за полцены все отдает крестьянам?
Отец Даниил пренебрежительно махнул рукой:
— Пустое!.. школу бы хоть устроил. Тут вот только Деланкур, что о крестьянах позаботился: школу им устроил, больницу, для младенцев покой устроил, когда в летнее время бабы в поле… А остальные так потерялись… по нынешнему времени прижаться надо: кто тратил рубль — двадцать пять копеек тратить надо, а они — все как шло у них, так и идет. Ну, уж тут какой конец?
— И много разорилось?
— А кто остался? Конца-краю нет разоренью…
— Кому же земля переходит?
— Да так — с торгов купцам… больше того немцы скупают. Ну, этим уж что в руки попало, то пропало…
Раз Карташев спросил отца Даниила:
— А нами мужики довольны?
Но отец Даниил уклонился от прямого ответа:
— Да ведь как сказать, — на всех и солнышко не угодит.
У Карташева зарождалось какое-то смутное беспокойство насчет того, что не все так хорошо, как это кажется с виду в отношениях крестьян к ним. Но попытки уяснить себе не приводили ни к чему; все было так, как было, и как могло бы быть иначе — ни ему, ни Корневу не представлялось. Что «идеала» нет — ясно, конечно, с первого взгляда: не было не только больницы, но и школы, хотя в деревне считалось двести пятьдесят дворов. Аглаида Васильевна уклонялась от прямых ответов на такие вопросы, но как-то, рассердившись и улучив минуту, когда была одна с сыном, заметила раздраженно:
— Тёма, ты точно в гости приехал: наивничаешь перед Корневым о школе и словно не знаешь моих дел. Для школы нужно в год не меньше пятисот рублей. Я могу их дать, отказав кому-нибудь из вас в образовании, — так выбери, пожалуйста, кому же именно? Или мне прикажешь отказаться от того, что я себе позволяю?
Карташев знал, что мать всегда и во всем себе отказывала: он знал, что она почти ничего себе не делала из туалета, разнообразя и подновляя богатый запас молодости. Ее шуба с очень дорогим мехом черно-бурых лисиц давно уже требовала перемены бархата, и дети часто к ней приставали насчет этого, но Аглаида Васильевна и слышать не хотела. Она перестала даже держать лошадей в городе и таким образом отказывала себе в последнем удовольствии. Карташеву было неприятно, что он неосторожно затронул больное место. Он поспешно проговорил, искренне и горячо:
— Тебе, конечно, где же… Но отчего же земство?.. О чем оно думает?
— И земство не всесильно… расход земства кому-нибудь тоже надо нести на себе… Все это не так просто. Вот подыметесь повыше, бог даст, — тогда и увидите все то, что теперь без перспективы и связи мозолит ваши глаза.
Попробовали Корнев и Карташев за Конона Львовича браться по интересовавшим их вопросам, но тоже немногого добились. По мнению Конона Львовича, мужики — это такой народ, которому хоть все отдай и все мало будет, — народ неблагодарный, завистливый, враждебный. Все это понятно, надо им делать все, что можно, но неблагодарность — это факт. И он приводил примеры. Конон Львович говорил тоном человека незаинтересованного, которому ни потерять, ни выиграть нечего. Отец Даниил, по его мнению, человек «себе на уме», хитрый и умеет выводить свою линию, и это тоже, конечно, понятно: его судьба зависит от крестьян, оттого он им и мирволит, но, в сущности, только ловко эксплуатирует их невежество. Тон Могильного был авторитетный и независимый. Так же независимо он держал себя и с Аглаидой Васильевной. Честность его, деловитость были на виду. Все это действовало, вызывало сомнения, а факты ставили окончательно в тупик. Узнав, как отец Даниил говорил об отце Неручева, Аглаида Васильевна доказывала, что отец Даниил просто-напросто наклеветал на Неручева.
— Это был человек идеи, замечательных способностей, и, вне всякого сомнения, если бы посвятил себя государственной деятельности, он выдвинулся бы не только между современниками, но и в истории занял бы одно из самых первых мест. А что он был человек своего времени, то и вы оба не последнее слово принесли с собой на землю.
— Но ведь он был и против освобождения крестьян даже? — возразил Корнев.
— Великим людям свойственны и заблуждения великие.
— Собственные заблуждения — я согласен. Но если эти заблуждения хлам веков, из которого сильный ум не может выбраться даже тогда, когда малые переползли через них, то это не великий ум. Какой же это государственный человек? Фальшивый человек, который из своих личных расчетов поддерживал несправедливое положение вещей, подтверждая его не наукой человеческой жизни, не лучшими стремлениями человеческой натуры, не религией наконец, а просто пальцем, приставленным ко лбу, гнусным насилием. Такой человек может иметь только значение Аракчеева, — пока живет. Это не государственный человек.
— Нет, нет, господа, вы противоречите сами себе: вы говорите о пальце, приставленном ко лбу, а сами ничего, кроме этого пальца, пока не имеете. Государство вам представляется очень простой машиной.
— Напротив, очень сложной — никто и не думает браться за нее, но судить об искусстве управления может всякий.
— Но не гимназист. Не было с сотворения мира еще государства, где бы решителями и судьями являлись юноши. И, прежде чем такой юноша станет судьей, он должен научиться уважать то, что собирается принять в свои руки: этим он обеспечивает, в свою очередь, уважение и к себе своих преемников.
— Обеспечивает рутину, — ответил Корнев. — Впрочем, конечно, все это сложно…
Корнев принялся за свои ногти.
— Но, возвращаясь к частному случаю, к Неручеву, мне кажется, что правильнее всего остановиться на том, что это был эгоист, фальшивый и непрозорливый человек.
— Вот, почти ничего не зная о человеке, вы подписали ему приговор. Так и с вами поступят в жизни: «Аще какою мерою мерите, такой и вам отмерится…» Я, по крайней мере, говорю вам, что имя старика Неручева одно из самых уважаемых имен нашей губернии, и если оно не стало общерусским, то причиной этого только его увлечения в молодости, — он был декабрист и в свое время был, может быть, стремительнее и прямолинейнее вас.
— Остается пожалеть, — вздохнул Корнев, — что таким и не остался.
— Вот вы и останьтесь.
— Несомненно… выбора быть не может из двух положений: Аракчеева и…
— Ну и отлично… Но по поводу ваших будущих исканий источников, из которых вы станете черпать свои сведения, я вам дам совет: дело в том, что источников в чистом виде, то есть дистиллированной воды, не бывает в природе. Во всякой есть своя подмесь, и ее, по крайней мере, знать надо. В источнике отца Даниила два недостатка и даже три: это человек, которого горизонт — эта деревня, неразвитой, он в силу вещей немного сплетник, потому что у него нет никаких интересов и он живет чужими, а так как только свои дела знаешь точно, в чужих же всегда будет неясность, то все сводится к случайной, сплошь и рядом, сплетне, безнаказанно гуляющей по свету…
— А зачем же устраивать такие потемки, чтобы было все неясно: раз его дело честно и в интересах других, то, казалось бы, чем больше гласности, тем лучше. Иначе одно из двух: или человек действительно даром терпит, или же делает гадости, еще изображая из себя некоторым образом непонятного героя…
— Все это фразы… Какая тут гласность в частной жизни? Газету ему, что ли, издавать для вас? Все оттого, что слишком прямолинейно судите… Наконец, у отца Даниила есть еще недостаток, с которым надо считаться. Это общий недостаток нашего духовенства: они не крестьяне, они не дворяне и одинаково, как люди, чужды тому и другому сословию. И третий недостаток, о котором особенно тяжело говорить: отец Даниил алчен… Вы можете проверить это у любого крестьянина.
Факты алчности — при взимании за требы — были налицо: крестьяне охотно делились ими с Корневым и Карташевым. Сам отец Даниил отдалился вдруг от них, стал сдержаннее, уклонялся от рассказов и только угрюмо смотрел, когда они появлялись в его маленьком домике. В конце концов мало-помалу в глазах Корнева и Карташева отец Даниил превратился в обыкновенного старого жадного попа, со смертью которого округа избавится от хорошо присосавшейся пиявки. Они больше не интересовались ни им, ни его рассказами.
XIV
Все попытки Корнева ознакомиться с положением крестьян сводились как-то сами собой к нулю. Усадьба хотя и была вблизи деревни, но вся жизнь ее так разнилась от остальной деревенской, что общего ничего не было. Случайные встречи с крестьянами и разговоры с ними были бесцветны и несодержательны. Вскользь высказываемое иногда крестьянами неудовольствие, по обыкновению намеками, не понималось молодыми людьми и всегда оставляло впечатление какой-то мелочи. Это было понятно: разговоры крестьян с Корневым и Карташевым, которые не имели даже элементарных сведений о том, что такое крестьянская жизнь, выходили разговором на двух разных языках. Переводчиком здесь являлся Конон Львович, и как будто подтверждалось, что крестьяне действительно народ тяжелый и, в сущности, сами не знают, чего хотят.
— Верно, сударь, верно, — вмешался как-то в разговор Степан, поймав кое-что из слов Корнева с Карташевым. — Народ необразованный, сам себя не понимает. Вот этак все бы мутить да дурью голову забивать. А как вот и последнее отберут, вот тогда и научатся благодарить да добром поминать…
Из молодых крестьян двое особенно останавливали на себе внимание: Конон и Петр. Конон слыл за беспокойного и даже бунтовщика. Он всегда был недоволен и всегда находил поводы ворчать. Это был bête noire[59] Конона Львовича, хотя управляющий, в общем, и старался относиться к своему тезке добродушно. Но он часто говорил, что даже и его долготерпению придет конец.
— Просто сладу нет: один, а всех мутит.
Петр был полной противоположностью Конону. Один его вид уже действовал успокоительно: это был большой, хорошо сложенный блондин с светлыми глазами, которыми он весело и мягко щурился на свет божий. Все было, по его мнению, хорошо, а что и случалось нехорошего, то всегда было скоропреходяще и там, где-то за этим дурным, уже должно быть, наверное, и хорошее. Конон видел только отрицательные стороны, их и искал. Петр видел одни положительные и точно не замечал отрицательных мелочей жизни. Петр был общий любимец, и Конон Львович выставлял его как образец и человека и рабочего. Если нужно было успокоить рабочих, примирить их — никто лучше Петра не умел это сделать. И всегда бескорыстно — от одного только разговора с Кононом Львовичем. Объяснит ему, растолкует — смотришь, большинство уже с Петром, а беспокойное меньшинство с Кононом. Несмотря на такую противоположность, Конон и Петр были друзьями, и в тех случаях, где Петр был свободен от влияния Конона Львовича, действовали сообща. В беседах Корнева и Карташева с двумя паробками — Кононом и Петром — Конон в конце концов с вечными претензиями и жалобами надоел, да исполнение его просьб было непосильно для Корнева и Карташева. Пока еще шла речь о табаке, о бутылке водки, до тех пор, или иначе, они могли помогать ему, но чем дальше в лес — тем больше дров, и Корнев с Карташевым терялись, видя, что, собственно, требованиям Конона конца не будет. Конон, в свою очередь убедившись в бессилии молодых людей, стал относиться к ним с каким-то раздражением. Обращался с ними без церемонии, особенно с Карташевым. Самолюбие Карташева страдало, и однажды, когда Конон вдруг резко перешел с ним на «ты», Карташев не выдержал и, возмущенный, ответил:
— Ну, ты, Конон, совсем уж свинья, и я с тобой больше не буду разговаривать, потому что ты забываешься.
Конон молча тряхнул головой и погнал дальше своих волов, так, как будто ничего и не случилось, а Карташев, сконфуженный, остался и старался не смотреть на Корнева. Последний тоже из чувства деликатности старался не смотреть на приятеля и даже проговорил:
— Нет таки порядочный нахал.
XV
Однажды утром Степан таинственно сообщил друзьям, что в степи у Конона Львовича неспокойно. Корнев и Карташев сейчас же, без чаю, верхами уехали в степь, пока Аглаида Васильевна еще спала. Из двенадцати плугов ходило только три, в том числе и Петр, — остальные, выпряженные, беспомощно валялись по бороздам. На стану толпа рабочих всяких сроков угрюмо стояла возле возов и равнодушно смотрела на приближавшихся панычей. Тут же около них был и Конон Львович. Он был на ногах, держал в поводу свою верховую лошадь и с каким-то сконфуженным видом пошел навстречу приехавшим. Карташев почувствовал себя хозяином и озабоченно спросил:
— В чем дело?
— Конон все… — ответил управляющий, разводя руками. — И пища нехороша, и хлеб никуда не годится, и плата мала, — одним словом, забил себе в голову… На вас указывает, что вы ему что-то говорили.
— Мы? — Карташев смущенно оглянулся на Корнева.
— Кажется, ничего не говорили, — ответил Корнев.
— Да ведь это, знаете, народ: ему одного слова довольно, чтоб он себе черт знает что вообразил… Вы лучше всего уезжайте, чтоб еще больше их не дразнить, а я уж сам тут справлюсь…
— Но опасности нет?
— Какая же опасность? Ну, не захотят — пускай идут на все четыре стороны: других возьмем.
— Может быть, действительно провизия нехороша? — угрюмо спросил, поглядывая исподлобья, Корнев.
Конон Львович повернулся и крикнул:
— Андрей, принеси хлеб, сало, пшено.
Немного погодя из табора вышел Андрей, а за ним невдалеке и Конон. Оба шли без шапок. Андрей пришел и подал панычам черный хлеб. Конон Львович отломил, сам попробовал и передал молодым людям.
— Какой же еще хлеб?!
Корнев и Карташев попробовали и сделали неопределенные физиономии: кажется, хорош?
— Хиба ж такой хлиб можно исты? — спросил Конон, впиваясь своими ястребиными глазами в Корнева.
— Хлеб действительно, кажется, как будто…
Корневу очень хотелось поддержать Конона.
— Як тисто, — подсказал Конон, — мокрый.
Конон Львович равнодушно молчал.
— Андрей, ты для меня из дому не захватил хлеба?
— Та взяв.
— Принеси.
Андрей принес.
— Вот этот самый хлеб сегодня к столу Аглаиды Васильевны подадут, — сказал Конон Львович.
— До хлиба ж то що подадут? — спросил Конон, — як не работать, то и тым хлибом жив буде чиловик.
— Ну, ступай, — приказал ему резко Конон Львович.
— О так, — кивнул головой Конон и повернул к табору.
— Работать не будемо, — раздраженно крикнул он уже издали.
— Гусь, — проговорил Конон Львович, мотнув головой. — Уезжайте! Когда увидят, что уехали, поймут, что надеяться не на что. Весь секрет тут в том, что поднялась цена на базаре за работу.
— Так отчего же и не прибавить?
— А понизились бы цены? Они бы не согласились на сбавку.
— Ну, от базара до базара.
— Ну, без людей как раз и останемся.
Корнев и Карташев уехали.
Часа через два явился в усадьбу и Конон Львович. Трое, в том числе и Конон, взяли расчет, остальные стали на работу.
— В сущности, этот крестьянский вопрос какой-то бесконечный, — рассуждал Корнев. — Решить его по существу? идти на компромисс? на каком пределе остановиться?.. Для меня, по крайней мере, нет сомненья, что Конон, по существу, прав. С другой стороны, тоже нет сомнения, что полумерами его не удовлетворишь. С точки зрения порядка, может быть, и надо удалить Конона, но несомненно, что во французском парламенте какой-нибудь крайний левый заседает на своем крайнем стуле и только и знает, что протестует — и ничего: ему принадлежит будущее, правому там какому-нибудь — прошлое, центру — настоящее, всем есть место.
Разговор шел за завтраком, за которым сидел и Конон Львович. Он с любопытством слушал и посматривал на Аглаиду Васильевну.
— Ну, вот и отлично, — отвечала сдержанно Аглаида Васильевна, — это и есть самое главное, и вы теперь видите, как легко вызвать в народе ложные надежды, удовлетворить которые не в вашей власти. Крестьяне — дети… прямолинейны, и в разговоре с ними нужен тот же прием, что с детьми. Иначе вы им дадите в руки оружие, которым они себе же нанесут вред.
— Оружие, в силу вещей, и без того у них в руках: за деньги ли, в аренду ли, так или иначе, земля и труд, то, чем и мы и они кормимся, — у них.
— Это по-вашему…
— По-моему, — торопливо смягчился Корнев, видя, что Аглаида Васильевна начинает уже сердиться, — здесь такое столкновение разных интересов, что пока можно только постигнуть бездну, но решить вопрос…
— На сегодня он решен, — сказала Аглаида Васильевна таким тоном, что Корнев, чтоб не раздражать ее больше, замолчал.
Ночью сгорела только что сметанная скирда.
— Однако! — произнес Корнев и принялся за ногти.
Конона и след простыл. Аглаида Васильевна была сильно взволнована.
— Я тебя серьезно, Тёма, прошу, — сказала она, позвав сына на свою половину, — оставить всякие общения с мужиками: вы можете себе здесь хоть весь мир ногами ставить, но ты видишь уже последствия ваших неосторожных разговоров. Полторы тысячи рублей в этом году дохода уже нет. Эта скирда предназначалась для приданого Зины.
— Какое же приданое, когда у нее и жениха-то еще нет?
— Ты до глупости доводишь со своими вечными рассуждениями, — я больна от них. Пойми же наконец, что они несносны! Ты просто глупеешь от этого вечного напряжения обо всем рассуждать, рассуждать во что бы то ни стало. Пойми же наконец, что нет несноснее, нет отвратительнее, нет пошлее, наконец, человека, всю жизнь изощряющегося над бесплодными решениями вопросов. Корнев хоть за чужой счет это делает, а ты ведь прямо за счет своей матери, сестер… Эгоист! Уходи! я не хочу тебя видеть.
Голос Аглаиды Васильевны дрожал. Она огорченно смотрела вслед своему растерянно уходившему сыну. Ей и жаль было его и досадно.
— Теория, теория… основанная прежде всего на том, чтоб для спасения чужих — своих, самых близких, губить… Отвратительный эгоизм.
И, несмотря на то, что Аглаида Васильевна была теперь совершенно одна и некому ей было возражать, она еще страстнее повторяла, как бы настаивая пред самой собой:
— Отвратительная теория! эгоистическая, грубая, несущая с собой подрыв всего… Нет, нет! Бог с ним, с таким развитием!
Чтоб успокоиться, она взяла лежавшее на столе Евангелие, села в кресло и начала перелистывать книгу. Она открыла главу девятнадцатую от Матфея о богатом юноше: «Иисус сказал ему: „Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение свое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за мной“. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение».
Аглаида Васильевна вздохнула, откинула несколько страниц и прочла из главы пятнадцатой Матфея: «Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком; сердце же их далеко отстоит меня… Всякое растение, которое не отец мой небесный насадил, искоренится; оставьте их; они слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Она еще откинула несколько страниц назад и прочла из главы десятой: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ибо трудящийся достоин пропитанья… И враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня… И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Сберегший душу свою, потеряет ее».
Под впечатлением последних событий и постоянных разговоров с сыном и Корневым Аглаида Васильевна, тысячу раз читавшая все эти листы, на этот раз читала их с особенным, все усиливавшимся впечатлением искренне верующей женщины.
«Судьбы божии неисповедимы… конечно, в будущих веках человеческой жизни», — думала Аглаида Васильевна.
И вдруг у нее мелькнула мысль, что, может быть, настоящее уже есть начало этих веков. Точно поднятая какой-то посторонней силой, она встала и долго, потрясенная, смотрела на святой образ скорбно поникшего пред грехами мира.
— Господи, ты милостив! — воскликнула она с глубокой верой. — Если ты, всемогущий, во власти которого одним помыслом уничтожить мир и миры миров, послав своего единородного сына, не возложил на него исполнение твоих заветов, а только предначертал, то и от нас, ничтожных, отстрани чашу сию: непосильна она… Нет, непосильна, — убежденно повторяла она уже самой себе.
Вошла Таня и, остановившись у дверей, тихо плакала.
— Что тебе? — спросила Аглаида Васильевна.
— Дядя заболел.
Тихон был брат матери Тани. Он же и воспитал ее, когда она осталась бездомной сироткой. Таня любила его и теряла в нем последнего близкого человека.
— Заболел? — спросила озабоченно Аглаида Васильевна.
— Сейчас понесли из кухни. Ой, боже ж мой!
— Третий припадок… да, — бессильно проговорила Аглаида Васильевна.
Таня громко застонала и стала качаться, утираясь передником. С нее сразу слетел городской лоск.
— Полно, полно, — успокаивала Аглаида Васильевна и горячо поцеловала Таню в лоб. — Ну, что ж делать! Я тебе такая же родная… была и всегда буду.
Таня, вытирая слезы, поцеловала руку Аглаиды Васильевны.
— Иди к нему… Одарка пусть за тебя побудет в комнатах.
Таня ушла. Вошла Наташа и не то сконфуженно, не то устало присела.
— И Одарка плачет! — махнула она рукой.
— С той что?
— Конон пропал…
— Ну! — сделала резкий жест Аглаида Васильевна.
— Я знала, что Тихон умрет, — скривила Наташа лицо в свою обычную гримасу боли.
— О господи, как я не люблю, когда ты каркаешь.
Наташа с самого детства составила себе репутацию Кассандры. На этот раз Аглаиде Васильевне был неприятнее обыкновенного этот дар Наташи.
— Чем я виновата, — усмехнулась Наташа. — Снилось мне, что я умерла…
— Долго жить будешь.
— Да я-то буду… Я всех переживу.
— Ты в самом деле, Наташа, воображаешь себя провидящей!
— Да ведь это помимо меня: я не успела еще и подумать, а уже сказала…
— Это можно развить в себе до опасных размеров. Не хочу слушать твоего сна.
— Как хочешь, — лениво усмехнулась Наташа.
— Ну, что же? — спросила Аглаида Васильевна, помолчав.
— Умерла и иду по тому свету… Какая-то гостиная… обыкновенная серая мебель, люди какие-то… Я все иду, отворила дверь… Три двери: одна посредине в углубленье, и прямо в нее красный огонь падает, а две поменьше по бокам… И такой яркий красный свет от фонаря прямо туда, в углубленье… Я иду и знаю, что, в какую дверь попаду, от того и вся судьба зависит, и иду прямо в среднюю. Отворила, никого… тихо… Я подумала: вот здесь уже настоящий конец жизни. Вдруг вижу: подходит кто-то ко мне и спрашивает: «Куда ты идешь?» И опять я знаю, что от этого вопроса все зависит: в рай я попаду или в ад. А этот, который спрашивал, наклонился и смотрит на меня. И я не знаю — черт он или ангел. И мне хочется любить его, и боюсь… и плачу. А он так ласково на меня смотрит: «О чем ты плачешь?» Я говорю: «Не знаю». Он наклонился ко мне и спрашивает: «Хочешь суда?..» Это мы вчера Жанну д'Арк читали, и все это перепуталось… Я говорю: «Хочу». Он отдернул занавеску, и я вижу — пропасть народу сидит на скамейках… Я встала на колени, скрестила руки и стою. Вдруг встает Тихон и говорит: «Я знаю ее — это юродивая».
Аглаида Васильевна мельком взглянула на дочь и опять отвела глаза.
— Я стою и думаю: какая же я юродивая? А Тихон смотрит мне строго в глаза… И я смотрю и думаю: если я скажу, что я не юродивая, — Тихон пропал; скажу я, что юродивая, — я пропала… И не знаю, что мне делать… Стою, стою… кто-то говорит: «Нет, это не Жанна д'Арк…» — и вдруг я куда-то провалилась. Провалилась и лежу тихо. И кто-то прямо мне на ухо: «Тихон умер». Я открыла глаза — утро.
Наташа вздохнула и уставилась глазами в окно.
— Это мы вчера говорили, читали, все это перемешалось…
— Все это оттого, — сказала Аглаида Васильевна, — что вы долго по ночам засиживаетесь. Я тебе запрещаю позже одиннадцати часов сидеть. Вместо того чтобы за лето поправить здоровье — ты посмотри, на что ты стала похожа… Да мне и не нравятся все ваши разговоры: вы слишком дети еще, чтобы вмешиваться в дела, в которых вы ничего не понимаете. Корнев разыгрывает из себя большого и не замечает, что только смешон своими претензиями.
— Он без всяких претензий.
— Не он, а ты без всякой критической способности… Надо приучаться разбирать людей, потому что нет отвратительнее и глупее человека, который ходит с добровольно закрытыми глазами.
Наташа напряженно слушала. По ее лицу разлилось выражение недоумения и огорчения.
— Дети, которые в пороховом складе бегают с огнем в руках и радуются… Полутора тысяч в этом году нет… Откуда я их возьму? Осенью в банк… в город… Зина не сегодня-завтра невеста… Откуда же я возьму… А им точно праздник…
Голос Аглаиды Васильевны оборвался. Наташа бросилась к ней и стала горячо целовать ей руки и лицо.
— Я знаю, знаю… что все вы любящие, но пока доберешься до вашего сердца…
Аглаида Васильевна проглотила новые слезы.
— Сегодня Тёма стоит передо мной: точно я ему самая чужая… Глупый мальчик… Позови его…
XVI
Как-то через несколько дней, под вечер, от умирающего Тихона прислали за Аглаидой Васильевной. Она пошла с сыном. Карташев шел задумчивый, с какой-то пустотой в голове и сердце. В белой хатке с желтой печкой, желтым полом лежал под образами Тихон. Отец Даниил торопливо и угрюмо свертывал у окна дары.
— Позволил себе обеспокоить для успокоения умирающего, — сказал он, угрюмо подходя к Аглаиде Васильевне.
— Благословите, отец, — ответила она и, когда священник сделал крест, приложилась к его старой руке.
Отец Даниил более мягко проговорил, понижая голос:
— Желает повиниться перед вами… Прощайте ненавидящим вас…
У ног Тихона стояла испуганная Таня с заплаканными глазами, подпершись рукой.
— Лишние свидетели, удалитесь, — распорядился отец Даниил.
Карташев нерешительно стоял, когда Аглаида Васильевна, подойдя к Тихону, поманила сына. Тихон сделал движение, как бы желая освободиться или распустить что-то, сжимавшее его шею. После этого движения он долго и неподвижно смотрел в глаза Аглаиде Васильевне.
— Ты хотел мне что-то сказать? — спросила она, наклоняясь к умирающему.
— Хотел, — мучительно тихо прохрипел Тихон. Аглаида Васильевна поняла, что ему трудно говорить.
— О Тане не заботься: она всю жизнь у нас жила, и я не оставлю ее…
— Одна, — прошептал Тихон.
— Знаю… знаю, что негодяй обманул ее…
Тихон тоскливо кивнул головой.
— Знаю, что сын есть. Буду и о нем заботиться…
Аглаида Васильевна выпрямилась и опять наклонилась.
— Будь спокоен: господь слышит наш разговор.
Она опять выпрямилась и как бы не то утверждала выражением лица, не то спрашивала: «Все?» Тихон мучительно поднимал на нее глаза.
— Грешен, — прошептал он.
— Все мы грешны, — наклонилась опять Аглаида Васильевна.
— За добродетель вашу… окаянный… — судорожно заметил Тихон, — сжег…
Глаза Тихона с ужасом раскрылись и застыли на Аглаиде Васильевне. Она не то отшатнулась, не то поднялась, чтобы лучше сообразить.
— Скирду сжег? — спросила она жестко.
Аглаида Васильевна, обводя сына ледяным взором, смотрела в окно.
— Что тебя побудило? — Она с отвращением скользнула взглядом по жалкому лицу Тихона.
Воцарилось напряженное молчание. Тихон мучительно переводил глаза с потолка на пол и на стены. Карташев съежился и испуганно смотрел на мать. «Прощайте ненавидящим вас», — пронеслось в голове Аглаиды Васильевны, и горячий огонь боли и протеста загорелся в ее глазах.
— Дьявол, — прошептал Тихон, — всю жизнь смущал…
Тихон тоскливо заметался и рвал ворот рубахи. Его желтая волосатая грудь, впалый потный живот обнажились. «Умирает!» — мелькнуло в голове Аглаиды Васильевны.
— Прощаю тебя… и пусть господь тебя простит.
Тихон сделал нетерпеливую, судорожную, мучительную гримасу.
— Говори за мной: не яко Иуда, но яко разбойник…
Тихон рванулся, глаза его выпятились и замерли на Аглаиде Васильевне.
— Умер, — оборвала Аглаида Васильевна.
Таня с неестественным воплем бросилась к трупу…
Мать и сын возвращались домой.
Карташев в первый раз изменил своему обыкновению не критиковать матери.
— Это была как будто совершенно чужая для меня женщина, — говорил он Корневу, лежа с ним в своей комнате. — Ужасно странное и тяжелое впечатление… Какая гадость, в сущности, весь этот материальный вопрос: мать и добрая, и честная, и любящая… И его страх; кажется, чего бояться человеку? Все кончено, а точно вот прокурор приехал… Одарка! — высунулся Карташев из окна, увидев Одарку.
— Конон ни в чем не виноват… Тихон признался… Умер уже…
Одарка остановилась на мгновенье, подняла на Карташева глаза, опять опустила и тихо пошла. Но, пройдя немного, она остановилась, опять вскинула глазами на Карташева и, скрыв охватившую ее радость, преодолевая стыдливость, спросила:
— А чи то ж правда, панычку?
— Правда… я сам слышал.
Одарка ушла, а Карташев долго смотрел ей вслед. Корнев лежал и усиленнее обыкновенного грыз свои ногти. Карташев тоже раскис и уныло, бесцельно смотрел в пространство.
— Мы через неделю в город едем, — заглянула Маня.
Корнев и Карташев вскочили.
— Вот как! — изумился Корнев.
— Это вы виноваты, — тихо, с упреком бросила ему, убегая, Маня.
— Вот как! — повторил, нахохлившись, Корнев.
— Экую чушь Маня говорит, — сказал Карташев. — Я сейчас узнаю, в чем дело.
— Не ходи к маме, — остановила Зина. — Мама расстроена.
— Правда, что через неделю мы едем? Отчего?
— Оттого… Мама говорила, — и от интонации сестры Карташеву сделалось вдруг жутко, — что вы с Корневым в конце концов что-нибудь такое сделаете, что совсем ее скомпрометируете.
— Какие глупости! — с непонятной для него самого тревогой сказал Карташев.
— Вот и глупости…
— Едем? — спросил, подходя, Корнев.
— Едем, — ответила Зина.
— Ну, и тем лучше, — махнул рукой Корнев. — Какая же причина?
— Мама хочет несколько морских ванн взять.
— Н-да…
— Это Маня ему сказала, что он причина отъезда, — сказал Карташев.
— Какие глупости!
Корнев пытливо впился в Зину.
— Она пошутила…
— Нет, да, конечно, это ерунда, — поддержал Карташев, — мать так любит тебя.
— Наверно, ерунда: я уж там была…
— Мне самому странно, что я мог навлечь гнев… я, кажется…
— Ах, какая эта Маня! и выдумает же… Постойте, я сейчас ее приведу…
— Да нет, зачем…
Но Зина ушла и возвратилась назад с Маней. Корнев уже издалека услышал ее «кар».
— Ну? — говорила, входя, Зина и обращаясь к Мане.
— Я ж вам сказала, что из-за вас.
Маня, вытянув шейку, заглянула весело в глаза Корнева.
— Ну что ж… очень жаль… — развел он руками, и в голосе его звучало искреннее огорчение…
— Маня, что же ты делаешь? — рассердилась Зина.
— Ну что ж я могу тут, когда и мне тоже жаль, — ответила Маня и убежала.
— Капризничает… на нее как найдет.
— Нет, да я ведь не верю…
Часа через два на дорожке в саду Корневу попалась Маня с заплаканными глазами и быстро скрылась…
Через неделю — за три недели до назначенного раньше срока — в лунную, яркую ночь длинный ряд экипажей, повозок, тарантасов двигался в ровной степи, поспевая к поезду.
Корнев и Карташев добровольными изгнанниками ехали в тарантасе в ворохе свежего сена.
Звенит и побрякивает тарантас, летит пыль из-под высоких колес, садится на лицо, шею и спину, садится на сено, забивается в глубь его и пыльным сухим ароматом щекочет ноздри; тянет в степь, и рисуется она в последний раз неподвижной, безмолвной, приникшей к дороге: собралась вся и смотрит, задумчивая, вслед убегающим экипажам.
Теплом ласкает золотая луна и далекую степь и дорогу. Дремлет высокая тополь и смотрит в край пыльной дороги; скрипят ее старые корни и поют старые песни. Разгоняя тоску, запел и Корнев:
Гей выводите та и выводите Тай на ту высоку могилу…И Карташев затянул.
— Можно к вам? — тоскливо просится Наташа из переднего экипажа.
— Можно, — кричит Корнев.
Лошади остановились, и Корнев хлопнул Карташева по плечу.
— Эх, Тёмка, не тужи.
XVII
Карташевы приехали в город в самую жаркую пору — в конце июля, в самый полдень.
Жестокое солнце юга, казалось, сожгло весь воздух, распалило камень мостовых и домов, залило все своими ослепительными лучами, и в зное, духоте и грохоте только далекая яркая синева моря дразнила прохладой, покоем и манила к себе.
Все были не в духе, уныло ехали с вокзала, смотрели по сторонам и по спинам пыльных парусиновых армяков извозчиков читали всю скучную историю городского лета.
Карташев, прищурившись, кое-как сидя на передней скамейке, смотрел в море, и все то смутное, что связывало его и с городом и с гимназией, проносилось без образов, щемило, тревожило сердце чем-то неприятным, неспокойным, суля в то же время и новое, что-то не изведанное еще. Карташев пригнул голову и вздохнул всей грудью, — была деревня, теперь город: куда-то тянет, а на душе пусто и скучно.
Аглаида Васильевна давно уже не жила в собственном доме. Дом этот был отдален от центра города, где сосредоточивались все учебные заведения, да и страшно было ей, одной женщине, без взрослого мужчины, жить в такой глуши. Поэтому она его сдавала, а сама нанимала квартиру в центре города. Но в этом году, так как городская квартира ремонтировалась, а свой дом пустовал, она решила провести конец лета в своем собственном доме.
Со смерти отца почти никто не заглядывал в свой дом, и теперь, войдя, все были живо охвачены прошлым. Казалось, ничего не переменилось с тех пор, как они все детьми жили здесь. Вот детская, здесь стояли их кроватки, маленькая комната — Тёмин карцер, и комната их занятий. Кабинет все такой же неприветливый, большой и мрачный. Рука времени коснулась всего, — рассохлись двери, выцвели полы и краска стен, и шаги так глухо и тоскливо отдаются в доме. Вот темная передняя и лестница в кухню. Рисуется в воображении выглядывающая оттуда фигура толстой Настасьи и из-за нее рябое толстое лицо Иоськи. Настасья умерла, Иоська в ученье, постоянно убегает, его ловят и бьют. Терраса и сад запущенный, редкий и пыльный. Горка… какая маленькая она, и беседка на ней, в воспоминании такая нарядная, высокая, теперь покосилась, выцвела, и добраться до нее всего несколько шагов по откосу. А вот вдоль глухой стены длинного сарая виноград и даже кое-где грозди чауса, а вот и кладбищенская стена и тот глухой угол со старым колодцем, который так часто снился во сне и всегда казался тогда самым бесконечным и путаным местом. Теперь это все как на ладони, и одним взглядом охватывается вся прожитая жизнь. Там, за этой стеной, вечным сном спит папа: добрый, но сек, и память рвется на этом: пусто и скучно. Таня идет… Ничего в ней не переменилось… Нет, изменилось: Таня — мать. Это так странно, так не вяжется с спокойной, уравновешенной Таней… Что там у нее в душе? Если б он вдруг заглянул бы ей в душу, в тот таинственный мир ее, который так искусно скрывает она от глаз посторонних. Как жаль, что случилось с ней все это. Если б она моложе была, он кончил бы курс, женился на ней и уехал бы с ней туда, где их никто не знает…
«Не женился бы», — пронеслась неприятная мысль, упершаяся во всевозможные препятствия его житейской обстановки, и взамен этой мысли мелькнула другая, жутко охватившая его: устроиться на время жизни в этом доме в отдаленном кабинете отца. Он не захотел останавливаться на этой мысли и без цели пошел дальше.
Он забрался в кабинет и попробовал почитать: взял какую-то книгу, лег на диван и начал читать:
«Посвящая свой журнал гражданской жизни, науке и искусству, Берне прямо заявляет читателю, что не будет следовать примеру так называемых умеренных писателей, которые вечно боятся называть вещи по именам, осторожно стараясь проходить даже между гнилыми яйцами. Бесстрастия объективизма при обсуждении тех зол, на какие ему придется наталкиваться, он не обещает. Нельзя требовать от писателя, чтоб он без ненависти и любви, возносясь над тучами эгоизма, слышал грозу над собой».
Карташев опустил книгу и задумался над тем, что, в сущности, жизнь глупая и скучная штука. И еще глупее и скучнее становится, когда читаешь такие книги, в которых куда-то зовут, на какую-то другую жизнь, а кончишь читать, и точно с неба спустился: никакой такой другой жизни и в заводе нет — идет, как идет, и вся так день за днем…
Карташев нетерпеливо перевернулся к спинке дивана и стал смотреть в упор на клеенчатую обивку.
«Если б я вырос где-нибудь в совершенно особенной обстановке… ну хоть нашли бы меня где-нибудь на дороге… я бы тогда был свободен: что захотел бы — то и сделал». Он стал мечтать о том, что бы он сделал: поселился бы в деревне, оставил бы себе кусок земли, остальную бы отдал крестьянам. Он подумал, что у него, у бобыля, тогда бы и земли не было… «Ну, положим, меня какой-нибудь богач нашел и оставил мне…»
— Тёма, мама спрашивает, ты в какой комнате хочешь устроиться? — спросила, заглянув, Зина.
— В какой комнате? — протянул Карташев. — Здесь в кабинете.
— Кабинет для девочек.
— В таком случае, где ж? — вспыхнул Карташев, угадывая назначенную ему маленькую комнату с единственным выходом в столовую, куда выходила и спальня матери.
— В маленькой или в бывшей детской — тогда Сережа с тобой будет.
— Я с Сережей не хочу.
— Значит, в маленькой.
— Я в беседке буду.
— Тёма, ну что ты ребенка из себя разыгрываешь? — Карташев молча закрыл глаза.
— Тёма? — нетерпеливо спросила Зина.
— Ну, подохните вы все.
— Тёма?!
Это было так неожиданно, так грубо и оскорбительно, что Зина только поспешно затворила дверь и, униженная, оскорбленная, ушла к матери.
— Тёма с ума сошел, — растерянно проговорила она. — Я его спрашиваю, где он хочет, чтоб была его комната, а он… — Голос Зины вдруг дрогнул. — Служанкам так не говорят…
Она совсем оборвалась, отвернулась к окну, и слезы закапали по ее щекам.
Долго билась с ней Аглаида Васильевна, пока наконец Зина рассказала, в чем дело. Аглаида Васильевна была так же поражена, так же ничего не поняла, как и ее дочь. Ей ясно было одно: Тёма делался совсем непохожим на прежнего Тёму. У нее давно накипело, и давно она подбиралась к сыну:
— Я никогда себе не прощу, что пригласила Корнева в деревню… Тёма совершенно отбился от рук.
Глаза Аглаиды Васильевны гневно сверкнули.
— Посмотрим.
Она несколько раз прошла по столовой, вошла в гостиную и, там сделав несколько туров, отправилась к сыну.
Карташев лежал и тупо ждал. Он знал, что даром ему это не пойдет, и злость охватывала его.
Вошла Аглаида Васильевна, чужая и неприступная.
— Ты с ума сошел?
— Нет, — пренебрежительно и равнодушно ответил Карташев.
Аглаида Васильевна смерила сына глазами.
— Я имела несчастье воспитать какого-то урода… Сию секунду вон из моего дома…
— И уйду, — фыркнул Карташев.
— Так вот как, — задыхаясь, произнесла Аглаида Васильевна.
Она стояла возмущенная, пораженная, и в то же время какой-то страх охватывал ее.
Карташева больше всего смутил этот страх: он и сам испугался вдруг себя и заговорил мягко и горячо:
— Мама, может быть, вы не сознаете сами, но ведь вы же действительно хватаете меня так за горло, что я дышать не могу… Ведь эта маленькая комната ни больше ни меньше, как контроль… Ведь я же мужчина…
— Что такое?! Это еще что? Какой ты мужчина? Да нет, ты действительно болен? Дай голову.
Аглаида Васильевна приложила руку к его лбу.
— Не болен я… тоскливо от всей этой комедии, — проговорил Карташев.
Аглаида Васильевна опять приняла свой неприступный вид.
— Послушай, Тёма, это все так ужасно… так непохоже на тебя, что… или я должна все забыть сейчас же, или это никогда не забудется.
«Никогда» резко треснуло в воздухе.
— Ты сейчас попросишь у Зины прощенья…
— Я у Зины не попрошу. За что?
— За что?
Аглаида Васильевна смотрела с распущенной гримасой и раздраженно качала головой.
«Какая противная!» — подумал Карташев и отвернулся.
— Ну, так вон!
— Уйду!! — заревел вдруг Карташев и, схватив со стола шапку, выскочил сперва в переднюю, а оттуда во двор и на улицу. Злоба, ненависть, унижение, гнев душили его. Ему хотелось кричать, ругаться, он убегал от самого себя и только рычал по временам, издавая какой-то лошадиный звук. Какими-то волнами ходила по нем злость, и, когда подступали к горлу, он чувствовал потребность бить, колотить, визжать и кусаться. В один из таких приступов он изо всей силы впился зубами в свою руку. Часа через два все прошло, и Карташев почувствовал желание покончить со всей этой глупой историей. Глупо было все: и он, и мать, и вся жизнь дурацкая и глупая, но при упрямстве все могло выйти еще глупее. В таких случаях требовалось быстрое раскаянье. Мысль о том, что он мог бы действительно уйти из дома и жить хоть уроками, что ли, едва шевельнулась в его мозгу: куда он пойдет и что он без обстановки семьи. «Уеду себе в Петербург по окончании гимназии — и бог с ними».
С стесненным сердцем, сконфуженный и подавленный, юркнул он в калитку, спросил вскользь, не смотря на встретившуюся Маню: «Где мама?» — и пошел, по ее указанию, в беседку.
Произошла одна из тех сцен, которые так ненавидел Карташев. Потупив глаза, угрюмо, но в то же время стараясь придать голосу какую-то искренность, с сознанием своего унижения и презрения одинаково и к себе и к матери, он пробурчал:
— Мама, я больше не буду.
— Нет, теперь уже поздно.
Несмотря на всю решительность этого «поздно», Карташев знал отлично, что это «поздно» ни больше ни меньше, как звук пустой. Знал, что после этого «поздно» начнется нотация и будет продолжаться целый час.
Он стоял, слушал и презрительно щурился от разного рода громких слов вроде: «Ты мне не сын», «Я не желаю такого сына», — всех тех слов, которые существа вещей изменить не могут и обладают обоюдоострым свойством.
Мать говорила, не щадя красноречия, и, конечно, меньше всего подозревала, что сын ее в это время сравнивал ее с стариком Неручевым. Когда после нотации, по обыкновению, он поцеловал ее руку, он опять подумал: «Так и Неручеву целовали руку».
Он вышел из беседки, раздраженно усмехнулся своему сравнению и медленно пошел в отведенную ему маленькую комнату.
Ни одного намека не было сделано со стороны матери, но сын был убежден в том, что понимал истинный смысл действий матери: она боялась, отпустив его в кабинет, за его годы и за его сближение с Таней.
Оба окна маленькой комнаты были открыты и выходили на террасу.
Карташев лежал на своей кровати, смотрел на эти окна, понимал их смысл, и никогда Таня не была так близка к нему, как в это мгновенье. Сближение теперь казалось не так недосягаемо; в оскорбленном самолюбии, в мести кому-то за что-то искалось оправдание, повод, кровь загоралась; надвигались сумерки, а с ними и мысль о Тане принимала все более и более рельефный образ. Казалось, она здесь возле него, и уж не унижение и не месть, а тело семнадцатилетнего юноши предъявляло свои права.
Какой-то стон вдруг вырвался из его груди, смутивший всех сидящих в столовой, и все опять стихло, а Карташев, затаив дыхание, лежал, уткнувшись в подушку, не смея ни шевелиться, ни дышать.
Карташев так и заснул в тот вечер, не раздеваясь, и проснулся только утром. Переодевшись и напившись чаю, он решил отправиться к Корневу.
— Сережа, — крикнул он уж в калитке, — скажи маме, что я пошел к Корневу заниматься латинским.
— Мама уже встала, — ответил было Сережа.
— Не встала, — уверенно сказал Карташев и захлопнул за собой калитку.
У Корневых все было по-старому. В дверях беззвучно показалась Анна Степановна, сделала свою добродушную гримасу и, проговорив свое «о!», стояла и ждала, пока Карташев сбросит пальто и подойдет к ней.
— Вася, Маня, — крикнула она.
— А-а! — басом приветствовал Корнев, появляясь из кабинета отца и на ходу застегивая свой пиджак, — милости просим. — Он с удовольствием пожал руку Карташеву, указал ему на кресло и сам сел.
Выскочила Маня и, вспыхнув, радостно поздоровалась с Карташевым.
Маня загорела, похудела и казалась еще привлекательнее.
— Ну что, как? — спросил Корнев.
— Слушайте, Карташев, отчего вы так рано приехали в город? — перебила Маня.
Карташев вопросительно посмотрел на Корнева.
— Ерунда все это, — сказал Корнев, — знаешь ведь…
— Бунтовщики? — весело, понижая голос, спросила Маня.
Карташев рассмеялся.
— Ерунда, — повторил Корнев и принялся за ногти.
— Спасибо, что с полицией не доставили, — сдержанно вздохнула Анна Степановна, присаживаясь на стул. Она посмотрела на Карташева, на сына, покачала головой, вздохнула и сказала: — Голубчики мои, учение опять, латынь, да то, да другое, и господь его зна, що такое, поки не выкрутят, не выкрутят все. — Она сделала энергичный жест и махнула рукой.
— Ну-с, как твои? Наталья Николаевна?
— Васенька изволили, кажется, найти прочное помещенье своему сердцу? — рассмеялась Маня.
— Манечка изволят, кажется, глупости с утра говорить! — ответил, покраснев, брат.
Он встал лениво, с удовольствием потянулся и, встряхнувшись, сказал:
— Ерунда все это… Через две недели переэкзаменовка — вы это чувствуете?
— Будем вместе готовиться, — предложил Карташев.
— С удовольствием.
— Скажи лучше — будем вместе ничего не делать, — рассмеялась Маня.
— Напрасно: я с сегодняшнего дня готов, так и дома сказал, что иду заниматься.
— Иначе бы не пустили бы? — спросила Маня.
Карташев небрежно проговорил:
— Ах, прошло то время золотое…
— Большой теперь?
— Слава тебе господи!
— Впрочем, слышала, курить разрешили? Вы с какого класса начали?
— С третьего.
— И Вася тоже?
— И Вася тоже.
Маня махнула рукой.
— Слушайте, Карташев, идем купаться.
— С удовольствием… Хотя, собственно, я не взял с собой денег…
— У нас билеты есть в купальню.
— Ты пойдешь? — обратилась она к брату.
Корнев подумал и спросил Карташева:
— Ведь воротишься?
— Слушайте, Карташев, вы обедаете у нас, а вечером мы к вам.
— Отлично.
— Накомандовала, — добродушно произнесла, появляясь, Анна Степановна вслед убежавшей дочери, — куда?
— Теперь купаться, — ответил Карташев, стоя с фуражкой в руках в ожидании Мани, — а потом к вам обедать.
— Голубчик мой. — И Анна Степановна, обняв ладонями голову Карташева, поцеловала его в лоб.
— Ну, уж мама не может. Идем, — крикнула Маня, сверкнув весело, возбужденно на Карташева глазами.
Они опять шли по звонким улицам в треске и духоте города, искали тени, щурились от ярких лучей и с удовольствием осматривали и встречавшихся прохожих, и дома, и друг друга.
— Я получила письмо от Рыльского…
Ничего нового она ему не сообщила, да и Рыльский был где-то далеко, а Маня, возбужденная, довольная его обществом, шла рядом с ним.
Они запрыгали по ступенькам широкой громадной лестницы бульвара и точно уже купались в открывшемся просторе воздуха и моря.
Спустившись, они пошли вдоль пыльного серого здания. Скрылось море на мгновенье и опять сверкнуло уж вплоть, с гаванями, с лесом мачт, с палатками купален, с белыми рядами сохнущих простынь, с ароматом моря.
— Вы мне скажете правду?
— Скажу.
— В кого вы влюбились в это лето?
— Хотел влюбиться, но она уж невеста.
— Разве можно здесь хотеть или не хотеть?
— Можно, — беспечно ответил Карташев.
— Нет, нельзя, Карташев. Вы были когда-нибудь влюблены?
— Я с трех начал влюбляться.
Из-за простынь вдруг появилась фигура учителя математики с его походкой заведенной куклы, с его обычным строгим взглядом темных глаз.
Карташев быстро смущенно поклонился и, когда он прошел, спросил с веселой тревогой Маню:
— Как вы думаете слышал он?
Они оба рассмеялись, он еще оглянулся и сказал:
— Я думаю — он хотел бы быть на моем месте.
— В каком смысле?
— Гм… гм… — усмехнулся Карташев.
Они стояли на перекрестке подмостков, откуда расходились дорожки в женское и мужское отделение.
— Ну?
— Здравствуйте, — пренебрежительно, как бы зная, что так и будет, поздоровалась Зина, выходя из купальни. За нею шли Наташа, Маня и толстая кубышка Ася.
Зина поцеловалась с Корневой, а Наташа, добродушно прищурившись, спросила брата:
— Нашел?
— Что нашел? — спросила Корнева и покраснела.
Зина только кивнула головой, Наташа, смеясь, поцеловалась с Корневой.
— Маня как выросла… похорошела, — с каким-то оттенком зависти заметила Корнева. — Мы вечером сегодня к вам хотели…
— Отлично, — ответила Наташа и, обратившись к брату, лукаво спросила: — Ты тоже вечером?
Зина только молча кивнула головой, как бы говоря: об этом и спрашивать нечего.
— Вы одни? — спросил Карташев.
— Мама теплые ванны берет.
— Что значит «нашел»? — спросила Корнева, когда прошли сестры Карташева.
Карташев только посмотрел на нее и, ничего не отвечая, улыбаясь, пошел по подмосткам в свое отделение. Он шел и оглядывался, пока не столкнулся с Сережей.
— Наши вышли? — спросил Сережа и, увидев исчезавших за углом сестер, опрометью озабоченно подбирая на ходу простыню, побежал за ними.
— Здравствуйте, Сережа, — окликнула его Маня Корнева.
Сережа только теперь ее заметил, вдруг вспомнил что-то, как-то испуганно, смущенно поклонился и еще быстрее побежал.
— В гимназию поступает, — крикнул Карташев.
— Что значит «нашел»? — повторила Корнева, исчезая в купальне.
Карташев шел, заглядывая в номера, выбрав свободный, вошел и затворил рассохшуюся, сколоченную из тонких досок дверь. На него пахнуло сыростью и запахом гниющего в море дерева. Сквозь редкий пол там, внизу, беспокойно билась зажатая в столбах купальни зелено-прозрачная волна. Ему вспомнился вдруг вчерашний вечер, и неприятное чувство охватило его. Он быстро разделся, обернулся до половины простыней и вышел на площадку. Он ходил по жарким доскам площадки со следами мокрых ног на ней и рассматривал пальцы своих ног, расплывшихся на досках. Он взобрался на самый край помоста двухсаженной высоты, с которого прыгали любители в море, и стал смотреть в женскую купальню, стараясь угадать между множеством белых рубашек Маню. Мимо него пробежал и с разбегу кто-то бросился в воду. Вода закипела, покрылась пеной, и в глубине ее сверкнуло белое тело, быстро выбиравшееся на поверхность.
— Здравствуйте, прыгайте! — крикнул ему прыгнувший, оказавшийся выпущенным в этом году в студенты Шишко. Шишко, толстый, с черной стриженой головой, держал себя всегда настороже и в то же время снисходительно.
Карташев прикрутил к стойке простыню, разбежался и тоже прыгнул.
— Вы перешли? — спросил Шишко, уплывая вперед от Карташева.
— Передержка по-латыни, — ответил, догоняя его, Карташев.
— Ну, это пустяки.
— Конечно.
— Говорят, восьмой класс к нам на шею посадят.
— Вряд ли это коснется нас, — спокойно ответил Карташев.
— Говорят, и вас коснется.
Шишко говорил с каким-то неприятным намеком в голосе.
— Вы откуда слышали? — встревоженно спросил Карташев и поплыл наотмашь, вследствие чего быстро догонял Шишко. Карташев плавал легко и сильно. Он плыл быстро, и часть туловища его так выдвигалась из воды, что казалось, стоило сделать еще одно небольшое усилие, и он пойдет по воде. Шишко плыл грузно, по-жабьи, и только черная стриженая голова его торчала из воды. Он пренебрежительно фыркал на эту воду, которая заливала его рот, так фыркал, как будто эта вода позволяла себе какие-то неприятные шутки с ним, окончившим курс гимназии и уже принятым без экзамена в университет. Карташев, поравнявшись, во все глаза с завистью и тревогой смотрел на него: он хотел бы в это мгновенье быть на его месте; плыть так же грузно, фыркать и сознавать в то же время, что он студент. Ах, под какой-то особенной планетой он родился, и даже это сладкозвучное имя «студент», наперекор всему существовавшему порядку вещей, для него уже вот-вот готово еще куда-то отдалиться.
— Учитель математики мне сказал.
Учитель математики! Да, в его взгляде был этот ответ. Учитель математики с ним говорил, — они стояли где-нибудь на площадке купальни, — говорил, как с равным, а на него этот учитель едва взглянул, и если при этом он еще слышал его слова… И восьмой класс…
Шишко повернул назад, опрокинулся на спину и, лениво, беспечно, упираясь ногами в воду, поплыл к лестнице: счастливый, беспечный Шишко! Есть на свете и счастье и доля, не у него, Карташева, только! Господи, неужели же еще два года этой прозы и тоски гимназической? Этого обязательного сознания своего мальчишества?
Карташев далеко уплыл в открытое море, и какой-то точкой мелькала его фигура в блеске солнца и моря.
Он спохватился, что его ждет Корнева, и быстро поплыл назад. Его все давила какая-то неволя. «В чем мне неволя? — старался разобраться он. — Вот в этот момент я свободный человек. Эх, хорошо, если бы вдруг судорога схватила: пошел бы на дно ключом и сладко уснул». Карташев мысленно измерил глубину под собой, ярко представил картину последнего мгновения и быстрее, без мысли поплыл к берегу.
Когда он подплыл к лестнице, Шишко, уже одетый в легкий франтоватый костюм, уходил, снисходительным, даже ласковым голосом крикнув ему:
— Прощайте.
— Прощайте, — ответил ему Карташев таким тоном, что Шишко остановился, подождал, пока Карташев поднялся, и протянул ему руку.
— Прощайте, — приветливо повторили они оба, и Карташев, торопливо обтираясь в своем темном и сыром номере, думал: «Хороший человек Шишко».
— Что значит «нашел»? — настойчиво повторила Корнева, выходя из купальни и обращаясь к ожидавшему ее Карташеву.
С мокрыми еще волосами, в барежевом платье, сквозь которое слегка сквозили ее белоснежные плечи и руки, Корнева была ослепительно свежа. Так свежа, что Карташев не мог без какой-то особенной боли смотреть в ее влажные, блестящие такой же свежестью глаза.
Корнева чувствовала свою власть над Карташевым, испытывала удовольствие сознания, жажду определения пределов этой власти и настойчиво повторяла, идя с ним:
— Я хочу знать, что значит «нашел»… нечего, нечего отвиливать: говорите прямо и сейчас… Карташев…
— Откуда я знаю…
— Карташев… я хочу… слышите? не хотите?
— Я не знаю…
— Вы не хотите сделать мне приятное?
— Все, что хотите… хотите, головой вниз брошусь?
Карташев показал вниз, по откосу бульварной лестницы.
— Противный! Не хочу с вами говорить… Голубчик Карташев… скажите…
— Хотите, головой вниз брошусь?
— Уходите…
— Ну, откуда же я знаю?..
— Не знаете? Честное слово?
— Не знаю, — избегая взгляда, уклоняясь от честного слова, говорил Карташев.
А Корнева все властнее смотрела на него, не сводя своих разгоревшихся глаз, и обжигала его, повторяя:
— Противный, противный, противный.
Карташев точно хмелел под ее взглядом. Какая-то горячая волна, огонь какой-то вырывался изнутри, охватывал и жег. Было хорошо, глаза глубже проникали в ее глаза, хотелось еще лучшего до безумия, до боли, до крика.
Карташев вдруг стремительно сжал свою прокушенную руку и мучительно сморщился от боли.
— Что с вами?
Он натянуто, сконфуженно улыбнулся.
— У вас такое лицо было… я боюсь вас.
— Не бойтесь, — угрюмо вздохнул Карташев, — дураков никто не боится.
— Дураков?
— Вот таких дураков, как я.
— Я ничего не понимаю.
— Если бы вы хоть что-нибудь поняли, — только бы меня и видели…
Он сделал неопределенное движение рукой.
— Какой вы странный…
— Иногда мне хочется самого себя по зубам… по зубам.
— Да за что?
— Да вот так… за то, что я тряпка, дрянь, трус…
— Да что с вами?
— Меня отец всегда называл тряпкой… Я кончу тем, что пойду в монахи.
Корнева удивленно посмотрела на него.
— Слушайте, Карташев, это какой-то пункт помешательства всей вашей семьи…
Карташев вспыхнул и покраснел.
— Если бы я пошел в монахи, меня бы на третий день оттуда выгнали… Глупости все это, — кончу вот гимназию, удеру, только и видели меня… Я не люблю… Я никого не люблю… Все здесь нехорошо, нехорошо…
В голосе его задрожали слезы, и он огорченно замолчал. Корнева, удивленная, притихшая, шла и смотрела на него.
— Я никогда вас таким откровенным не видала… У вас у всех в семье есть какая-то гордость… даже вы вот нараспашку, а всегда молчите… а все-таки я всегда догадывалась, что у вас, наверное, не все так хорошо, как кажется.
Карташев нерешительно смотрел перед собой: ему было неприятно от своей откровенности и хотелось продолжать.
— Вы читали Гулливера, когда его лилипуты привязали за каждый волос? Вот и мне кажется, что я так привязан. Покамест лежишь спокойно — не больно, а только поворотишься как-нибудь…
Карташев сдвинул брови, — на верху бульварной лестницы он разглядел фигуру поджидавшего его брата Сережи.
— Ну, знаете, я думаю, Аглаида Васильевна не лилипут.
Карташев, поравнявшийся в это время с Сережей, не отвечая, подошел к брату.
Сережа приподнялся и на ухо тихо сказал:
— Мама тебя зовет.
— Где мама? — спросил тоже тихо старший брат.
— Там, в боковой аллее.
— Хорошо, — громко ответил Карташев и, подходя к Корневой, озабоченно проговорил:
— Сегодня мне надо с матерью по делам.
— Обедать у нас, значит, не будете?
— Нет, — с сожалением ответил Карташев и, подумав, прибавил: — Я уж под вечер, может быть… вместе пойдем к нам.
— Куда ж вы?
— Мать тут… у одних знакомых.
— Прощайте.
Карташеву послышалось обидное сожаление к нему, и, недовольный еще больше собой за свою болтовню, скрепя сердце, сконфуженный, он зашагал в обратную сторону от того места, где сидела мать. Только когда Корнева скрылась за углом и не могла больше его видеть, он повернул назад и пошел к группе в боковой аллее, состоявшей из матери и сестер. Он шел, чувствуя и какую-то вину перед матерью, чувствуя и какое-то раздражение; шел неудовлетворенный и в то же время усиленно работал над собой, гнал все мысли и старался принять спокойный, равнодушный вид.
XVIII
Берендя все лето провел в городе. Он стоически переносил утомительную духоту города и, высокий, лучезарный в своих длинных волосах, с подгибающимися коленками, с уставленным в пространство взглядом своих желтовато-коричневых глаз, в самую жару ежедневно отправлялся на урок в противоположную часть города. Он точно не замечал палящих лучей, раскаленной улицы и, занятый высшими соображениями, шагал, никогда не справляясь с теневой стороной: таким пустякам места не было в том мире, где витали его мысли. Если иногда прозаично в разгаре своего полета он наталкивался вдруг то на ручную тачку торговки, то на вертлявого еврейчика в своем упрощенном костюме: штаны, жилетка с хвостиком сзади от рубахи, то говорил при этом свое обычное «о, черт возьми!», а если вдогонку ему неслось «долговязый», «желтоглазый», то он прибавлял только шагу и, когда ругань стихала, опять уносился в свой мир.
Как истый философ, Берендя старался проникнуть в суть вещей и искал радикальных решений. Сегодня он ломал голову под впечатлением прочитанного по вопросам образования и воспитания. По его мнению, существующее образование было слишком расплывчато, бессодержательно, мало приспособлено к пониманию живых условий жизни и вообще больше заботилось о том, чтобы побольше набросать под ноги разных препятствий к достижению цели — быть разумным, самосознающим себя существом, — чем стремилось к этой цели. Обходя щекотливый вопрос о вреде и пользе таких предметов, как, например, древние языки, Берендя рассуждал так: жизнь показывает нам, что из тысячи обучающихся этой премудрости один, может быть, превращает предметы эти в действительное орудие, с помощью которого, роясь в архивах отлетевшей жизни, проверяет, выуживает там то, что еще можно выудить. Для остальных изучение этих предметов может иметь значение только в смысле развития памяти. Но классики не имели классиков, над которыми могли бы упражняться в развитии памяти: как ее ни развивай, всего не запомнишь, — для этого книги и существуют, и гораздо важнее другая способность человека: анализ, критическое отношение к жизни и себе, самосознание. Память у всякого человека есть, была и будет, — реалист и без латыни обладает памятью, а правильной работы мысли, если она нужна (а нужна, — думал Берендя), без развития уж никак не получишь.
Таким образом, не оскорбляя любителей древности, языки древние являются, во всяком случае, только специальным знанием и могут быть только ничтожным подспорьем в развитии второстепенной способности человека.
К таким же специальным знаниям Берендя относил и алгебру, геометрию и тригонометрию. В общеобразовательный курс, по его мнению, должны были входить только самые общие понятия об этих предметах. Общеобразовательное заведение, думал Берендя, должно ограничиваться всего пятью классами, и пятнадцати лет юноша выбирает себе уже специальное занятие, на которое Берендя определял пять лет. Свыше двадцати лет уже необязательно прохождение ученых степеней, которые составляют принадлежность исключительно уже ученого мира.
Назавтра Берендя так же упрощенно дебатировал какой-нибудь вопрос общественных отношений. И здесь все было просто и ясно, и оставалось только удивляться, почему люди все вертятся вокруг да около и никак не желают увидеть то, что при доброй воле не требовало бы и доказательств. К этому вопросу любил часто возвращаться Берендя и жадно читал все книги на такую тему. Читал и добросовестно, с любовью конспектировал, стараясь записывать поражавшие его мысли словами самого автора. Его радовало то, что его а prior'ные выводы совпадали и с тем, что он читал. Он рассуждал так: с каждым отдельным человеком всегда можно договориться до истины, и понятия о добре и зле у большинства однозначащие, а между тем жизнь так слагается, что торжествует далеко не всегда добро, — напротив, как раз злое и господствует. И в этом господстве воля и сознание отдельного лица всегда бессильно уступят общему положению дел. Сила, значит, не в этом отдельном лице, а в тех условиях общественной жизни, которые, как хомут, не дадут своротить ни вправо, ни влево. От этого хомута все и зависит. Где-нибудь в Турции жизнь глохнет, потому что общественная форма жизни там не хомут, а петля, мертвая петля, задыхаясь в которой люди бессильно бьются.
И глаза Беренди широко раскрывались, точно видел он перед собою всех этих бьющихся и задыхающихся в петле турок.
Берендя жил отшельником, и единственные лица, с которыми он довольно часто встречался в течение лета, были его приятели-пропойцы — Петр Семенович и Василий Иванович. Берендя любил делиться с ними своими мыслями. Василий Иванович только блаженно смотрел, кивал головой и, если водки не было, засыпал. Петр Семенович, смотря по тому, была или нет водка, благодушно или раздраженно возражал.
— Суть в том, — говорил он наставительно, — что человек, по существу, сволочь. Какой вы ему хомут ни придумывайте, не беспокойтесь, он тоже придумает, как свалить на шею ближнего всю тяготу.
— Но… но… — возражал Берендя, прижимая убежденно по два пальца от каждой руки к своей груди, — из этого не следует, что петля лучше хомута.
Петр Семенович только пренебрежительно махал рукой и отворачивался.
— Я… я… хочу сказать, что в… одном самоусовершенствовании т…толку нет… что… что ж, усовершенствуешься… и на столб садиться?
Петр Семенович не удостоивал даже ответа и грузно кивал только головой.
— Ах, Петр Семенович! — просыпался на мгновение Василий Иванович.
— Не… не знаю, — поматывая головой, с снисходительным самодовольством говорил Берендя.
Иногда под вечер, на знакомом бульваре, если бывали деньги (главным образом у Беренди), разговор приятелей кончался выпивкой. Петр Семенович приносил полштоф водки, хлеба, свежих огурцов. Огурцы так вкусно хрустели на зубах, хлеб казался ароматнее на свежем воздухе, и водка разливалась внутри так тепло и приятно.
Берендя испытывал особое удовлетворение от сознания, что теория у него не расходится с практикой. Он рассуждал: жизнь сводится к борьбе. Всякий, кто пришел на землю, пришел не для удовольствия, а для труда. Есть труд производительный — это альтруистический труд, и труд вредный — труд эгоиста, который думает только о своем личном благе да о благе своих кровных. К такого сорта людям Берендя относился с обидным пренебрежением. Избавляло этих людей от чувства обиды только то обстоятельство, что они и не догадывались о существовании презиравшего их философа Беренди, а Берендя и подавно не искал их общества.
Для успешной альтруистической борьбы, по мнению Беренди, совпадавшему с мнением Моисеенко, необходимы были два оружия: одно — развитие, то есть правильное понимание арены борьбы — с кем именно надо бороться и как, другое оружие — возможная независимость борца от общества. Первое оружие приобретается путем работы над своим развитием, второе — трудом в смысле заработка нужных для жизни средств.
Чтобы не тратить на это много времени, нужно приучать ограничивать свои потребности minimum'ом. Чем меньше их, тем независимее человек и тем справедливее его жизнь перед остальным обездоленным человечеством. Материальные лишения с избытком окупаются конечною целью, и чем она грандиознее, тем слаще тот черствый кусок, который он добровольно берет себе. Урок избавлял его от этой самой обидной и постыдной материальной зависимости. Труд чтения был для него не трудом, а неисчерпаемым наслаждением.
Уравновешенный, счастливый своей летней жизнью в этом отношении — в других отношениях Берендя был недоволен собой. Он приучился с своими приятелями пить водку. Он не раз давал себе обещание бросить — и не выдерживал. В сущности, выпивал он рюмку, две, но он был наследственный алкоголик, да и самый процесс питья в обществе опустившихся людей тяготил его.
Было еще одно обстоятельство, которое вдруг каким-то темным пятном выросло на лучезарном небосклоне Беренди. Напротив дома Беренди проживала некая молодая девушка по имени Фроська. Фроська служила в богатом мещанском доме в роли исполнительницы всевозможных черных работ. Жирная, грязная, с нечесаной косой и сальным следом от нее на спине всегда грязной кофты, с правильным, но бесцветным лицом Фроська показалась Беренде чудом красоты: в некотором роде бриллиантом в плохой оправе. Его, философа, человека существа, оправа эта не смущала, а, напротив, сильнее тянула. Фроська любила под вечер постоять у забора, грызя семечки. Берендя любил играть под вечер на скрипке у окна, смотрел на Фроську и, наигравшись, отправлялся на бульвар. Проходя, опять он смотрел на Фроську, иногда оглядывался и после этого долго еще самодовольно улыбался, поматывая головой. Однажды он решился сказать ей: «Здравствуйте». В другой раз он спросил ее:
— Вы что ж не гуляете?
И так как Фроська только молча смотрела на него своими ничего не выражавшими глазами, то он так и ушел, не дождавшись ответа.
Как-то раз он был смелее и, остановившись, проговорил, заикаясь:
— С…слушайте, вы приходите на бульвар.
Она не пришла, и он обиделся.
Но тем не менее на другой день, нервно пощипывая свою редкую, пробивавшуюся бородку, он спросил, бодрясь:
— Вы что ж не пришли?
Так продолжалось, пока наконец Фроська не явилась на свидание. Первое время оба терялись и решительно не знали, что говорить и делать на этих свиданиях. Наконец, после целого ряда скучных и бесплодных свиданий, Берендя обнял и поцеловал Фроську, ощутил при этом едкий запах коровьего масла, которым предмет его смазывал свои волосы, ощутил сознание, которое выразил вслух по ее уходе словами: «Че…черт возьми, как это глупо!»
Он старался найти в себе какое-нибудь чувство к Фроське и ничего не находил. Тем не менее свидания продолжались. Сперва он пытался было и ее увлечь на высокий путь своих идеалов, но Фроська наотрез отказалась и от идеалов, и от обучения грамоте. Все в конце концов свелось к деньгам. Фроська и здесь обнаружила полное равнодушие, и, если бы не старания самого Беренди, она, вероятно, и не заикнулась бы о деньгах. Но раз давали ей, она брала равнодушно и прятала их. Фроська и приятели запутывали все больше денежные дела Беренди, и, извиняя приятелей, Берендя начинал чувствовать охлаждение к Фроське.
В день приезда Корнева и Карташева Берендя шел на свидание с неприятным предчувствием, что Фроське, по прежним расчетам, сегодня надо дать денег.
Светлая, точно с зеленоватым проблеском, в чистом, прозрачном голубом небе луна светила, как днем, заливала тихие пыльные улицы предместья и томила своей неподвижностью. Берендя шел, его длинная тень вытянулась через улицу, взобралась на стену противоположного дома и оттуда точно высматривала его. Еще издали он заметил в густой тени забора знакомую фигуру Фроськи, и сердце его неприятно сжалось.
Увидя Берендю, Фроська, всегда деревянная, равнодушная и покорная, дождавшись, когда он подошел, круто дернула плечами, отвернулась, приподняла передник и поднесла его к глазам с явным намерением заплакать. «Хочет плакать», — подумал Берендя и действительно вдруг услыхал тихие всхлипыванья Фроськи. Фроська стояла согнувшись и плакала.
Берендя наклонился и тихо, испуганно спросил:
— С…слушай, ты что?
Но Фроська молча продолжала плакать, только голова ее все энергичнее отрывалась и опять припадала к переднику.
Берендя еще тоскливее и испуганнее спросил:
— Ты… ты что?
Он почувствовал не то потребность, не то необходимость обнять ее, коснуться губами ее шеи и, повторяя мысленно свое «черт возьми», в третий раз повторил:
— Ну-ну, слушай же — говори!
Из-под передника донесся наконец лаконический ответ:
— Ну да!
И это требовательное «ну да» и энергичное движение плеча охватило Берендю каким-то новым предчувствием и страхом.
— Что? — спросил он, и мурашки забегали по его спине.
— Тяжелая! — вдруг раздраженно, цинично взвизгнула Фроська.
— О?! Тяжелая?!
Берендя не понял истинного смысла ее возгласа, но ужас тем не менее еще сильнее охватил его.
Когда, наконец, Фроська нетерпеливо и с отвращением объяснила ему, что значит тяжелая, Берендя растерянно произнес:
— Ну, что ж?!
— Ну да! — взвизгнула Фроська и раздраженнее стала плакать.
Берендя стоял и не знал, что ему теперь делать.
— С…слушай, я ведь не знал же, — тоскливо проговорил он.
Фроська долго плакала. Беренде стало жаль ее. Он обнял ее и стал утешать; он заставил ее поднять голову и посмотреть себе в глаза. Обычный бесцветный, безучастный взгляд Фроськи скользнул по нем и уставился апатично в пространство. Берендя еще целовал ее и наконец расшевелил деревянную Фроську, вызвав в ней какую-то тень не то отзывчивости, не то способности говорить. Фроська решительно заявила, что хочет идти к знахарке, и требовала десять рублей. Берендя отдал все, что у него было, — семь рублей, а остальные обещал принести завтра.
Он был рад прекращению свидания и поспешил уйти с чувством какого-то страха, что вот-вот догонит его Фроська и не позволит даже и уйти.
Но Фроська и не думала его догонять. Она все так же деревянно и задумчиво стояла под забором, а из-за угла к ней медленно подходила стройная, худая фигура юноши в матросском костюме. Если б Берендя догадался оглянуться или подслушать, он узнал бы много интересного. Но Берендя уже скрывался за углом с своей походкой подталкиваемого в шею человека и меньше всего думал о том чтобы оглянуться.
Фроська и подошедший тоже мало думали о долговязом желтоглазе.
Человек в матросском платье был не кто иной, как брат Гераськи, Яшка, друг детства Карташева. Яшка давно уже отбился от рук семьи, некоторое время пропадал без вести (говорили, что он сидел даже в тюрьме, ему же приписывали участие в разных мелких кражах) и вдруг опять появился матросом одного из заграничных пароходов. Отец его, Иван, успел умереть. Гераська давно правил домом, женился, и жена Ивана так же робко и покорно смотрела теперь в глаза невестки и сына, как, бывало, смотрела в глаза своего серьезного, строгого и в пьяном виде буйного мужа. Блудного сына приняли сдержанно.
Яшка делал вид, что ничего не замечает, и только беглый, неспокойный взгляд его одного глаза как-то неприятно и смутно говорил, что много грязного, циничного и порочного успел уже осадить в его душе поток жизни.
Сближение с Фроськой произошло случайно в силу того обстоятельства, что Гераська, живший теперь невдалеке от Беренди, взялся сделать мещанам, у которых жила Фроська, шкаф. Когда шкаф с потайным ящиком был готов, он с Яшкой отнес его хозяевам, и Яшка впервые увидел Фроську и пленил ее. Яшка, как тонкий знаток человеческой души, сразу понял, что Фроська для него находка, и — по пословице: даровому коню в зубы не смотрят — завладел ею. Фроська беспрекословно исполняла все его требования и тащила все, что могла, у своих хозяев для своего жестокого и требовательного повелителя. Тонкий, худой Яшка гвоздем засел в ее сердце: сердце болело и шло на муки. Яшка решил утилизировать и слабость Беренди: по его настоянию, Фроська ходила на свидания и полученные деньги отдавала Яшке. И теперь, по замыслу все того же Яшки, Фроська стояла в смутном раздумье с семью рублями в руках. Факт ее болезни был налицо, таким же фактом было и то, что Яшка завтра уходит в море, откуда, кто знает, вернется или не вернется он. Он, конечно, обещал жениться, но Фроська уже знала настолько своего возлюбленного, что угадывала истину. Угадывала и тем не менее верила или хотела верить. Понимала она и то, что не дай она ему эти семь рублей — и поминай как звали Яшку. Отдаст — останется и без Яшки, и без денег.
Яшка отлично понимал, какой процесс происходил в душе Фроськи, и рассыпался мелким бесом. Фроська давно уже утешилась мыслью, что «долговязый» принесет еще три рубля тогда, когда коршун Яшка будет уже в море, и на эти три рубля она устроит свое дело. Не отдавала же она еще денег только потому, что любо было слушать Яшку, а даст — перестанет говорить и уйдет. И долго еще Яшка, охваченный красноречием, возбуждаясь видом денег, говорил ей о диковинах моря, о больших городах, где живут турки, ходят в чалмах и халатах, держат по сотне жен.
Как-то сами собой перешли деньги в искусные руки Яшки, и не заметила она и опомнилась, когда Яшка уже был далеко.
— Яшка! — позвала она тоскливо.
— Чего? — нехотя подошел опять Яшка.
— Что ж ты мне скажешь?
— Сказал… приеду — женюсь…
— Обманешь?!
— Что мне обманывать? Сказал — сделаю.
Яшка беспечно, нетерпеливо почесал затылок и опять тихо пошел.
— Когда приедешь?!
— Через два месяца в акурате, — повернулся Яшка и, энергично сдвинув свою матросскую шапку, зашагал и скрылся за углом.
В сонной улице, в блеске луны, в аромате пыльного застывшего вдоль забора бурьяна понеслась разгульно-разбитная песня Яшки:
Несчастлива та дивчина, Что полюбит моряка: Моряк въедет в сине море, Да и больше ничего.А Фроська все стояла, ухватив изо всей силы своими здоровыми руками стойку забора, и слушала, застыв в тупой тоске, и смотрела в упор вдаль, и ненависть и любовь рвали ее жирное сердце. Яшка — этот вертлявый гвоздь, выдергивался из этого сердца, ничего нельзя было переменить, а взамен осталась она одна, тяжелая, на муки знахарки, и страх этих мук сильнее сжимал ее сердце. Вспомнилась контрастом другая фигура — долговязой глисты, желтоглазника, который как наклонится к ней да пахнет на нее, то так и перевернет ей все сердце. Фроська вдруг тоскливо заревела и, бросив стойку, плакала и надрывалась от слез. Не слышали этих слез ни Яшка, ни Берендя…
После обеда Берендя обыкновенно принимался за чтение. Он устроил себе во дворе у забора род беседки из простынь. Через несколько дней после описанного, в ворохе сена, в одной рубахе, окруженный книгами, с тетрадью и карандашом в руках, Берендя лежал в своей беседке, читал и выписывал в тетрадь интересные для него места. Он был рассеян, мысль часто отрывалась к Фроське, и он вдруг огорченно задумывался.
«Если быть последовательным, надо жениться. Но что такое Фроська? Какая она мне пара? Это кусок мяса, и только… овца. На овце разве можно жениться? У него может быть общее разве с ее ребенком, и в отношении этого ребенка есть его обязательства, а какие обязательства могут быть к Фроське? Добровольное сближение, случайность положения. Дать ей выход только из этой случайности… Он дал его… Ведь это, в сущности, гадость, а не выход. Нет, надо удержать ее… Надо».
Смутное сознание шевельнулось, что это надо, как и большинство житейских «надо», останется там где-то, в эмпиреях, а жизнь пойдет своим чередом.
Он опять погрузился в чтение.
«А что, собственно, мешает мне это „надо“ выполнить? Положим, я женюсь… мне девятнадцать лет. Надо бросить гимназию? Ну, что ж, буду жить своим трудом. Ну, что ж? Тридцать рублей в месяц. Это одному, а с Фроськой? Но что я буду с ней делать?! Что такое, в сущности, „надо“ и где масштаб этого „надо“? Общеходячий! Та петля, которая в конце концов удушит его? Если даже с точки зрения естественной взять вопрос вырождения рода… Какой он отец, когда уже сам он отравленный алкоголик? Нет сомнения, что он будет таким же пьяницей, как и отец его… С той разницей, что в свободные минуты он будет продолжать свою альтруистическую работу, а отец затягивается в петлю. С Фроськой эта петля будет еще ужаснее!»
Он опять прогнал все свои мысли и сосредоточился на чтении.
«В сущности, я же не люблю ее?!» — мелькнуло и холодом ужаса охватило Берендю.
«А что общего между мной и ребенком?! Что общего между ней и моим ребенком?! Ребенок не мой и не ее».
Платон прав… Платон?! Он и Платон, их мысли сошлись. Мысли великого будущего! Берендя так и замер над раскрытой книгой, облокотившись на локоть, со взглядом, устремленным в дыру старой простыни…
— О-о-ой! — взвыл Корнев, приседая у входа.
Из-за Корнева выглядывало веселое лицо Карташева.
Фигура Беренди в ворохе сена, книги, оригинальный навес, взгляд Беренди — глубокомысленного, невозмутимо созерцающего основы будущего мира философа, — от всего этого веяло такой своеобразной новизной и свежестью, так отвлекало от прозы действительности, что Корнев и Карташев забыли и о восьмом классе, и о скуке, которую несли было Беренде, и испытывали только одну радость свидания с Диогеном. Было смешно видеть Берендю в такой обстановке, было приятно его увидеть, было просто весело быть опять всем втроем вместе.
После бурного здорованья Берендя усадил товарищей на скамью и, точно отыскивая, чем бы их угостить, схватил свою тетрадь и, проговорив: «С…слушайте», — начал читать. Товарищи пытались было перебить его, но Берендя упорно продолжал свое чтение, и Корнев с Карташевым терпеливо слушали.
— В аскетических письмах Гоголя все тот же дух, побуждавший некогда сибирских раскольников сжигать себя. Эти люди имели в себе все качества души, которыми некогда прославляли себя и спасали отечество от варваров и Муций Сцевола, и Деций Мус, и все страдальцы новой цивилизации. Увы! Не сибирских аскетов, не Гоголя вина, что они схватились за ложные средства, saeculi vitia non hominis — пороки эпохи, а не человека. И пока не изменятся понятия и привычки общества, едва ли удастся кому бы то ни было при всех возможных анализах собственной души изменить те привычки, которые поддерживаются требованиями общества, обстановкой нашей жизни, и отказаться от дурных привычек, господствующих в обществе, увы, точно так же нельзя, как и нарушить хорошие привычки, утвердившиеся в обществе.
Итак, лучше всего не в себе, а в общих условиях жизни искать, чем, какими обстоятельствами и отношениями порождены и поддерживаются пороки. И пока эти обстоятельства и отношения, порождающие пороки, существуют, до тех пор бессильны единицы: на долю толпы достается тупая, прозябательная жизнь, а на долю единиц — страдания. И чем выше эти единицы, тем ужаснее их конец. Легок и весел был характер Пушкина, а уж на тридцатом году изнемогает он нравственно и умирает через несколько лет. Помянем и Лермонтова:
За все, за все тебя благодарю я: За жар души, растраченный в пустыне, За все, чем я обманут в жизни был… Кольцов?! В душе страсти огонь Разгорался не раз, Но в бесплодной тоске Он сгорел и погас. Жизнь! Зачем же собой Обольщаешь меня? Если б силу бог дал, Я разбил бы тебя. Не вспомним ли и Полежаева, который, Не расцветши, отцвел В утре пасмурных дней.Долго бы вспоминать всех: кого ни вспомнишь из сильных душою людей, все они годятся в этот список. Невозможно сомневаться в том, что и Гоголь уморил себя, по свидетельству доктора А. Т. Тарасенкова. Не вина Гоголя в том: к тридцатым годам, после бурного возбуждения молодежи возвышенными идеями — наступала реакция, столь обычная в русской жизни. Нельзя было услышать в кругу молодежи ни одного из тех громких слов, над которыми так легко смеяться, но без увлечения которыми бедно и пусто сердце юноши, а взрослого человека пуста и прозаична жизнь. Пусть живет, кто может, такой жизнью, но не будем клеймить тех, кто не может. Не мог и Гоголь. Его конец был тем ужаснее, чем колоссальнее была сила его натуры.
Мир тебе! Во тьме Эреба Ты своею силой пал…[60]Корнев во время чтения брал с полу то ту, то другую книгу. Тут были и Берне, и Гейне, и журналы прежних годов, и журналы последних дней.
— Что это ты читал? — спросил Корнев, перелистывая Гете.
— Брось-б-брось, — горячо заговорил Берендя, увидя в руках Корнева Гете, — ж-жил в самую тяжелую эпоху страданий своего народа и… и… не отозвался ни одним звуком. Лучшую эпоху ф…французов называет п…печальной ошибкой…
— О-о-ой! — надрываясь от смеха, стонал Корнев. — Да что ты читал?
— В…выписки делаю, — лучше запоминается.
Корнев взял в руки увесистую тетрадь Беренди.
— Это все летом? Здорово работал.
Корнев с завистью посмотрел на Берендю и принялся сосредоточенно за ногти.
— Чай есть? — спросил Карташев.
Берендя, удовлетворенно следивший за Корневым, возвращенный Карташевым к действительности, смущенно ответил:
— Че… черт возьми. Как раз все деньги вышли.
— Идем к нам, — предложил Карташев.
— О?! — нерешительно произнес Берендя.
— Конечно, — подтвердил Корнев.
Берендя на мгновение задумался и, замотав головой, проговорил:
— Что ж? идем.
— Ну, так идем, — встал Корнев.
— Постой, отчего вы так рано приехали из деревни?
Карташев покосился на Корнева и опять сел.
— Так, ерунда, — раздумчиво сказал Корнев.
Корнев, щадя самолюбие Карташева, передал вкратце события в деревне.
— Т…ты говорил с матерью? — спросил по окончании Берендя.
Карташеву было тяжело и неприятно.
— Что ж ей скажешь? — скажет: мальчишка… — Наступило молчание.
Берендя опустил голову и машинально смотрел в свою тетрадь.
— С…слушай, я не пойду к тебе.
— Идем, — тоскливо и быстро позвал Карташев.
— Идем, — поддержал и Корнев.
— Е-ей-богу, не пойду…
— Ну, что за ерунда!
Карташев обиделся.
— А как ты думаешь, с…сознает она?
— Ну, да брось, одевайся, — настаивал Корнев.
Берендя в нерешительности смотрел на Карташева. Не хотелось ему обидеть и Карташева, не хотелось и встречаться с Аглаидой Васильевной, — тянуло к книгам, и жаль было терять время.
— Нет, ей-богу… Я лучше в другой раз…
— Ну, так как же? — спросил Корнев, смотря на Карташева. Карташев, видимо, обиделся.
— Ну, че…черт с тобой, идем.
— Нет, конечно, это свинство, — начал было Карташев и наклонил голову.
— Да брось, — перебил его Корнев, — идет. Ну, одевайся.
Берендя взял со скамьи грязный пиджак.
— Ну и отлично.
Берендя добродушно усмехнулся и не без едкости спросил:
— М…может быть, она прикажет меня вывести?
Карташев совсем обиделся.
— Ишь какой ты стал! — хлопнул Берендю Корнев по плечу. Все трое вышли.
На улице царила пустота сумерек.
Берендя шел с Корневым впереди, а Карташев плелся поодаль. Корнев как-то вдруг не то забыл о Карташеве, не то потерял к нему интерес. Напротив, Берендя привлекал его к себе, и он повел с ним оживленный разговор.
Беренде было приятно это внимание, он с достоинством щипал свою бородку и энергичнее обыкновенного поматывал головой.
— Несомненно, — говорил, шагая, Корнев, — полный разлад между теорией и практикой… В деревне это как-то особенно рельефно — это разделение труда, о котором кто-то сказал, что одни сеют пшеницу, а другие едят ее. С одной стороны, конечно…
Корнев пренебрежительно махнул рукой.
— А впрочем… С другой стороны, нельзя не признаться, а с другой — нельзя не сознаться… и в конце концов теория и практика вот как стоят друг против друга.
Он показал пальцами, поставив их один против другого, как стоят теория и практика, и махнул пренебрежительно рукой.
— Придет, конечно, время, — сказал он, помолчав.
— Н…не для всех. Персам, например, просто не по средствам будет уж догнать… И…история показывает нам, что и прежде упущенное время не наверстывалось… И тут работает уж п…просто экономический закон… неизбежный. П…под защиту более сильного н…нужда поставит. Бухара…
— Движение, конечно, есть.
— Достаточность этого движения кем определяется? доброй волей убежденного, что оно достаточно?
— Типичное, в сущности, время, — раздумчиво заговорил опять Корнев. — С одной стороны, будто и правы его мать и мой почтеннейший родитель. Кто мы? Мальчишки… А с другой, ведь это все вопросы, поднятые людьми такого ума, перед которыми и мой батюшка и его мать… А ведь апломб какой! Ну, мой-то хоть мычит только, а возьми его мать? Послушаешь — вдохновенье, убежденность… а в сущности, одно сплошное недомыслие или, еще хуже, фарисейство… Прямо понимает и морочит… себя, конечно. А Неручев уж просто наглец: врет без зазрения совести прямо в глаза: знает, что врет, и глазом не моргнет.
— Кто это Неручев?
— Один сосед Карташева.
Корнев сосредоточенно принялся опять за свои ногти.
— Ерунда, — сказал он пренебрежительно.
— К…корабль без якоря. Р…работа без устоев… Кучка возится, строит, а… а пришла волна м…мрака, и… и все к черту, к…колесо белки. Нет фундамента о…образования д…достаточного, чтоб противостоять н…напору этой волны… И… и покамест так будет, из бездны м…мрака вылезет еще с…столько охотников…
Берендя шел, как палка, подгибал коленки, смотрел своими лучистыми глазами твердо и непреклонно перед собой, спокойно, равномерно все гладил свою бородку, и только похолодевшие пальцы его рук нервно дрожали да сильнее разлилась мертвенная желтизна от глаз по щекам.
Некоторое время оба шли молча.
— Восьмой класс… — проговорил Корнев.
С лица Беренди слетело все вдохновенье. Это был опять прежний испуганный, растерявшийся Берендя.
— Врешь?! — замирая, спросил он.
— Да вот…
Корнев лениво остановился и мотнул на подходившего Карташева. Карташев начал было нехотя, но злоба дня захватила, и приятели горячо и возбужденно заговорили на жгучую тему.
Они незаметно вошли в отворенную калитку карташевского дома и через двор прошли прямо на террасу.
— Может, все это еще только слух, — сказал Корнев, отгоняя неприятные мысли.
В сумерках мелодично раздавалась игра Наташи. Корнев сделал жест, и все трое на цыпочках пошли по террасе, чтоб не услышала Наташа. Они тихо уселись на ступеньках и молча слушали. Наташа импровизировала, по обыкновению. Ее импровизацию особенно любил Корнев и называл ее в шутку Шубертом. Мягкие, нежные, тоскующие звуки лились непрерывно, незаметно охватывали и уносили.
Вечер, сменивший жаркий день, пока точно не решался еще вступить в свои права. Было пыльно и душно. Но в небе уже лила свой обманчивый прозрачный свет задумчивая луна. В неподвижном воздухе застыли утомленные в безмолвном ожидании ночной свежести деревья. Только наметились бледные тени; скоро сгустятся они и темными полосами рельефнее отсветят яркость луны. В воздухе, в саду было пусто, и только нежная музыка наполняла эту пустоту какой-то непередаваемой прелестью. Звуки, как волны, мягко и сильно уносили в мир грез, и дума вольная купалась в просторе летнего вечера.
Наташа кончила и, рассеянно пригнувшись к роялю, задумчиво засмотрелась в окно. Аплодисменты слушателей с террасы вывели ее из задумчивости. Она встала, вышла на террасу, весело поздоровалась и заявила:
— А мамы и Зины нет дома.
— Это, конечно, очень грустно, — пренебрежительно ответил Корнев, — но так и быть, могут подольше на этот раз не являться.
— Ну, пожалуйста, — махнула рукой Наташа и, присев на ступеньки, заглядывая в небо и в сад, сказала: — Скоро потянет прохладой.
— А пока положительно дышать нечем, — ответил Корнев, присаживаясь около нее.
Сели Берендя и Карташев. Карташев крикнул:
— Таня!
В лунном освещении в окне показалась Таня.
— Мы чаю хотим.
Таня ушла, а они все четверо продолжали все тот же разговор, тихий, неспешный. Наташа отстаивала мать и все старалась придумать что-нибудь такое, чтобы и мать оправдать и признать правильным постановку брата и его товарищей.
— Оставьте, — пренебрежительно говорил Корнев, — все это одно бесплодное толчение воды выходит: и невинность соблюсти, и капитал приобрести. Это ведет только к отупению. Ставьте прямо вопрос: где правда?
— Правда, конечно, у вас.
— Ну, так в чем же дело?
— Сразу нельзя.
— Почему нельзя?
— Ничего сразу не делается.
— Значит, сложить руки и ждать? — спросил Карташев.
— Жди! — ответила Наташа.
— Ну, так я лучше себе голову об стену разобью.
— Какой же толк из этого?
— А какой толк сидеть сложа руки? У меня две жизни? Я не могу и не хочу ждать.
— Все равно не разобьешь же себе голову: будешь ждать.
— Ну, так еще хуже будет: другие разобьют.
— Никто не разобьет, — махнула рукой Наташа. — Так и проживешь.
— Я, собственно, не понимаю, что вы хотите сказать? — вмешался Корнев.
— Хочу сказать, что жизнь идет, как идет, и ничего переменить нельзя.
— Но, однако же, мы видим, что меняют.
— Меняют, да не у нас.
— Что ж, мы из другого теста сделаны?
— А вот и из другого.
— Ну, оставьте, — досадливо проговорил Корнев. — Пусть какая-нибудь отупелая скотина или там из разных подлых расчетов доказывают, что там хотят, но не давайте себя, по крайней мере, вводить в обман.
— Не знаю… — начала Наташа, но оборвалась и замолчала.
Берендя слушал, смотрел на разговаривавших и теперь, когда все замолчали, поматывал головой, собираясь что-то сказать.
— Ну, да довольно об этом, — предупредил, не заметив его намерения, Корнев, — дураков не убавишь в России, а на умных тоску наведешь. Манечка, сюда! — хлопнул он рукой по террасе подходившей Мане.
Маня посмотрела, подумала, села возле Корнева и сказала:
— А мама не позволяет называть меня Манечкой.
— Пустяки, — авторитетно произнес Корнев. — Манечка вы — и все тут.
— Ну, хорошо, спросим у мамы.
— Совершенно лишнее. Надо стараться приучаться своими мозгами вертеть: мама завтра умрет, — что ж вы станете делать тогда?
— Какие вы глупости говорите.
— Умница, Маня, — поддержала Наташа.
— Яблоко от яблони…
— Ну, отлично, — перебила Наташа.
— Вовсе не отлично.
— Если вам говорят отлично, так, значит, отлично, — настойчиво сказала Маня.
Разговор незаметно перешел в область метафизики, и Берендя стал развивать свою оригинальную теорию бесконечности. Он говорил, что в мире существуют три бесконечности, три кита, на которых держится мир: время, пространство и материя. Из бесконечности времени и пространства он довольно туманно выводил бесконечность материи. Скромный Берендя предпослал своей теории предупреждение, что, в сущности, эта теория не его и начало ее относится к временам египетских мудрецов. Все слушали, у всех мелькали свои мысли. У Наташи мелькала веселая мысль, что Берендя со своей теорией и сконфуженным видом, со своими раскрытыми желтоватыми, напряженно в нее уставленными глазами сам египетский мудрец. Ей было смешно, она смотрела в глаза Беренди весело и ласково и, давно ничего не слушая, постоянно кивала ему головой, давая тем понять, что ей ясно все, что он говорит.
Корнев рассеянно грыз ногти, не слушал Беренди, о чем-то думал и, только встречаясь глазами с Маней, делал ей вдруг строгое лицо. Маня, как молодой котенок, наклоняла в такие мгновения головку и всматривалась загадочно в глаза Корнева.
— Да-а, — протянул вдруг ни с того ни с сего Корнев.
И, когда Берендя уставился на него в ожидании возражения и все повернулись к нему, он смутился и скороговоркой проговорил:
— Конечно, конечно.
— Что «конечно»? — спросила Наташа, давясь от разбиравшего ее смеха.
И все, смотря на Корнева, и сам смущенный Корнев начали смеяться. Разговор о метафизике оборвался, потому что Корнев после смеха, махнув рукой, решил:
— Брось ты к черту всю эту бесконечность; не все ли там равно: конечно, бесконечно, — факты налицо: я существую, и вторично я не буду существовать. Тем хуже, черт возьми, если все, кроме меня, бесконечно.
— А вот и мама звонит! — воскликнула Маня и побежала навстречу матери.
Когда раздался звонок, всем стало жаль нарушенной уютности. Наташа встала. На ее лице было ясно написано это сожаление и в то же время сознание незаконности такого чувства.
XIX
Волновалось общество, волновалась печать, шли горячие дебаты за и против классического образования. Родители и ученики с страстным вниманием следили за ходом этой борьбы. Реформа семидесятых годов положила конец этой борьбе. Образование в классических гимназиях было признано недостаточным: вводился восьмой класс и аттестат зрелости. Увеличение программы шло исключительно за счет классических языков: удваивалось число уроков латинского, вводился другой древний язык — греческий, равнозначащий по важности с первым.
Введены были второстепенные классы гимнастики, пения и даже танцы. Последнее уж была личная идея нового директора, или, вернее, жены директора, женщины светской, с претензиями. Непривычный глаз странно осваивался с скромной фигурой офицера на гимназическом дворе: ученики маршировали, строились в ряды, по команде приседали и проделывали разного рода артикулы.
Соборный регент, темный, с черными хохлацкими усами, с черными без блеска глазами, в рекреационном зале стесненно обводил взглядом своих новых учеников. Разочарованное лицо его ясно говорило, что никогда искусство этой насмешливой и вольной толпы учеников не сравнится с строго выдрессированной школой его соборных певчих. Из маленьких больше подавали надежды: серебряный дискант Сережи Карташева звенел по зале, и он смотрел с таким выражением своих усердных глаз на регента, какому позавидовал бы любой из настоящих певцов его хора. Регент не мог равнодушно видеть этого усердия Сережи, гладил его по голове и предсказывал хорошую будущность его голосу. Появился снова представитель хореографического искусства, старый учитель танцев m-r Дорн, гигант, во фраке, с рябым облезлым лицом, в золотых очках, с широкой и длинной ступней своих гуттаперчевых ног. Он шел по знакомой лестнице в знакомую залу так же, как, бывало, ходил, когда в коридорах вместо теперешних серебряных галунов мелькали красные воротники полных пансионеров. Прежний директор подал в отставку: одни говорили — по собственному желанию, другие — вследствие недоразумений с попечителем. Одно время носился по городу упорный слух, что, напротив, попечитель уйдет. Но попечитель остался и энергичнее прежнего исполнял свои обязанности. Большой, с торчащими ушами, он часто появлялся в гимназии и, ходя по коридору, внимательно всматривался своими близорукими глазами в учеников. Новый директор — пожилой уже, плотный, с маленькими маслеными глазами, длинной бородой и тонким носом, с виду простой и добродушный, доверчиво-почтительный с попечителем, который, в свою очередь, дружески то и дело брал его под руку, — неразлучной тенью следовал за своим начальством, держал себя пренебрежительно-далеко с учениками и, так же как попечитель, с одними учителями был хорош, других едва удостаивал внимания.
— Что, он был преподавателем? — спрашивал раздумчиво Корнев, стоя у дверей коридора и следя за исчезавшим у себя в квартире директором.
— Вероятно, был, — отвечал, встряхиваясь и засовывая руки в карман, Долба, — собственно, специальность его, как говорит наш Иван Иванович, — администрация…
— Ох, Иван Иванович! — махнул рукой Корнев.
Иван Иванович был назначен воспитателем седьмого класса: на его обязанности лежало навещать учеников на их квартирах, следить за жизнью их, за соблюдением формы, стрижкой волос, бритьем бороды, ношением ранцев. Конфузливый, деликатный, Иван Иванович исполнял все по инструкции, являлся на дом к ученикам, смотрел так, точно просил прощения, и спешил уйти, говоря уже в дверях скороговоркой и конфузясь:
— Господа, пожалуйста, — книжки ненужные на виду… пожалуйста, не держите…
— Будьте спокойны, Иван Иванович… да ведь мы же…
— Пожалуйста…
В общем, компания довольно индифферентно относилась к новым порядкам. Несмотря на все Сциллы и Харибды, которые вырастали кругом, — ученикам седьмого класса не из-за чего было приходить в уныние: передержка по-латыни прошла благополучно. Митя, с назначением нового директора, увольнялся в отставку и на прощание был снисходительнее обыкновенного, пропустив на передержке всех.
Восьмой класс тоже оказался не таким страшным: все, кто получат за год и на экзаменах четыре — будут избавлены от него. Являлась надежда на снисхождение, да и время было не упущено, чтоб засесть как следует. Ясно намеченная, уже близкая цель, жажда в этом же году вырваться из начинавших делаться цепкими объятий гимназии — придавала энергию и бодрость. Даже латынь, скандовка, грамматика и переводы классиков, с ускользавшим всегда смыслом, представляли свой своеобразный вкус — сладкого конца какой-то утомительной скучной работы.
Пыл, впрочем, скоро прошел, и все пошло по-старому: скучно и бессодержательно.
Вместо сметных четверок и пятерок в журнале мелькали больше тройки вперемежку с двойками и даже единицами.
Особенно много таких единиц расплодилось в журнале нового учителя латинского языка, бывшего преподавателя младших классов. Новый учитель, молодой, стремительный, с напряженным взглядом и несимпатичным лицом, рвал, метал и не мог примириться с колоссальным незнанием учеников седьмого класса.
Он злорадно, где только мог, трубил об этом незнании, возмущался и чувствовал себя в роли полководца, получившего, вместо выдрессированной армии, каких-то нищих духом сорванцов. Возмутительнее всего было то, что ученики не только не разделяли с ним его пыла, но проявляли, напротив, обидный скептицизм насчет того, что действительно ли так ужасно то, что они ничего не знают. В обоюдные отношения учеников с учителем все больше и больше стало проникать раздражение.
— Те… te doktum hominum esse… ты… ты ученый человек, — носясь с книгой по классу, выкрикивал бойко учитель.
— Сука беременная, — шептал Корнев своему соседу Рыльскому.
Рыльский, сосредоточенно вычерчивавший в это время петушка, только выше подымал брови и усерднее надавливал карандашом.
— Господа, я попрошу вас разговоры во время уроков оставить… При вашем знании учеников второго класса… Карташев, куда вы?
— У меня живот болит.
— Странно… мне кажется, вам следовало бы все-таки спросить разрешения.
— У нас не спрашивали прежде.
— Странно.
Карташев все-таки уходил, а учитель, красный от досады, раздраженно сдвигал брови и еще азартнее впивался в следующую фразу книги.
— Ларио, прошу вас продолжать.
Ларио — второгодник, был весь поглощен опереткой и меньше всего думал о латыни.
— Я сегодня не могу, — вставал Ларио и садился.
— Странно. В таком случае я вам поставлю единицу.
Ларио молча изъявлял согласие, и учитель ставил единицу, опять краснел, молчал и говорил:
— Господа… я должен вас предупредить, что лица, не желающие заниматься, останутся в восьмом классе…
Но угрозы как-то не действовали.
Часто после уроков ученики наблюдали, как он, вырвавшись в коридор и приметив директора, бросался к нему и, идя рядом с равнодушно-величественным директором, начинал ему что-то горячо докладывать.
Директор пренебрежительно слушал, бросал два-три слова и уходил от учителя.
Учитель, красный и потный от волнения, спешил так же усердно назад под перекрестными насмешливыми взглядами учеников.
— Возмутительнее всего, — говорил Корнев, — что человеку всего двадцать три года… Откуда мог вырасти этакий гриб.
— Ну-у… — насмешливо кивал головой Рыльский.
— Грибы всегда найдутся, — отвечал Долба, — только потребуй.
Корнев молча принимался за свои ногти.
Однажды учитель, приносивший с собой всегда какую-нибудь новинку, явился в класс и, сделав перекличку, сдержанно заявил ученикам, что он составил список класса по степени их успехов.
— Я вас не буду утруждать чтением его всего…
Учитель нервно порылся в портфеле, достал список и прочел:
— Последними Ларио и Карташев… Я долго сомневался, кому отдать пальму первенства, и решил так: господин Ларио предпоследний, потому что ничего не знает, господин Карташев последний, потому что ничего не знает и груб.
Учитель побагровел, ноздри его раздулись, и он так спешно стал прятать свой список, точно боялся, что его кто-нибудь отнимет.
— Эка, круглый! — усмехнулся Рыльский.
— Есть недостатки более неисправимые, — ответил вызывающе Карташев, — глупость…
— Вы так думаете? — быстро поднялся учитель, — так я вас попрошу отнести эту записку к директору.
Карташев подумал и ответил:
— Я вам не обязан записок носить… Для этого сторожа есть…
— Хорошо-с, я и сам отнесу… А впрочем, для таких пустяков не стоит прерывать урок…
Учитель нервно спрятал записку в карман и продолжал урок.
— Придумает же, — пренебрежительно, подняв плечи, проговорил после урока Рыльский.
— Это как в доброе старое время записки крепостные в полицию носили… Принесет — его и выпорют.
— Карташев, к директору, — мелькнул в дверях долговязый Иван Иванович. — В учительской, — меланхолично указал он.
Карташев, оправляясь, вошел в приемную. Из накуренной учительской с папироской в зубах вышел к нему директор. Директор шел не спеша, наседая всем туловищем на толстые ноги, и спокойным взглядом мерял Карташева.
Леонид Николаевич, вошедший в это время из коридора, скучный, равнодушный, мельком посмотрел на Карташева, скользнул взглядом по директору и, не меняя равнодушно-усталого вида, прошел в учительскую.
— Вылететь вон захотелось? — равнодушно, просто спросил, подойдя, директор.
Он сделал небрежную паузу и прибавил:
— Что ж, и вылетите…
Это было сказано таким простым голосом, что Карташев ни на мгновение не усомнился, что так и будет.
— Ваше превосходительство…
Карташев знал, что директор требует такого обращения, но надеялся, что никогда не придется ему именно так величать нового директора; теперь же не только проговорил «ваше превосходительство», но проговорил так мягко и нежно, как только мог.
— Что ж «ваше превосходительство»?.. — спокойно спросил директор, ожидая, что еще скажет Карташев.
— Я очень сожалею, если оскорбил учителя… но он слишком не щадит самолюбия…
— А оно, очевидно, велико у вас, так велико, что по спискам вы оказались последним: действительно, задел самолюбие…
Директор брезгливо ждал ответа.
Карташев потупился и молчал.
— Я думаю, что мы можем договориться с вами с двух слов: первая жалоба учителя — и вас не будет в гимназии. Понятно?
— Понятно, — прошептал Карташев.
— Ну, и марш!
— Что? что? — посыпалось на Карташева, когда он вошел в класс.
— Ничего, — пожал плечами Карташев, — сказал, что выгонит.
Карташев сел и безучастно задумался. Хорошего было мало: если не выгонят, то срежут; и, несмотря на это сознанье, он чувствовал какую-то роковую неспособность переломить себя и засесть за эту проклятую латынь.
Другой приговоренный, Ларио, был, напротив, весел и беспечен, он напевал из оперетки и с треском передавал содержание пикантных мест ее.
— Да-с, — многозначительно протянул Корнев, косясь на Карташева, — вы все-таки, господа, того… ухо востро держите… вы тоже, signior Ларио… Смотри: опять застрянешь.
Он любовно, добродушно хлопнул по плечу Ларио.
Ларио нетерпеливо дернул плечом.
— Начхать…
— Эх, ты…
— Да, уж вот такой, как есть: что люблю, то люблю, чего не люблю — извините…
Ларио сделал комичный жест и, скорчив отчаянную физиономию, крикнул бодрясь:
— Кто со мной в оперетку?
— Да брось ты свою оперетку, — отвечал лениво Корнев.
— Вася, не фальшь! Говоришь не то, что думаешь: дай себе отчет. Стой! зачем бросить?
— Разврат же…
— То есть в чем?
— Ну, точно не знаешь? чуть не голые выходят на сцену…
— Врешь… выходят в древних костюмах… Чем же бедненькая Еленочка виновата, что тогда так ходили… Постой… Ты классик? Ну, и должен ей сочувствовать. Да, наконец, отчего же и не посмотреть это самое декольте? Я не знаю, как ты, а я во~ какой корпуленции и в монахи не собираюсь.
Ларио конфузливо щурился и, маскируя неловкость, пускал низкие ноты «хо-хо-хо!».
— Рыло, — задумчиво хлопал его по брюху Корнев, в то время как компания смотрела на Ларио с каким-то неопределенным любопытством.
— Вот те и рыло… Мне, батюшка, жена самонастоящая и то впору, а ты рыло.
— Пожалуй, и от двух не откажешься, — весело подсказал Долба.
— Черт с ними, давай и две.
— Действительно, в сущности… — говорил Корнев, любуясь сформированной широкоплечей фигурой Ларио.
Ларио быстро поворачивался, хлопал себя наотмашь и спрашивал:
— Il у à quelque chose, messieurs, la dedans, n'est-ce pas?![61] А ты с латынью да с экзаменами… Всякому овощу свое время… Тятька-покойник, пьяница и николаевский полковник…
— Ох, черт!
— …никак не мог понять, отчего я пареной репы не любил: так и умер с тем, что не понял… Бывало, бьет, как Сидорову козу: «Ешь, подлец, репу!» — «Не бу-ду есть ре-пу!» Так и умер. Умирая, говорит: «Драть тебя некому будет».
Учитель словесности окончательно свалился и умирал от чахотки, лежа один в своей одинокой квартире.
— Жаль человека, — говорил Рыльский, — а все-таки кстати.
— Ох, зверь человек! — улыбался Корнев на замечание Рыльского.
— А что бы он с нами на экзамене сделал?
— Да бог с ним, — пусть умирает.
Новый учитель, молодой бесцветный блондин, мял, тянул, выжимал из себя что-то, и дальше биографий не шел.
— В сущности, жаль все-таки, что Митрофан Васильевич свалился, — говорил Корнев, — ну, перед экзаменами бы еще так и быть…
— Жаль, жаль, — соглашался Долба, — в прошлом году он обещал коснуться разных веяний.
— Положим, судя по началу, вряд ли бы удалось ему в нынешнем году…
Корнев лениво вытянулся и сладко зевнул.
— Черт его знает, тощища какая… Гоголь был сын, Пушкин был сын… Ах, ты сын, сын — тянет, тянет, душу всю вымотает…
Невесело было и на уроках истории. Леонид Николаевич ходил скучный и неохотно вступал в какие бы то ни было разговоры. И у учеников стал пропадать вкус к ним.
— Черт его знает, старше становимся или глупеем, — сомневался Корнев.
Было ясно одно: гимназия делалась все больше и больше чужой. Там, в темных коридорах младших классов, кипела жизнь, раздавался визг и хохот, но знакомую читателю компанию уже не манила эта жизнь, и, сонная, равнодушная, она тянула время, как бы говоря своими апатичными, скучащими фигурами: лишь бы прошел день до вечера.
Чтение как-то тоже не шло на ум.
Карташев часто, лежа на диване, думал и копался в себе: что его интересует?
Уроки? К ним, кроме смертной тоски и томления ничего не ощущалось. Чтение? Прежде он любил его, чувствуя какую-то новую почву. И пока эта почва чувствовалась, и чтение было интересно. Но эта почва как-то ускользнула, что-то, какая-то связь точно порвалась: книга осталась книгой, а жизнь пододвинулась и во всех своих проявлениях так не схожа с книгой, что, очевидно, книга одно, книга — дело рук неопытного идеалиста, а жизнь имеет свои, совсем какие-то другие законы. С одной стороны, что-то тянуло к этой жизни, тянуло мириться с ней, приспособиться к ней, с другой — было скучно и уж не было того идеального чувства ни к жизни, ни к матери, какое было раньше, несмотря на всякие споры и протесты и его и ее. Теперь и споров почти не было, — было просто равнодушие, апатия и сознание, что мать такой же человек, как и все. И от этого сознания делалось еще скучнее, и Карташев тревожнее рылся в себе и искал своих желаний. Может быть, он хочет любить? Нет, он никого не любил и не хотел любить. Прежде он хотя лакомства любил, — теперь и их разлюбил.
«Неужели же так-таки ничего решительно я не люблю?» — подумал с некоторой тревогой Карташев.
Он еще раз проник в себя и не нашел в себе ничего, что вызывало бы в нем охоту к жизни.
«Таня!» — мелькнуло вдруг где-то в сердце и замерло в истоме.
«А если бы я к ней пришел вдруг ночью?!»
Карташев задохнулся и испуганно гнал эту мысль. Но мысль не уходила, овладевала сильнее, и в фантазии Карташева проносились одна другой соблазнительнее сцены.
— Тёма, на кого ты стал похож, — говорила Аглаида Васильевна, — бледный, желтый, синяки под глазами…
Карташев смущенно улыбался, тер свое лицо руками и, когда оставался один, долго и пытливо смотрел на себя в зеркало. Он догадывался о причине своего потускнелого вида, давал себе клятвы не думать о Тане и в знак твердого решения энергично садился за уроки. Но какая-то сила снова возвращала его все к той же мысли.
Иногда вдруг среди урока в гимназии его охватывало тяжелое воспоминание, и, удрученный, он погружался в самоанализ. Он спохватывался от этого самозабвения и часто на лицах других товарищей читал отпечаток своих мыслей. Однажды он прочел на лице Корнева свои ощущения и долго потом подавлял неприятное, брезгливое чувство к нему. По временам он питал такое же чувство и к себе, и тогда тоска охватывала его сильнее, и он томился и не знал, что же ему делать с собой? В обыкновенное время он подавлял свою память, но она сковывала его невольно, и это резко обнаруживалось в его манере, конфузливой и неуверенной и в то же время какой-то вызывающей.
Аглаида Васильевна часто незаметно и пытливо всматривалась в сына и думала тревожную думу.
Иногда она вдруг неожиданно входила в сумерки к нему в комнату и, видя сына лежащим на кровати, тревожно и огорченно спрашивала:
— Что ты делаешь впотьмах?
— Ничего, — угрюмо отвечал Карташев.
— Зажги лампу.
Однажды под вечер, когда Карташев, Семенов, Вервицкий и Берендя сидели в комнате у Карташева, или, вернее, сидел один Берендя, по обыкновению держась, как палка, и смотря, не мигая, перед собою, Карташев же с Семеновым лежали на кровати, а Вервицкий — на трех стульях, дверь распахнулась и, кружась и толкая друг друга, в комнату ворвались Ларио, Корнев, Рыльский, Долба и Дарсье.
Чтобы ей угодить, веселей надо быть, И для вас мой приказ, чтобы жить — не тужить… Тру-ла-ла, тру-ла-ла, Тру-ла-ла, тру-ла-ла.Компания с азартом вскидывала ногами, пригнув головы и подобрав фалды своих сюртуков. Долба просто откалывал самый настоящий малороссийский трепак.
— Тьфу! — проговорил, наконец, Корнев, — сегодня «Прекрасная Елена», а вы тут киснете: да ей-богу… Идем…
— Со…собственно… — начал было Берендя.
— Что, собственно, когда, собственно, и не видел еще, — насмешливо перебил его Ларио.
И все пошли на «Прекрасную Елену» и потащили с собой и Берендю.
— Действительно так интересно? — с напускной небрежностью спрашивал дорогой Карташев Корнева.
— В сущности, оригинально… свежо… музыка мелодичная. Да нет, хорошо… Легкий развратец, конечно, есть, да ведь не в монахи же мы готовимся.
— Умные речи приятно и слушать, — хлопнул по плечу Корнева Ларио.
— Да ей-богу… — в сущности, ведь что такое? Homo sum.[62] — Корнев махнул рукой.
Быстро молодость промчится…— Ерунда все… проживем как-нибудь… Нет, талантливая-таки бестия этот Оффенбах.
«Прекрасная Елена» понравилась и компании Карташева.
В антрактах еще шли разговоры на тему «homo sum», но, как только раздавался звонок, компания, бросая окурки, спешила по деревянным коридорам на самый верх, на переднюю скамью, чтобы поскорее засесть и, впившись глазами, с локтями на барьер, с коленками, упертыми в тот же барьер, — не пропустить ни одного слова, ни одного звука.
— Хорошо, — энергично и весело проговорил Рыльский, когда опустился занавес после того действия, где изображена была ночь и спальня Прекрасной Елены.
Корнев, обладавший чутким слухом, в ответ тихо, верно передавая интонации страсти, запел:
Да, это сон… да, это сон.— Черт побери, это только сон! — хлопнул кулаком по барьеру Долба.
— Ну, что? — приставал Ларио к опешившему Карташеву.
— Да молодец, молодец, — говорил ему Рыльский.
После театра Ларио звал всех идти куда-нибудь ужинать, но Карташев был как в лихорадке и наотрез отказался.
— Да ты что? — презрительно окликнул его Ларио.
— Не пойду.
— Мама?!
— Не мама, а просто не хочу.
— Ну и черт с тобой.
Карташев ушел, а остальная компания нерешительно совещалась насчет ужина.
Осенняя лунная пустая ночь охватывала Карташева каким-то особенным жутким одиночеством. Маленькая бесконечно далекая луна точно уменьшала размеры предметов, и в этой мертвенно обманчивой пустоте ночи и сам Карташев представлялся себе каким-то бесконечно малым, никому не нужным существом. Чрез каких-нибудь сотню лет эта луна будет так же светить, а где будет он и вся эта толпа театра, в которой он был ничтожнее других? Что здесь его? Это мгновение, только прелесть этой ночи, сила впечатления. Пред ним вставали образы театра: голые руки Прекрасной Елены, чьи-то другие роковые голые руки. Дыхание спиралось в его груди, волнение сильнее охватывало его, и мгновениями казалось, что ноги не хотят ему служить и он упадет тут же на улице и задохнется от мучительного и сладкого томления.
Он прошел пустую площадь и пошел вдоль длинного забора. Здесь еще глуше, пустыннее было, здесь еще сильнее охватывало страстное сознание одиночества.
Карташев остановился у калитки и, не позвонив, полез через забор. Он спрыгнул тихо, беззвучно на мягкую грядку сада и, осторожно обходя двери столовой, от которой был у него в кармане ключ, пошел в ту сторону террасы, куда выходили окна девичьей. Он осторожно открыл ставню и, став у окна, приложив руки, начал всматриваться. Ясная пустая лунная ночь давала возможность хорошо рассмотреть, что делалось внутри. На полу спала Таня, и ее обнаженная рука была небрежно заброшена за голову. Охваченный новым огнем, Карташев стоял с громко бьющимся сердцем и пересохшим от волнения ртом. Он тихо попробовал отворить окно: оно оказалось запертым изнутри. Снизу лестница наверх была тоже заперта. Карташев напряженно думал: он знал одно — что сегодня будет в девичьей. Взгляд его упал на лестницу, приставленную к стене. Эта лестница вела на крышу, оттуда — через слуховое окно, чердак и темную переднюю — в девичью. Оттуда таким же путем назад и чрез столовую, делая побольше шуму, в свою комнату. «Надо снять сапоги, — мелькнуло в голове Карташева, когда он взбирался по лестнице, — иначе может быть такая штука…»
В темной передней тихо скрипнула половица… Еще одна уже ближе и тише.
Карташев стоял над Таней.
Таня переменила позу во сне, и полная белая нога ее откинулась из-под одеяла.
Карташев медленно нагнулся и впился губами в теплое тело. Темные глаза Тани открылись и молча замерли на лице Карташева.
— Артемий Николаевич! Голубчик… мама… — беззвучным шепотом молила она.
Карташев безумно, страстно целовал Таню. В ослепительной молнии ярко сверкнул вдруг в памяти Иванов, прежняя Таня, недосягаемая и чистая, мать — и все слилось в мучительном и сладком стоне души…
XX
У одного товарища Моисеенко умер отец, оставив многочисленную семью. По энергичной инициативе Моисеенко был устроен негласный литературный вечер. В вечере принял, между прочим, участие и Леонид Николаевич, к которому явились его бывшие ученики-студенты и просили об этом. На литературный вечер собрались, в числе многочисленной публики, все знакомые уже читателю лица. Аглаида Васильевна приехала с Зиной и Наташей. Наташа была в черном, обхватывающем ее стройную талию, платье. Ее черные роскошные волосы волнами заходили назад и сливались в густой косе. Легкий запах violette[63] распространялся от нее, и Корнев, застегнутый в мундир, понюхав воздух, сказал ей на лестнице:
— Хорошо пахнет… Какой одер?[64]
— Ну, довольно…
Компания, кроме Семенова и Дарсье, оставшихся внизу с дамами, забралась наверх на хоры. Там было темно и уютно, там было много студентов, таких же студентов, какими и они будут через полгода. Будут ли? — тревожно замирало не одно сердце.
В антрактах компания спускалась к дамам: к Карташевым, Мане Корневой, Горенко.
Маня Корнева, в светлом платье, волновалась, была в духе, когда возле нее собирались Рыльский и вся компания, краснела тогда от удовольствия и делалась тревожной, беспокойной, когда Рыльский уходил к Карташевым и садился возле Зины.
Компания веселой гурьбой перекочевывала от одних знакомых к другим.
Аглаида Васильевна наблюдала их в лорнет и бросала Зине разные замечания, вроде следующих:
— Тёма горбится.
— Горенко в Тёму влюблена вот как…
И Аглаида Васильевна небрежно показывала концом лорнета выше головы.
Моисеенко стоял у стены и наблюдал. Чаще других его взгляд падал на Горенко, сидевшую в задних рядах. Вышло это случайно, — она опоздала и, сев на первое свободное место, уж не хотела его менять. Это была мелочь, но в глазах Моисеенко она хорошо характеризовала Горенко. Единственная наследница большого состояния, Горенко не придавала никакого значения ни ему, ни всему тому блеску, который приобретается путем денег. Она презрительно говорила про свои средства, что они не ее, и строила целые планы в будущем насчет того, что она на них сделает.
В общем, сдержанная, склонная к пессимизму, Горенко часто поражала выражением какого-то страдания на своем прекрасном по выразительности лице. Чувствовалось, однако, при взгляде на нее, что страданье это не имеет реального основания: она была богата, молода, бури жизни не касались еще, собственно, ее жизни, и многие говорили:
— Эх, ломается! Изображает из себя что-то, потому что знает, что идет к ней.
Горенко и не подозревала о таких отзывах и продолжала быть такой, какой создали ее ее нервы и натура: без причины страдала, без причины томилась и только и бывала счастлива, когда думала о том, как распределит свои средства, как поведет жизнь своеобразную, ни с чьей не схожую. В ее голове туманно рисовались то дикие горы, ущелья, ее замок где-нибудь на обрыве, она вольная, ни с чем не связанная; то рисовался ей большой город, и она по улицам чужого города идет, оглядывается и совершенно явственно чувствует мягкую теплоту весеннего солнца, залитый светом бульвар, восторженную, жизнерадостную толпу, и ей кажется, что она уже там, на этом бульваре, интересы ее в этой толпе, и нет у нее других, и не хочет она других — своих, от которых делается сразу так скучно и пусто, что хоть сейчас в могилу.
Сегодня Горенко была в духе и по временам улыбалась той своей усмешкой, которая так тянула к себе, так ясно говорила, что она удовлетворена, что ей весело и хорошо на душе и источник этого веселья в ней, а не в окружавших ее. Источник, которого не коснутся ничьи грязные руки, потому что она не пустит их, потому что она сумеет с тем презрением силы, какую дает убежденность и чистота души, оградить себя от непрошеных посягателей на ее душевный мир. К таким посягателям она относила и Аглаиду Васильевну и умела по временам давать ей отпор мягкий, но в то же время такой твердый, что Аглаида Васильевна с трудом выносила эту своенравную, подрывавшую ее авторитет девушку.
Моисеенко с восторженным чувством, зажатым там, в глубине души, смотрел на нее, счастливый ее счастьем, гордый ее чистотой, искренностью, ее несознаваемой силой. Никто из окружавших не был ей равен. Моисеенко беспристрастно старался сравнивать: одна Наташа выдерживала бы конкуренцию, если бы не ясно было, что Наташа поставлена в такие условия жизни, из которых выхода нет: будет ли ее жизнь счастливая, — это будет эгоистичное, сухое счастье сытого человека; будет ли она несчастлива, — ее несчастье — нравственный хлев с точки зрения иной жизни, хлев, в котором она задохнется, не сумев даже осмыслить общие причины несчастья своей жизни.
Горенко была избавлена судьбой от обстановки Наташи. Ее мировоззрение складывалось самобытно и свободно. Она шла туда, куда тянуло ее, — так же тянуло, как магнит притягивает железо: потому что это было свойством ее души и единственным отвлечением от той тоски, которая по временам охватывала ее. Преобладающим качеством ее души было какое-то полное отсутствие страха перед рутиной жизни — лишь бы ясна была истина и правда. Она жадно шла к этой правде, и вся жизнь ее была в ней, в этой правде. Это было так естественно, совмещалось в ней с такой какой-то особенной потребностью не выдвигаться и прятать в тайниках этот клад души, что Моисеенко иногда, слушая ее, думал, что и между людьми могут быть самородки, на долю которых судьба счастливо выделяет из грязи земли одно чистое золото. Даже то капризное, избалованное, что чувствовалось в ней, как-то распространялось только на нее одну: она была раба своего невидимого мучителя, сидевшего в ней, он мог мучить ее и только ее. Этот аристократизм чувства, эта гордая свобода, которую сулили чудные глаза молодой девушки, еще сильнее тянули к себе сердце молодого реалиста-мечтателя, и он еще глубже прятал в себе это чувство к ней.
К Горенко подошли Семенов и Берендя и заспорили вдруг: Семенов начал по какому-то поводу усердно доказывать, что все они ни больше ни меньше, как мальчишки, а Берендя, заикаясь, с своих туманных высот доказывал обратное.
— Да ведь вы сами, Семенов, говорили, — вмешалась на помощь Беренде Горенко, — что ваш отец в семнадцать лет был уже офицером.
— Что ж из этого? — оттопырив свои маленькие губы, упрямо спросил Семенов. — Время отца было проще…
— Но… но время т…твоих детей еще сложнее… дойдет до того, что и… и в шестьдесят лет в…все мальчишки.
— И дойдет, — упрямо, наклонив голову, проговорил Семенов.
— Е…е…если ч…человечество обречено бу…будет по…постоянно и в…вперед набивать с…свою голову не…ненужным хламом веков, т…то, к…конечно, оно в конце концов очутится в безвыходном положении, и п…прогресс дальнейший станет немыслим.
— Я в судьбы человечества не лезу, — сухо, с достоинством ответил Семенов, — но что нет никакого сомненья, что мы мальчишки, так это факт.
— Г…грустный факт.
— Ну, да уж это другое дело.
— Семенов, — вмешалась Горенко, — но как же вы объясните такой факт: в Китае и теперь человек до шестидесяти лет все мальчишка, а в Англии в двадцать один год празднуется настоящее гражданское совершеннолетие, — страна, у которой жизнь посложнее нашей? Возьмите наконец историю в руки, посмотрите, сколько коронованных в двадцать лет уже делали великие дела, такие, о каких их старые предшественники и подумать не смели.
— Я не знаю Англии, — сдержанно возразил Семенов, — но знаю, что у нас жизнь гораздо свободнее английской.
— О, господи! — могла только воскликнуть Горенко и во все глаза с интересом стала смотреть на Семенова.
— Не знаю, — скромно развел руками Семенов, — я знаю, например, что англичанка, в сравнении с русскими женщинами, раба… В Англии женщина — полная принадлежность семьи, и только самые близкие друзья впускаются в эту семью… И я… — Семенов убежденно уставился в платье Горенко, — вполне разделяю их взгляды.
Рыльский, подошедший в это время и слушавший Семенова с обыкновенным выражением в подобных случаях злой иронии, заметил:
— Вот бы тебе в Англию.
— Мне и у себя на родине хорошо, — язвительно, не смотря, подчеркнул Семенов и встал. Шаркнув ногой, он с высоко поднятой головой, красный, выпячивая грудь и набирая в себя побольше воздуху, пошел, отдуваясь, к передним рядам.
— Н…наконец, е…естественный в…возраст… о…одинаковый во… все века, к к…которому и должно приспособляться человечество… Вот как пшеницу сеют, можно и… и до осени сеять, но почва будет продолжать свое дело… и, сильная в период образования зерна, для весенних задач бу…будет не годна больше.
Он замолчал, встал, неловко поклонился и, задевая по дороге все, пошел наверх.
— Какой симпатичный этот Берендя, — сказала Горенко подошедшему Моисеенко, — носится себе там где-то в своих облаках…
— Диоген… О чем они тут горячились?
Горенко вкратце передала содержание.
— Какое смешное животное этот Семенов, — усмехнулась она, кончив передачу.
Моисеенко вздохнул.
— В отдельном экземпляре смешное, но в стаде подобных — страшная сила… Хуже бизонов.
Когда на эстраду вышел Леонид Николаевич и неловко поклонился, гром аплодисментов рассыпался по зале.
Лица собравшихся засияли удовольствием, смотря в молодое умное лицо лектора.
— У него очень умное лицо, — заметила Аглаида Васильевна, внимательно рассматривая его в лорнет.
Долго не умолкали овации.
Лицо Леонида Николаевича, сперва спокойное и безучастное, оживилось, глаза загорелись веселым огнем, и, когда аплодисменты стихли, он заговорил тем живым голосом, каким владел только он, голосом, который сразу приковывал к себе все внимание слушателя.
— Господа! — начал добродушно Леонид Николаевич. — Говорят, в доброе старое время тридцатых и сороковых годов жил один усердный поклонник своего времени. Усердие свое он простирал до того, что, не довольствуясь общеустановленной строгой цензурой тех времен, завел себе на свой счет цензора, обязанность которого состояла в том, чтобы красным карандашом вычеркивать из того, что он читал, все то, что могло его огорчить. Об этом в свое время много говорили, смеялись, но оригинал продолжал себе жить и испытывал своеобразное наслаждение в добровольном лишении себя знать истину, полагая, вероятно, в этом всю свою гордость.
Эта истина, однако, оттого только, что была отдана в бесконтрольное ведение карандаша, от взмаха этого карандаша, конечно, и не думала исчезать с лица земли и вся до последней строчки появилась в той горькой чаше, которую пришлось испить всем до дна в тяжелые дни севастопольской кампании. Оригиналу поздно стало ясно, что это добровольное нежелание знать истину создало то положение, по которому, в силу вещей и законов, истина нашла себе другие двери в жизнь и двери эти оказались более пагубными в своей совокупности, чем то, что, по частям и своевременно узнанное, послужило бы, может быть, к совсем другой развязке. В этом примере сила рутины и неспособность самому с ней справиться так очевидна, что ясно, что самый большой наш враг — эта рутина, сидящая в нас. Работа в этом направлении над собой, приобретение способности самопознавания и вытекающее из этого самопознавания уважение к своим и чужим правам и есть главнейшая светлая задача воспитания и образования. Я не разделяю этих понятий, обыкновенно относимых — одно к душе, другое к уму: душу надо понять тем же умом, и только достаточно развитой ум поймет, что этой душе нужно, чтобы эта душа была действительно душа, а не кусок старой подошвы, наподобие души Китая, которая уважается и чтится там только по количеству шариков.
Говорят, заводить речь об образовании поздно, говорят, это старый и скучный вопрос, давно решенный. Я не согласен с этим. Нет решенных вопросов на земле, и вопрос образования — самый острый и больной у человечества. Неизбежно и необходимо возвращаться к нему, как необходимо пахарю опять и опять возвращаться к своей ниве. И это не старый, скучный вопрос — это вечно новый вопрос, потому что нет старых детей, и жизнь — нива все новых и новых посевов.
Господа! Эта нива пахаря — нива жизни. Эта нива и идущий по ней плуг — закон суровой необходимости, закон, который имеет достаточно силы, чтобы неутомимо и безжалостно волочить за собой тех, кто не может уразуметь вечный и неизбежный смысл его. Чтобы чувствовать и понимать, чтобы охватить этот смысл, надо уметь смотреть вперед. Как для того, чтобы рассмотреть окружающую нас местность, надо взбираться на самую возвышенную точку, а не лезть в ямы и болота, откуда ничего не видно, так и в образовании людей необходима эта возвышенная точка, эта его обсерватория, с которой он мог бы общим взглядом всегда окидывать и свою, и окружающих его деятельность. И чем выше эта его обсерватория, тем производительнее работа, тем меньше риску потеряться и застрять в дебрях жизни. Высотой этой обсерватории, полетом мысли нации делятся на культурные и некультурные, миссии их бывают или исторические, — правда, путем страдания, но они все-таки несут людям высшую формулу человеческой жизни, — или же жизнь народов сводится к зачаточной и прозябательной. Народы Азии и Африки уже обречены на вечное рабство. Громадные полчища Ксеркса легли под ударами десяти тысяч осмысленных людей. Четыреста миллионов китайцев, несмотря на массовую стадность, — только жалкая игрушка в руках горсти англичан. Славянские народы, пример более поздней эпохи, все они не свидетельствуют ли все о том же суровом и неизбежном законе истории, ясно говорящем, что время не ждет и не прощает ни одного потерянного мгновенья.
Сознавать это — вот вторая высокая творческая цель современной школы, и поскольку эта цель осуществима, постольку и гарантия у государства в его дальнейшем существовании. Создать это сознание и укрепить его на надежных якорях — вот спасительная работа этих будущих работников своей страны, работа, только с осуществлением которой жизнь людей перестанет быть вечным, бесплодным толчением воды, наподобие Китая, где все поколения приходят и уходят, не принося ничего в предопределенную на веки веков форму. В наш век исключительного прогресса, век пара и электричества, в век нравственного обновления человеческого духа, — больше чем когда-нибудь, проникая всю роковую неизбежность, нужна сила, чтоб поспеть за другими. Не вяжите же бесполезных камней на ноги тем, кому и без того предстоит тяжелый путь в гору жизни. Не кормите трухой вашу силу, потому что вам сила нужна, а не бессилье, и только сила может вытянуть груз туда, куда спешат вытащить его другие и, как победители, заставят и вас, но как рабов, делать все-таки эту работу: так горсть людей, стоящих на горе, двухсотмиллионное население Индии заставляет работать на себя. И если уж нельзя иначе — давайте волю всем вашим эгоистическим инстинктам, но пусть же этот эгоизм в ваших же интересах будет хоть эгоизмом, освещенным светом Запада, а не светом кочевников Востока, потому что судьбы Востока и Запада так различны, что выбора между ними быть не может: Запад свободен и хотя тяжело, но идет к выходу, а Восток — вечный раб того же Запада. Не Восток, не Запад — середина между свободой и рабством, и больше нет никакого выхода, и из трех дверей самые выгодные, очевидно, двери Запада. Выгодные, неизбежные и в истории благодарные. Великий Петр и сын его Алексей полтораста лет тому назад еще решили и осветили этот вопрос.
Леонид Николаевич в таком же страстном тоне перешел к вопросам бесцельного переутомления учащихся, к нравственному истощению организмов, к подрыву уважения к себе, к потере аппетита к жизни, к нравственному малокровию, худосочию и ко всем ужасам болезней, связанных с этим худосочием. Иногда расплываясь, увлекаясь, гоняясь за примерами, в общем, он нарисовал сильную, яркую картину человеческого прогресса и на этом пути прогресса, растянув все существующие силы человечества, рельефно связал застой и движение на нем с тем, поскольку истинное знание проникает в школы народов. Тут были разобраны и реальная Америка, и десять тысяч китайских церемоний, и латинская кухня схоластики, и мересхедесы Востока.
Он перешел к идеалу школы, и пораженный Берендя сидел и слушал все то, что зарождалось уже в его голове. Лучистые глаза Беренди горели таким гордым счастьем, какого он никогда не испытывал. Это счастье заключалось в том уважении к себе, которое Берендя впервые осязательно чувствовал. Эта внутренняя сила, которая толкала его на путь разных философских вопросов, была не жалким маньячеством: его мысли — мысли гимназиста — уже так поразительно сходились с мыслями этого выдающегося молодого учителя. Берендя слушал и сам не верил своим ушам и снова, наклонив голову, прислушивался, довольный и счастливый.
Как-то вскользь Леонид Николаевич коснулся и славянофильства, назвав его пагубным источником обскурантизма, потому что основание уважаемых людей этого учения построено не на общем законе человеческой жизни, а, напротив, на произвольном, ненаучном положении «другого теста». Такие учения тем и страшны, что, неся в себе произвол, дают только предлог в дальнейшем своем развитии людям тьмы пользоваться ими для своих неосмысленных целей. Такие учения не привязывают вас к якорю спасения общечеловеческой жизни, а подобны тому, как если бы человек для определения нужной ему прямой полагался не на данные, вне его находящиеся (вехи, компас), а на свою внутреннюю уверенность, что его глаза его не обманут. Такой человек может думать, сколько ему угодно, что идет он по прямой, но компас самосознания остальных, определяющий эту настоящую прямую, и факты действительной жизни — третья высокая задача воспитания будущих руководителей своей родины.
— В настоящее время зарождается новое учение опростителей — народников,[65] — учение, по своей нетерпимости, носящее в себе все признаки отупения, те признаки, которые так характерны в изуверствах наших раскольников, в поклонниках Мекки и в ревнителях схоластической школы. С историей в руках, с ясным сознанием закона необходимости, все это те же темные силы, которые могут только предлагать свести человечество с торной дороги и закрутить его в непроходимых дебрях старых печатей, старых книг, младенческой формы, так же пригодной для восприятия новой жизни, как желудок младенца годится для пищи взрослого, чрез опыт жизни прошедшего мудреца, или как дичок-яблоня может заменить культивированный сладкий плод. Отсутствие истинного знания, отсебятина, нутро — во всевозможных соусах и видах — вот отличительные признаки этих учений, этих доморощенных дикарей цивилизации, ломающих голову, как бы из своего пальца высосать то, что отвергают: знание истории человечества, примеры общечеловеческой культуры, понимание законов исторической необходимости, от которой так же нельзя уклониться, как и от вращения вместе с землей, с которой мы принадлежим и составляем ее законное, на общих началах построенное естество. Народ — да, но народ самосознающий, а этого самосознания нет без культуры.
То место речи, в котором Леонид Николаевич так резко отказался от приписываемой ему связи с славянофильством, было встречено с живым восторгом Корневым, Долбой и Рыльским. Они насторожились, и Корнев, довольный, толкая в бок то Рыльского, то Долбу, искал внизу глазами Моисеенко.
Но когда Леонид Николаевич перешел к народникам, Корнев уже с беспокойством и тревогой, найдя наконец Моисеенко, стоявшего у колонны, смотрел ему в лицо. Моисеенко неопределенно смотрел на Леонида Николаевича, и по его лицу Корнев ничего не мог сообразить, что говорил Леонид Николаевич: дело или, что называется, зарапортовался. Так же молча, не выражая больше ни восторга, ни разочарования, насторожившись, сидели Долба и Рыльский.
Лицо Беренди, напротив, продолжало по-прежнему сиять, и он победоносно смотрел то на Картышева, то на Вервицкого. Вервицкий, упершийся кулаком на барьер и положивший на кулак свой подбородок, сидел, сонно смотрел и, тревожимый взглядом Беренди, раздраженно только сдвигал брови: это возбуждение Беренди и раздражало и обижало его, — он сравнивал Берендю с мухой на рогах вола и чувствовал за своего друга всю унизительную глупость его.
— Ну же, оставь! — наконец не вытерпел Вервицкий, раздраженно огрызнувшись на Берендю, — слушать мешаешь.
Карташев давно потерял связь и только мгновениями ловил себя на том, что думал в это время и о деревне, и о матери, и о товарищах, и только никак не мог сосредоточиться и слушать Леонида Николаевича. Взгляд Беренди сосредоточил его на мгновение, и, прослушав внимательно о народниках, Карташев согласился и кивнул головой Беренде в знак своего согласия. Он даже обрадовался словам учителя: этот взгляд не шел так вразрез со взглядом матери, — разрез, который ставил его в безвыходное положение какой-то оппозиции, обреченной жить чем-то таким отвлеченным, к которому никак не подмостишь ни сердца, ни всего того, что наполняет повседневную жизнь, что требовало общения, примирения, любви, деятельности, за что кричал весь организм, кричал назойливо, настойчиво и представлял страшный довод: у человека не две жизни, и жить жизнью бесплодной смоковницы нельзя, невозможно.
Леонид Николаевич кончил, и гром аплодисментов посыпался по зале. Все слилось в это мгновенье в выражение горячего одобрения человеку, который дал вдруг всем точно какую-то свежую ванну души. Умытые в этой ванне, глаза молодежи горели, удовлетворенные, счастливым огнем. В эту минуту они были опять теми же одухотворенными энтузиастами, увы! какими уже переставали себя чувствовать. Как-то обнажилась снова параллель жизни будничной, прозаичной, жизни отупенья, с этой другой жизнью подъема, взгляда с птичьего полета. Чувствовались крылья и желание лететь. Отрадным было и сознание, что работа над своим развитием дала плоды, — они понимали, интересовались и не только понимали, но шли дальше — делали свои выводы, готовы были идти навстречу, и гордость удовлетворения завершалась сознанием, что все это для них так же интересно, как и для самого Леонида Николаевича. И это была не фраза, не раздутое чувство, а искренняя правда, и радость этой правды горела в счастливых глазах юношей.
Карташев встретился с недоумевающими, обиженными глазами нового учителя латинского языка и дико заревел «браво», отбивая с новой силой свои вспухшие ладони, смотрел на него и жег его огнем своих красивых глаз. Эти глаза злорадно, страстно кричали ему: «Я последний, да? я последний? А ты? Теперь ты понимаешь, кто ты?»
Оскорбленный учитель молча, с достоинством поднялся, пробрался сквозь ряды и вышел из залы.
Все были довольны устроенным вечером.
Берендя, возвращаясь домой, шел, как говорится, не чувствуя под собой ног. Праздник был в его душе, праздник в этом таинственном сумраке ночи, в этих весело, спешно бегущих облаках по темному синему небу. Воздух был мягкий, теплый, какой иногда бывает на юге в позднюю осень. Там и сям под воротами, прижавшись, сидели парочки, о чем-то таинственно шептали и приятно раздражали нервы философа. Он свернул к дому, где жила Фроська, и осторожно стал пробираться у забора. Заслышав голоса, Берендя притаился и начал слушать. Говорили Фроська и Яшка, возвратившийся из плавания. Философ узнал горькую истину и тихо, беззвучно пошел к себе…
На другой день было воскресенье, и Берендя, долго не спавший с вечера, проспал до десяти часов. Первая мелькнувшая мысль была о вчерашнем торжестве и признании его мыслей. Вторая мысль была о Фроське. Берендя, лежа на кровати, замер с закинутыми руками за голову и смотрел перед собой. В теории выходило все к лучшему, но на практике он чувствовал какую-то боль в сердце, точно это была ссадина и к этой ссадине прикасались вдруг то жирные волосы Фроськи, то взгляд ее, тупой и безучастный. В общем, жаль было, шевелилась какая-то ревность, какое-то чувство тоски о том, что он, в сущности, любил эту грязную Фроську, а она не любила и даже смеялась над его чувством. Было и обидно, и больно, и стыдно и за себя и за Фроську. И опять над всем этим поднималось розовое облако радости вчерашнего вечера, и Берендя опять тонул в ощущениях и переливах своего удовлетворения.
Целый день он провел дома. Ему никуда не хотелось идти, потому что он боялся, как бы не разбилось его праздничное настроение. Он взял скрипку… Мягкие, нежные звуки ласкали его душу, и, положив голову на скрипку, он смотрел счастливыми задумчивыми глазами куда-то вдаль, в окно, за те крыши домов, в тот прогалок, где виднелось готическое здание церкви бульвара. Там, где-то в воздухе, в этих крышах, была Фроська и ее коварный друг, было мирное прощающее чувство и сознание, что область высшего счастья и для Фроськи, и для ее любовника навсегда закрыта и за право на это счастье он, Берендя, по справедливости должен был уступить им место. И он уступал со всей готовностью обладателя более высшего счастья. Мысли Беренди унеслись далеко.
Там, в маленьком захолустном городке, живет его семья — бедная мать, задавленная нуждой жизни, отец, отравитель своей семьи и сам неосмысленный страдалец, сестры, больные, раздраженные, создания без мелодии, без аккордов тех высших звуков, которые мирят с жизнью, заставляют ловить себя в этой жизни жадным привычным ухом и заслоняют собою и блеск богатства, и жажду всего того, что только отравляет жизнь и делает из людей сухих, бездушных эгоистов. Если он будет когда-нибудь зарабатывать больше того, что нужно, чтобы быть сытым, он отдаст все деньги своим несчастным сестрам, отдаст всем тем, кто видит в них счастье, а себе, себе он возьмет ту область человеческого духа, с которой, как вчера сказал Леонид Николаевич, жизнь людская видна, как с высоты маяка. И если с этой высоты ему, сторожевому, удастся вовремя увидеть грозящую людям опасность, какое счастие будет иметь возможность закричать: «Берегись!»
«Алкоголик!» — тревожно пронеслось вдруг там, между домами, и тоской предчувствия, тревогой и страхом охватило Берендю. Он положил скрипку и молча подошел к другому окну и смотрел в угол пустого забора.
— Ну-у! — капризно махнула рукой ему Фроська, выглянувшая из-за забора и не ожидавшая встречи с ним.
Она не знала того, что знал Берендя, и ее жест, в другое бы время принятый как жест любовного заигрывания, открыл вдруг Беренде всю ее смущенную душу, смущенную оттого, что она должна обманывать, и этот жест вдруг точно осветил ему все его знакомство с Фроськой, все ее движения, всю подавленность и забитость ее поведения. Он был невольным палачом ее, он сам, не сознавая своей роли, заставлял ее обманывать, лгать и мучиться муками такого унижения, какого до этого момента он, Берендя, и представить себе не мог. «О, какая страшная вещь жизнь!» — подумал с искренним ужасом молодой философ, и как без этого фонаря, впотьмах, без этой высоты, как можно давить, гнести и не сознавать даже своей роли палача!.. Он все объяснит Фроське, и, счастливый, облегченный за нее, он уже видел веселый, доверчивый взгляд этой несчастной, когда она поймет, что ему больше не надо ее продажной любви, что дорога она ему уже не как мясо, а как Фроська, жалкое изобиженное судьбой существо с образом и правдой божией в своей все-таки чистой душе.
— Да, я алкоголик, — это сократит мою жизнь, будет отнимать часть времени, но остальное время мое, и все оно людям, все оно знанию, все на постройку моей обсерватории.
Берендя сел за свои книги, читал, записывал и в антрактах ходил большими шагами по комнате. Под вечер его потянуло было к компании, но он знал, что компания уйдет в театр и теперь, вероятно, наряжается: приделывает усы, надевает парики и очки, чтобы не быть узнанными гимназическим начальством.
Перспектива этого мальчишества, грустные впечатления оперетки отбили в нем охоту куда бы то ни было идти. Он рад был, что и Василий Иванович с Петром Семеновичем не посетили его. В сумерки он вышел на улицу и, поманив Фроську, пошел на бульвар.
Когда она пришла, он, усадив ее на скамью глухой аллеи, рассказал ей все, что узнал. Фроська страшно было испугалась и, совсем растерявшись, принялась было, даже как-то захлебываясь в голосе, всхлипывать. Кое-как Беренде удалось ее успокоить и растолковать ей свою будущую роль в ее жизни.
Фроська вздохнула и вдруг произнесла осмысленным, сознательным голосом покровительства:
— Добрая душа.
Из этого ответа Берендя увидел, что он был понят, увидел, что отворилась для него дверь в другое отделение души Фроськи — отделение, хозяином которого отныне делался он, и только он, и где конкуренции он ни с кем не боялся.
Берендя протянул ей руку и сказал:
— С…слушай… я твой друг навсегда. К…когда только надо, д…днем и… ночью, иди ко мне. Так?
— Так, — ответила Фроська своим опять апатичным и равнодушным голосом.
Берендя спал легко и хорошо в эту ночь. Перед сном, когда он уже лежал в кровати и потушил свечу, ему вспомнился смешной эпизод его далекого раннего детства. Закутанный в мамкин платок, он играл у завалинки на пригреве веселого солнца весны. И все так радостно было вокруг него, и он был центром, маленьким фокусом этой радости. Счастливый, водянисто-желтый и вздутый, он приседает на своих кривых ножках, топчется и благодарит в избытке своего счастья и этот веселый день весны, и этих мошек и козявок, которые ползут, торопятся и спешат, конечно, к нему, чтобы своим видом еще большей радостью наполнить его маленькое счастливое сердце. Ах, сколько их! — маленький Берендя усердно приседает и кланяется, кланяется так торопливо, точно боится оскорбить своим невниманием всех этих букашек.
Но они не только на земле и завалинке, и в воздухе, и кругом на деревьях, а вон птички, мухи, и еще что-то, что так звенит, звенит и вдруг село прямо на его маленькую ручку.
— И вы прилетели, — приседает счастливый обладатель несметных богатств, — вы кто?
И его напряженная радостная физиономия ждет ответа от прилетевшего комара.
«Вот я тебе покажу, кто я», — точно говорит комар, вертясь и удобнее примащиваясь на маленькой ручке жизнерадостного философа.
Лицо мальчика вдруг искривилось от боли. Озадаченный, потрясенный, он не вытерпел и, осторожно отстраняя комара, произнес возмущенным до глубины души голосом:
— Слушайте… так нельзя… уходите.
Берендя усмехнулся, подумал, что, если бы Вервицкий знал этот эпизод, он засмеял бы его, и прогнав из головы это воспоминание, которое любила рассказывать ему мать, наблюдавшая эту сцену, заснул спокойным, безмятежным сном.
XXI
Первый урок в понедельник был латинский, два часа кряду. Берендя, наскоро одевшись и умывшись, успел утром за чаем перелистать и грамматику, и скандовку сатиры Горация. Собрав книги, накинув пальто, в шапке, сдвинутой немного на затылок, расплывающийся, лучезарный и приседающий, он пошел в гимназию, поражая проходивших мальчишек своими лучезарно-желтыми расходящимися глазами. Прежде, в дополнение к впечатлению, к этим глазам присоединялись и женоподобные мягкие волосы, и в рамке их все лицо Беренди имело какое-то странное выражение женщины. Но теперь эти волосы, по строгому требованию, были коротко острижены, и с непривычки лицо Беренди казалось каким-то помолодевшим и смешным.
На последнем перекрестке перед гимназией его увидел Вервицкий, остановился и ждал.
— Черт знает, — сказал Вервицкий, — сияет на весь квартал. С тебя скоро капать станет жир. Терпеть не могу такой самодовольной рожи.
Всю эту тираду Вервицкий выпалил еще издали и, когда Берендя подошел вплоть, проговорил, пожимая ему руку, совсем уже другим голосом:
— Здравствуй.
— С…слушай, разве я пополнел?
— Ерунда… что ж наш журнал, еще будет?
— Не… не знаю… Корнев и Ка…Карташев…
— Ничего не выйдет, — махнул рукой Вервицкий. — Я возьму да и отдам свой рассказ в газету.
— Ты… ты думаешь, напечатают?
— Отчего же не напечатают, — обиделся Вервицкий. — Ерунду такую печатают, что читать совестно…
Он набрал полный рот слюней и сплюнул на сторону. Потом, приставив палец к одной ноздре, выпустил содержимое в ней на панель и проделал то же с другой ноздрей. Затем вынул из кармана платок, обтер нос и наконец сосредоточенно сказал:
— Это самое здоровое, так сморкаться, — ты продуваешь нос, как трубу.
Берендя, при всем своем уважении к другу и страхе обидеть его, не удержался от улыбки. Тем обиднее она показалась Вервицкому.
— Смеешься, потому что глуп. Что я — свое говорю? Ты сначала вот прочти там, где я прочел, тогда и смейся.
— В к…календаре? — подпустил Берендя.
Вервицкий хотел было уже совсем смешать с грязью Берендю, но, посмотрев вдруг на его самодовольное лицо, с искренним соболезнованием проговорил, качая головой:
— Дурак, дурак!
Берендя только замотал головой со своей типичной манерой и принялся, вместо былой бороды, гладить свой бритый подбородок.
— А з…знаешь, отчего я кажусь пополневшим?.. о…оттого, что обрился.
— Оттого, что у тебя разжиженье мозга начинается… это всегда первый признак, когда человек начинает вдруг ни с того ни с сего толстеть.
— О? — испуганно встрепенулся Берендя. — А отчего эта болезнь?
— Вот тебе и о! Это вот кто черт знает чем занимается, тот и заболевает.
— Как черт знает чем занимается?
— Вот чем ты занимаешься.
— Че…чем я занимаюсь?
— Тем самым.
— С…слушай, какую ты ерунду говоришь.
— Вот тебе и слушай.
— Да ей… ей-богу, я ничем не занимаюсь.
— Ну, это ты себя морочь, а меня оставь… Довольно посмотреть на человека, чтобы это сразу узнать.
Берендя шел рядом, думал и ничего не понимал.
Вервицкий еще набрал полный рот слюней и энергично сплюнул.
— О…откуда у тебя столько слюней? — спросил Берендя.
Но Вервицкий не удостоил его ответом и, круто повернув в калитку, зашагал по гимназическому двору.
Приятелей ждала грустная новость. Корнев, Долба, Семенов, Дарсье и остальные, бывшие в классе, сидели на скамьях, стояли, смотрели друг на друга и молчали.
— Леонид Николаевич больше не учитель, — объявил вошедшим Корнев.
Берендя, только было собравшийся по старой памяти приводить свою шевелюру в порядок, так и остался с поднятыми руками. Вервицкий на ходу выслушал и так же стремительно, как шел, добрался до своего места, сел и только тогда начал соображать.
— Леонид Николаевич больше не учитель, — повторил Долба вошедшему Карташеву.
— Что ты врешь? — изумился Карташев.
Определенного никто ничего не знал. Вчера было объяснение с попечителем, и Леонид Николаевич подал уже прошение.
Вошел Рыльский, и его встретили тем же известием.
— Да, да, — ответил сосредоточенно Рыльский.
Он молча, серьезно поздоровался со всеми, вынул из кармана газету и сказал:
— Я сегодня за чаем узнал: здесь все описано.
Все тесной толпой с напряженными физиономиями обступили его. Рыльский сухим, резким голосом прочел газетный слух. Стоустая молва приписывала все дело усердию учителя латинского языка, который все представил совсем в ином свете.
— Каков гусь? — саркастически бросил Рыльский.
Раздраженье успело только охватить учеников, но не вылиться. В класс влетел учитель, красный и встрепанный больше обыкновенного.
Ученики молча, нехотя расходились по своим местам. У Беренди точно провалилось что-то, и он сидел пустой и ошалелый.
Рыльский раздраженно смотрел боком на волновавшегося за своим столом учителя и вдруг вынул газету. Он сел поудобнее, развернул ее и, хлопнув, отставил от глаз подальше, как это делают старики, когда читают.
Класс замер и впился в учителя: знает ли он, в чем дело? Он знал! Белый, как стена, он едва слышно спросил:
— Рыльский, что вы читаете?
Рыльский вполоборота, придерживая шнурок pince-nez, насмешливо ответил:
— Газету — интересное сообщение из нашей гимназии.
— Дайте мне газету, — мог только прошептать учитель. Рыльский поднял брови, подумал и, хлопнув по газете, пренебрежительно, через плечо передавая ее Корневу, проговорил:
— Передай.
Но учитель сам уже вскочил и, выхватив газету, бросился было с ней из класса. Несмотря на то, что все это продолжалось не более двух-трех мгновений, класс охватило то массовое волнение, когда самообладание уже теряется.
— Шпион! — заревел вдруг, не помня себя, Берендя, вскакивая с места.
Учитель на мгновение прирос к месту, и он и Берендя впились друг в друга глазами, но в это время уже и другие, все как один, ревели, не помня себя:
— Шпион!
— Подлец!
Но учителя уже не было в классе. По коридорам забегали встревоженные надзиратели, отворяли двери в классы, что-то шептали учителям и бежали дальше.
Учителя, одни с тяжелой, удрученной физиономией, другие, как учитель немецкого языка, бойко и возбужденно, выходили из своих классов и направлялись в учительскую.
Какая-то гробовая таинственная тишина воцарилась во всей гимназии, и, несмотря на то, что начальство исчезло, все сидели, молчали и не двигались с места.
Через пять минут дверь учительской распахнулась, и в коридор вышел директор, бледный, с бегающими взбешенными глазами, с своей длинной бородой и острым носиком, и, наклонив голову, мелкими шагами направился в седьмой класс.
— По определению педагогического совета Рыльский исключается из гимназии; Берендя исключается без права поступления куда бы то ни было…
Директор остановился, опустил голову, сделал властное движение рукой, пальцами указывая на дверь, и, изогнувшись, проговорил, раздувая ноздри:
— Вон!
Рыльский, бледный, серьезный и сосредоточенный, вынул свои книги, шапку и прошел мимо директора с высоко поднятой головой, не удостоив его даже взглядом.
За ним, с задней скамьи, приседая растерянно, потянулся Берендя, не сводя своих ошалелых глаз с освирепевшего директора.
— Всему классу за поведение три, и если эта отметка сохранится до экзаменов, то выпуска в этом году не будет, — объявил директор.
Берендя возвращался домой по тем самым улицам, по которым всего полчаса тому назад шел такой удовлетворенный и полный счастья. Но какая страшная разница в его положении! Такая страшная, что ни охватить, ни уловить ее во всем объеме Берендя не мог. Он только бессознательно шептал: «Ну, что ж? Ничего…» Там где-то в нем вдруг точно образовалась какая-то брешь, и в эту брешь вынесло вдруг его, и он был на какой-то высоте, ощущал какой-то выше себя порыв. Теперь он опять внизу ниже, чем был, в какой-то пропасти, и осталось только ощущение этой бреши — тяжелое, тоскливое сознание невозможности заделать, уничтожить ее… Иногда в ней, в этой бреши, вдруг мелькали лица отца, матери, сестер, и во рту делалось сухо, так мучительно сухо, точно вдруг уставал он, потому что шел без устали целую вечность. И опять какой-то сгущенный туман заволакивал вдруг все. Бессознательно, автоматично он вошел, наконец, в свою комнату.
Рабочее утро смотрело в окно, то утро, которое он никогда не проводил дома. Все так же, как и было. Солнце весело играло на полу, на пыльном ящике скрипки, на книгах!
«Книги!» — бессознательно шевельнулось в голове Беренди, и вдруг другая мысль, что его навсегда выгнали, молнией осветила его, и не столько эта мысль, сколько все последствия этой мысли и все безвыходное положение, в каком он сразу очутился. Силы вдруг оставили Берендю: закружилась голова, затошнило, и, чтоб не упасть, он лег на кровать. Он лежал бледный, с широко раскрытыми сухими глазами и смотрел в потолок. Понемногу им овладела такая слабость, что он уже не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Сознание возвратилось, но тоже какое-то отдаленное и ограниченное: он лежал, смотрел в потолок, почувствовал, что устал, хочет уснуть и теперь может уснуть. Берендя закрыл глаза. Какая-то бесконечная тишина охватила его; точно он сразу оглох и перестал воспринимать все впечатления внешнего мира. Тихий, безмятежный покой разлился по его существу, и без мысли, без чувства, словно все это угасло или провалилось куда-то, Берендя заснул крепким, спокойным сном.
Он проснулся, когда солнце было уже близко к закату. Первая мысль его, спокойная и ясная: где он? Вторая, с последней уносившейся надеждой: не кошмар ли все, что было?! Нет, не кошмар. Берендя быстро поднялся и сел на кровати. Его выгнали?! Что ж он будет делать?
Ему вдруг стало страшно: страшно себя, страшно быть в этой комнате, и, охваченный ужасом, он бросился к фуражке и пальто.
Он вышел на улицу, постоял и пошел к Вервицкому. Какая-то нелепая надежда на что-то шевелилась в его душе.
Вервицкий сидел в своей комнате и, заткнув уши, зубрил Кюнера.
Он вскинул глазами на Берендю и продолжал зубрить. Вервицкий был возмущен и Берендей и Рыльским. Он ругал их эгоистами, из-за которых пострадал весь класс.
Берендя молча сел на стул и терпеливо ждал. Наконец Вервицкий кончил, отнял руки от ушей и, пригнувшись, уставился в Берендю.
Берендя старался равнодушно выдержать непонятный для него взгляд друга, поматывал головой и гладил рукой подбородок.
— И рад! — проговорил Вервицкий и закачал головой.
— Что… Что ж, мне плакать?
— Дурак ты, дурак, — с самым искренним отчаяньем сказал Вервицкий.
— Ну…ну, что ж, что дурак? Э…это я с…слышал д… давно.
— Слышал?!
Вервицкий сокрушенно замолчал.
— Ну, что ж?! Лучше вышло? Подумал ты, что отцу, матери приготовил, подумал, в какое положение поставил всех товарищей? Эгоист…
— С…слушай, оставь, — обиженно остановил его Берендя и вытянул свои длинные ноги.
Возмущенный Вервицкий молча решительно придвинул к себе грамматику и начал читать глазами.
Молчание продолжалось довольно долго.
— С…слушай, — робко предложил Берендя, — пойдем к Карташеву.
— Я не пойду, — сухо ответил Вервицкий.
Наступило опять молчание. Вервицкий упорно читал. Берендя сидел. Он в первый раз в жизни, может быть, почувствовал себя оскорбленным.
— С…слушай, — тихо, скорее испуганно, чем обиженно, сказал он., поднимаясь, — прощай…
Вервицкий подавил шевельнувшееся было в нем чувство и, выдерживая характер, молча, не глядя, протянул ему руку.
Берендя тоже молча пожал и вышел. Точно какая-то сила выводила его из этой комнаты и что-то шептало, что он никогда больше не увидит ее. Берендя нерешительно остановился и оглянулся на Вервицкого. Вервицкий все так же читал.
Сверху в окно Вервицкий следил, как мелькали ноги долговязого Беренди, боролся с желанием позвать его назад и не позвал.
Берендя вышел на улицу, подумал и вдруг, потеряв охоту идти и к Карташеву, и к кому бы то ни было из товарищей, пошел куда глаза глядят. Упрек Вервицкого испугал его, оскорбил и осветил вопрос в отношении друзей совсем с другой стороны. Его потянуло на свой бульвар, потянуло к приятелям-пьяницам. Воспоминание о них как-то всколыхнуло его и освежило новой надеждой.
Приятели были действительно на бульваре в своем обычном уголке — поближе к кабаку — и сидели на скамье. Василий Иванович, по обыкновению, дремал, Петр Семенович держал нос по ветру и пренебрежительно, но зорко всматривался в проходивших.
Берендя с первых слов сообщил о постигшем его несчастии. Василий Иванович при этом известии совсем раскис и только растерянно во все глаза смотрел на Берендю. Даже Петр Семенович, как ни привык на все махать рукой, хотя и произнес свое обычное «ерунда», тем не менее в первое мгновение после крякнул и замолчал.
— Ко…конечно, ерунда, — подхватил Берендя и спросил: — А что, не выпьем?
— Выпить-то в самый раз, — ободрился Петр Семенович.
— Ах, боже мой, боже мой! — вздохнул возбужденно Василий Иванович.
Берендя достал деньги, и Петр Семенович молча было поднялся.
— Слушайте… ведь собачий холод, в сущности, — сказал он. — Чего вам теперь стесняться? Идем в кабак… Там сядем себе в углу, и черт нам не брат.
Василий Иванович только перевел глаза с своего друга на Берендю.
— А, черт возьми, все равно, — решительно произнес Берендя и встал.
— Пойдем? — покорно заглядывая ему в глаза, спросил Василий Иванович, и все трое направились к кабаку.
Карташев приходил к Беренде и, не застав его дома, оставил записку, в которой звал к себе.
Уже была ночь, когда Лейба выпроводил приятелей на улицу. Берендя был пьян, все кружилось перед ним, и ноги не слушались и ступали не туда, куда он их направлял. Это занимало его, и он весь сосредоточился на том, чтобы непременно идти так, как он хотел. Но ноги не повиновались, он валился и, усмехаясь, говорил: «Че…черт возьми».
Каким-то инстинктом он все-таки добрался до своего дома и, выдержав стремительную атаку своей ворчливой хозяйки, прошел к себе в комнату и повалился на кровать. И кровать, и он сам, и вся комната вдруг закачались, как в море. Голова Беренди закружилась, и он почти не помнил, что дальше было. Сквозь какой-то сон в окне вдруг мелькнула испуганная, исковерканная ужасом физиономия Фроськи, что-то ухнуло — не то Фроська, не то он сам, и Берендя опять потерял сознание.
Его разбудили уже утром резкие толчки хозяйки.
С перепою, с туманной еще головой он слушал, смотрел, как властно прыгал перед ним жирный живот хозяйки, и ничего не понимал.
За хозяйкой стоял полицейский, и из двери выглядывали еще два-три лица.
— Да говори же ты, проклятый, говори?! — потеряла терпение хозяйка и стала трясти Берендю за плечи. Он тупо, не сопротивляясь, дал себя трясти и хриплым голосом равнодушно спросил:
— В чем дело?
Он провел рукой по лицу и оглянулся по тому направлению, куда тыкал жирный палец хозяйки. Там на полу у окна лежал какой-то чемодан, и на торчащей простыне был большой след алой крови. Берендя с широко раскрытыми глазами смотрел на это кровяное пятно. В нем было что-то такое страшное, что и его кровь стала вдруг стынуть в жилах. В напряженной памяти вдруг мелькнуло ночное видение Фроськи. Он смотрел, вслушивался, и страшная истина начала обнажаться. Хозяина и хозяйку Фроськи зарезали; Фроська исчезла; хозяйка Беренди, войдя утром к нему, к ужасу своему увидела окровавленный чемодан. Зная связь Беренди с Фроськой, она, чтобы оградить себя, бросилась к городовому.
— Глупости все это, — произнес машинально Берендя.
— Нет, голубчик, не глупости, — благим матом заревела хозяйка. — Я женщина честная, одинокая, пустила тебя, проклятого, не на позор свой.
— Господин, — вмешался городовой, — каким манером этот самый чемодан мог очутиться у вас в комнате?
Беренде вдруг стало так пусто, точно весь мир куда-то провалился и никого, кроме этой жирной хозяйки и этого городового, не осталось в нем.
«Что мне с ними делать и куда уйти от них?» — пронеслось тоскливо в его голове. Как прибой и отбой, все мысли отхлынули на мгновение из его головы. «Умереть!» — тихим плеском ударилось в голову бедного философа. И сразу какая-то сила выхватила его из бездны и подняла на недосягаемую высоту. «Смерть — двери в царство свободы!»
Берендя поднял глаза и, всматриваясь спокойно в серую шинель городового, проговорил:
— Я…я убил их… п…пьяный был… рассердился, что Ф…Фроська куда-то убежала, и… и убил их.
Бедная хозяйка отскочила до самой двери.
— У…у меня при…припадки безумия и прежде бы…бывали…
Наступило паническое гробовое молчание.
— Как же теперь? — разводя руками, тихо, точно совещаясь, спросил городовой, — в участок, что ли, его?
Беренде надо было только выиграть время.
— Б…без разрешения ги…гимназического начальства, — быстро ответил он, — нельзя… Н…надо спросить… Во…вот вам мои сапоги… Я…я без них не уйду… В…возьмите чемодан.
Городовой и все другие вышли наконец из комнаты. Берендя остался один, он встал и долго смотрел вперед. Он не жалел и даже радовался этому новому барьеру: смерть — дверь в царство свободы, — твердо засело в его голове. Это был якорь, за который схватился он всей силой, какая была в нем. В эту дверь пройдут все — рано или поздно. В эту дверь ушли величайшие умы и вся суета земли, эта дверь теперь отворяется для него. Отворяется?! Берендя присел к столу, потому что ноги его вдруг ослабели и не хотели больше держать его. Он подвинул какую-то книгу и с горьким чувством оттолкнул ее.
«Нет, не надо больше книг, — сжалось сердце Беренди. — Не надо книг, не надо друзей, никого и ничего не надо».
Лицо Беренди дрогнуло, спазма сдавила горло. Он судорожно схватил карандаш и написал:
«Я не хочу больше жить, потому что жизнь злое и безнаказанное издевательство».
Оскорбленный, он бросил карандаш и, страстно сверкая глазами, закричал в ощущении счастия небытия:
— Я хочу правды, уважения, хочу любви, хочу вечной свободы… И я найду их…
Рыданья оборвали его голос.
Надо было спешить, пока он стоял еще на высоте своей обсерватории и смотрел в бесконечную даль. Там, внизу этой обсерватории, шумела и волновалась какая-то темная разъяренная бездна. Тонкий маяк качался, дрожал в своем основании и вот-вот готов рухнуть туда вниз, в эту страшную бездну, рухнуть вместе с ним, чтобы больше никогда не подняться. Нет, не ему выплыть оттуда, это говорила ему теперь вся его слабая воля. Он уж раз был там, в этой бездне, — он целые сутки был в ней. О! надо спешить, пока не оставили силы…
Яшка в порыве страха, который охватил его вдруг, когда он очутился в сонной квартире мещан, куда забрался, чтобы утащить из комода деньги, зарезал ножом, взятым для самообороны, спящих хозяев. Его страшный глаз сверкал и вместе с ножом, казалось, страстно погружался в мягкое горло его жертв.
Онемелая Фроська так и замерла над этой неожиданной развязкой, стоя у входа маленькой мирной спальни с мерцавшей лампадкой.
Все подернулось ужасом какого-то тумана. Кажется, шевелятся эти зарезанные, или спят они крепко с алой лентой на шее и шевелится только там, в горле, тонкая струйка, что дальше и дальше тянет эту алую ленту. Ирод Яшка что-то шепчет, что-то сует, куда-то толкает. Ох, глаз, глаз его! Не видеть! Страшно!! Темная ночь, пустая улица, кровь на простыне, что торчит из чемодана… Ах, аспид, что он сделал?! Куда ей деться с этим страшным чемоданом? Назад?! К алым лентам?! Желтоглазого квартира?! Фроська стремительно бросилась к окну, распахнула его, заглянула в окно и, бросив чемодан, побежала без оглядки вперед.
— Стой, — остановилась она на мгновенье, — где ждать-то он будет, ирод?!
Она напрягала свою память, хотела вспомнить. Но все тонуло в том же страшном кровавом тумане, сквозь который только отчетливо, рельефно смотрела на нее маленькая комната, два спящих в алых лентах, что шевелятся… Минутами ей казалось, что кто-то гонится за ней, какая-то простыня в крови волочится, и в диком ужасе она неистово бежала дальше и напрягала все способности своего приросшего к чему-то мозга, чтобы придумать какой-нибудь выход.
На рассвете ее остановил грозным окликом городовой.
Она так и обмерла, так и впилась в длинный нос, маленькие глаза, какой-то мягкий пушок, покрывавший лицо и шею страшного городового.
— Стой, девка! Куда бежишь? Говори всю правду без утайки: зачем подол в крови?!
— Ой! Ой! Ой!
Она присела, поднялась опять и в какой-то истоме положила руки на плечи городовому.
— Ну, ну, говори, — смягчая свой суровый тон на тот мягкий и властный, от которого Фроська чувствовала, что никуда уж не денется, поощрял ее городовой.
— Ой, дяденька! Ой! Ой! Ой! дяденька, голубчик ты мой! — откинув голову и не отнимая рук, по временам совсем прижимаясь к городовому, выла Фроська и начала свой путаный, точно страшный сон, рассказ.
По временам городовой терпеливо направлял ее:
— Кто он?.. говори ты по порядку.
В участок привели Фроську, и явился городовой от Беренди. Опытный пристав скоро распутал всю историю и, поняв, что Берендя спьяна чего-то наврал на себя, сам пошел к нему в квартиру.
Но Беренди уж не было в живых.
В простенке между двух окон висел бедный философ с поджатыми коленками и страшными, совершенно разошедшимися и выпученными глазами смотрел твердо и неподвижно на вошедшего пристава. Какая-то загадочная тайна застыла в этих глазах, та тайна, которую точно постиг он уже там, в своей петле, и не смог сообщить ее: только от напряжения нечеловеческого усилия вздулся, посинел и выпучил свои страшные глаза.
XXII
Смерть Беренди произвела потрясающее впечатление между учениками и в их семьях. Шли жаркие, страстные дебаты. Аглаида Васильевна жалела искренне Берендю, но видела во всем недостойную слабость и бессилье его слабой натуры.
— Все, все фальшиво от начала до конца! Несвоевременное развитие, нравственное напряжение и упадок сил — все должно было привести к этому. Ах, это такой наглядный пример той ошибки, в какую дало увлечь себя общество всеми этими скороспелыми учениями Добролюбова, Чернышевского, Писарева. Они, титаны, потянули за собой этих маленьких пигмеев… и сами не справились, и этих изуродовали.
Сердце Аглаиды Васильевны обливалось кровью, когда она вдумывалась, обобщала и связывала в одно все непонятные и печальные явления тогдашней русской жизни.
— Боже мой, люди совсем потеряли голову! Господи, спаси и пожалей бедную Россию!
Новый генерал-губернатор, двоюродный брат Аглаиды Васильевны, приехав, отнесся к ней с той родственной любезностью, на какую она и не рассчитывала.
Товарищ ее мужа, отчасти антагонист с ним по службе, он одно время было совсем отдалился от своей двоюродной сестры. Но теперь обстоятельства переменились — муж умер, судьба свела их в одном городе, где жила Аглаида Васильевна, та самая Аглаида Васильевна, которая когда-то так умела кружить головы, — умная, обаятельная, свободная и неприступная, — и генерал-губернатора потянуло к ней, как тянет всех нас к светлым уголкам нашей молодости.
И Аглаида Васильевна была и тронута и польщена таким вниманием и родственным радушием.
— Ах, какой симпатичный, — твердила она, проводив дорогого гостя. — Ах, какой умница! Вот этакого давно надо было! О-о! с этим пойдет дело!
То, что Аглаида Васильевна только прозревала, то оказалось понятым и выясненным. В общей связи событий ей стало многое ясно из того, что ускользало раньше. Взгляд ее на реформу образования переменился. Аглаида Васильевна точно помолодела и воскресла духом.
— Россия спасена! — говорила она таинственно и радостно.
Когда приехал из деревни на выборы Неручев, она строго накинулась на него:
— Отчего вы не служите? Как вам не стыдно? Вы молоды, полны сил, ваш отец был выдающийся человек, природа не обидела и вас…
Неручев, довольный, улыбался, разводил руками, а Аглаида Васильевна твердила:
— Стыдно, стыдно.
— Сегодня вечером, — провожая его, приказала Аглаида Васильевна, — извольте пожаловать на чай к нам — я вас познакомлю с этим человеком, и вы сами увидите.
— Если к этому и Зинаида Николаевна осчастливит игрой, то, конечно, буду.
— Ну, уж это ваше дело, — усмехнулась Аглаида Васильевна и, ласково кивнув уходившему гостю, повторила: — Так ждем.
— Непременно-с… Хотя от всякой службы вперед отказываюсь.
— Ну, ну, хорошо…
И, оставшись одна с дочерью, она сказала:
— Нет, необходимо вытащить его из деревни: молодой человек, с здравым смыслом… Нет, я заставлю Бориса Платоновича скрутить его.
Борис Платонович, новый генерал-губернатор, невысокий, плотный, красный, в своем генеральском мундире смотрел так, как смотрят люди его положения, власть имеющие: просто, спокойно и в то же время так, что чувствовалось каждую секунду, что он умеет смотреть и иначе и для этого разрешения ни у кого спрашивать не будет. Вся его выправка, вся его фигура ясно говорили одно: поменьше рассуждений, — время разведения бобов прошло безвозвратно и навсегда, и каждому, осмеливающемуся сомневаться, я сумею доказать это круто и скоро.
О строгости и решительности нового начальства ходили целые легенды по городу. Попробовали было оказать противодействие ему — и противодействие было сломано очень скоро. Смена одних другими шла во всех сферах административных и общественных. Генерал всем и всегда твердил:
— Нельзя-с служить и богу и мамоне. Если ты того лагеря, и иди туда, а если же ты присягу принял и являешься представителем существующего порядка, то и будь им не только с виду, — продолжая там где-то сзади выводить свою линию, — но и в действительности: не токмо за долг, но и за совесть… Тогда только и может идти стройно государственная машина… А хочешь фальшить… у меня не нафальшивишь: рта не откроешь, а я уж знаю, и кто ты, и что ты, и где твоя заноза.
Генерал и Неручеву за чаем у Аглаиды Васильевны повторил ту же тираду и, махнув своим широким на белой подкладке рукавом, небрежно принялся намазывать себе кусок хлеба маслом.
— Я, конечно, тоже, — продолжал он, — разделяю взгляд кузины, что общественная деятельность в вашем положении, — генерал вскинул глаза на Неручева, — необходима… Отчего вы не идете в предводители?
Это был очень затруднительный для Неручева вопрос. Неручев не шел, во-первых, потому, что никогда об этом не думал, не шел потому, что никто его не звал, не шел наконец просто потому, что как же так пойти? заявить? Ну, а не выберут? сразу очутишься в глупом положении. В гласные не выбрали… Положим, он знал, почему не выбрали: чтоб насолить за его нежелание якшаться со всякими чумазыми.
— Из предводителей дорога открытая…
— Конечно, ваше превосходительство, но наше время… — Неручев замялся. — Откровенно говоря, время чумазых… и таких, как я, не любят.
— Пустяки, — махнул на него рукой генерал.
Неручев только вздохнул.
— Пустяки, — повторил авторитетно генерал. — Приезжайте завтра ко мне.
— Я, ваше превосходительство, и без того счел бы своей обязанностью.
— Ну вот и отлично.
Генерал после чая уехал, а Неручев остался.
— Ну, как вы его нашли? — спросила Аглаида Васильевна.
— Просто прелесть, — ответил весело, разводя руками, Неручев, — если б я был женщина — я уж был бы влюблен в него.
— Ну, я очень рада… сумейте устроить, — таинственно дружески сказала Аглаида Васильевна, — а теперь вы меня извините, вот вам молодая хозяйка, а я пойду с своей кашей возиться: один — латинский, другая — задачи, третья — педагогика, иной раз сяду и думаю: господи, кажется, потребуйся китайский язык, и по-китайскому стану репетировать.
Аглаида Васильевна ушла и по дороге думала: Неручев значительно изменился с тех пор, как узнал, что Борис Платонович двоюродный брат… «Люди всегда — люди!..» — снисходительно вздохнула она.
XXIII
Похороны Беренди прошли торжественно. Ученики седьмого класса сами несли гроб. За гробом шло много учителей, и в том числе Леонид Николаевич. Точно какая-то стена выросла вдруг между ним и учениками. Только издали смотрели на бледное, разочарованное лицо учителя, но никто не решался подойти. Зачем, что скажешь? Кроме неприятности ему и себе, ничего не выйдет.
Корнев шел, грыз ногти, раздумывал и тянул за певчими: «Со святыми упокой!»
Долба шел, опустив голову в землю, и тоже о чем-то сосредоточенно размышлял. По временам он подымал голову, зорко всматривался в лица окружавших, в лица учителей, встряхивался и опять опускал к ногам глаза.
Рыльский, серьезный, сухой, в pince-nez, с высоко поднятой головой, шел уже в штатском. Он на днях уезжал навсегда за границу и безучастно холодно смотрел перед собой.
Из дам провожала гроб только Горенко. Она шла, кусая свои губки, загадочно смотря то куда-то вдаль, то на гроб Беренди.
Ветер качал пламя свечей, относил назад и вместе с копотью и погребальным пением настраивал на какой-то монотонно-однообразный лад.
Карташев шел, старался сосредоточиться, иногда живо и горячо охватывался горечью минуты, вспоминал живого Берендю и опять уносился куда-нибудь далеко от всего окружавшего.
«Со святыми упокой», — звучат в его ушах низкие ноты Корнева, и он оглядывается, точно проснувшись от какого-то сладкого забвенья, и сразу втягивается в мучительную тоску переживаемого непоправимого момента. Карташев вздыхал так глубоко, как мог, и думал:
«Бедный Берендя немногого искал в жизни и того не нашел. Отчего это так люди устроены, что над ними столько зла делают? И разве нельзя так, чтобы зла этого не было? Можно, конечно, если пожелать его не делать. Но ведь и тот, что цензора себе нанял, тоже, вероятно, искренне желал… Желал, — и зеркало, в которое мог бы видеть и проверять себя, карандашом замазал… Жалко, что журнал наш оборвался… Теперь, конечно, не состоится… Я бы написал столько об этом… Если бы я мог, я бы пришел к государю и сказал: „Государь, я хочу для тебя умереть, я буду до последней капли крови служить тебе верой и правдой, позволь мне только тебе всю правду говорить“».
В далеком углу кладбища скромная вырытая могила ждала своего хозяина.
За ближайшим памятником прятались две оборванных фигуры Петра Семеновича и Василия Ивановича. Василий Иванович напряженно и мучительно не мог отвести глаз от свежего могильного бугра, мигал и по временам вздрагивал. Петр Семенович стоял мрачный и озлобленный и, собственно, не понимал, за каким чертом они пришли сюда. Но каждый раз, как он заводил на эту тему речь, Василий Иванович так взглядывал на него, как будто от того, останутся они или нет, зависела вся жизнь его.
— Слушайте, Петр Семенович, — судорожно, как последнее отчаянное средство, предложил Василий Иванович, — сегодня, сами знаете, похороны Пономарева… ведь дадут? так? Все вам…
— Да, черт!.. Сказал, что останусь, чего ж вам?
Когда на дороге показалась процессия, Василий Иванович пришел в такое тоскливое волнение, что схватил Петра Семеновича за руку:
— Ой! Везут… везут голубчика нашего…
— Да, уж не воротите, — угрюмо сказал Петр Семенович.
Василий Иванович жадно, во все глаза, впился в дорогой ему гроб. Он и не чувствовал, как слезы лились у него по щекам и капали на землю.
Когда гроб опустили в могилу и по крышке глухо застучала земля, когда все, отдав последний долг усопшему, уже собирались надеть шапки и разойтись, — вдруг выступил Долба и, напрягая себя, поборов робость, начал говорить речь. Это было так неожиданно, что смятенье разлилось по лицам слушающих.
— Бестактно, — прошептал сердито на ухо Карташеву Семенов. Карташев только плечами пожал.
Приходилось всем волей-неволей слушать. Долба начал гладко, но витиевато на тему об авторитете. Все слушали молча, потупив головы, и всякий думал свою неприятную думу, мысленно посылая ко всем чертям Долбу за неудачную выдумку. Долба начинал сам чувствовать это, торопился, стал обрываться и, в сущности ничего не сказав, упавшим голосом кончил: «Мир тебе, дорогой товарищ».
— Аминь, — хрипло отозвался Корнев.
— Аминь, — облегченно повторило несколько голосов.
Только что отошел Долба — у могилы вдруг появился расстроенный Василий Иванович. Он стоял и напряженно смотрел своими голубыми детскими глазами, дрожал, и слезы градом лились по его щекам.
— Умер?! — с тоской, всхлипывая, говорил он. — Диоген умер…
Слезы опять остановили его.
— Диоген… солнце закрыли… в могиле… в могиле…
Василий Иванович все напряженнее всматривался, и все сильнее слезы лились по его щекам. Он так и застыл в своей позе, мигая глазами. Казалось, он сам забыл, о чем начал, что хотел сказать. Кто-то поклонился ему и пошел прочь. Один за другим все кланялись и уходили.
— Водкой бы не спаивали этого Диогена, — проворчал сквозь зубы Семенов, шагая рядом с Карташевым.
Когда никого больше не осталось, к Василию Ивановичу подошел Петр Семенович и дернул его за рукав.
— Ну, чего еще? — угрюмо оборвал он его.
— Ушли?! — спросил Василий Иванович. — Все ушли?!
— Ну, идем, — свирепо потянул его за собой Петр Семенович.
— Куда идем?! Петр Семенович, водки надо…
— Нет денег…
— Нет?!
И Василий Иванович скорчил такую отчаянную физиономию, точно это было верхом человеческого страдания.
— Петр Семенович, я достану!
Василий Иванович опрометью бросился к кладбищенским воротам и нагнал толпу расходившихся. Он быстро окинул всех и подошел к Горенко.
— Дайте, пожалуйста, двадцать копеек, — с отчаянием обратился он к ней.
Горенко быстро сунула руку в карман, достала рублевую бумажку и торопливо передала ее Василию Ивановичу. Прежде чем она успела подумать, Василий Иванович поймал ее руку, поцеловал и, счастливый, бросился назад.
— Это бывший учитель, — сообщил какой-то пожилой господин. — Его заподозрил инспектор в воровстве машины, которую, как оказалось потом, сын же инспектора и украл… Все знали об этом…
Общество молча, потупившись, спешило разбрестись кто куда.
История на кладбище в преувеличенном виде разнеслась по городу: гимназисты говорили возмутительные речи, учителя тоже, тут же и бродяги какие-то. Ужас и сознанье, что так не может и не должно продолжаться, охватывали всех и напряженно искали выхода.
Гроза разразилась в лице нового генерал-губернатора. Он неожиданно приехал в гимназию и потребовал сбора всех в актовой зале. Уроки были прекращены, и все, и учителя и ученики, застегиваясь на ходу, спешили в указанное место.
Генерал стоял у дверей и грозно встречал каждого своими твердыми глазами.
Когда собрались все, он дал отрывочное распоряжение:
— Молебен!
Явился священник и регент. Певчие вышли вперед.
Молебен начался.
— Все петь! — повернулся на мгновение к ученикам генерал.
В задних рядах и не слыхали этого приказания. Передние затянули кто в лес, кто по дрова.
Генерал побагровел и, едва дождавшись конца молебна, обратился с громовой речью ко всем присутствующим.
— Я вас научу, мальчишки! — неслись его раскаты по зале. — Разврат, пьянство, курение табаку по улицам! Распущенность! На кладбищах демонстрации. Гимназию разгоню! Камня на камне не оставлю! В бараний рог согну! Крамольники! Бунтовщики! Посягатели на государственную безопасность! Петь не желают. Вы за чем смотрите? Вы для чего поставлены?!
Директор, бледный, растерянно смотрел на генерала, вытянув руки по швам.
— Я вам…
— Молчать! Я научу вас служить присяге и чести! Кто говорил речь на кладбище?
Среди гробовой тишины Долба медленно, боком, бледный, стал пробираться вперед.
— Ты?!
У Долбы рябнуло в глазах.
— Я, — беззвучно раздалось по зале.
— Из дворян?
— Из крестьян.
— Так вот зачем тебе дается образование, неблагодарный?! Вон! Выгнать его сейчас же…
— Сейчас состоится определение педагогического совета.
— Там совет советом, но по моему приказанию.
— Слушаю-с, ваше превосходительство.
Генерал встретился глазами с Карташевым и молча протянул ему через чью-то голову руку. Карташев пожал руку и, покраснев, упорно стал что-то обдумывать.
Когда учеников распустили по классам, Карташев решился и, собрав все свое мужество, бросился в переднюю, где одевался генерал.
— Борис Платонович, — умоляющим голосом произнес он и отвел генерала в сторону.
— Что, голубчик? — ласково спросил генерал.
— Ради бога… не губите… — голос Карташева обрывался, — Долбу… Он ничего не сказал предосудительного… Я был там… вышла только бестактность… это добрый, простой человек… у него не было никакого умысла…
Генерал в раздумье наклонил голову.
— Вы ручаетесь?
— Я ручаюсь своей жизнью.
— Позвать ко мне… этого Долбу.
Долбу привели.
— Вы мне даете честное слово, что больше никогда ни в чем не будете замешаны?
— Даю, — ответил Долба.
— Оставить его, но подвергнуть дисциплинарному взысканию… Благодарите ваших товарищей.
Долго ломало начальство голову, какому взысканию подвергнуть Долбу, и наконец решили: сделать ему официальный выговор.
По распоряжению полиции обоих — и Петра Семеновича и Василия Ивановича — выслали из города.
Рыльский вскоре уехал за границу. Компания на прощанье снялась вместе. Разыскали у Вервицкого старый портрет Беренди. В длинных волосах, в какой-то кокетливой позе, философ с длинными ногами сидел в кресле и загадочно смотрел в публику.
Строгости в гимназии усилились. Ученикам заведены были билеты, в которых точно обозначено было, что допускалось и чего нет.
Новый инспектор, вежливый и ехидный, мучил своих жертв и, поймав ученика с расстегнутой пуговицей, пилил его и доказывал, что его пуговица тесно связана с его безнравственностью. Ученики пятого класса, с ухарским видом, запрятав в рукав закуренные папиросы, ходили по коридору и за спиной инспектора, затягиваясь, глотали дым. Это считалось верхом удали и шика.
Позже семи часов ученики не смели показываться на улице. За этим следили педеля, большею частью из отставных унтер-офицеров. Они ловили учеников и отбирали у них билеты. Иногда ученики откупались от них деньгами, иногда вынимали из кармана какую-нибудь склянку, говоря озабоченно: «Из аптеки — мать больна…» — и спешили без оглядки от педеля.
Иногда и классные наставники в ожидании вакансии начинали с роли педелей.
Всем генералам гимназисты должны были кланяться, но непредупрежденные генералы только с удивлением провожали глазами маленького, нагруженного своим ранцем гимназистика в длиннополой шинели, когда тот усердно вдруг стаскивал свою шапку.
Неручев баллотировался в кандидаты предводителя и получил больше своего товарища шаров. По правилам, предводителем утверждался получивший большее количество шаров.
Обыкновенно в таких случаях вперед уславливаются, и заранее несколько дворян решают кандидату положить налево, чтобы не вышло недоразумения. Пять друзей Неручева и взялись положить ему налево, а положили направо. Прием простой, давший победу Неручеву. Самого Неручева и след простыл на этот день в собрании. Потолковали, покричали, а Неручева все-таки согласно закону утвердили. Его приятели, как виноватые школьники, которым благополучно сошла их проделка, только весело трясли своими удалыми головами. Глава их, высокий, в расстегнутом сюртуке, средних лет дворянин, крепко стоял на своих расставленных ногах, в упор насмешливо смотрел на шептавшиеся кучки дворян и готов был на всякий скандал: в морду так в морду, на дуэль так на дуэль. С нахалом связываться ни у кого охоты не было. К Неручеву примкнули те, для кого успех оправдывает положительно все. Эти с какой-то завистью говорили:
— Все-таки, что ни говори, ловкач!
— Ну, держи ухо востро теперь, — трепал по плечу Наручева в его номере Овсеев, его старый приятель и сосед, чистенький, в золотых очках, причесанный и приглаженный господин. — Как бы тебе на следующих выборах свинью не подпустили… Жох народ… Тоже пальца в рот не клади!
— А этого не хочешь, — быстро показал ему кукиш Неручев, — мелкопоместные-то мои?! Наряжу их во фраки — и марш…
Господин в золотых очках долго с восторгом смотрел в глаза Неручеву.
— Ну, и ловок! Не пропадешь!
Неручев только пренебрежительно вздернул головой.
К удивлению всех Неручев повел земское собрание вовсе не так плохо, как это могло казаться. Вокруг него очень быстро собралась довольно дружная и сплоченная партия: в руки этой партии попало все хозяйство уезда. Говорили много, но нигде, ни в одном уезде все не шло так гладко и тихо, как пошло у Неручева. Его бранили и ругали, но и враги признавали:
— Что и говорить, талант!
Неручев сделал официальное предложение Зинаиде Николаевне, и свадьба была назначена летом в деревне.
— Охота твоей сестре за такую сволочь выходить замуж? — спрашивал Корнев Карташева.
— Ты меня что ж спрашиваешь? Ее спроси… — пожимал плечами Карташев.
Таня в один прекрасный день повалилась в ноги Аглаиде Васильевне, призналась в своей беременности и открыла — от кого.
Что говорила ей Аглаида Васильевна и на чем они с Таней порешили — осталось тайной. В тот же день Татьяна исчезла, появилась в доме новая горничная, и между матерью и сыном не произошло никакого разговора по этому поводу. Некоторое время мать как-то брезгливо избегала сына, но потом все пошло по-старому.
XXIV
Последний экзамен был по-латыни. Со страхом и трепетом готовилась к нему компания, а больше других Карташев. С учителем у него были личные счеты. Еще в злополучный день исключения Беренди учитель на совете настаивал на исключении Карташева, утверждая, что явственно слышал его голос. Но так как учитель в то же время не отвергал и того, что и другие то же самое кричали, то кто-то, поставив вопрос: «всех уж тогда», тем самым требование об исключении Карташева свел на нет. Но учитель решился расправиться с своим врагом и как-то вскоре не удержался и прямо высказал:
— Вам, Карташев, университета при мне не видать, как своих ушей.
Когда затем в гимназии стало известно о родстве Карташева с генерал-губернатором, учитель немного поколебался и в первое время даже решил было отступиться от своей жертвы. Но мстительная натура взяла верх, и Карташев инстинктом чувствовал, что учитель устроит-таки ему пакость.
— Ах, как устал, — говорил Карташев накануне экзамена, — капельки сил моих нет… и ничего не знаю…
День экзамена наступил.
Карташев ушел из дому в девять часов утра и возвратился только в четыре.
Аглаида Васильевна так волновалась, что не могла даже обедать.
Когда в дверях показалась изнуренная, затянутая, но сияющая фигура Карташева, ясно все стало и без вопроса: Аглаида Васильевна бросилась на шею сыну и, не выдержав, расплакалась: тяжелый и трудный конец венчал дело. С постоянным риском сорваться, свести на нет все — он, ее сын, выплыл на свет, стоял на берегу, спасенный от тьмы и мрака бездны. Правда, это был первый только шаг, но какой шаг? Чего он стоит и ей и сыну? Половина волос побелела на ее голове, а он и все они на что были похожи?! Но чего бы ни стоил — цель достигнута.
Аглаида Васильевна встала и, перекрестившись, низко поклонилась образам. Она еще раз поцеловала сына и проговорила:
— Господи, какой ты ужасный… Ну, рассказывай…
Карташев не любил рассказывать, но на этот раз не заставил себя просить.
Он сел на окно и, счастливый, оправляя прилипшие ко лбу волосы, произнес с восторгом:
— Ах, что это было! Я уж и не знаю, с чего и начинать…
— С самого начала, — нетерпеливо, весело потребовала мать.
— Ну, хорошо… Пришли мы… Ну, сначала, конечно, extemporalia…[66] Рассадили нас на каждую скамейку по два… я с краю у прохода, а с другого края Вервицкий. Ну, думаю себе, плохо… от такого соседа не поживишься…
Зина, Наташа, Аглаида Васильевна, Маня, Сережа и Ася — все покатились от веселого смеха.
— Ну, ну…
— Ну, хорошо… Продиктовали нам русский текст и некоторые слова. Я то есть просто ни одного почти слова не знаю…
— Ах ты, скверный мальчик! — весело вскрикнула Аглаида Васильевна.
— То есть буквально ничего: что позабыл, что, как воробьи, вылетели из головы. Сижу и думаю. Что мне делать? Смотрю, учитель встает с этакой своей ядовитой походкой, как кошка… только хвоста не хватает… этакая сволочь… и прямо в мой проход… прошел до конца, возвратился и как стал около меня, так все время, покамест я не написал свой ответ, не отошел!
— Как же ты написал свой ответ? — испугалась мать.
— А вот слушай… Сижу я, нагнулся и пишу: чушь какую-то невообразимую… Вот…
Карташев вынул из кармана смятый лист, и все с любопытством наклонились.
— «Не надо робеть… что делать… как кошка крадется», — начала разбирать Наташа.
— Одним словом, ерунда, — перебил Карташев, — только чтоб что-нибудь писать… Не могу ж перевести… Пишу, а сам думаю: что ж мне делать? А напротив Беер, один еврейчик, настоящий медведь: мохнатый и слепой, а хороший ученик… философ такой… смотрю, уж, подлец, написал начерно и собирается переписывать… Ну, думаю, пропадать — так пропадать: все равно бы на второй год не остался, повесился бы, а не остался…
— Ну, глупости, — перекрестилась Аглаида Васильевна.
— Учитель только так поведет головой по классу и опять смотрит, что я пишу… а он близорукий… Я знаю, что он не может все равно разобрать, что я там пишу. Я попишу, попишу и как будто задумаюсь; он заглянет мне в глаза, и я смотрю на него так, как будто говорю: «Ну, что ж, пропал». А он точно повторяет: «Пропал?» — и так, мерзавец, ласково смотрит… А я сижу и соображаю: вот если я упрусь в перекладину задними ногами…
— А у тебя их сколько? — не утерпела Наташа.
Все рассмеялись.
— В заднюю перекладину — так, чтобы как встать, так сразу чтоб схватить черновик Беера в то время, как учитель повернет голову к классу… Вот так, вот: одно мгновение… надо схватить, сесть и ни малейшего звука, и никакой перемены в позе.
Все так и замерли и жадно, напряженно смотрели в рот рассказчику.
— Уперся я ногами, пригнулся всем туловищем и как будто весь мир забыл: пишу… только он повел головой, я как вырасту через скамейку, цап черновик Беера и сел… Смотрю: смотрит прямо на меня Иван Иванович, и я смотрю. Он покраснел и отвернулся… А Беер только плечами повел: вздохнул и засел новое писать. А мой подлец опять все глаза на меня. Я как будто кончил и тоже вздыхаю и смотрю на него… дескать, что ж радости с того, что кончил? А он как будто спрашивает так участливо: мало радости?
Карташев и все рассмеялись.
— Ах, какой ты мошенник! — покачала головой Аглаида Васильевна.
— Ну, что ж, оставаться?
— Ну, ну, говори.
— Ну, и начал я переписывать черновик Беера. Сделал нарочно четыре ошибки. И знаешь, покамест я вот брал, писал, ни капельки страшно не было, а когда встал, чтобы нести, вот тут уж холодно стало… Думаю, забрать черновик? А вдруг он заподозрит? Хитрый, подлец! Нет, нельзя брать… Так и оставил. Встаю: он на меня во все глаза, а у меня полное отчаянье в лице: «зарезал, зарезал…»
— Ах ты, господи…
— Отнес на стол, и вдруг вся смелость меня оставила, боюсь повернуться назад: а вдруг он рассматривает мои черновики и сейчас позовет меня, а вдруг я повернусь, и по моему движению он все поймет и схватит черновики… Иван Иванович сидит грустный и не смотрит на меня… ах, какая это прелесть Иван Иванович! Так бы и бросился ему на шею: «Голубчик, простите меня, Христа ради, ведь не оставаться же? Хотя сто лет буду сидеть, ничего все равно знать не буду, как и все не знают».
— Ну?
— Так и ушел прямо в коридор… Немного погодя Корнев приносит мои черновики: я их в карман… вот, вот… вот Беера… Ну, хорошо… Начался экзамен… Да! как только я ушел, и учитель пошел к столу и уж потом и не смотрел: все друг у друга списали… Когда меня вызвал он, чтобы показать, что он совершенно беспристрастный… да и все равно директор не дал бы ему… совсем вышел из класса… Я попал к директору… Ну, а директор…
Карташев сделал пренебрежительную гримасу.
— «Дядя ваш, говорят, в Петербург собирается?» — «Нет, кажется»… Тита Ливия дал переводить… Черт знает как переводил! — «Какие глаголы управляют родительным падежом?» Я и тут наврал…
— Ах, дрянной мальчик, — рассмеялась Аглаида Васильевна.
— «Ну, бог с вами, говорит: тройку» — что и требовалось доказать… Постой, еще не все… Кончились экзамены… засели они выводить отметки, а мы в коридоре уселись все на полу и ждем… весь вопрос во мне, конечно… Вдруг там, за дверью, крик слышим: учитель чего-то орет, кричит благим матом. Опять тише, опять кричит! Вдруг дверь распахнулась… а коридор темный: его мы видим, а он нет: лежат какие-то тела… «Карташев?» Я как толкну в бок Семенова и умер… «Карташев домой ушел…» Он как хлопнет дверью… И все как умерли там… Тихо-тихо… кончили… Один, другой, третий, вышли все, списки передали Ивану Ивановичу — повалили мы в залу… «Карташев…» ой, умру, «три…». Ура-а-а!
Карташев весело вскочил было, размахивая руками, но вдруг побледнел и стремительно потянулся к графину.
— Ой! — вздохнул он, когда пропустил несколько глотков, — мне вдруг так нехорошо сделалось…
— Господь с тобой, — бросилась к нему мать. — Ты ничего не ел еще! И я слушаю…
У Карташева тряслись руки и ноги.
— Ничего… ничего… лучше… Ах, мне совсем нехорошо… — Карташев вдруг бессильно опустился на стул, и, если б не подоспевшие Зина с Наташей, упал бы на пол.
— Ничего, пройдет, — ободряла его Аглаида Васильевна, — спирту, одеколон.
Аглаида Васильевна смочила одеколоном лоб, виски сына, дала понюхать спирту и ждала результатов, смотря напряженно в лицо сына. Это было мертвенно-бледное лицо с полузакрытыми, безжизненными глазами, такое вымученное и изможденное, что сердце матери сжалось от боли. Так бесконечно дорог он был ей и так бесконечно жаль было его в эту минуту: сколько мученья, неправды… Ведь этот человек был ее сын, сын, для которого мечтала она же когда-то небо достать! Что испытал он, что выстрадал бессознательно в этой каторге непередаваемых мелочей, называемой обучением ума и воспитанием души?!
— О, бедный, бедный мой мальчик! — И Аглаида Васильевна горячо целовала лицо и глаза сына.
— Нет, нет, поезжай в Петербург, — заговорила она, когда Карташев немного оправился и перешел на диван. — И я, может быть, также виновата, тоже помогала коверканью!.. Ах, как мне ясна вдруг стала вся эта уродливая картина нашей жизни… О, какая гадость… сколько лжи, фальши…
Карташев утомленно слушал.
— Гадость, мама! — произнес он, и слезы закапали у него из глаз. — Ах, как хотелось бы быть честным, хорошим, безупречным.
Карташев судорожно прижал руки к глазам и тихо, горько плакал. Плакали мать, Зина, Наташа, Маня. Плакали Ася и Сережа, хотя и не понимали ясно причины ни своих, ни слез других.
Аглаида Васильевна долго молча вытирала слезы.
— Будешь и честным, и добрым, и хорошим… будешь, потому что хочешь…
И, помолчав, она кончила:
— Я, может, и не укажу тебе дорогу… сам найдешь… Поезжай от меня… Поезжай в Петербург… становись на свою дорогу…
Аглаида Васильевна встала, перекрестилась и перекрестила сына.
— Да хранит тебя царица небесная! — торжественно сказала она.
И затем упавшим вдруг, точно пророческим голосом прибавила:
— Ох, тяжела будет твоя жизнь! Не пойдешь ты торным путем… не можешь идти — вижу я.
Карташев смущенно всматривался в себя: он хотел бы только, но ничего не чувствовал в себе, что давало бы силы идти твердо и неуклонно в сторону правды и счастья, лучи которой только вскользь в каком-то мраке мелькнули и скрылись в тумане. Он закрыл глаза.
— Я засну, — тихо прошептал он.
И все стихло. Во всем доме воцарилась гробовая тишина: надежда и радость, сила и гордость, выплывший на первую отмель молодой пловец спал своим первым безмятежным сном покоя после напряженной, изнурительной семилетней войны.
Какие-то веселые сны снились Карташеву. В сумерках несся по всему дому веселый, возбужденный голос погруженного в глубокий сон Карташева:
— Отдай паруса! Выноси кливер! Руль на бо-о-рт!
Маня, а за ней и все фыркали себе под нос.
— Ты, черт, что тут командуешь? Ура!
Карташев открыл глаза.
С окна в комнату прыгали Корнев, а за ним Долба.
— Корнев?! — встрепенулась Наташа и бросилась в комнату, где спал Карташев, чтоб предупредить Корнева.
Но Карташев уж проснулся.
— Что такое? Ничего не пойму! — орал Корнев.
— Что за скандал?! — весело оглядывался Долба.
— Есть хочу, — сказал, с наслаждением вытягиваясь, Карташев.
— Тёме есть, Тёме есть, — радостно закричала Наташа. И, повернувшись к Корневу и Долбе, веселая, счастливая, пожимая им руки, она повторяла: — Поздравляю, поздравляю.
Пришли и другие поздравить.
— В Питер? — спросила с едва уловимой грустной ноткой Наташа.
— А то куда же? — весело переспросил Корнев.
— Все, непременно, — засмеялся своим мелким смехом Долба.
— Счастливые, — протянула Маня, — там опера…
И, вытянув шейку, совсем уже барышня, бледная и хорошенькая, поддразнивая, она запела нежно:
Туда, туда, скорее в горы!
— Ка-а-рмен! — взвыл восторженно Корнев.
— Вас режут? — спросила Наташа.
— Без ножа режут!
— Поздравляю! — появилась в дверях Аглаида Васильевна.
— Чувствительнейше вас благодарю, — начал было комично Корнев и вдруг так растрогался, что приложился к руке Аглаиды Васильевны.
Долба последовал примеру Корнева.
— Ох, как чувствительно, — сказала рассеянно Наташа, — хоть сядьте, что ли?
— Да-с, Наталья Николаевна, расчувствуешься, — ответил с комичным жаром Корнев, прикладывая руку к сердцу, — смею доложить, на свет словно второй раз народился — такое воспаренье восчувствовал. Вот в учебнике-с писано: посмотри на Неаполь и умри, а я бы везде написал: окончи гимназию и…
— Черт с ней, — рассмеялся Долба.
— Молчи… неблагодарный! Господи, да неужели же я самонастоящий человек?!
— Ударь меня! — потребовал Долба.
Корнев ударил.
— Еще!
Корнев еще раз, сделав рожу, изо всей силы ударил его по спине.
— Нет, не сплю, — визжал Долба.
— А все-таки вы пропустили свою специальность, потому что вы актер, — сказала Маня.
— А вы Кармен.
Аглаида Васильевна сидела возле сына и радостно смотрела, как последний жадно, ложку за ложкой убирал суп.
— Постойте! Да что с ним такое? — спохватился Корнев.
— Отощал, — рассмеялся Карташев.
— Ну, и было дело, — сказал Корнев, приседая пред Аглаидой Васильевной.
— Слышала.
— Видеть надо было, что только было!
— Было и мохом поросло, — задумчиво вставила Зина, смотря в окно.
— Да, уже прошлое… — быстро, с каким-то сожалением повернулся к ней Корнев. — Когда прошло, как миг один…
— Так и вся жизнь, — грустно наклонила голову Аглаида Васильевна.
— Если б люди всегда помнили, что жизнь только миг, — вздохнул Корнев, поднося ноготь ко рту.
Все замолчали.
— Бросьте ногти, — строго скомандовала Маня.
— Виноват! — почтительно ответил он, быстро отдергивая руку.
Комментарии
Детство Тёмы*
Впервые — в журнале «Русское богатство», 1892, №№ 1–3.
По свидетельству Н. В. Михайловской, жены писателя, Гарин начал работать над «Детством Темы» с 1891 года, хотя отдельные эпизоды, относящиеся к его детству, он записывал еще в середине 80-х годов. «Еще в то время, когда мы жили в деревне, — рассказывает Н. В. Михайловская, — я случайно узнала, что Николай Георгиевич обладает способностью писать, то есть талантом беллетриста. Он любил тогда в минуты досуга составлять смету будущих доходов от своих посевов. Он давал волю своей фантазии, и бумага покрывалась самыми фантастическими цифрами… И вот я как-то раз заметила, что Николай Георгиевич пишет с увлечением в тетрадке что-то такое, что совсем не похоже на смету. Я его спросила, что он пишет? Николай Георгиевич с некоторым смущением ответил мне, что его иногда неудержимо тянет писать. Так и теперь — ему вдруг так живо вспомнились некоторые эпизоды из его гимназической жизни, что он сел и записал их» (Н. В. Михайловская, Мои воспоминания о Гарине-Михайловском. Идентичные экземпляры машинописи хранятся в Центральном Государственном архиве литературы и искусства СССР (ЦГАЛИ — Москва) и в Институте русской литературы (ИРЛИ — Ленинград).
Весной 1891 года Гарин читал писателю К. М. Станюковичу, знакомство с которым у него тогда только что состоялось, ряд написанных им, но еще не отделанных глав повести. «Когда он кончил читать, — вспоминает Михайловская, — Станюкович сердечно обнял Николая Георгиевича, поздравил, назвал его настоящим писателем» (там же).
Продолжал работать над повестью Гарин до 1892 года. В конце 1891 года он писал жене: «Вторую часть „Темы“ (которую повез я с собой) я переделал… Все говорят, что будет славная вещь. Начало уже набирается… Вот что… если тебе не трудно будет, найди „Смерть генерала“ — я пока что приготовлю здесь для мартовской книги продолжение „Темы“…» (ИРЛИ).
По свидетельству самого Гарина, произведение имеет автобиографический характер, — в нем нашли отражение многие подлинные факты и обстановка его детства; прототипами для Темы и его родителей послужили он сам и его родители, Глафира Николаевна (урожденная Цветинович) и Георгий Антонович Михайловские. «В „Детстве Темы“ вы прочтете много интересного из моей жизни. Там нет и тени вымысла, я все рассказал без утайки… и без рисовки!» — говорил Гарин литератору и библиографу П. Быкову (см. статью П. Быкова в Поли. собр. соч. Н. Г. Гарина, т. I, 1916, стр. VIII).
По выходе из печати повесть сразу же обратила на себя внимание и своими художественными достоинствами и как произведение, поднимающее вопросы большого общественного звучания.
В рецензии на январский номер «Русского богатства» П. Перцов писал: «…рассказ г. Гарина… написан очень тепло и художественно и, несмотря на сложность и трудность задачи заинтересовать читателя жизнью, тревогами и радостями восьмилетнего мальчика, задача эта вполне удалась автору». «Продолжение… еще интереснее начала, — писал тот же критик по выходе февральского номера, — и в нем г. Гарин показывает себя одновременно и знатоком детской психологии и умелым повествователем… Вообще рассказ г. Гарина выгодно отличается… тем, что автор умеет придать ему не только психологический, но и общественный интерес…» («Волжский вестник», 1892, №№ 76 и 98, 24 марта и 21 апреля).
О том, как было встречено «Детство Темы», рассказывает в письме к жене сам Гарин. «Приехал Николай Константинович Михайловский и сказал, что полюбил меня за эти два дня как брата. Он сказал, что я крупный талант и от меня все ждут очень много. Требует, чтоб я писал, писал и писал и главным образом как беллетрист. В редакции была очень смешная сцена. Пришел один господин, моряк Бирилев. Зашел разговор о „Русском богатстве“. Редактор нарочно говорит:
— Неважный журнал.
— А нет, — говорит Бирилев (он старик), — одно „Детство Темы“ чего стоит.
— По-моему, — говорит редактор, — и „Детство Темы“ неважно. (А он не знал, что я автор.)
Тот раскрыл глаза и смотрит на редактора.
— Что вы, читать разучились?
Редактор как зальется смехом.
Когда секрет открылся, вот уж было удовольствие для старика.
Я так был тронут всем тем, что он говорил за себя и других, что в первый раз серьезно поверил, что я писатель. Это был голос человека, не знавшего меня» (письмо от 1892 года — ИРЛИ).
«Припомните русскую беллетристику за последние годы, — писал Гарину один из читателей его повести, Г. Ковальский, — и Вы не примете за лесть, если я скажу, что ничего лучшего и более выдающегося, чем Ваше „Детство Темы“, положительно нет» (Отдел рукописей Гос. библиотеки им. В. И. Ленина).
Как о «ярком, ароматном, необыкновенно нежном» произведении вспоминает о «Детстве Темы» писатель Елпатьевский (С. Я. Елпатьевский, Близкие тени, ч. I, [1908], стр. 102).
Опубликованные почти одновременно «Детство Темы» и очерки «Несколько лет в деревне» сразу создали Гарину имя, выдвинули его в число незаурядных писателей. «В Волжском вестнике… от 25 июля есть заметка обо мне… уже я вышел и известный и все что угодно» (письмо к Н. В. Михайловской от 1892 года — ИРЛИ); «Про меня говорят „известный Гарин“. Я очень в духе и работаю с наслаждением», — писал он ей же 6 июля 1892 года (ИРЛИ).
При жизни Гарина повесть неоднократно переиздавалась. Книга Гарина «Очерки и рассказы» (ч. I, 1893), куда вошли «Детство Темы». «Несколько лет в деревне» и два небольших рассказа, была встречена критикой также сочувственно.
«При неодинаковом достоинстве рассказов г. Гарина, — писал рецензент журнала „Мир божий“, — во всех его произведениях есть два симпатичные качества, характеризующие общее свойство его таланта — простота формы и полная искренность тона, в каком ведется рассказ… В довольно большом рассказе из семейной жизни автор дает ряд живых картин из жизни средней помещичьей семьи генерала Карташева и с особенным вниманием останавливается над воспитанием и развитием маленького Темы.
Впечатления детства играют чрезвычайно важную роль в образовании характера будущего человека… Случайные встречи, непродолжительные знакомства, даже брошенная вскользь фраза — все это глубоко и прочно отлагается в душе маленького человека и остается в ней на всю жизнь… г. Гарин верно подметил эту особенность детской природы, о которой, к сожалению, так часто забывают и в семье и в школе» («Мир божий», 1893, № 1, январь).
Как бы перекликается с этой рецензией отзыв Ф. Д. Батюшкова. «„Детство Темы“, — пишет Батюшков, — остается не только одним из лучших в художественном отношении, но эта повесть стоит целого трактата по педагогике. И это без всяких теорий, в живых, конкретных примерах правдивого изображения детской души» (ИРЛИ).
В отзывах отмечались «талант и чувство», «искренность», «жизненная правда… дар верного ее изображения» («Русская мысль», 1892, кн. IV; 1893, кн. III, «Ежемес. литерат. прилож. к журналу „Нива“», 1896, № 2).
При включении «Детства Темы» в книгу «Очерки и рассказы» писатель подверг ее стилистической правке и частичной переработке.
Наиболее значительные изменения были сделаны в главах пятой («Выздоровление») и шестой («Наемный двор»).
Эти главы были сокращены (опущены подробное описание карташевского сада, рассуждения Темы о смерти, очевидно, как не свойственные детскому возрасту, разговор отца с матерью о воспитании сына, и ряд других мест) и объединены в одну главу «Наемный двор».
В главе «Ябеда» переработана сцена допроса Темы директором гимназии (в окончательной редакции см. стр. 161, от слов: «Впившиеся черные горящие глаза…», до слов: «Молчать! — со спокойным, холодным презрением…»). Гарин сократил в этой сцене натуралистические подробности, риторические фразы, растянутые описания переживаний Темы. В журнальном тексте было: «Страшный, неописуемый взрыв обезумевшего человека, в нормальности которого далеко не был уверен в настоящий момент Тема, оледенил его кровь. Впившиеся, черные горящие глаза ни на мгновение не отпускали от себя широко раскрытых Тёминых глаз. Точно что-то, помимо воли, раздвигало ему глаза и входило. через них властно и сильно с мучительной болью в глубь, в Тему, — туда… куда-то далеко, в ту глубь, которую только холодом прикосновения чего-то чужого впервые ощущал в себе онемевший мальчик. Там, в этой глубине уже гремел и больно бил и рвал душу какой-то дикий ревущий голос, звучали какие-то наполовину понятные слова: Сибирь, каторга, владимирка.
Что в сравнении с этим розги отца! Что его теплые ляжки в сравнении с этим отвратительным горячим дыханием рта — этого накуренного, горячего мундштука, этой клоаки всевозможных катаров, гнилых зубов, этой пасти невыносимым ядовитым зловонием разившей из себя, этого мечущегося в ней, посиневшей^ опутанного белыми нитями пены, длинного языка!
Ошеломленный, удрученный Тема почувствовал, как он точно погружался куда-то…
Рядом с этим диким воем, как жалобный подсвист в бурю, зазвучали в его ушах и посыпались его бессвязные, слабеющие слова о пощаде, слова мольбы, просьбы и опять мольбы о пощаде и еще… ужасные, страшные слова, бессознательно слетавшие с помертвелых губ…
Ах, более страшные, чем кладбище и черная шапка Еремея, чем розги отца, чем сам директор, чем все что бы то ни было на свете.
Что смрад колодца?! Там, открыв рот, он больше не чувствовал его… От смрада души, охватившего Тему, он бешено рванулся.
— Нет! нет! не хочу!! — с безумным воплем бесконечной тоски бросился Тема к вырвавшему у него признание директору.
Человек, растлевающий тело взрослого, называется преступником и ссылается в каторгу. Человек, растлевающий душу ребенка… душу, которая прежде чем уйдет в тот неведомый мир, где наконец мы ее признаем и воздаем ей божеские почести… Живую страдающую здесь с нами душу…»
В начале 1894 года издательство «Посредник» обратилось к Гарину с просьбой о разрешении издать повесть. «Мы чрезвычайно дорожим во всех отношениях прекрасным глубоко художественным произведением Вашим, — говорилось в письме издательства, — и для нас представляется, чрезвычайно отрадным быть распространителями „Детства“ среди нашего общества. В числе первых книг нашей серии, имеющей целью практическое воздействие на умы и сердца интеллигентных читателей, нам радостно было бы выпустить произведение столь истинно поэтическое, волнующее, полное свежего, искреннего, задушевного чувства, как Ваше „Детство“» (ИРЛИ).
В том же году повесть вышла в этом издательстве отдельной книгой; в тексте были сделаны две купюры: изъята сцена порки отцом Темы в главе II, от слов: «Удары глухо сыплются…» (стр. 77) до конца главы, и разговор Темы с матерью, где он выказывает себя «неблагодарным» по отношению к богу, в главе XI, начиная от слов: «Но Теме показалось вдруг обидным креститься…» (стр. 186), кончая словами «…спросила его холодно мать» (там же).
В 1899 году повесть без купюр была издана вместе с очерком «Несколько лет в деревне». Для этого издания Гариным вновь была проведена значительная стилистическая правка.
В 1903 и 1906 годах «Детство Темы» было выпущено издательством «Знание»; в 1903 году одновременно с повестями «Гимназисты» и «Студенты», в 1906 году — как первый том собрания сочинений. Эти издания являются перепечаткой издания 1899 года.
В настоящем томе текст печатается по изданию: Н. Гарин. «Детство Темы» и «Несколько лет в деревне», Сбп. 1899, сверенному с предшествующими изданиями.
«Сети рыбак расстилал по брегу студеного моря…» — несколько измененное стихотворение А. С. Пушкина «Отрок» (1830).
…господин… проговорил пренебрежительно: — Венгерский герой! — Ироническая реплика «венгерский герой» свидетельствует о том презрении, с каким относилась прогрессивная часть русского общества к «героям» русской интервенции в Венгрии, организованной для подавления революции. Как явствует из книги М. К. Соколовского («Исторический очерк 10-го уланского Одесского полка», 1912), «дело под Германштадтом», о котором рассказывает генерал Карташев (см. стр. 189–194) — подлинный факт из биографии Г. А. Михайловского, отца писателя.
…сын севастопольского героя — участника героической обороны Севастополя (1854–1855) во время Крымской войны 1853–1856 годов.
Вагнер Николай Петрович (1829–1907) — зоолог и писатель-беллетрист, автор «Сказок Кота-Мурлыки» (1872).
«Вот мчится тройка удалая…» — романс «Тройка» на несколько измененные слова из стихотворения Ф. Н. Глинки (1876–1880) «Сон русского на чужбине».
Гимназисты*
Впервые — в журнале «Русское богатство», 1893, №№ 1–4, 9, 11, 12.
Ко времени начала печатания повесть еще не была закончена Гариным; лишь во второй половине сентября 1893 года им были отосланы в редакцию заключительные главы.
В дошедших до нас письмах Гарина содержатся высказывания, свидетельствующие о работе его над повестью, в частности, над образом Беренди. «Послал я Вам из Москвы конец на генварь, — писал Гарин Н. К. Михайловскому 17 декабря 1892 года, — а дорогой взяло меня раздумье насчет того места, где Берендя занялся Гегелем, Кантом и пр. Мне кажется, это место надо выбросить, так как выходит что-то неправдоподобное для гимназиста. И без Канта и Гегеля трудолюбие Беренди ясно. Если же оставить это место, то необходимо прибавить, что такие его переводы, отличаясь точностью, были настолько туманны по смыслу, что в голове переводчика, при всех усилиях, ничего, кроме оторванных фраз, не оставалось» (ИРЛИ).
Несмотря на то, что Гарин, работая над «Гимназистами», учитывал возможные придирки цензуры, при печатании в журнале повесть подверглась сильным цензурным искажениям. «Не знаю, — писал он Михайловскому в начале 1893 года, — может быть, я ошибаюсь, но все мое генварское писание представляется мне плетением кружев из паутины. Нужно слишком осторожное наслоение впечатлений, чтоб из этого плетения в общем получился бы определенный узор, заменяющий собою впечатление самой жизни… Теперь произошло вот что: цензор прорвал паутину, выбросил груз — то есть ценный материал, и оставил порванную паутину, то есть и художественная сторона исчезла… мысль, что я выйду в таком искалеченном виде… повергает меня в полную тоску и апатию… Если б все было сдано уже в редакцию, я бы и на это не обратил бы внимания, но надо писать дальше, писать под мыслью, что через неделю появишься с недостатком, который разбивает весь рассчитанный эффект, может быть, в общем и не удачной, но для меня сложной и ответственной за впечатление работы… Мне кажется, надо в духе цензуры переделать немного испорченное место — залатать, как можно, пожертвовав даже красками… Если Вас убедило мое письмо, пришлите мне текст и… я пришлю Вам с поправкой, стараясь соблюсти все, что можно…» (ИРЛИ).
О том же пишет Гарин и позднее. «С болью в сердце прочел, — телеграфировал он 26 марта 1893 года Михайловскому, — исковерканную и бесцветную работу; моя манера писать мазками; мазки и блики дают картину; одни мазки — только мазня, обесцвеченная цензурой и корректурой; мало сказать бездарно, оставляя даже интересы автора, для журнала неприлично помещать такую недостойную работу. Необходима в дальнейшем моя корректура. Я в полном отчаянии…» (ИРЛИ).
Цензурные изъятия настолько искажали произведение, что писатель хотел прервать печатание. «Если что-нибудь в цензурном отношении можно выпустить, — писал он Иванчину-Писареву, — так разве тираду Беренди, когда они идут с Корневым, и он говорит о здании на песке, и то не выпустить, а смягчить, — остальное я считаю настолько цензурным, что если цензор не согласен, то передайте в цензурный комитет, а если и там не пропустят, то тогда ничего больше не остается, как прекратить печатанье, — я вовсе не желаю являться пред публикой в роли какого-то полупомешанного, который лепечет что-то, побрякивает, блестит, а в общем ни одной мысли связной и цельной…» (письмо от 23 сентября 1893 года — ИРЛИ).
Однако в целом работа над этим произведением принесла Гарину удовлетворение. «В общем я доволен посылаемыми „Гимназистами“, — сообщал он в том же письме, — хотя писал их под гнетом цензуры, под гнетом замалчивания…»
Появление повести в печати вызвало ряд откликов: «…хроника г. Гарина во всяком случае произведение незаурядное в нашей беллетристической литературе, полное содержания и живых, за душу хватающих сцен», — говорилось в рецензии «Русской мысли» (1894, кн. II).
Критика отмечала правдивое изображение оторванности от жизни и отвлеченности идеалов большинства представителей молодого поколения. «Они и гуманны… — писал критик П. Николаев, — и, пожалуй, правды и идеалов ищут. Но в этом искании они бродят без руля и ветрил; этот идеал не имеет никакой определенной и конкретной формы; жизни они, понятно, не знают (на то они и юноши), но они не знают также, с какой стороны и с какими требованиями подойти к жизни. При подобном смутном гуманитарном идеале такие юноши составляют легкую добычу для жизни» («Русская мысль», 1893, кн. XI).
В связи с этим интересно письмо Гарина Иванчину-Писареву от 13 февраля 1895 года: «…его [Карташева] отчаяние о неразвитии подымает весь вопрос о студентах и гимназистах выше кружковщины: выходит (для меня по крайней мере), что прямо выгодно для общества уже в гимназии давать людям устойчивое развитие, а иначе одного толкнет в одну крайность, другого — в другую, а руля все-таки (истинного развития) ни у тех, ни у других нет…» (ИРЛИ).
Отмечая «недюжинный талант» писателя, «широту захвата» и глубину содержания его произведений, временами «поистине замечательную стилистику», критика указывала в то же время и на «недостаточную выработку», «некоторую небрежность» стиля Гарина.
Однако, по мнению критика А. Богдановича, «то, что признают небрежностью, составляет своеобразную манеру такого оригинального художника, как г. Гарин».
Критик противопоставляет «Гимназистов» произведениям других писателей, «более художественным», «отделанным с большей силой и уменьем», но относящимся к бесчисленным «очеркам», «эскизам», «рассказам», представляющим «одну черту, характер, много — тип, то или иное явление в личной, редко в общественной жизни». «„Гимназисты“, напротив, — пишет Богданович, — охватывают целую полосу жизни, и самую интересную — „век юный, прелестный“, когда вырабатывается основа будущего человека. И охватывают эту полосу не в жизни одной единичной личности, а целого поколения, представители которого, девушки и юноши, различные по характеру, склонностям и стремлениям, проходят перед вами такие веселые, жизнерадостные — и все „обреченные“… Семья и школа наложила на них свой неизгладимый отпечаток. Их индивидуальность разве во внешности да в большей или меньшей ловкости, которую они проявляют в борьбе за существование…». «Все пройдет, исчезнет; как дым рассеется, — заключает свою рецензию Богданович, — одна правда останется. И такую правду, горькую, неприглядную, но глубоко поучительную, раскрывает г. Гарин в своих „Гимназистах“» («Мир божий», 1895, № 5).
Небезынтересны воспоминания Перцова, в которых он пишет, что Гарину было присуще «…умение говорить непосредственно и живо, и в то же время красиво и „с огоньком“. Этот словесный дар превосходил даже писательский… Так, я и до сих пор помню его полное блеска изложение будущих „Гимназистов“; осуществленная повесть оказалась бледной копией сравнительно с этим» (П. Перцов, Литературные воспоминания, 1890–1902 годы, «Academia», М.-Л. 1933, стр. 51–52).
При подготовке повести для отдельного издания (1895) писатель сделал в ней существенные изменения. «Посылаю начало „Гимназистов“ — пока первую книгу, — писал он Иванчину-Писареву 16 октября 1894 года, — (я их выправил уже три, но две переписываются). В неделю две почты и с каждой буду посылать Вам по выправленной книге. Следовательно, к 1 ноября вышлю всех „Гимназистов“. Надя [Н. В. Михайловская] и я довольны „поправкою“». (ИРЛИ). Как видно из телеграммы Гарина к нему же, переработка была закончена к 10 ноября.
В этом издании более углубленно раскрыты образы юных героев, их родителей, педагогов; полнее показаны взаимоотношения Карташевой с сыном, ее борьба за то, чтобы он был достойным представителем своей среды.
В главы «Гимназия», «Экзамены» и в XIX главу включены заново написанные эпизоды, рисующие жизнь гимназии.
В журнальной публикации повесть состояла из тридцати трех глав; в издании 1895 года, после объединения некоторых глав, число их было сведено до двадцати четырех, причем первым одиннадцати главам писатель дал названия.
Для этого издания Гариным были сделаны также и большие сокращения, например, в суждениях Моисеенко об искусстве; опущена история «пропойц», приятелей Беренди; целиком изъята была глава XI, в которой рассказывалось о посещении Темой оскорбленного им учителя латинского языка, приводились мысли Карташева: «И вдруг вспомнился ему другой его друг, давнишний, забытый Иванов, и, что всего приятнее было ему, вспомнился тепло, без той боли, какой сопровождалось прежде это воспоминание. Он выдал тогда, но теперь, не говоря уже о выдаче, не было ничего на свете, что могло бы удержать его сделать так, как велели ему долг и совесть. Что могло бы удержать? Страх? Страх чего? Смерти? Карташев презрительно усмехнулся и подумал: иногда смерть — страх, а иногда и удовольствие… Если смерть, чтоб принести хотя капельку людям добра, она лучше, чем вся долгая эгоистическая жизнь…» Эта глава была изъята писателем, очевидно, потому, что здесь образ Карташева наделен не свойственными ему чертами — моральной стойкостью, альтруизмом, отсутствием страха перед смертью — и находился в противоречии с образом его, созданным на других страницах «Гимназистов».
В этом издании восстановлены некоторые места, изъятые цензурой при публикации в журнале и замененные там многоточием. Так, в журнальном тексте отсутствовало: от слов «Крепостной сидел…» (стр. 292) до конца главы; от слов: «И вдруг у нее…» (стр. 402), кончая словами «повторяла она уже самой себе» (там же); от слов: «С постоянным риском…» (стр. 497), кончая «…и мрака бездны» (там же) и др.
В 1902 году повесть была вновь выпущена отдельным изданием. При подготовке этого издания писатель снова вернулся к работе над текстом «Гимназистов» и стилистически выправил его,
В 1903 и 1906 годах «Гимназисты» были выпущены издательством «Знание»: в 1903 году одновременно с повестями «Детство Темы» и «Студенты», в 1906 году — как второй том собрания сочинений. Эти издания имеют несколько мелких разночтений с изданием 1902 года, которые однако нет оснований считать авторской правкой.
В настоящем томе текст печатается по отдельному изданию 1902 года (Спб.), сверенному с предшествующими изданиями.
Кличку Диогена… — Имеется в виду Диоген из Синопа (ок. 404–323 до н. э.) — древнегреческий философ. По преданию, поселившись в Афинах, жил в бочке, отказываясь от всяких жизненных удобств; ходил по улицам днем с зажженным фонарем и на вопросы, зачем он это делает, отвечал: «Ищу человека».
…Карташев… просмаковал… Бокля, читал Щапова. — Бокль Генри-Томас (1821–1862) — английский историк, автор популярной в свое время «Истории цивилизации в Англии»; подвергал критике идею «божественного предопределения» в истории, объясняя историю развития общества влиянием географических факторов. Щапов Афанасий Прокофьевич (1830–1876) — историк; на его мировоззрение большое влияние оказали русские революционные демократы.
…на юбилее Каткова… — Имеется в виду крайне реакционный публицист М. Н. Катков (1818–1887), редактор «Московских ведомостей» и издатель «Русского вестника».
«Подите прочь…» — из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа» (1828).
…с указанным учителем главным источником, Костомаровым… — Костомаров Николай Иванович (1817–1885) — историк, автор официальных учебников по истории.
Гизо Франсуа (1787–1874) — французский историк.
…Шелгунов… и Дарвин… — Произведения революционного публициста Н. В. Шелгунова (1824–1891) и английского ученого Чарлза Дарвина (1809–1882) были широко известны в кругах прогрессивной молодежи.
Фохт Карл (1817–1895), Молешотт Якоб (1822–1893), Бюхнер Людвиг (1824–1899) — представители вульгарного материализма, атеисты; произведения их, популяризировавшие достижения в области естествознания, содержали богатый фактический материал.
Далай-лама — верховный правитель Тибета; употребляется в значении непререкаемого авторитета.
«Es ist eine alte Geschichte…» — из стихотворения Гейне «Ein Junge lieb ein Madchen…».
Правда бежала в Сечу… — Запорожская Сечь — самоуправлявшаяся организация украинского казачества, существовавшая в XVI–XVIII веках. Образовалась из вооруженных поселенцев, главным образом крепостных крестьян, бежавших в Запорожье от феодального гнета.
…французская революция — имеется в виду революция 1789–1894 годов.
«Пока не требует поэта…» — из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт» (1827).
«Напрягся и потек, потек и изнемог». — Неточная цитата из стихотворения Г. Пилянкевича, опубликованного в журнале «Атеней» в 1859 году. Добролюбов высмеивает эту строку в журнале «Свисток», а в статье «Атенейные стихотворения» иронически пишет, что «стих этот не умрет в истории русской литературы». (Н. А. Добролюбов, Поли. собр. соч. в шести томах, т. 6, стр. 120, 208). Стих этот стал популярен, очевидно, благодаря произведениям Добролюбова.
«Невольно к этим грустным берегам…» — ария князя из оперы А. С. Даргомыжского «Русалка» (1855), написанной на сюжет одноименного произведения А. С. Пушкина.
…стихи Фета? — Корнев вспоминает о стихах поэта-лирика А. А. Фета (1820–1892), поэзия которого была чужда гражданских мотивов.
«La donna е mobile…» — ария герцога «Сердце красавицы склонно к измене» из оперы Верди «Риголетто» (1851), написанной на сюжет драмы В. Гюго «Король забавляется».
«Я так устроен, что пишу…» — Данте Алигьери (1265–1321) — итальянский поэт. Ср. его «Божественную комедию», «Чистилище», песнь двадцать четвертую.
Карташев почувствовал себя в роли Дон-Кихота. — В одном из эпизодов романа Сервантеса «Дон-Кихот Ламанчский» герой его, рыцарь, принимает трактирную служанку за герцогиню.
«Расписаны были кулисы пестро…» — из стихотворения Гейне «Довольно! Пора мне забыть этот вздор…» в переводе А. К. Толстого.
…значение Аракчеева… — Аракчеев (1769–1834) — временщик при Павле I и Александре I; «аракчеевщина» стала синонимом жестокости и тупоумия.
…репутацию Кассандры. — Кассандра — в греческом эпосе — дочь троянского царя Приама, получившая от влюбленного в нее Аполлона дар пророчества.
…Жанну д'Арк читали… — Жанна д'Арк (ок. 1412–1431) — героиня французского народа, крестьянская девушка, возглавившая во время Столетней войны борьбу французского народа против английских захватчиков. Преданная феодалами, попала в плен; по приговору католической церкви была сожжена в Руане на костре как колдунья. История Жанны д'Арк послужила темой для многих художественных произведений; возможно, речь идет о пьесе Шиллера «Орлеанская дева» в переводе В. А. Жуковского.
Платон прав… — По мысли древнегреческого философа Платона (427–347 до н. э.), в идеальном государстве дети с момента рождения должны находиться на попечении государственных воспитателей и не знать своих родителей.
«За все, за все тебя благодарю я…» — из стихотворения М. Ю. Лермонтова — «Благодарность» (1840).
«В душе страсти огонь…» — из стихотворения А. В. Кольцова «Расчет с жизнию» (1840).
«Не расцветши, отцвел…» — неточная цитата из стихотворения А. И. Полежаева «Вечерняя заря» (1829).
…Гоголь уморил себя, по свидетельству доктора А. Т. Тарасенкова. — Имеются в виду «Последние дни жизни Н. В. Гоголя» (опубликованы в «Отечественных записках», 1856, № 12, и в следующем году выпущены отдельным изданием) — воспоминания врача А. Т. Тарасенкова (1816–1873), лечившего и близко наблюдавшего Гоголя в последние дни его жизни.
«Мир тебе! Во тьме Эреба…» — из стихотворения В. А. Жуковского «Торжество победителей» (1828).
[Гете] …лучшую эпоху французов называет печальной ошибкой… — Гете, по свидетельству его секретаря Эккермана, говорил: «…я не мог быть другом французской революции, так как ее ужасы совершались слишком близко и возмущали меня ежедневно и ежечасно, тогда как ее благодетельных последствий в то время еще нельзя было разглядеть…» В то же время Гете «столь же мало был и другом произвола господствующих» и считал, что «революционные восстания низших классов являются результатом несправедливости высших» (И.-П. Эккерман, Мои разговоры с Гете, «Academia», 1934, стр. 640, 639).
…дураков не убавишь в России, а на умных тоску наведешь — из стихотворения Н. А. Некрасова «Убогая и нарядная» (1857).
…Сциллы и Харибды… — Сцилла и Харибда — чудовища, жившие на прибрежных скалах узкого морского пролива и губившие проплывавших мимо мореходов (греч. миф.); выражение употребляется в значении: неопределимые препятствия.
«Чтобы ей угодить…» — из оперетты «Прекрасная Елена» французского композитора Жака Оффенбаха (1819–1880).
Громадные полчища Ксеркса легли под ударами десяти тысяч осмысленных людей. — Ксеркс, царь Персии, в 480 г. до н. э. предпринял поход для завоевания Греции; в битвах с греками его войска были разгромлены.
мересхедесы — имеется в виду медресе — религиозная мусульманская школа.
…скандовку сатиры Горация. — Произведения римского поэта Горация и римского историка Тита Ливия входили в гимназические программы как образцы текстов при изучении латинской грамматики.
Кюнер (1802–1878) — немецкий филолог и педагог. По его учебникам греческой и латинской грамматики учились в русских гимназиях.
Выходные данные
Н. Г. Гарин-Михайловский
Собр. соч., т. 1
Вступительная статья В. А. Борисовой
Подготовка текста и примечания И. В. Воробьевой
Оформление художника Н. Крылова
Редактор М. Гордон
Художествен, редактор И, Жиxapeв
Технич. редактор Л. Сутина
Корректор В. Знаменская
Подписано к печати 12/ХII 1957 г.
Бумага 84x108 1/32
16,38 печ. л. = 26,86 усл. — печ. л.
25,8 уч. — изд. л. + 1 вкл. = 25,85 л.
Тираж 140 000 (75 001–140 000).
Заказ № 1213. Цена 11 р. 50 к.
Гослитиздат
Москва, Б-66. Ново-Басманная, 19
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Московского городского Совнархоза
Москва, Ж-54, Валовая, 28
Примечания
1
П. В. Быков, Н. Г. Гарин-Михайловский (см Н. Г. Гарин, Поли. собр. соч., т. 1, П. 1916, стр. V, VI).
(обратно)2
А. И. Куприн, Соч. в трех томах, т. 3, 1954, стр. 541.
(обратно)3
М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 17, М. 1952, стр. 78.
(обратно)4
П. В. Быков, Н. Г. Гарин-Михайловский (см. Н. Г. Гарин, Поли. собр. соч., т. 1, П. 1916, стр. XII).
(обратно)5
В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 247.
(обратно)6
Там же, т. 2, стр. 484.
(обратно)7
А. П. Чехов, Собр. соч. в двенадцати томах, т. 11, М. 1956, стр. 597.
(обратно)8
М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 17, М. 1952, стр. 68–69.
(обратно)9
А. Санин, «Самарский вестник» в руках марксистов (1896–1897 гг.), М. 1933, стр. 43.
(обратно)10
Письмо без даты (Институт русской литературы АН СССР — ИРЛИ).
(обратно)11
М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 17, М. 1952, стр. 73.
(обратно)12
В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 217–218.
(обратно)13
В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 238.
(обратно)14
М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 24, М. 1953, стр. 52.
(обратно)15
См. М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 17, М. 1952, стр. 77.
(обратно)16
М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 17, М. 1952, стр. 80.
(обратно)17
См. диссертацию И. М. Юдиной «Н. Г. Гарин-Михайловский», Л. 1954, содержащую весьма обширный и ценный материал, относящийся к жизни и творчеству писателя.
(обратно)18
Цит. по книге: А. А. Волков, Очерки русской литературы конца XIX и начала XX веков, М. 1952, стр. 61.
(обратно)19
М. И. Семенов, К самарскому периоду жизни В. И. Ленина (Воспоминания), Куйбышев 1937, стр. 77.
(обратно)20
М. Горький. Собр. соч. в тридцати томах, т. 17, М. 1952, стр. 77.
(обратно)21
«Социал-демократическое движение в России», М.-Л. 1928, т. 1. стр. 22.
(обратно)22
А. Санин, «Самарский вестник» в руках марксистов (1896–1897 гг.) М. 1933, стр. 24.
(обратно)23
Письмо к Н. В. Михайловской от 1892 года (ИРЛИ).
(обратно)24
Письмо ей же от 1892 года (ИРЛИ).
(обратно)25
Письмо ей же от 1892 года (ИРЛИ).
(обратно)26
Телеграмма Н. К. Михайловскому от 15 ноября 1894 года (ИРЛИ).
(обратно)27
П. В. Быков, Н. Г. Гарин-Михайловский (см. Н. Г. Гарин, Полн. собр. соч., т. 1, П. 1916, стр. XXIII).
(обратно)28
Письмо А. И. Иванчину-Писареву от 26 сентября 1894 года (ИРЛИ).
(обратно)29
Письмо Н. К. Михайловскому от 7 февраля 1897 года (ИРЛИ).
(обратно)30
Письмо Н. К. Михайловскому от 7 февраля 1897 года (ИРЛИ).
(обратно)31
Г. А. Бялый, Н. Г. Гарин-Михайловский, «История русской литературы», т. X, изд. АН СССР, М.-Л. 1954, стр. 525.
(обратно)32
В. И. Ленин, Сочинения, т. 6, стр. 151.
(обратно)33
В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 218.
(обратно)34
А. В. Луначарский, Критические этюды (Русская литература), Л. 1925, стр. 379.
(обратно)35
В. И. Ленин, Сочинения, т. 8, стр. 34.
(обратно)36
П. В Быков, Н. Г. Гарин-Михайловский (см. Н. Г. Гарин, Полн. собр. соч., т. 1, П. 1916, стр. 61).
(обратно)37
Письмо к Н. В. Михайловской, без даты (Центр. Гос. архив литературы и искусства — ЦГАЛИ).
(обратно)38
См. Г. А. Бялый, Н. Г. Гарин-Михайловский, «История русской литературы», т. Х. изд. АН СССР, М.-Л. 1954, стр. 527.
(обратно)39
Письмо к Н. В. Михайловской от 24 декабря 1905 года (ИРЛИ).
(обратно)40
Письмо Г. Н. Михайловскому от 20 января 1906 года (ИРЛИ).
(обратно)41
См. М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 17, М. 1952, стр. 80. А. И. Куприн, Соч. в трех томах, т. 3, М.
(обратно)42
Архив Н. Г. Гарина-Михайловского (ЦГАЛИ).
(обратно)43
М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 17, М. 1952, стр. 81.
(обратно)44
Глупый мальчик!.. (от нем. dummer Knabe)
(обратно)45
Оставьте его (от нем. lessen Sie ihn)
(обратно)46
Очень хорошо (от нем. sehr gut)
(обратно)47
Отсутствует (от лат. absens)
(обратно)48
Перемена (от лат. recreatio)
(обратно)49
Эй, вы, потише! (фр.)
(обратно)50
Пошел, пошел, глупое животное! (фр.)
(обратно)51
Прошу читателя иметь в виду, что речь идет о гимназии в отдаленное время, т. е. 20 лет тому назад. (прим. автора)
(обратно)52
Полуобразованный — вдвойне дурак (фр.)
(обратно)53
Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт и толпа».
(обратно)54
Руки распускают только мужланы (фр.)
(обратно)55
Эта старая история Вечно новой остается, А заденет за живое — Сердце надвое порвется(нем.). — Из стихотворения Г. Гейне «Ein Junge lieb ein Madchen…».
(обратно)56
Из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт».
(обратно)57
Тысяча извинений… (фр.)
(обратно)58
«Сердце красавицы склонно к измене» (ит.) — ария герцога из оперы Верди «Риголетто».
(обратно)59
Пугало; здесь — повод для раздражения (фр.)
(обратно)60
Из стихотворения В.А. Жуковского «Торжество победителей».
(обратно)61
Тут что-то есть, не правда ли?! (фр.)
(обратно)62
Я человек (лат.)
(обратно)63
Фиалки (фр.)
(обратно)64
Запах (от фр. odeur)
(обратно)65
Очевидный анахронизм, так как начало учения народников относится к 1877 году. (прим. автора)
(обратно)66
Перевод без подготовки (лат.)
(обратно)
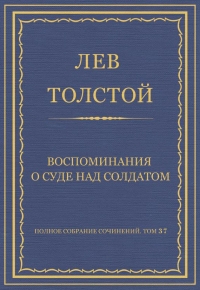



Комментарии к книге «Том 1. Детство Тёмы. Гимназисты», Николай Георгиевич Гарин-Михайловский
Всего 0 комментариев