Викентий Викентьевич Вересаев Собрание сочинений в пяти томах Том 2. Повести и рассказы
На повороте
I
Токарева встретили на вокзале его сестра Таня и фельдшерица земской больницы Варвара Васильевна Изворова. Токарев оглядывал Таню и в десятый раз повторял:
— Вот уж не ждал-то, что увижу тебя здесь.
Варвара Васильевна сказала:
— А какая досадная вещь вышла… Я вам писала, — директор банка обещал мне немедленно дать вам место в банке, как только приедете. Вчера захожу к нему, — оказывается, он совсем неожиданно уехал за границу В Карлсбаде у него опасно заболела дочь. Спрашивала я помощника директора, ему он ничего не говорил о вас. Такая досада. Придется вам ждать, пока воротится директор.
Варвара Васильевна говорила извиняющимся голосом, как будто была виновата в неожиданном отъезде директора. Токарев улыбнулся ее тону.
— Так ведь не на год же уехал директор?
— Нет, конечно. На месяц, самое большее — на два А покамест, знаете что? Поедемте к нам в деревню. Я с завтрашнего числа получаю в больнице отпуск, нынче или завтра приедут из деревни лошади.
Токарев радостно воскликнул:
— Варвара Васильевна, да ведь это превосходно. Чего ж вы за меня огорчаетесь? Пожить в деревне — лучшего я бы и сам для себя не придумал…
Подошел носильщик с вещами.
— Куда прикажете извозчика брать?
Токарев веселый и оживленный, взял ремни с пледом.
— Какая у вас тут есть гостиница недорогая?
— Ну, вот еще, зачем гостиница? — встрепенулась Таня. — Остановишься у нас в колонии.
Токарев поднял брови.
— В колонии?.. Посмотрим, что за колония.
Они вышли из вокзала. Варвара Васильевна сказала:
— Поезжайте, господа. А мне нужно еще забежать в больницу, сделать две перевязки. Я сейчас буду у вас.
Токарев и Таня сели на извозчика и поехали к городу. Солнце садилось, над шоссе стояла золотистая пыль, и сам воздух казался от нее золотым. Токарев, улыбаясь, смотрел на Таню.
— Расскажи ты мне толком, как ты сюда попала. В феврале последний раз написала из Петербурга и после этого как в воду канула.
— Я тебе говорила, всю весну мы пробыли тут на голоде, в Артемьевском уезде. Ну, я тебе скажу, — и насмотрелись. Жутко вспомнить. До июня пробыли там и все просадили, у кого какие были деньги; то есть, понимаешь, ни гроша ни у кого не осталось. Ну, вот и пошли в Томилинск.
— Пошли?
— Где шли, где на товарном поезде ехали… Очень было весело. Здесь раздобыли работы, — кто по статистике, кто уроков. Живем все вместе, — целый, брат, дом нанимаем. За три рубля в месяц. Вот увидишь, славные подобрались ребята.
— Я кое-что слышал о твоей деятельности на голоде. В вагоне я разговорился с одним земским врачом, — Рассудин, кажется, фамилия. Он мне много рассказывал про тебя.
— Рассудин? Что, что он говорил? — быстро спросила Таня и с любопытством подняла голову. Ее большие глаза самолюбиво заблестели.
Токарев лукаво улыбнулся.
— Одним словом, одобрял. А передавать не стану, — загордишься… А скажи ты мне лучше вот что: когда ты уехала на голод?
— В марте месяце.
— Как же ты с экзаменами устроилась? Перешла на следующий курс?
— Я уж зимою вышла с курсов.
— Вы-ышла? — протянул Токарев и замолчал. — Почему? — коротко спросил он.
— На что они мне. Курсы важны только вначале, чтоб приобрести знакомства, попасть в известную среду А раз это уж есть, то что в них?
Токарев потемнел.
— Странно… Курсы, во всяком случае, дают систематическое знание.
Таня рассмеялась.
— Систематическое знание… Диплом они дают, а не систематическое знание. Мне не шестнадцать лет, я и без профессорской указки сумею приобрести знания.
— Я не понимаю, ведь тебе всего один год оставался до окончания, — раздраженно сказал Токарев. — Что помещал бы тебе диплом? Кто знает, что может случиться в будущем, — почему его не иметь на всякий случай?
— Господи, как это скучно — о будущем думать. Не боюсь я никакого будущего, всегда сумею прожить и без диплома. Ведь тебе вот тоже оставался всего год до диплома, — не получил, и что ж? Большая от этого беда?
Токарев нахмурился и молчал.
Пролетка переваливалась из ямы в яму по немощеной, изрытой промоинами улице. Под заборами, в бурьяне, валялись дохлые кошки и арбузные корки. Пролетка остановилась у покосившихся ворот небольшого дома. На скамеечке сидел подслеповатый, бритый старик в жилетке и железных очках. Таня крикнула:
— Иван Финогеныч, пожалуйста, откройте нам ворота.
Старик оглядел пролетку и молча пошел отпирать. Они въехали на заросший муравкою двор. В его углу, около садовой калитки, стоял крохотный флигелек. На крыльцо вышли два студента.
Токарев и Таня сошли наземь. Таня сказала:
— Знакомьтесь, господа. Это мой брат, я вам о нем говорила.
Студенты, немного стесняясь, назвали себя и пожали Токареву руку.
— Шеметов.
— Борисоглебский.
Шеметов, стройный парень в синей рубашке, исподлобья взглянул на Токарева.
— Давайте-ка, я вам снесу. — Взял из его рук чемодан и удивился. — У-ух, тяжелый какой.
Огромный Борисоглебский крутил на подбородке жесткие черные волосики. Заикаясь, он спросил:
— Чай будете пить? Сейчас запалим самоварчик.
Вошли через сенцы в тесную комнату с грязными, полуоборванными обоями. Везде валялись книги. К стене были пришпилены булавками портреты Маркса, Чернышевского и Горького.
Шеметов ушел за булками и закусками. Борисоглебский возился в сенцах с самоваром.
Таня села на кровать.
— Ну, вот тебе наша колония… Третьего, Вегнера, еще нету, — ушел куда-то… Она помолчала.
— Ну, расскажи же, что ты поделывал в Пожарске?
У Токарева еще не совсем прошло враждебное чувство к Тане. Он неохотно ответил:
— Да нечего рассказывать. Приехал туда из ссылки, служил в управлении железной дороги, ты знаешь. Прослужил год, штаты сократили, я и остался на мели.
— Ну, а что за народ там?
— Никакого «народу» нет, одни лишь обыватели. Скука, тишь, только книгами и спасался. Совершенно мертвый городишко.
Воротился из булочной Шеметов. В сенцах раздался его ворчливый голос:
— Несчастное дитя природы, он все тут с самоваром киснет… Пусти.
— Погоди, углей надо подкинуть, — возразил Борисоглебский.
— Уйди, постылый. «Углей»! Углей довольно, нужно сапогом раздуть… Вот так. Видал? Э, как пошла… «Угле-ей»…
Таня слушала, улыбаясь.
— Милый парень этот Шеметов. Смотрит исподлобья, голос свирепый, а такая мягкая, деликатная душа. На голоде Вегнер заболел у нас сыпным тифом. Посмотрел бы ты, как он за ним ухаживал: словно мать.
Самовар подали. Сели пить чай.
Пришла Варвара Васильевна вместе с Вегнером. Невысокий и сутулый, с впалою грудью, Вегнер с застенчивою улыбкою пожал руку Токареву и молча сел за чай. Варвара Васильевна с торжеством объявила:
— Сейчас спасла Вегнера от расторгуевских собак. Подхожу к углу, вижу, — собаки его окружили, заливаются, а он стоит и собирается применить свой способ. Еле успела ему помешать.
Все засмеялись. Токарев спросил:
— А что это за способ?
— У него свой особенный способ есть отпугивать собак, самый верный. Если бросится собака, нужно только присесть на корточки и грозно взглянуть ей в глаза — она сейчас же подожмет хвост и убежит.
— Только никак он себе грозного взгляда не может выработать, — заметил Шеметов.
— В этом-то его и горе… Недавно, на голоде, пошел он к лавочнику покупать соли для своей столовой. Выскочила громадная собака; он присел на корточки и грозно взглянул ей в глаза, а она как цапнет его за нос.
Вегнер с улыбкой качал головою.
— Как все точно! Я только говорил вам, что слышал на голоде от одного пономаря о таком способе. А вы каждый день рассказываете, как будто все это и вправду было, — даже знаете, что именно я шел покупать к какому-то лавочнику.
— И завтра будет рассказано так же, — неумолимо сказала Варвара Васильевна.
Темнело. Сменили второй самовар. В маленькие окна тянуло из сада росистою свежестью и запахом спелых вишен. Токарев взял со стола продолговатую серенькую книжку и стал просматривать. Это были протоколы недавнего ганноверского съезда немецкой социал-демократической партии[1].
Таня заглянула, какую он взял книжку.
— Вот. Правда, характерно? Весь съезд целиком был посвящен книжонке Бернштейна… Нечего было больше делать.
Токарев перевертывал страницы книжки и сдержанно возразил:
— По-моему, Бернштейн над очень многим заставляет задуматься.
Таня изумилась.
— Господи, Володя! Ну, над чем он может заставить задуматься? Ведь это просто банкрот — успокоившийся, присмиревший и трусливый. И ведь до чего он гаденько-труслив: у него даже не хватает мужества прямо отречься от прежних «мечтаний»…
— Не вижу у него трусости. Напротив, нужно было большое мужество, чтобы выступить с такою книгою. И ни от каких мечтаний он не отказывается, он восстает только против трескучих фраз.
Вегнер слегка покраснел и, пощипывая бородку, спросил:
— Но этого-то вы не будете отрицать, что он — филистер до мозга костей?
— Я этого не отрицаю, — поспешно сказал Токарев. — Но это нисколько не мешает быть его книге по существу глубоко верною. Филистерство остается при авторе, а в книге его все-таки больше настоящего, реалистического марксизма, чем в правоверном марксизме.
Таня насмешливо улыбнулась.
— Удивительное дело. Ты согласен, что он насквозь пропитан филистерством; как же это филистерство может не отражаться на самой сути его построений? Как будто филистерство — это так себе, маленький придаток, который не стоит ни в какой связи с остальным.
Спор разгорелся жестокий. Вмешались другие, и было столько мнений, сколько спорящих. Таня спорила резко, насмешливо, не брезгала софизмами и переиначиванием слов противника. Ее большие глаза с суровою враждою смотрели на Токарева и на всех, кто хоть сколько-нибудь высказывался за ненавистного ей Бернштейна. Было уж за полночь, в комнате стоял душный табачный дым, а в окна тянуло свежею и глубокою тишиною спавшей ночи.
Варвара Васильевна взглянула на часы и всполошилась.
— Господи, мне уж давно пора в больницу С двенадцати часов начинается мое дежурство, а теперь уж двадцать минут первого. Прощайте, господа!
Она поспешно надела шляпу, протянула руку Токареву.
— Приходите завтра, я с двенадцати часов буду свободна. — И быстро ушла.
— Ну, пора бы уж и спать, — сказал Токарев. — Правду говоря, голова трещит с дороги.
Он беспомощно огляделся: где его могут тут положить?
— Мы вам сейчас устроим постель, — сказал Шеметов и встал.
Таня опять стала милою и радушною. Она воскликнула:
— Нет, нет, не надо. У вас тут клопов много. Он у меня наверху будет спать, а я пойду ночевать к Варе. Пойдем, Володя.
По крутой лесенке из сенец они поднялись наверх. В крохотной комнатке было жарко от железной крыши и душно, как в бане. Книги и статистические листки валялись на полу, на стульях, на кровати. На столе лежала черная юбка. Таня поспешно повесила ее на гвоздь.
— Ну, вот тебе комната… Тебе не будет жестко спать? — спросила Таня и пощупала рукою свою кровать.
Токарев был приятно возбужден спором и общей атмосферой, от которой уж стал отвыкать. Он рассеянно ответил:
— Нет, ничего.
— Ну, спи… Прощай.
Таня пошла к двери. Вспомнила что-то и остановилась
— Да, вот что. Не возьмешься ли ты обделать тут одно дельце?
Токарев насторожился.
— Что такое?
— Видишь ли… Какое впечатление произвела на тебя Варвара Васильевна?
— Право, не могу сказать, — я ее слишком мало видел.
— Она очень живой человек и дельный. Между тем вот уж третий год киснет тут в Томилинске, в больнице, — отслуживает земскую стипендию. Ей положительно невозможно здесь оставаться, необходимо перетащить ее в Петербург.
— Ну, да… Но что же я тут могу сделать?
— Видишь ли, мне говорила Варя, ты знал в Петербурге ее двоюродную сестру Засецкую; она кончила на фельдшерских курсах двумя годами раньше Вари. Так вот, эта Засецкая теперь замужем здесь за членом управы Будиновским — либеральный земец, влиятельный человек. Познакомься с ними, они как раз третьего дня приехали на неделю из деревни. Ты человек солидный. Подействуй на Будиновского, уговори его, чтоб Варе сократили срок службы в земстве.
— Она что же, сама хочет этого?
— Ей ничего об этом и говорить не нужно. Она такая щепетильная, ни за что не согласится.
— Вот странно. Какое же мы имеем право без ее разрешения хлопотать за нее?
— Ах ты, господи! — Таня досадливо передернула плечами и быстро прошлась по комнате. — Ну, я не знаю, — как хочешь, а здесь ей невозможно оставаться. Я прямо не могу с этим примириться.
— Проведать Засецкую я не прочь, мне интересно повидать ее. Но хлопотать за Варвару Васильевну без ее разрешения — это, по-моему, бесцеремонно прежде всего по отношению к ней же самой… А скажи, пожалуйста, я и не знал, что Варвара Васильевна получала стипендию; ведь ее родители — богатые люди, имеют имение под Томилинском.
— Да, только оно все в долгах, усадьба разваливается, отец сильно в карты играет. Они только наружно богаты… Ну, однако, прощай. Спи… Так завтра мы все-таки пойдем к Будиновским.
Таня ушла. Токарев сел на окно, закурил папироску. Росистый сад, облитый лунным светом, словно замер. Было очень тихо. Только изредка полно и увесисто шлепалось о землю упавшее с дерева яблоко. Вдали кричали петухи.
Варвара Васильевна произвела на Токарева довольно бледное и расхолаживающее впечатление. А между тем в Пожарске и раньше — в Вятской губернии он думал о ней с сладким и захватывающим чувством. В Петербурге они были хорошо знакомы. Время стояло горячее, волна общественного настроения начинала подниматься все выше, они не заметили, как сближение их стало чем-то большим, чем дружба. Однажды вечером, вдруг, в неожиданном порыве, Токарев высказал Варваре Васильевне то, что он к ней чувствовал; Варвара Васильевна резко и испуганно отшатнулась и с этого времени стала все больше замыкаться и отдаляться от Токарева. А между тем он чувствовал, что и она любит его… Вскоре Токарева арестовали, потом сослали в Вятскую губернию. Они все время переписывались, и в этой переписке образ Варвары Васильевны делался для него все светлее, чище и дороже. Теперь, увидев ее, он почувствовал разочарование. Идеальный образ, увеличенный расстоянием, оделся плотью и превратился в обыкновенную девушку, — к тому же бледную, похудевшую и постаревшую; только лицо ее, строгое и красивое, немножко подходило к прежней мечте.
Токарев начал раздеваться. Сел на кровать, чтоб снять ботинки, уперся в нее руками — и остановился.
— Одна-ако!.. — Он поднял одеяло и простыни. На сосновых подставках лежали три неоструганных доски, покрытые тонким солдатским сукном, — и больше ничего, это была вся постель.
Токарев расхохотался. Он вспомнил, как Таня спрашивала: «Не жестко будет тебе?»
— Да, «не жестко», — громко сказал он, щупая ладонью твердые доски. Охватило горячее умиление к Тане; видимо, ей самой это действительно не жестко; она заботилась, чтоб ему было поудобнее; он сказал: «Не будет жестко», — и она успокоилась.
Токарев развязал свои ремни, уложил на доски пальто, подушки, плед, все, что было в комнате из Таниной одежды, и кое-как устроил сносную постель. Все улыбаясь, он потушил свечу и лег.
Прошел час, другой, — Токарев не мог заснуть. Было душно, кусали комары и мошки, жесткие Танины простыни терли тело. Наложенные вместо тюфяка вещи образовали в постели бугры, и никак нельзя было удобно улечься. Хотелось пить, а воды не было. Токарев лежал потный, угрюмый и злой и вспоминал свою уютную квартиру в Пожарске. Опять он бездомен. Будущее темно и неверно, и что хорошего может он ждать от этого будущего?
II
В широком коридоре больницы пахло валерианкой и мятой. Таня постучала в небольшую белую дверь. Ответа не было. Она отворила дверь. Комната была пуста.
— Ну, так я и думала. Вари еще нет. А уж второй час. Наверно, помогает кому-нибудь управляться. Я положительно не видывала, чтоб человек когда-нибудь так работал. С утра до ночи возится с больными, все служащие выезжают на ней и сваливают на нее всю работу, а она и в ус себе не дует.
Комната была большая и чистая, два окна выходили в больничный сад.
Токарев сел в кресло и закурил папиросу. Таня прошлась по комнате, остановилась перед этажеркою и стала пересматривать книги. За дверью тонкий женский голос спросил:
— Варенька, вы у себя?
Таня поморщилась.
— Ее нет здесь.
В комнату, с книжкою в руках, вошла молодая девушка в сером платье — бледная, с круглыми, странно-светлыми голубыми глазами. Токарев поднялся с кресла. — Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Варенька скоро придет?
— Не знаю я, — хмуро ответила Таня.
Девушка растерянно поглядывала на Токарева. Таня пробурчала:
— Мой брат. Ольга Петровна Темпераментова.
Темпераментова почтительно пожала руку Токарева.
— Я очень рада, мне Варенька столько рассказывала про вас. Она ужасно рада, что вы перебираетесь из Пожарска в Томилинск… Я эти дни как раз вспоминала об вас: я вот читаю Варенькину книжку, Энгельса, «О происхождении семьи», с вашею надписью ей… Какая книжка, просто замечательно! Так глубоко, так ясно все изложено… Как неопровержимо доказывается правильность материализма…
Слова сыпались, как мелкие горошины, — ровные, круглые и сухие. На душе сразу стало сухо и пусто. Токарев слушал, стараясь изобразить на лице внимание. Таня села к окну и стала читать. А Ольга Петровна со своими растерянными, странно-голубыми глазами продолжала высыпать свое восхищение от книжки.
Пришла, наконец, Варвара Васильевна. Она сняла больничный халат, поспешно вышла и воротилась с горячим кофейником. Сиделка внесла поднос с чашками.
— Ну, слава богу. Свободна, — облегченно вздохнула Варвара Васильевна и села на кровать.
— Долгонько вы «освобождались», — с улыбкой заметил Токарев.
Темпераментова влюбленными глазами следила за Варварой Васильевной.
— Ведь вы не знаете, Варенька такая добросовестная. Всем ей нужно помочь, за всем присмотреть. Главный доктор прямо говорит, что ею держится вся больница…
— Варя, пойдемте сейчас к Будиновским, — прервала Таня. — Володя хотел бы повидать Марью Михайловну.
— Отлично. Сейчас после кофе и пойдем.
Сели пить кофе. Ольга Петровна сыпала своим пустым разговором, время шло томительно и угнетающе. Все поспешили кончить.
Вышли на улицу. Таня шла, нахмуренная и злая.
— По-моему, это профанация Энгельса — давать его читать таким госпожам. Не понимаю, чего вы возитесь с нею. Ведь пять минут пробыть с нею — это каторга.
— Скучновата она, верно, — согласилась Варвара Васильевна. — Да и навязчива немножко. А все-таки она очень хороший человек… и несчастный. С утра до ночи бегает по урокам, на ее руках больной отец и целая куча сестренок; из-за этого не пошла на курсы…
На тихой Старо-Дворянской улице серел широкий дом с большими окнами. Густые ясени через забор сада раскинули над тротуаром темный навес. Варвара Васильевна позвонила. Вошли в прихожую. В дверях залы появилась молодая дама в светлой блузе — белая и полная, с красивыми синими глазами.
— А-а, Варенька! Редкий гость. — Она радостно поцеловалась с Варварой Васильевной. Потом с недоумевающею улыбкою прищурила близорукие глаза на Токарева.
— Не узнаете, Марья Михайловна? — улыбнулся Токарев.
— Ах, господи, да это Владимир Николаевич! Я слышала от Вареньки, что вы перебираетесь в Томилинск… Как же вы изменились! Ну, здравствуйте, здравствуйте! — Она крепко, несколько раз, пожала руку Токарева. — Пойдемте, господа, в кабинет… Боря, иди сюда! К нам гости!
Мягко ступая летними башмаками, из кабинета медленно вышел высокий, плотный господин с русою бородкою, остриженною клинышком. Марья Михайловна перезнакомила всех. Вошли в просторный, прохладный кабинет.
— Это Токарев, Владимир Николаевич… Я тебе часто рассказывала про него. Приятелями были в Петербурге.
На дубовом письменном столе в порядке лежали книги и бумаги. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь жалюзи, весело играли на зеленом сукне стола и на яркой бронзе письменных принадлежностей. У окон величественные латании, нежные ареки и кенции переплетали узоры своих листьев. В кабинете было комфортно и уютно.
— Я слышал, вы переселяетесь к нам в Томилинск? — медленно спросил Будиновский, глядя на Токарева спокойными, серьезными глазами.
Он стал расспрашивать Токарева о его прежней жизни, слушал и сочувственно кивал головою. Токарев рассказывал, а сам приглядывался к Марье Михайловне. В Петербурге, курсисткой, она была тоненькая и худенькая, с большими, чудесными глазами, полными беспокойства и вопроса. Теперь глаза смотрели мягко и удовлетворенно. Красивое, полное тело под легкою блузою дышало тихим покоем.
— Да, Варвара Васильевна, я вам хотел сообщить, — вспомнил Будиновский. — Вы простите меня, но я вашего заявления до сведения управы не довел.
Варвара Васильевна нахмурилась и холодно сказала:
— Очень жаль. В таком случае я сама напишу председателю.
— Вот, Владимир Николаевич, подействуйте хоть вы на Варвару Васильевну, — с улыбкой обратился Будиновский к Токареву. — Весною на земском собрании мы единогласно постановили выразить Варваре Васильевне благодарность за ее сердечное и добросовестное отношение к больным в нашей больнице. Послали ей соответственную бумагу, а она в ответ подала мне заявление, что не нуждается в нашей благодарности… Ну как можно это делать?
— А как можно благодарить человека за то, что он исполняет взятые на себя обязанности? — резко возразила Варвара Васильевна. — Благодарят за самое обыкновенное исполнение своих обязанностей! Да ведь это дико! Этак скоро дождешься еще благодарности за то, что не обворовываешь больных и не берешь с них взяток!
Будиновский улыбался, забавляясь ее негодованием.
— Мы благодарили вас именно за особенное отношение к своим обязанностям, а не за обычное, формальное; отзвонил, и с колокольни долой!
— Ну, не стоит об этом говорить! Дело само по себе слишком ясно. Я работаю вовсе не для вашего земского собрания, и мне решительно все равно, одобряет оно меня или порицает.
В ее голосе зазвенели слезы обиды. Она быстро прошлась по кабинету и, закусив губу, остановилась у окна. Будиновский посмеивался. Токареву тоже было немножко смешно. Таня слушала, внимательно насторожившись, глаза ее блестели; у нее создавался новый план.
Вошла горничная и доложила, что подано кушать. Марья Михайловна встала.
— Господа, пойдемте обедать!
Направились в столовую. Таня отстала от других и остановила Будиновского.
— Борис Александрович, мне нужно с вами поговорить.
Будиновский с удивлением посмотрел на Таню и любезно сказал:
— Пожалуйста! В чем дело?
— Видите ли… Вы сейчас рассказывали, как довольна управа службою Варвары Васильевны. Ей еще год нужно отслужить стипендию… Нельзя ли, во внимание к ее выдающейся деятельности, устроить так, чтоб простить ей этот год?
Будиновский, наклонив голову, внимательно слушал.
— Я не совсем вас понимаю… Зачем ей это нужно?
— Затем, что тогда она может уехать отсюда, — в Петербург, например. Ее только отслуживание стипендии и удерживает здесь.
— Я этого не знал.
Будиновский в замешательстве погладил бородку и медленно прошелся по кабинету.
— Откровенно говоря, мне сделать это чрезвычайно неудобно. Вы знаете, Варвара Васильевна — двоюродная сестра моей жены. На меня и так все косятся за мой последний доклад о недостатках постановки народного образования в нашей губернии; если же я предложу сделать, что вы желаете, то все скажут, что я «радею родному человечку»[2].
— Господи, стоит на это обращать внимание!
— Очень даже стоит, — серьезно возразил Будиновский.
— Что же теперь делать? — Таня задумалась. Вот что: тогда познакомьте меня с каким-нибудь другим влиятельным членом управы.
«Вот неугомонная!» — подумал Будиновский и неохотно ответил:
— Сейчас все разъехались из города. Раньше осени все равно ничего нельзя сделать.
— Господа! Идите же обедать! — крикнула из столовой Марья Михайловна.
Таня быстро сказала:
— Только, пожалуйста, не говорите Варе о нашем разговоре.
Они пошли в столовую. По тарелкам уж была разлита ботвинья с розовыми ломтиками лососины и прозрачными кусочками льда. На конце стола сидел рядом с бонной шестилетний сын Будиновских, в матроске, с мягкими, длинными и кудрявыми волосами. Он с любопытством глядел на Токарева и вдруг спросил:
— Зачем у тебя синие очки?
— Ах, Кока, ну что тебе за дело? — рассмеялась Марья Михайловна. — У дяди глазки болят.
— Глазки болят… Тогда нужно компрессы, — уверенно сказал Кока.
— Какой опытный окулист! — улыбнулся Будиновский Токареву.
Марья Михайловна вздохнула.
— Да, тут станешь опытным!.. Всю эту зиму он у нас прохворал глазами; должно быть, простудился прошлым летом, когда мы ездили по Волге. Пришлось к профессорам возить его в Москву… Такой комичный мальчугашка! — Она засмеялась. — Представьте себе: едем мы по Волге на пароходе, стоим на палубе. Я говорю. «Ну, Кока, я сейчас возьму папу за ноги и брошу в Волгу!..» А он отвечает: «Ах, мама, пожалуйста, не делай этого! Я ужасно не люблю, когда папу берут за ноги и бросают в Волгу!..»
Все рассмеялись. Кока, ухмыляясь, оглядывал смеющихся.
В передней раздался звонок. Вошел красивый студент в серой тужурке, с ним молодая девушка — розовая, с длинною косою. Это приехали за Варварой Васильевной из деревни ее брат Сергей и сестра Катя.
Сергей, только что вошел, быстро спросил:
— Получила отпуск?
— Получила!
— Чудесно! Значит, едем!
— Сережа, Катя! Садитесь скорей, ешьте ботвинью! — сказала Марья Михайловна.
Пришедшие поздоровались. Сергей крепко и радостно пожал руку Токареву, — видимо, он уж слышал о нем от сестры.
— А мы с Катей приехали, сунулись к тебе, — обратился Сергей к Варваре Васильевне. — Тебя нету, сидит только девица эта… Как ее? С психологической такой фамилией. Сказала, что вы сюда пошли… Ну, а ты, шиш, как поживаешь? — спросил он Коку. — Дифтеритом не заразился еще? Пора бы, брат, пора бы тебе схватить хороший дифтеритик.
— Ах, Сережа, ну что это такое?! — воскликнула Марья Михайловна.
— Нет, ей-богу, следовало бы ему заразиться! Живут в деревне, мать — по образованию фельдшерица и не позволяет бабам приносить к себе больных ребят, — заразят ее Коку!
Марья Михайловна заволновалась.
— Ну, Сережа, мы лучше об этом не будем говорить! Я не могу заниматься общественными делами. Женщина, имея детей, должна жить для них — это мое глубокое убеждение.
Сергей изумленно вытаращил глаза.
— Какое же это общественное дело — каломелю или хинину дать ребенку?
— Мы делаем для народа все, что можем. Благодаря Борису в нашем уезде прибавлено восемь новых фельдшерских пунктов, увеличена сумма, отпускаемая на лекарства… Мы за это имеем право не подвергать опасности Коку. Я могу жертвовать собою, а не ребенком… Владимир Николаевич, что ж вы себе лафиту не наливаете? Боря, налей Владимиру Николаевичу… Нет, право, эта молодежь — такая всегда прямолинейная, — обратилась она к Токареву. — Недавно продали мы наше мценское имение, — только одни расходы с ним. Сережа смеется: будете, говорит, теперь стричь купоны?.. Я решительно не понимаю, — что ж дурного в том, чтоб купоны стричь? Почему это хуже, чем хозяйничать в имении?
— Я ничего против купонов не имею, — возразил Сергей с легкой улыбкой. — Но Борису Александровичу не восемьдесят лет, чтобы сидеть на ворохе бумаг и резать купоны.
— Это все равно. Мы не имеем права рисковать капиталом.
— Почему так?
Марья Михайловна поправила кольца на белых, мягких пальцах.
— Деньги от мценского имения целиком должны остаться для Коки.
После цыплят подали мороженое, потом кофе. Сергей перешептывался с Таней. Будиновский курил сигару и своим медленным, слегка меланхолическим голосом рассказывал Токареву об учрежденном им в Томилинске обществе трезвости.
— А какую прекрасную публичную лекцию в пользу этого общества прочел у нас недавно Осьмериков, Алексей Кузьмич, — обратилась Марья Михайловна к Токареву. — О рентгеновских лучах… Это учитель гимназии нашей, — такой талантливый человек, удивительно! И как его дети любят! Вот, если бы у нас все такие учителя были, я бы не боялась отдать Коку в гимназию.
— Действительно, удивительно дети его любят, — сказала Варвара Васильевна. — Весною встретилась я с ним на улице, идет в целой толпе гимназистиков. Разговариваю с ним, а мальчуган сзади стоит и тихо, любовно гладит его рукою по рукаву… Так жалко его, беднягу, — в злейшей чахотке человек.
— Только ужасно долго он лекцию эту читал, — улыбнулась Марья Михайловна. — Два часа без перерыву. Хоть и демонстрации были, а все-таки утомительно слушать два часа подряд.
— Да, у нас вообще не привыкли долго слушать, — сказал Токарев. — Вот в Германии, там простой рабочий слушает речь или лекцию три-четыре часа подряд, и ничего, не устает.
— Так это почему? Они сидят себе, пьют пиво и слушают; женщины вяжут чулки… Когда чем-нибудь занимаешься, всегда легче слушать. Да вот, например, мы иногда с Борисом читаем по вечерам «Русское богатство». Я читаю, а он слушает и рисует лошадиные головки. Это очень помогает слушать.
Сергей расхохотался.
— Ч-черт знает, что такое… Лошадиные головки… А ведь остроумно вы это придумали!
Он смеялся самым искренним, веселым смехом. Будиновский сконфузился и нахмурился.
— Ну, Маша, что ты такое рассказываешь? Просто, я вожу машинально карандашом по листу, а по твоему рассказу выходит так, что без лошадиных головок я и слушать не могу.
Марья Михайловна стала оправдываться.
— Нет, я только говорю, что это все-таки помогает сосредоточиваться. Ведь, правда, как-то легче слушать.
Сергей несколько раз замолкал и опять прорывался смехом. Таня скучала. Варвара Васильевна перевела разговор на другое.
Опять раздался звонок. Вошел господин невысокого роста и худой, с большою, остриженною под гребешок головою и оттопыренными ушами; лицо у него было коричневого, нездорового цвета, летний пиджак болтался на костлявых плечах, как на вешалке.
— А-а, Алексей Кузьмич! — приветливо протянула Марья Михайловна. — Вот легок на помине. А мы только что говорили о вашей лекции. Все от нее положительно в восторге.
— Угу! — пробурчал Осьмериков и подошел поздороваться, — подошел, втянув наклоненную голову в поднятые плечи, как будто ждал, что Марья Михайловна сейчас ударит его по голове палкою.
— Ну, здравствуйте, — сказал он сиплым голосом, сел и нервно провел рукой по стриженой голове. — А я слышал от Викентия Францевича, что вы приехали, вот забежал к вам… Да, вот что! Кстати! — Осьмериков тусклыми глазами уставился на Сергея. — Скажите, вы не знаете, Коломенцев Александр кончает в этом году?
— Уж кончил, кажется, — небрежно ответил Сергей. — Даже при университете оставлен.
— А-а! — хрипло произнес Осьмериков. — Дай бог дай бог!
— Ну, не знаю, чего тут «дай бог». Ведь это полнейшая бездарность.
Осьмериков своим сиплым, срывающимся голосом возразил:
— Зато работник! Это гораздо важнее! Для жизни нужны работники, а не одаренные люди… Ох, уж эти мне одаренные люди! Вы мне, пожалуйста, не говорите про них, я им ничего не доверю, никакого дела, — вашим «одаренным людям».
— Одн-нако! — удивился Сергей. — Уж что-что другое, а бездарность — профессор — это нечто прямо невозможное.
— Да ведь светочей-то среди них — всего два-три процента, не больше! — воскликнул Осьмериков. — А остальные… Вот я недавно был в Москве на физико-математическом съезде. Ужас, ужас!.. У-ужас! — Он поднялся с места и быстро огляделся по сторонам. — Где люди? Нету их. Профессор математики, ученый человек, европейская величина, а заставь его поговорить с ребенком — он не может! Слишком сам он большая величина. Ребенок для него — логарифм! Вот этакая коробочка, в которую нужно запихивать знания, пихай! Извольте видеть? Во-от-с!.. А я вам скажу: умный человек не тот, кто умеет логически мыслить, а тот, кто понимает чужую логику и умеет в нее войти. Вот иной раз у меня же в классе. Толкуешь, толкуешь мальчишке, — никак не возьмет в толк. Кто виноват? Я! Я не поймал его логики!.. Вызовешь другого мальца: ты понял? — Понял! — Ну, ступай с ним за доску, объясни ему там… И объяснит. А я вот, старый дурак, не сумел!
Он снова быстро сел на стул и придвинулся с ним к столу. Сергей неохотно возразил:
— Так вот, ведь вы, именно, и доказываете, что педагогом может быть только одаренный человек.
— Нет-с, нет-с, я этого не доказываю! Нужно быть только добросовестным работником, не смотреть на жизнь свысока, не презирать ее! Не презирать чужой души, не презирать чужой логики!
Осьмериков говорил быстро, нервно и глядел на Сергея тусклыми, как будто бесцветными и в то же время проницательными глазами.
— Бездарный работник именно на это-то и не способен, — сказал Сергей.
— Почему нет? Почему нет?
— Потому что он слишком преклоняется перед…
— Почему нет?
— …перед собственной логикой. Она для него все.
— Нам нужны «большие дела», на малые мы плюем. Почему нет?
Осьмериков снова порывисто встал и начал оглядываться, как будто собирался немедленно уйти, потом опять сел.
— «Одаренные люди»!.. О господи! Избави нашу жизнь от одаренных людей! Они-то все и баламутят, они-то и мешают нормальному течению жизни… Вот, я вам прямо скажу: вы — одаренный человек. Я все время видел это, когда вы были моим учеником. И тогда же я сказал себе: для жизни от вас проку не будет… Вас вот в прошлом ходу исключили из Московского университета, через год исключат из Юрьевского. И кончите вы жизнь мелким чинушей в акцизе или сопьетесь с кругу. Почему? Потому что нам нужно «большое дело», обыденный, будничный труд для нас скучен и пошл, к «пай-мальчикам» мы питаем органическое отвращение!
— Верно! Прямо органическое отвращение питаю!
Осьмериков обрадовался.
— Ну, во-от! Не правда, что?.. Серые, обыденные люди для вас не существуют, они для вас — вот тут, под диваном… Милый мой, дорогой! Жизнь жива серыми, тусклыми людьми, ее большое дело творится из малого, скучного и ничтожного!
Таня встала.
— Мне пора идти! — сказала она. — Нужно еще поспеть в статистический комитет.
— Господа! Пойдемте, нам ведь тоже уж давно пора! — обратился Сергей к остальным.
III
Они вышли. Вечерело. Вдали еще шумел город, но уже чувствовалась наступающая тишина. По бокам широкой и пустынной Старо-Дворянской улицы тянулись домики, тонувшие в садах. От широкой улицы они казались странно маленькими и низенькими.
— Кто этот гриб? — спросила Таня.
Сергей усмехнулся.
— Осьмериков-то?.. Чистая душа!.. Ведь действительно вся душа светится. Но сколько он народу среди учеников перепортил своею чистою душою!
— Как душно с ними! — Таня быстро повела плечами. — И какое все кругом маленькое, низенькое, смирное! Совсем вот, как эти домики… И арифметика, и чувства — все какое-то особенное: малое больше большого, серое ярче красного.
— А как вы нашли Марью Михайловну? — обратилась Варвара Васильевна к Токареву.
— Какая она стала… мягкая и белая! — улыбнулся Токарев.
— Страшно! Страшно, как человек меняется! — задумчиво сказала Варвара Васильевна. — Ведь одно лишь имя осталось от прежнего. Что значит семья и дети…
— Да, — вздохнул Сергей, — много я видал семейных счастий и нахожу, что на свете ничего нет тухлее семейного счастья.
— И это положительно что-то роковое лежит в женщине, — продолжала Варвара Васильевна, — ребенок заслоняет от нее весь большой мир… Нет, страшно, страшно!.. Никогда бы не пошла замуж!
Таня с неопределенною улыбкою возразила:
— Я не знаю, — отчего? Все зависит от самого человека. Я бы вышла, если бы захотела.
— Совершенно с вами согласен, — решительно сказал Сергей. — Люди устраивают себе тухлятину. Виноваты в этом только они сами. Почему отсюда следует, что нужно давить себя, связывать, взваливать на себя какие-то аскетические ограничения? Раз это — потребность, то она свята, и бежать от нее стыдно и смешно… Эх, ночь какая будет! Господа, чуете? Давайте, выедем сегодня же. Лошади отдохнули, а ночи теперь лунные, светлые… Заберем всю колонию с собою и поедем.
У Тани разгорелись глаза.
— Вот это славно!.. Им всем полезно будет отдохнуть: в Питере жили черт знает как, на голоде сами голодали, а тут уж совсем пооблезли… Превосходно! Все и поедем!
Когда они пришли в колонию, там все сидели за работой. Сергей объявил:
— Ну, ребята, одевайтесь! Едем в деревню!
— Да ну-у? — просиял Борисоглебский. — Вот так здорово! Серьезно?
Таня оживленно говорила:
— Статистику заберем с собою, и там можно будет работать! А деревня, говорят, чудесная. Славно недельку проживем.
Митрыч слабо свистнул и с торжествующим видом запрыгал по комнате, неуклюже поднимая ножищи в больших сапогах.
— Чай, и простокваша есть у вас там?.. Собирайся, ребята!
— Ишь, зачуял простоквашу, взыграл!.. Ну, забирайте вашу статистику, одевайтесь. А я пойду на постоялый, велю закладывать лошадей. — Сергей ушел.
Варвара Васильевна сказала:
— Только, господа, еще одно: нужно будет и Ольгу Петровну взять ссобою, Темпераментову.
Таня скорбно уронила руки и застонала.
— Ну, Таня, ну что же делать? Пускай и она немного отдохнет. Ведь совсем, бедная, заработалась за зиму.
— Отрава! — вздохнул Митрыч. — Аппетита к жизни лишает человека! А что оно, конечно, того… Нужно же и девчонке отдохнуть, это верно.
В девятом часу вечера из города выехал запряженный тройкою тарантас, битком набитый народом. Сидели на козлах, на приступочках, везде. Сергей правил.
— Селедки, селедки моченые! — тонким голосом кричал Шеметов, когда навстречу попадались проезжие мужики.
Тарантас выкатил на мягкую дорогу. Заря догорела, взошла луна. Лошади бежали бойко, Сергей ухал и свистал, в тарантасе спорили, пели, смеялись.
Была глухая ночь, когда гости приехали в Изворовку. Их не ждали. Встала хозяйка Конкордия Сергеевна Изворова, суетливая, радушная старушка. Подали молока, простокваши, холодной баранины. Сонные девки натаскали в гостиную свежего сена и постелили гостям постели. Уж светало, когда все — оживленные, веселые и смертельно усталые — залегли спать и заснули мертвецки.
IV
Изворовка была старинная барская усадьба — большая и когда-то роскошная, но теперь все в ней разрушалось. На огромном доме крыша проржавела, штукатурка облупилась, службы разваливались. Великолепен был только сад — тенистый и заросший, с кирпичными развалинами оранжерей и бань. Сам Изворов, Василий Васильевич, с утра до вечера пропадал в поле. Он был работник, хозяйничал усердно, но все, что вырабатывал с имения, проигрывал в карты.
Жизнь для гостей текла привольная. Вставали поздно, купались. Потом пили чай и расходились по саду заниматься. На скамейках аллей, в беседках, на земле под кустами, везде сидели и читали, — в одиночку или вместе. После завтрака играли в крокет или в городки, слушали Катину игру на рояли. Вечером уходили гулять и возвращались поздно ночью. Токарев чувствовал себя очень хорошо в молодой компании и наслаждался жизнью.
Прошла неделя. Завтра «колония» должна была уезжать. На прощание решили идти куда-нибудь подальше и прогулять всю ночь. Был шестой час вечера. Токарев и студенты сидели с простынями под ближними елками и ждали, когда выкупаются барышни. День был очень жаркий и тихий, в воздухе парило.
Сергей крикнул:
— Эй, девицы! Скорей! Прохлаждаются себе уж два часа, а тут кисни… Эй, барышни! Потопли вы там, что ли?
От террасы быстро прошла по дорожке Таня с простынею на плече и книгою под мышкой.
— Тэ-тэ-тэ!.. Татьяна Николаевна! Это что же, вы только еще идете купаться?
Таня быстро ответила:
— Я в одну минуту буду готова, только один раз окунусь.
— Слушай, Таня, ведь это невозможно, — раздражаясь, сказал Токарев. — Ведь кричали тебе купаться, — нет, сидела и читала, а знаешь, что люди ждут. А когда кончают, теперь идешь. Еще полчаса ждать!
— Ну, вот увидишь, я с ними в одно время ворочусь. — И Таня прошла.
Токарев прикусил губу, стараясь не показать своего раздражения. Как раз вчера утром он проспал и шел купаться, когда там уже купались, а Таня сидела под елками и ждала. Она энергично воспротивилась и не пустила его, — по одиночке будете ходить, так целый день придется тут ждать… А сегодня сама делает то же самое… Шеметов сидел на столе и лениво раскачивал ногами.
— Черт возьми, голова трещит! Облом этот Митрыч в восемь часов сегодня поднял… Слушай, Сережка, убери ты его, пожалуйста, от нас в другую комнату, я с ним, с подлецом, не могу спать.
Митрыч, осклабив лицо, посмеивался.
— Ты же сам вчера просил разбудить тебя.
— А сегодня утром я тебя просил не будить… Черт знает, как восемь часов, — хватает и стаскивает с постели. Этакая свинья!
— А уж Сашка-то тут извивается! — засмеялся Вегнер. — Осторожнее, ты меня запутал!.. Ой, Митрыч, оставь, я очень похудел!.. Бог знает, что говорит, и самым серьезным, озабоченным тоном.
— Потеха у нас… того… бывает с ними по утрам! — обратился Митрыч к Токареву. — Вечером просят будить: это, говорят, разврат — спать до полудня. Ну, я и стараюсь. Значит, стащишь Сашку с постели, он ругается, а потом вдруг вскочит и бросится немца стаскивать.
Шеметов сердито говорил:
— Нет, я, главное, не понимаю, для чего будить! Невыспавшийся человек не в состоянии работать; что же он? Будет только сидеть над книгой и клевать носом. Это все равно, что пустым ведром воду черпать!
— Гм… — Сергей задумался. — А ты полагаешь, что обыкновенно воду черпают полным ведром?
— Полным, пустым — мне все равно. Я ваших глупых пословиц вовсе не желаю знать.
— Он вообще насчет пословиц и цитат любитель, — заметил Вегнер. — Вчера вдруг провозглашает:
На свете много есть, мой друг Горацио, Чего нехитрому уму не выдумать и ввек!Уверяет, что это Шекспир сказал…[3]
Сергей заорал:
— Эй, вы, девицы! Скоро вы?
От пруда донесся голос Тани:
— Сейча-ас.
Но там все слышались плеск воды и смех.
Токарев кипел. Что за бесцеремонность! Она даже и не считает нужным поторопиться!.. Вообще за эту неделю у Токарева много накопилось против Тани. Приехавшая с ними из Томилинска Темпераментова была действительно невыносимо скучна, но так третировать человека, как третировала ее Таня, было положительно невозможно. Больше же всего Токарева возмущало в Тане ее невыносимое разгильдяйство, — она приехала сюда, не взяв с собою из одежды решительно ничего, — не стоит возиться, а тут без церемонии носила белье и платья Варвары Васильевны и Кати. Так же она относилась и к чужим деньгам: Токарев из своего скудного заработка в Пожарске высылал ей в Петербург денег, чтоб дать возможность кончить курсы; ни разу она не отказалась от денег, хотя могли же быть у нее хоть иногда кой-какие заработки; этою весною она вышла с курсов, ничего ему даже не написала, а деньги от него продолжала получать.
Наконец, со стороны пруда раздалось:
— Идите!.. Можно!
Барышни поднимались по тропинке. Таня сказала Токареву:
— Ну, видишь, в одно время кончила со всеми!
Он ничего не ответил и прошел мимо.
Горячее солнце играло на глади большого пруда, старые ивы на плотине свешивали ветви к воде. От берега шли мостки к купальне, обтянутой ветхою, посеревшею парусиною, но все раздевались на берегу, на лавочках под большою березою
Шеметов и Сергей лениво разделись и остались сидеть на скамейке. Вегнер уж давно был в воде. Маленький и юркий, он, как рыба, нырял и плескался посредине пруда. Шеметов спросил:
— Слушай, немец, вода теплая?
— Приятная! — значительно крикнул Вегнер.
— Гм… — Шеметов взошел на мостки и попробовал ногою воду. — Да-а, «приятная»!..
Борисоглебский стоял на берегу — огромный, мускулистый и голый, обросший жесткими черными волосами, с странно щурившимися без очков глазами. Протянув руку вперед, он пел своею глубокою, рычащею октавою:
Проклятый мир! Презренный мир! Несчастный, Ненавистный мне…Ой, черт!..
Шеметов с мостков брызнул в него водою. Борисоглебский серьезно сказал:
— Ну, что за свинья! Ведь холодная она, вода-то! — Он потер себе бок и продолжал:
Несчастный, Ненавистный мне мир!..Сергей перемигнулся с Шеметовым и Вегнером, с невинным видом вошел в воду, — и на Митрыча полился целый дождь брызг.
— Чер-рти!! — зарычал Митрыч и ринулся на них. Вегнер и Сергей, как лягушки, бросились в воду. Шеметов перед носом Митрыча захлопнул дверь купальни и заперся на крючок. Митрыч, сильный, как медведь, плавал плохо и в воде чувствовал себя неуверенно.
— Погодите вы, черти! Выйдете на берег, я вас каждого заставлю «Проклятый мир» спеть!
Шеметов из купальни крикнул:
— Ребята! Заключим против него общий морской союз!
— Идет! — отозвался с середины пруда Сергей. — Лезь в воду, Сашка!
— Да вода, брат, холодная!
Борисоглебский на берегу пел:
Сражался я, искал я смерти, Но остался жив…Сергей и Вегнер тихо, стараясь не шуметь, подплывали к купальне.
— Ой, подлецы!.. Карау-ул!! — завопил вдруг в запертой купальне Шеметов под хохот других голосов. Сергей и Вегнер нырнули в купальню и обрызгали Шеметова.
— Ой!.. Погодите, мне вам что-то нужно сказать! — кричал Шеметов, а вода бурлила в купальне, и брызги взлетали высоко вверх.
Дверь хлопнула, и Шеметов бомбою вылетел на берег.
И будешь ты царицей ми-и-ира Подруга первая моя…[4] —рявкнул Борисоглебский и, широко расставив руки, облапил Шеметова.
Шеметов серьезным, озабоченным тоном говорил:
— Ой, Митрыч, погоди! Что мне тебе нужно сказать!.. Поосторожнее, пожалуйста, я запутался!
— Он запутался! — смеялись в купальне.
— Пой: «Проклятый мир!»
— Убирайся к черту!.. Ах ты, кутья несчастная!
Шеметов ловко дернулся и охватил Борисоглебского. Началась борьба. Шеметов, ловкий и стройный, искусно увертывался от попыток Митрыча сломить ему спину. Тела переплелись, напрягшиеся крепкие мышцы оставляли на коже красные следы. Митрыч с силою налег на Шеметова, тот увернулся и брякнул Митрыча наземь, но Митрыч уж на земле подмял его под себя.
Задыхаясь, он навалился на Шеметова.
— А-а, брат!.. Ну, пой: «Проклятый мир!»
И запустил ему толстый большой палец под ребра.
— Бо-ольно, Митрошка!
— Пой: «Проклятый мир!»
— Ой-ой!.. Кишки выдавишь, свинья!
— Пой, — сейчас пущу!.. «Прокля-атый мир!..»
Шеметов неистово завопил:
— «Проклятый мир!»
— «Презре-енный мир!.. Несчастный!..» — подсказывал Борисоглебский и ворочал пальцем под ребрами Шеметова.
— «Презренный мир!..» Ой, Митрофан проклятый, саврас без узды!..
Митрыч мрачно и сосредоточенно подсказывал:
— «Несча-астный…»
— «Несча-астный…»
— Морской союз идет на континент! — крикнул Сергей.
Он и Вегнер выскочили из воды и вцепились в Митрыча.
Четыре тела слились в общую кучу. Они возились и барахтались на траве. Мелькало красное, напряженное лицо Митрыча и его огромные мускулистые руки, охватывавшие сразу двоих, а то и всех троих. Токарев сидел на скамейке, смеялся и смотрел на борьбу. Ему бросилось в глаза злобно-нахмуренное лицо Сергея, придавленного к земле локтем Митрыча. Наконец, Борисоглебского подмяли под низ, и все трое навалились на него.
Все еще со злым лицом, Сергей запустил ему палец в живот и крикнул:
— Пой: «Проклятый мир!»
— «Прокля-атый мир!» — покорно заорал Митрыч — так дико, что галки на ивах всполохнулись и с криком полетели прочь.
— Дальше.
— «Презре-енный мир!.. Несчастный!.. Ненавистный мне мир!..»
Его выпустили. Все поднялись — красные, взлохмаченные, задыхающиеся. Шеметов поглаживал ладонью бока и возмущался.
— Этакая гнусная привычка! Чуть что, сейчас палец под девятое ребро, — рад, что анатомию знает, — и пой ему: «Проклятый мир…» Да, может быть, я в этот момент совсем не расположен петь?
— Скоты этакие! Самому мне все брюхо разворочали! — сказал Митрыч.
— Ну, ребята, довольно возиться! — объявил Шеметов. — Нужно купаться. Чур, не брызгаться… — Он вздохнул. — Только у меня что-то уж и охота прошла в воду лезть.
— А раньше большая охота была! — засмеялся Вегнер.
— Молчи ты, плюгаш паршивый! Предатель! Я с тобою и разговаривать не хочу… Владимир Николаевич, — обратился он к Токареву, — пойдемте в купальню, как полагается приличным людям.
Он взял Токарева под руку и важно прошел с ним в купальню.
— Ишь, всю купальню замочили! Порядочному человеку и выкупаться нельзя!
— Ну, вправду, ребята, чур, не брызгаться! Будет! — сказал Борисоглебский.
Вегнер и Сергей поплыли на ту сторону пруда. Митрыч три раза окунулся в купальне и вылез в пруд.
— У-y, пес твою голову отверти! Хорошо!
Он в восторге гоготал, подпрыгивал и окунался до плеч. Токарев тоже влез в воду. Только Шеметов стоял, опираясь о перекладину купальни, и болтал ногою в воде. Он ворчливо говорил:
— Ключи у вас здесь какие-то бьют на дне, что ли? Вода какая холодная!
— Лезь, Сашка, а то опять обрызгаю! — крикнул с того берега Сергей.
— Я тебе «обрызгаю»! — погрозился Шеметов и вздохнул. — Нет, ей-богу, я нахожу это прямо безнравственным: зачем я буду насиловать свое тело? Я и без того прозяб, инстинкт тянет меня согреться, а какой-то нелепый долг повелевает лезть в холодную воду.
Митрыч стоял по грудь в воде и мылил голову. Шеметов встрепенулся, тихонько соскользнул в купальню и исчез под водою.
— У-у-уй!!! — завопил Митрыч и шарахнулся к берегу.
Из воды вынырнуло смеющееся лицо Шеметова.
— Ну, брат, напугал ты меня! Я думал — рак!
— «Ра-ак…» Будешь ты вперед «Проклятый мир» заставлять меня петь?
Сергей крикнул:
— Ну, ребята, одевайся! Скорей! А то поздно будет!
Они оделись и пошли к Дому.
На широкой каменной террасе, заросшей диким плющом, кипел самовар. Все уж пили чай. Конкордия Сергеевна растирала деревянною ложкою горчицу в глиняной миске.
Катя выставила из-за самовара свое розовое молодое лицо и лукаво спросила:
— Какую это вы, Шеметов, песню пели на берегу?
Шеметов вздохнул:
— Это мы с Митрычем спевались. Дуэт из «Демона». Он Демона пел, а я Тамару, — томно сказал он. — А что, хорошо? Производит эстетическое впечатление?
— Прелестно! Производит…
— То-то! — проворчал Шеметов. — А вы думали, что только вы способны доставлять эстетическое наслаждение, разыгрывая своих Шопенгауэров?
Катя расхохоталась и в восторге забила в ладоши. Варвара Васильевна невинно спросила:
— А это хороший композитор — Шопенгауэр?
— Он Шопена хотел сказать! — засмеялась Катя. И все засмеялись. Шеметов презрительно оглядывал их.
— Смеются!.. Как будто композиторы бывают только в области музыки!
— А где ж они еще бывают? — спросил Вегнер.
— Где! Да хоть в философии. Среди твоих немцев есть целый ряд философов-композиторов, — например, тот же Шопенгауэр, Ницше… Платон…
— Да Платон вовсе не немец.
— Поэтому я об нем и не говорю. Вот еще — Фихте…
— Ну, ну, припомни, каких ты еще философов слышал, — засмеялся Сергей. — Вали: Гегель, Лейбниц, Шеллинг, Кант…
Шеметов сердито ответил:
— Нет, они были сухими рационалистами. В них не было этого… порыва, экстаза, что ли…
— Какой нахал! — вздохнул Вегнер.
— А каким голосом говорит свирепым, как будто хочет смертоубийство совершить? — воскликнула Варвара Васильевна.
— Я самым обыкновенным голосом говорю.
— Да, обыкновенным! — сказала Катя. — Мама, смотри, он тебе голову скусит! Налей ему поскорее чаю, умилостивь его!
— А, чтоб вас бог любил! — смеялась Конкордия Сергеевна, разливая в стаканы чай.
Все усердно ели и пили. Пришел Василий Васильевич, загорелый старик в больших сапогах и парусиновом пиджаке. Конкордия Сергеевна налила ему чай в большую, фарфоровую кружку с золотыми инициалами. Василий Васильевич стал пить, не выпуская из рук черешневого мундштука с дымящеюся папиросою. Он молча слушал разговоры, и под его седыми усами пробегала легкая, скрытая усмешка.
Таня встала.
— Ну, господа, напились? Пойдемте!
— Идем!
V
Быстрым шагом они шли по дороге среди ржи. Солнце садилось в багровые тучи. Небо было покрыто тяжелыми, лохматыми облаками, на юге стояла синеватая муть.
Безветренный, неподвижный воздух как будто замер в могильной тишине.
Сергей, с странным, нервным блеском в глазах, радостно потер руки.
— Гроза будет! Чуется в воздухе!
— Господа, пойдемте подальше! — оживленно сказала Таня. — Ведите, Сергей Васильевич!.. Да поскорее, господа, что так медленно?
Катя засмеялась:
— Медленно! И так почти бежим.
— Правда; гроза будет? — встрепенулась Темпераментова. — Так тогда лучше воротиться, захватить калоши; а то все утонем.
Шеметов проворчал:
— От утопления калоши не могут спасти.
Ольга Петровна радостно засмеялась и поправилась:
— Не от утопления, а чтоб ноги не промочить.
Митрыч неуклюже шагал по пыли своими большими сапогами. Слегка заикаясь, он заговорил:
— Не только не спасут калоши, а в них и топиться ходят. У нас в селе, где мой батька псаломщиком служил, был поп, у него сын, в семинарии учился со мною. Смирный был мальчишка, того… Скромный. Ну, ладно. Вот раз попал он в компании на ярмарку, — то, другое, и напился вдрызг, до риз положения; не знает, как домой попал. Утром проснулся — голова трещит, лохматый; лежит и стонет: «Олёна, а Олёна! Подай мои колоши!..» У нас там, в Олонецкой губернии, на о говорят. Вышел на двор, вцепился в волосы… «О, позор, позор!.. Где мои колоши? Пойду утоплюся!..»
Катя вдруг воскликнула:
— Господа, посмотрите, что наверху делается!
Тучи — низкие, причудливо-лохматые — горели по всему небу яркими красками. Над головою тянулось большое, расплывающееся по краям, облако ярко-красного цвета, далеко на востоке нежно розовели круглые облачка, а их перерезывала черно-лиловая гряда туч. Облако над головою все краснело, как будто наливалось кроваво-красным светом. Небо, покрытое странными, клубящимися тучами, выглядело необычно и грозно.
— Смотрите, господа, смотрите, какое у Митрыча красное лицо, — засмеялась КатяГ
— Да у вас еще краснее, — возразил Шеметов.
— У всех, у всех! Господа, посмотрите друг на друга! И дорога! и всё!
Лица были алы, дорога и рожь казались облитыми, кровью, а зелень пырея на межах выглядела еще зеленее и ярче. На юге темнело, по ржи изредка проносилась быстрая нервная рябь. Потянуло прохладою, груди бодро дышали.
— Вперед, господа, вперед! — торопила Таня. — Эх, славно!
Они шли как раз навстречу надвигавшимся с юга тучам. Там поблескивала молния, и слышалось глухое ворчание грома. Облако над головою сузилось, вытянулось и стало лиловым. Все облака наверху стали темнеть.
Варвара Васильевна сказала:
— А там-то какая идиллия, посмотрите! На севере, на бирюзово-синем небе, белели легкие облачка, все там было так тихо, мирно и спокойно…
— Туда посмотреть и потом сразу обернуться сюда — совсем два различных мира.
Далеко на дороге взвилось большое облако пыли и окутало серевшие над рожью крыши деревни. Видно было, как на горе вдруг забилась старая лозина. Ветер рванул, по ржи побежали большие, раскатистые волны. И опять все стихло. Только слышалось мирное чириканье птичек. Вдали протяжно свистнула иволга.
— Господа, не присядем ли мы здесь на минутку? — сказала Ольга Петровна.
У перекрестка дороги шел углом невысокий вал, отгораживавший мужицкие конопляники. По ту сторону дороги высился запущенный сад, сквозь плетень виднелись заросшие дорожки и куртины.
Таня враждебно оглядела Темпераментову.
— Ну, вот еще!.. Дальше, господа, дальше пойдем!
Токарев решительно сказал:
— Нет, я тоже устал, присядем.
— Ну, что ж, присядем, — согласилась Варвара Васильевна.
Ольга Петровна, Катя и Вегнер устало опустились на вал.
— Погодите, давайте тогда большинством голосов решим, — предложила Таня.
Токарев возмутился.
— Я решительно не понимаю, как такие вещи можно решать большинством голосов! Я удивляюсь, у тебя нет самого элементарного чувства товарищества. Многие устали, не могут идти, а ты хочешь большинством голосов заставить их тащиться за собою.
— Да о чем тут говорить? Отдохнем немного, того… покурим, и пойдем дальше, — примирительно произнес Митрыч и сел.
И все сели. Таня презрительно повела головою.
— Эх вы, ползучие люди!
Она продолжала стоять и жадно глядела в надвигавшиеся тучи.
Черно-синие, тяжелые, они медленно нарастали, поблескивая молниями. Гром доносился уже совсем явственно; за полверсты, на склоне горы, вдруг бешено забилась и зашумела роща, и этот шум было странно слышать рядом с неподвижным, молчащим садом. Вскоре заревел и он; деревья заметались, сверкая изнанкою листьев.
Сергей продекламировал:
Ночь будет страшная, и буря будет злая. Сольются в мрак и гул и небо и земля…[5]Токарев удивился.
— Сергей Васильевич, вы знаете Фета?
Удивился и Сергей.
— А почему бы мне его не знать? Очень даже его люблю!
— Сережа, прочти все стихотворение! — коротко сказала Варвара Васильевна, подперев подбородок и глядя вдаль.
Таня стояла и жадно дышала бодрым, прохладным ветром.
— Господи, я положительно этого не могу понять!.. Тут настоящая, живая гроза идет, а они сидят и стихи читают про грозу!.. А ну вас! Шеметов, пойдемте вперед! Мы воротимся.
— Идем! — Шеметов вскочил.
— А, черт! Я тоже с вами! Чего тут киснуть? — Сергей тоже вскочил.
Они втроем пошли по дороге навстречу ветру. На юге сверкали яркие зигзаги молний, гром доносился громко, но довольно долго спустя после молний. Далеко на дороге, на свинцовом фоне неба бился под ветром легкий светло-желтый шарф на голове Тани и ярко пестрели красная и синяя рубашки Сергея и Шеметова.
Митрыч лежал на животе и жевал сухую былинку.
— А гроза-то замешкается! — лениво сказал он.
Тучи, действительно, как будто остановились, ветер упал. Наверху вяло двигались клочковые облака — серые, бессильные. Наступила тишина — природа словно подозрительно прислушивалась. Потом вдруг все оживилось. Птицы беззаботно зачирикали.
Варвара Васильевна глядела на неподвижные тучи.
— Господи, да ведь они вправду остановились!
— А те-то, несчастные! — засмеялась Катя. — Смотрите: стоят и ждут!
Митрыч зычно крикнул: — Эй-эй, ребята! Спектакль отложен, ворочайтесь!
Прошло пять минут, десять. Воздух и небо были неподвижны. Таня, Сергей и Шеметов повернули назад.
— А что, хорошая гроза? — спросила Катя.
Шеметов повалился на траву.
— О позор, позор! Где мои колоши? Пойду, утоплюся!
— Ну, свалился! — возмутилась Таня. — Вставайте же, господа, пойдемте, наконец! Неужели еще не отдохнули?
Встали и пошли дальше. Темнело. Тучи на юге висели неподвижно, помигивая молниями. Дорога, обогнув овсы, шла в густой Давыдовский лес.
Варвара Васильевна заговорила:
— Эх, славная вещь гроза! Люблю ее! Странное она производит впечатление; она так поднимает, в ней есть что-то такое уверенное, несомненное и творческое… Кажется, — здесь, под грозой, не может быть никаких раздумий и колебаний; все, что будешь делать, будет хорошо нужно и будет как раз то, что и следовало делать. А как это хорошо, — действовать, не раздумывая, когда тебя подхватит и понесет вперед большая, могучая сила!..
— Оно так теперь и есть, — сказала Таня.
Варвара Васильевна помолчала.
— Где же оно есть? Так, на минуту, нам показалось было, что что-то есть. Но это оказалось миражом. Опять все замутилось, опять темно; всё по-обычному мелко, вяло и слабо. И нет, нет того революционного прилива, который бы подхватил людей целиком, нет бодрящего воздуха, в котором бы и слабые крепли, и падали бы сомнения, и рос бы дух. Дорога была найдена, но она оказалась книжною. Таня воскликнула:
— Господи, «книжною»?.. Варя, вы, значит, совсем слепы, вы ничего не видите кругом!
— Я все, мне кажется, вижу. Робкие, слабые намеки на что-то… Помнится, Достоевский говорит о вечном русском «скитальце»-интеллигенте и его драме. Недавно казалось, что вопрос, наконец, решен, скиталец перестает быть скитальцем, с низов навстречу ему поднимается огромная стихия. Но разве это так? Конечно, сравнительно с прежним есть разница, но разница очень небольшая: мы по-прежнему остаемся царями в области идеалов и бесприютными скитальцами в жизни.
Сергей раздраженно пожал плечами.
— Что ты такое городишь? Я решительно ничего не понимаю! — Лицо его, с тех пор как они с Таней и Шеметовым воротились к перекрестку, было злое и серое.
— Я говорю, что у нас все хорошо и стройно только в теории. Вот мы идем вместе и разговариваем — люди всё благомыслящие и единомыслящие. Наши идеалы велики и светлы, мы горды собою и своим миросозерцанием. Но столкнешься с жизнью, — и все это тускнеет, и все становится таким маленьким и жалким по своей беспочвенности… И жизнь говорит: ты горда собою, и горда по праву, и как ты можешь поступаться всею полнотою и правдою твоих идеалов? Но вместе с этим, — а может быть, как раз вследствие этого, — ты слепа и неумела, и жизнь тебя отметает… Иногда мне почти кажется, что я слышу прежнее страшное: не суйся!..
Таня хотела возразить, но Варвара Васильевна продолжала:
— И вот возникают вопросы: идти на два или на десять шагов впереди стихийного движения? В какой степени созрело революционное сознание рабочего класса? Сами эти вопросы подлы, подлы по самой сути, они оскорбительны для меня и ставят меня в фальшивое положение: я не могу отрекаться от самой себя. Но то — могучее, стихийное, — оно меня не признаёт, а во мне нет силы, я — ничто, если не захочу признать этого стихийного и его стихийности.
— Черт знает, что такое! — возмутилась Таня. — Вот так вопросы! На два, на десять шагов вперед! Что мне за дело до этого? Я хочу идти полным шагом, и плевать мне на все и на всех. Кто отстанет, — догоняй, а этак, как начнут все один к другому приноравливаться, то все и будут топтаться на месте!
Сергей в восторге воскликнул:
— Браво, Татьяна Николаевна! Вот! Вот это самое и есть! Всё стихийность, стихийность… Еще новый бог какой-то, перед которым извольте преклоняться! На себя нужно рассчитывать, а не на стихийность! Стану я себя отрицать, как же! Черта с два!.. Смелее нужно быть, нужно идти на свой собственный риск и полагаться на собственные силы, — только! Будь она проклята, эта стихийность!
— Верно, верно! — согласился и Борисоглебский. — Что она мне за указ, стихийность эта? Злость у меня тут есть здоровенная, — он ударил себя кулаком в грудь, — ну и ладно. Больше мне ничего не нужно!
Шеметов ворчливо возразил:
— Ну, и тешьтесь в таком случае бирюльками, гарцуйте со своею злостью в безвоздушном пространстве! А я не понимаю и не признаю, что подлого в тех вопросах, о которых говорит Варвара Васильевна. Да, весь вопрос именно в том, — на два или на десять шагов вперед? Для меня стихийность только и дорога; самый важный, самый главный вопрос, — как к ней примк-нуть. А вы — кучка гарцующих, — и будете себе гарцевать, пока совершенно независимо от вас к вам подойдут низы… Вы сколько уж времени, — тридцать, сорок лет гарцуете с вашею полнотою революционных идеалов?..
Они шли теперь по лесной поляне, среди леса. Вокруг поляны теснились темные, кудрявые дубы, от них поляна имела спокойный и серьезный вид. Тучи на юге все росли и темнели, но ветру не было, и стояла глухая тишина.
Токарев молча шел и задумчиво слушал. На душе было тяжело: все спорили горячо и страстно, вопросы спора, видимо, имели для них жизненный, кровный интерес. Он старался и себя настроить на такой лад, но мысль оставалась холодною, и он чувствовал себя чуждым и посторонним.
Подошел Сергей и сказал:
— Люблю я эти споры! Мысль жива — работает и ищет… А как несколько-то лет назад: все вопросы решены, все распределено по ящичкам, на ящички наклеены марксистские ярлыки. Сиди да любуйся. Ведь это — гибель для учения, смерть!.. Только и оставалось что спорить с народниками; друг с другом не о чем было и говорить…
— А что, господа, кобылка тут не пробегала?
— Фу, черт!.. — Сергей нервно отскочил в сторону.
В сумерках стоял сгорбленный мужик с растерянным лицом, в накинутом на плечи зипуне.
— Вот испугал-то! — Сергей улыбнулся, стыдясь за свой испуг. — Какая кобылка?
— Пегая кобылка, сбегла с ночного, — что с нею подеялось!.. Не иначе, как по этой дороге побегла… Горе какое!
— Нет, тут не видно было, — сказала Варвара Васильевна.
— Э-эх! — старик почесал в волосах. — Главное дело, конь-то молодой, дороги домой не знает, только на Казанскую куплен…
Шеметов сердито говорил:
— Возмутительнее всего эти инсинуации, на которых вы выезжаете! Спор тут вовсе не о принципе, а только о факте. Как обстоит дело? По-вашему? Наш рабочий класс действительно уже горит ярким, сознательным революционным огнем? Действительно, он сознал, кто его классовые и политические враги? Ну, и слава богу, это — самое лучшее, чего и мы хотим. Но только суть-то в том, что вы ошибаетесь.
Они пошли дальше, Варвара Васильевна осталась стоять с мужиком. Таня возражала:
— Тут весь вопрос именно в принципе. Вопрос в этом оппортунизме, «практичности», довольстве малым…
— Кто проповедует ваше довольство? — грубо спросил Шеметов и вдруг остановился. Он поднял брови и, словно что вспомнив, оглянулся назад. — Что это он про кобылу-то говорил?.. Черт знает, что такое! Идут девять здоровенных молодцов, судьбы революции решают… Пойдемте, поможем ему!
— Пойдемте, господа! — убеждающе сказала Варвара Васильевна.
Сергей встряхнулся.
— Идем!.. Эй, дядя! Какая, говоришь, кобылка твоя? Пегая?
— Пегая, батюшка, пегая… Я чего боюсь-то? Ночь подходит, непогода, а в лесу у нас тут волки — задерут лошадь.
— Говоришь, в эту сторону побежала?
— В эту, в эту!
— Ну, ладно. Ты сам откуда, — дернопольский? Так ступай, мы тебе приведем кобылку твою.
— Самоуверенно! — засмеялась Варвара Васильевна.
Мужик обрадовался.
— Подсобить хотите? Ну, дай вам бог… Пойдемте! Уж больно трудно одному-то!
— Пойдем, ребята, большим кругом в эту сторону, — сказал Сергей. — Чур, перекликаться! Сходиться у мостика в лощинке, перед сторожкой.
Все разбрелись по лесу. Лес зазвенел смехом и криками. На западе было еще светло, но кругом становилось все темнее. Средь полной тишины тучи на юге росли медленно и уверенно. Токарев продирался сквозь чащу орешника, оступаясь о пеньки и бурелом. Слева раздались крики и смех Шеметова и Митрича.
— Нашли-и-и!.. — донесся справа голос Сергея.
— Нашли? — крикнул слева Шеметов.
— Нашли вы?
— Мы-то не нашли, а ты нашел?
— Нет, не нашел.
— Чего же ты кричишь, «нашли»?
— Я вас спрашивал!
— Дурак!..
Лес вдали глухо зашумел. По вершинам деревьев бурным порывом пронесся ветер. Токарев шел вперед и старался не сбиться с направления. Сначала он усердно глядел по сторонам, потом перестал и шел лениво, постукивая тросточкою по стволам. Крики и ауканья становились все отдаленнее.
Токарев подумал: еще заблудишься тут!.. Лес выл и шумел под налетавшим вихрем. Желтые листья и сучки падали на землю. Вдали глухо рокотал гром.
Чаща стала светлеть. Токарев вышел на край какой-то лощинки. Внизу вился болотистый ручей, заросший осокою. Квакали лягушки. По косогору шла дорога и виднелся мостик. Этот, что ли?..
По дороге усталою походкою спускались Варвара Васильевна и Ольга Петровна. Токарев направился к ним.
— Не нашли?
— Нет. Нужно будет дальше идти. Только подождем, чтоб все собрались… Ау-уу!!.
Вдали откликнулись. Ветер буйно выл по лесу, глухой шум деревьев то рос, то ослабевал, и по глухому шуму струями проносилось резкое шипенье ближних деревьев. Подошли еще Вегнер и Катя, потом Борисоглебский.
Вдруг ярко блеснула молния, небо как будто растрескалось и с оглушительным грохотом посыпалось на землю. Из кустов неслышно вышел Шеметов. Он кивнул на небо и сказал:
— «Отец, слышишь, рубит, а я отвожу!»[6]
— Не нашли лошадь?
— Черт ее найдет! — проворчал Шеметов и сел на мостик.
Молнии ярко-белыми стрелами сыпались на лес, гром яростно катился по небу из конца в конец, лес ревел и бился. На юге было жутко темно. Ольга Петровна стояла с бледною улыбкою и старалась побороть страх.
На косогоре, среди дубовых кустов, появился Сергей. Молния ярко осветила его кумачовую рубашку. В бешеном восторге он кричал:
— Го-го-го-го!.. Слышите, ребята! Вон как гремит!.. Варька, слышишь?!.
Ветер рвал на нем рубашку, лицо было безумное и восторженное.
— Позор всем слабым и малодушным! Позор тем, кто перед лицом грозы отрицает идущую грозу!.. Идет она, идет! Видите вы ее теперь — вы, робкие, сомневающиеся?.. Пришла жизнь, пришла борьба и простор! Слава буре!..
— Го-го-го-го! — раздался из чащи голос Тани.
— Татьяна Николаевна, сюда! Наша взяла! Пришла гроза!.. Слава борцам, слава всем друзьям грозы!
Таня, в развевающейся юбке, быстро спустилась к мостику. Она упоенно дышала ветром, глаза блестели. Поспешно она спросила:
— Ну что, не нашли?
— Нет.
— Так чего ж вы сидите? Пойдемте дальше!.. Правда, как хорошо? — с счастливою улыбкою обратилась она к Токареву.
Токарев молча кивнул головою, хотя находил, что кругом становится довольно-таки неуютно.
— Ну, идем, господа! Вставайте! — торопила Таня.
Шеметов проворчал:
— Экая неугомонная! Куда вставать-то? Очевидно, лошадь украли и увели. Станет вас конокрад ждать!
— Ну, все-таки поищем еще! — сказала Варвара Васильевна. — Очень уж мужика жалко.
— Наверное, кобылка сама уж домой пришла, — заметил Борисоглебский.
— А что найти-то, конечно, уж не найдем теперь, — согласился Сергей.
— «Позор всем сомневающимся и малодушным!» — иронически повторила его слова Варвара Васильевна.
— Э, черт! Верно, пойдем дальше!.. Что за позор! Бабы нас ведут вперед.
По дороге забили первые крупные капли дождя. Варвара Васильевна украдкой внимательно посмотрела на Токарева и сказала:
— Только вот что: зачем всем идти? Многие устали. Тут сейчас за бугром сторожка, можно зайти отдохнуть; тем более — дождь начинается.
— Господа, да зайдемте все! — заговорил Токарев. — Ну что за охота мокнуть под дождем! Пройдет дождь, тогда и пойдем опять искать.
Таня ядовито возразила:
— А тогда ты скажешь, что мокро, ноги промочишь.
Токарев нахмурился и замолчал.
— Пойдемте, я вас проведу в сторожку, — предложила Варвара Васильевна.
— Ну, господа, а мы пойдем дальше, — сказала Таня.
— Го-го-го! На вынос возьмем гору! — крикнул Сергей. Он, Шеметов и Митрыч вместе с Танею быстро взбежали на косогор.
Вегнер с завистью глядел вслед убегавшим.
— Нет, я отдохну, устал.
Варвара Васильевна провела Токарева, Катю, Вегнера и Ольгу Петровну к лесной сторожке. К ним навстречу вышел лесник — худощавый, с красным носом, в пиджаке. Варвара Васильевна сказала:
— Ну, прощайте пока!
— Варвара Васильевна, да передохните же и вы! — возмутился Токарев. — Вы бледны как полотно, — видимо, вы страшно устали!
— Э, пустяки! Это так кажется!
Она исчезла в темноте. Токарев обратился к леснику:
— А что, любезный, хорошо бы самоварчик поставить; найдется у вас?
— Найдется, помилуйте!.. Сейчас поставим. А мы за то винца потом выпьем за ваше здоровье.
Резко блеснула молния. Как пушечный залп, прокатился гром. Дождь хлынул. Он шуршал по соломенной крыше, журчащими ручьями сбегал на землю. Из черного леса широко потянуло свежею, сырою прохладою.
В сторожку постучались. Вошел мужик, у которого убежала лошадь. Вода струилась по его шапке, лицу и зипуну. Катя спросила:
— Не нашли?
— Нет, барышня! Уж и в деревню сбегал, не воротилась ли… Нету!
Он устало опустился на лавку. Подали самовар, стали пить чай. Тараканы бегали по стенам, в щели трещал сверчок, на печи ровно дышали спящие ребята. Гром гремел теперь глуше, молнии вспыхивали синим светом, дождь продолжал лить.
Пришли Сергей и Шеметов. С обоих вода лила ручьями, на сапогах налипли кучи грязи, оба были злы. Сергей сказал:
— Нет, Татьяна Николаевна — это, положительно, ненормальный человек. Уж Варя и та созналась, что невозможно найти; а она: «А я все-таки найду!»
Шеметов сердито засмеялся.
— Нет, ведь правда, нелепо! В двух шагах ничего не видно — по этакому лесищу ищи лошадь ощупью!.. И Митрыча несчастного запрягла, кряхтит, а прет за нею следом.
Пришла и Варвара Васильевна. Было уже двенадцать часов. Молча пили чай, разговор не вязался. Все были вялы и думали о том, что по грязи, мокроте и холоду придется тащиться домой верст восемь. Варвара Васильевна, бледная, бодрилась и старалась скрыть прохватывавшую ее дрожь. Сергей и Шеметов сидели в облипших рубашках, взлохмаченные и хмурые, как мокрые петухи.
За темными окнами могуче загудел бас Митрыча:
— Эй, ребята! Вы здесь?.. Выходите встречать, нашли!
Все бросились к выходу. В темноте белела лошадь. Митрыч держал ее за оброть. Таня, бодрая, оживленная, вбежала в сени.
— А что? Нашла? — торжествующе обратилась она к Сергею и Шеметову. — Я говорила, что найду!
Сергей развел руками и низко склонил голову.
— Преклоняюсь!
Таня сияла детскою, смешною гордостью.
— Ну, и молодец же вы, Таня! — радостно воскликнула Варвара Васильевна.
Мужик кланялся.
— Уж вот, барышня, спасибо вам! Век за вас буду бога молить! Пошли вам господь доброго здоровья!
— И ведь как все вышло! — рассказывала Таня. — Идем, — что-то в стороне белеет. Митрыч говорит: река!.. Все-таки свернули. А это она! Стоит на полянке и щиплет траву.
Мужик взял из рук Митрыча оброть и радостно повторял:
— Нашли, нашли!
Таня и Митрыч выпили остывшего чая. Токарев расплатился с лесником. Двинулись в обратный путь.
Усталые и продрогшие, все вяло тащились по рассклизшей, грязной дороге. На севере громоздились уходившие тучи и глухо грохотал гром. Над лесом, среди прозрачно-белых тучек, плыл убывавший месяц. Было сыро и холодно, восток светлел.
Лес остался назади. Митрыч и Шеметов стали напевать «Отречемся от старого мира!»…[7] Пошли ровным шагом, в ногу. Так идти оказалось легче. От ходьбы постепенно размялись, опять раздались шутки, смех.
Когда пришли в Изворовку, солнце уже встало. Сергей и Катя обыскали буфет, нашли холодные яйца всмятку и полкувшина молока. Все жадно принялись есть. В свете солнечного утра лица выглядели серыми и помятыми, глаза странно блестели.
Варвара Васильевна, уходившая к себе в комнату, воротилась радостная и оживленная, с распечатанным письмом в руке.
— Владимир Николаевич, вы помните по Петербургу Тимофея Балуева?
— Как же! — ответил Токарев.
— Он пишет, что из ссылки едет в Екатеринослав и по дороге от поезда до поезда заедет ко мне в Томилинск. Шестого августа, на Преображение. Хотите его видеть?
— Конечно!
Таня спросила:
— Кто это?
— Рабочий, слесарь. Замечательно хороший человек, — сказала Варвара Васильевна.
У Тани загорелись глаза.
— Я тоже хочу его увидеть.
— Да всем, всем нужно его повидать, — решил Сергей. — Хоть у Вари все люди — замечательно хорошие люди, а все-таки интересно.
— Ну, а теперь спать! — объявила Варвара Васильевна. — Еле на ногах стою.
VI
Назавтра Шеметов, Борисоглебский, Вегнер и Ольга Петровна уехали в Томилинск. Таня осталась погостить еще.
Жизнь теперь потекла более спокойная. Токарев по-прежнему наслаждался погодой и деревенским привольем. Отношения его с Варварой Васильевной были как будто очень дружественные. Но, когда они разговаривали наедине, им было неловко смотреть друг другу в глаза. То, давнишнее, петербургское, что разделило их, стеною стояло между ними, они не могли перешагнуть через эту стену и сделать отношения простыми. А между тем Варвара Васильевна становилась Токареву опять все милее.
Дни шли. Варвара Васильевна с утра до вечера пропадала в окрестных деревнях, лечила мужиков, принимала их на дому с черного хода. Сергей ушел в книги. Таня тоже много читала, но начинала скучать.
Токареву она нравилась все меньше. Его поражало, до чего она узка и одностороння. С нею можно было говорить только о революции, все остальное ей было скучно, чуждо и представлялось пустяками. Поведение Тани, ее манера держаться также возмущали Токарева. Она совершенно не считалась с окружающими; Конкордия Сергеевна, например, с трудом могла скрывать свою антипатию к ней, а Таня на это не обращала никакого внимания. Вообще, как заметил Токарев, Таня возбуждала к себе в людях либо резко-враждебное, либо уж горячосочувственное, почти восторженное отношение; и он сравнивал ее с Варварой Васильевной, которая всем, даже самым чуждым ей по складу людям, умела внушать к себе мягкую любовь и уважение.
Пятого августа Варвара Васильевна, Токарев, Таня, Сергей и Катя отправились в Томилинск, чтоб повидать проезжего гостя Варвары Васильевны.
Они сел и в поезд. Дали третий звонок. Поезд свистнул и стал двигаться. Начальник станции, с толстым, бородатым лицом, что-то сердито кричал сторожу и указывал пальцем на конец платформы. Там сидели и лежали среди узлов человек десять мужиков, в лаптях и пыльных зипунах. Сторож, с злым лицом, подбежал к ним, что-то крикнул и вдруг, размахнув ногою, сильно ударил сапогом лежавшего на узле старика. Мужики испуганно вскочили и стали поспешно собирать узлы.
— Господи, да что же это такое?! — воскликнула Таня.
Поезд уходил. Таня и Токарев высунулись из окна. Мужики сбегали с платформы. Сторож, размахнувшись, ударил одного из них кулаком по шее. Мужик втянул голову в плечи и побежал быстрее. Изогнувшийся дугою поезд закрыл станцию.
Подошла Варвара Васильевна, бледная, с трясущимися губами.
— За что это? Что там случилось?
Токарев, тоже бледный и возмущенный, ответил:
— Не знаю.
Сидевший рядом мастеровой объяснил:
— Что случилось!.. Значит, улеглись мужички на неуказанное место. Ну, их покорнейше и попросили посторониться.
Варвара Васильевна, прикусив губу, ушла на свое место. Таня стояла, злобно нахмурившись, и молча смотрела в окно. Токарев вздохнул:
— Да, легко все это у нас делается!
— И поделом им, сами виноваты! Господи, их бьют, а они только подставляют шеи и бегут… О, эти мужики!
В глазах Тани была такая ненависть, такое беспощадное презрение к этим избитым людям, что она стала противна Токареву. Он отвернулся; в душе шевельнулась глухая вражда, почти страх к чему-то дико-стихийному и чуждому, что насквозь проникало все существо Тани.
— Ну, черт с ними, стоит еще об них говорить! — Таня передернула плечами и снова стала смотреть в окно.
Заря догорала. Поезд гремел и колыхался. В душном, накуренном вагоне было темно, стоял громкий говор, смех и песни.
Таня сказала:
— Да, Володя, вот что! Как хочешь, а нужно будет в Томилинске предпринять еще что-нибудь, чтоб Варя уехала отсюда.
Токарев махнул рукою.
— Ну, пошло!.. Я не понимаю, чего ты берешь на себя какую-то опеку над Варварой Васильевной.
— Да неужели же ты не видишь, что с нею делается? Ведь положительно живьем разрушается человек: какое-то колебание, сомнение во всем, полное неверие в себя… Очевидно, ее деятельность ее не удовлетворяет.
Токарев пожал плечами.
— Откуда это очевидно? Я не говорю про Варвару Васильевну, я ее слишком мало знаю, — но, вообще говоря, человек может не верить в себя совсем по другим причинам. Он может признавать данную деятельность самою высокою и нужною, и все-таки не верить в себя… Ну, хотя бы просто потому, что чувствует себя не в силах отдаться этой деятельности, — произнес он с усилием.
Таня удивилась.
— Как это так? Деятельность самая высокая и нужная, — и не можешь ей отдаться! Очевидно, значит, есть другая деятельность, более высокая и более нужная.
— Таня, меня прямо поражает, до чего ты узко смотришь! Возьмем какую угодно деятельность. Пусть она будет самая высокая, самая нужная, — все, что хочешь. Да только нет у меня сил отдаться ей.
— Очевидно, значит, ты не совсем веришь в нее.
— Ну, слушай, Таня! Поставим вопрос грубо, карикатурно. Скажем, я страстно люблю шампанское, устрицы. Умом я вполне понимаю, что есть дела несравненно выше уничтожения устриц и шампанского, да меня-то больше тянет к устрицам и шампанскому.
— Тогда нечего и ломать себя: пей шампанское и ешь устрицы.
Подошел Сергей и молча сел около них на ручку скамейки. Токарев спросил:
— Так что, если бы тебя больше всего тянуло к такой «деятельности», то ты со спокойною душою и отдалась бы ей?
— По-моему, это ужасно скучно; но, если бы тянуло, — конечно, отдалась бы.
— Господи, до чего все это эгоистично! — возмутился Токарев. — Ну, где же, где же у тебя хоть какой-нибудь нравственный регулятор, хоть какой-нибудь критерий? Сегодня скучно жить для себя, завтра станет скучно жить для других. Неужели ты не понимаешь, сколько в этом эгои-зма? Что хочется, то и делай!.. Тебе даже совершенно непонятно, что могут быть люди, которые считают своим долгом делать не то, что хочется, а что признают полезным, нужным для жизни.
Вмешался Сергей:
— Но вопрос в том, — насколько им это удается? Я не понимаю, почему вы так возмущаетесь эгоизмом. Дай нам бог только одного — побольше именно эгоизма, — здорового, сильного, жадного до жизни. Это гораздо важнее, чем всякого рода «долг», который человек взваливает себе на плечи; взвалит — и идет, кряхтя и шатаясь. Пускай бы люди начали действовать из себя, свободно и без надсада, не ломая и не насилуя своих склонностей. Тогда настала бы настоящая жизнь.
— Воображаю, какая бы настала жизнь! — сдержанно усмехнулся Токарев.
— Хорошая бы жизнь настала! И погиб бы безвозвратно ее главный враг — скука. Потому что вот с чем эгоизм никогда не захочет примириться — со скукою!
Токарев с улыбкою поднял брови.
— Скука… Вы серьезно думаете, что главный враг жизни — это, действительно, скука?
— Безусловно! Скука стОит всяких лишений, унижений, длинных рабочих дней и тому подобного… Скучно! Ведь от этого «скучно» люди сходят с ума и кончают с собою, это «скучно» накладывает свою иссушающую печать на целые исторические эпохи. Вырваться из жизненной скуки — вот самая главная задача современности. И суть не в том, чтоб человек вырвался из этой скуки, а чтоб люди вырвались из нее. А для этого что нужно? Нужно, чтоб вокруг ключом била живая общественность, чтоб жизнь целиком захватывала душу, чтоб эта жизнь была велика и сильна, полна борьбы и света… Вот что нужно, чтобы ощущал человек, а не необходимость какого-то «долга»… Долг! В соседстве с долгом сам воздух начинает скисаться и пахнуть плесенью.
Таня слушала с разгоревшимися глазами.
— Все это очень легко говорить… — начал Токарев, но в это время в вагоне поднялся шум и крик.
Толстый господин, в грязном парусиновом пиджаке и сером картузике с блестящим козырь-ком, орал:
— Сволочь ты, негодяй!! Я отставной поручик Пыльского гренадерского полка, а ты мне смеешь «ты» говорить?.. Подлец!
Мастеровой в чуйке, с бледным, зеленоватым лицом, мирно было заговоривший с сердитым господином, в первую минуту опешил.
— Я тебя, мерзавца, сейчас велю высадить из поезда!.. Подлец, пьяница!..
Мастеровой медленно и громко протянул:
— Я думал, это пушки, ан это — лягушки!
Кругом засмеялись.
— Молчать!!! — гаркнул толстый господин. — Дурак!
— Не бывал, брат, ты умным человеком, коли я дурак. Ишь ты какой! Ясный козырек нацепил себе и думает, — хозяин! Мне на твой ясный козырек наплевать!
— Ах-х ты, мер-рзавец! — возмутился про себя господин и высунулся из окна, как бы высматривая, скоро ли остановится поезд, чтоб позвать жандарма.
— Плюю я на твой ясный козырек, вот так: тьфу! — Мастеровой плюнул на пол. — Плюю и попираю ногами.
Рядом сидел подгородный мужик. Он с усмешкою сказал:
— Буде вам! Чем все ругаться, лучше прямо подраться!
— Верно! Мне ндравится ваше слово! Я вас уважаю!.. А сказать что-нибудь против меня ясному козырьку энтому — не позволю! Не желаю молчать!.. Извините меня, пожалуйста! Прошу извинения!
Мужик зевнул.
— Тут колокольцов нету, звенеть не на чем.
Толстый господин подергивал головою и продолжал выглядывать в окно.
— Не желаю молчать! — волновался мастеровой. — Он меня растревожил, а я его не беспокоил!.. Слышь ты, козырек! Я сознаюсь, что ты — дурак! Понял ты это слово?
Поезд остановился у полустанка. Толстый господин поспешно вышел, через минуту воротился с жандармом. Указал на мастерового и коротко сказал:
— Вот! Убери его!
Жандарм подошел к мастеровому и решительно взял его за рукав.
— Вставай!
Мастеровой оторопело глядел:
— Что такое? В чем дело?
— Но, но, вставай! Ничего!
— Да что вы? За что вы меня?
Таня вскипела.
— Послушайте, жандарм, за что вы его высаживаете? Он ничего не делал!
— Мы все можем быть свидетелями, — прибавил Токарев. — Этот господин сам же первый начал. На весь вагон стал кричать и ругать его.
Грозно и выразительно толстый господин сказал жандарму:
— Я тебе заявляю, что он мне нанес оскорбление!
Токарев спокойно возразил:
— Все в вагоне слышали, что вы первый стали наносить ему оскорбления.
Токарев был одет чисто и прилично, гораздо приличнее толстого господина. Жандарм в нерешительности остановился.
— Жандарм! Я тебе повторяю: возьми его!.. Он пьян!
— Нет, я не пьян! Вы меня оскорбили, а я вас не тревожил!
Жандарм шепнул Токареву:
— Вы не извольте беспокоиться. Я его только в другой вагон переведу.
В приятном и спокойном ощущении силы, которую давал ему его приличный костюм, Токарев громко возразил:
— Да с какой стати? Мы вам все заявляем, что этот господин сам начал первый скандалить. Почему вы его не переводите?
— А то, может, ваше благородие, вы сами перейдете? — почтительно-увещевающим голосом обратился жандарм к толстому господину.
Господин грозно крикнул:
— Я тебе в последний раз повторяю: убери его!
Жандарм растерянно пожал плечами:
— Да ведь вот… Все свидетельствуют, что вы же сами начали.
— Ах та-ак!.. — зловеще протянул господин. — Ну, хорошо, ступай!.. Хорошо, хорошо! Можешь идти! Мы это еще увидим! Ступай, нечего!
Жандарм с извиняющимся лицом мялся на месте. Вагоны двинулись. Он соскочил на платформу.
— Тут еще скоро, пожалуй, изобьют тебя! — возмущенно сказал толстый господин, взял свой чемодан и пошел в другой вагон.
Торжествующий мастеровой стоял, пошатываясь, и смотрел ему вслед.
— Фью-у! — слабо свистнул он и махнул рукою вдогонку. — Нет, ей-богу, чудачок! — обратился он к Тане и лихо покрутил головою. — Молчи, говорит, дурак!.. А? Почему такое? Не желаю молчать!.. Благородного человека я уважаю всегда! А коли со мною поступают сурьезно, — не могу терпеть! Такой уж карахтер у меня… строгий! Намедни мастер говорит нам: вот что, ребята! После Спаса за каждый прибор на две копейки меньше будем платить… Как так? Нет, я говорю, я не желаю!.. Мне не копейка нужна. Что копейка? Я на нее плюю! — Он достал затасканный кошелек, вынул пятиалтынный и бросил его наземь. — Вот! Не нужно мне, пускай тут лежит! А зачем он неправильно поступает? Не желаю, говорю, уйду от вас, больше ничего!
— А вы где работаете?
— Мы-то? А вон за бугром здание пыхтит… Мы — токари по металлу… Медь, свинец, железо — это у нас называется металл… По-нашему, по-мастеровому!
Поезд гремел и колыхался. В вагонах зажгли фонари. Таня сидела в уголке с мастеровым и оживленно беседовала. Мастеровой конфиденциально говорил:
— Я, милая моя барышня, желаю жить, чтоб было по-справедливому, чтоб обиды мне не было! Я этого не желаю терпеть — никогда! А за деньгами я не гонюсь… Я вот выпил, — и больше ничего!
Паровоз оглушительно и протяжно засвистел. В темноте замелькали огни томилинских пригородов. Все поднялись и стали собираться.
Поезд остановился. Затиснутые в сплошной толпе Токарев, Сергей, Варвара Васильевна и Катя вышли на подъезд.
— А где же Таня? — спохватилась Варвара Васильевна.
Сергей посмеивался:
— Она с мастеровым пошла.
— Да не может быть! — воскликнул Токарев.
— Верно! Я видел: он себе взвалил узелок на плечи, она рядом с ним. Прямо с платформы сошли, мимо вокзала.
У Токарева опустились руки.
— Черт знает что такое!
Он в колебании остановился посреди улицы. В стороны тянулись боковые улицы, заселенные мастеровщиною — черные, зловещие, без единого огонька.
— Нужно ее отыскать! Это положительно ненормальный человек: девушка, ночью, одна идет с пьяным, незнакомым человеком, сама не знает куда!
Сергей засмеялся:
— Ищи ветра в поле! Ей-богу, молодчина Татьяна Николаевна!
Они пришли к Варваре Васильевне. Подали самовар, сели пить чай. Сергей говорил:
— Нет, ей-богу, люблю Татьяну Николаевну! Это пролетарий до мозга костей! Никакие условности для нее не писаны, ничем она не связана, ничего ей не нужно…
Токарев угрюмо возразил:
— По-моему, это не пролетарий, а психически больной человек, и ей необходимо лечиться.
Таня пришла к двенадцати часам ночи — оживленная, радостная, с блестящими глазами. Токарев был так возмущен, что даже не стал ей ничего говорить, и сидел, молча, насупившийся и грустный. Таня не обращала на него внимания.
VII
Назавтра, к трем часам, Токарев и студенты пришли к Варваре Васильевне. Тимофей Балуев уже сидел у нее. Тани не было: она в одиннадцать часов ушла к своему вчерашнему знакомцу и еще не возвращалась.
Балуев, в черной блузе, с застегнутыми у кистей рукавами, сидел за столом, держал на расставленных пальцах блюдечко и пил чай вприкуску. Токарев радостно подошел.
— Ну, Тимофей Степаныч, здравствуйте! — Они обнялись и крепко, поцеловались три раза накрест.
— Не думал я, что и вас тут увижу! — сказал Балуев и в замешательстве провел большою рукою по густым волосам.
Сергей, Шеметов, Борисоглебский и Вегнер назвали себя и почтительно пожали его руку. Токарев глядел на загорелое, обросшее лицо Балуева.
— Как вы изменились! Встретил бы вас на улице — не узнал бы.
— Да… Да и я бы вас не признал:
— Что же, постарел?
— Пооблиняли как-то… На вид.
Варвара Васильевна сказала:
— Ну, садитесь, господа! Пейте чай, закусывайте!
Сели к столу. Токарев спросил:
— Вы куда же теперь направляетесь?
— В Екатеринослав еду. Там товарищи посулились на завод пристроить. Тут, значит, нужно было Варвару Васильевну повидать. А между прочим, вот и вас встретил… Ну, а вы как?
Он говорил не спеша, подняв брови, и внимательно глядел на Токарева своими маленькими глазами. Студенты и Катя украдкой приглядывались к Балуеву.
Разговор, как обыкновенно, вначале вязался плохо. Понемногу стал оживляться. Речь зашла об одном из вопросов, горячо обсуждавшихся в последнее время в кружках и деливших единомысленных недавно людей на два резко враждебных лагеря. Токарев спросил Балуева, слышал ли он об этом вопросе и как к нему относится.
— Как же, слышал. Книжки тоже кой-какие читал об этом… — Балуев помолчал. — Думается мне, не с того конца вы подходите к делу. Оно гладко пишется в книжках, логически, а только книжка, знаете, она больше по верхам крутится, больно много сразу захватить хочет. Оно то, да не то выходит. Смотришь в книжку — вот какие вопросы. И в волосы из-за них вцепиться рад всяко-му. А кругом поглядишь — что такое? И вопросы другие, и совсем из-за другого ссориться надо.
Необычно тихим и смирным голосом Сергей возразил:
— Но, позвольте, ведь книжки основываются на той же жизни, на тех же жизненных фактах.
— Верно! «Факты»… Что такое факты? Я вот гляжу в окошко, вижу, лошадь упала, и говорю: тут дорога склизкая, — пожалуйста, не спорьте со мнрю, — сам видал, как лошадь упала. А на дороге этой, может, пыли по щиколку, а лошадь потому упала, что нога подвернулась. Оно, видите ли, коли на факты в окошко смотреть, то и факты-то оказываются фальшивыми. А из этих фактов здоровеннейший гвоздь сделают да в голову его тебе и вгоняют… Намедни был я нелегально в Питере, встретился с одним приятелем старым. — Ты, спрашивает, кто? — Я? (Под густыми усами Балуева мелькнула улыбка.) Али не узнал? Слесарь Тимофей! — Не-ет, я не о том. Ты человек каких взглядов? — Я, говорю… рабочий!
Все поспешили громко и дружно рассмеяться.
— Вот и ходит человек с гвоздем в голове. И ведь не в окошко сам глядит, все кругом видит глазами, — а нет! Гвоздь в голове сидит крепко.
Поднялся общий спор. Приводились «факты», соображения. Балуев, положив на стол руку ладонью вниз, медленно и спокойно возражал. И шестеро споривших были слабы перед ним, как будто они стояли в колеблющемся и уходящем из-под ног болоте, а он среди них — на твердой кочке.
— А о книжке я только что говорю? Слов нет, она вещь полезная, необходимая, — кто же станет спорить? А только ведь нужно и ее с толком читать, — одно взял, другое бросил. А у нас как? Сшил себе человек кафтан из взглядов и надевает. А кафтан-то ему, может, совсем и не впору. Вот намедни один товарищ мой пишет из Москвы брату своему, мальчонке: Вася, говорит, учись, думай, читай книжки, чтоб ты мог стать «борцом за страдающих и угнетенных»… Во-от! Я думаю, больно уж много книжек сам он начитался, мозги обмозолил себе.
Сергей в восторге воскликнул:
— Великолепно!
Вскочил и быстро заходил по комнате. Митрыч довольно ухмылялся. Остальные недоумевали. Токарев осторожно спросил:
— Что же вы тут находите смешного? По-моему, письмо это, напротив, чрезвычайно трогательно.
— Нет, что ж смешного… Очень даже благородно! А только… За себя будь борцом, и то ладно. А то: мне самому, дескать, ничего не надо, я вот только насчет «страдающих»… Недавно мне тоже один человек совсем это самое говорит…
Токарев пожал плечами:
— Я все-таки вас не понимаю!
— …один человек — образованный, интеллигентный. И притом состоятельный: чай пьет с булками. Говорит: мне ничего не нужно, мне самому хорошо, я, говорит, если готов работать, то готов работать для других… По моим взглядам, это уж не интеллигентный человек.
— Но почему же, почему? — настойчиво спросил Токарев. — Деятельность эгоистическая, то есть только для себя, по необходимости будет всегда узкою и темною. Высшая нравственность, напротив, заключается именно в самопожертвовании, когда человек не видит от этого выгоды для самого себя. Самопожертвование! Как я могу жертвовать собою для самого себя? Напротив, чем меньше мои собственные интересы направляют мою деятельность, тем она будет чище, выше, светлее. Ведь это совершенно ясно!
Балуев, подняв брови, слушал. В глазах его появилось что-то напряженное и растерянное. Он начал возражать. Спор становился все отвлеченнее. И чем отвлеченнее он становился, тем все более книжными и шаблонными становились выражения Балуева. Повеяло серою скукою и теоретическою «неинтересностью». Токарев и Варвара Васильевна возражали все бережнее и осторожнее, стараясь не припирать его к стенке. Балуев встал. Быстро теребя бороду, он заходил по комнате и запинающимся, неуверенным голосом приводил свои, бившие мимо цели, возражения.
Сергей своим твердым, самоуверенным голосом вмешался в спор и стал защищать высказанный Балуевым взгляд. Спор сразу оживился, сделался глубже, ярче и интереснее; и по мере того как он отрывался от осязательной действительности, он становился все ярче и жизненнее. Балуев же, столь сильный своею неотрывностью от жизни, был теперь тускл и сер. Он почти перестал возражать. Горячо и внимательно слушая Сергея, он только сочувственно кивал головою на его возражения.
Спор начал падать. Всем еще милее и симпатичнее стал Балуев с его серьезным, напряженно-вдумывающимся лицом, какое у него было во время спора. Варвара Васильевна сказала:
— Тимофей Степаныч, ваш чай совсем остыл. Дайте, я вам налью свежего.
— А вот сейчас! Я этот допью! — Балуев поспешно допил чай и протянул стакан Варваре Васильевне. Сергей предупредительно взял стакан и передал сестре.
— Скажите, Тимофей Степаныч, — спросил он, — как вы стали вот таким? Вы учились в какой-нибудь школе?
— До двадцати лет я и грамоте не знал. Приехал в Питер облом обломом. Потом уж самоучкой выучился.
— А что вас заставило научиться?
Балуев улыбнулся.
— Захотел сам французские романы читать. Очень уж они меня заинтересовали. На квартире у нас, как воротимся с работы, один парнишка громко нам «Молодость Генриха Четвертого»[8] читал, — всю бы ночь слушал. Выучился я, значит, стал читать. Много прочел французских романов, тоже вот фельетонами зачитывался в «Петербургской газете» и «Петербургском листке». Даже нарочно для них в Публичную библиотеку ходил. Ну, а потом поступил я в вечернюю трехклассную школу, кончил там, — после этого, конечно, получил довольно широкий умственный горизонт.
Слушатели украдкою переглянулись. Выражение у всех вызвало умиление.
— И ведь вот штука какая любопытная! — улыбнулся Балуев. — Помню, читал я «Рокамболя»; два тома прочел, а дальше не мог достать; уж такая меня взяла досада! Что с ним дальше, с этим Рокамболем, случится? Хоть иди на деньги покупай книжку, ей-богу!.. Ну, ладно. Прошло года четыре. Уж Добролюбова прочел, Шелгунова, Глеба Успенского. Вдруг попадается мне продолжение… Желанный! Забрал я книжку домой, думаю, — уж ночь не посплю, а прочту. Стал читать, — пятьдесят страниц прочел и бросил. Такая глупость, такая скучища!.. А все-таки добром я ее помяну всегда, она меня читать приучила. Ну, а час-то который сейчас? — обратился он к Варваре Васильевне.
Варвара Васильевна вздохнула:
— Пора идти, а то на поезд опоздаете! А может быть, останетесь до завтра?
— Нет, нельзя, нужно спешить! Спасибо на угощении. Прощайте!
В своей черной блузе, в пыльных, отрепанных сапогах, он обошел стол, протягивая всем широкую руку. Катя робко поднялась и — розовая, с внимательными, почтительными глазами — ждала.
Балуев протянул ей руку. Она вложила в эту грубую, мозолистую руку свою белую, узкую руку и крепко пожала ее. Глаза засветились умилением и радостным смущением.
Балуев взял со стула свой узелок и вышел в сопровождении Варвары Васильевны.
Все сидели молча. Варвара Васильевна воротилась.
— Как он, однако, изменился! — задумчиво произнес Токарев. — И какой он крепкий, цельный — прямо кряжистый какой-то!
— Да. Ничего нет похожего на прежнее, — сказала Варвара Васильевна. — Помните, раньше? Горячий, пылкий, — но совсем как желторотый галчонок; разинул клюв и пихай в него, что хочешь. Ну, а теперь…
Вегнер печально спросил:
— А теперь?.. По-моему, это положительно ужасно! Такое отрицание теории — гибель и смерть решительно всему. Мы это поймем, но поймем слишком поздно.
— Да, печальная штука! — согласился Сергей. — Но еще печальнее, что покоряет это, пригнетает как-то… Сила чуется.
Дверь быстро раскрылась. Вошла Таня — запыхавшаяся, раскрасневшаяся. Оглядела комнату. — Уехал уже?
— Уехал, конечно.
— Ах ты господи! Ну, что это!.. Что, что он рассказывал? — жадно обратилась она к Варваре Васильевне и Сергею.
— Любопытный парень!.. — С медленною улыбкою Сергей неподвижно глядел в окно. — Как это он ловко выразился насчет обмозоленных книжкою мозгов! Черт его знает, какой-то совсем особенный душевный строй!
Таня быстро прошлась по комнате и решительно сказала:
— Слушайте, Митрыч! Теперь пять минут шестого, поезд отходит без четверти шесть. Поедем на извозчике на вокзал. Вы меня познакомите с ним.
— Что ж, поедем!
Они оба вышли.
VIII
В дверь раздался стук.
— Войдите!
Вошел больничный фельдшер Антон Антоныч, в белом халате и розовом крахмальном воротничке. Был он бледен, на вспотевший лоб падала с головы жирная и мокрая прядь волос.
— Варвара Васильевна, Никанора привезли: взбесился!
— Да что вы?.. Никанор? Взбесился-таки?
— В телеге привезли из деревни, связанного… Я, изволите видеть, дежурный, а доктора нет. Уж не знаю снимать ли его с телеги или доктора подождать. Больно уж бьется, страшно подойти. За доктором-то я послал.
Варвара Васильевна быстро надевала белый халат
— Ну, вот еще — ждать! Что ж ему так связанным и лежать?.. Пойдемте!
Они поспешно вышли.
Оставшиеся вяло молчали. Было очень жарко. Сергей сидел у окна и читал «Русские ведомости».
— Духота какая!.. Давайте, господа, на лодке покатаемся! — предложил Шеметов.
— Что ж, поедем.
— Только, господа, подождемте Татьяну Николаевну, — сказала Катя.
Сергей сердито возразил:
— Ну, вот еще! Ждать ее!.. Она, может быть, только к ночи воротится!
Лицо его было теперь нервное и раздраженное. Токарев усмехнулся:
— Я готов пари держать, что она с ним села в вагон, чтоб проехать одну-две станции!
Где-то с силою хлопнула дверь. В больничном коридоре тяжело затопали ноги. Кто-то хрипло выкрикивал бессвязные слова и хохотал. Слышался громкий и спокойный голос Варвары Васильевны, отдававшей приказания. Шум замер на другом конце коридора.
Варвара Васильевна вошла в комнату. Катя со страхом спросила:
— Что это такое? Правда, бешеный человек?
— Да. Ужасно жалко его! Такой славный был мужик — мягкий, деликатный, просто удивительно! И жена его, Дуняша, такая же… Его три месяца назад укусила бешеная собака. Лежал в больнице, потом его отправили в Москву для прививок. И вот, все-таки взбесился! Буянит, бьется, — пришлось поместить в арестантскую.
Сергей встал.
— Ну, господа, идем. Будет ждать! Варя, хочешь с нами? Мы едем на лодке.
— Отлично! Идемте…
Они вышли на улицу. У Токарева все еще стоял в ушах дикий хохот больного. Он поморщился.
— А должно быть, тяжелое впечатление производят такие больные.
Варвара Васильевна опустила глаза и глухо ответила:
— Не знаю, на меня они решительно никакого впечатления не производят. Вот ушла оттуда, и на душе ничего не осталось. Как будто его совсем и не было.
В городском саду, где отдавались лодки, по случаю праздника происходило гулянье. По пыльным дорожкам двигались нарядные толпы, оркестр в будке играл вальс «Невозвратное время». Токарев сторговал лодку, они сели и поплыли вверх по течению.
Городской сад остался позади, по берегам тянулись маленькие домики предместья. Потом и они скрылись. По обе стороны реки стеною стояла густая, высокая осока, и за нею не было видно ничего. Солнце село, запад горел алым светом.
Шеметов, как столб, стоял на скамейке и смотрел вдоль реки. Катя сказала:
— Сережа, Вегнер! Столкните, пожалуйста, Шеметова в воду: он мне заслоняет вид.
Сергей, молчаливый и нахмуренный, сидел на корме и не пошевелился. Вегнер сделал движение, как будто собирался толкнуть Шеметова. Шеметов исподлобья выразительно взглянул на него и грозно засучил рукав.
— Посмотрю, кто на это решится!
Не родилась та рука заколдованная Ни в боярском роду, ни в купеческом!..[9]Он стоял в ожидании, сжимая кулаки. Потом сел и самодовольно сказал:
— Вот что значит вовремя привести подходящий стих! Никто не осмелился!
Токарев греб и задумчиво глядел себе в ноги. Балуев произвел на него сильное впечатление. Он испытывал смутный стыд за себя и пренебрежение к окружающим. В голове проносились воспоминания из студенческого времени. Потом припомнилась сцена из ибсеновского «Гюнта»[10]. Задорный Пер-Гюнт схватывается в темноте с невидимым существом и спрашивает его: «Кто ты?» И голос Великой Кривой отвечает: «Я — я сама! Можешь ли и ты это сказать про себя?..»
Шеметов острил и шутливо пикировался с Катей. Варвара Васильевна и Вегнер смеялись. Сергей молчал и со скучающим, брезгливым видом смотрел на них.
— А Сережа сидит, как будто уксусу с горчицей наелся! — засмеялась Катя.
Сергей сумрачно ответил:
— Не вижу, чему смеяться. Ваши остроты нахожу ужасно неостроумными.
Вдруг Катя насторожилась:
— Что это?
Далеко в осоке отрывисто и грустно ухала выпь — странными, гулкими звуками, как будто в пустую кадушку.
— Выпь, — коротко сказал Сергей.
— Какие оригинальные у нее звуки! Что-то такое загадочное!
Шеметов невинно спросил Сергея:
— А что такое выпь… рыба или птица?
Сергей молча отвернулся, наклонился с кормы и опустил руку в воду.
— Это он выпь хочет выловить, показать нам! — догадался Шеметов.
— Нет, брат, выпь ловить я тебя самого в воду спущу! — злобно ответил Сергей.
Варвара Васильевна засмеялась:
— Нет, Сереже положительно нужно дать валерьянки! Его сегодня какая-то блоха укусила.
Сергей обратился к Токареву:
— Владимир Николаевич, дайте мне погрести!
Он сел на весла и яро принялся грести. Лодка пошла быстрее. Сергей работал, склонив голову и напрягаясь, весла трещали в его руках. Он греб минут с десять. Потом остановился, отер пот с раскрасневшегося лба и вдруг со сконфуженною улыбкою сказал:
— Однако какой из меня со временем выйдет паскудный старичишка!
Все засмеялись.
— Черт знает что такое!.. — Сергей помолчал и задумчиво заговорил: — Ужасно гнусное впечатление оставила во мне сегодняшняя встреча! Может ли быть что-нибудь противнее? Сидит он — спокойный, уверенный в себе. А мы вокруг него — млеющие, умиленные, лебезящие. И какое характерное с нашей стороны отношение: мягкая снисходительность с высоты своего теоретического величия и в то же время чисто холопское пресмыкание перед ним. Как же! Ведь он — «носитель»! А мы — что мы такое? Пустота, которая стыдится себя и тоскует по нем, «носителе». Жизнь, дескать, только там, а там ты чужой, органически не связан… Какая гадость! Почему он так гордо несет свою голову, живет сам собою, а я только вздыхаю и поглядываю на него?
В конце концов я сам себе исторический факт. Я — интеллигент. Что ж из того? Я не желаю стыдиться этого, я желаю признать себя. Он хорош, не спорю. Я верю в него и уважаю его. Но прежде всего хочу верить в себя.
— А этой веры нет и не может быть, — грустно возразила Варвара Васильевна.
Сергей вызывающе спросил:
— Почему это? Чем я хуже его? Какая между нами разница?
— Та разница, что ты вот и теперь уже стал паскудным старичишкой, — ворчливо сказал Шеметов.
Сергей хотел что-то возразить, но нахмурился и замолчал. Он снова взялся за весла и стал усиленно грести.
Было уже совсем темно, когда они воротились к пристани. В городском саду народу стало еще больше. В пыльном мраке, среди ветвей, блестели разноцветные фонарики, музыка гремела.
На улицах было пустынно и тихо. Стояла томительная духота, пахло известковою пылью и масляною краской. Сергей все время молчал. Вдруг он сказал:
— Прощайте, господа, я пойду на вокзал. Поеду с ночным поездом: не стоит ждать до завтра!
— Сережа, можно и я с тобой? — спросила Катя.
Сергей хмуро ответил:
— Как хочешь.
Они простились и пошли к вокзалу.
IX
Шеметов и Вегнер повернули к себе. Токарев пошел с Варварой Васильевной проводить ее до больницы. Звезды ярко мерцали, где-то далеко стучала трещотка ночного сторожа. Варвара Васильевна и Токарев шли по тихой улице, и шаги звонко отдавались за домами.
Оба задумчиво молчали. Сегодняшняя встреча пробудила в них давнишние воспоминания, они не перекинулись ни словом, но оба знали и чувствовали, что думают об одном и том же.
Вдруг Варвара Васильевна остановилась:
— Стойте, что такое?
На той стороне улицы из раскрытых окон неслись звуки скрипки и рояля. Играли «Легенду» Венявского.
У Токарева забилось сердце. «Легенда»… Пять лет назад он сидел однажды вечером у Варвары Васильевны, в ее убогой комнате на Песках; за тонкою стеною студент консерватории играл эту же «Легенду». На душе сладко щемило, охватывало поэзией, страстно хотелось любви и свет-лого счастья. И как это тогда случилось, Токарев сам не знал, — он схватил Варвару Васильевну за руку; задыхаясь от волнения и счастья, высказал ей все, — высказал, как она бесконечно дорога ему и как он ее любит.
Из окон широко лились певучие, жалующиеся звуки «Легенды». Токарев взглянул на Варвару Васильевну. Она стояла, не шевелясь, с блестящими глазами, и жадно слушала. Где-то вдали с грохотом прокатились дрожки, потом застучала трещотка ночного сторожа. Варвара Васильевна нетерпеливо прошептала:
— Господи, как мешают!
Вдали смолкло, и опять по тихой улице поплыли широкие, царственные звуки. Лицо у Варвары Васильевны стало молодое и прекрасное, глаза светились. И Токарев почувствовал — это не музыка приковала ее. В этой музыке он, Токарев, из далекого прошлого говорил ей о любви и счастье, ее душа тянулась к нему, и его сердце горячо билось в ответ. Музыка прекратилась. Варвара Васильевна быстро двинулась дальше.
— Пойдемте! Другого не нужно слушать! И опять за тихими домами отдавались шаги, и звезды мерцали в темном небе.
— Помните, Варвара Васильевна?.. — начал Токарев.
Оживленная и счастливая, она поспешно прервала его:
— Да, да… Только не нужно об этом говорить… Как хорошо кругом, как звезды блестят!..
Они подошли к воротам больницы.
— Зайдите. Напьемся чаю.
В ее комнате было темно. Токарев зажег лампу.
— Посидите, я сейчас схожу в кухню за кипятком. — Варвара Васильевна что-то вспомнила и в колебании помолчала. — Или вот что, — заговорила она извиняющимся голосом, — подождите минут пять, я только схожу, проведаю сегодняшнего больного.
— Варвара Васильевна, да это же невозможно! Ну, пожалуйста, я вас прошу. — Он сжал ее руку в своих руках. — Пожалуйста, оставьте на сегодня всех больных! Ведь вы в отпуске, там у вас есть дежурные фельдшера.
— Я в одну минуту сбегаю. Видите, сегодня дежурный Антон Антоныч: он с десяти часов заляжет спать и не встанет до утра. А больной тяжелый, ему, может быть, что-нибудь нужно… Я сейчас ворочусь!
— Ну, а можно мне с вами пойти?
— Отлично! Пойдемте!
Они пошли по коридору. Варвара Васильевна тихо открыла дверь в арестантскую. В задней ее половине, за решеткою, сидел на полу больной. По эту сторону стоял больничный служитель Иван — бледный, с широко открытыми глазами. Маленькая лампочка горела на стене. Варвара Васильевна шепотом спросила служителя:
— Ну, что Никанор?
— После обеда ничего был. Доктор ему лекарства дал, он заснул… А теперь вот сидит, глазами ворочает, да вдруг как начнет головою биться об решетку!.. Все пить просит.
— А лекарство вечером давали ему?
— Н-нет…
Варвара Васильевна и Токарев подошли к решетке. В полумраке сидел на полу огромный человек. Он сидел сгорбившись, с свесившимися на лоб волосами, и раскачивал головою. Варвара Васильевна мягко сказала:
— Здравствуйте, Никанор! Как поживаете?
Больной медленно поднял голову и пристально оглядел Варвару Васильевну. На темной бороде клочьями висела подсыхавшая пена. Он хрипло ответил:
— А как!.. Видно, не больно хорошо!
— Вы меня знаете?
— Ну, а как же не знаю!
— Кто же я?
— Вы-то? Барышня наша. — Он помолчал и задумчиво потер ладонью край лба. — Скажите вы мне, бога ра ди, — как я сюда попал?
— Вы в больнице. Вам было худо, и потому вас привезли сюда!
— Худо? — Больной задумался. — Да, да, я что-то сильно безобразил. Но что я делал — не знаю.
— Ничего вы не безобразили. Просто у вас сильно болела голова, так сильно, что вы были без памяти. Ну, конечно, когда человек без памяти, то и мечется. Хотите пить? Я вам сейчас дам.
— А решетка зачем?.. Нет, видно, сильно я безобразил, коли за решетку посадили меня, как зверя…
Он уныло опустил голову. Лицо стало грустное и хорошее.
— Посадили вас за решетку, чтоб вы не убежали, если опять будете без памяти, — только для того. Поправитесь и пойдете себе домой.
Больной вдруг спросил:
— А где моя жена?
— Дома.
— А скажите… Она жива?
— Конечно, жива и здорова.
— А ребята?
— И ребята тоже.
— Гм… — Больной нахмурился и понурил голову. — Да скажите же мне, — что такое со мною было? — Он начинал волноваться. — Я помню, я что-то сильно безобразил. Вот, вы говорите, жена моя, Дуняша, здорова… Отчего же ее тут нету?
— Никанор, какой вы, право, странный! Ведь вы же знаете, у нее в деревне хозяйство, дети, скотина. Не может же она все бросить и идти к вам. Ну, справит дела, утром и придет вас проведать.
— Утром… Нет, это вы меня обманываете!.. Что с женой? — вдруг коротко и решительно спросил он. — Я ей что-нибудь сделал? Убил ее! Не обманывайте вы меня, бога ради!
— Ну, Никанор, если вы мне не верите, то я уйду. Мне, наконец, обидно: я никогда не лгу, а вы вот мне не верите.
Больной внимательно слушал.
— Нет, нет, не уходите, я верю… Ну, а вас, барышня, я не обидел? Помнится, я вам что-то худое сделал.
— Да нет же, голубчик, ничего вы мне не сделали! Будет разговаривать, вам это вредно… Иван, сходите к смотрителю и принесите бутылку пива.
Иван вышел. Больной сидел на тюфяке, свесив голову. Лицо его побледнело, он дышал часто и поверхностно.
— Эх, вот тут больно, — сказал он и показал под ложечку: — дыхать не дает. А пить охота…
— Вот сейчас принесут пиво, вы выпьете и вам станет легче.
Срывающимся голосом он вдруг спросил:
— Скажите, барышня, я… бешеный?
Варвара Васильевна рассмеялась.
— Ну, что за глупости! Какой же вы бешеный? У вас просто горячка, больше ничего. Я сейчас пойду поить вас, — разве бы я пошла, если бы вы были бешеный?
Больной замолчал. Мутные глаза смотрели из полумрака на Варвару Васильевну. Вдруг он сказал:
— Я сейчас во всю силу буду стучать в дверь!
— Зачем?
Он вызывающе ответил:
— А чтоб Дуняша пришла!
— Я же вам говорила, сейчас ей некогда. Она придет завтра утром, а если что задержит, — в полдни уж непременно.
— В по-олдни… Ну, теперь я вижу, всё вы врете. Говорили, — утром, а теперь уж на полдни перешли!.. Нет, видно, ее в живых-то нету… Пустите меня, я к ней пойду! — крикнул он, встал и подошел к решетке.
— Ну, Никанор, если так, то прощайте! Я вам передаю ее же слова, а вы не верите. Если не верите, то нечего и толковать.
— Нет, постойте, не уходите. Вы скажите только, — придет она?
— Придет.
— Ей-богу?
— Ей-богу.
— Ну, ладно, буду ждать. А только… Коли она не придет, буду так безобразить, что… И вас не послушаю, никого! — Больной помолчал. — Коли не придет, увидите, что будет! Я попрошу вас к себе сюда… — зловеще протянул он.
— Зачем?
— А тогда узнаешь, зачем!.. Значит, вы только утешали меня, обманывали!..
Больной волновался все больше. В тоске он потер рукою под ребрами.
— Эх, как больно тут!.. Дайте мне пить! Я пить хочу.
В арестантскую на цыпочках вошел служитель Иван с бутылкою пива.
— Вот, извольте!.. — В смутном ужасе он покосился на больного и зашептал: — Только я, барышня, ни за что не пойду с вами! Хоть сейчас с места сгоните!
Варвара Васильевна спросила:
— Антон Антоныч у себя?
Она вышла с Токаревым в коридор. Токарев ощущал в спине быструю, мелкую дрожь. Он спросил:
— Но ведь бешеные, кажется, не могут пить?
— Нет, пиво им иногда удается проглотить.
По коридору шел заспанный Антон Антонович, в своих розовых воротничках и пиджаке.
— Антон Антоныч, Никанор пить просит. Не поможете ли вы мне его напоить?
Фельдшер остановился, поднял брови и забегал глазами по потолку.
— Мм-м… Знаете что? Подождемте лучше доктора, он ведь скоро придет.
— Какое же «скоро»? Он приходит в девять утра, а теперь только час ночи.
— Нет, знаете… Он сегодня раньше придет.
— Ну, Антон Антоныч, это вы сочиняете! Почему он сегодня раньше придет?.. Скажите, поможете ли мне или нет?
Антон Антоныч замялся.
— Знаете… я боюсь! А ну, как он меня укусит! С доктором хоть в огонь пойду, а без него я… извините, боюсь!
— Как хотите!.. Дело только в том, что одной трудно его напоить.
Варвара Васильевна беглым взглядом скользнула по лицу Токарева. Токарев внимательно смотрел на фельдшера и с невинным видом играл ключиком от часов.
Фельдшер помолчал и спросил:
— Ну, а если я не пойду, то что будет?
— Что будет! Ничего особенного. Пойду одна.
Фельдшер с изумлением оглядел ее.
— Ну, Варвара Васильевна… Как это — одна? Это невозможно!
— А что же я буду делать? Больной просит пить, а я стану уговаривать его ждать до утра?
Варвара Васильевна пошла назад. Фельдшер шел за нею следом.
— Барышня, вы подумайте, ведь это невозможно! Да и на что пить ему? Он все равно не выздоровеет, помрет к завтраму, — с пивом ли, без пива ли…
Варвара Васильевна, не слушая, говорила:
— Нужно будет морфия всыпать в пиво.
Она вошла в арестантскую. Фельдшер, странно сопя носом, в волнении прошелся по коридору. Подошел к Токареву, развел дрожащими руками:
— Я, знаете… не могу этого… У меня жена молодая, ребенок маленький…
И, быстро повернувшись, снова пошел по коридору. Токарев видел, как он бормотал что-то под нос и размахивал руками.
Варвара Васильевна высыпала в жестяную кружку порошок и налила пиво. За решеткою темнела в полумраке огромная лохматая фигура больного. Он сидел сгорбившись и в забытьи качал головою. Служители и сиделки толпились в первой комнате, изредка слышался глухой вздох. Токарев, прислонясь к косяку коридорной двери, крепко стискивал зубы, потому что челюсти дрожали.
Варвара Васильевна подошла к решетке.
— Никанор, вы хотели пить. Я войду, напою вас. Хорошо?
Он пробормотал:
— Хорошо.
— Ну, а можно мне к вам одной войти, вы не обидите меня?
Больной с удивлением поднял глаза.
— Что вы, барышня? Вы меня поить будете, а я обижать! Нет, вы не опасайтесь!
— Ну, хорошо… Иван, отоприте замок!
Иван снова зашептал:
— Только я, барышня, ни за что не пойду с вами. Да и вы тоже, барышня… Ведь в его душу не влезешь!
Варвара Васильевна нетерпеливо повторила:
— Да отпирайте же!
Стало тихо. Иван дрожащими руками совал ключ, но не мог попасть в замок. Больной неподвижно сидел на тюфяке и с загадочным любопытством смотрел на толпу за решеткой.
В дверях коридора появился фельдшер. С широко открытыми страдающими глазами, он остановился на пороге, крепко вцепившись пальцами в локти. Иван продолжал лязгать ключом по замку. Варвара Васильевна, бледная и спокойная, с сдвинутыми тонкими бровями, ждала с кружкою в руках.
Фельдшер пробормотал.
— Нет… Нет… Господи! Простите меня, я не могу!..
Он странно-молитвенно поднял кверху руки, повернулся и с поднятыми руками пошел по коридору прочь. Замок два раза звонко щелкнул. Решетчатая дверь открылась. Все замерли. Варвара Васильевна вошла в больному. Вдруг словно сила какая подхватила Токарева. Он протолкался сквозь толпу и тоже вошел за решетку
Варвара Васильевна сказала:
— Ну, Никанор, давайте пить!
Больной зашевелился и поспешно отер ладонью усы.
— Дайте мне руку, держите меня!
Токарев вполголоса сказал Варваре Васильевне:
— Позвольте, я подержу.
Она быстро взглянула на него. Бледное лицо вспыхнуло радостью, и засветившиеся глаза с горячею ласкою остановились на Токареве. Больной говорил:
— За обе руки держите! А то я боюсь, не зашибить бы барышню… Эй, вы! — обратился он к толпе. — Подержите кто-нибудь!
Иван на цыпочках вошел в дверь и, широко улыбаясь, взял больного за руку. Токарев держал другую руку. Держал и смотрел на подсохшие клочья пены, висевшие в спутанной, темной бороде больного.
Больной жадно поглядел на кружку с холодным пивом и вздохнул.
— Эх, выпить-то я не смогу!.. Я воду в рот, а меня как будто кто за горло схватит.
Варвара Васильевна сказала:
— Да это не вода, это пиво. Вы не бойтесь, пиво всякий всегда может выпить, оно совсем легко идет в горло… Ну, откройте рот!
Больной неуверенно раскрыл рот. Варвара Васильевна влила в него ложку пива.
— Ну, вот! Отлично! Глотайте, вы непременно проглотите! — спокойно и уверенно твердила Варвара Васильевна.
Больной закрыл глаза, постарался проглотить, но судорога сдавила ему глотку. В мучитель-ных усилиях побороть ее он весь изогнулся назад, выкатывал глаза, рвался из рук державших. Потом вдруг сел и облегченно вздохнул — он проглотил.
— Не ушиб ли я вас? — спросил он, передохнув. — Кажись, руками я шибко махал — не задел ли кого?
Варвара Васильевна радостно ответила:
— Нет, нет, успокойся, милый, никого ты не задел! Вот теперь ты сам видишь, что можешь пить… Ну, еще ложку!
— Дай тебе бог доброго здоровья!.. Ну, господи благослови!
Больной, хотя со значительными усилиями, но выпил еще две ложки. Облегченный и успокоенный, он сказал:
— Теперь, бог даст, засну.
Все вышли от него. В коридоре к Варваре Васильевне подошел фельдшер. Он виновато и подобострастно заглянул ей в глаза.
— Я, право, Варвара Васильевна, не мог пойти! Ведь я не один, вы знаете; у меня жена молодая, ребенок. Знаете, хотел было пойти, и вдруг, как видение встало перед глазами: Дашенька, а на руках ее младенец! И голос говорит: не ходи!.. Не ходи, не ходи!.. Какая-то сила невидимая держит и не пущает!
Варвара Васильевна добродушно засмеялась.
— Ну, что об этом говорить теперь! Видите, кое-как сладилось дело. Покойной ночи!
Она и Токарев вошли в ее комнату. На подносе стоял большой жестяной чайник с кипятком, и чай был уже заварен. Токарев со смехом говорил:
— Боже мой, какой чудак этот ваш Антон Антоныч!.. Посмотрели бы вы на его физиономию, когда Иван отпирал замок!.. Да, Варвара Васильевна, кстати: отчего вы прямо не обратились ко мне, чтоб я вам помог? Я сначала не решался предложить свои услуги, думал, для этого нужен специалист. Ну, а вижу, «специалисты» все мнутся…
Варвара Васильевна с счастливою улыбкою наклонилась над чайником, слегка поднимая и опуская его крышечку.
— Я в душе была убеждена, что вы пойдете… Хотя на одну секунду усомнилась…
Токарев улыбнулся.
— Это тогда, когда вы говорили в коридоре с фельдшером?
— Д-да…
— Так, господи, я же вам говорю: я не знал, гожусь ли я. Вижу, вы ко мне не обращаетесь, — думаю: очевидно, тут нужны специальные знания…
Они долго просидели за чаем. Не хотелось расходиться. Случилось что-то особенное. Вдруг они стали близки-близки друг другу. Каждую фразу, каждое слово одного другой принимал с горячим, любовным вниманием. И глаза встречались теперь свободно.
Уже светало, когда Токарев вышел из больницы. Он шел улыбаясь, высоко подняв голову, и жадно дышал утренней прохладой. Как будто каждый мускул, каждый нерв обновились в нем, как будто и сама душа стала совсем другая. Он чувствовал себя молодым и смелым, слегка презирающим трусливого Антона Антоныча. И перед ним стояла Варвара Васильевна, как она входила в комнату бешеного, — бледная, со сдвинутыми бровями и спокойным лицом, — и как это лицо вдруг осветилось горячею ласкою к нему.
X
Варвара Васильевна и Токарев воротились в Изворовку. Таня заявила, что уж отдохнула в деревне и останется в Томилинске.
Жизнь в Изворовке текла тихая, каждый жил сам по себе. Токарев купался, ел за двоих, катался верхом. Варвара Васильевна опять с утра до вечера возилась с больными. Сергей сидел за книгами. Общие прогулки предпринимались редко.
Варвара Васильевна как будто жалела о порыве, охватившем ее под влиянием неожиданно услышанной «Легенды». Она замкнулась в себе и старалась отдалиться от Токарева. Токарев мучился, несколько раз пытался заговорить. В ее глазах появлялась тогда растерянность. И, прося у Токарева взглядом прощения, она переводила разговор на другое. Ему все больше начинало казаться, что Варвара Васильевна, такая на вид спокойная и ровная, давно уже переживает в душе что-то очень тяжелое. Иногда, случайно увидев ее одну, он поражался, какое у нее было глубоко грустное лицо.
С Сергеем отношения у него совсем не ладились. Вначале Сергей относился к Токареву с любовною почтительностью, горячо интересовался его мнениями обо всем. Но что дальше, то больше в его разговорах с Токаревым стала проскальзывать ироническая нотка. И Сергей становился Токареву все неприятнее.
Вообще Сергей производил на Токарева странное впечатление. Оба они жили наверху, в двух просторных комнатах мезонина. Сергей то бывал буйно весел, то целыми днями угрюмо молчал и не спал ночей. Иногда Токарев слышал сквозь сон, как он вставал, одевался и на всю ночь уходил из дому. От Варвары Васильевны Токарев узнал, что Сергей страдает чем-то вроде истерии, что у него бывают нервные припадки.
Прошла неделя. Тринадцатого августа, в воскресенье, были именины Конкордии Сергеевны. Съехалось много гостей.
Большой стол был парадно убран и поверх обычной черной клеенки был покрыт белоснежною скатертью. В окна сквозь зелень кленов весело светило солнце. Конкордия Сергеевна, вставшая со светом, измученная кухонною суетою и волнениями за пирог, села за стол и стала разливать суп.
Сергей с усмешкою шепнул Токареву:
— Мученица своего ангела! И Варя, несчастная, тоже запряглась. С утра на кухне торчит.
Василий Васильевич был очень оживлен и говорлив. Он наливал в рюмки зубровку.
— Ну, господа, господа! За здоровье именинницы!
Выпили по рюмке, некоторые по второй. Закусив, принялись за бульон с пирогом.
Юрасов, акцизный ревизор с Анною на шее, с любезною улыбкою говорил Конкордии Сергеевне:
— А приятно этак, знаете, на лоне природы жить!.. Какой у вас тут воздух прелестный!
Конкордия Сергеевна махнула рукою.
— Эх, милый Алексей Павлович, не говорите! Мы этого воздуха и не замечаем. Столько хлопот, суеты, — где уж тут о воздухе думать!
— Нет, знаете… Что ж суета? Суета везде есть, без нее не обойдешься.
— Вот только для детей, конечно. Для них, для здоровья их — вот, правда, много пользы от воздуха.
— Ну да, и для детей… — Юрасов взглянул на Сергея. — Сергей Васильевич где теперь, в Юрьевском университете?
Конкордия Сергеевна сделала скорбное лицо.
— В Юрьевском, Алексей Павлович, в Юрьевском… Дай бог, чтобы уж там как-нибудь кончил, об одном только я бога молю.
— Ну, кончит, бог даст… Молодость, знаете: кровь кипит, в голове бродит!.. — Юрасов повел сухими пальцами перед лбом. — Этим огорчаться не следует; перебродит, взгляды установятся и все будет хорошо. Вот увидите.
Прикусив улыбку на красивых губах, Сергей молча смотрел на благодушно-снисходительное лицо Юрасова с отлогим лбом и глазами без блеска.
Юрасов продолжал:
— И все-таки, что вы там ни говорите, а я от души рад за Василия Васильевича, что он бросил нашу лямку. Что ему теперь? Ни от кого не зависит, сам себе хозяин, делает, что хочет.
Василий Васильевич юмористически поднял брови и крякнул:
— Гм… Я бы с большим удовольствием предоставил это удовольствие вам… Нет, Алексей Павлович, раньше было лучше. Бывало, придет двадцатое число — расписывайся у казначея и получай жалованье, ни о чем не думай. А теперь — дождь, солнце, мороз, от всего зависишь. А главная наша боль, — народу нет. Нет народу!
— Нету, нету! — вздохнул помещик Пантелеев, плотный, с маленьким лбом и жесткими стрижеными волосами. — Положительно невозможно дела делать!
— Хоть сам коси и паши! Все бегут в город; там хоть за три рубля готовы жить, а тут и за пять не хотят. А уж который остается, так такая шваль, что лучше и не связывайся.
— Грубый народ, пьяный! Вор-народ! — поддержал Пантелеев. — Вы поверите, сейчас август месяц, а у меня еще два скирда необмолоченных стоит прошлогодней ржи, — ей-богу! Нет рук!
Своим медленным и спокойным голосом заговорил Будиновский:
— Я думаю, господа, вы сами в этом виноваты. Хороших рабочих всегда можно достать, если им хорошо платить и сносно содержать.
Пантелеев почтительно и с скрытою враждою исподлобья взглянул на него:
— Да, Борис Александрович, вам это легко говорить! Мы бы, может, с вашими капиталами тоже не жаловались. А то капиталов-то у нас нету, а детей семь человек; всех обуй-одень, накорми-напои. Вы-то платите от излишков, а цену набиваете. А жить-то, Борис Александрович, всем надо-с, — всем надо жить!
Горячо заспорили.
Марья Михайловна Будиновская сидела рядом с Токаревым. Она вполголоса сказала ему:
— Ужасно помещики на нас злобятся! Не могут простить, что мы платим рабочим высокую цену. Этот самый Пантелеев на земском собрании такую филиппику произнес против Бориса… И вообще, я вам скажу, типы тут! Один допотопнее другого! Вот Алексей Иванович много может вам рассказать про них.
Она заглянула на сидевшего рядом земского врача Голицынского.
Загорелый, с угрюмым и интеллигентным лицом, Голицынский лениво спросил:
— Это насчет чего?
— Я говорю, что вам приходится наблюдать наших деятелей в довольно-таки непривлекательном свете.
— А-а!.. — Голицынский помолчал. — Да вот вам случай с коллегой моим, врачом соседнего участка, — заговорил он неохотно, как будто его заставляли говорить против воли. — Зовет его в свой приют для сирот земский начальник, гласный. У мальчика оказывается гнойный плеврит. Пожалуйста, будьте добры сделать дезинфекцию. — Дезинфекция не нужна, болезнь не заразительная. — А я требую! Врач пожал плечами и уехал. Земский пишет в управу бумагу, — в приюте, дескать, открылась заразная болезнь, а земский врач отказывается сделать дезинфекцию. Из управы запрос к врачу: почему? — Потому, что не было никаких оснований исполнять невежественные требования господина земского начальника. Назначается расследование, и результат: врача «для улучшения местных отношений» переводят в другой участок.
Сергей с любопытством спросил:
— Ну, а вы что же?
— То есть, что же я?
— Так и оставили это? И все врачи уезда не вышли в отставку?
Марья Михайловна воскликнула:
— Ах, господи, Сережа!.. Какой он прямолинейный! Обо всем судит со своей студенческой точки зрения!.. Ну, что хорошего было бы, если бы Алексей Иванович ушел? Одним дельным человеком стало бы у нас меньше, больше ничего!
Доктор, наклонившись над тарелкой, ворошил вилкою оглоданное крыло утки.
— Нет, дело не в этом, — грубовато возразил он. — Дело, изволите видеть, в том, что куска хлеба лишишься. А на другое место пойдешь, будет не лучше. Вот — причина простая.
Марья Михайловна, прищурившись, смотрела вдаль, как будто не слышала признания доктора. Сергей протянул:
— Да, это что спорить! Просто!
— Оно, знаете, в нашей жизни человек подлеет ужасно быстро, ужаасно!.. Совсем особенная философия нужна для нее: надень наглазники, по сторонам не оглядывайся и иди с лямкой по своей колее. А то выскочишь из колеи, пойдет прахом равновесие и… жить не станет силы. Изволите видеть? Не станет силы жить!
Сергей изумился.
— И вы миритесь с этой философией!.. Кругом — жизнь, такая яркая, живая и интересная, а вы сознательно надеваете наглазники и боитесь даже взглянуть на нее!
Доктор неохотно спросил:
— Где она, яркая-то жизнь? Все серо кругом, душно и пусто… «Яркая»…
— Да, если так дрожать перед нею и покоряться ей…
— Я не знаю, мне кажется, вы совершенно не возражаете Алексею Ивановичу, — заговорил Токарев, обращаясь к Сергею. — Мысль доктора вполне ясна: в теории непримиримость хороша и даже необходима, но условия жизни таковы, что человеку волею-неволею приходится съеживаться и становиться в узкую колею. И мне кажется, это совершенно верно. Какая, спрашивается, польза, чтобы вместо Алексея Ивановича у нас оказался врач, который бы лечил мужиков оптом: Эй, у кого животы болят? Выходи вперед. Вот вам касторка. У кого жар? Вот вам хинин!
Сергей, подняв брови, внимательно смотрел на Токарева.
— Это в ваших устах звучит ново!.. Я думал, вы согласитесь с тем, что непримиримость нужна прежде всего именно в жизни, что честные люди должны словом и делом доказывать, что подлость есть подлость, так же уверенно и смело, как нечестные люди доказывают, что подлость есть самая благородная вещь.
Марья Михайловна, обрадованная поддержкою Токарева, возразила:
— Да, только тогда нельзя будет жить! И все честные люди будут погибать.
Сергей усмехнулся.
— Будут погибать, верно! А вот этого-то как раз нам ужасно не хочется — погибать!
— Ну, Сережа, я тебя не слушаю! — Марья Михайловна засмеялась и заткнула уши белыми пальцами в кольцах.
Обед кончился. Перешли в гостиную. Одни сидели, другие расхаживали по комнате и рассматривали безделушки в неуклюжих стеклянных горках. Подали кофе. Перед домом, в густой липовой аллее, расставляли карточные столы.
Конкордия Сергеевна сидела на диване между женами Юрасова и Пантелеева, размешивала ложечкою кофе и рассказывала:
— У Катамышевых говорят мне: попробуйте жженого кофею взять, у нас особенным образом жгут, все покупатели одобряют. Взяла, — гадость ужасная! Просто кофейная настойка, без всякого вкуса. А я люблю, чтоб у кофе был букет…
С террасы, потирая руки, вошел в гостиную Василий Васильевич.
— Ну, господа, господа! Пора за дело! Пожалуйте, столы готовы!
Мужчины и многие дамы поднялись. Василий Васильевич спросил Токарева:
— А вы в винт не играете?
— Я… мм… играю немножко…
— А-а!.. — Василий Васильевич с уважением оглядел его. — Великолепно!.. Вот вам, значит, четвертый партнер! — обратился он к Марье Михайловне.
Марья Михайловна просияла и с ласкою взглянула на Токарева.
— Как я рада!
Она сначала как будто удивилась, что он играет.
Спустились с террасы. Столы в аллее весело зеленели ярким сукном. Партнерами Марьи Михайловны и Токарева были Пантелеев и акцизный чиновник Елкин. Уселись, вытянули карты. Марье Михайловне вышло сдавать.
Елкин, живой старичок с круглыми глазами, говорил:
— Ну, я сегодня в выигрыше! Как с дамами играю, всегда выигрываю. — Он взял карты. — Так и есть! Туз… другой… третий… четвертый… пятый…
Марья Михайловна засмеялась. Елкин сказал:
— Вы что смеетесь? Давайте пари, что выиграю!
— Давайте!
Вечер был чудесный — теплый и тихий. Солнце светило сбоку в аллею. Нижние ветви лип просвечивали яркою зеленью. В полосах солнечного света золотыми точками плавали мухи. Варвара Васильевна расхаживала по аллее с женами Елкина и Пантелеева и занимала их.
Марья Михайловна в колебании смотрела в свои карты.
— Погодите немножко… Гм… — Она помолчала. — Ну… без козыря!
— Если говорят с руки: «Ну… без козыря!» — это значит, что всего два туза, — объяснил Елкин Токареву и решительно сказал: — Три без козыря!
Марья Михайловна лукаво погрозила пальцем.
— Иван Яковлевич, не зарывайтесь!
— Я вам с начала игры сказал, что у меня пять тузов… Владимир Николаевич, карты поближе к орденам, — все вижу.
— Четыре черви! — сказал Токарев, игравший с Марьей Михайловной.
Елкин почтительно протянул:
— Па-ас, па-ас!.. Прикажете раскрыть прикуп?
Марья Михайловна заволновалась:
— Нет, нет, подождите!.. Четыре без козыря! Я беру! Она раскрыла прикуп, задумалась. Нерешительно передала Токареву четыре карты и сказала:
— Ну, посмотрю, поймете ли вы.
Пантелеев ворчливо заметил:
— Марья Михайловна, так нельзя!
— Да я… я ничего не сказала!
— А я вот понял, что вы сказали! — вызывающе произнес Елкин. — На ренонсах хотите играть!
— Малый в червях, — объявил Токарев.
Они сыграли назначенное. Марья Михайловна забрала последнюю взятку и радостно заговорила:
— Вы мне говорите: «черви», а у меня туз и пять фосок! Я все-таки колебалась поднимать на пять червей, но, думаю: вы сразу сказали четыре черви, значит, у вас масть хорошая… Ну, записывайте, Владимир Николаевич!
Ее красивое лицо горело оживлением. За соседним столом царило гробовое молчание. Там играли Василий Васильевич, Будиновский, доктор Голицынский и ревизор Юрасов с Анною на шее. Они сидели молча, неподвижные и строгие, и только изредка раздавалось короткое: «пас!», «три черви», «четыре трефы!» Елкин почтительно сказал:
— Вот играют! Как цари!
Игра шла веселая и оживленная. Сыграли уже шесть робберов. Темнело, подали свечи и чай.
Токарев, увлеченный трудным разыгрыванием большого шлема с Елкиным, случайно поднял глаза. За соседним столом, лицом к нему, сидел Василий Васильевич, глядя в карты. Свечи освещали его лицо — серьезное и строгое, со сдвинутыми тонкими бровями… У Токарева прошло по душе странное чувство. Что такое? Где он недавно видел такое же лицо? Ах, да!.. Совсем с таким лицом Варвара Васильевна стояла недавно перед решеткою в ожидании, когда служитель откроет дверь к бешеному…
По аллее прошли в глубь сада Сергей и побледневшая Варвара Васильевна. Сергей иронически сказал:
— Ишь, Владимир-то Николаевич наш! Совсем акклиматизировался среди «больших»!
Токарев дрогнул и нахмурился.
«Какое скучное ребячество!» — с тоскою подумал он.
В одиннадцать часов подали ужинать. Все шумно сели за стол, веселые и проголодавшиеся. Токарев опять сидел рядом с Марьей Михайловной. Они теперь чувствовали себя совсем друзьями, шутили, смеялись. Василий Васильевич разлил по бокалам донское игристое. Стали говорить шутливые тосты, чокаться. После ужина гости начали разъезжаться.
Марья Михайловна в верхней кофточке цвета ее юбки и в шляпке, сделавшей ее лицо еще красивее, крепко пожимала руку Токареву и взяла с него слово, что он приедет к ним в деревню. Подали коляску Будиновских. Красивые серые лошади, фыркая, косились на свет и звякали бубенчиками. Кучер в бархатной безрукавке неподвижно сидел на козлах.
Будиновские сели, и коляска, звеня бубенчиками, мягко покатилась в темноту.
Токарев вышел на террасу. Было тепло и тихо, легкие облака закрывали месяц. Из темного сада тянуло запахом настурций, левкоев. В голове Токарева слегка шумело, перед ним стояла Марья Михайловна — красивая, оживленная, с нежной белой шеей над кружевом изящной кофточки. И ему представилось, как в этой теплой ночи катится по дороге коляска Будиновских. Будиновский сидит, обняв жену за талию. Сквозь шелк и корсет ощущается теплота молодого, красивого женского тела…
Хорошо бы так жить! Вот такая жена — красивая, белая и изящная. Летом усадьба с развесистыми липами, белою скатертью на обеденном столе и гостями, уезжающими в тарантасах в темноту. Зимою — уютный кабинет с латаниями, мягким турецким диваном и большим письменным столом. И чтоб все это покрывалось широким общественным делом, чтобы дело это захватывало целиком, оправдывало жизнь и не требовало слишком больших жертв…
XI
С утра пошел дождь. Низкие черные тучи бежали по небу, дул сильный ветер. Сад выл и шумел, в воздухе кружились мокрые желтые листья, в аллеях стояли лужи. Глянуло неприветливою осенью. На ступеньках крыльца чернела грязь от очищаемых ног, все были в теплой одежде.
Настал вечер. Отужинали. Непогода усиливалась. В саду стоял глухой, могучий гул. В печных трубах свистело. На крыше сарая полуоторванный железный лист звякал и трепался под ветром. Конкордия Сергеевна в поношенной блузе и с косынкою на редких волосах укладывала в спальне белье в чемоданы и корзины — на днях Катя уезжала в гимназию. Горничная Дашка, зевая и почесывая лохматую голову, подавала Конкордии Сергеевне из бельевой корзины выглаженные женские рубашки, юбки и простыни.
Варвара Васильевна, Токарев, Сергей и Катя сидели в столовой. Горела лампа. Скатерть, с неприбранной после ужина посудой, была усеяна хлебными корками и крошками. Сергей, с особенным блеском в глазах, сидел на окне, засунув руки меж колен, и хмуро смотрел в угол.
— Ах ты гадость какая! — с отвращением сказал он, встал и зашагал по комнате. — Как паскудно на душе! Ну и компания же была у нас вчера!.. У-у, эти взрослые люди!..
Он остановился перед столом.
— Взрослые, «почтенные»… Всю жизнь корпят, «трудятся», и даже не спросят себя, кому и на что нужен их труд. Важно только одно, — чтоб «заработать» побольше, чтоб можно было со своею семьею жить… А для чего жить?.. А вечером съедутся и с тем же важным, почтенным видом целыми часами бросают на стол раскрашенные картонки. И ведь все ужасно уважают себя, — какое сознание собственного достоинства, какая уверенность в своем праве на жизнь! В голове — пара дрянненьких идеек, высохших, как залежавшийся лимон, и это — «установившиеся взгляды». Зачем думать, искать? Ведь это положительно собрание каких-то животных — тупых, самодовольных, ни над чем не задумывающихся. И среди этих животных — «люди»: доктор, покорно преклоняющийся перед всякою подлостью, хотя и понимает, что это подлость. Будиновский с его великолепным либерализмом… Я его себе иначе теперь не могу представить: жена сидит, читает ему умную книжку, а он слушает и… рисует лошадиные головки. Ведь в этих лошадиных головках он весь целиком, со всею силою своих идеалов и умственных запросов… Бррр!..
Сергей передернул плечами и медленно зашагал по столовой. Токарев стоял у печки и крутил бородку. В душе росло глухое раздражение. Он заговорил:
— Меня, Сергей Васильевич, удивляет одно. Вы преисполнены ужасным презрением к бывшим у нас вчера взрослым людям. Они не удовлетворяют вашему представлению о человеке — страстно ищущем, смелом, не дрожащем за себя и свое благополучие. Вы в этом совершенно правы, но только… Разве у нас вчера были какие-нибудь особенные «взрослые люди», а не самые обыкновенные? В общем, взрослые люди все таковы, и над этим стоит задуматься. Возьмите хоть такую вещь: среди ваших сверстников вы, наверное, уважаете множество лиц, среди «взрослых людей» лишь трех-четырех, и то вы их уважаете условно. Ведь правда?
— Совершенно верно.
— Ну вот. У меня тоже было много сверстников, заслуживавших глубокого уважения, а теперь… теперь они уважения не заслуживают. Какая этому причина? Та, что двадцать лет есть не тридцать и не сорок, больше ничего. Вам двадцать два года. Эко чудо, что у вас кровь кипит, что вам хочется подвигов, «грозы», самоотверженной деятельности, что вы жадно ищете знаний! В ваш возраст все это вполне естественно. Но это вовсе не дает вам права так презирать других людей и так уважать себя. Вот останьтесь таким до сорока лет, — тогда уважайте себя!
Сергей сдержанно возразил:
— Мне кажется, из ваших слов вытекает не этот вывод. Когда я перестану быть «таким», то я и должен перестать уважать себя.
— Нет, не то! Я говорю, что нужно иметь право предъявлять известные требования, хотя бы и самые законные, а вы такого права не имеете. Если десятилетний мальчик станет проповедовать взрослому человеку идеи «Крейцеровой сонаты», мне будет только смешно, хотя я могу вполне сочувствовать его проповеди. Как может он упрекать людей, если физиологически не способен понять, чтО такое страсть? Я буду слушать его и думать: погоди, брат, доживи до двадцати лет, и тогда мы тебя послушаем. То же самое и относительно вас: я думаю, вам с вашим презрением следовало бы подождать лет пятнадцать — двадцать.
Сергей, сгорбившись, сидел на окне, раскачивал ногами и с любопытством смотрел на Токарева. Токарев взволнованно говорил:
— Жизнь человека, его душа — это страшная и таинственная вещь! За маленьким, узким сознанием человека стоят смутные, громадные и непреоборимые силы. Эти-то постоянно меняющиеся силы и формируют сознание. А человек воображает, что он своим сознанием формирует и способен формировать эти силы… В чем другом, но в этом, мне кажется, невозможно сомневаться, и с фактом этим приходится мириться. И я лично, напротив, глубоко преклоняюсь перед людьми, которых вы так презираете, — у них чувство долга по крайней мере хоть до известной степени регулирует и направляет эти темные силы. И тут нельзя говорить: либо все, либо ничего, а нужно быть глубоко благодарным просто за что-нибудь.
Сергей качал головою и смотрел взглядом, от которого Токареву было неловко.
— Как легко и уютно жить с такою моралью, — я вам положительно завидую! И других можно «глубоко уважать» за ломаный грош, да и… самому весь свой основной капитал можно ограничить таким же грошом.
Токарев решительно и быстро сказал:
— Ну, Сергей Васильевич, на личности, я думаю, можно бы и не переходить!
— То есть, позвольте! Вы же сами все время доказываете, что мне всего двадцать лет. Вправе же и я сказать, что вам… перевалило за тридцать! — с усмешкою возразил Сергей.
— Да, мне перевалило за тридцать. Но что же из этого следует? К себе я могу и даже обязан предъявлять самые высокие требования, всю жизнь свою я могу оковать долгом. Но это не освобождает меня от обязанности относиться к другим терпимо и снисходительно. Я понимаю, что жить порядочным человеком не так легко, как птице петь песни. Кто с собою борется, кто старается не потерять из глаз идеала, заслуживает уважения, а не презрения. Я даже больше скажу: наша прямолинейная требовательность, наша ненависть к компромиссам тяжелым проклятием лежит на всей истории нашей интеллигенции. Это — специально русская черта, европейцу она совершенно непонятна. Лежит куча кирпичей. Европеец берет из нее, сколько в силах поднять, и спокойно несет к месту постройки. Русский следит за ним с презрительной усмешкой: смотрите, какой филистер, — несет всего дюжину кирпичей! Подходит русский богатырь и взваливает на плечи всю кучу. Еле идет, ноги подгибаются, и он, наконец, падает, — надорвавшийся, насмерть раздавленный нечеловеческою тяжестью. Вот это герой!.. Подходит другой, пробует поднять ношу и опять-таки, конечно, всю целиком. Но у него не хватает сил. Что делать? Он в отчаянии стоит над тяжелою грудою: он не работник, он — лишний человек, — и пускает себе в лоб пулю. Ведь такое отношение к делу мы видим у нас во всем. У каждого над головою висит альтернатива: либо герой, либо подлец, — середины между этим для нас нет.
— Ну, теперь мне все совершенно ясно!.. О да! Удобнее всего, конечно, поместиться в центре вашей альтернативы. Дескать, ни герой, ни подлец. Заполучить тепленькое местечко в надежном учреждении и делать «посильное дело» — ну там, жертвовать в народную библиотеку старые журналы… — Сергей поднял на Токарева тяжелый взгляд. — Но неужели вы, Владимир Николаевич, не замечаете, что вы полный банкрот?
Варвара Васильевна в негодовании воскликнула:
— Сережа, это, наконец, гадко! Для чего ты постоянно сейчас же сворачиваешь на личности?
— Черт возьми, да мне вовсе не интересен теоретический разговор! Все любящие папаши говорят то же самое! Меня все время интересует лишь сам Владимир Николаевич, о котором я раньше имел совершенно другое представление.
Токарев сдержанно сказал:
— Ну, знаете, в таком случае мы лучше прекратим разговор. — И он молча заходил по комнате.
Варвара Васильевна, потемнев, смотрела на Сергея и старалась остановить его взглядом. Сергей спокойно заговорил, как будто ничего не произошло:
— Разные бывают исторические эпохи. Бывают времена, когда дела улиток и муравьев не могут быть оправданы ничем. Что поделаешь? Так складывается жизнь: либо безбоязненность полная, либо — банкрот, и иди насмарку.
Токарев, напевая под нос, ходил по комнате. Он показывал, что не слушает Сергея и считает разговор конченным. Остальные тоже молчали и с осуждением глядели на Сергея. Сергей зевнул, заложил руки за голову и потянулся.
Катя сказала:
— Сережа, осторожнее! Продавишь локтем стекло.
Сергей помолчал. Глаза заблестели странно и весело. Он высоко поднял брови, и лицо от этого стало совсем детским:
— А что, вышибу я сейчас стекло или нет?
— Ну, брат, пожалуйста! Чего доброго, ты и вправду вышибешь! — сказала Варвара Васильевна.
Сергей, все так же подняв брови, с выжидающею усмешкою глядел на Варвару Васильевну — и вдруг быстро двинул локтем. Осколки стекла со звоном посыпались за окно. Сырой ветер бешено ворвался в комнату. Пламя лампы мигнуло и длинным, коптящим языком забилось в стекле.
— Господи, Сережа, ведь это же невозможно! — Варвара Васильевна поспешно схватила лампу и отодвинула в угол.
Токарев остановился, с недоумением оглядел Сергея и, пожав плечами, снова заходил по комнате. Сергей со сконфуженною улыбкою почесал в затылке.
— Черт знает что такое! Для чего я это сделал?.. Ну, ничего, Варварка, не огорчайся! Мы сейчас все это дело поправим!
Он быстро выбросил в сад осколки стекла, взял с дивана порыжелую кожаную подушку и заставил окно.
— Видишь, еще лучше, — все-таки хоть немножко вентиляция будет происходить!
Вошла Конкордия Сергеевна и недовольно спросила:
— Что это у вас тут за война?
— Войны, мама, никакой не было. Это я хотел испытать, крепки ли у нас стекла в окнах. Оказывается, никуда не годятся, представь себе!
— Окошко разбил? Господи ты мой боже! Ну что это! — Конкордия Сергеевна, ворча, подошла к разбитому окну. — Словно мальчик какой маленький! Разыгрался!
Сергей обнял ее.
— Ничего, мама, завтра покрепче стекла вставим… А что, дашь ты нам попробовать пастилы, которую сегодня варила?
— Ишь увивается! — засмеялась Катя.
Конкордия Сергеевна с сердитою улыбкою ответила:
— Не будет тебе пастилы, не стоишь!.. Вы, детки, ступайте из столовой: вон как в окно дует, еще простудитесь!.. И как это так можно? Ведь стекло денег стоит! Не маленький, мог бы понять. Тридцать — сорок копеек надо отдать… Пастила еще не остыла, на холод поставлена.
Она ушла. Сергей молча постоял и тоже вышел. Токарев пожал плечами.
— Что за странный человек!
Катя с беспокойством взглянула на Варвару Васильевну и грустно сказала:
— Ему что-то сегодня не по себе. Я боюсь, — что, если с ним сегодня опять что-нибудь случится?
— Ужасно он нервный!.. Как бы вправду чего не случилось с ним! А тут еще ветер так фантастически гудит…
XII
Сергей вышел из столовой и медленно прошел через большую, темную залу в гостиную. В ней тоже было темно. Он постоял, подошел к столу и сел в неудобное старинное кресло с выгнутою спинкою.
С самого утра им сегодня владела тупая, мутная тоска. Была противна погода, были противны вчерашние гости. Всего же противнее было то, что он не может стряхнуть с себя этой тоски. Раздражительная и злобная, она росла, вздымалась и охватывала, словно душные испарения. С отвращением он наблюдал, как в душе шевелилась и дрожала темная, нервная муть, над которою он был не властен. Токарев сейчас тоже говорил о «смутных, неподвластных человеку силах, которые формируют сознание»… О, этот человек с отрастающим животиком и начинающеюся лысиною — он все сумеет повернуть на оправдание своей заплывающей жиром души… И Сергей гадливо морщился, что у него может быть хоть что-нибудь общее с этим человеком.
В большой, высокой гостиной было темно. Только светлели огромные окна. Ветер гудел не переставая, тучи быстро бежали над садом. Черные вершины деревьев бились и метались под ветром. Стеклянная дверь террасы звякнула, ей в ответ слабо, болезненно зазвенела струна в рояле.
Сергей вздрогнул и оглянулся. Он услышал этот немолчный, глухой гул ветра. Гул был там, снаружи, а кругом притаилась тишина. Только стенные часы в зале как-то особенно громко тика-ли. Но в этой тишине все как будто живо и таинственно двигалось. Опять звякнуло стекло, что-то невидимое со вздохом пронеслось в темноте через комнату и исчезло за шкафом. Дверь в залу слабо скрипнула и зашевелилась. За окном, на фоне бледного ночного неба, как живая, испуганно билась ветка. Стало жутко. Сергей встал и вышел из гостиной, боясь оглянуться.
В столовой еще горел огонь. У стола, тихо разговаривая, сидели Токарев и Варвара Васильевна. Сергей прошел по коридору в комнату матери. Конкордия Сергеевна резала на блюде свежесваренную яблочную пастилу и укладывала ее в банки. У окна, заставленного бутылями с наливкою и ягодным уксусом, стояла Катя. Конкордия Сергеевна сказала:
— Ну вот, теперь вам всем до самых святок припасов хватит!.. Посмотри, Сереженька, какая пастила, — как янтарь! Попробуй-ка!
Сергей молча взял кусок и съел. Чтоб что-нибудь сказать, он спросил:
— А ветчину дашь?
— Как же! Сегодня утром четыре окорока отослала коптить в город… Ну, слава богу, все уложила!
Она стала увязывать банки. Катя с робким беспокойством украдкою следила за Сергеем. Конкордия Сергеевна говорила:
— Как ветер-то гудит!.. А рамы все в щелях, ни одна плотно не закрывается. На стеклах всю замазку галки оклевали… Да! Вот еще что, детки: колбасы я вам положу двух сортов — польские и просто жареные. Жареные вы ешьте раньше, они скоро портятся. Их можно есть холодными, но если разогреть, то, конечно, будет вкуснее. Ешьте с горчицей, это будет здоровее для желудка.
Сергей с неподвижными глазами постоял еще немного и молча вышел. Катя спросила:
— Сережа, ты куда идешь?
— Наверх, к себе.
— Можно с тобой?
Сергей заметил ее любящий, полный беспокойства взгляд и резко сказал:
— Что тебе там надо?
Катя замолчала.
Сергей вышел из комнаты, прошел темный коридор, переднюю и по узкой, крутой лестнице поднялся в мезонин.
Наверху было темно. Но в этой темноте так же, как в гостиной, все жило и двигалось. Ветер в саду гудел глухо и непрерывно, то усиливаясь, то ослабевая. На дворе отрывисто лаяла собака, словно прислушиваясь к собственному лаю, и заканчивала протяжным воем. Полуоторванный железный лист звякал на крыше сарая. Сергей остановился посреди комнаты. Он медленно дышал и пристально вглядывался в темноту.
Снаружи что-то невидимое зашуршало по стене и быстро пронеслось перед окнами. В углу у окна раздалось слабое, жалобное гудение. Это гудение постепенно становилось все громче. Снова что-то с шумом пронеслось за окнами, ветер яростно налетел из сада на дом. Стена затрещала. А в углу ныло все сильнее, отчаяннее. Теперь там ясно слышались живые, как будто человеческие стоны. Сергей осторожно вглядывался в угол и вдруг заметил, что в правом окне створки как-то странно звучат — слабо, порывисто и неправильно. Как будто кто-то подлетел снаружи и старался открыть окно, нетерпеливо ерзая по переплету. Сергей широко открытыми глазами вглядывался в окно, — и вдруг, вздрогнув, отскочил назад, — в щелку рамы раздался злобный, шипящий свист.
Задыхаясь, Сергей успокаивал себя:
— Это — ветер!
А снаружи бешено выло и свистало, стена колебалась… И вдруг сразу все оборвалось и замолчало. Только далеко гудел сад — глухо, утомленно.
Стало тихо. Смутный ужас все сильнее охватывал Сергея. Средь мертвой тишины, сзади, в темном углу, кто-то невидимый спокойно сплюнул. Сергей быстро обернулся: это капнула на пол капля из рукомойника, под который забыли подставить таз. Опять что-то легкое пронеслось за окнами, и опять слабо, чуть слышно заныло в углу. Гул сада рос, усиливался, становился ближе. Как будто могучая сила неслась из сада на дом. Со всех сторон поплыли странные, неясные звуки, и Сергей уж не успевал их объяснять. Окружающее принимало необычный, сверхъестественный характер. У окна слабо шевелилось что-то серое, волнующееся. Сзади кто-то тяжело дышал. В темноте быстро проносились синеватые искры.
Теснило грудь, не хватало дыхания. Ужас — безумный, нерассуждающий и тянущий к себе — оковал Сергея. И казалось ему, — стоит шевельнуться, и случится что-то неслыханное, и он, потеряв разум, полетит в темную, крутящуюся бездну.
XIII
Токарев и Варвара Васильевна сидели вдвоем в столовой. Лампа освещала скатерть и неприбранные тарелки с объедками. В саду бушевал ветер. В разбитое окно, заставленное подушкою, дуло сырым холодом. Варвара Васильевна говорила:
— Вы сказали тогда, что за маленькою душою человека стоят смутные и громадные силы, которые делают с нами, что хотят. Это так страшно и, кажется… такая правда!
Она помолчала и, пересиливая себя, заговорила опять:
— Я уж несколько лет замечаю это на самой себе. Что такое делается? Во мне все словно сохнет, как сохнет ветка дерева. Ее форма, весь наружный вид — все как будто остается прежним, но в ней нет гибкости, нет жизни, она мертва до самой сердцевины. Вот так и со мною. Как будто ничего не изменилось. Взгляды, цели, стремления — все прежнее, но от них все больше отлетает дух…
Токарев медленно расхаживал по комнате и с удивлением слушал. Он никак не ожидал, чтоб Варвара Васильевна переживала что-нибудь подобное. От ее признаний ему становилось легко и радостно, и Варвара Васильевна делалась ближе.
— И что делать, чтоб удержать прежнее? Я бы ни перед чем не остановилась. Но оно прошло, и его не воротишь. Нет желания отдать себя всю, целиком, хотя вовсе собою не дорожишь. Нет ничего, что действительно серьезно бы захватывало, во что готова бы вложить всю душу. Я знаю, в этом решение всех вопросов, счастье и жизнь, но только во мне этого нет, и я… я не люблю людей, и ничего не люблю! — Она со страхом взглянула на Токарева.
Токарев, широко раскрыв глаза, молча ходил. Он ждал, чтоб Варвара Васильевна продолжала, — так странно было слышать от нее это признание. Но, опустив голову, она молчала.
Токарев остановился перед нею и медленно заговорил:
— Вы не любите людей… Я не знаю, кто же тогда может сказать, что любит? Мне кажется, вы предъявляете к себе уж слишком преувеличенные требования. Вы хотите каждого, первого встречного человека любить горячо, так сказать, «конкретно», как близкого, — это прямо невозможно. Возьмите такой случай. Я иду ночью по глухой улице и слышу крики: «Караул!» Если я знаю, что это кричит, положим, любимая мною девушка, я все забуду и брошусь на помощь. Если же это так, неизвестно, кто кричит, то пойду я очень неохотно, может быть, даже постараюсь пройти в сторонке незамеченным.
Варвара Васильевна удивленно взглянула на Токарева. Он как будто не заметил ее удивления и постарался осторожно сгладить впечатление от своего признания
— Допустим для ясности, что я даже на это способен, — допустим, что я прошел бы мимо. Все-таки это еще ничего не доказывает; на страдания чужого человека невозможно отзываться так же горячо, как на страдания близкого. Но значит ли это, что я не люблю людей? Мне дорого все хорошее, я горячо радуюсь тому, что приносит людям пользу и счастье, негодую на то, что их давит и делает несчастными; при устройстве моей личной судьбы я руководствуюсь не собственными выгодами, а тем, чтоб мое дело было по возможности полезно для людей. Разве бы все это было возможно, если бы мне до других не было дела?
Варвара Васильевна молчала. Токарев прошелся по комнате.
— И главное — вам, вам обвинять себя в равнодушии к людям!.. Эх, Варвара Васильевна! Ну, ответьте по совести: если бы нужно было умереть за какое-нибудь хорошее дело, — вы-то не пошли бы? Да я голову даю на отсечение, что оказались бы в первых рядах.
С бледною улыбкою Варвара Васильевна ответила:
— Нет, я пошла бы… Именно потому, что требовалось бы умереть.
Токарев опустил голову. Жуткое прошло у него по душе — жуткое и от смысла ее слов, и что она в этом признавалась. Он почувствовал, что дальше в их разговоре не будет лжи, что и он будет говорить всю правду, какова бы она ни была. Ветер бешеным порывом налетел из сада и зазвенел в стеклах окон.
Токарев с усилием сказал:
— А что такая холодная любовь, о которой я говорю, не может наполнить жизни — это, конечно, верно. Говоря правду, со мною происходит то же, что с вами, только еще в большей мере. Вы вот сейчас, кажется, удивились, когда я сказал, что, слыша крики о помощи, я, может быть, прошел бы мимо. А я чувствую себя даже на это способным. Помните, вы тогда в больнице пошли ночью напоить бешеного мужика? Я неправду сказал, что не знал, гожусь ли я вам в помощники, — я просто боялся пойти
Варвара Васильевна смущенно и растерянно подняла глаза и сочувственно закивала головою, как бы боясь, чтоб Токарев не подумал, что она осуждает его. Радуясь возможности говорить все, не встречая осуждения, он продолжал:
— Мне вообще тяжело и заглядывать в себя. Я вижу, во мне исчезает что-то, исчезает страшно нужное, без чего нельзя жить. Гаснет непосредственное чувство, и его не заменить ничем. Я начинаю все равнодушнее относиться к природе. Между людьми и мною все выше растет глухая стена. Хочется жить для одного себя… Я вот теперь много думаю и читаю по этике, стараюсь философски обосновать мораль, конструирую себе разные «категории долга». Но в душе я горько смеюсь над собою: почему раньше мне ничего такого не было нужно? Заметили ли вы, что вообще у людей действующих мораль поразительно скудна и убога? А вот, когда человек остывает, тут-то и начинаются у него настойчивые мысли о морали, о долге. И чем больше он остывает, тем возвышеннее становится его мораль и ее обосновка. Долг, долг!.. Всегда, когда я говорю или думаю о нем, у меня в глубине души начинает беспокойно копошиться стыд. Как будто я собираюсь начать игру с фальшивою колодою карт. Долг тащит человека туда, куда он не хочет идти сам. Но человек хитрее стоящего над ним долга и в конце концов заставляет его тащить себя как раз туда, куда ему хочется. Пройдет десять лет, — я буду видеть долг в том, чтоб не ссориться с женою, чтоб пожертвовать десять рублей на народную библиотеку или отказаться от третьего блюда в пользу голодающих. Пройдет еще десять лет, начнет стареть тело, — и я создам себе долг из того, чтоб отказаться от табаку, от вина, стать вегетарианцем…
И ведь ужасно то, — я знаю, это так и будет! И я буду искренно уважать себя за то, что по мере сил исполняю возложенный на себя долг
Варвара Васильевна, сдвинув брови, задумчиво собирала ножом хлебные крошки. Токарев тихо говорил:
— Я из всего этого не вижу никакого выхода. Умерло непосредственное чувство, — умерло все. Его нельзя заменить никаким божеством, никакими философскими категориями и нормами, никакими «я понял». Раз же это так, то, конечно, вы в сущности правы: для чего оставаться жить? Не для того же, в самом деле, чтоб бичевать себя и множить число «лишних людей»…
— Да. И хорошо тем, о ком некому печалиться.
Они становились все ближе друг к другу. С отдающимся доверием сообщницы Варвара Васильевна взглянула на Токарева и сказала:
— И удивительная у меня организация! Никакая болезнь ко мне не пристает. Как-то раз на вскрытии Алексей Михайлович, доктор наш, говорит мне: осторожнее вскрывайте труп, больной умер от гнилокровия. А я порезалась… — Она показала большой красный рубец на левой ладони. — И хоть бы что! Через две недели все зажило. Другой раз смазывала я зев дифтеритному ребенку; дифтерит был очень тяжелый, гангренозный; ребенок закашлялся и брызнул мне слюною в глаза; на этот раз, конечно, все вышло нечаянно. Я сейчас же не успела промыть глаз, — и все-таки ничего!
Высоко подняв брови, Токарев неподвижно глядел на Варвару Васильевну. «На этот раз, конечно, нечаянно»… Значит, в первый раз было не нечаянно?.. Так вот на что способна она, всегда такая ровная и веселая! Стало страшно от мыслей, которые он только что высказывал с таким легким сердцем. Сидевшая перед ним девушка вдруг стала ему чуждой, чуждой…
Он несколько раз прошелся по комнате. Потом остановился перед Варварой Васильевной и изменившимся голосом заговорил:
— Все-таки мне кажется, что вы меньше всех других имеете право так поступать. Вам жить тяжело, это я теперь вижу. Но я слышал, как восторженно отзываются об вас все, с кем вы сталкиваетесь, вижу, каким светлым лучом вы везде являетесь… Какое вы имеете право уходить из жизни только потому, что вам самой тяжело? Неужели это не самый грубый эгоизм?
Варвара Васильевна пугливо взглянула на него и опустила глаза, жалея, что проговорилась. А он смотрел на ее красивый, благородный лоб, на мягкие и густые русые волосы, — и рыданья забились в груди.
В столовую вошла Катя.
— Варя, пойдем спать! Уж первый час.
Варвара Васильевна быстро встала.
— Верно, пора! Пойдем!
— Как этот ветер неприятно действует на нервы! — Катя нервно повела плечами. — Мне просто жутко идти спать одной. Послушайте-ка, как гудит!
Непрерывный гул стоял над садом — странный, зловещий и сухой, как только осенью деревья шумят. Ветер порывами проносился за темными окнами; стволы лип скрипели; в печной трубе слышался шорох.
Вдруг наверху, над потолком, раздался глухой стук, как от падения человеческого тела. Потом застучали ноги об пол, и упало еще что-то тяжелое. Катя быстро подняла голову и нервно вскрикнула:
— Что это там?!
Опять что-то глухо стукнуло над потолком, и послышались странные звуки — не то смех, не то плач. Ветер сильнее завыл за окном. Катя вдруг разрыдалась.
— Варя, голубушка, это что-то с Сережей наверху! Он с утра был странный… Скорее пойдемте!.. Господи, что с ним такое?!
Варвара Васильевна вздрогнула.
— Да ну, Катя, что это?.. Что с ним может случиться!
Катя заливалась слезами и твердила:
— Нет, нет, пойдемте скорее!.. Владимир Николаевич, подите, посмотрите, что с ним такое!..
Все вышли в переднюю.
XIV
Токарев и Варвара Васильевна стали подниматься по крутой скрипучей лестнице. Было темно. Токарев зажег спичку. Вдруг дверь наверху быстро распахнулась, и на пороге появилась белая фигура Сергея в нижнем белье. Волосы были всклокочены, глаза горели диким, безумным ужасом.
— О-о-о-о-о-о-о!! — кричал он непрерывным, рыдающим воем. — Что тебе тут нужно? Во-он!! Черти!..
Варвара Васильевна громко сказала:
— Сережа, что с тобою? Стыдись!
Сергей, согнувшись, держался руками за косяк двери, глядел пристальным, безумным взглядом в глаза Токареву и бессмысленно выл.
— Да ну, успокойтесь же, Сергей Васильевич! Что это, в самом деле! Как вам не стыдно? — Токарев шагнул вперед.
Сергей вздрогнул, как будто наступил на змею.
— Вон!!! — завопил он и судорожно затопал ногами.
Спичка погасла в руках Токарева.
— Сереженька! — услышал он за собою робкий, плачущий голос Конкордии Сергеевны. — Ох, Владимир Николаевич, голубчик мой, что это с ним?
Дверь наверху захлопнулась.
— Помогите мне взойти!.. Ох!.. Не видно ничего, темно!.. Что это с ним такое?.. Варенька, ты это? Что с ним?
Конкордия Сергеевна поднималась по лестнице, оступаясь в темноте. У Токарева спичек в коробке больше не было. Варвара Васильевна сказала:
— Принесите скорее свечку!
Токарев поспешно спустился вниз. В передней горела лампа. Катя, схватившись за голову и склонясь над столом, истерически рыдала.
— Ну, что Сережа?
— Добудьте скорее свечку! — Токарев был бледен, нижняя челюсть его дрожала.
— Да вот, возьмите лампу, она здесь не нужна.
— Лампу страшно: вышибет из рук, — еще пожару наделает.
Катя побежала за свечкой. Токарев остановился у стола. Ветер выл на дворе. В черном окне отражался свет лампы. На газетном листе желтел сушившийся хмель. Прусак пробежал по столу, достиг газетного листа, задумчиво пошевелил усиками и побежал вдоль листа к стене.
Катя принесла свечку. Токарев поднялся наверх. Сергей лежал на кровати, закутавшись в одеяло и повернувшись лицом к стене. Над ним склонилась Конкордия Сергеевна, плакала и утирала глаза платком.
— Сереженька, родной мой! Скажи мне, что с тобою?
Сергей, не поворачивая головы, отрывисто ответил обычным своим голосом:
— Да пустяки, ничего не было!
— Варенька, милая, дай ему каких-нибудь успокоительных капель!.. Это ты себе нервы расстроил. Говорила я тебе: не занимайся так много. Сидишь по ночам, вот и досиделся…
Конкордия Сергеевна, всхлипывая, подошла к заваленному книгами столу. Варвара Васильевна шепнула:
— Сережа, выпей чего-нибудь, чтобы успокоить маму. Я тебе принесу.
Сергей молча кивнул головою. Варвара Васильевна пошла вниз.
— Вон сколько книг… Господи! Да ведь это совсем голову себе испортишь! Ну, почитал немножко — и довольно, отдохни. А то ведь день и ночь, всё книги и книги…
Сергей, не шевелясь, лежал на постели. Вошла Варвара Васильевна с раствором бромистого калия. Она весело сказала:
— Ну, вот тебе и успокоительные капли!.. Сережа, пей!
— Ты бы еще, Сереженька, лед себе на голову положил, — говорила Конкордия Сергеевна. — Я сейчас велю Дашке наколоть.
Токарев рассмеялся.
— Да полноте, Конкордия Сергеевна! Какой там лед! Оставьте его спать!
— Ну, спи, голубчик! Господь с тобою!
Она неуверенно подошла к Сергею, перекрестила его и поцеловала. Сергей поморщился и закутался в одеяло.
Конкордия Сергеевна и Варвара Васильевна ушли. Токарев перешел со свечою во вторую, свою комнату. Он почувствовал себя одиноким, стало немного страшно. Взял книгу и сел к столу так, чтоб дверь в соседнюю комнату была на глазах.
Он скользил взглядом по строкам, но ничего не понимал. Сергей в соседней комнате заворочался на постели.
— Однако же и дозу закатила мне Варька!.. Что это, бром?
— Да. Ничего, что много. Лучше подействует.
Стало не так страшно.
— Соленый какой! Теперь, я знаю, на несколько дней раскиснешь. Помню, раз пришлось принять, — три дня после этого голова как будто тряпками была набита… — Сергей помолчал и сконфуженно усмехнулся. — Черт знает что я такое выкинул!
Токарев вошел в его комнату.
— Как вы себя теперь чувствуете?
— Ничего, — неохотно ответил Сергей и замолчал. — А хорошо, что вы тогда на лестнице еще одного шагу не сделали Я бы вас, ей-бог, задушил!
— Ну, уж задушили бы, — улыбнулся Токарев и почувствовал, что бледнеет.
В глазах Сергея мелькнул насмешливый огонек, и Токарев заметил это.
Внизу, на лестнице, раздался шорох и тихий скрип ступеней. Сергей вздрогнул и быстро поднялся на постели.
— Что там еще такое?! — Глаза его снова странно загорелись.
Очевидно, Конкордия Сергеевна или Катя подслушивали, что делается с Сергеем. Токарев взял свечку и пошел, чтобы попросить их уйти. Но только он ступил на лестницу, как Сергей неслышно вскочил с постели и скользнул в комнату Токарева. Токарев повернул назад. На пороге он столкнулся со спешившим обратно Сергеем. Взгляды их встретились. Сергей быстро отвернул лицо и снова лег в постель. С сильно бьющимся сердцем Токарев вошел в свою комнату и подозрительно огляделся. Что тут нужно было Сергею? Что он взял?
Стало безмерно страшно. Захотелось убежать, спрятаться куда-нибудь. Он сел к столу и не спускал глаз с черного четырехугольника двери. В соседней комнате было тихо. За окном гудел сад, рамы стучали от ветра… Сергей, может быть, взял здесь нож. Все это бог весть чем может кончиться! Хорошо еще, что бром он принял: бром — сильное успокаивающее, через полчаса уж не будет никакой опасности.
Сергей заворочался на постели, деревянная кровать под ним заскрипела. Токарев насторожился. Снова все стихло. Токарев курил и думал, — как ему поступить, если Сергей бросится на него: покорно ли, с кроткою улыбкою отдаться в его руки или грозно крикнуть на него, обуздать его силою психического влияния?
Часы шли. Токарев непрерывно курил. Иногда ему казалось, что Сергей заснул, — из соседней комнаты доносилось мерное, спокойное дыхание. Но вскоре Сергей опять начинал ворочаться, и кровать под ним скрипела. Токарева сильно клонило ко сну. Голова опустилась, мысли стали мешаться. Вдруг он вздрогнул и быстро поднял голову, — он ясно как будто почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд… Кругом все было по-прежнему. Из соседней комнаты доносилось храпение Сергея. На дворе светало.
Токарев облегченно вздохнул и поднялся. В комнате было сильно накурено. Он осторожно открыл окно на двор. Ветер утих, по бледному небу плыли разорванные, темные облака. Двор был мокрый, черный, с крыш капало, и было очень тихо. По тропинке к людской неслышно и медленно прошла черная фигура скотницы. Подул ветерок, охватил тело сырым холодом. Токарев тихонько закрыл окно и лег спать.
XV
Утром Сергей, как ни в чем не бывало, засел за книги. За завтраком он был молчалив и сконфуженно смотрел в тарелку. На него внимательно поглядывали украдкою, но никто не говорил о случившемся.
Токарев после всего вчерашнего чувствовал себя, как в похмелье. Что это произошло? И разговоры Сергея, и признания Варвары Васильевны, и припадок Сергея — все сплошь представлялось невероятно диким и больным кошмаром. И собственные его откровенности с Варварой Васильевной, — он как будто высказал их в каком-то опьянении, и было стыдно. Что могло его так опьянить? Неожиданная откровенность Варвары Васильевны? Этот странный гул сада, который напрягал нервы и располагал к чему-то необычному, особенному?
Между ним и Варварой Васильевной легло что-то, и они не смотрели друг другу в глаза. Вечером, перед ужином, Токарев пошел к себе наверх за папиросами. Он поднимался по скрипучей лестнице. Сквозь маленькое оконце падал лунный свет на крутые, пыльные ступеньки.
И вдруг вспомнилось, как вчера быстро распахнулась наверху дверь, как на пороге с диким воплем заметалась страшная фигура Сергея. Вспомнился его горящий ужасом взгляд, судорожный топот… Сердце неприятно сжалось, и, стараясь не вспоминать о вчерашнем, Токарев взошел наверх.
Но, раз вспомнив, он уже не мог отогнать воспоминаний. Смутный, неясный страх вился вокруг и незаметно охватывал его. Все окружающее становилось необычным. Месяц светил в окна, мертвенный свет двумя косыми четырехугольниками ложился на пол. В полумраке комнаты пряталась странная, пристальная тишина. Токарев неподвижно остановился посреди комнаты. Он чувствовал, — раздайся сейчас неожиданно громкий крик или стук, — и с ним произойдет то же, что вчера было с Сергеем. Он так же затопает, с тем же диким воплем бросится куда-то…
В углу около шкафа что-то смутно забелело. Дыхание стеснилось. Токарев стал пристально вглядываться. Он сразу понял, что это висит полотенце на ручке кресла. Но его тянуло вздрогнуть, тянуло испугаться. И Токарев стоял и неподвижно вглядывался в белевшее пятно, словно ждал, чтоб что-нибудь дало толчок его испугу.
«Что это со мною?» — вдруг подумал он, громко рассмеялся, подошел к креслу и сдернул полотенце.
Страх исчез. Но оставаться наверху все-таки было неприятно, и он вышел вон.
В полутемной передней сидела деревенская баба в зипуне. Варвара Васильевна, весело разговаривая, перевязывала ей на руке вскрытый нарыв. Пахло карболкою и йодоформом. Токарев прошел через залу, где Дашка накрывала стол к ужину, и в темной гостиной сел к роялю.
Он сидел, брал одною рукою медленные, тихие аккорды и задумчиво смотрел в темноту.
Какое у Варвары Васильевны было сейчас спокойное, веселое лицо… Да уж не сон ли то, что он слышал от нее вчера, в этот страшный вечер? И всегда она такая, как теперь, — ровная, спокойная, как будто вся на туго натянутых вожжах. Токареву становилось страшно — страшно от глубины и безбоязненности той тайной драмы, которую так невидно переживала в душе Варвара Васильевна…
Через пять дней срок отпуска Варвары Васильевны кончился. Она уехала в Томилинск. С нею вместе уехала в гимназию Катя. Сергей решился остаться в деревне до половины сентября, чтоб получше поправиться от нервов. Он каждое утро купался, не глядя на погоду, старался побольше есть, рубил дрова и копал в саду ямы для насадок новых яблонь.
Прошла неделя. Токарев поехал в гости к Будиновским. Они встретили его очень радушно, отправили лошадей обратно и продержали его у себя три дня. 30 августа, на Александра Невского, Токарев в легкой пролетке Будиновского возвращался обратно в Изворовку. Был ясный осенний день. Пролетка быстро и мягко катилась по накатанной дороге. Токарев откинулся на спинку сиденья и дышал чистым, бодрящим воздухом осени. На душе было легко, в голове приятно шумело от выпитого за завтраком рейнвейна. И с улыбкой он вспоминал милые упрашивания Марьи Михаиловны пить побольше.
— Ну, Владимир Николаевич, выпейте еще стаканчик! Ведь это вино совсем слабенькое! Вы знаете, как об нем говорят немцы: «Рейну много, вейну мало»…
Вспоминал он свои обсуждения с Будиновским его проекта открытия в Томилинске общественной библиотеки-читальни. Вспоминал комфортабельную, чистую обстановку Будиновских… Какая у них здоровая, уютная и радостная жизнь!.. Токарев был доволен, что у него в Томилинске будут такие милые, симпатичные знакомые, и думал о том, что влиятельный Будиновский может оказаться очень ему полезным.
По чистому, глубоко синему небу плыли белые облака. Над сжатыми полями большими стаями носились грачи и особенно громко, не по-летнему, кричали. Пролетка взъехала на гору. Вдали, на конце равнины, среди густого сада серел неуклюжий фасад изворовского дома с зеленовато-рыжею, заржавевшею крышею. С странным чувством, как на что-то новое, Токарев смотрел на него.
Там, под этою крышею, растут тяжелые, мучительные душевные драмы. С апломбом предъявляются к людям ребячески-прямолинейные требования, где каждый человек должен быть сверхъестественным героем. То и другое переплетается во что-то безмерно-болезненное и уродливое, жизнь становится трудно переносимою. А между тем ведь вот живут же люди легко и счастливо, без томительного надсада. И это не мешает им, по мере возможности, работать на пользу других… Но у нас, русских, такая посильная работа увенчивается только презрением. Если ты, как древний мученик, не отдаешь себя на растерзание зверям, если не питаешься черным хлебом и не ходишь в рубище, то ты паразит и не имеешь права на жизнь.
Кучер в синей рубахе и бархатной безрукавке подкатил к крыльцу. Токарев слез, дал ему рубль на чай и вошел в дом. В передней накидок и шляпок на вешалке было больше обычного. Дашка сообщила, что на два дня праздника приехала из Томилинска Катя, а с нею — Таня и Шеметов.
Токарев прошел к себе наверх умыться и переодеться. Он не был рад приезду гостей. Опять повеет этим духом молодого задора и беспечной прямолинейности — духом, который был ему теперь прямо неприятен.
Он напился кофе, поговорил с Конкордией Сергеевной и пошел в сад. Солнце клонилось к западу, лужайки ярко зеленели; от каждой кочки, от каждого выступа падала длинная тень. Во фруктовом саду, около соломенного шалаша, сторожа варили кашу, синий дымок вился от костра и стлался между деревьями.
Сергей притащил к пруду в подоле рубашки яблок и груш. Компания расположилась на берегу и уписывала фрукты. Токарев подошел, поздоровался. Таня быстро встала и отвела его в сторону — оживленная, радостная.
— А знаешь, Володя, я таки устроила Варино дело!
— Да ну?
— Помнишь, мы тогда у Будиновских встретились с Осьмериковым. Учитель гимназии, ушастый такой, — еще ужасно ненавидит одаренных людей. Пошла к нему в гости и убедила, что Варя совершенно удовлетворяет его идеалу труженика, что нельзя ей позволить оставаться фельдшерицей. А он хорош с председателем управы. Словом, Варю отправляют на земский счет в Петербург в женский медицинский институт! Понимаешь? Пять лет в Петербурге!
— Ну… преклоняюсь перед тобою! Это действительно очень хорошо!
— Вот ты все преклоняешься и преклоняешься, а сам ничего не хотел сделать. Все — «неловко» да «с какой стати».. Ужасно вообще ты стал какой-то… неподвижный. А уж ты бы, со своею солидною фигурою, мог гораздо скорее добиться всего. На меня как взглянет солидный человек, так сразу почувствует ненависть… Вообще я своим пребыванием в Томилинске очень, очень довольна. И люди есть, и всё. Стоит только поискать… Если бы не нужно было ехать в Питер, обязательно бы осталась здесь…
Сергей стоял на коленях перед грудою фруктов. Он крикнул:
— Владимир Николаевич, возьмите груш! Смотрите, какие, — что твой дюшес!
Токарев и Таня подошли к остальным. Таня сказала:
— Да, Володя, вот что! Ты все-таки поговори об этом деле с Будиновским, чтоб и он со своей стороны посодействовал. Ты с ним, кажется, хорош…
— Приятелями стали! — с легкою улыбкою заметил Сергей.
Токарев холодно ответил:
— Не вижу ничего позорного быть его приятелем. По-моему, он очень дельный и симпатичный человек.
— Я против этого не спорю. Но только, при всей своей симпатичности, он всегда как-то… умеет прекрасно устраиваться. И жить со всеми в ладу. Мне это не нравится.
Токарев начал раздражаться.
— Скажите, пожалуйста, что же в этом плохого? Почему дельный человек непременно должен жить в грязной собачьей конуре и хватать зубами за ноги каждого проходящего?
Сергей лениво потянулся.
— Совсем этого не нужно. А вот это действительно нужно, — чтоб для дельного человека дело было его жизнью, а не десертом к сытному обеду. Для Будиновского же жизнь — в уюте и комфорте, а дело — это так себе, лишь приятное украшение жизни. Скажите, пожалуйста, чем этот тепленький человек пожертвует для своего «дела»? За это я по крайней мере ручаюсь, что ни одной из своих великолепных латаний он за него не отдаст. А мотив, конечно, будет очень благородный: «На меня и так все косятся»… Только поэтому он и не хочет, — не хочу делу повредить, а то бы рад всею душою… И подумаешь, — кто на него косится!.. Ведь какое вообще характерное явление для нашей жизни такие люди! Чуть что, — сейчас: ах, боже мой, поосторожнее! вы нам по-мешаете!.. Брр! Лучше мерзавцы, чем все эти смирные и благонамеренные либеральные господа!
— Это, разумеется, дело вкуса, — иронически процедил Токарев. — Я же лично думаю, что именно эти смирные и блестящие «господа» вынесли и выносят на своих плечах всю великую культурную работу, которою жива страна. И далеко до них не только мерзавцам, а и всякого рода «героям», которые больше занимаются лишь пусканием в воздух блестящих фейерверков, — резко закончил Токарев.
Таня подняла брови, с удивлением приглядывалась к брату. Шеметов встал. Он пренебрежительно отвернулся от Токарева и ворчливо сказал:
— Будет, Сережка, спорить! Можно найти дело поинтереснее!
— Верно!.. — Сергей вскочил на ноги. — Давайте, господа, покатаемся на лодке.
К мосткам была привязана большая, старая, насквозь прогнившая лодка, вполовину залитая водой. У Тани весело загорелись глаза.
— Давайте!
Токарев возмутился.
— Ну, Таня, посмотри же, какая лодка! Ведь она совсем гнилая!
— Что ж такое? Еще приятнее… Сашка, Катюха, едем! — крикнул Сергей и прыгнул в лодку.
Лодка тяжело закачалась, на ее дне с шумом забегала вода.
Таня и Шеметов со смехом сошли в лодку. Катя, волнуясь и стараясь поборот страх, спустилась за ними.
Сергей с насмешливым ожиданием глядел на Токарева.
— Владимир Николаевич, едем!
— Благодарю покорно, мне купаться не хочется! — с усмешкою ответил Токарев.
Стоя на почерневших, склизких перекладинах, они оттолкнулись от берега. Лодка накренялась то вправо, то влево, вода в ней плескалась. Сергей вложил в уключины мокрые, гнилые весла и начал грести.
Лодка выплыла на середину пруда. Солнце садилось, багровые облака отражались в воде красным огнем Шеметов, стоя на корме, запел вполголоса:
Из-за острова на стрежень, На простор речной волны Выплывают расписные Острогрудые челны, На переднем Стенька Разин.— Что же это лодка не тонет? — с любопытством спросил он. — Странно! Должна бы знать, что по законам физики ей давно следует пойти ко дну… Ну ты, шалава! — крикнул он и качнул лодку.
Катя, придерживая рукой юбку, засмеялась, стараясь не показать, что ей страшно.
Токарев сидел на берегу, возмущенный и негодующий. Какая глупость! Пруд очень глубок, вода холодна. Если лодка затонет, то выплыть на берег одетым вовсе не просто, и легко может случиться несчастие. Это какая-то совсем особенная психология — без всякой нужды, просто для удовольствия, играть с опасностью! Ну, ехали бы сами, а то еще берут с собою этого ребенка Катю…
На пруде раздались крики и смех. У Сергея сломалось весло. Сильный и ловкий, в заломленной на затылок студенческой фуражке, он стоял среди лодки и греб одним веслом. Лодка с каждым ударом наклонялась в стороны и почти достигала бортами уровня воды.
И они плыли вперед, веселые и смеющиеся. Токарев с глухою враждою следил за ними. И вдруг ему пришла в голову мысль: все, все различно у него и у них; души совсем разные — такие разные, что одна и та же жизнь должна откликаться в них совсем иначе. И так во всем — и в мелочах и в самой сути. И как можно здесь столковаться хоть в чем-нибудь, здесь, где различие — не во взглядах, не в логике, а в самом строе души?
Горничная Дашка появилась на горе и крикнула:
— Сергей Васильевич! Барыня зовут!.. Поскорей! Поскорее все идите!
— Что там такое?
— Телеграмма из города пришла… Поскорее, барыня зовут! Идите, я в ригу побегу за барином!..
Конкордия Сергеевна, бледная, с замершим от горя лицом, сидела в спальне и неподвижно глядела на распечатанную телеграмму. В телеграмме стояло:
«Приезжайте поскорее. Варенька опасно больна.
Темпераментова».
XVI
В тот же вечер все приехали в Томилинск. Доктор, взволнованный и огорченный, сообщил, что Варвара Васильевна, ухаживая за больными, заразилась сапом.
— Сапом?.. — Конкордия Сергеевна растерянно глядела на доктора остановившимися глазами. — Это… это опасно?
Доктор грустно ответил:
— Очень опасно.
Варвара Васильевна лежала в отдельной палате. На окне горел ночник, заставленный зеленою ширмочкою, в комнате стоял зеленоватый полумрак. Варвара Васильевна, бледная, с сдвинутыми бровями, лежала на спине и в бреду что-то тихо говорила. Лицо было покрыто странными прыщами, они казались в темноте большими и черными. У изголовья сидела Темпераментова, истомленная двумя бессонными ночами. Доктор шепотом сказал:
— Побудьте, господа, немного и уходите. Не нужно долго оставаться.
Жалким, покорно-молящим голосом Конкордия Сергеевна возразила:
— Милый доктор, я… я не уйду отсюда… хоть казните меня… — Глаза ее были большие-большие и светлые.
Доктор вышел. Токарев нагнал его.
— Скажите, доктор, есть какая-нибудь надежда?
Доктор хотел ответить, но вдруг лицо его дернулось, и губы запрыгали. Он глухо всхлипнул, быстро махнул рукою и молча пошел по коридору.
Утром Варвара Васильевна пришла в себя, весело разговаривала с матерью, потом заснула. После обеда позвала к себе Токарева и попросила всех остальных выйти.
Токарев сел в кресло около постели. Варвара Васильевна с желтовато-серым, спавшимся лицом, усеянным зловещими прыщами, поднялась на локоть в своей белой ночной кофточке.
— Владимир Николаевич, я вам хотела сказать… Я третьего дня написала директору банка и напомнила ему его слово, что он примет вас на службу… Он ко мне хорошо относится, я была при его дочери, когда она была больна дифтеритом… Он сделает…
Токарев страдальчески поморщился
— Варвара Васильевна, ради бога, оставьте вы об этом!
— Да… И потом еще вот что… — Она подняла мутные глаза, и в них было усилие отогнать от мозга туман бреда. — Да!.. Что я еще хотела сказать?
Варвара Васильевна нетерпеливо потерла руки и забегала взглядом по комнате.
— Вот что! — Она помолчала и в колебании взглянула на Токарева. — Дайте мне честное слово, что вы никому не станете рассказывать о нашем разговоре, — помните, тогда вечером, в Изворовке, когда с Сережей сделался припадок?
Токарев вздрогнул и стал бледнеть. Варвара Васильевна волновалась все больше. Она повторяла в тоске:
— Слышите, Владимир Николаевич, — честное слово, никому!..
Токарев сидел смертельно бледный, с остановившимся дыханием.
— Хорошо, — медленно сказал он и замолчал. И продолжал сидеть — бледный, с широко открытыми глазами. И голова его тряслась.
— Видите, маме этого… Что я хотела сказать? Да!.. Надо выписать сто граммов хлороформу, пожалуйста, не забудьте, — с эфиром… Антон Антонович поедет. А я завтра сама развешу, не будите провизора.
Варвара Васильевна начала бредить. Токарев шатающеюся походкою пошел вон.
Он вышел из больницы и побрел по улице к полю. В сером тумане моросил мелкий, холодный дождь, было грязно. Город остался назади. Одинокая ива у дороги темнела смутным силуэтом, дальше везде был сырой туман. Над мокрыми жнивьями пролетали галки.
Токарев шел, бессознательно кивал головою и бормотал что-то под нос. Это не сон? — иногда приходило в голову. И он гнал от себя мысли, боялся думать о том, что узнал, боялся шевельнуть застывший в душе тупой ужас.
Воротился он в больницу, когда уже стемнело. Из ворот выходили Сергей и Таня — оба бледные и серьезные.
— Варя умерла! — коротко сказал Сергей, прикусил губу и прошел мимо.
Через два дня Варвару Васильевну хоронили.
Похороны вышли величественные. Никто не думал, чтоб Варвара Васильевна пользовалась такою популярностью, как оказалось. Громадная толпа народа провожала гроб, слышались рыдания. Над могилою произнесли речи главный врач больницы, председатель управы, Будиновский. Они говорили о самоотверженной деятельности скромной труженицы, о том, что вся жизнь ее была одним сплошным подвигом, что она, как воин на поле брани, славно погибла на своем посту. Токарев, — угрюмый, замерший в ужасе, — слушал речи, и они казались ему пошлыми и ничтожными перед тою страшною загадкою, которая вытекала из этой смерти. Хотелось рыдать от безумной жалости к Варваре Васильевне и к тому, что она над собою сделала.
В тот же день вечером уехали в Петербург оба еще остававшиеся в Томилинске члена «колонии» — Таня и Шеметов. Токарев, Сергей и Катя проводили их на вокзал. Таня не могла опомниться от неожиданной смерти Варвары Васильевны.
Она стояла у своего вагона возмущенная, негодующая.
— Я положительно с этим не могу примириться! Смерть!.. Жить, действовать, стремиться, дышать воздухом, — и вдруг, ни с того ни с сего, все это обрывается, когда жизнь кругом так хороша и интересна!..
Назад Токарев возвращался один. Таня уехала, — что ждет ее впереди? Теперь, после прощания, она была Токареву дорога и близка. Перед ним стояло ее лицо, подвижное, энергичное, с большими и смелыми, почти дерзкими глазами… Странно! Он прекрасно знал, — не благополучие ждет ее в будущем, и не сносить ей головы. А между тем не было за нее никакого страха, и ему казалось — и жалости никогда не будет. Напротив, была только жгучая зависть к Тане за ее жадную любовь к жизни и за бесстрашие перед этою жизнью. И тот тяжелый вопрос, который возникал из смерти Варвары Васильевны, при мысли о Тане тускнел, становился странным и непонятным.
XVII
Токарев вместе с Изворовыми воротился в деревню.
Пообедали. Все были печальны и молчаливы. Темнело. Токарев вышел в сад. Вечер был безветренный и холодный, заря гасла. Сквозь поредевшую листву аллей светился серп молодого месяца. Пахло вялыми листьями. Было просторно и тихо. Токарев медленно шел по аллее, и листья шуршали под его ногами.
Жизнь вдруг стала для него страшна. Зашевелились в ней тяжелые, жуткие вопросы… В последнее время он с каждым годом относился к ней все легче. Обходил ее противоречия, закрывал глаза на глубины. Еще немного — и жизнь стала бы простою и ровною, как летняя накатанная дорога. И вот вдруг эта смерть Варвары Васильевны… Вместе с ее тенью перед ним встали полузабытые тени прошлого. Встали близкие, молодые лица. Гордые и суровые, все они погибли так или иначе — не отступили перед жизнью, не примирились с нею.
Токарев вышел к пруду. Ивы склонялись над плотиною и неподвижно отражались в черной воде. На ветвях темнели грачи, слышалось их сонное карканье и трепыханье. Близ берега выдавался из воды борт затонувшей лодки и плавал обломок весла. Токарев остановился. Вот в этой лодке три дня назад катались люди — молодо-смелые, бодрые и веселые; для них радость была в их смелости. А он, Токарев, с глухою враждою смотрел с берега.
И все прошлое, и эти люди были для него теперь страшно чужды. Что-то совершилось в душе, что-то надломилось, и возврата нет. Исчезло презрение к опасностям, исчезло недуманье о завтрашнем дне. Впереди было пусто, холодно и мутно. Вспомнились недавние мечты об усадьбе, об уютной жизни, и охватило отвращение. Для чего?.. Жить, как все живут, — без захватывающей цели впереди, без всего, что наполняет жизнь, что дает ей смысл и цену. И все яснее для него становилось одно: невозможно жить без цели и без смысла, а кто хочет смысла в жизни, тот, — каков бы этот смысл ни был, прежде всего должен быть готов отдать за него все. Кто же с вопросом о смысле и целях жизни сплетает вопросы своего бюджета и карьеры, пусть лучше не думает о смысле и целях жизни. И Токареву стало стыдно за себя.
Но когда он почувствовал стыд, он возмутился. Чего стыдиться? Что он сделал плохого и как же ему жить? Ведь все, что случилось с Варварой Васильевной, до безобразия болезненно и ненормально. Люди остаются людьми, и нужно примириться с этим. Он — обыкновенный, серенький человек и, в качестве такового, все-таки имеет право на жизнь, на счастье и на маленькую, неопасную работу.
Вспомнились жесткие слова Сергея:
«Что поделаешь? Так складывается жизнь: либо безбоязненность полная, либо банкрот, и иди насмарку».
Эта мысль тоже возмутила его, и он опять почувствовал ужас перед тем непонятным ему теперь и чуждым, что сделало возможным смерть Вари. Токарев отталкивал и не хотел признать это непонятное, но оно властно стояло перед ним и предъявляло требования, которым удовлетворить он был не в силах.
Токарев поднял голову, огляделся. Его удивило, какая кругом мертвая тишина. Месяц спустился к ивам и отражался в неподвижной, черной глубине пруда. Неподвижен был воздух, деревья не шевелились ни листиком. Как будто сейчас случилось что-то, чего Токарев за своими размышлениями не заметил, — и все вокруг, замерши, испуганно прислушивалось. Была та же странная тишина, как тогда, после припадка Сергея, на пыльной лестнице. И так же странно неподвижно светил месяц. И все вокруг становилось необычным. С березы сорвался желтый листок; он неслышно и робко мелькнул в воздухе, словно боясь привлечь к себе чье-то грозное внимание, и поспешно юркнул в траву. И опять все замерло.
Смутный страх охватил Токарева. Он повернулся и пошел домой.
XVIII
Прошла неделя. Токарев сильно похудел и осунулся, в глазах появился странный нервный блеск. Взмутившиеся в мозгу мысли не оседали. Токарев все думал, думал об одном и том же. Иногда ему казалось: он сходит с ума. И страстно хотелось друга, чтоб высказать все, чтоб облегчить право признать себя таким, каков он есть. Варваре Васильевне он способен был бы все сказать. И она поняла бы, что должен же быть для него какой-нибудь выход.
Но перед ним был только Сергей. Сергей же чуждался его, и они не имели теперь ничего общего. А между тем многое в Сергее поразительно напоминало Варю: тот же тонкий, строгий профиль, те же глаза, та же привычка сдвигать брови. Как будто Варя ожила в Сергее. Но не мягкая и прощающая, а жесткая, презирающая и беспощадная.
В Сергее, в его пренебрежении и презрении, как бы олицетворялось для Токарева все, из-за чего он мучился. И все больше он начинал ненавидеть Сергея. Кроме того, с той ночи, как с Сергеем случился припадок, он внушал Токареву смутный, почти суеверный страх. Но рядом с этим Токарева странно тянуло к Сергею. Ему давно уже следовало уехать из Изворовки, но он не уезжал. Он не мог уехать, ему необходимо было раньше объясниться о чем-то с Сергеем. Но о чем объясниться, для чего, — Токарев не мог бы ясно сказать.
Стояла середина сентября. День был тихий, облачный и жаркий. На горизонте со всех сторон неподвижно синели тучи, в воздухе томило. Сергей с утра выглядел странным. В глазах был необычайный, уже знакомый Токареву блеск, он дышал тяжело, смотрел угрюмо и с отвращением.
В одиннадцать часов вечера поужинали. Василия Васильевича, по обыкновению, не было, — он теперь все вечера проводил у соседей, играя в карты.
Конкордия Сергеевна сказала:
— А как барометр упал!.. Кончаются ясные денечки; теперь пойдут дожди, холод, грязь…
— Упал барометр? — с любопытством спросил Сергей и замолчал.
Они взошли с Токаревым к себе наверх. Токарев участливо спросил:
— Вы себя сегодня плохо чувствуете?
Сергей усмехнулся.
— Слыхали, барометр упал!.. Ну, вот! Такое дрянцо люди — каждое колебание барометра отражается на душе!
Он молча зажег лампу и сел за «Критику чистого разума»[11]. В последнее время он усердно читал ее.
Токарев, не зажигая света, ходил по своей комнате. Он видел, как все в Сергее нервно кипело. Это заражало его, и нервы натягивались. Охватывал неопределенный страх… Токарев остановился у печки.
Сергей сидел в своей комнате, склонясь над книгой. Лампа освещала красивое лицо. Токарев смотрел из темноты.
Вон он спокойно сидит, этот мальчишка. А он, Токарев, испытывает к нему страх и стыдится его презрения… Сколько в нем мальчишеской уверенности в себе, сколько сознания непогрешимости своих взглядов! Для него все решено, все ясно… А интересно, что бы сказал он, если бы узнал истинную причину Вариной смерти? Признал бы, что это так и должно было случиться? Или и он ужаснулся бы того, к чему ведет молодая прямолинейность и чрезмерные требования от людей?
Токарев зажег лампу и открыл книгу. Но не читалось. Он думал о том, что с Сергеем, опять может сегодня случиться припадок. Что тогда в состоянии будет сделать с ним Токарев, один в пустом доме? И вспомнилось ему, как Сергей сознался, что чуть его тогда не задушил, и как насмешливо улыбнулся, когда Токарев побледнел при этом признании… Ко всему остальному Сергей теперь знает, что Токарев его боится.
Токарев встал и вышел из комнаты. Спустился вниз.
В больших, пустынных комнатах было темно и тихо. В передней на конике храпела горничная Дашка, пахло потом. В коридоре скребли крысы. Было тоскливо и грустно. Токарев вошел в гостиную. Там, при свете одинокой свечи, Конкордия Сергеевна пришивала оборвавшиеся на креслах бахромки. Он удивился.
— Вы еще не спите, Конкордия Сергеевна?
Конкордия Сергеевна подняла на него свое осунувшееся лицо.
— Да вот засиделась тут с креслами: срам взглянуть, совсем оборвались бахромки.
Токарев помолчал.
— А какая тут должна быть тоска зимою! Все разъедутся, вы останетесь вдвоем с Василием Васильевичем. Мне кажется, я бы и недели не выдержал.
Конкордия Сергеевна медленно перекусила нитку и стала вдевать в иголку.
— Голубчик мой, привыкла я. Что уж там — «скучно»… Мне за весельем не гнаться. Сколь-ко уж лет так живу. Было бы деткам хорошо, а мне что… Ну, а ведь, кроме того, все-таки ждешь: вот опять лето придет, опять… опять все… съедутся…
Голос ее оборвался. Она наклонилась к креслу. И такою одинокою показалась она Токареву, с ее скрытою, невысказываемою печалью.
Он поговорил с нею, потом вышел на крыльцо.
Ночь была тихая и теплая. Тяжелые тучи, как крышка гроба, низко нависли над землею, было очень темно. На деревне слабо мерцал огонек, где-то далеко громыхала телега. Эти низкие, неподвижные тучи, эта глухая тишина давили душу. За лесом тускло блеснула зарница.
Из-под крыльца, виляя хвостом, вылез легавый щенок Сбогар. Худой, на длинных, больших лапах, он подошел к Токареву, слабо повизгивал и тоскливо глядел молодыми, добрыми глазами. Токарев погладил его по голове. Сбогар быстрее замахал хвостом и продолжал жалобно повизгивать.
За лесом снова блеснула зарница и бледным, перебегающим светом несколько раз осветила неподвижные тучи. Стало еще темнее. У Токарева вдруг мелькнула мысль, — как удивительно подходят эта ночь и нынешнее состояние Сергея к тому, что Токарев уж несколько дней собирался сделать: да, Сергей должен узнать настоящую причину смерти сестры! Пусть это открытие ударит его по сердцу, наполнит тоскою и ужасом, исковеркает его прямые, несгибающиеся взгляды на жизнь и ее требования… О, он увидит, что дело вовсе не так просто, как ему кажется! — с злорадным торжеством подумал Токарев
Быстрая, нервная дрожь охватила тело. Он подождал, чтобы она прошла, и поднялся наверх.
Сергей медленно расхаживал по комнате, устало понурив голову.
— Сергей Васильевич, сидите вы здесь все над книгами. А посмотрите, какая ночь чудесная — тихая, теплая… Пойдемте пройдемся.
Сергей потер рукою лоб и встряхнулся.
— Пойдемте, пожалуй! Все равно ничего в голову не лезет.
Они вышли из дому и через калитку вошли в сад. И на просторе было темно, а здесь, под липами аллеи, не видно было ничего за шаг. Они шли, словно в подземелье Не видели друг друга, не видели земли под ногами, ступали, как в бездну. Пахло сухими листьями, полуголые вершины деревьев глухо шумели. Иногда сквозь ветви слабо вспыхивала зарница, и все кругом словно вздрагивало ей в ответ. Сергей молчал.
Они дошли до конца сада и остановились у изгороди. За канавой, заросшей крапивою, тянулось сжатое поле. Над ним неподвижно висели низкие тучи. Из черной дали дул теплый, сухой ветер и тихо шуршал в волосах. Токарев нагнулся и провел рукою по траве.
— Удивительно как сухо! Росы совсем нет!
Сергей коротко отозвался:
— Дождь завтра будет.
— Ну, Сергей Васильевич, идем дальше! Воздух такой славный!.. Пойдемте к Зыбинке, на Живые Ключи. Там прямо, через поле, мы скоро дойдем.
Он перелез через плетень и перепрыгнул канаву. Сергей неохотно последовал за ним. Пошли наискось по колючему жнивью. Ветер ровно дул в лицо, полынь на межах слабо шевелилась. На темном горизонте непрерывно вспыхивали зарницы, — то яркие, освещавшие всё вокруг, то тусклые, печальные и зловещие.
Сзади в смутном сумраке раздался мягкий, частый, быстро приближавшийся топот.
— Что это там?! — Сергей вздрогнул и быстро обернулся.
Токарев рассмеялся.
— Ну, Сергей Васильевич, ведь это непозволительно! Что это может быть? Вероятно, Сбогар нас догоняет!
Сбогар подбежал и, радостно виляя хвостом, стал ластиться к Токареву и Сергею. Сергей старался улыбнуться.
— Ишь негодяй! Так неожиданно налетел, невольно вздрогнешь!
Двинулись дальше. Сергей медленно и тяжело дышал, украдкою взглядывал в темноту странно блестевшими глазами. Ветер упал. Стало тихо. Они вышли на дорогу.
Далеко на церковной колокольне глухо ударил колокол. Дрожащий звук, полный смутной тайны, тихо пронесся над темными полями. Потом раздался второй удар, третий, — пробило двенадцать.
Токарев взял Сергея под руку.
— Полночь!.. Мужики говорят, — церковный сторож погнал мертвецов на водопой… — Он помолчал. — Странно на меня действуют такие ночи. Вам не кажется невероятным, чтоб в этом мраке не было ничего таинственного? Мне это часто кажется. Кругом необходимо должна быть своя жизнь, но только она ускользает от наших глаз. Нужно совсем неожиданно оглянуться, чтоб уловить из нее хоть что-нибудь. На меня, например, добрая половина картин Бёклина[12] производит такое впечатление, как будто он именно «неожиданно оглянулся». Вот мы идем с вами, — и неужели мы тут только двое во всем этом просторе, и кругом нас лишь дрожание разных молекул, колебание светового эфира и тому подобное. Почему же в таком случае так ясно и так жутко душа ощущает невидимое присутствие кого-то, — каких-то смутных, бесформенных существ, перед которыми мы так слабы и беспомощны?
Сергей шел, молча понурив голову. Они свернули на тропинку, прошли мимо заброшенной каменоломни и спустились в Зыбинскую лощину. В ней было очень тихо. Смутно рисовались черные кусты ракитника, и казалось, будто они медленно двигаются.
Пошли по заросшей дороге, — она тянулась по косогору к верховью лощины. Сбогар, слабо повизгивая, оглядывался по сторонам и жался к их ногам. Как раз над лощиною низко стояло большое, черное облако с расходившимися в стороны отрогами. Как будто гигантское, странное насекомое повисло в воздухе и пристально, победно следило за шедшими по лощине. Угрюмые и молчаливые зарницы вспыхивали в темноте.
Незаметная внутренняя дрожь все сильнее охватывала Токарева. На душе было смутно и необычно. Только ум работал с полной ясностью.
— Помните вы «Horla»[13] Мопассана? Это очень болезненная, но удивительно умная и глубокая вещь. Мопассан говорит, что люди сыздавна населяли мир разными таинственными, страшными и неопределенными существами. И что это не могло быть иначе, — человек всегда чувствовал, как сам он беспомощен, как над ним стоят какие-то силы, перед которыми он раб… Что это за силы, что за существа? Они должны быть невидимы, но страшны и могучи. В чем бы они ни проявлялись, но они всегда показывают свою власть над человеком, и человек перед ними там бессилен, так жалко-беспомощен!
Сергей с удивлением поднял голову.
— Неужели вы все это серьезно говорите! Ведь это положительно какой-то бред и притом довольно смешной… Только я бы вас попросил, Владимир Николаевич, — оставьте говорить об этом. Я сегодня чувствую себя ужасно нервно.
— Хорошо. Да в сущности я, конечно, не говорю серьезно о разных там мертвецах или привидениях, не говорю и о мопассановских невидимках Орля. Я только говорю о мопассановской «глубокой тайне невидимого». Ведь именно ее только Мопассан и символизирует в образе «Horla». Согласитесь, что эта тайна действительно глубока и страшна. Мопассан говорит: «Все, что нас окружает, все, что мы замечаем, не глядя, все, что задеваем, сами того не сознавая, трогаем, не ощупывая, — все это имеет над нами, над нашими органами, а через них и над нашими мыслями, над самым нашим сердцем — быстрое, изумительное и необъяснимое действие»… Разве это не страшно и разве это не правда? — взволнованно спросил Токарев. — Человек был еще свободен, когда он эти силы олицетворял в существах, стоящих вне его, — с ними по крайней мере можно было бороться, против них стояла свободная, самоопределяющая душа человека. А теперь все эти существа переселились внутрь его, в его мозг, в сердце и кровь… И что теперь ждет человека? Вы помните этот страшный вопль Мопассана: «Царство человека кончилось!..Горе нам!.. Горе людям!.. Пришел он… как его зовут? Мне кажется, он выкрикивает мне свое имя, но я не слышу его… О да, он явился!.. Ястреб съел голубку, лев пожрал буйвола с острыми рогами… Всему конец!.. Он во мне, он становится моею душою!.. Что делать? Горе нам!..»
Токарев дрожал мелкою дрожью, в голосе звучал ужас, как будто действительно это таинственное «невидимое» стояло здесь в темноте… Но и в ужасе своем Токарев чувствовал, как Сергей нервно вздрагивал. И становилось на душе злобно-радостно.
Сергей резко возразил:
— По-моему, все это только очень характерно для самого Мопассана. Да, пожалуй, и для вас… Что спорить, «тайна невидимого» глубока. Но трус и жалкая тряпка тот, кто поддается этому невидимому.
— Сядем здесь! — коротко и решительно сказал Токарев и опустился на косогор под молодою лозинкою.
Он сказал уверенным, властным голосом, и Сергей послушался. Токарев приобрел над ним странную власть.
Горизонт, прежде резко очерченный, затянулся на юге мутною мглою и стал сливаться с небом. Потянуло влажною прохладою. Токарев в волнении поглядел вдаль: пройдет полчаса — и жуткое очарование ночи исчезнет.
Небо покроется мутными облаками, лениво засеет окладной дождь.
Он медленно заговорил:
— Вы сказали: тот, кто поддается «невидимому», — трус и жалкая тряпка. Удивительное дело! Перед вами стоит громадный вопрос, а вы хотите решить его парою презрительных ругательств… Нет, Сергей Васильевич, такие вопросы так не решаются! Вопрос о том, что же делать, если это невидимое бесповоротно покоряет тебя. Ну, хорошо, — трус, жалкая тряпка… Ведь это сказать легко. А когда в жизни встает такой вопрос, то можно с ума сойти от ужаса… Вы знаете, отчего умерла Варвара Васильевна? — Он задыхался и медленно перевел дух. — Она заразилась сапом… Но она не нечаянно заразилась, а нарочно!.. Она не остановилась перед такого рода смертью, чтоб окружающие близкие думали, будто это — несчастная случайность. А убила она себя именно потому, что чувствовала приближающуюся победу «невидимого».
Даже сквозь темноту Токарев видел, как на него смотрело смертельно-бледное лицо Сергея с остановившимися глазами. Вдруг Сергей решительно сказал:
— Это не может быть!.. Она могла бы это сделать, она на это способна. Но никогда ни вам, никому она не созналась бы в этом!
— Да. Видите, оно так и есть. Но однажды — помните, в тот вечер, когда с вами произошел припадок, — она созналась мне, что чувствует приближение и победу «невидимого». Чтоб не покориться ему, она видела только одно средство — смерть. Но чтоб эта смерть поменьше доставила горя близким. Разговор был чисто отвлеченный… Ну, а перед самою смертью, почти уже в бреду, она взяла с меня слово никому не рассказывать о нашем разговоре… Как вы думаете, можно из этого что-нибудь заключить?
— Чче-ерт, чче-ерт!.. — простонал Сергей и стиснул голову руками. Он поставил локти на колени и сидел, все так же стиснув голову.
Строгим, беспощадным и проникающим голосом Токарев говорил:
— Ну, и что же? Она поступила правильно? В этом настоящий выход?.. Нет, это ужасно и до безумия ненормально! А между тем именно ваши взгляды, ваша прямолинейная требовательность и делают возможными подобные ужасы. Это отрицать вы не можете. И не можете также отрицать, что вы запираете для живого человека все выходы. Необходимо серьезно и пристально приглядеться к «невидимому». И только тогда, призвав всю его силу и неизбежность, возможно прийти к какому-нибудь выходу.
Сергей вскочил на ноги. Сверкнув глазами, он крикнул:
— К чему вы все это говорите?! Вы Вариною смертью хотите оправдать себя! Да неужели вы не чувствуете, какая разница между нею и вами? Из ее смерти возникает громадный вопрос, — да, громадный и ужасный по своей серьезности. Но вы к этому вопросу и боком не прикасаетесь!
Токарев замолчал, сбитый с позиции, не зная, чтО возразить. Упавшим голосом он заговорил:
— Хорошо! Скажем, вы правы. Я не хуже вас вижу разницу между нею и собою. Но вдумайтесь немного в то, что я вам скажу. Слушайте. Я — обыкновенный, маленький человек. Мне судьбою предназначено одно: жить смирно и тихо, никуда не суясь, не имея никаких серьезных жизненных задач, — жить, как живут все кругом: так или иначе зарабатывать деньги, клясть труд, которым я живу, плодить детей и играть по вечерам в винт. Но, видите ли, в жизни каждой самой болотной души бывает возраст, когда эта душа преображается, — у нее вырастают крылья. Если окружающие обстоятельства благоприятствуют, то ее смутные, неопределенные порывы оформливаются в стремление к ясным идеалам. И человек идет за них на борьбу, на гибель и не может понять, как можно жить, не ища в жизни смысла, не имея всезахватывающей жизненной задачи. Проходит несколько лет. Крылья высыхают и отваливаются, и сам человек ссыхается. Все недавнее становится для него совершенно чуждым и мертвым.
И вот я теперь нахожусь как раз в таком положении. Но суть в том, что это прошлое уже отравило меня, — я ужасаюсь пустоты, в которую иду, я не могу жить без смысла и без цели. А крыльев нет, которые подняли бы над болотом.
Слава вере, нас сгубившей, Слава юности погибшей, Незапятнанной позором…Да, я с горячим, страстным чувством вспоминаю ее, эту честную юность. Но слава ее схоронена, потому что схоронена сама юность, и ее не воскресить… Где же найти основание, на которое я мог бы теперь опереться? ЧтО может мне дать силу жить человеком? Философия? Религия? Из меня выкатывается душа, понимаете вы это? Душа выкатывается!.. Как ее удержать? Нет таких сил в жизни, нет таких сил в идеях и религии… Вся сила лишь в чувстве. Раз же оно исчезло, — то вздор все клятвы и обеты, все самопрезрение и тоска… Что же мне делать?
Сергей брезгливо ответил:
— Это ваше дело! К сожалению, я вам помочь ни в чем не могу.
— О, Сергей Васильевич! Не относитесь к этому так презрительно! Уверяю вас, все это очень близко касается и вас самого! Еще сегодня вы говорили о том, как всякое колебание барометра отражается на вашей душе. Неужели вы думаете, что только один барометр обладает такою удивительною силою?.. Нет, Сергей Васильевич, вы так же, как и я, уж целиком находитесь во власти могучего «невидимого». Вы вот настойчиво проповедуете радость жизни и силу духа, а сами живете в темном мире нервной тоски и безволия. Вы утверждаете, что человек должен действовать из себя, что в таком случае он откроет в себе громадные богатства души, а все ваше богатство заключается лишь в поразительной черствости, самоуверенности и самовлюбленности. Только покамест все это скрашивается молодостью. А пройдет молодость — что от вас останется? Мы с вами одинаковые банкроты, мы одинаково слишком бедны и больны душою, чтоб расплатиться с громадными требованиями нашего разума… Есть другие люди, здоровые и сильные, люди нутра. Их можно убить, но невозможно расколоть надвое. Для них мысль, тем самым, что она — мысль, есть в то же время и действие… Вот вам тот человек, которого мы видели тогда у Варвары Васильевны. Мне кажется, такова и Таня. Ничего, что она так неразвита и узка, — в этом-то и есть ее сила!.. А наше с вами дело проиграно. Я это уже сознаю, вы еще не сознаете. Но недалеко время, когда перед вами встанет тот же вопрос… И над трупом Варвары Васильевны нужно этот вопрос решить честно и серьезно.
Сергей злобно и болезненно усмехнулся.
— Ох, как вам хочется этого «честного» решения!.. Извольте, вот оно, по-моему: примиритесь с вашим «невидимым», полезайте назад в болото и благоденствуйте на здоровье. Вам ведь ужасно хочется этого решения. Но меня оставьте в покое. Будьте уверены, живым я в болото никогда не попаду!
Токарев молча махнул рукою. Он сидел на пригорке, охватив колени руками, и смотрел вдаль. Глухая, неистовая ненависть к Сергею охватила его. Сергей насмешливо и злобно подчеркнул то, чего именно и хотелось Токареву. Ну да, он именно и хотел, чтоб за ним было признано право жить таким, каков он есть, — где же другой выход? Сергей этого выхода не хочет признать… Хорошо! — подумал Токарев, охваченный тоскою и дрожью.
Он хрипло сказал:
— Господи, какая ночь тяжелая!.. Сергей Васильевич сделайте одолжение, принесите мне воды из ключа. У меня так кружится голова, — мне кажется, я сейчас упаду… Она здесь недалеко, за бугром… Хоть в фуражку мою зачерпните, она суконная, не прольется… Ради бога!..
Сергей внимательно взглянул на Токарева и медленно ответил:
— Давайте фуражку.
Он исчез за бугром. Токарев быстро вскочил и огляделся. Сырая, серая стена дождя бесшумно надвигалась в темноте и как будто начинала уже колебаться. Кругом была глухая тишь, у речки неподвижно чернели странные очертания кустов. Молодая лозинка над головою тихо шуршала сухими листьями. Безумная радость охватила Токарева. Он подумал: «Ну, получай свое решение!» — и стал поспешно распоясываться. Он был подпоясан вдвое длинным и крепким шелковым шнурком.
Волнуясь и спеша, Токарев дрожащими руками сделал на шнурке петлю и дернул ее, испытывая крепость. Петля была крепка. Он радостно улыбнулся, поднялся на цыпочки и стал привязывать петлю к суку лозины.
— Получайте ваше решение, Сергей Васильевич!
И он представил себе воротившегося Сергея перед его трупом на лозине.
Вдали раздался шорох, как будто шаги. Токарев вздрогнул, отскочил от дерева и стал вглядываться. Нет все было тихо. Сергей так скоро не мог вернуться. Это, должно быть, пробежал внизу Сбогар.
Медленно раскрывались внутренние глаза. Вдруг сверкнула мысль:
— Что я такое делаю?!.
Токарев остановился и глядел на черную лозину, как будто только что проснулся от дикого кошмара… С потревоженной лозины медленно и бесшумно падали на землю желтые листья. Все было необычно и ужасно: и лозина с бесшумно падающими листьями, и недавний разговор, и его намерение.
Он отбросил шнурок и быстро пошел вон из лощины.
От тучи подуло сильным, влажным ветром. По земле зашуршали первые капли дождя. Распоясанный, в развевающейся рубашке, Токарев шагал по колючему жнивью через межи и шел в темноту, не зная куда.
1901
В степи
I
Пассажирский поезд остановился у маленькой степной станции. Солнце жгло, было жарко и душно. Немногочисленные пассажиры вяло переговаривались или дремали, закутав головы от мух.
Дали второй звонок.
Под окнами вагонов, на стороне, противоположной станции, медленно прошли по шпалам два загорелых мужика. Один из них, с большою, лохматою головою, имел за спиной холщовый узел, а на плече держал косье с привязанной к нему косой: другой мужик, громадного роста и широкоплечий, хромал на левую ногу; у него не было ни узла, ни косы, и через плечо был перекинут только дырявый зипун.
Мужики шли вороватою походкою, исподлобья посматривали на поезд и словно хоронились от кого-то. Вдруг хромой мужик остановился, быстро огляделся по сторонам и полез по ступенькам на площадку вагона. Следом за ним хотел лезть и его спутник. Он уже ухватился за столб перил, но в это время из окна вагона выглянул кондуктор. Лохматый мужик крякнул, поправил узел за плечами и пошел вдоль поезда. Кондуктор следил за ним пристальным взглядом. Мужик шел по шпалам все дальше и уже оставил за собою последний вагон. Раздался третий звонок, поезд тронулся. Вдруг мужик быстро повернулся, встряхнул узлом и бросился догонять поезд.
— Я-а тебе! Я-а тебе! — угрожающе крикнул кондуктор, высунувшись из окна и грозя пальцем.
Поезд все прибавлял ходу. Мужик, ожесточенно нахмурившись и не глядя на кондуктора, продолжал бежать, вскидывая в стороны худые, стянутые в онучи ноги. Из окон выглядывали пассажиры.
— Ну, ну, землячок!.. Эх, не догонит! — волновался парень в серой блузе.
— Не догонит!
— Куда уж догнать! Не догонит теперь!
— Догонит, ей-богу, догонит! — крикнул парень. — Ну, ну, земляк! А-а, те-те-те!..
Мужик добежал до заднего вагона и, цепляясь за перила, вскочил на ступеньку; узел потянул его назад, — мужик взмахнул рукою и чуть не сорвался, но устоял.
Кондуктор бросился на площадку. Пассажирам не было его видно. Они видели только, как мужик, стоя на нижней ступеньке, что-то говорил, угрюмо глядя вниз, потом махнул рукою и спрыгнул обратно с быстро шедшего поезда.
В вагон вошел хромой мужик, ускользнувший от глаз кондуктора. Он высунулся из окна и долго смотрел назад, где в пыли, поднятой поездом, исчезал его товарищ.
— Земляк, что-ли, будет тебе? — сочувственно спросил парень в блузе.
— Земляк, — пробурчал мужик, не глядя на парня, и сел.
В дыры его грязной холщовой рубахи глядело бронзовое тело, лицо было почти черное от загара. Огромный и оборванный, с обмотанною тряпками ногою, он блестел белками злых глаз и исподлобья поглядывал вокруг. Парень подсел к нему с разговором. Мужик порывисто встал и, не отвечая, высунулся из окна.
Вошел молодой кондуктор в белом кителе.
— Господа, кто с Мандрыковки садился, билеты позвольте!.. Билет твой! — вдруг быстро обратился он к хромому мужику.
— Нету билета.
Кондуктор молча развел руками.
— Ну, вот, что ты с ними будешь делать?.. Господа! Да ведь невозможно! — усталым, усовещивающим голосом заговорил он. — Ведь мы подначальные люди, мы не можем даром народ возить! С нас за это взыскивают… Как остановка будет, пожалуйста, слезай! Честью тебя прошу!
Для поездной прислуги стояло тяжелое время. Из России нахлынули в степь бесчисленные массы косарей. Между тем солнце выжгло траву, сенокос на всем протяжении степи не состоялся. Отощавшие и обносившиеся, косари скитались по выжженной степи, плелись по бесконечным тропинкам вдоль полотна дороги. Одни возвращались назад, другие шли дальше, на Черноморье и Кубань. Они потеряли всякий страх: стоило кондукторам зазеваться — и в поезде немедленно оказывалось несколько десятков безбилетных «зайцев». Практика давно уже выработала такой образ действий: кондукторы зорко следят на станциях за приближающимся косарем и энергично отражают его попытки проникнуть в поезд; но раз он уж очутился в вагоне, на него машут рукою и, без всяких тасканий к начальству, просто высаживают на следующей станции: все равно, взятки с него гладки.
Поезд дал свисток и начал замедлять ход. Хромой косарь поспешно встал, захватил свой зипун и перешел в соседний вагон; там он сел на лавочку за дверью. Поезд остановился.
Через вагон прошел кондуктор и увидел косаря.
— Ты не сошел? — изумился кондуктор.
Косарь поднялся.
— Да куда же я пойду? У меня ноги больные! — ожесточенно воскликнул он, глядя на кондуктора, как затравленный волк.
— Ах-х ты, господи!.. — Кондуктор замолчал и оглядывал его с ног до головы. — Я тебе говорил, как человеку, а теперь что же? Я должен бить тебя по шее!
— Смилуйтесь, господин кондуктор!
— Ступай ты, ради бога! Пойми, мы не можем даром возить народ… Ведь вот человек!
Он взял косаря за рукав, вывел на площадку и заставил слезть.
Залихватски закатился кондукторский свисток, ему в ответ рявкнул паровоз, далеко впереди пискнул рожок стрелочника, поезд дрогнул и двинулся.
II
На станции стихло.
Косарь напился из кадушки теплой воды и пошел в степь: около линии нечего было рассчитывать ни на работу, ни на милостыню. Дорога вилась вдаль слабыми, ленивыми извивами. Кругом до самого горизонта тянулась степь и степь — ровная, неподвижная, залитая горячим солнцем. Трава была мелкая и редкая, повсюду серели большие плешины голой, выжженной солнцем земли. Ветер слабо дул с запада, шелестя травой; с ветром несся издалека тонкий, нежный запах свежего сена, но запах шел не от рядов и копен, а от травы, на корню сохшей под жгучим солнцем.
Косарь шел, хромая, и тяжело опирался на палку. Солнце било в лицо, во рту пересохло, на зубах скрипела пыль; в груди злобно запеклось что-то тяжелое и горячее. Шел час, другой, третий… Дороге не было конца, в стороны тянулась та же серая, безлюдная степь. А на горизонте слабо зеленели густые леса, блестела вода; дунет ветер — призрачные леса колеблются и тают в воздухе, вода исчезает.
Около дороги, на рубеже, стояла каменная баба. Косарь сел к ее подножию. В ушах звенело и со звоном проходило по голове, в глазах мутилось от жары и голода. Больная ступня ныла, и тупая боль ползла от нее через колено в пах.
Вокруг было просторно и пусто. Только далеко на дороге чернела фигура идущего человека. В блещущей синеве неба парил коршун, потревоженные овражки перекликались между собою из-под земли отрывочным, звенящим свистом. Каменная баба в колпаке — серая, поросшая зеленоватым мохом, — сгорбившись, смотрела в степь с злым, как будто живым лицом; нижняя часть лица была пухлая и обрюзгшая, руками она держалась за живот, и казалось, что она кисло морщится от боли в пустом желудке. Косарь охватил руками колени и застыл, глядя вдаль воспаленными, красными глазами.
— Цс-сык! Цс-сык! Цс-сык! — явственно звучало вокруг, как будто десятки кос дружно резали густую, сочную траву. По небу молнией проносились невиданно-громадные черные птицы, и путник с трудом соображал, что это — увивающиеся вокруг его головы мухи. Над горизонтом по небу стали протягиваться густо переплетающиеся, движущиеся ветви, вдали потянулись гуськом косари в красных рубахах; они шли один за другим, с закинутыми на плечи косами, и им не было конца. Все это был обман, и путник знал это: за время скитания по степи ему не раз уже, особенно по вечерам, мерещелись странные вещи. И ему казалось, — ему стало бы легче, если бы не шли вдали косари, если бы не мелькали по небу черные птицы и не звучали невидимые косы, режущие невидимую траву…
Косарь вздрогнул и поднял голову. На дороге стоял невысокий человек в нанковом подряснике и смотрел на него. Добродушное лицо было потно и одутловато, за плечами висела на ремнях объемистая котомка.
Человек свернул с дороги к бабе. Он молча спустил с плеч котомку, сел, вздохнул и, сняв скуфейку, провел рукою по длинным волосам.
Косарь мрачно смотрел и молчал. Человек в подряснике, не торопясь, раскрыл котомку. Достал краюху пшеничного хлеба, воблу, бутылку водки.
— И много же тут нынче вашего брата-полтавца набилось! — заговорил он, раздавливая сургуч о подножье бабы. — Никогда еще столько не бывало. Что грачей в поле, так всюду вашего брата.
Он ударил ладонью в донышко бутылки, пробка вылетела, и водка в горлышке запенилась. Косарь молчал и злыми глазами косился на соседа.
— Шли траву прибирать, а травку-то сам господь прибрал, для себя! — продолжал человек в подряснике. — Вот и гуляй теперь по степи без дела.
Он отпил из горлышка водки и, как будто это само собою разумелось, протянул бутылку косарю. Косарь дрогнул, нерешительно оглядел длинноволосого человека. Потом вдруг на черном лице закривилась улыбка, он поспешно протянул руку и бережно принял бутылку.
Человек в подряснике прожевал воблу. Он подвинул закуску к косарю и спросил:
— Отколе сам будешь?
— Из Тамбовской губернии.
Косарь отпил водки, утер усы и осторожно, словно боясь потревожить рыбину, отколупнул кусок. На лице его была теперь напряженно-предупредительная улыбка.
— Давно ходишь?
— С пасхи.
Косарь помолчал.
— Шли, шли, милый человек мой, — заговорил он, стараясь не глядеть на закуску, — все думали, дойдем до настоящего места. Обносились, обтрепались, хуже нищих сделались, — нету работы!.. А народ все, знай, валит. И куда идут-то? Сами не ведают. Друг у дружки так и рвут кусок изо рту!
— Косу-то проел уж?
— Проел… Все проел. Да вот ногу еще испортил.
— Не родилось ничего, вот причина. Засуха!.. Да ты ешь, что ж ты?.. Отхлебни еще разок!
— Не обидно будет тебе? — спросил косарь с закривившеюся снова улыбкою и исподлобья взглянул на собеседника.
— Ну, что ты! Господи помилуй!.. Знай, ешь!
Косарь с наслаждением отхлебнул еще водки и принялся за рыбу.
— Я тебе все это дело обскажу повнимательнее, — заговорил он, жуя. — Говоришь: не родилось ничего. Не в этом штука. Тут штука вот какая: время наше прошло. Был тут год один, — после холеры который, этот!.. Трава во какая была, жито — не прожнешь. А народу мало подошло. И пошли по экономиям косилки, жнейки всякие. С той поры, можно сказать, хорошо и не бывало. Раньше за лето пять-шесть красненьких домой принесешь, — ну, теперь этого уж нету!
— Ты куда ж сейчас идешь?
— Домой бы добраться, да вот нога шибко идти не пущает.
Человек в подряснике помолчал.
— А то пойдем со мною, — сказал он, глядя в степь. — Мое дело легкое.
— А ваше какое же дело будет? — осторожно спросил косарь, переходя на «вы».
— Со святым припасом хожу.
— Гм! Странник, значит, будешь?
— Вроде как бы странника.
— В Ерусалиме был?
Странник загадочно ответил:
— Я где и не был, а все знаю.
Косарь покосился на него.
— Из стрелков, значит, будешь?
— «Из стрелкоов»… Поучить бы тебя, дурака!.. Ну, да жалко мне тебя. Куда ты пойдешь, такой-то? Бог уж с тобой, пойдем вместе. И мне веселее будет, а то скучно одному… Тебя как звать-то?
— Никитой.
— Ну, Никита, вставай! Будет, отдохнули. Вон уж где солнышко. Скоро деревня будет.
Странник приладил к плечам котомку, они встали и пошли. Странник, маленький и пухлый, шел мелкими шажками, опираясь о камышовую палку, а рядом с ним ковылял огромный оборванный косарь.
— Ты издалёка ли сейчас идешь? — спросил взбодрившийся от водки Никита.
— Да со станции.
— Долго что-то шел!
— Там еще дела кой-какие надо было справить — поторговать, чайку купить…
Никита громко расхохотался.
— «Дела»!.. Нешто это дело? Сказал бы — поработать, а то — «чайку попить»! Это не дело! Это значит — в мамон свой закладать, а не дело!..
— Буде грохотать, расстегнул пасть! — сурово обрезал его странник. — Вон она, деревня, видишь?.. Я что ни буду рассказывать, ты все знай — молчи; все равно, как будто немой будешь. На ночевку оставлять станут — не оставайся: переночуем в степи.
Вдали, в неглубокой балке, серели крыши деревни и зеленели вербы. На пригорке маленькие восьмикрылые мельницы лениво махали кургузыми крыльями.
III
Солнце садилось. Красные лучи били по пыльной деревенской улице, ярко-белые стены хат казались розовыми, а окна в них горели кровавым огнем. Странник и Никита сидели на крылечке хаты, окруженные толпою хохлов — мужиков и особенно баб.
На столе странник разложил весь свой святой припас. Тут были раковины с «Мертвого моря», собранные на морском берегу в Одессе, были пузырьки с ижехерувимскими каплями, восковые огарки из-под святого огня, картины и фотографии.
Он держал в руках ярко раскрашенную картину, изображавшую ново-афонский Симоно-кананитский монастырь; на горах, усеянных деревьями, похожими на зеленые бородавки, белели златоглавые церкви, а в небе стояла богородица, простирая ризы над монастырем.
Странник рассказывал о святой и тихой жизни в благочестивом монастыре; он рассказывал певучим, высоким голосом, каким читают в церквах апостола степенные и толковые дьячки, желающие читать «с чувством». Никита, наевшийся вкусного борща с помидорами, чувствовал блаженное отяжеление в теле. Он слушал странника и медленно моргал глазами.
— Отстояли мы обедню, вышли на волю, — рассказывал странник. — Глянули на кумпол, — и что же, братцы вы мои? Стоит на облачке сама матушка-богородица! Все равно, как вот на картине тут… Сияние от нее — глазам больно смотреть, солнцу подобно… С ним вместе были! — прибавил он своим обычным голосом, кивнул на Никиту и оглядел его ясными, умиленными глазами.
Никита пошевелился и стал густо краснеть, косясь на окружающих.
— Немой он, говорить не может сыздетства, — объяснил странник. — Ну, хорошо, ладно! — продолжал он прежним голосом. — Увидали мы с ним, — смутились в сердце своем, пали наземь. И взмолился я к владычице небесной: «Мать пресвятая богородица, утешение всех скорбящих! Будет ли товарищу моему спасение, отверзятся ли ему уста?» И случилось тут знамение… Глянула на нас матушка, за уголышек ризу взяла свою и три раза его вот благословила — раз! два! три! — больше ничего.
Он вопросительно оглядел слушателей. Бабы скорбно вздыхали и качали головами. Старик хохол, с трубкою в зубах, слушал с чуть заметною усмешкою, засунув руки в карманы шаровар.
— Это что значит?.. Значит: молись и веруй, три года тебе терпеть, а там будет тебе по вере твоей…
Странник замолчал. Никита сидел красный и волком глядел вокруг.
— Веруй в матушку, и все приложится тебе, — снова заговорил странник. — Помни бога, для него живи в мире, для него трудися! — Странник значительно погрозил пухлым пальцем. — А мы как? Все о себе печалуемся, как бы помягче пожить да послаще… Ну, вот потом сам и платись!.. В киевских пещурах мощи лежат братов-плотников. Построили они храм Успению пресвятой девы Марии. Явилась она им, спрашивает: «Чего хотите, — сиречь злата, сиречь царствия божия?» Двенадцать братов запросили царствия божия, а тринадцатый на злато прельстился, добра запросил. Ну, стал он жить, — хорошо жить стал, мягко, жирно… Прожил год и стал думать в своей голове: «Что я такое исделал?» И ужахнулся он. Пришел к матушке, пал в ноги: «Прости, говорит, за глупость, не отринь раба твоего!» А она и говорит: «Ничего теперь не могу сделать тебе. Видишь, мощи братов твоих лежат: если раздвинутся, дадут место, — твое счастье». Взмолился он к мощам: «Братья мои милые, единоутробные! Пожалейте грешника, дайте промеж себя местечко!» Сдвинулись братья, только не хватило для него целого места, втиснулся он промеж них плечом. Так по сие время и лежат, — двенадцать к небу ликом, а этот промеж них боком…
— А це кто? — прервал его старик хохол, рассматривавший фотографию образа из Киевского собора св. Владимира.
— Никита-столпник, святой угодник, переславский, — скороговоркой ответил странник. — Видишь, на столбе стоит? Тридцать лет и три года простоял…
Он передохнул, быстро высморкался пальцами и тем же певучим голосом стал рассказывать. Рассказывал, как в молодости Никита был «суров и мятежник», как обижал он людей и как явилось ему знамение: жена его варила мясо и увидела в кастрюле кипящую кровь; в крови мелькали человеческие головы, руки и ноги. Позвала она Никиту, он посмотрел и ужаснулся: «Увы мне, много согреших!..» Пошел к монастырю, влез в болото и три дня просидел в трясине, отдав себя на пищу комарам и жабам. Потом явился к игумену, пал в ноги и стал молить указать ему труд, — «токмо, отче, спаси душу погибающу!..» И построил он себе столб и стал служить богу. Зиму и лето, день и ночь стоял он на столбе и все молился. Дождь его мочил, снег засыпал, клевали вороны — он все молился; в каждой руке он держал на весу по тяжелому камню, вериги на теле от многого труда сделались блестящими, как золото…
Хорошо рассказывал странник. Лицо у него было светлое и вдохновенное, голос проникал в душу. Кругом молчали. Солнце село. Никита смотрел на лежавшую перед ним фотографию и не мог оторвать глаз: высокий, худой и изможденный, стоял угодник на бревенчатом срубе; всклокоченная седая борода спускалась ниже пояса, щеки осунулись, лицо было бледное и мертвенное; потухшие, белесые, как у трупа, глаза смотрели в небо.
И странное что-то творилось с Никитой. Он слушал вдохновенного рассказчика и забыл, что перед ним не больше как «стрелок». И все смотрел на фотографию, и она оживала под его взглядом: в старческом, трупном лице угодника, в невидящих, устремленных в небо глазах горела глубокая, страшная жизнь; казалось, ко всему земному он стал совсем чужд и нечувствителен, и дух его в безмерном покаянном ужасе рвался и не смел подняться вверх, к далекому небу…
Никита поднял голову, подпер щеку кулаком и задумчиво смотрел на затихавшую степь. По этой степи он скитался два месяца, злобный от голода и унижений, полный одним собою. Все пережитое, вся злоба и страдания казались ему теперь мелкими, и он стыдился их. Стыдился, что муки эти он переносил для самого себя, и что они так малы и ничтожны, и что в них нет ничего, что уносило бы его вверх, прочь от земли, как этого угодника.
IV
Темнело. Странник и Никита оставили за собою деревню и шли по степи. Никита ковылял на больных ногах и молча, с пристальным вниманием, косился на спутника: лицо странника казалось ему чуждым, чуждым и страшным в своей чуждости. А странник шел рядом, беззаботно посвистывал и дышал прохладою.
Далеко на юге чернели неподвижные тучи, оттуда шло непрерывное, глухое ворчание. Кругом еще сильнее пахло некошенным сеном. Ветер слабо дул, шурша сухою травою.
— Ну, поглядим, сколько нынче бог послал! — заговорил странник. — Э-эх, коробушка-матушка, вались на травушку!..
Он скинул котомку наземь, опустился на траву. Никита стоял и молча глядел.
Странник вытащил из кармана деньги, стал считать: оказалось семьдесят три копейки; было тут и от продажи «святого припасу», были и деньги, данные бабами на свечи угодникам в Соловках, куда будто бы направлялся странник. Потом он вытащил из котомки холсты, яйца, бутылку с водкой.
— Что ж, Никитушка, давай делиться! — ласково сказал странник.
Никите что-то сдавило горло. Он стоял, расставив ноги, и в упор смотрел на странника.
— Знаешь что? — проговорил он срывающимся голосом. — Тебе одна дорога, мне — другая… Прощай, брат! — И он махнул рукою.
Странник изумленно вытаращил глаза и вскочил на ноги.
— Что ты?.. Господи помилуй, чего ты? — Он оторопело вглядывался в Никиту. — Ду-ура ты, дура деревенская! — неожиданно расхохотался он и весело всплеснул руками.
Никита исподлобья оглядел странника — и вдруг, закусив губу, с размаху ударил его тяжелым кулаком в лицо, — ударил больно, крепко, с дикою радостью ощущая, как хрястнул под кулаком нос его спутника…
Странник, с залитым кровью лицом, сидел на земле и испуганно-плачущим голосом ругался. А Никита, не оглядываясь, шел вперед в темневшую степь.
1901
За права
[текст отсутствует]
Об одном доме
I. На Гремячем колодце
Мы третий день косили в Опасовском лесу. Был вечер, солнце село. Наш табор расположился на полянке, около лощины. Старики отбивали косы, костры трещали, и синий дым медленно стлался между кустами. Дальние полянки дымились легким туманом.
Я лежал на склоне лощины, около Гремячего колодца. Перед ужином мы выпили водки, и тяжелая усталость превратилась в приятную истому. Не хотелось шевелиться, сквозь охватившую глубокую задумчивость медленно проплывали чуть сознаваемые мысли; в просторном меркнувшем небе загорались звезды, и, казалось, никогда еще в нем не было столько тихой красоты.
Около меня, на пригорке, сидели и разговаривали три девки из нашего табора — Донька Коломенцова, Настасья и Аленка. Внизу был Гремячий ключ, холодный, чистый, как слеза; ручеек журчал в осоке, впадая в зацветшую сажалку; на узкой плотине стояли три старые ивы, и над ними светился серп молодого месяца.
Этот ключ, говорят, выбит из земли молнией и обладает целебною силою; на его дне, в чистом белом песке, всегда лежит масса образков и медных крестиков. А сейчас от Доньки я узнал, что и сажалка здесь тоже особенная: на ее тинистом дне лежит труп убитого прохожим солдатом черта. Дело было так: в давнее время шел через лес солдат; над лесом бушевала буря; солдат подошел к пруду и видит: с неба бьет громом в пруд, вода бурлит, а над водою мелькает чья-то косматая голова; как ударит громом — она в воду, а потом опять вынырнет. Солдат стоял за кустом, приложился из ружья, — бац! Стон прокатился по лесу, и голова исчезла под водой. Солдат испугался, думал — застрелил человека, а это Илья-пророк с неба в черта бил, да никак попасть не мог, а солдат ему подсобил.
Тайна этого пруда и ключа настраивала на особенный лад. И покосившийся крест над ключом, и черная вода в просветах зеленой тины, и старые ивы — все глядело значительно, таинственно и необычно. Ко всему этому странно подходила и сидевшая на пригорке Донька. Стройная, с продолговатым, задумчивым лицом, она рассказывала о загадочных «курдушах», которые водились в амбаре дернопольского лавочника Ивана Левонова. В лице Доньки было что-то удивительно одухотворенное, как бы прислушивающееся, и в то же время болезненное; прошлою осенью с нею было несколько припадков, и она слыла «порченою». Жила она душою в каком-то совсем особенном мире, полном таинственных сил и существ, и эти силы в ее присутствии как бы оживали и для других людей. Я смотрел на нее, и мне казалось — вот, в сумраке летнего вечера, над этим прудом с трупом черта, сидит задумчивая и серьезная Сказка.
Своим медленным грудным голосом Донька рассказывала:
— Он потому и богат, что ему курдуши служат. Тетка Матрена сколько раз видала: как ночь, выйдет с месивом па крыльцо и кормит их.
— Он, что же, колдун, значит? — спросил я.
— Нет, он-то не колдун, а у него отец колдун был; вот, говорят, курдушей этих ему и оставил.
— Да что это такое, курдуши эти?
— А кто ж их знает! Ведь их не увидишь… Один-то раз тетка Матрена подглядела; пошла она с Иваном Левоновым в амбар к нему, мучицы насыпать; отперла дверь, а из закрома какой-то черненький выскочил и — в нору; вроде как бы кошка, только подлиннее и с бородкой. Значит, схоронился от чужого глаза.
— На что ж они ему нужны?
— Как на что? А они ночью по чужим амбарам ходят, хлеб таскают к хозяину; как в каком амбаре дверь без креста, хоть на пяти запорах будь, пролезут… — Донька помолчала. — Раз я их сама слышала, курдушей этих, — проговорила она с медленною улыбкою. — Иду ночью через Дернополье, а они у лавочника в амбаре: у-уу! у-уу!.. Воют. Есть, значит, просят. Так вот тоже, бывает, дворные воют!
— А дворные разве тоже воют? — спросил я. Дворными в наших краях называют домовых.
— Дворные? Ну, как же не воют! Это и в нашей деревне было, у Сергея Чумакова. Он со всем семейством ушел в Венев, избу заколотил. Так-то там по ночам дворной выл! Никто на деревне не спал, боялись. Думали, не собака ли; так нет, не было у него собаки…
Заговорила Настька, рябая и скуластая.
— Не знаю, как Иван Левонов, а вот, девки, Аринка санинская, — это уж верно, что еретица. Ее давно оговаривали, а нынче на святках испытание сделали девки. Как жарили яичницу, воткнули нож под крышку стола, где Аринке сидеть. Сели, значит, яичницу есть, и Аринка села. Вдруг встала. «Тошно!» — говорит и вышла из-за стола… Сколько шуму было! Тут же жених ее был на вечорке: «А ну тебя, говорит, не стану я с тобой жениться, мне моя душа дороже!»
— Ей отец велел от себя взять, она тому невиновна, — понизив голос, сказала Донька. — Он колдун был, коренщик; стал помирать, а колдовство-то сдать некому; долго мучился, никак не помрет; наконец, позвал Аринку, велел ей принять, ну, после того и помер.
— Господи, что ж ей теперь на том свете за это будет! — от глубины души вздохнула Настька.
Донька молчала и задумчиво глядела в темневшую чащу леса.
— Наступит час, придет за нею тот-то… — медленно заговорила она. — Вот как летошний год за одним ненашевским мужиком приезжал, Андреяном Лаврентьевым. Заболел он после водки, все сидят, не спят, молоком его отпаивают. Вдруг в полночь слышат, по дороге из-за церкви кто-то едет на тройке, бубенцы звенят. Подъехали к дому, остановились. Андреян испугался, зачуял, значит, велел огонь под лавку спрятать. Стучат в дверь, хозяева не отпирают, боятся. Те все стучат. Ну, вышла старуха в сени, спрашивает: «Кто такое тут?» — Отпирай! — «Кто такой, кому отпирать?» — Тебе говорят, отпирай! Мы за Андреяном Лаврентьевым приехали. Он здесь? — «Нет, говорит, нету, он на ярмарку уехал». Духи и говорят: «Ну, коли его нет, то и дела нет!» И поехали мимо церкви назад… А через три дня вышел Андреян вечерком на гумно и не воротился. Стали искать, видят: лежит под ометом мертвый, — синий, глаза выпучены… Они ведь тоже хитрые, от них не убережешься!
— Слушай, Доня, ну, скажи, за что же им брать Аринку? — сказал я. — Ведь сама же ты говоришь, что она не по своей воле колдовство взяла, что ей отец приказал.
— Там этого не спросят.
— Так зачем она брала у отца? Отказалась бы!
— Как откажешься? Кабы он ее спросил. А то — «возьми», говорит, больше ничего.
— А она бы ему сказала: «Не хочу! Сам грешил, сам и расплачивайся! За что же мне-то свою душу губить?..» Ну, ты вот, если бы у тебя отец колдун был, взяла бы ты от него колдовство?
Донька покорно ответила:
— Как же не возьмешь?
Я замолчал. Тут был какой-то совсем особенный нравственный мир, настолько чуждый и непостижимый, что разговор иссякал: темные, слепые силы не отойдут от раз обреченного, и самый высокий подвиг не несет в себе оправдания.
И то, что ответила Донька, были не слова: да, она действительно взяла бы на себя вечную муку и погубила бы себя; и взяла бы не как подвиг, не с душевным подъемом, а покорно и безропотно, как неотвратимую беду.
Нечто подобное ей и предстояло: дом их был очень бедный, мальчиков не было; старших сестер Доньки повыдали замуж, и осталась одна Донька. Чтоб «сохранить дом», нужно было выдать Доньку за парня, который бы согласился идти в приемные зятья; иначе, после смерти старика-отца, земля, по обычаю, должна была отойти к «обществу». Но Донька была «порченая», и три жениха подряд отказались от нее. О выборе нечего было и думать: кто хочет — приди и возьми ее, только спаси дом. И эта девушка покорно стояла, как рабыня на торгу, и ждала первого встречного, который бы удостоил взять ее. А между тем она любила одного парня из соседней деревни, и он был рад жениться на ней, но не мог идти в «зятья».
— Что это, сколько страстей нарассказывали! Жутко будет спать! — вздохнула Аленка, девочка-подросток лет пятнадцати.
Настька вполголоса пела:
Черная чернобылка во поле стояла, Во поле стояла, к земле припадала…Темнело. Серп месяца стал ярче и светил теперь сквозь ивы. Внизу, в осоке, ровно журчал ручей, лягушка подозрительно и испытующе квакнула в сажалке и замолчала. На берегу, между двумя пеньками, стройная осинка глухо и ровно шепталась листьями.
Настька пела:
Ах ты, мать сыра-земля! Ты скажи мне всеё правду, Что какая зима будет, — Лютые ль морозы, или глубокие снеги?..В теплом, темневшем небе загоралось все больше звезд. От табора донесся голос тетки Соломониды:
— Аленка! Скоро, что ли, спать придешь? Сидишь там… со всякими! До свету, что ли, сидеть будешь?
— Сейчас! — неохотно отозвалась Аленка.
— Вот я тебе «сейчас»! Иди, что ли! А то вожжой пригоню!
Аленка еще посидела, потом лениво поднялась и пошла. Настька улыбнулась.
— «Со всякими»… Тебя, ведьма, омекает!
— Что-то не любит тебя тетка Соломонида, все придирается, — обратился я к Доньке. — С чего это?
— Сердится на меня. С осени сердится. И не кланяется. Как помешалась я осенью, сама не помню, что творила: кричу, плачу, всего боюсь. Посадила по одну сторону маму, по другую батю, сижу под образами и молитвы пою… Весною и в Ненашеве у сестры гостила, там баба одна, Пелагея, помешалась, так та образа святые в крапиву швыряла. А я все только молитвы пела… Сижу, значит, пою. А тетка Соломонида подошла к окошку, смеется: «Знать говорит, дядя Афанасий, твоему корню конец приходит!» А я вскочила с лавки, кричу: «Конец, да не для вас! Прахом пойдет земля, а вам не достанется, колдунам!..» Вот и сердится на меня с той поры, не кланяется. А я чем виновата! Что крикнула, не знаю… Они-то все, конечно, были рады: не возьмет меня никто, земля обществу достанется. А землею у нас все тужат.
— И с чего это, Донька, случилось с тобою? — вздохнула Настька. — Такая здоровая была, а тут вдруг на-поди, что случилось!
Донька задумчиво ответила:
— Я вот все думаю, кому бы на работе было испортить? Ведь я на молотьбе тогда была в барской риге. Некому бы испортить, а выказывается порча. Пришла меня крестная проведать, в кармане бутылка со святою водицею, камешек иорданский, песочек… Она на порог, а я выскочила, за плечи ее схватила, смотрю в глаза: «Ты что в кармане несешь?»
— Почуяла, значит!
— Да, не иначе, как порча. А кто напустил? Разве я свят дух, могу знать?
И ее глаза с робким вопросом устремились в темноту.
— И опять же, отчитали меня. Мама пошла в Еньково, к старухе. С этой старухой каждый год припадки бывали; дала зарок молебствовать, — сняло. А как годом не помолебствует, опять припадки. Вот, значит, сижу я в избе на полатях, и словно котята у меня в животе ходят, под сердце подкатываются. А как пришла пора, значит, прочитала там старуха восемьдесят две молитвы, поднялась у меня рвота; зеленое что-то пошло, как лягушиные гнезда, а в них головки. И стало легче… Должно быть, порча. — Донька помолчала. — А может, господь покарал. Только уж не знаю, — любя ли, за грехи ли какие?
И опять ее глаза с тем же вопросом медленно уставились в темноту. И мне казалось, я вижу, как под этим робким взглядом в сумраке складываются и волнуются смутные, загадочные силы, цепко опутавшие всю жизнь беспомощного человека.
— А что, Донька, ведь не пройдет уж в тебе эта порча! — сказала Настька. — Прежнего цвета уж не будет, — кто тебя возьмет?
Донька опустила глаза.
— Федор дернопольский брал… Говорит: ничего, что ты порченая. А только нельзя ему к нам в дом идти, ему бабу к себе нужно.
— Ну, вот, бог даст, не найдется тебе жениха, и пойдешь за Федора, — заметил я.
— Нет, где же! Нельзя. Кто меня пустит? Мама больная лежит, бате одному не управиться. Мне на сторону идти нельзя…
Серп месяца скрылся за лесом. Было темно. От сажалки тянуло запахом влажной тины. Осинка на берегу робко шумела листьями.
Она была такая же стройная, как Донька… Эта осинка стоит тут, ее сечет градом, треплет ветром, ребята обламывают на ней ветки, а она стоит, робкая и тихая, и с нерассуждающею покорностью принимает все, что на нее посылает судьба. Придет чужой человек, подрубит топором ее стройный ствол, и с тою же покорностью она упадет на землю, и останется от нее только сухой, мертвый пенек.
Я лежал на копне. В небе теплились звезды; с поля, из-за кустов, несло широким теплом; в лесу стоял глухой, сонный шум. Тело, неподвижное и отяжелевшее, как будто стало чужим, мысли в голове мешались, и мешались представления. Стройная осинка, стройная Донька, обе робко и покорно смотрящие в темноту… Милая, милая! Сколько в ней глубокого, несознанного трагизма, и сколько трагизма в этой несознанности!
II. Похороны
В конце августа в доме Коломенцовых появился новый человек.
Это был молодой парень, худой и маленький, с землисто-бледным лицом; одет он был по-городски — в пиджак и жилетку. Проезжая по деревенской улице, я не раз видел, как он вместе с Донькою рубил около избы хворост или молотил на току рожь. И странно было смотреть на этого маленького, как будто недоношенного природою человечка рядом со стройною красавицею Донькою, с ее тонкими, сильными руками… Неужели это новый жених?
Однажды вечером я проходил мимо избы Коломенцовых. На пороге, кутаясь в тулуп, сидела старуха — мать Доньки, Мавра, с желтым, мертвенно-сухим лицом и громадным животом. У нее цирроз печени и порок сердца, она уже второй год еле двигается и только в хорошие дни выползает на порог. Поздоровались.
— Как дела у вас? — с любопытством спросил я.
Мавра сделала хитрое и торжествующее лицо.
— Батюшка! Женишок новый объявился! — таинственно сообщила она.
— Это тот-то, маленький?
— Да, да, да, да, да… Он, видишь, шпитонок[14], в Туле живет, в музыкантах, — зашептала она. — Значит, прожил у нас недельку, чтоб и ему присмотреться, и нам его узнать… Нынче утром ушел в Тулу… Приглянулась ему девка-то! Известное дело, сейчас же добрые люди понасказали про нее, ну, а он: «Пустяки, говорит, я этим не антиресуюсь!..» Да ты, батюшка, зайди в избу!
«Вот оно, совершилось!..» У меня тяжело сжалось сердце.
Мы с Маврой вошли в избу. Изба была черная, тесная, как клетушка, с грязным земляным полом. В ней пахло сажею и залежавшимся навозом.
Из риги воротились с молотьбы Донька и ее отец Афанасий. Афанасий был высокий и худой старик, с таким же, как у Доньки, продолговатым лицом, в его глазах было то спокойно-подчиненное, смиренное выражение, какое часто бывает у старых мужиков.
— Он где же играет в Туле? — спросил я Мавру про жениха.
— А там в хору, что ли, в каком. По десять рублей ему платят в месяц… Ученый. Читать может псалтыри над покойниками, все, что хочешь. Ростом низменный, а уж то-то разумом умен!
Донька сидела на лавке у окна, с руками на коленях. Она медленно улыбнулась и сказала:
— Чудной такой!.. Деревенской работы совсем не понимает, робливый. Скажешь: поди, напой лошадь! — «Она забрыкает!» — Пригони корову! — «Она забодает!»
— Плох насчет нашей работы, — согласилась Мавра, — мало понимает. «Я, говорит, мама, только курочек на своем веку и видел…» Раз послал его хозяин дровец порубить, а девка из сарая в щелку и поглядела: отрубит колышек, и к глазам его, — значит, плох глазами, опытности у него в глазах нету… «Вы, говорит, мама, не опасайтесь: я хоть на работу плох, а одним чтением на подани заработаю». Ну, а где там! Подань у нас тяжелая!
— Да только ли он глазами плох? Нет ли у него еще какой болезни? — спросил я, вспоминая подозрительно-землистый цвет лица парня.
— Господь его знает, батюшка! Нешто мы понимаем? Девка, та вот доглядела: подмышкой справа у него рубаха в желтых пятнах, вроде как бы дрянь выступает из бока… Ну, да ведь не всякому здоровым быть!
— Загублю я себя! — вздохнула Донька, глядя в темный угол избы.
Афанасий поучающе заговорил:
— Нужно, батюшка, так сказать, что и на том спасибо! Горе такое вышло, испортили девку у нас, не берет никто. А сынов-то нету, дома передать некому, — видишь? Пропадать приходится дому.
— А сохранить-то, значит, хочется! — объяснила Мавра. — Присватывался тут к девке женишок один, из Дернополя, да не может он к нам в зятья идти, а мы девку отдать не можем: нету сына, надобно зятя добывать.
— Плох паренек, плох, это надо правду сказать! — раздумчиво произнес Афанасий. — Мало пользы от него будет, а что поделаешь? Докуда ждать? Брезгуют девкою, сами видим — с изъяном.
— Отдали бы вы ее за Федора дернопольского. Что вы девку-то губите? — сказал я. — Сами говорите: плох парень, а ведь ей с ним всю жизнь маяться. Пожалели бы дочь!
Мавра скорбно возразила:
— Батюшка, да нешто не жалеем? Уж так-то жалеем! Да что ж поделаешь? Нельзя нам ее в чужой дом отдать, — что с хозяйством станется? Дуры-то мы, дуры, силы мужичьей у нас нету, а не обойдешься без нас в хозяйстве, нужно, чтоб баба была. А от меня, милый, пользы никакой нет, уж второй год лежу… Старик и то иной раз заругается: «Когда ты сдохнешь?» Известно, наше дело христьянское, рабочее, Только хлеб задаром жуешь.
Доня неподвижно сидела на лавке и задумчиво глядела в угол.
Керосинка без стекла тускло горела на столе, дым коптящею, шевелящеюся струйкою поднимался к потолку. По стенам тянулись серые тени. За закоптелою печкою шевелилась густая темнота. И из темноты, казалось мне пристально смотрит в избу мрачный, беспощадный дух дома. Он намечает к смерти ставшую ему ненужною старуху; как огромный паук, невидимою паутиною крепко опутывает покорно опущенные плечи девушки…
И мне пришло в голову: не он ли, этот закоптелый, прикованный к печке дух, так возмущающий меня своею тупою беспощадностью, — не он ли один дает все-таки хоть какой-нибудь смысл всей этой непонятной для меня жизни?..
Афанасий вздохнул.
— А как нам вот зятя-то теперь приводить! Нужно миру ведро вина поставить, чтоб подписали приговор, ветчины выложить на закуску… А капитал у нас вот как тонок! Не вытянем.
* * *
В конце августа, в воскресенье, Афанасий обратился на сходе к миру с просьбою разрешить ему принять в дом зятя. Решение вышло ужасное: мир наотрез отказал. Этого, собственно, и следовало ожидать: все томились безземельем, земли не хватало своим, и безумно было принимать в общество новых членов. Правда, некоторые, соблазняясь предстоящим угощением, заговорили, что следовало бы уважить старика. Но против них решительно и резко восстал Михайло Шестопалов, умный, энергичный мужик, крепко стоявший за «мирские» интересы.
— Не принимаем! Не согласны! — бунтовал он. — Не можем мы землю отдавать чужакам: своим мало!
Афанасий, бледный и смиренный, мял в руках шапку.
— Дозвольте, православные, дом сохранить! — дрожащим голосом просил он.
— Не согласны! — орал Михайло. — Староста! Засвидетельствуй: не согласны! Не можем мы землю раздавать!.. Трех зятьев уж приняли, показали дурость свою… Буде! Довольно!
— Верно! Невозможно отдать! — согласился хромой штукатур Арсентий. Он и Михайло вертели старостою и сходом и всегда умели заставить мир принять то, что находили нужным.
Уж видно, дядя Афанасий, не иначе, как дому твоему конец нужно сделать, — сочувственно вздыхая, сказал Сергей Сафронычев.
Сход расходился. Мавра, несмотря на холодный ветер, сидела на пороге своей избы. С побелевшими губами и мутными глазами, она растерянно качала головою. Около нее стояла бледная Донька, прижимала к груди руки и неподвижно смотрела на расходившихся по дороге мужиков.
Вечером Донька прибежала за мною и попросила поскорее прийти: Мавре стало очень худо, и ее уже причастили.
Она лежала на полатях и протяжно охала. Я исследовал ее. Дело было плохо: сердце переставало работать, появился отек легких.
В темном углу, около печки, что-то зашевелилось на земле. Это был Афанасий. Босой, в распоясанной рубахе, он поднялся и, шатаясь, подошел ко мне.
— Барин! Я чувствую! Вот пришел ты к нам, старуху мою хочешь полечить… Дай тебе господь доброго здоровья! Стараешься для нас!.. — Старик покачнулся и оглядел меня пьяным взглядом. — Извините! — пробормотал он. — Извините… Простите меня, грешного раба, недостойного!
Он рухнул на колени и прижался лицом к моему сапогу. Донька подошла к нему.
— Батя, оставь! Ляг на лавку!
Она подняла его и повела к лавке.
— Уйди! — вдруг сказал он. Вырвал руку и опять сел на землю около печки.
Снаружи бушевал ветер; с шелестящим шорохом он проносился по соломенной крыше и глухо ворчал в трубе. Мавра, покрытая тулупом, хрипло стонала, в груди ее клокотало.
Афанасий сидел в углу на своих босых ногах и бормотал:
— Ну, ладно!.. Покорно благодарим!.. Что ж, о чем толк?.. Помирать нам всем нужно… Правильно? Мы все одного бога боимся… А с девки не спросишь. Что девка? — Навоз! Вывез в поле, и нет ее. — Старик помолчал. — Жена! — вдруг грозно позвал он.
Хриплые, долгие стоны Мавры наполняли избу и мешались с шумом ветра. Потом вдруг из ее груди вылетел ясный, чистый, громкий звук и замер. На минуту стало тихо.
Афанасий выразительно повторил:
— Жена!
— Ох! Ох! Ох! — быстро захрипели снова короткие, отрывистые стоны.
— Буде тебе, батя! Сиди! — убеждала отца Донька.
— Уйди! — упрямо сказал Афанасий.
Он поднялся и, вразвалку ступая босыми ногами, пошел к полатям.
— Жена-а! — грозно и протяжно позвал он снова.
— Ну, куда ты? Помирает Мавра, отойди! — сказал я, удерживая его.
Старик остановился передо мною.
— Барин! Я понимаю!.. Подсобить хочешь старухе, — ну, дай тебе бог доброго здоровья!.. А что жалко? Я говорю: «Дайте дом сохранить!» — а они… Ведь сам избу-то срубил, милый! Любовался на нее, как на красное солнышко!.. А хозяйка, знай, все одних девок родит… Что же это? Мало я ее учил за это дело?.. Которые померли, которые замуж повыданы… Вон девка одна осталась… Ба-арин!..
Он всхлипнул и забил себя в грудь.
— Конец ведь моему дому исделали, что ж я теперь буду? Мы ведь не отказываемся, угощение поставим по закону; зачем мы будем против мира капризиться?
С нар опять раздался ясный, громкий крик, и все смолкло. Я поспешил к Мавре. Она агонизировала, грудь тяжело и неровно вздымалась.
Ветер ударил в оконце избы, зазвенел склеенными газетою осколками стекол и взмыл по крыше к трубе. В трубе опять заворчало, и как будто кто-то в ней зашевелился.
Афанасий, взлохмаченный, с красными глазами, сидел у печки, хитро посмеивался и глядел на нас. Вдруг он устремил глаза в землю, лицо его сделалось свирепым.
— Аа-аà! — ахнул он и изо всей силы ударил кулаком в земляной пол.
— Батя, да будет тебе! — увещевала его измученная Донька.
Старик пробормотал:
— Ничего… О чем толк? Землю не прошибешь… Не прошибешь ее, матушку, она все стерпит!..
И с пьяным рыданием он припал к полу.
Донька, бледная, как призрак, сидела на лавке, уронив на колени тонкие руки. А ветер выл на дворе, и в трубе как будто плакал кто-то, — плакал старый, закоптелый дух погибающего дома… И казалось мне, — смертью и могильным холодом полна уже изба, и двигающиеся, корчащиеся призраки хоронят что-то, что давало им всем жизнь и смысл жизни.
III. Одинокий
Года через два, в начале сентября, мне снова пришлось быть в этих местах. Я ехал в телеге с одним дернопольским парнем, Николаем. Небо было в тучах, на полях рыли картошку, заросшие полынью межи тянулись через бурые, голые жнивья. На Беревской горе мы нагнали высокого, худого и лохматого старика. Он медленно шел по дороге, опираясь на длинную палку-посох. Заслышав телегу, старик посторонился и обратил к нам худое, продолговатое лицо.
— Дедушка Афанасий, здравствуй! — сказал я.
Он с недоумением прищурил подслеповатые глаза, потом узнал и оживился.
— Здравствуй, батюшка, здравствуй!
— Садись к нам, подвезем!
Старик взобрался на телегу.
Он сильно постарел и оброс, коричневая шея была покрыта сетью морщинистых трещин, седая бородка мешалась у висков с нависшими космами мочальных волос.
— Донька-то твоя умерла! — сочувственно обратился я к нему. Я уж слышал, что она неожиданно умерла тою же осенью, когда я ее видел в последний раз.
Афанасий медленно ответил:
— Померла. Который месяц под Покров бывает, в этот. В три дня испеклась.
— С чего же это?
— Кто же ее знает! Значит, смерть пришла.
— Как же ты теперь живешь? Один?
— Один, милый, один! — Старик подумал. — Один! — решительно подтвердил он.
— Тяжело тебе одному управляться!
— С чего тяжело? — По тонким губам Афанасия промелькнула юмористическая усмешка. — Лежишь на печке: жив — стало быть, слава богу! Помер — смерть все одна! Чего ж мне? Только бы душу сообщить, а помирать все один будешь. Один, а не вдвоем. Помогать никто не станет, — помирать-то!
— Что ж, ты сам и печку топишь, и обед варишь?
— Сам. Кому же еще?.. Все один. Ни навить, ни подать некому; навьешь сена на телегу — полезай, притаптывай; а потом опять — скок на землю! — дальше клади… Придешь домой — корову подои, ужин справь…
Старик рассказывал, и на губах играла та же усмешка. Как будто он забавлялся впечатлением, которое должны производить его слова.
— А народ пользуется, — помолчав, заговорил он. — В летошний год связать взяли по двадцать пять копеек с копны: он, говорят, отдаст! Ему вязать некому. Раньше по двадцать пять копеек брали сжать копну, а теперь, видишь ты, — связать!.. хреста нету. А не связал, — так и едут по твоему хлебу, нет, чтоб на межу своротить… «А он зачем, говорят, не убирает?» Всю рожь в землю втопчут.
Афанасий задумался.
— Намедни на работе был, прихожу домой: дверь изнутри на засов заперта, окно высадили. Топор скрали, недоуздок, хомут… С кого спросишь? До чужого никому дела нет. А сам нешто доглядишь? Все один. А двадцать-то рублей в год на подани отдай. На то не глядят, что борода чалая. Под окошко батожком: стук, стук! «Дедушка Афанасий, неси подань!..»
Он молча стал глядеть на далекие, подернутые дымкою жнивья, и в его взгляде была смиренная, нерассуждающая покорность. Мне вспомнилось, — совсем таким взглядом два года назад смотрела в летний сумрак Донька над Гремячим колодцем.
— Ну, тут слезать мне, — сказал Афанасий. — Вам кругом ехать, а я напрямик пойду, оврагом. Спасибо, батюшка, будь здоров!
Он слез и, опираясь на свою длинную палку, пошел к оврагу, за которым серела деревня. Высокий и иссохший, со спутанными, отросшими волосами, он выглядел пустынником, одичавшим в своем безлюдье.
Мой возница, Николай, прищурясь, смотрел ему вслед.
— Из волости идет, в холодной отсиживал, — сказал он.
— За что?
— За что? За подань! Что ж он справить может, такой-то? Где ему землю оправдать?.. Зажился дедка, чужой век живет! — неодобрительно прибавил Николай.
Вечером я вышел на крыльцо. Небо было в густых тучах, в темноте накрапывал теплый дождь. За ручьем мигали редкие огоньки деревни. Я вглядывался в нее, старался различить избу Афанасия. Но ничего не было видно. Только черные тучи медленно клубились над деревней, и между ними виднелись пятнистые, мутно-бледные просветы неба.
Этот старик сидит теперь в своей пустой избе. В ней пахнет холодною сажею. За нетопленою печкою ежится в темноте затравленный, одичавший дух дома. А с улицы на развалюшку-избу холодно и враждебно смотрят избы, крепкие сознанием своего права на жизнь.
Черные тучи клубились и вздымались над деревнею. И казалось мне, — огромный темный дух наклонился над избою Афанасия. Тяжелою рукою он сдавил горло приникшего за печкою «дворного» и душит его — медленно, спокойно и беспощадно…
1902
Встреча
[текст отсутствует]
Паутина
[текст отсутствует]
Мать
Из записной книжки
Сегодня утром я шел по улицам Старого Дрездена. На душе было неприятно и неловко: шел я смотреть ее, прославленную Сикстинскую мадонну. Ею все восхищаются, ею стыдно не восхищаться. Между тем бесчисленные снимки с картины, которые мне приходилось видеть, оставляли меня в совершенном недоумении, чем тут можно восхищаться. Мне нравились только два ангелочка внизу. И вот, — я знал, — я буду почтительно стоять перед картиною, и всматриваться без конца, и стараться натащить на себя соответственное настроение. А задорный бесенок будет подсмеиваться в душе и говорить: «Ничего я не стыжусь, — не нравится, да и баста!..»
Я вошел в Цвингер. Большие залы, сверху донизу увешанные картинами. Глаза разбегаются, не знаешь, на что смотреть, и ищешь в путеводителе спасительных звездочек, отмечающих «достойное». Вот небольшая дверь в угловую северную комнату. Перед глазами мелькнули знакомые контуры, яркие краски одежд… Она! С неприятным, почти враждебным чувством я вошел в комнату.
Одиноко в большой, идущей от пола золотой раме, похожей на иконостас, высилась у стены картина. Слева, из окна, полузанавешанного малинового портьерою, падал свет. На диванчике и у стены сидели и стояли люди, тупо-почтительно глазея на картину. «Товарищи по несчастью!» — подумал я, смеясь в душе. Но сейчас же поспешил задушить в себе смех и с серьезным, созерцающим видом остановился у стены.
И вдруг — незаметно, нечувствительно — все вокруг как будто стало исчезать. Исчезли люди и стены. Исчез вычурный иконостас. Все больше затуманивались, словно стыдясь себя и чувствуя свою ненужность на картине, старик Сикст и кокетливая Варвара. И среди этого тумана резко выделялись два лица — Младенца и Матери. И перед их жизнью все окружающее было бледным и мертвым… Он, поджав губы, большими, страшно большими и страшно черными глазами пристально смотрел поверх голов вдаль. Эти глаза видели вдали все: видели вставших на защиту порядка фарисеев, и предателя-друга, и умывающего руки чиновника-судью, и народ, кричащий: «Распни его!» Да, он видел этим проникающим взглядом, как будет стоять под терновым венцом, исполосованный плетьми, с лицом, исковерканным обидою, животною мукою, как там, через несколько зал, на маленькой картине Гвидо Рени…
И рядом с ним — она, серьезная и задумчивая, с круглым девическим лицом, со лбом, отуманенным дымкою предчувствия. Я смотрел, смотрел, и мне казалось: она живая, и дымка то надвигается, то сходит с ее молодого, милого лица… А в уме бессмысленно повторялось начало прочитанной внизу подписи…
«Fece Rafaello a'monaci neri…»[15]Из мертвого тумана женский голос спрашивал по-немецки:
— Что это там внизу, яйцо?
Мужской голос отвечал:
— Это папская тиара.
А дымка проносилась и снова надвигалась на чистый девический лоб. И такая вся она была полная жизни, полная любви к жизни и к земле… И все-таки она не прижимала сына к себе, не старалась защитить от будущего. Она, напротив, грудью поворачивала его навстречу будущему. И серьезное, сосредоточенное лицо ее говорило: «Настали тяжелые времена, и не видеть нам радости. Но нужно великое дело, и благо ему, что он это дело берет на себя!» И лицо ее светилось благоговением к его подвигу и величавою гордостью. А когда свершится подвиг… когда он свершится, ее сердце разорвется от материнской муки и изойдет кровью. И она знала: это…
Вечером я сидел на Брюлевской террасе. На душе было так, как будто в жизни случилось что-то очень важное и особенное. В воздухе веяло апрельскою прохладою, по ту сторону Эльбы береговой откос зеленел весеннею травкою. Запад был затянут оранжевою дымкою, город окутывался голубоватым туманом. По мосту через Эльбу, высоко, как будто по воздуху, пронесся поезд, выделяясь черным силуэтом на оранжевом фоне зари.
Я сидел, и вдруг светлая, поднимающая душу радость охватила меня — радость и гордость за человечество, которое сумело воплотить и вознести на высоту такое материнство. И пускай в мертвом тумане слышатся только робкие всхлипывания и слова упрека, — есть Она, есть там, в этом фантастическом четырехугольнике Цвингера. И пока она есть, жить на свете весело и почетно. И мне, неверующему, хотелось молиться ей.
Темнело. Я шел через площадь. На небе рисовались два черные, как будто закоптелые шпица церкви св. Софии. Вот он и молчаливый Цвингер. Окна темны, внутри тишина и безлюдье. И мне стало странно: неужели и в той комнате может быть темно, неужели ее лицо не светится?
Звезда
Это случилось в давние времена, в далеком, неведомом краю. Над краем царила вечная, черная ночь. Гнилые туманы поднимались над болотистой землею и стлались в воздухе. Люди рождались, росли, любили и умирали в сыром мраке. Но иногда дыхание ветра разгоняло тяжелые испарения земли. Тогда с далекого неба на людей смотрели яркие звезды. Наступал всеобщий праздник. Люди, в одиночку сидевшие в темных, как погреба, жилищах, сходились на площадь и пели гимны Небу Отцы указывали детям на звезды и учили что в стремлении к ним жизнь и счастье человека. Юноши и девушки жадно вглядывались в небо и неслись к нему душою из давившего землю мрака. Звездам молились жрецы. Звезды воспевали поэты. Ученые изучили пути звезд их число величину и сделали важное открытие, оказалось, что звезды медленно но непрерывно приближаются к земле. Десять тысяч лет назад — так говорили вполне достоверные источники — с трудом можно было различить улыбку на лице ребенка за полтора шага. Теперь же всякий легко различал ее за целых три шага. Не было никакого сомнения, что через несколько миллионов лет небо засияет яркими огнями и на земле наступит царство вечного лучезарного света. Все терпеливо ждали блаженного времени и с надеждою на него умирали. Так долгие годы шла жизнь людей тихая и безмятежная и согревалась она кроткою верою в далекие звезды
Однажды звезды на небе горели особенно ярко. Люди толпились на площади и в немом благоговении возносились душою к вечному свету. Вдруг из толпы раздался голос:
— Братья! Как светло и чудно там в высоких небесных равнинах! А у нас здесь как сыро и мрачно! Томится душа моя нет ей жизни и воли в вечной тьме. Что до того, что через миллионы лет жизнь наших дальних потомков озарится непреходящим светом? Нам, нам нужен этот свет. Нужен больше воздуха и пищи, больше матери и возлюбленной. Кто знает — быть может есть путь к звездам. Быть может мы в силах сорвать их с неба и водрузить здесь, среди нас, на радость всей земле! Пойдемте же искать пути, пойдемте искать света для жизни!
В собрании было молчание. Шепотом люди спросили друг друга:
— Кто это?
— Это — Адеил, юноша безрассудный и непокорный.
Опять было молчание. И заговорил старый Тсур, учитель умных, свет науки.
— Милый юноша! Всем нам понятна твоя тоска. Кто в свое время не болел ею? Но невозможно человеку сорвать с неба звезду. Край земли кончается глубокими провалами и безднами. За ними крутые скалы. И нет через них пути к звездам. Так говорят опыт и мудрость.
И ответил Адеил:
— Не к вам, мудрые, и обращаюсь я. Ваш опыт бельмами покрывает глаза ваши и мудрость ваша, ослепляет вас. К вам взываю я, молодые и смелые сердцем, к вам, кто еще не раздавлен дряхлою старческою мудростью! — И он ждал ответа.
Одни сказали:
— Мы бы рады пойти. Но мы свет и радость в очах родителей наших и не можем причинить им печали.
Другие сказали:
— Мы бы рады пойти. Но мы только что начали строить наши дома, и нам нужно достроить их.
Третьи сказали:
— Привет тебе, Адеил! Мы идем с тобою!
И поднялись многие юноши и девушки. И пошли за Адеилом. Пошли в темную грозную даль. И тьма поглотила их.
Прошло много времени. Об ушедших не было вести. Матери оплакали безрассудно погибших детей, и жизнь потекла по-прежнему. Опять в сыром и темном мраке родились, росли, любили и умирали люди с тихою надеждою, что через тысячи веков на землю низойдет свет. Но вот однажды над темным краем земли небо слабо осветилось мелькающим трепетным светом. Люди толпились на площади и удивленно спрашивали:
— Что это там?
Небо с каждым часом светлело. Голубые лучи скользили по туманам, пронизывали облака, широким светом заливали небесные равнины. Угрюмые тучи испуганно клубились, толкались и бежали вдаль. Все ярче разливались по небу торжествующие лучи. И трепет небывалой радости пробегал по земле. Пристально вглядывался в даль старый жрец Сатзой. И сказал задумчиво:
— Такой свет может быть только от вечной небесной звезды.
И возразил Тсур, учитель умных, свет науки:
— Но как могла звезда спуститься на землю? Нет нам пути к звездам и нет звездам пути к нам.
А небо светилось светлело. И вдруг над краем земли сверкнула слепяще-яркая точка — Звезда! Идет звезда! И в бурной радости побежали люди навстречу. Яркие, как день, лучи гнали перед собою гнилые туманы. Разорванные, взлохмаченные туманы метались и приникали к земле. А лучи били по ним, рвали на части и вгоняли в землю. Осветилась и очистилась даль земли. Люди увидели, как широка эта даль, сколько вольного простору на земле и сколько братьев их живет во все стороны от них. И в бурной радости бежали они навстречу свету. По дороге тихим шагом шел Адеил и высоко держал за луч сорванную с неба звезду. Он был один.
Его спросили:
— Где же остальные?
Обрывающимся голосом он ответил:
— Все погибли. Прокладывали пути к небу сквозь провалы и бездны. И погибли смертью храбрых.
Ликующие толпы окружили звездоносца. Девушки осыпали его цветами. Гремели клики восторга:
— Слава Адеилу! Слава принесшему свет!
Он вошел в город и остановился на площади и высоко в руке держал сиявшую звезду. И по всему городу разлилось ликование.
Прошли дни. По-прежнему ярко сияла на площади звезда, высоко поднятая в руке Адеила. Но давно уже не было в городе ликования. Люди ходили сердитые и хмурые, потупив взоры, и старались не смотреть друг на друга. Когда им приходилось идти через площадь, глаза при виде Адеила загорались мрачною враждою. Не слышно было песен. Не слышно было молитв. На место разогнанных звездою гнилых туманов над городом невидимым туманом сгущалась черная угрюмая злоба. Сгущалась, росла и напрягалась. И под гнетом ее нельзя было жить. И вот с воплем выбежал на площадь человек. Горели глаза его, лицо исказилось от разрывающей душу злобы. В безумии бешенства он кричал,
— Долой звезду! Долой проклятого звездоносца! Братья, разве не души всех вас вопят моими устами: долой звезду, долой свет — он лишил нас жизни и радости! Мы мирно жили во мраке мы любили наши милые жилища, нашу тихую жизнь. И смотрите — что такое случилось? Пришел свет — и нет уж отрады ни в чем. Грязными уродливыми кучами теснятся дома. Листья деревьев бледны и склизки, как кожа на брюхе лягушки. Посмотрите на землю — она вся покрыта кровавою грязью. Откуда эта кровь, кто знает? Но она липнет к рукам, ее запах преследует нас за едой и во сне, он отравляет и обессиливает наши смиренные молитвы к звездам. И нигде нет спасения от дерзкого всепроникающего света. Он врывается в наши дома, и вот мы видим: все они облеплены грязью, грязь въелась в стены, затянула окна вонючими кучами, громоздится в углах. Мы больше не можем целовать наших возлюбленных при свете Адеиловой звезды, они стали отвратительней могильных червей. Глаза их бледны, как мокрицы, мягкие тела покрыты пятнами и отливают плесенью. И друг на друга уже не можем мы больше смотреть — не человека видим мы перед собой, а поругание человека. Каждый наш тайный шаг, каждое скрытое движение освещает неумолимый свет. Невозможно жить! Долой звездоносца, да погибнет свет!
И подхватили другие:
— Долой! Да живет тьма! Только горе и проклятье приносит людям свет звезд. Смерть звездоносцу!
И заволновалась толпа, и бешеным ревом старалась опьянить себя, заглушить ужас перед хулою своею на свет. И двинулась на Адеила. Но смертельно-ярко сияла звезда в руке звездоносца, и люди не смогли подойти к нему.
— Братья, стойте! — вдруг раздался голос старого жреца Сатзоя. Тяжкий грех берете вы на душу, проклиная свет. Чему мы молились, чем мы живем, как не светом? Но и ты, сын мой, — обратился он к Адеилу, — и ты совершил не меньший грех, снесши звезду на землю. Правда, великий Брама сказал: Блажен, кто стремится к звездам. Но дерзкие своею мудростию люди неправильно поняли слово Всемирно-чтимого. Ученики учеников его растолковали истинный смысл темного слова Всемудрого: к звездам человек должен стремиться лишь помыслами, а на земле тьма столь же священна, как на небе — свет. И вот эту-то истину презрел ты своим вознесшимся умом. Раскайся же, сын мой, брось звезду, и да воцарится на земле прежний мрак.
Усмехнулся Адеил.
— А ты думаешь, если я брошу, мир на земле не погиб уже навеки?
И с ужасом почуяли люди, что правду сказал Адеил, что прежний мир уже не возродится никогда. Тогда выступил вперед старый Тсур, учитель умных, свет науки.
— Безрассудно поступил ты, Адеил, и сам видишь теперь плоды своего безрассудства. По законам природы жизнь развивается медленно. И медленно приближаются к жизни далекие звезды. При их постепенно приближающемся свете постепенно перестраивается и жизнь. Но ты не захотел ждать. Ты на свой страх сорвал звезду с неба и ярко осветил жизнь. Что же получилось? Вот она кругом перед нами — грязная, жалкая и уродливая. Но разве мы раньше не догадывались, что она такова? И разве в этом была задача? Невелика мудрость — сорвать с неба звезду и осветить ей уродство жизни. Нет, возьмись за трудную черную работу переустройства жизни. Тогда ты увидишь, легко ли очистить ее от накопившейся веками грязи, можно ли смыть эту грязь хотя бы целым морем самого лучезарного света. Сколько в этом детской неопытности! Сколько непонимания условий и законов жизни! И вот вместо радости ты принес на землю скорбь, вместо мира — войну. А ты мог бы и теперь быть полезным жизни — разбей звезду, возьми из нее лишь маленький осколок — и осколок этот осветит жизнь как раз настолько, сколько нужно для плодотворной и разумной работы над нею.
И ответил Адеил:
— Ты верно сказал Тсур! Не радость принесла сюда звезда, а скорбь не мир а войну! Не этого ждал я, когда по крутым скалам карабкался к звездам, когда вокруг меня обрывались и падали в бездну товарищи. Я думал, хоть один из нас достигнет цели и принесет на землю звезду. И в ярком свете наступит на земле яркая светлая жизнь. Но когда я стоял на площади, когда я при свете небесной звезды увидел нашу жизнь, я понял, что безумны были мои мечты. Я понял — свет нужен вам лишь в недосягаемом небе, чтобы преклоняться перед ним в торжественные минуты жизни. На земле же вам всего дороже мрак, чтобы прятаться друг от друга, и главное, радоваться на себя на свою проеденную плесенью жизнь. Но еще больше, чем прежде, почуял я, что невозможно жить этой жизнью. Каждою каплею своей кровавой грязи, каждым пятном сырой плесени она немолчно вопиет к небу. Впрочем, могу вас утешить: светить моей звезде недолго. Там, в далеком небе, висят звезды и светят сами собою. Но сорванная с неба, снесенная на Землю, звезда может светить, лишь питаясь кровью держащего ее. Я чувствую жизнь моя, как по светильне поднимается по телу к звезде и сгорает в ней. Еще немного, и жизнь моя сгорит целиком. И нельзя никому передать звезды, она гаснет вместе с жизнью несущего ее, и каждый должен добывать звезду в небе. И к вам обращаюсь я, честные и смелые сердцем. Познав свет, вы уже не захотите жить во мраке. Идите же в далекий путь и несите сюда новые звезды. Долог и труден путь, но все-таки для вас он будет уже легче, чем для нас, впервые погибших на нем. Тропинки проложены, пути намечены, и вы воротитесь со звездами, и не иссякнет свет их больше на земле. А при неугасающем их свете невозможною станет такая жизнь, как теперь. Высохнут болота. Исчезнут черные туманы. Ярко зазеленеют деревья. И те, которые сейчас в ярости кидаются на звезду, волею-неволею возьмутся за переустройство жизни. Ведь и вся злоба их теперь оттого, что при свете они чувствуют — им невозможно жить так, как они живут. И жизнь станет великою и чистою. И прекрасна будет она при лучезарном свете питаемых нашею кровью звезд. А когда наконец спустится к нам звездное небо и осветит жизнь, то застанет людей достойными света. И тогда уж не нужна будет наша кровь чтобы питать этот вечный непреходящий свет.
Голос Адеила оборвался. Последние кровинки сбежали с бледного лица. Подогнулись колени звездоносца, и он упал. Упала вместе с ним звезда. Упала, зашипела в кровавой грязи и погасла.
Ринулась со всех сторон черная тьма и замкнулась над погасшею звездою. Поднялись с земли ожившие туманы, заклубились в воздухе. И жалкими робкими огоньками светились сквозь них на далеком небе далекие бессильные и неопасные звезды.
Прошли годы.
По-прежнему в сыром мраке родились, росли, любили и умирали люди. По-прежнему мирною и спокойною казалась жизнь. Но глубокая тревога и неудовлетворенность подтачивала ее во мраке. Люди старались и не могли забыть того, что осветила им мимолетным своим светом яркая звезда.
Отравлены были прежние тихие радости. Ложь въелась во все. Благоговейно молился человек на далекую звезду и начинал думать: «А вдруг найдется другой безумец и принесет звезду сюда к нам?» Язык заплетался, и благоговейное парение сменялось трусливою дрожью. Отец учил сына, что в стремлении к звездам жизнь и счастье человека. И вдруг мелькала мысль: «А ну как в сыне и вправду загорится стремление к звездному свету, и подобно Адеилу он пойдет за звездою и принесет ее на землю!» И отец спешил объяснить сыну, что свет, конечно, хорош, но безумно пытаться низвести его на землю. Были такие безумцы и они бесславно погибли, не принесши пользы для жизни.
Этому же учили людей жрецы. Это же доказывали ученые. Но напрасно звучали их проповеди. То и дело разносилась весть, что некий юноша или девушка ушли из родного гнезда. Куда? Не по пути ли, указанному Адеилом? И с ужасом чувствовали люди, что если опять засияет на земле свет, то придется волею-неволею взяться наконец за громадную работу, и нельзя будет отойти от нее никуда.
Со смутным беспокойством вглядывались они в черную даль. И казалось им, что над краем земли уже начинает мелькать трепещущий отсвет приближающихся звезд.
Перед завесою
[текст отсутствует]
Два конца
I. Конец Андрея Ивановича
I
Был вечер субботы. Переплетный подмастерье Андрей Иванович Колосов, в туфлях и без сюртука, сидел за столом и быстро шерфовал куски красного сафьяна. Его жена, Александра Михайловна, клеила на комоде гильзы для переплетов. Андрей Иванович уж пять дней не ходил в мастерскую: у него отекли ноги, появилась одышка, и обычный кашель стал сильнее. Все эти дни он мрачно лежал в постели, пил дигиталис и придирался к Александре Михайловне. Сегодня отеки совершенно спали, и Андрей Иванович почувствовал себя настолько лучше, что принялся за работу, которую взял с собою из мастерской на дом.
Александра Михайловна с утра зорко следила за его настроением: ей нужно было иметь с ним один важный разговор, и она выжидала для этого благоприятного случая; все время она была очень предупредительна к Андрею Ивановичу, старалась предугадать его малейшее желание.
В комнату вошла шестилетняя Зина, дочь Колосовых, в накинутом на голову большом материном платке. Она передала матери полубутылку коньяку.
— Хозяин велел сказать, что в последний раз дает в долг, — шепотом сказала она, робко косясь на спину Андрея Ивановича.
Александра Михайловна мигнула ей, чтоб она молчала, и стала накрывать на стол. Достала остатки обеда, подала самовар и заварила чай.
— Ну, Андрюша, довольно работать! Иди ужинать.
Александра Михайловна подошла к Андрею Ивановичу и, поколебавшись, поцеловала его в голову: она не была уверена, в настолько ли хорошем расположении Андрей Иванович, чтобы позволить ей это.
Андрей Иванович терпеливо снес поцелуй и пересел к столу. Увидев коньяк, он просиял.
— Вот спасибо, Шурочка, что припасла, — с умилением произнес он. — Недурно коньячку теперь выпить.
Андрей Иванович опрокинул в рот рюмку, с наслаждением крякнул и взял кусок солонины.
— Э-эх! Ей-богу, как выпьешь рюмочку, то как будто душа в раю находится… Дай-ка хрену!
Они стали ужинать. Зина ела молча; когда Андрей Иванович обращался к ней с вопросом, она вспыхивала и спешила ответить, робко и растерянно глядя на отца: вчера Андрей Иванович жестоко высек Зину за то, что она до восьми часов вечера бегала по двору. Вчера всем досталось от Андрея Ивановича: жене он швырнул в лицо сапогом, квартирную хозяйку обругал; теперь он чувствовал себя виноватым и был особенно мягок и ласков.
— Что же это Ляхов не идет? — спросила Александра Михайловна. — Обещал сейчас же с получки деньги занести, а до сих пор нет.
— Ну, где же сразу! Раньше в «Сербию» нужно зайти, выпить. Ему порядок известен.
Пришла от всенощной квартирная хозяйка. Соседка Колосовых, папиросница Елизавета Алексеевна, воротилась с фабрики. Сквозь тонкую дощатую стену слышно было, как она переодевалась.
— Александра Михайловна, можно у вас кипятку раздобыться? — спросила она сквозь стену.
— Пожалуйста, Лизавета Алексеевна!
В комнату вошла невысокая девушка с очень бледным лицом и строгими, неулыбающимися глазами.
Андрей Иванович конфузливо поздоровался. Елизавета Алексеевна сурово пожала его руку и, отвернувшись, заговорила с Александрой Михайловной. Андрей Иванович чувствовал себя неловко: Елизавета Алексеевна была вчера дома, когда он бросил в Александру Михайловну сапогом.
— Вы бы, Лизавета Алексеевна, напились чаю с нами, — сказал он. — Что вам там одним пить.
— Спасибо. Мне еще к завтраму сочинение нужно писать.
— Ну, что сочинение! Напьетесь и сядете писать.
— Я вместе с чаем буду писать. — Елизавета Алексеевна налила в чайник кипятку. — Как ваше здоровье? — спросила она, не глядя на Андрея Ивановича.
— Слава богу, поправляюсь. Хочу в мастерскую идти. В понедельник — сретенье, во вторник, значит, и пойду. Пора, а то все лежу… Вот и жена всякое уважение теряет: сейчас в макушку меня поцеловала, как вам это нравится!
— Это я люблю тебя, — улыбнулась Александра Михайловна.
— А я остался недоволен. Что же это такое, если жена мужа в макушку целует? Это значит — жена выше мужа; ну, а это власть вполне неуместная, хе-хе!
Елизавета Алексеевна ушла, Андрей Иванович потянулся.
— Поработаю еще немножко, пока Ляхов придет. Ты не убирай самовара.
Он сел к столу, поточил нож о литографский камень и снова взялся за работу. Александра Михайловна подсела к столу с другой стороны и стала резать бумагу для гильз. Помолчав, она заговорила:
— К Корытовым в угол новая жиличка въехала. Жена конторщика. Конторщик под Новый год помер, она с тремя ребятами осталась. То-то бедность! Мебель, одежду — все заложили, ничего не осталось. Ходит на водочный завод бутылки полоскать, сорок копеек получает в день. Ребята рваные, голодные, сама отрепанная.
Александра Михайловна украдкою взглянула на Андрея Ивановича. Андрей Иванович недовольно сдвинул брови: по тону Александры Михайловны он сразу заметил, что у нее есть какая-то задняя мысль.
Она продолжала:
— Говорит мне: то-то дура я была! Замужем жила, ни о чем не думала. Ничего я не умею, ничему не учена… Как жить теперь? Хорошо бы кройке научиться, — на Вознесенском пятнадцать рублей берут за обучение, в три месяца обучают. С кройкой всегда деньги заработаешь. А где теперь учиться? О том только и думаешь, чтоб с голоду не помереть.
Андрей Иванович с усмешкою спросил:
— Тебе-то какая печаль? Все сплетни в домах знаешь, кто что делает. Настоящая гаванская чиновница! Видно, самой делать нечего.
— «Какая печаль»… Будет печаль, как самой придется бутылки полоскать, — сказала Александра Михайловна, понизив голос.
Андрей Иванович выдохнул воздух через ноздри и взглянул на Александру Михайловну.
— Послушай, Саша, опять ты этот разговор заводишь? — угрожающе произнес он. — Я тебе уж раз сказал, чтоб ты не смела со мной об этом говорить. Я это запретил тебе, понимаешь ты это или нет?
— Андрюша, ну ты подумай же сам! Ты вот все хвораешь, — ведь неровен час, все может случиться. Куда я тогда денусь и что стану с ребенком делать?
— Ах, оставь ты, пожалуйста, свои глупости! Ты все хочешь доказать, что у меня чахотка. Никакой у меня чахотки нет, просто хроническое воспаление легких, мне сам доктор сказал. Вот придет лето, поживу в Лесном, и все пройдет.
— Так почему же мне все-таки не поучиться, пока есть время?
— Потому, что твое дело хозяйство. У тебя и так все не в порядке; посмотри, какой самовар грязный, посмотри, какая пыль везде. Словно в свином хлеве живем, как мужики! Ты лучше бы вот за этим смотрела!
Александра Михайловна замолчала. Андрей Иванович, сердито нахмурившись, продолжал шерфовать. Его огромная, всклокоченная голова с впалыми щеками мерно двигалась взад и вперед, лезвие ножа быстро скользило по камню, ровно спуская края сафьяна.
— Тебе же бы от этого помощь была, — снова заговорила Александра Михайловна. — Ты вот все меньше зарабатываешь: раньше семьдесят — восемьдесят рублей получал, а нынче хорошо, как сорок придется в месяц, да и то, когда не хвораешь; а теперь и совсем пустяки приносишь; хозяин вон вперед уж и давать перестал, а мы и в лавочку на книжку задолжали, и за квартиру второй месяц не платим; погребщик сегодня сказал, что больше в долг не будет отпускать. А тогда бы все-таки помощь была тебе.
— Саша! Ради бога, оставь, ты говорить о том, чего не понимаешь, — сказал Андрей Иванович, стараясь сдержаться. — Я работаю с утра до вечера, содержу тебя, — могу же я иметь хоть то удовольствие, чтоб обо мне заботились! Я хочу, чтоб у меня дома был обед, чтоб мне давали с собой готовый фрыштик. А твои гроши никому не нужны, и я без тебя обойдусь. Ты прежде всего должна быть порядочной женщиной; а если женщина поступает в работу, то ей приходится забыть свой стыд и стать развратной, иначе она ничего не заработает. Ты этого не знаешь, а я довольно насмотрелся в мастерской на девушек и очень много понимаю.
— А вот Елизавета Алексеевна ведь тоже работает.
— Елизавета Алексеевна не тебе чета.
— Так позволь мне хоть в воскресную школу с нею ходить: я еле писать умею. Ум никогда не помешает.
— Тебе ум будет только мешать, — сердито сказал Андрей Иванович.
— Ум никогда никому не может мешать, — упрямо возразила Александра Михайловна.
— Саша, ну я, наконец… прошу! — грозно и выразительно произнес Андрей Иванович. — Замолчи, ради бога! Что-то ты уж и теперь больно умна стала.
Александра Михайловна заволновалась и быстро заговорила:
— А вон прошлое воскресенье ты весь день с каким-то оборванцем пропутался. По всему видно — жулик, ночлежник, а ты ему пальто отдал.
Андрей Иванович с презрением следил за логическими скачками Александры Михайловны.
— «Жулик»! Который человек беден, тот и называется жулик. А пальто мне не нужно, потому что у меня другое есть, новое.
— Можно было татарину продать; полтора рубля дал бы, а то и два. Нам деньги самим нужны.
— Ты все ценишь на деньги. Деньги — вздор, хлам! Ты говоришь о деньгах, а я говорю о человеке, о честности. Ты одно, а я другое. Он — бывший переплетчик, значит мой товарищ, а товарищу я всегда отдам последнее.
— Он все равно пропьет пальто.
— Это тебе неизвестно. Мы только с тобою — хорошие люди, а все остальные — жулики, дрянь!
— Ты вот все разным оборванцам отдаешь…
Андрей Иванович грозно крикнул:
— Да замолчишь ли ты, наконец?! Чучело!
— Работать ты мне не позволяешь, а сам о нас не заботишься. Смотри, — у ребенка совсем калоши продырявились, а погода мокрая, тает; шубенка вся в лохмотьях, как у нищей; стыдно на двор выпустить девочку.
Андрей Иванович положил нож, скрестил руки на груди и стал слушать Александру Михайловну.
— Тогда бы ты уж должен больше о нас заботиться… На черный день у нас ничего нету. Вон, когда ты у Гебгарда разбил хозяйской кошке голову, сколько ты? — всего два месяца пробыл без работы, и то чуть мы с голоду не перемерли. Заболеешь ты, помрешь, — что мы станем делать? Мне что, мне-то все равно, а за что Зине пропадать? Ты только о своем удовольствии думаешь, а до нас тебе дела нет. Товарищу ты последний двугривенный отдашь, а мы хоть по миру иди; тебе все равно!
Александра Михайловна вдруг оборвала себя. Андрей Иванович смотрел тяжелым, неподвижным взглядом, в его зрачках горело то дикое бешенство, перед которым Александра Михайловна всегда испытывала прямо суеверный ужас.
— Я тебе говорю, чтобы ты мне никогда не смела говорить того, что ты мне сейчас сказала, — сдавленным голосом произнес Андрей Иванович. — Я это запрещаю тебе!!! — вдруг рявкнул он и бешено ударил кулаком по столу. — Погань ты этакая! От чьих трудов ты такая гладкая и румяная стала? Я для вас надрываюсь над работою, а ты решаешься сказать, что я о вас не думаю, что мне все равно?
Александра Михайловна была бледна. В ее красивых глазах мелькнуло что-то тупое, упрямое и злобное.
— А зачем же ты тогда…
— Молчать!!! — гаркнул Андрей Иванович и вскочил на ноги. Он быстро оглядел стол, ища, чем бы запустить в Александру Михайловну.
В дверь раздался стук. Елизавета Алексеевна приотворила дверь.
— Александра Михайловна, можно у вас еще кипятку взять?
— Пожалуйста, Лизавета Алексеевна, — обычным голосом ответила Александра Михайловна.
Андрей Иванович загородил собою дверь.
— Кипятку нет, самовар остыл.
Елизавета Алексеевна вспыхнула.
— Простите! — И она закрыла дверь.
Андрей Иванович, стиснув зубы, молча заходил по комнате.
— Что у тебя до сих пор Зина не уложена? — грубо сказал он. — Уже одиннадцатый час. Убери самовар. Ляхов не придет.
Андрей Иванович сел к столу и налил себе коньяку. Выпил рюмку, потом другую. Александра Михайловна видела, что он делает это назло ей, так как она уговаривала его не пить много. Если он теперь напьется, ей несдобровать.
Она молча уложила Зину, убрала самовар. Потом тихо, стараясь не шуметь, разделась и легла на двуспальную кровать, лицом к стене.
Андрей Иванович сидел у стола, положив кудлатую голову на руку и устремив блестящие глаза в окно. Он был поражен настойчивостью Александры Михайловны: раньше она никогда не посмела бы спорить с ним так упорно; она пытается уйти из-под его власти, и он знает, чье тут влияние; но это ей не удастся, и он сумеет удержать Александру Михайловну в повиновении. Однако, чтоб не давать ей вперед почвы для попреков, Андрей Иванович решил, что с этого дня постарается как можно меньше тратить на самого себя.
Небольшая лампа с надтреснутым колпаком слабо освещала коричневую ситцевую занавеску с выцветшими разводами; на полу валялись шагреневые и сафьянные обрезки. В квартире все спали, только в комнате Елизаветы Алексеевны горел свет и слышался шелест бумаги. Андрей Иванович разделся и лег, но заснуть долго не мог. Он кашлял долгим, надрывающим кашлем, и ему казалось, что с этим кашлем вывернутся все его внутренности.
II
Ляхов явился на следующий день после обеда.
Андрей Иванович лежал на кровати злой и молчаливый: Александра Михайловна подала к обеду только три ломтика вчерашней солонины; когда Андрей Иванович спросил еще чего-нибудь, она вызывающе ответила, что больше ничего нет, так как нигде не верят в долг; это была чистейшая выдумка — при желании всегда можно было достать. Андрей Иванович ничего не сказал, но запомнил себе дерзость Александры Михайловны.
Ляхов пришел немного навеселе. Это был стройный и сильный парень, с мускулистым затылком и беспечным, удалым взглядом. Нос его был залеплен поперек кусочком пластыря.
— Василий Васильевич, что это? Где вы себе нос ушибли? — встретила его Александра Михайловна, скрывая улыбку.
Ляхов поздоровался и потрогал указательным пальцем пластырь.
— Это у меня вчера на Тучковом мосту с одной барышней недоразумение вышло. — Он поднял брови и почесал затылок.
Оживившийся Андрей Иванович спустил ноги и сел на кровати.
— Недоразумение!.. — засмеялся он.
— Действием! Недоразумение действием, — пояснил Ляхов. — Увязался за нею, стал ей комплименты говорить… А она…
— Ай-ай-ай! — Александра Михайловна смеялась и качала головою. — Погодите, вот увижу Катерину Андреевну, я ей расскажу, что вы вчера на Тучковом мосту делали.
Катерина Андреевна, работница картонажной мастерской, была сожительница Ляхова.
— Ну что, как здоровье твое? — обратился Ляхов к Андрею Ивановичу, став серьезным.
— Поправляюсь понемножку. После сретенья выйду на работу. Что в мастерской у нас хорошенького?
Ляхов неохотно ответил:
— Что хорошенького! Все то же!.. Деньги принес тебе.
Он достал из кошелька четыре рубля пятьдесят копеек и подал Андрею Ивановичу.
— Ни копейки вперед не дает хозяин. Мы уж с Ермолаевым поругались с ним за тебя… Уперся: нет! Такой жох.
Андрей Иванович пересчитал деньги и сумрачно сунул их в карман жилетки. Ляхов быстро спросил:
— Тебе, Андрей, деньжат не нужно ли? У меня есть.
— Ну, вот еще! Нет, мне не нужно, — поспешно и беззаботно ответил Андрей Иванович. — Что ж, в «Сербию», что ли, пойдем?
Он отозвал Александру Михайловну в кухню, отдал ей четыре рубля, а себе оставил пятьдесят копеек.
— Андрюша, ты бы лучше не ходил, — просительно сказала Александра Михайловна. — Ведь тебе нельзя пить, доктор запретил!
— Это ты меня, что ли, учить будешь, как я обязан поступать? — злобно ответил Андрей Иванович и воротился к Ляхову.
В «Сербии», по случаю праздника, было людно и шумно. Половые шныряли среди столов, из «чистого» отделения неслись звуки органа, гремевшего марш тореадоров из «Кармен», ярко освещенный буфет глядел уютно и приветливо.
У Андрея Ивановича сразу стало весело на душе. Целую неделю он провел дома, в опротивевшей обстановке, в мелких и злобных дрязгах с Александрой Михайловной. Теперь от шумной веселой толпы, от всей любимой, привычной атмосферы «Сербии» на него пахнуло волею и простором.
Андрей Иванович и Ляхов прошли в заднюю комнату, где всегда можно было встретить знакомых. Они сели к столику около камина, украшенного большим тусклым зеркалом в позолоченной раме, и заказали полдюжины портеру.
Ляхов рассказывал о своем вчерашнем романе на Тучковом мосту. Подошел знакомый артельщик, Иван Иванович Арсентьев, солидный человек с цыганским лицом и с зонтиком; Андрей Иванович усадил его к своему столу.
— Да мне собственно уж идти пора, — возражал Арсентьев.
— Ну, ну, пустяки какие! Выпьете стаканчик портеру и пойдете. За ваше здоровье!
Они чокнулись втроем и выпили. Андрей Иванович сейчас же снова налил стаканы.
— Что это, никак у тебя новая палка? — обратился он к Ляхову. — С обновочкой! Покажи-ка!
— Палочка, брат… сенаторская! — с гордостью ответил Ляхов. Он поднял палку, с силою махнул ею в воздухе. Палка была крепкая и гладкая, с массивной головкой, вся из черного дерева.
Андрею Ивановичу она очень понравилась; он любил хорошие вещи.
— Хороша палочка! Дай, поправлюсь немножко, обязательно заведу такую… А-а, Муравейчик, здравствуй! — вдруг рассмеялся Андрей Иванович. — Куда бежишь? Садись с нами, выпьем, — расходы пополам!
«Муравейчик» — молодой переплетный подмастерье Картавцов — торопливо проходил через комнату, держа под мышкой две бутылки пива.
— Не могу, Андрей Иванович, гости дома, — ответил он поспешно.
Андрей Иванович, смеясь, оглядывал приземистую фигуру Картавцова с выгнутыми ногами и круглой стриженой головой на короткой шее.
— Ну, ну, какие там гости, все ты врешь! «Гости»!.. Кто же для гостей две бутылки ставит?.. Придет он домой, — обратился Андрей Иванович к Арсеньеву, — запрутся вдвоем с женою и выпьют пиво, вот им и праздник!
— Ей-богу, Андрей Иванович, тетка из Твери приехала, — скороговоркой произнес Картавцов и поспешил к выходу, переваливаясь на ходу и шевеля лопатками.
Ляхов вдогонку крикнул:
— Ты бы для тетки-то на третью бутылку раскошелился!
— Ей-богу, чудачок! — засмеялся Андрей Иванович, обратившись к Арсентьеву. — Я его Муравейчиком называю. Никогда ни копейки не поставит на угощение! Работает, работает, суетится, — в субботу всю получку домой несет. Жена у него такая же — коротенькая, крепкая, тоже у нас работает в мастерской… Принесут домой деньги — считают, рассчитывают: это вот на керосин, это на сахар, это в сберегательную кассу… Настоящие немцы! Кто заболеет из товарищей или помрет, — подойдешь к нему с подписным листом… «Я… я потом!» — и убежит; а потом в самом конце листа мелко-мелко напишет: «Григорий Картавцов — десять копеек»… Вот Васька, он у нас молодчина! — сказал Андрей Иванович и хлопнул Ляхова по коленке. — Ни над чем для товарища не задумается… Будь здоров, Васька! За товарищество!
Они выпили уже по четыре стакана. У Андрея Ивановича слегка затуманилось в голове и на душе стало тепло. Он с довольной улыбкой оглядывал посетителей, и все казались ему приятными и симпатичными.
В дверях показался невысокий, худощавый человек с испитым, развязным лицом и рыжеватыми, торчащими усами; картуз у него был на затылке, пальто внакидку; под мышкой он держал цитру в холщовом мешке. Вошедший остановился на пороге и, посвистывая сквозь зубы, оглядел комнату.
— Сенька! — окликнул его Андрей Иванович. — Иди скорее к нам! Вот нам кого не хватало! Иди, садись!.. Это, господа, Захаров, бывший переплетчик. Он нам такую музыку изобразит на цитре! И сыграет, и споет — все вместе… Голубчик, как я рад! Садись! — повторял Андрей Иванович и тряс руку Захарова.
Захаров положил мешок под стул, сел и уперся руками в колени. Ляхов встрепенулся и щелкнул пальцами.
— Эге! На цитре играете? Тащите цитру!
— Да неохота чтой-то играть, — ответил Захаров и предупредительно принял из рук Андрея Ивановича стакан портера.
— Ну, неохота! Всячески ты же нам должен сыграть… Пей, пей раньше!
Андрей Иванович ужасно обрадовался Захарову: это был тот самый «оборванец», которому Андрей Иванович подарил пальто и который, по уверению Александры Михайловны, обязательно должен был его пропить; между тем пальто было на нем.
— Чего там — «неохота»!.. Валяй!..
Ляхов вытаращил глаза и, размахивая рукою, запел басом:
Давно готова лодка, Давно я жду тебя…Захаров отнекивался. Только после долгих упрашиваний он вынул цитру и, разложив на столе, стал настраивать. Арсентьев, солидно опершись на зонтик, брезгливо оглядывал его отрепанный пиджачишко и дырявые штиблеты.
Захаров взял несколько аккордов, тряхнул волосами, закинул голову и запел тонким, очень громким фальцетом:
Смотря на луч пурпурного заката, Стояли мы на берегу Невы…Взгляды присутствующих обратились на него. Захаров пел с чувствительным дрожанием и медленно поводил закинутою головою. Подошел отставной чиновник, худой, с жидкой бородкою и красными, мягко смотрящими глазами. Он умиленно сказал:
— Как ты, милый мой, славно играешь! Ну-ка, вот тебе на струны!
Чиновник протянул пятиалтынный. Захаров кивнул головою, сунул монету в жилетный карман и залился еще слаще:
До гроба вы клялись любить поэта… Страшась людей, боясь людской молвы, Вы не исполнили священного обета, Свою любовь, — и ту забыли вы…Чиновник слушал и оглядывал окружающих влажными, умиленными глазами.
— Самодельный инструмент-то! — обратился он к Андрею Ивановичу.
Андрей Иванович с гордостью ответил:
— Он у нас на все руки мастер… Садитесь, пожалуйста, к нам, — что же вам стоять!
Чиновник переставил на их стол бутылку с пивом и сел.
— А ну-ка, милый мой, сыграй «Выйду ль я на реченьку» — национальную!.. Знаешь? — сказал он Захарову.
— Извините, этой не знаю. «По улице мостовой» могу.
Захаров выпил стакан портеру, рванул струны — они заныли, зазвенели, и задорно-веселая песня полилась. Чиновник раскачивал в такт головою, моргал и с блаженной улыбкою оглядывал слушателей. Ляхов поднялся с места и, подперев бока, притоптывал ногами.
Подошла пожилая женщина в длинной, поношенной тальме и в платочке.
— Какая у вас прелестная музыка! Вы мне позволите послушать?
У нее было круглое и довольно еще миловидное лицо, но у углов глаз было много морщинок. Она держалась жеманно и разыгрывала даму. Это была фальцовщица из той же мастерской, где работали Андрей Иванович и Ляхов.
Красавица ты моя,
Есть словечко до тебя! — пропел Ляхов и схватил ее сзади за талию. Он сел к столу и посадил фальцовщицу к себе на колени.
— Тебя Авдотьей Ивановной, что ли, звать? Ну-ка, Авдотья Ивановна, опрокинем по бокальчику!
Авдотья Ивановна, жеманясь, возразила:
— Ах, нет, я не для этого! Я только к тому, что какая у вас прекрасная музыка.
Портер, однако, выпила.
— Конфетка ты моя!.. Зазнобушка! — ломался Ляхов и крепко прижимал ее к себе.
Захаров вдруг запел невероятно циничную песню, от которой покраснел бы ломовой извозчик, с припевом:
Амигдон, Амигдон! Амигдон-мигдон-мигдон!Он пел под общий хохот, топорщил усы и выкатывал глаза на Авдотью Ивановну. Та слушала с широкой улыбкой, неподвижно глядя ему в глаза, и медленно моргала.
К ней подошел половой.
— Позвольте деньги за пиво!
— За какое пиво? — растягивая слова, спросила фальцовщица. — Что ты, дурак, пристаешь? Принеси сюда мое пиво.
— Пиво выпито-с, нужно деньги заплатить.
— Что тебе надо? — Авдотья Ивановна ждала, чтобы Ляхов взял ее пиво на свой счет. — Болван! Никакого не понимает обращения. На!..
Она встала, достала из кармана восемь копеек и бросила половому. Когда Авдотья Ивановна снова хотела сесть, Ляхов неожиданно выдернул из-под нее стул, и она упала.
— Ну, что вы шутите? — проговорила фальцовщица, поднимаясь.
Ляхов схватил ее сзади под мышки, поднял три раза на воздух и повалил лицом на Арсентьева. Арсентьев недовольно отстранился. Андрей Иванович с отвращением следил за фальцовщицей. Он грубо сказал:
— Слушай, Васька, можно бы ее убрать отсюда! Ей в нашей компании совсем не место!
— Любовь-то мою убрать?! Как же это можно? Я без нее с тоски иссохну!.. Дунька, садись!
Ляхов снова посадил ее к себе на колени.
— Вот еще выпьем с тобой по стаканчику и пойдем! К тебе, что ль, пойдем? Одна живешь? — спрашивал он, нисколько не понижая голоса. — Пойдем мы с тобою, дверь на клю-уч…
Авдотья Ивановна как будто не слышала циничных мерзостей, которые ей говорил Ляхов.
— Какая у вас прекрасная музыка! Будьте столь любезны, сыграйте нам еще что-нибудь хорошенькое! — обратилась она к Захарову.
Тот ответил ей грязною остротою. Андрей Иванович сидел темнее ночи. Остальные смеялись.
Захаров снова заиграл на цитре и тонким фальцетом запел «Маргариту».
Мар-га-рита, пой и веселися, Мар-га-рита, смейся и резвися, Мар-га-рита, все мои мечты, Чтобы дверь открыла, рыла, рыло ты!Ляхов вскочил, заложил большие пальцы за жилетку и начал перебирать ногами, поводя и подрагивая задом.
За соседним столом сидели за водкою два дворника. Один из них, с рыжей бородою и выпученными глазами, был сильно пьян. Заслышав музыку, он поднялся и стал плясать, подогнув колени и согнувшись в дугу. Плясал не в такт, щелкал пальцами и припевал:
Гуляю день, гуляю ночь, Гуляю всю неделюшку, Ах, занимаюсь я гульбой!..— Садись на место! Ишь, заплясал, — засмеялся его сосед и насильно усадил рыжебородого дворника на стул. — Не для нас с тобой музыка заказана.
Дворник злобно таращил глаза на канканировавшего Ляхова.
— Дурак этакий! Плясать взялся! Нешто так нужно плясать? Архаровец!
Ляхов крикнул:
— Ты что, утопленник, заговорил? Сиди да лакай водку! — Кругом хохотали. Дворник озлился.
— Утопленник? Я тебе сейчас покажу утопленника!
— Я, брат, с живыми людьми рад говорить, а с утопленником — извини, не могу.
— Залепил нос себе, сукин сын! Я тебе шейного пластыря наклею!
— Молчи, утопленник ладожский!
Дворник рванулся со стула. Ляхов, бледный, с весело смеющимися глазами, стоял и ждал.
Сосед обнял дворника за плечи и усадил на место.
Ляхов воротился к своим. На его стуле сидела Авдотья Ивановна и со своею широкою улыбкой, словно не понимая, слушала цинические издевательства Захарова. Ляхов вдруг увидел, какое у нее поблекшее, морщинистое лицо, какая некрасивая, растерянная улыбка… Он зашел сзади, поднял на стуле фальцовщицу и изо всей силы швырнул ее вместе со стулом к выходной двери. Авдотья Ивановна ударилась грудью в спинку стула, на котором сидел рыжебородый дворник, и оба они, вместе со стульями, повалились в кучу.
Зазвенели и раскатились по полу упавшие бутылки. Вбежали половые, фальцовщица хрипло крикнула:
— Городовой!
Ляхов, хохоча про себя, поспешно сел к столу и стал пить пиво.
Дворник, путаясь в юбках Авдотьи Ивановны, в бешенстве вскочил и бросился ее бить. Его с трудом оттащили. Авдотья Ивановна несколько раз пробовала встать, но не могла: она наступала на свои юбки и тальму, может быть, была пьяна. Половые подняли ее и вытолкали на улицу.
У чиновника покраснел нос, он жалобно заморгал глазами.
— Женщину! — произнес он, качая головою. — За что он так с женщиной поступил? — обратился он к Андрею Ивановичу. — Силу показал над кем!
— Гр-рязь этакая! Ее давно следовало вышвырнуть вон! — ответил Андрей Иванович.
Чиновник грустно сказал:
— Нет, это не годится! Я люблю веселость и спокойный характер, а к чему обижать людей?
— Ей тут было не место! Ну, скажите, пожалуйста, разве может порядочная женщина слушать такие песни? Она должна покраснеть и уйти, а эта сидит, пялит глаза: «Ах-х, какая у вас прекрасная музыка!» Это неприлично для женщины, раз она не публичная женщина.
— Нет, я люблю веселость и спокойный характер, — грустно повторял чиновник.
— Всячески же ее присутствие тут было неблаговидно, — поддержал Андрея Ивановича Арсентьев.
Захаров засмеялся.
— В гнилой трубе две трубы! Настоящая ассенизация!
— Ну, черт с нею! — сказал Андрей Иванович. — Еще разговаривать об ней! Плюньте вы на нее! — обратился он к чиновнику. — Выпьем лучше с вами! а?
Фальцовщица исчезла, и к Андрею Ивановичу воротилось хорошее расположение духа. Он заказал водку и солянку.
Ляхов взял руку Захарова и с размаху хлопнул ладонью по его ладони.
— Молодчина, Сенька, ей-богу! Ловко играешь, сукин ты сын этакий! Ну-ка, хлопнем!
— Будьте здоровы! — ответил Захаров, чокаясь. Он опрокинул в рот рюмку водки и молодцевато провел рукою по волосам. — Вы знаете, как сказано в поэзии: «Лови, лови часы любви, минуты наслажденья…» Вы не смотрите, что это пустяковина; это не зря сказано… Кинарейку поймай-ка! Другой ее этак — цоп! Разве можно так? Нужно брать тонко!..
Чиновник отошел от них. Он стоял у соседнего стола, качал головой и говорил сидевшим за пивом трем наборщикам:
— Я люблю веселость и спокойный нрав… А за что же женщину бить? Разве это благородно?
III
Народу все прибывало. Лампы-молнии с хрустальными подвесками тускло освещали потные головы и грязные, измазанные горчицею скатерти. Из кухни тянуло запахом подгорелого масла и жареной рыбы. В спертом, накуренном воздухе носились песни, гам и ругательства.
Андрей Иванович пил рюмку за рюмкой. В душе было горячо, хотелось всех любить, хотелось сплотить всех вокруг себя и говорить что-нибудь хорошее, сильное и важное. Полбутылка портера, которую половой, откупорив, заткнул пробкою, согрелась, и пробка с выстрелом вылетела из горлышка; пена брызнула в стороны, пробка ударилась в низкий потолок и упала на сидевшего за соседним столом наборщика.
Наборщик, бледный молодой человек, с очень высоким узким лбом, — сердито оглянулся.
— Послушайте, я вас попрошу поосторожнее! — угрожающе произнес он, отирая голову.
Андрей Иванович добродушно ответил:
— Мы нечаянно, — что там!
— «Поосторожнее»! — передразнил Ляхов. — Ты это портеру говори, а не нам! Объявился с претензиями!
Наборщик медленно повернул к Ляхову свое бледное лицо и молча смотрел на него.
— Поглядел бы раньше, швырял ли в него кто пробкой. Нет, сейчас в амбицию вломился, — «поосторожнее»! Прохвост паршивый!
Андрей Иванович пересел к наборщику.
— Ну что там! Сказано, нечаянно… Чего вы?.. Разве не бывает различных несчастных обстоятельств? Выпьем лучше вместе для знакомства.
Ляхов, развалясь на стуле, говорил:
— Что ж, пойдем из-за полбутылки к мировому!
— «Нечаянно!»… Я рад, — совершенно справедливо! — ответил наборщик Андрею Ивановичу, — но к чему же ругаться, как этот господин?
Андрей Иванович воскликнул:
— Друзья! Выпьем!.. Ну, неужто мы из-за этого станем поднимать скандал? Позвольте спросить, чем вы занимаетесь?
— Наборщики.
— Ну, а мы переплетчики! Все мы трудящие люди, из-за чего же ради мы будем ссориться? Из-за полбутылки портера?.. Друзья, друзья!.. Пойдем, Вася, к ним! — Он потащил Ляхова к наборщикам. — Ну, помиритесь, поцелуйтесь!.. Человек, еще полдюжины портеру!
— Позвольте, почему вы рассердились? — спросил Ляхов, садясь к наборщикам. — Вы должны были раньше поглядеть, отчего случилось дело. А вы сейчас же начинаете ворочать глазами и говорить различные угрожающие выражения.
— Совершенно справедливо! А только для чего вы…
— Нет, позвольте, я вам сейчас все объясню! Мы сидим, портер хлопнул, чем мы виноваты? Вы к бутылке должны были со своим замечанием отнестись, а не к нам…
Андрей Иванович взял провинившуюся бутылку портера.
— Ну, ну, дурак! — И он совал бутылку к губам наборщика. — Мирись сейчас же с бутылкой. Целуйся с ней без разговоров!
— Я рад-с! Очень приятно познакомиться! — Наборщик галантно раскланялся с бутылкой и три раза поцеловал ее накрест.
— Да он с нею уже давно знаком! — сказал его сосед. — Эка, подумаешь, в первый раз знакомится!
Андрей Иванович грозно крикнул половому:
— Гаврюшка! Я тебе сказал, еще полдюжины портера! — Половой подошел.
— Буфетчик не отпускает, Андрей Иванович; с вас и то полтора рубля следует. Потрудитесь раньше заплатить.
— Убирайся к черту! Скажи буфетчику, пусть запишет.
— За вами и то уж шесть рублей записано.
Андрей Иванович сунул руку в карман жилетки, там было всего пятьдесят копеек. Он спросил Ляхова:
— У тебя много, Вася?
Ляхов обшарил карманы и набрал семьдесят копеек. Арсентьев поднялся и протянул руку Андрею Ивановичу.
— До свиданья! Время идти, — сказал он.
Андрей Иванович придержал его руку.
— Слушайте, нет ли у вас до завтра двух целковых?
Лицо Арсентьева сделалось холодным и скучающим.
— Нету при себе, Андрей Иванович! С удовольствием бы.
Андрей Иванович качал головой и с презрением смотрел ему в глаза.
— Ж-жох ты эдакий! Раз что мы угощаем, так разве бы я вам завтра не отдал? Неохота идти сейчас домой за деньгами, только и всего.
Он отвернулся от Арсентьева. Взгляд его упал на Захарова; Андрей Иванович просиял; он подсел к нему на стул и обнял Захарова рукою.
— Вот что, Сенька, слушай! Я сейчас напишу жене записку, а ты сходи и отнеси. Пусть поглядит на тебя, хлындра. Этакие грязные взгляды: зачем, говорит, ты ему пальто отдал. Он его пропьет!.. Пускай посмотрит, пропил ли ты… Я ей напишу, чтоб прислала с тобой два рубля. Ладно, а?
Захаров согласился. Андрей Иванович, шлепая калошами, пошел к буфету, заплатил рубль двадцать копеек и, взяв у буфетчика карандаш, написал на клочке бумаги: «Саша! Пришли немедленно с посланным два рубля: очень необходимо».
Захаров ушел. Подали еще портеру. Андрей Иванович сидел с наборщиками, целовался с ними и ораторствовал:
— Вы трудящие люди, и мы трудящие люди!.. Об вас Некрасов сказал: «Вы все здоровьем хлипки, все зелены лицом!»[16] Почему? Потому что вам приходится дышать свинцовой пылью… Мы — золотообрезчики, мы дышим бумажной пылью… И нам, и вам в чахотке помирать!.. Четыре года назад мой названный брат Фокин просил меня, чтобы я его научил делать золотые обрезы. Я его стал отговаривать, что это вредно для груди. «Ну, говорит, тебе жалко, чтоб я столько же не зарабатывал, как ты». Жалко? О нет, мне не жалко!.. Научил его, а теперь он уж три года, как на Смоленском лежит. Романов сейчас от чахотки помирает. У меня хроническое воспаление легких, скоро тоже чахотка будет… Верно ли?.. Товарищи! И вы, и мы работаем для просвещения! Мы должны друг другу дать руки!
— Вер-рно! — повторял, поникнув головою, бледный наборщик с высоким лбом и стукал стаканом по столу.
Ляхов отстал от компании. Он сидел на другом конце комнаты с нарумяненною девушкою в шляпе с широкими полями и пышными перьями. Вскоре он вместе с нею исчез из «Сербии».
Захаров воротился. Он встряхнулся, словно его сейчас окатили водою, и с размахом швырнул на стол свою фуражку с надорванным козырьком.
— Ффу-фу-фу-фу-фу! Ну, и побывал же я в баньке!
Андрей Иванович спросил:
— Принес?
— Черта с два принес! Не знал, как ноги унесть!
— Почему так?
— Убирайтесь, говорит, вон отсюда!.. Жена-то ваша. Я спрашиваю: Какой же будет ответ? — «Никакого ответа не будет!»
Андрей Иванович с блуждающей улыбкою смотрел на Захарова. Не веря ушам, он медленно переспросил:
— Так и сказала?
— А ты как думал? Так, брат, и отрезала! — иронически подтвердил Захаров; он с чего-то стал говорить Андрею Ивановичу «ты».
Андрей Иванович выпил залпом два стакана портера и вышел из «Сербии».
Шел дождь, ветер бурными порывами дул с моря. На проспекте было пустынно, мокрые панели блестели под фонарями масляным блеском. Андрей Иванович быстро шагал, распахнув пальто навстречу ветру.
IV
После того как Андрей Иванович и Ляхов ушли в «Сербию», Александра Михайловна перемыла посуду, убрала стол и села к окну решать задачу на именованные числа. По воскресеньям Елизавета Алексеевна, воротившись из школы, по просьбе Александры Михайловны, занималась с нею. Правду говоря, большого желания учиться у Александры Михайловны не было; но она училась, потому что училась Елизавета Алексеевна и потому, что учение было для Александры Михайловны запретным плодом.
Она попробовала решить задачу, взглянув предварительно в решения. Ничего не вышло. Александра Михайловна погрызла карандаш, подумала и, отложив задачник, потянулась.
Было скучно. По оконным стеклам текли струи воды, в квартире стояла тишина; Зины не было — она бегала по двору. Александра Михайловна достала из комода деньги, которые ей оставил Андрей Иванович, и стала их распределять, на что их употребить. Два рубля решила отдать хозяйке за квартиру, рубль заплатить по книжке в мелочную лавочку, остальное оставила на расходы. Покончив расчеты, Александра Михайловна спрятала деньги, зевнула и стала ходить по комнате. Из всех углов ползла на нее мертвая, томительная скука, но Александра Михайловна привыкла к ней и мало тяготилась ею.
Сняла кофточку, распустила по белым, полным плечам свою густую косу и стала причесываться перед зеркалом. Сделала себе китайскую прическу, потом греческую, потом начала прикидывать, как бы вышло, если бы подрезать спереди гривку. Александре Михайловне давно хотелось пустить себе на лоб гривку и завивать ее, но Андрей Иванович строго запретил ей это.
Темнело. Александра Михайловна вышла в кухню, к квартирной хозяйке. Старуха хозяйка, Дарья Семеновна, жила в кухне вместе с дочерью Дунькой, глуповатой и румяной девушкой, которая работала на цементном заводе. Они пили кофе, Александра Михайловна подсела к ним, но от предложенного кофе решительно отказалась.
Стали беседовать о вчерашней драке, разыгравшейся на лестнице между живописцем вывесок и пьяным приказчиком. Хозяйка сообщила несколько новых подробностей; она узнала их утром от жены живописца. Но вскоре разговор истощился; вчера они уже часа три говорили об этой драке.
Дарья Семеновна послала Дуньку в лавочку за керосином. Александра Михайловна спохватилась, что Зина до сих пор бегает на дворе. Она попросила Дуньку на обратном пути разыскать Зину и привести домой, а сама пошла к себе.
Походила по комнате, стала напевать шансонетку, которую слышала летом на открытой сцене в Крестовском:
Радость наша — Доктор Яша Воротился из вояжа!..На дворе зажгли фонарь. Тусклый свет лег на потолок около шкапа. На проспекте звенела конка. Александра Михайловна села в кресло и задремала.
Воротилась Дунька и привела с собою Зину. Александра Михайловна, зевая, зажгла лампу. Зина иззябла, руки у нее были красные, ноги мокрые.
…
— Ай! Затопи печку, мама! — крикнула Зина в самый разгар поучений.
— Что ты орешь? — строго заметила Александра Михайловна. — Главное — «ай»! Как будто в самом деле есть чего!.. Не бегала бы по двору до ночи, так и не было бы холодно. На дворе грязь, слякоть, а она бегает.
Смеясь, Зина крикнула еще громче:
— Караул! Холодно!
Александра Михайловна дала ей два шлепка. Зина захныкала.
— Когда тебе говорят, ты должна слушать, а не смеяться!
— Да! Когда мне холодно! — плаксиво возразила Зина.
— Печка топлена, от жары, слава богу, деваться некуда. Поменьше бы бегала по двору, так ничего бы и не было. Вот погоди, воротится отец, я ему расскажу; ты, должно быть, забыла, как он тебя третьего дня отпорол.
В дверях показалась Елизавета Алексеевна, воротившаяся из школы.
— Александра Михайловна, хотите заниматься?
— Да, да, сейчас!
Она суетливо собрала тетрадки, книги и пошла к Елизавете Алексеевне в ее комнату.
Комната Елизаветы Алексеевны была очень маленькая, с окном, выходившим на кирпичную стену. На полочке грудою лежали книги, и среди них желтели обложки сочинений Достоевского и Григоровича — приложений к «Ниве».
Александра Михайловна сказала:
— Задачи у меня не вышли, Лизавета Алексеевна; думала-думала, проверяла-проверяла, — не сходятся с решением! — И она с недоумением пожала полными плечами.
Елизавета Алексеевна стала решать вместе с нею. Они занимались около часу. Елизавета Алексеевна объясняла, сдвинув брови, серьезная и внимательная, с матово-бледным лицом, в котором, казалось, не было ни кровинки. Она была дочерью прядильщицы. Когда Елизавета Алексеевна была ребенком, мать, уходя на работу, поила ее настоем маковых головок, чтоб не плакала; их было шестеро детей, все они перемерли и выжила одна Елизавета Алексеевна.
В комнате Александры Михайловны Зина громко пела в пустую кастрюлю, которую держала перед ртом:
Чудный месяц плывет над рекою, Все спокойно в ночной тишине…Александра Михайловна решила, наконец, обе задачи. Елизавета Алексеевна спросила:
— Ну, что, не соглашается Андрей Иванович пустить вас работать?
— Нет! — вздохнула Александра Михайловна. — Слыхали вчера? Чуть было не избил, что посмела сказать.
— Он хочет, чтоб вы его хлеб ели, — сказала Елизавета Алексеевна, понизив голос.
— Да добро бы еще хлеб-то этот был бы! А то ведь сам все болеет, ничего не зарабатывает; везде в долгу, как в шелку, никто уж больше верить не хочет. А обедать ему давай, чтоб был обед! Где же я возьму? Сам денег не дает и мне работать не позволяет.
— Так чего вам заботиться? Без денег нельзя обеда приготовить, он сам может это понять.
— Он этого не хочет понимать: чтоб был обед, только и всего! Сегодня подала солонины — надулся: ты, говорит, не хочешь постараться… Поди-ка сам, постарайся! Придешь в мелочную, лавочник тебе и не отвечает, словно не слышит; сколько обид наглотаешься, чтоб фунт сахару получить.
— Ни за что бы не стала для него стараться! — воскликнула Елизавета Алексеевна. — Хочет, чтоб вы его хлеб ели — пусть добывает денег!
— У него разговор короток: давай! А не дашь, он себя покажет, каков он есть король.
Александра Михайловна была рада говорить без конца. Андрей Иванович совершенно подчинил себе ее волю, и она не смела при нем пикнуть; теперь она начинала чувствовать себя полноправным человеком. И чем больше она говорила, тем ясней ей становилось, что она права и страдает, а Андрей Иванович тираничен и несправедлив.
Елизавета Алексеевна прошлась по комнате и нервно повела плечами.
— Никогда замуж не пойду!.. Словно ребенок какой, ничего не смей, на все из чужих рук смотри!
— А я рада, что ли, что пошла? Ведь они перед свадьбой всегда прикидываются: говорят, что и любят тебя, и холить будут, и пить-то ничего не пьют…
Александра Михайловна помолчала.
— Вы думаете, ему есть до нас какая-нибудь забота? Ему только товарищи и дороги; последний кусок он отнимет у своей девочки, чтоб отдать товарищу; для товарища он ни над чем не задумается… Пять лет назад его прогнали от Гебгарда, — за что? Товарищ его Петров поставил золотые обрезы просушиваться, а хозяйская кошка чихнула и испортила обрезы. Петров переделал, поставил в книжку за поправку по шесть копеек, — хозяин вычеркнул и написал: «Я не виноват»… Ну, что с хозяином сделаешь? Всегда так было и будет. Поругался про себя Петров, и больше ничего. И дело-то всего в полтиннике было. А мой Андрей Иванович взбеленился: «Это, говорит, он еще слонов у нас тут разведет, — ходить будут по мастерской да чихать во все стороны?.. Не виноват хозяин? Кошка виновата?..» Поймал кошку и разбил ей голову о пресс. А кошка дорогая была, ангорская, пятнадцать рублей стоила… Ну и прогнали его. Что ж хорошего вышло? Два месяца без работы пробыл, совсем обнищали…
Хозяйка заглянула в дверь.
— Михайловна, человек тебя спрашивает.
Александра Михайловна вышла. В кухне стоял человек с рыжеватыми, торчащими, как щетина, усами, в знакомом Александре Михайловне пальто. Это был Захаров. Он галантно расшаркался.
— Записка вам от вашего супруга!
Александра Михайловна прочла записку. У нее опустились руки. Часто дыша, она с негодованием оглядела Захарова.
— Зачем ему нужно два рубля?
— Не знаю-с! Просто просил меня Андрей Иванович принести, а для чего, — положительно не знаю.
— Как вам это нравится, Елизавета Алексеевна?! Пишет, чтоб я ему еще прислала два рубля! Где я их возьму? Ах ты, боже мой, боже мой! а?.. Вы где с ним пьянствуете, в «Сербии»? На коньяк денег не хватило вам? Зачем ему деньги?
Захаров смущенно переминался.
— Окончательно не могу вам этого сказать. А только просил меня Андрей Иванович принести.
— Да кто вы такой?
— Я знакомый его.
— Знакомый? Какой такой знакомый?
— Значит… познакомились с ним, с супругом вашим.
— Хорош знакомый, которого жена в первый раз видит!
— Удивительно, — сконфуженно произнес Захаров.
— А вы меня видали?
— Н-нет.
— Так что же для вас удивительного?
Захаров вздохнул.
— Да на что ему деньги-то нужны, ответьте мне!
— Он мне не сказал, на что. Просто просит вас прислать ему два рубля. «Пусть, говорит, пришлет». Н-ну… Желает, чтобы вы прислали ему два рубля. Вот вам мой короткий ответ.
— Да на что, на что ему?
— Не знаю.
— Как же не знаете? Ведь вы вместе сидите, вместе пьете! На что они ему? Пропить ли, вам ли подарить?.. На что?
— Окончательно ответить вам — не знаю.
— Ну уж, пожалуйста, не врите!
Захаров беспомощно пожал плечами и снова вздохнул.
— Я к вам по его поручению пришел, как посланец, больше ничего! Ничего не знаю, ничего не понимаю. А вы, как Иоанн Грозный, — «В ногу гонца острый конец жезла своего он вонзает»[17].
— Какой Иоанн Грозный? Что вы глупости говорите?.. Кто вы сами-то такой, — я вас не знаю! Ступайте вон отсюдова!
Захаров заморгал глазами.
— Это вы мне намекаете, что я должен удалиться? Какой прикажете дать ответ?
— Никакого ответа не будет!
Александра Михайловна круто повернулась и ушла к Елизавете Алексеевне.
V
Глаза Александры Михайловны блестели, она задыхалась от волнения и сознания отчаянной смелости своего поступка. Елизавета Алексеевна сидела бледная.
— Как вам это понравится! — воскликнула Александра Михайловна. — Дома гроша нет, сам не работает, а пришли ему два рубля с этим оборванцем! Это тот самый оборванец, которому он пальто свое отдал, — я сразу поняла. Мало пальта показалось, еще деньгами хочет его наградить, — богач какой! Пускай свой ребенок с голоду помирает, — оборванцы-пьянчужки ему милее!
Хозяйка, Зина и Дунька вошли в комнату. Дарья Семеновна жалостливо сказала:
— Ну, Михайловна, убьет он теперь тебя до смерти!
— Пускай убивает, мне что!
— Побегу за этим усатым, посмотрю! — Дунька быстро накинула платок и исчезла.
Александра Михайловна гордо и радостно повторила:
— Пускай убивает! Весело мне, что ли, жить? Одни только тычки да колотушки и видишь, словно ребенок малый!.. Жив был отец, — отец тиранил, замуж вышла, — муж.
Елизавета Алексеевна молчала, в волнении кусая губы. Зина, быстро дыша, оглядывала присутствующих и начинала плакать. Хозяйка вздыхала.
— Пойти прибрать в твоей комнате все тяжелое. Пьяный человек, неровен час… Пойдем, Михайловна!
Они отобрали два горшка с геранью, литографский камень, ножи и все отнесли в кухню. Испуг окружающих передался Александре Михайловне. Она все больше падала духом.
Вошла Елизавета Алексеевна и решительно сказала:
— Слушайте, Александра Михайловна, уходите с Зиной со двора! Я ему скажу, что вас нет дома.
— Нет, что уж! — апатично ответила Александра Михайловна. — Он тогда со злобы все у нас перебьет, порвет, ни одной тряпки не оставит. Все равно уж!.. А вот я вас хотела просить, Лизавета Алексеевна, — возьмите Зину к себе; а то он, чтоб мне назло сделать, начнет ее сечь, изувечит ребенка.
В квартиру, как вихрь, влетела Дунька.
— Идет Андрей Иванович! — крикнула она, задыхаясь. — Пьяный-пьяный! Шатается и под нос себе лопочет! Уж с пришпехта повернул… Ой, боюсь!
Все засуетились. Зина заплакала.
— Иди, Зина, к Лизавете Алексеевне, — поспешно сказала Александра Михайловна.
— Идите вы тоже ко мне! — резко проговорила Елизавета Алексеевна. — Он ко мне постесняется войти.
Александра Михайловна испуганно твердила:
— Нет, нет! Ради бога, голубушка, идите с Зиной и не показывайтесь! Увидит вас, еще больше обозлится. Он мне и так утром говорил, что это вы меня подучаете его не слушаться.
Елизавета Алексеевна увела Зину к себе. Перепуганная Дунька пошла вместе с ними.
— Ты-то чего, дура, боишься? — презрительно сказала Елизавета Алексеевна. — Тебя он не смеет трогать.
— Голубушка, Лизавета Алексеевна, боюсь, — повторяла Дунька, дрожа.
Властно и громко зазвенел звонок. Хозяйка отперла. Слышно было, как Андрей Иванович вошел к себе в комнату и запер за собою дверь на задвижку.
— Давай деньги! — хрипло произнес он.
В комоде поспешно щелкнул замок. Александра Михайловна послушно достала деньги и отдала Андрею Ивановичу.
— Еще! — отрывисто сказал он. — Все деньги давай! Четыре рубля!
Александра Михайловна робко возразила:
— Андрюша, я два рубля уже истра…
Раздался звук пощечины и вслед за ним короткий, всхлипывающий вздох Александры Михайловны. Зина сидела на постели Елизаветы Алексеевны и чутко прислушивалась; она рванулась и заплакала. Елизавета Алексеевна, бледная, с дрожащими губами, удержала ее.
За стеною слышалась молчаливая возня и сдержанное всхлипыванье. Зина, дрожа, смотрела блестящими глазами в окно и бессознательно стонала.
Вдруг Александра Михайловна крикнула:
— Андрей, пусти!!! Я сейчас… посмотрю…
За стеною стало тихо.
— Нашла! — иронически протянул Андрей Иванович.
Он стал пересчитывать деньги. Зина дрожала еще сильнее, упорно глядела в окно, охала и растирала рукою колени.
— Как ноги больно! — тоскливо сказала она.
Елизавета Алексеевна спросила:
— Отчего у тебя ноги болят?
— У меня всегда ноги болят, когда папа маму бьет, — ответила Зина с блуждающею улыбкою, дрожа и прислушиваясь.
— Ну, а теперь я покажу тебе, как меня перед людями позорить! — сказал Андрей Иванович.
Александра Михайловна пронзительно вскрикнула. За стеною началось что-то дикое. Глухо звучали удары, разбитая посуда звенела, падали стулья, и из шума неслись отрывистые, стонущие рыдания Александры Михайловны, похожие на безумный смех. Несколько раз она пыталась выбежать, но дверь была заперта.
— О-о, господи! — тяжело вздохнула хозяйка на кухне.
— Ай-ай-ай, Лизавета Алексеевна, боюсь! — плакала Дунька, стараясь держаться ближе к Елизавете Алексеевне.
Елизавета Алексеевна бросилась к запертой двери и стала стучать в нее кулаком. Напрягая свой слабый голос, она крикнула:
— Андрей Иванович! Отворите сейчас же, а то я побегу за дворниками!
— Что?! — грозно спросил Андрей Иванович, подходя к двери. — Убирайся к…
Раздался вопль Александры Михайловны и шум упавшего тела.
Елизавета Алексеевна бросилась вниз по лестнице к дежурному дворнику. Дворник, кутаясь в тулуп, сидел на скамейке у ворот. Он равнодушно ответил:
— Я дежурный, не могу от ворот уйти.
Елизавета Алексеевна побежала в дворницкую. У дверей стоял, щелкая подсолнухи, молодой дворник. Узнав, в чем дело, он усмехнулся под нос и моментально исчез где-то за дровами. Сегодня, по случаю праздника, в доме все были пьяны и чуть не из каждой квартиры неслись стоны и крики истязуемых женщин и детей. Наивно было соваться туда.
Елизавета Алексеевна и сама это понимала. Никого ей не дозваться. Она в отчаянии остановилась посреди двора. С крыш капало, от помойной ямы тянуло кислою вонью; за осклизшей деревянной решеткой палисадника бились под ветром оголенные ветки чахлых берез.
Из подъезда выбежал Андрей Иванович, с всклокоченными волосами, в пальто внакидку; глаза его горели. Он быстро прошел к воротам, не заметив Елизаветы Алексеевны. Она поспешила наверх.
Александра Михайловна, с закинутою, мертвенно-неподвижною головою, лежала на кровати. Волосы спутанными космами тянулись по подушке, левый глаз и висок вздулись громадным кровавым волдырем, сквозь разодранное платье виднелось тело. Вокруг суетились хозяйка и Дунька. Зина сидела на сундуке, дрожала, глядела блестящими глазами в окно и по-прежнему слабо стонала, растирая рукою колени.
Александру Михайловну привели в чувство. Хозяйка поставила самовар, Елизавета Алексеевна сбегала в погребок и принесла бутылку рома. Александра Михайловна напилась горячего чаю с ромом и осталась лежать.
Она была вяла и апатична. Тупо оглядывая окружающих, она рассказывала, как бил ее Андрей Иванович, как он впился ей ногтями в нос и рвал его, а другой рукою закручивал волосы, чтоб заставить ее отдать все деньги… Хозяйка вздыхала и жалостливо качала головою. Елизавета Алексеевна, сдвинув брови, мрачно смотрела в угол. Дунька слушала жадно, с блестящими от любопытства глазами, словно ей рассказывали интересную и страшную сказку.
Просидели все вместе с час. Александру Михайловну стало познабливать, она решила лечь спать. Елизавета Алексеевна ушла из дому.
Александра Михайловна разделась, уложила Зину, потушила лампу, но заснуть не могла. Правое бедро, в которое Андрей Иванович ударил ее каблуком, ныло, распухший нос горел. Она лежала на спине, глядела в темноту и думала о своей жизни. Ей вспоминался мрачный, горевший ненавистью взгляд Елизаветы Алексеевны, с каким она слушала рассказ, — и в ней самой разгоралась ненависть. До сих пор Александра Михайловна несла тяжесть своей семейной жизни, как неизлечимую болезнь, от которой можно только страдать. Теперь она думала о том, что эти страдания глупо терпеть и что нужно вырваться из них; она думала и о том, что ее жизнь скучна и сера, а Елизавета Алексеевна живет в какой-то другой жизни, яркой и светлой.
На потолке около шкапа тускло светилось пятно от горевшего на дворе фонаря; порывистый ветер хлестал дождем в окно; телефонные проволоки на крыше гудели однообразно и заунывно, словно отдаленный благовест. В воздухе один за другим глухо прозвучали три пушечных выстрела: начиналось наводнение… Зина, спавшая на сундуке, слабо стонала сквозь сон.
В кухне раздался резкий, громкий звонок. Александра Михайловна быстро села на постели и с бьющимся сердцем стала вслушиваться. Ее взяло отчаяние: опять Андрей Иванович, опять истязания…
Но в кухне послышался женский голос. Дверь открылась, и голос окликнул Александру Михайловну:
— Вы спите? Можно к вам?
Александра Михайловна узнала Катерину Андреевну, коробочницу, сожительницу Ляхова.
— Васька-то мой!.. Ах, негодяй, негодяй! — заговорила Катерина Андреевна, задыхаясь.
— В чем дело, Катерина Андреевна? Что случилось?
Александра Михайловна встала и зажгла лампу. Катерина Андреевна быстро ходила по комнате и повторяла:
— Негодяй, негодяй, мерзавец подлый!
Катерина Андреевна была стройная девушка, с красивым, нервным лицом и большими темно-синими глазами. На ней была изящная черная кофточка и шляпка с перьями…
— Опять что-нибудь накуролесил Ляхов? — спросила Александра Михайловна.
Катерина Андреевна с негодующей дрожью повела плечами.
— Такую подобную тварь, а?.. Я давно знала, что он хороводится с различными девками, а тут уж… К нам на квартиру привел, ко мне! А?! Ах, прохвостина этакий, обормот!!.
— К вам привел на квартиру? — с любопытством спросила Александра Михайловна.
— Самую последнюю тварь! Понимаете, — раскрашенную, которую можно топтать ногами. У-у-у!.. Уж и отхлестала же я им обоим их поганые морды!
Александра Михайловна в полусвете лампы заметила, что и у самой Катерины Андреевны губы в крови и правый глаз распух.
— Ах, негодяй, негодяй грязный!.. Дозволить себе такую подобную мерзость, а?
— И из квартиры выгнал вас?
— Сам еще придет ко мне, просить будет воротиться, да посмотрим, кто над кем покуражится! Два уже раза я ему прощала, — в ногах валялся, ноги мне целовал… Ну, теперь посмотрим!
Александра Михайловна помолчала и заговорила:
— Вам-то хоть хорошо. Вы с ним не связаны, захотели и ушли, он вам ничего не может сделать. Работу вы имеете и без него можете прожить, — вам его содержание не нужно.
Катерина Андреевна рассмеялась.
— Его содержание!.. Я его содержала, на свои деньги! Свои он все пропивал, до последней копеечки. Посмотрим теперь, как он без меня проживет.
— А вот как у меня-то, — вяло продолжала Александра Михайловна, — живи, как крепостная, на все из чужих рук смотри. Муж мой сам денег мало зарабатывает; что заработает, сейчас пропьет. Я его уж как просила, чтобы он мне позволил работать, — нет! Хочет, чтоб я его хлеб ела.
Катерина Андреевна остановилась перед столом, глядела блестящими глазами на огонь лампы и злорадно улыбалась.
— Пускай только придет теперь, он у меня узнает, можно ли меня оскорблять! — сказала она. — Ах, подлец, подлец!
— Они сегодня с мужем вместе пьянствовали в «Сербии». Не хватало им денег на коньяк, — пришел муж, меня избил до полусмерти и все, все деньги отобрал, ни гроша в доме не оставил. А вы ведь знаете, какой он теперь больной, много ли и всего-то выработает!.. Чем же жить? Сколько раз я ему говорила, просила, — пусть позволит хоть что-нибудь делать, хоть где-нибудь работать, все-таки же лучше, нет!
— Поступайте к нам в мастерскую. У нас много можно выработать — полтора рубля в день. Научиться скоро можно.
— Так не позволяет мне муж, я что же вам говорю?
— Ах, мерзавец этакий, а?! — Катерина Андреевна передернула плечами и снова заходила по комнате. — Мне сегодня и ночевать негде, я к вам пришла, — можно у вас остаться?
— С удовольствием, милости просим! Только воротится муж, опять меня бить начнет. Вам будет беспокойно.
— Ничего, я как-нибудь… — рассеянно ответила Катерина Андреевна. — А они-то теперь там… На моей кровати!.. О негодяй, обормот подлый, пускай только покажется мне на глаза!
В двенадцать часов воротилась Елизавета Алексеевна. Катерина Андреевна поместилась у нее.
Александра Михайловна снова улеглась спать, но заснуть не могла. Она ворочалась с боку на бок, слышала, как пробило час, два, три, четыре. Везде была тишина, только маятник в кухне мерно тикал, и по-прежнему протяжно и уныло гудели на крыше телефонные проволоки. Дождь стучал в окна. Андрея Ивановича все не было. На душе у Александры Михайловны было тоскливо.
VI
Андрей Иванович воротился домой в десятом часу утра — воротился хмурый, смирный и задумчивый. Молча напился кофе и сейчас же лег спать.
Александра Михайловна сварила молочную рисовую кашу, накормила Зину, Катерину Андреевну и поела сама. К обеду же приготовила только жиденький суп с крошечным куском жилистого мяса.
К двум часам Андрей Иванович проспался и встал веселый, ласковый. Александра Михайловна стала накрывать на стол. Она повязала свой синяк платком, усиленно хромала на ушибленную ногу и держалась, как деревянная. Андрей Иванович ничего словно не замечал и весело болтал с Катериной Андреевной.
Катерина Андреевна вышла в кухню напиться. Андрей Иванович поморщился и сказал:
— Что ты, Саша, фальшивишь? Не так уж нога у тебя ушиблена, я сразу понимаю. Ну, пойди сюда, дурочка! Дай я тебя поцелую.
— Где уж тут фальшивить! Поневоле захромаешь, как начнут тебя ногами топтать, словно рогожу. — Она ответила угрюмо, но лицо ее невольно для нее самой вдруг прояснилось от ласки Андрея Ивановича.
— Ну, пойди, пойди сюда! — Андрей Иванович охватил ее за талию и ущипнул в бок. — А ты знай вперед, что настойчивой быть нельзя. Раз что муж тебе что-нибудь приказывает, то ты должна исполнять, а не рассуждать. Ты всегда обязана помнить, что муж выше тебя.
— А вот ты деньги все опять прокутил, — на что жить будем? Обеда даже не на что сварить, сегодня еле-еле кусочек мяса выклянчила в мясной. Ведь не о себе я стараюсь, мне что!
— Ничего, Шурочка, деньги пустяки! Сегодня нет, завтра будут. Наживем!.. Эка, стоит о деньгах печалиться!
После обеда пришел в гости слесарь электрического завода Иван Карлович Лестман; это был эстонец громадного роста и широкоплечий, с скуластым лицом и белесою бородкою, очень застенчивый и молчаливый. Он благоговел перед Андреем Ивановичем.
Стали вечером играть в стуколку, потом сели пить чай. У Александры Михайловны было на душе очень хорошо: Андрей Иванович был с нею нежен и предупредительно-ласков, и она теперь чувствовала себя с ним равноправною и свободною. Андрей Иванович, опохмелившийся остатками вчерашнего коньяку, тоже был в духе. Он сказал:
— Шурочка, ты бы пошла позвала к нам Елизавету Алексеевну. Что ей там одной сидеть? Пускай чайку попьет с нами.
Странное было его отношение к Елизавете Алексеевне: Андрей Иванович видел ясно, что Александра Михайловна бунтует против него под ее влиянием, и часто испытывал к Елизавете Алексеевне неистовую злобу. Тем не менее его так и тянуло к ее обществу, и он бывал очень доволен, когда она заходила к ним.
У Елизаветы Алексеевны была мигрень. Осунувшаяся, с злым и страдающим лицом, она лежала на кровати, сжав руками виски. Лицо ее стало еще бледнее, лоб был холодный и сухой. Александра Михайловна тихонько закрыла дверь; она с первого взгляда научилась узнавать об этих страшных болях, доводивших Елизавету Алексеевну почти до помешательства.
— Опять голова болит! — объявила Александра Михайловна. — Раза по три в неделю у нее голова болит, что же это такое!
— Эх, бедняга! — с соболезнованием сказал Андрей Иванович.
Лестман покачал головою.
— Все от ученья. Такой больной не есть хорошо много учиться, раньше нужно доставать здоровья.
— «Здоровье доставать»… Как вы будете здоровье доставать? — возразил Андрей Иванович. — Тогда нужно отказаться от знания, от развития; только на фабрике двенадцать часов поработать, — и то уж здоровья не достанешь… Нет, я о таких девушках очень высоко понимаю. В чем душа держится, кажется, щелчком убьешь, — а какая сила различных стремлений, какой дух!
— Ну, а что ж хорошего вот этак все больной валяться? — сказала Катерина Андреевна. — И к чему учиться-то? Не понимаю! Ничего ей за это дороже не станут платить.
Андрей Иванович поучающе возразил:
— Дело не в деньгах, а в равноправенстве. Женщина должна быть равна мужчине, свободна. Она такой же человек, как и мужчина. А для этого она должна быть умна, иначе мужчина никогда не захочет смотреть на нее, как на товарища. Вот у нас девушки работают в мастерской, — разве я могу признать в них товарищей, раз что у них нет ни гордости, ни ума, ни стыда? Как они могут постоять за свои права? А Елизавету Алексеевну я всегда буду уважать, все равно, что моего товарища.
В кухне раздался звонок. В комнату вошел Ляхов с котелком на затылке и с тросточкой. Он был сильно пьян. Катерина Андреевна побледнела.
— У вас Катька? — спросил он, не здороваясь. — Ты здесь? Иди домой, где ты пропадаешь?! — крикнул он на нее.
Катерина Андреевна стояла, нервно сжимая рукою край стола, и в упор смотрела на Ляхова.
— Пошла я с тобой, как же! — ответила она, задыхаясь. — Ах ты, негодяй, негодяй! Еще домой зовет после подобной мерзости!
— Я тебе приказываю, понимаешь ты это?!
— Я тебе, слава богу, не жена! Ты мне не можешь приказывать! Кто ты такой? Я тебя не знаю!.. Ах ты, негодяй грязный!
— Пойдешь ты или нет? — Ляхов грубо схватил ее за руку около плеча.
— Отстань!
Андрей Иванович угрожающе крикнул:
— Что это, Васька, за безобразие? Оставь ее!
Ляхов опустил руку и с усмешкой оглядел Андрея Ивановича.
— Аль тебе ее захотелось?
— Дело не об этом, а о том, что не смей скандала делать.
— Она, брат, ко всякому пойдет, к кому угодно!.. Что уж очень хочется тебе? Ну, ладно, бери, черт с нею! Эка добра какого… На!..
Он засмеялся и с силою толкнул Катерину Андреевну на Андрея Ивановича.
— Да что же это такое! Андрей Иванович, пошлите за дворниками! — воскликнула Катерина Андреевна.
Андрей Иванович стиснул зубы и вскочил с места.
— Ты тут перестанешь скандалить или нет?
— Так не хочешь домой идти? — обратился Ляхов к Катерине Андреевне.
— Не хочу! И никогда не приду!
Ляхов усмехнулся.
— Ну, ладно! Погоди же ты, я тебя еще не так осрамлю… Чтоб ноги твоей у меня больше не было! — крикнул он и свирепо выкатил глаза. — Что за юбки такие у меня в квартире понавешены? Чтоб этой вонючей гадости у меня в квартире не было… Я этого не позволю! — И, ни с кем не простившись, он вышел из комнаты.
Андрей Иванович с отвращением смотрел ему вслед.
— Свинья пьяная!.. Вы не подчиняйтесь ему, что за безобразие! Слава богу, вы с ним не связаны.
— Ему? подчиниться? Н-никогда!!. Сам придет ко мне, в ногах будет валяться, — да посмотрим, захочу ли я его простить!
Лестман с сожалением глядел на Катерину Андреевну.
— Лучше ваши вещи берите от него прочь, а то он всем им делает капут.
Катерина Андреевна всплеснула руками.
— И вправду! Как же я их добуду? Александра Михайловна, дорогая моя, съездите, возьмите у него мои вещи!
— Я боюсь: он меня еще побьет, — нерешительно сказала Александра Михайловна.
Андрей Иванович вспыхнул.
— Тебя побьет? Будь покойна! Пусть только пальцем посмеет тронуть!
Решили, что Александра Михайловна поедет за вещами вместе с Лестманом. Через полчаса они привезли их, — но, боже мой, в каком виде! Платье и белье были изрезаны на мелкие кусочки, от посуды остались одни черепки, у самовара был свернут кран и вдавлен бок.
Катерина Андреевна вспыхнула, закусила губы и разрыдалась.
VII
Прошло две недели. Была суббота. Андрей Иванович воротился после шабаша прямо домой и принес Александре Михайловне весь заработок. Уж вторую неделю он приносил домой деньги целиком до последней копейки.
Поужинали и напились чаю. Андрей Иванович сидел у стола и угрюмо смотрел на огонь лампы. Всегда, когда он переставал пить, его в свободное от работы время охватывала тупая, гнетущая тоска. Что-то вздымалось в душе, куда-то тянуло, но он не знал, куда, и жизнь казалась глупой и скучной. Александра Михайловна и Зина боялись такого настроения Андрея Ивановича: в эти минуты он сатанел и от него не было житья.
Андрей Иванович послал жену купить «Петербургский листок», прочел его от передних до задних объявлений. Потом стал просматривать взятый им из мастерской сборник куплетов «Серебряная струна»… Нет, все было скучно и плоско…
Пришла Катерина Андреевна.
Она жила теперь на отдельной квартире, но Ляхов не оставлял ее в покое. Он поджидал ее при выходе из мастерской, подстерегал на улице и требовал, чтоб она снова шла жить к нему. Однажды он даже ворвался пьяным в ее квартиру и избил бы Катерину Андреевну насмерть, если бы квартирный хозяин не позвал дворника и не отправил Ляхова в участок. Катерина Андреевна со страхом покидала свою квартиру и в мастерскую ходила каждый раз по разным улицам.
— Ведь этакий острожник, а?! — негодовала она. — Вот связалась на свою погибель! Это ведь такой бешеный, ему и зарезать нипочем человека.
Андрей Иванович мрачно слушал, терзаемый тоской и скукою. Раздался звонок. Мужской голос спросил Елизавету Алексеевну. Ее не было дома. Гость сказал, что подождет, и прошел в ее каморку. Андрей Иванович оживился: ему вообще нравились знакомые Елизаветы Алексеевны, а этот, к тому же, по голосу был как будто уже знакомый Андрею Ивановичу. Он прислушался: гость сидел у стола и, видимо, читал книгу. Андрею Ивановичу не сиделось.
— Что ему там одному сидеть? — обратился он к Александре Михайловне. — Подогрей-ка самовар, да сходи, возьми полбутылки рому. Пускай чайку попьет у нас.
Андрей Иванович пошел в комнату Елизаветы Алексеевны. Гость, правда, был знакомый. Это был Барсуков, токарь по металлу из большого пригородного завода; Андрей Иванович около полугода назад несколько раз встречался с Барсуковым у Елизаветы Алексеевны и подолгу беседовал с ним.
— Это вы, Дмитрий Семенович! — воскликнул Андрей Иванович. — То-то я слушаю, — что это, как будто голос знакомый?.. Здравствуйте! Что же вы тут одни сидите? Заходите к нам, выпейте стаканчик чаю!
— Да я уж собственно пил, — ответил Барсуков и с усмешкою прервал себя: — А впрочем… хорошо! Что ж так сидеть?
Он пошел с Андреем Ивановичем в его комнату. Андрей Иванович суетливо оправил на столе скатерть.
— Что это, как вас долго не было видно? Садитесь… Сейчас жена ромцу принесет, мы с вами выпьем по рюмочке.
Барсуков подошел к Катерине Андреевне, назвал себя и тряхнул ее руку, потом присел к столу.
— Да вы, голубчик, оставьте, не суетитесь. Я пить все равно не буду.
Он увидел лежавшую на столе «Серебряную струну», перелистал ее и, отложив в сторону, взял с комода еще пару книг.
Андрей Иванович законфузился.
— Э, не смотрите: ерунда! Я их так себе, от скуки, из мастерской взял. Глупые идеи, нечего читать: одна только критика, для смеху… Ну, а вот оно и подкрепление нам!
Александра Михайловна принесла ром.
Андрей Иванович откупорил бутылку, отер горлышко краем скатерти и налил две рюмки.
— Пожалуйте-ка, Дмитрий Семенович!.. За ваше здоровье!
— Нет, спасибо, я не пью!
— Ну, ну, пустяки какие! По маленькой ничего не значит.
— Каждый раз у нас с вами та же канитель повторяется. И по маленькой не пью, спасибо!
— Ну, во-от!.. — разочарованно протянул Андрей Иванович. — Что же мне, не одному же пить! Маленькая не вредит, — что вы? Выпьем по одной! Ром хороший, рублевый, — он проясняет голову.
Барсуков с усмешкою пожал плечами, поднялся и неловко зашагал по комнате.
— Что же это такое? Одному и пить как-то неохота… Катерина Андреевна, выпьемте с вами!
Она засмеялась и кокетливо покосилась на Барсукова.
— Вот еще! Что это вы, Андрей Иванович, так меня конфузите!
— Так ведь я же вам не голый ром, я вам в чай подолью.
— Нет, нет, уж пожалуйста!
— Да вы погодите, я вам сделаю жженку. Весь спирт сгорит, один только букет останется.
Он поместил ложечку над чашкою Катерины Андреевны, положил в ложечку сахар, обильно полил его ромом и зажег… Синее пламя, шипя, запрыгало по сахару.
— Ну вот, попробуйте теперь! — самодовольно сказал Андрей Иванович. — Самый дамский напиток… Будьте здоровы!
Он коснулся рюмкою края чашки, выпил рюмку и крякнул.
— Нет, Дмитрий Семенович, позвольте вам сказать откровенно: я на этот счет с вашими мнениями не согласен. Какой вред от того, чтоб выпить иногда? Мы не мальчики, нам невозможно обойтись без этого.
Барсуков стоял у печки, заложив руки за спину.
— Почему? — сдержанно спросил он.
— Почему? Потому что жизнь такая! — Андрей Иванович вздохнул, положил голову на руки, и лицо его омрачилось. — Как вы скажете, отчего люди пьют? От разврата? Это могут думать только в аристократии, в высших классах. Люди пьют от горя, от дум… Работает человек всю неделю, потом начнет думать; хочется всякий вопрос разобрать по основным мотивам, что? как? для чего?.. Куда от этих дум деться? А выпьешь рюмочку-другую, и легче станет на душе.
— Для чего же это бежать от дум-то? Не мешало бы, напротив, осмыслить всякие явления, понять их: почему это должно быть привилегией интеллигенции? Вином думы заливать, — далеко не уйдешь.
— Я не спорю против этого! — поспешно сказал Андрей Иванович. — Я сам всегда это самое говорю, — что нужно стремиться к свету, к знанию, к этому… как сказать? — к прояснению своего разума. А что только выпить не мешает, — изредка, конечно: от тоски! Когда уж очень на душе рвет! То-олько!.. А как серый народ у нас, особенно фабричные по трактам, — их я сам строго осуждаю: напьются так, что вместо лиц одни свиные рыла видят везде, — знаете, как известные гоголевские типы, ревизоры…[18] К чему это? Это — безобразие, стыд! Настоящая Азия! Я очень даже негодую за это на русского человека.
Барсуков помолчал.
— В нынешнее время и по трактам — который народ идет в кабак, а который в школу, — возразил он. — Азии-то этой, может быть, все меньше становится с каждым годом.
Андрей Иванович безнадежно махнул рукою.
— Ну, где там! Довольно этой Азии у нас, на тысячу лет хватит! Вы меня извините за выражение, только я о русском человеке очень худо понимаю: он груб, дик! Дай ему только бутылку водки, больше ему ничего не нужно. О другом у него дум нет.
Барсуков удивленно поднял брови.
— Как это так — нет? Мало вы, я вижу, знаете. Пригляделись бы, осмотрелись бы кругом, — может быть, и увидели бы. Везде жизнь начинается, везде начинают шевелиться; каждый хочет жить своим умом, хочет понимать, особенно из молодых. Стоячая вода всем надоела. Что действительно — старики это считают излишним, а молодые уже совершенно других убеждений.
Андрей Иванович скептически повел головой.
— Нет, не согласен! Конечно, я не говорю: механики, наборщики, ну, там, конторщики, наш брат — переплетчик, — об этих я не говорю. Это — люди, можно даже сказать, замечательные, образованные, со знаниями. Или вот, скажем, вы или Елизавета Алексеевна. А я говорю о сером народе, о фабричных, о мужиках. Это ужасно дикий народ! Тупой народ, пьяный!
Барсуков слушал, крутил бородку и посмеивался.
— Да вы, может, не там смотрите? — насмешливо спросил он. — Конечно, если по трактирам искать, то трудно найти, или по кабакам… А вы бы в другом каком месте поискали, — в школу бы, скажем, сходили, на курсы. Может быть, увидели бы поучительное… «Дикие», «тупые»! — резко произнес он и перестал смеяться. — Проработает парень двенадцать часов на заводе, выйдет, как собака, усталый, башка трещит, а бежит на курсы, другой раз и перекусить не успеет. Это от дикости, что ли? К ночи только домой воротится, а утром рано вставай, опять на работу. От дикости это? От дикости он на последний грош газетку выписывает?
Барсуков своею неловкою походкою зашагал по комнате.
— То-то, должно быть, против дикости и старики у нас бунтуются, — с усмешкой продолжал он. — Очень недовольны, что их «просвещенных» понятий больше не уважают! Начнет этакий старик поучения читать: вот, дескать, была у нас в Торжке девушка, и вселились в нее черти; отвезли ее к какой-то там святой бабушке, продержали год, — как рукой сняло; вышла на волю, поела скоромного пирожка, и опять в нее черти вселились… А молодой смеется, спрашивает: пирожок-то, значит, чертями был начинен?.. Старик скажет: гром оттого, что Илья-пророк по небу катается, а молодой ему: какой такой Илья-пророк? Это — электричество!.. Какая дикость! «Электричество»! а? На курсы вздумал бегать, электричество изучать, кислороды всякие! Уж подлинно — Азия!
— У вас какие же на этих курсах лекции преподают? — спросил заинтересованный Андрей Иванович.
— Разное преподают, — неохотно ответил Барсуков. — Химию, физику, русский язык… алгебру, геометрию…
Он сел к столу и лениво стал прихлебывать чай.
— Полезные предметы, — сказал Андрей Иванович тоном знатока.
— Предметы необходимые… Знаете, сходимте как-нибудь вместе на курсы! — предложил Барсуков и оживился. — Стоит наблюдения. Я курсы кончил, а другой раз нарочно хожу. Вы мало знаете, потому и говорите. Какие живые ребята есть, сознательные! Так и рвутся до знания, все хотят знать в корень. Такого куда ни брось — не заржавеет… И откуда силы берет! Днем на работе, вечером на курсах, придет домой — отдыха не знает, сейчас за книгу, другой раз всю ночь просидит… Это, батенька, не то, что у интеллигенции: ходит себе мальчонка — в гимназию там, в университет; заботы ни о чем нет у него, все папаша предоставляет. «Ванечка, миленький, только учись, пожалуйста!» Протащат этак по всем наукам, а там уж и местечко готово: пожалуйте, получайте жалованье!..
— Черт возьми! Ей-богу, надобно бы сходить посмотреть! — воодушевился Андрей Иванович.
— Много поучительного… Старики уж так косятся! — улыбнулся Барсуков. — «Ученые, — говорят, — курсанты! В студенты, что ли, записались? Ничего этого не нужно; грамоту да письмо знаешь — и довольно». Объяснять им, на что человеку знание нужно? Этого они не поймут, — ну, а между прочим, сами замечают, что в нынешнее время везде на заводах больше ценят молодого рабочего, чем который двадцать лет работает, — особенно в нашем машиностроительном деле; старик, тот только «по навыку» может: на двухтысячную дюйма больше или меньше понадобилось, он уж и стоп! А для молодого это пустяки.
Барсуков оживился. Он рассказывал много и долго. Андрей Иванович слушал, и разные чувства поднимались в нем; он и гордился, и радовался; и грустно ему было: где-то в стороне от него шла особая, неведомая жизнь, серьезная и труженическая, она не бежала от сомнений и вопросов, не топила их в пьяном угаре; она сама шла им навстречу и упорно добивалась разрешения. И чем больше Андрей Иванович слушал Барсукова, тем шире раздвигались перед ним просветы, тем больше верилось в жизнь и в будущее, — верилось, что жизнь бодра и сильна, а будущее велико и светло.
— Нет, в нынешнее время о многом начинают думать, — сказал Барсуков. — Никто не хочет на чужой веревочке ходить. Хотят понять условия своей жизни, ее смысл.
Он прошелся по комнате, задумчиво остановился у печки.
— В летошнем году у нас на курсах один, Сергей Александрович, читал русскую литературу. Между прочим, решал вопрос: какая разница между научной литературой и художественной? Научная литература — если, например, исследовать жилище рабочего: сколько кубического воздуха, какой процент детей умирает, сколько рабочий в год выпивает водки… А художественная литература то же самое изображает чувствительно: умирает рабочий, — дети голодные, жена плачет, грязь кругом, сырость, есть нечего. И он думает: для чего он всю жизнь трудился, выбивался из сил, для чего он жил? — Барсуков сурово сдвинул брови. — Он жил, а жизни не видел, видел только ее призрак сквозь копоть фабричного дыма… Какая же была цель его существования?
Андрей Иванович порывисто встал и быстро зашагал по комнате.
— Нет, ей-богу, на курсы ваши поступлю! Дай только немножко поправлюсь, сейчас же запишусь!
Два года назад Андрей Иванович однажды уже сделал опыт — записался в школу; но, походив два воскресенья, охладел к ней; не все там было «чувствительно», — приходилось много и тяжело работать, а к этому у Андрея Ивановича сердце не лежало; притом его коробило, что он сидит за партой, словно мальчишка-школьник, что кругом него — «серый народ»; к серому же народу Андрей Иванович, как все мастеровые аристократических цехов, относился очень свысока. Но теперь Андрею Ивановичу все это казалось очень привлекательным.
— Совершенно все это в моем духе!.. Ей-богу, вот думаешь-думаешь так о жизни… Какой смысл?.. Зачем?..
Андрей Иванович подвыпил, ему хотелось теперь не слушать, а говорить самому. Выпивая рюмку за рюмкой, он стал говорить о свете знания, о святости труда, о широком и дружном товариществе.
Катерина Андреевна тоже выпила уж три чашки крепкой жженки. Глаза ее блестели, на щеках выступил румянец. Она подсела ближе к Барсукову, брала его за локоть, горячим взглядом смотрела в глаза и спрашивала:
— А вы читали «Макарку-душегуба»? Правда, интересная книга?
Пробило десять часов. Елизавета Алексеевна не возвращалась. Барсуков встал уходить. Подвыпивший Андрей Иванович целовал его и жал руки.
— Вы заходите, Дмитрий Семенович! Я так вам рад!.. Голубчик! Знаете, есть в груди вопросы, как говорится… (Андрей Иванович повел пальцами перед жилетом), — как говорится, — насущные… Накипело в ней от жизни, хочется с кем-нибудь разделить свои мнения… Да! Вот еще! Я вас кстати хочу попросить: нет ли у вас сейчас чего хорошенького почитать? Недосуг было это время раздобыться.
— Да вот, не хотите ли, я Елизавете Алексеевне Гросса принес, «Экономическую систему Карла Маркса»? Полезная брошюра. Тогда ей отдадите.
Барсуков ушел. Катерине Андреевне тоже пора было домой, но она боялась идти одна, чтоб не встретиться с Ляховым. Александра Михайловна взялась ее проводить, и они ушли.
Андрей Иванович быстро расхаживал по комнате. Он чувствовал такой прилив энергии и бодрости, какого давно не испытывал. Ему хотелось заниматься, думать, хотелось широких, больших знаний. Он сел к столу и начал читать брошюру. В голове кружилось, буквы прыгали перед глазами, но он усердно читал страницу за страницей.
Александра Михайловна проводила Катерину Андреевну до ворот ее дома и стала прощаться.
— Ну, куда вы, Александра Михайловна? Зайдите ко мне хоть на четверть часика! Посмотрите, как я живу. Ведь вы еще не были у меня.
Они прошли через двор к деревянному флигелю и стали подниматься по крутым ступеням лестницы. Было темно, и пахло кошками. На площадке они столкнулись с квартирною хозяйкою Катерины Андреевны.
— Это вы, Катерина Андреевна? Идите скорей, вас уж час целый жених ждет. Самовар я наставила.
И хозяйка пошла вниз. Александра Михайловна остановилась и испуганно спросила:
— Ляхов?
— Н-нет, — в замешательстве ответила Катерина Андреевна. — Писец один, из больничной конторы. Елизаров.
— Писец?
— Да… Он сказал, что поживет со мною так три месяца, и если я буду вести себя прилично, то женится на мне.
— Немножко скоро у вас дело делается! — Александра Михайловна кусала губы, чтоб не расхохотаться.
Катерина Андреевна мечтательно смотрела своими большими глазами в тусклое окно лестницы.
— Ляхов так жил со мною, а этот жениться обещает. Тогда не нужно будет на работу ходить, можно будет детей иметь, свое хозяйство вести… Пойдемте, я вас познакомлю. Он хороший!
Они вошли в квартиру. У стола сидел человек с черными усиками, двойным подбородком и черными, похожими на пуговицы глазами. Держался он странно прямо, как будто вместо спинного хребта у него была палка. На столе стояла бутылка портвейну, виноград и кондитерские пирожные, на постели лежала гитара.
Катерина Андреевна быстро подошла и весело заговорила:
— Это ты, Ваня!.. Здравствуй! Вот если бы я знала, кто у меня сидит! Александра Михайловна, это мой жених. А это моя хорошая подруга, Александра Михайловна Колосова.
Елизаров галантно и солидно расшаркался, пожал Александре Михайловне руку.
— Садитесь! — продолжала Катерина Андреевна. — Как раз и самовар поспел… Умный мальчик, что без меня чаю не пил!
Она бросила на Елизарова смеющийся, ласкающий взгляд. Елизаров покручивал большим пальцем и мизинцем острый кончик правого уса.
— Я один без дам никогда на это не решусь! — Он обратился к Александре Михайловне. — Погода сегодня дурная-с.
— Да, холодно на дворе.
— Да, холодно-с! Дождь — не дождь, снег — не снег идет. Как говорится, — неприятная погода. Не угодно ли винограду? Будьте любезны! Катюша, а ты что же?
Александра Михайловна просидела с полчаса. Катерина Андреевна болтала и смеялась, не спуская с Елизарова блестящих, манящих к себе глаз. Елизаров солидно посмеивался, крутил свои усики и говорил любезности.
Александра Михайловна ушла в одиннадцать часов. Елизаров остался у Катерины Андреевны.
VIII
На первой неделе великого поста, в четверг, были именины Андрея Ивановича. Он собрался праздновать их, как всегда, очень широко. Александра Михайловна плакала и убеждала его быть на этот раз поэкономнее; Андрей Иванович начал доказывать, что и без того покупается лишь самое необходимое, но потерял терпение, обругал Александру Михайловну и велел ей, не рассуждая, идти и купить, что нужно.
К восьми часам вечера стали собираться гости. Пришли четыре товарища Андрея Ивановича по мастерской, Лестман, Арсентьев, один приказчик, несколько замужних женщин и модисток. Пришла и Катерина Андреевна.
— Я слышал, вы помирились с Ляховым? — спросил ее Андрей Иванович. — Мне вчера Ляхов говорил в мастерской.
— Где помирились, господи! Не знаю, куда спрятаться от него!.. Вчера подстерег меня у Мытнинского моста, не дает пройти; скажи, говорит, что простишь меня!.. Что ж мне было делать?.. Когда на меня кричат, я могу противиться, а когда просят, — как ответить? Обещался вечером прийти ко мне прощенья просить. Я на весь вечер ушла к подруге и ночевать осталась у нее… Уж и подумать боюсь, что будет, когда опять встречу его. Право, он меня убьет!
Праздник был в разгаре. Сменили уж третий самовар. На столе то и дело появлялись новые бутылки пива. Товарища Андрея Ивановича, переплетного подмастерья Генрихсена, хорошего гитариста, упросили сходить домой и принести гитару. Стали танцевать кадриль.
Танцевальной залой служила кухня. Тучный Генрихсен сидел, отдуваясь, на постели хозяйки, прихлебывал пиво и играл кадриль на мотивы из «Прекрасной Елены». Андрей Иванович дирижировал. В свое время он был большим сердцеедом и франтом и чувствовал себя теперь в ударе.
Грациозно размахивая руками, он семенящим шагом подвигался вперед рядом со своею дамою.
— Сильвупле! — командовал он. — Оренбур!.. — При этом все делали шэн и вертелись с дамами раз по десяти. — Комансэ! — выкрикивал Андрей Иванович.
Каждый танцевал, не руководствуясь командою Андрея Ивановича; да он и сам ее не понимал. Но всем было приятно танцевать под французские выкрики. Стоял женский смех, ноги сухо шаркали по полу.
После кадрили стали танцевать польку. Катерина Андреевна была царицею бала. Стройная и изящная, с глазами, блестящими от оживления и портвейна, она была обворожительна; ее приглашали наперерыв. Андрей Иванович по причине одышки не танцевал польки. Он любезничал с дамами, угощал их портвейном, а когда их уводили танцевать, он, скрывая улыбку, следил за Елизаветой Алексеевной. Елизавета Алексеевна все время танцевала, и Андрею Ивановичу было смешно смотреть, как в толпе прыгало и мелькало ее бледное лицо, по-всегдашнему серьезное и строгое, с сдвинутыми бровями.
Полька кончилась. Потные танцоры, обмахиваясь платками, пили и закусывали в комнате Колосовых. Вдруг в дверях появился Ляхов.
Все смутились. Большинство знало об его истории с Катериной Андреевной. Ляхов вошел бледный и печальный, приблизился к Андрею Ивановичу и поздравил его с ангелом. Потом, словно не замечая Катерины Андреевны, молча сел в угол.
Катерина Андреевна была бледна и дрожала. Она повела плечами и обратилась к Александре Михайловне:
— Как у вас от окна дует! Дайте мне, пожалуйста, платок: такой холод!
Понемногу смущение улеглось.
Снова раздались говор, смех, шутки. Пили, чокаясь стаканами. Приказчик из мануфактурного магазина Семыкин, молодой человек с ярко-красным галстуком, тщетно умолял выпить хоть рюмку пива двух сестер, модисток Вереевых. Они смеялись и отказывались. Семыкин выпивал стакан пива и возобновлял свои мольбы. Ляхов сидел, забившись в угол за комодом, и молча пил стакан за стаканом.
Александра Михайловна попросила сестер Вереевых спеть что-нибудь. Они закраснелись и замахали руками.
— Ах, что вы, что вы, Александра Михайловна! Ни за что!
Их стали упрашивать. Сестры долго отнекивались, наконец согласились. Сели рядом и откашлялись.
— А горлышко-то прочистить? — сказал Семыкин, подсел к ним и подал рюмку с пивом.
Сестры засмеялись, потом сделали серьезные лица, переглянулись и запели цыганскую песню. Голоса у них были слабые, но звучали приятно; пели они в один голос:
Вьются песенки цыган, Прикрывая свой обман, За стаканом пьют стакан, В голове — туман…— Туман! — басом сказал Семыкин.
Младшая Вереева возразила:
— Конечно, туман! Когда пьют, тогда в голове становится туман.
— Разве это не правда? — спросила старшая.
— Вполне справедливо… Ну-ка, туманцу рюмочку! — И Семыкин протянул рюмочку с пивом. Сестры прыснули.
В комнате было жарко и душно. Александра Михайловна открыла форточку. Кисейная занавеска заколебалась, в комнату подуло сырым, туманным холодом.
После веселого романса сестры спели несколько грустных песен. Головы кружились от выпитого пива, и на душе у всех стало тихо, нежно.
Помнишь ли, милая, ветви тенистые, Ивы над темным прудом? Волны плескались кругом серебристые, Там мы сидели вдвоем. Там поклялись мы при лунном сиянии Вечно друг друга любить… Помнишь ли, милая, наши свидания? Как же их трудно забыть!Слушатели были задумчивы… В раскрытую форточку тянуло гнилою сыростью, в тесной комнате пахло пивом и табаком, лица у всех были малокровные, истощенные долгим и нездоровым трудом, — а песня говорила о какой-то светлой, ясной жизни и о светлой любви среди природы.
Пел соловей свои песни могучие, Стан твой сжимал я рукой…Вдруг все взгляды обратились в угол за комодом. Пение смолкло. Ляхов, подперев голову руками и впившись пальцами в волосы, рыдал, низко наклонясь над столом. Он рыдал все сильнее. Мускулистые плечи судорожно дрожали от рыданий.
— Василий Васильевич, что это с вами? Успокойтесь! — сказала испуганная Александра Михайловна. — Выпейте воды холодной!
Она побежала в кухню и принесла из-под крана воды.
Ляхов вышел на середину комнаты, бледный, всклокоченный, с распухшими глазами.
— Скажи, Андрей, зачем ты меня сюда допустил? Разве мне тут место?.. У вас тут хорошо и благородно, совесть у всех спокойна, вы можете песни петь, смеяться… А я — я вижу, какой я… подлец… и грязный негодяй…
Рыдания не дали ему говорить. Ляхов схватился за лоб и оперся о комод. Он рвал на себе галстук и манишку, чтоб дать волю дыханию.
Андрей Иванович положил ему руку на плечо и страдающим голосом сказал:
— Ну, Вася, полно, что ты? Успокойся!
— Женщины, женщины! — рыдая, проговорил Ляхов. — Теперь только я вижу, как много они дают нам хорошего и как жестоко мы их оскорбляем…
Он вдруг бухнулся в ноги Катерине Андреевне.
— Ай!!! — Она истерически вскрикнула и отшатнулась.
— Катя! Прости меня! Я поступил подло и скверно… Но я не могу жить без тебя… Если ты меня не простишь, я повешусь, либо брошусь в Неву… Катечка!
С торчащими вихрами волос, с разорванным воротом, он, рыдая, ползал по полу и целовал подол юбки Катерины Андреевны. Взволнованная Катерина Андреевна отодвигалась от него и робко оправляла юбку.
— Я для тебя, Катя, хуже разбойника, хуже гадины… Скажи, — что мне делать, чтоб ты простила? Все сделаю, что велишь. Топчи, плюй на меня… Только прости, Катя!
Андрей Иванович, бледный и нахмуренный, стоял, прислонясь спиною к комоду. Александра Михайловна и младшая Вереева смигивали слезы. Вдруг Катерина Андреевна, с заблестевшими глазами, порывисто схватила шею Ляхова и горячо поцеловала его.
Ляхов вскочил на ноги, схватил ее в объятия и осыпал поцелуями. Кругом зашевелились и заговорили.
— Ну, вот и слава богу! — с облегченною улыбкою сказала Александра Михайловна, украдкою отирая слезы. — Давно бы так!
Андрей Иванович провозгласил:
— Черт возьми, нужно выпить для примирения! Тут уже всем следует коньяку, иначе нельзя!.. Катерина Андреевна, позвольте вашу рюмку.
Катерина Андреевна, со счастливым, раскрасневшимся лицом, протянула рюмку.
Все стали чокаться с Катериной Андреевной и Ляховым. Они стали на время главными лицами вечера, словно новобрачные на свадьбе.
Стали опять танцевать. Опять Катерина Андреевна была царицею бала. Все приглашали ее наперерыв, и больше всех Ляхов. И всегда хорошенькая, она теперь, упоенная счастьем, была прекрасна.
После вальса Ляхов проплясал трепака. Потом все перешли в комнату и попробовали петь хором; но вышло очень нестройно и безобразно. Упросили снова петь сестер Вереевых.
Ляхов продолжал пить стакан за стаканом, рюмку за рюмкой; он вообще пил всегда очень быстрым темпом. Лицо его становилось бледнее, глаза блестели. Несколько раз он уже оглядел Катерину Андреевну загадочным взглядом. Сестры кончили петь «Мой костер в тумане светит». Ляхов вдруг поднял голову и громко сказал:
— Катька! Ты у меня кольцо в два с полтиной украла… Отдай назад!
Александра Михайловна рассмеялась и бросилась к нему.
— Василий Васильевич, что это! Вот-те раз! Вы позабыли, ведь вы помирились, помирились, — вспомните-ка!
— Ты мое кольцо стащила, когда от меня ушла! Давай назад! — грубо крикнул Ляхов.
Катерина Андреевна вспыхнула.
— Господи, да что это такое!
— Стыдно вам так говорить, Василий Васильевич! — сказала Александра Михайловна.
— Нет, не стыдно! Вы не знаете, какая она. Она беременная была, когда я ее взял.
— Слушай, Васька, нам это вовсе неинтересно знать! — крикнул Андрей Иванович.
— Она мне должна быть до гробовой доски благодарна, что я ее взял: я ее грех покрыл.
— Как же это вы покрыли? Женились, что ли? — спросила Александра Михайловна.
— Я сказал, что ребенок мой.
— Эка — «покрыли»! Все равно, в воспитательный его отдали!
Ляхов с презрением и ненавистью оглядывал Катерину Андреевну.
— У нее таких, как я, столько было, сколько у меня пальцев на руках. Ведь она все равно, что первая с улицы: любой помани, — она сейчас пойдет к нему ночевать. Вон на святках, когда мы на Зверинской жили…
И он бесстыдно начал вывертывать всю подноготную их совместной жизни. Катерина Андреевна, онемев от неожиданности и негодования, сидела и кутала лицо в платок.
Елизавета Алексеевна вскочила с места.
— Александра Михайловна, да как вы ему позволяете?!
— Если вы, Василий Васильевич, не перестанете, то ступайте отсюдова! — сказала Александра Михайловна, побледнев.
— Фью-фью-фью-фью! — Ляхов засвистал и насмешливо оглядел обеих. — Слышишь, Андрей, как твоя жена выгоняет твоего друга?
— Я с нею вполне согласен! Это безобразие, конфуз! Сейчас же извиняйся в своем поступке, если хочешь тут оставаться!
— Так ты за жену, против друга?.. Ты должен ей в зубы дать за то, что она смеет гнать твоего гостя вон.
Андрей Иванович гаркнул:
— Ступай вон!
— Не пойду! — спокойно ответил Ляхов, плотнее уселся на стуле и усмехнулся.
— И вам не стыдно, Ляхов?! — воскликнула Александра Михайловна.
— Не стыдно! — хвастливо ответил Ляхов.
— Kurat (черт)! Ты пойдес вон! — в бешенстве крикнул Лестман, поднялся во весь рост и стиснул кулаки. Тяжелый, свирепый и сосредоточенный хмель охватил его. Остальные мужчины тоже поднялись.
Ляхов оглядел всех, засмеялся и встал со стула.
— Черт ли мне тут с вами оставаться! Набрали шлюх к себе, смотрю, — что это? Ни одной нет честной женщины!.. Сволочь уличная, барабанные шкуры! Наплевать мне на вас на всех!..
И он, шатаясь, вышел.
IX
На следующий день Андрей Иванович пришел в мастерскую угрюмый и злой: хоть он и опохмелился, но в голове было тяжело, его тошнило, и одышка стала сильнее. Он достал из своей шалфатки [19] неоконченную работу и вяло принялся за нее.
Переплетная мастерская Семидалова, где работал Андрей Иванович, была большим заведением с прочной репутацией и широкими оборотами; одних подмастерьев в ней было шестнадцать человек. Семидалов вел дело умело, знал ходы и всегда был завален крупными заказами. С подмастерьями обращался дружески, очень интересовался их личными делами и вообще старался быть с ними в близких отношениях; но это почему-то никак ему не удавалось, и подмастерья его недолюбливали.
Андрей Иванович лениво скоблил скребком передок зажатой в пресс псалтыри in-quarto. Из-под скребка поднималось облако мелкой бумажной пыли, пыль щекотала нос и горло. Андрей Иванович старался сдерживаться, но, наконец, прорывался тяжелым кашлем; он кашлял долго, с натугою, харкая и отплевываясь, и, откашлявшись, снова принимался скрести. Рядом с ним приземистый Картавцов, наклонившись, околачивал молотком фальцы на корешке толстой «Божественной комедии». В длинной, низкой мастерской было душно и шумно. В углу мерно стучал газомотор, под потолком вертелись колеса, передаточные ремни слабо и жалобно пели; за спиною Андрея Ивановича обрезная машина с шипящим шумом резала толстые пачки книг; дальше, у позолотных прессов с мерцавшими синими огоньками, мальчики со стуком двигали рычагами. Пол был усеян обрезками бумаги, пахло клейстером и газом.
Генрихсен, с пачкою книг под мышкой, медленно прошел к своему месту, положил книги на верстак и сел, бережно подперев голову рукою. Его полное бритое лицо с короткими усами было бледно и измято, волосы торчали в стороны. Он не шевелился, застыв в деревянной задумчивости. Андрей Иванович кивнул ему головою и вопросительно щелкнул себя по шее. Генрихсен нахмурился и сердито развел руками: он не опохмелялся, и опохмелиться было не на что. Увы, у самого Андрея Ивановича не было в кармане ни гроша. Генрихсен положил голову на другую руку и снова одеревенел.
Налево от Андрея Ивановича, за широким столом, два подмастерья, Ермолаев и Новиков, подклеивали штрейфенами большие, в девять кусков, карты России. Они рассматривали готовую карту. Новиков, молодой парень, поджав подбородок и подмигивая, говорил что-то, а Ермолаев заливался густым, басистым хохотом.
Андрей Иванович положил скребок, потянулся и, засунув руки в карманы, подошел к столу.
— Чего это вы? — сумрачно спросил он.
Новиков почтительно посторонился.
— Да вот, Андрей Иванович, все о путешественниках тужим! — Он юмористически-огорченно указал на карту. — Порастерялись у нас тут кой-какие городки, вот мы и огорчаемся: купит путешественник карту, а города-то и нет, куда ехать. Как быть?
— Листы-то в литографии какие вдоль печатаны, какие поперек, — объяснил Ермолаев. — Там этого не разбирают, сырыми-то они разными и оказываются… Город Луга? К черту, срезать! Кому нужно, тот и без карты найдет!.. Казань? Девалась неизвестно куда!.. Вот так карта, ха-ха-ха!..
Андрей Иванович молча смотрел работу и сквозь зубы спросил:
— Почем положил хозяин?
— Тринадцать копеек. Сам, говорит, взял по двадцать.
— По двадцать? Врет! — уверенно сказал Андрей Иванович.
Ермолаев перестал смеяться и добродушно возразил:
— Ну, врет! С чего ему врать? На копейку клею пойдет, на три коленкору, три копейки барыша; тридцать рублей на заказ. Чего же ему? Довольно!
— Гм! Чертодалову-то нашему довольно?.. Уж не знаю! — усмехнулся Новиков и взглядом обратился к Андрею Ивановичу за одобрением.
Подошел Генрихсен, постоял, тупо и сонно глядя на них, и подвинулся к усердно работавшему Картавцову.
— Послушьте! Что, у вас двадцать копеек нету до субботы?
Картавцов растерянно положил молоток и стал поспешно шарить по карманам.
— Нету, Генрих Федорович!
Андрей Иванович мрачно следил за Картавцовым.
— Почему же у тебя нет? — резко спросил он. — Или уж все деньги в сберегательную снес?
Широкое лицо Картавцова стало еще более растерянным и жалким. Андрей Иванович не выносил его скопидомства и систематически преследовал за него Картавцова то добродушно, то злобно, смотря по настроению.
— Он прослышал, что вы вчера именинник были, — вмешался Новиков. — Нет, говорит, поостерегусь, ни гроша не возьму с собою: вдруг кто на похмелье двугривенный попросит! Дашь, а он до субботы помрет… Всего капиталу решишься, придется по миру идти!
— У тебя, Генрихсен, залогу нет ли? Под залог он даст! — захохотал Ермолаев.
Все, вслед за Андреем Ивановичем, стали по привычке травить Картавцова. Многие сами имели при себе деньги, но об этом они не помнили.
Картавцов густо краснел и хмурился.
— Да нету же у меня, господи! Ну, ей-богу, нет, вот!
— Почему же у тебя нету? — продолжал допрашивать Андрей Иванович. — Ты денег не пропиваешь, значит, должны быть у тебя; а у кого есть деньги, тот с пустым карманом не уйдет из дому, потому что это неловко.
Картавцов, страдальчески нахмурившись, молчал и с преувеличенным старанием околачивал на книге фальцы.
— Това-а-рищ… — с презрением протянул Андрей Иванович. — Хоть поиздохни все кругом, ему только одна забота — побольше домой к себе натаскать. Настоящий муравей! Зато, дай десять лет пройдет, сам хозяином станет, мастерскую откроет… «Григорий Антоныч, будьте милостивы, нельзя ли работки раздобыться у вас?..»
Вошел мастер, Александр Дмитриевич Волков, мужчина с выхоленными светло-русыми усами и остриженный под гребенку. Все взялись за работу. Он спросил:
— Ляхова опять нет? Черт знает, что такое! Вот субъект! Лобшицу в понедельник заказ сдавать, а он тянет. Возьмите, Колосов, вы его работу, псалтыри потом кончите.
В это время вошел Ляхов, с опухшим лицом, пьяный.
— Ну, слава богу, явился, наконец! — сердито сказал мастер. — Вы что же, Ляхов, в мастерскую только для прогулки приходите, для моциону? Когда у вас заказ Лобшица будет готов?
— Когда срок придет, тогда и будет готов! — грубо ответил Ляхов, вытаскивая из шалфатки пачку книг.
— Да вы опять пьяны! — воскликнул мастер.
— Не на ваши ли деньги пил?
Мастер покраснел от гнева и закусил усы.
— Ну-ну, посмотрим! Вам, видно, штрафоваться еще не надоело!.. Прекрасно!
И он быстро вышел в контору.
Андрей Иванович чистил щеточкою выскобленный обрез. Ляхов бросил на верстак книги и большими шагами подошел к нему.
— Ты у меня сейчас будешь лежать под верстаком! — объявил он.
— Что так? Почему? — спросил Андрей Иванович.
— Ты чего не в свое дело суешься? Зачем ты меня вчера с Катькой поссорил?
Ляхов грозно и выжидающе в упор глядел на Андрея Ивановича.
— Я тебя поссорил? — удивился Андрей Иванович.
Вдруг Ляхов со всего размаху ударил Андрея Ивановича кулаком в лицо.
Удар пришелся в нос. В голове у Андрея Ивановича зазвенело, из глаз брызнули слезы; он отшатнулся и стиснул ладонями лицо. Сильные руки схватили его за борты пиджака и швырнули на пол. Ляхов бросился на упавшего Андрея Ивановича и стал бить его по щекам.
Ошеломленный неожиданностью и болью, не в силах подняться, Андрей Иванович беспомощно протягивал руки и пытался защищаться. В глазах у него замутилось. Как в тумане, мелькнуло перед ним широкое лицо Картавцова, от его удара голова Ляхова качнулась в сторону. Андрей Иванович видел еще, как Ляхов бешено ринулся на Картавцова и сцепился с ним, как со всех сторон товарищи-подмастерья бросились на Ляхова…
Когда Андрей Иванович пришел в себя, Ляхова в мастерской уже не было; Генрихсен и мастер брызгали ему в лицо холодною водою, хозяин взволнованно расхаживал по узкому проходу между верстаками и прессами.
Андрей Иванович сидел на табуретке, прижавшись головою к рукаву поддерживавшего его Ермолаева, и рыдал, как женщина.
— Хам этакий, негодяй! — повторял Ермолаев, задыхаясь от негодования.
Картавцов, с блестящими глазами, с широкою ссадиною на левой скуле, стоял, тяжело переводя дыхание.
— Сейчас же на расчет его! — сказал хозяин. — И десять рублей штрафу за буйство!.. Подавайте, Колосов, к мировому, я сам буду свидетелем… Этакий скот! Черт знает, что такое!.. За что это он вас?
Андрей Иванович, не отвечая, рыдал. Товарищи участливо окружили его и наперерыв старались услужить. Мальчики и чернорабочие с любопытством толпились вокруг, в дверь заглядывали сбежавшие сверху фальцовщицы.
Хозяин сказал:
— Вот что, Колосов, поезжайте лучше домой, успокойтесь. Стоит обижаться на этого пьяного зверя! Даю вам слово, завтра же его не будет у меня в мастерской.
Ермолаев отвез Андрея Ивановича домой на извозчике.
X
Андрей Иванович пролежал больной с неделю. Ему заложило грудь, в левом боку появились боли; при кашле стала выделяться кровь. День шел за днем, а Андрей Иванович все не мог освоиться с тем, что произошло: его, Андрея Ивановича, при всей мастерской отхлестали по щекам, как мальчишку, — и кто совершил это? Его давнишний друг, товарищ! И этот друг знал, что он болен и не в силах защититься! Андрей Иванович был готов биться головою об стену от ярости и негодования на Ляхова.
Но рядом с этим ему довелось пережить теперь немало и очень сладких минут. Случай с Андреем Ивановичем вызвал в мастерской всеобщее горячее участие к нему. Хозяин прислал ему на лечение из больничной кассы двадцать пять рублей, товарищи все поголовно перебывали у Андрея Ивановича, приносили ему коньяку, апельсинов, ругали Ляхова и желали Андрею Ивановичу поскорей поправиться. Андрея Ивановича — отзывчивого, действительно готового для товарищей на все, — невыразимо трогало малейшее проявление товарищеского чувства к нему: в простом слове участия к его горю он был готов видеть торжество какого-то широкого братства. По уходе гостя он долго лежал, задумавшись, с застывшею на лице светлою улыбкою, счастливый и гордый. О Картавцове Андрей Иванович вспоминал не иначе, как с умилением: этого Картавцова он всегда так беспощадно и жестоко преследовал, — а тот, забыв все обиды, первый бросился ему на выручку…
Через неделю Андрей Иванович вышел на работу.
Он вошел в мастерскую, стараясь ни на кого не смотреть, стыдясь того оскорбления, которое он получил. Начатые им псалтыри — заказ не спешный — лежали в его верстаке нетронутыми. Андрей Иванович начал вставлять книги в тиски.
— Здравствуй, Колосов! — раздался за его спиною голос.
Андрей Иванович вздрогнул, как от удара кнутом, и быстро обернулся. Перед ним стоял Ляхов, заискивающе улыбался и протягивал руку. Ляхов был в своей рабочей блузе, в левой руке держал скребок. Андрей Иванович, бледный, неподвижно смотрел на Ляхова: он был здесь, он по-прежнему работал в мастерской! Андрей Иванович повернулся к нему спиной и медленно пошел в контору.
Хозяин был в конторе. Увидев Андрея Ивановича, он смутился.
— А-а, Колосов, здравствуйте! — ласково произнес он. — Ну, как вы себя чувствуете?
Андрей Иванович, тяжело дыша, глядел на хозяина.
— Ляхов остается у вас? — с трудом сказал он.
— Нет! — решительно ответил Семидалов. — Я ему сказал, что оставлю его лишь в том случае, если вы его простите. Откровенно говоря, лишиться мне его теперь очень невыгодно: вы знаете, какой он хороший золотообрезчик, а пасха на носу, заказов много… Но, во всяком случае, все дело совершенно зависит от вас.
— Я его не прощаю! — раздельно произнес Андрей Иванович.
Семидалов недовольно пожал плечами.
— Ваше дело!.. Правду говоря, мне немного странно, что вы относитесь так к вашему старинному товарищу; вы должны бы знать, что у него действительно были большие неприятности; невеста его бросила, он все время пьяный валяется по углам, — со стороны смотреть жалко; притом он сам себе теперь не может простить, что так оскорбил вас. Все это не мешало бы принять в расчет.
— Вам тоже не мешало бы принять в расчет, что он завтра же может опять избить меня в вашей мастерской. А я, Виктор Николаевич, человек больной.
— Ну, знаете, если об этом говорить, то ведь в конце концов он может вас избить и на улице, и у вас на квартире, — Семидалов старался не встретиться с упорным, пристальным взглядом Андрея Ивановича.
— На улице против этого есть полиция, в квартире это будет мое дело… Ну, да все равно! Позвольте мне на расчет! — сорвавшимся голосом произнес Андрей Иванович.
— Что вы, что вы, Колосов? Полноте! Я от своего слова никогда не отказываюсь. Я вам дал его и сдержу. Если вы мне заявите, что не хотите работать с Ляховым… А-а, Вильгельм Адольфович! — прервал он себя и встал, любезно улыбаясь.
В контору вошел издатель детских книг Лобшиц, постоянный заказчик заведения.
— Вы, Колосов, зайдите ко мне в контору после обеда, — скороговоркой сказал Семидалов. — Мы с вами еще потолкуем как следует.
Подмастерья и фальцовщицы расходились обедать.
Андрей Иванович спустился на улицу. Прошел Гребецкую, повернул налево и вышел к Ждановке. Был яркий солнечный день, в воздухе чуялась весна; за речкой, в деревьях Петровского парка, кричали галки, рыхлый снег был усыпан сучками; с крыш капало.
Андрей Иванович, присев на низкие деревянные перила набережной, неподвижно смотрел вдаль… Ляхова хозяин не прогонит — это Андрей Иванович понял сразу; и его первым решением было — сейчас же уйти самому; теперь новая, мучительная мысль пришла ему в голову: да ведь его уход для хозяина вовсе не страшен, напротив, хозяин будет очень рад избавиться от него!.. Андрей Иванович вспомнил, как недовольно морщился Семидалов, когда он просил у него вперед денег или пропускал по болезни несколько дней; еще две недели назад, когда Андрей Иванович попросил уволиться на полдня, чтоб сходить к доктору, хозяин с пренебрежительной усмешкой ответил: «Можете хоть совсем уволиться!..» Очень он накажет Семидалова своим уходом! Его и так держат из милости… Где же ему тягаться с Ляховым, у которого дело так и кипит в руках?
И главное — Андрей Иванович видел, что ему некуда уйти от Семидалова. Кто возьмет его такого — больного и слабого? Придется умереть с голоду. Само по себе это бы еще не испугало Андрея Ивановича. Но как только он представил себе, в каком он тогда положении окажется дома, Андрей Иванович почувствовал, что уйти ему от Семидалова невозможно; без работы, даже без надежды получить ее, как сможет он укрощать Александру Михайловну? Тогда придется работать ей, а он… он будет жить на ее содержании? Нет, лучше что угодно, только не это!
К трем часам Андрей Иванович воротился в мастерскую. Хозяин, видимо, поджидал его и сейчас же велел позвать к себе. Андрей Иванович, с накипавшими рыданиями обиды и злобы, вошел в контору.
Семидалов торжественно произнес:
— Ну, Колосов, решайте, оставаться у меня Ляхову или нет! Я сейчас узнал от него, что он помирился со своей невестой и после пасхи женится. Неужели даже ради этой радости вы не согласитесь его простить?
Дверь открылась, и вошел Ляхов. Опустив глаза, он медленно сделал два шага к Андрею Ивановичу и тихо сказал:
— Можете ли вы меня, Колосов, простить?
Андрей Иванович, тяжело дыша, растерянно оглядывал Ляхова.
— Могу ли я… простить?
Ляхов стоял, смиренно опустив голову. Но Андрей Иванович видел, как насмешливо дрогнули его брови, — видел, что Ляхов в душе хохочет над ним и прекрасно сознает свою полнейшую безопасность. Судорога сдавила Андрею Ивановичу горло. Он несколько раз пытался заговорить, но не мог.
— Помнишь, Вася, — наконец, сказал он, — помнишь, восемь лет назад мы с тобой однажды поссорились? После этого мы обещались, что всегда будем уступать тому, кто из нас пьянее… и никогда не тронем друг друга пальцем. Я это обещание… сдержал…
Андрей Иванович замолчал и отвернулся, судорожно всхлипывая.
— Какое зверство! — продолжал он, весь дрожа от рыданий. — Ты, сильный, крепкий, — ты решился бить своего больного товарища… За что?..
Ляхов быстро заморгал глазами и потянул в себя носом.
— Ну, Андрей… прости! — Его голос дрогнул, и губы жалко запрыгали.
Андрей Иванович услышал, как дрогнул голос Ляхова. Счастливый жар обдал сердце. Но вдруг он вспомнил, что ведь он должен простить Ляхова, что ему другого выбора нет… Андрей Иванович стиснул зубы.
— Ну, что же, Колосов, прощаете вы своего товарища? — спросил Семидалов. — Он вас жестоко обидел, но вы видите, как он раскаивается… Миритесь, миритесь, господа! — с улыбкою сказал он и подошел к ним. — Ну, пожмите друг другу руки в знак примирения!
Он соединил руки Андрея Ивановича и Ляхова. Они обменялись рукопожатиями. Хозяин весело воскликнул:
— Вот и прекрасно! За те дни, которые вы пролежали по вине Ляхова, вы получите из его заработка… Желаю вам всегда жить в дружбе. Вот Ляхов скоро женится на своей Кате, — вы у него будете на свадьбе шафером.
— Женатые шаферами не бывают! — ответил Андрей Иванович, с ненавистью оглядел Семидалова и вышел из конторы.
XI
Для Андрея Ивановича начались ужасные дни. «Ты — нищий, тебя держат из милости, и ты должен все терпеть», — эта мысль грызла его днем и ночью. Его могут бить, могут обижать, — Семидалов за него не заступится; спасибо уж и на том, что позволяет оставаться в мастерской; Семидалов понимает так же хорошо, как и он сам, что уйти ему некуда.
И Андрей Иванович продолжал ходить в мастерскую, где бок о бок с ним работал его ненаказанный обидчик. Все шло совсем по-обычному. Товарищи по-прежнему здоровались, разговаривали и пили с Ляховым, и никто даже не вспоминал о той страшной обиде, которую ни за что ни про что нанес Ляхов их больному товарищу. Андрей Иванович стал молчалив и сосредоточен; за весь день работы он иногда не перекидывался ни с кем ни словом. Ляхов пытался с ним заговорить, всячески ухаживал за ним, но Андрей Иванович не удостаивал его даже взглядом.
Он мог бы простить Ляхова, — о, он простил бы его с радостью, горячо и искренно, — но только, если бы это было результатом его свободного выбора. Теперь же само желание Ляхова получить прощение смахивало на милостыню, которую он по доброй воле давал обиженному Андрею Ивановичу. А для Андрея Ивановича ничего не могло быть ужаснее милостыни.
Здоровье его после побоев Ляхова не поправлялось. С каждым днем ему становилось хуже; по ночам Андрей Иванович лихорадил и потел липким потом; он с тоскою ложился спать, потому что в постели он кашлял, не переставая, всю ночь — до рвоты, до крови; сна совсем не было. Во время работы стали появляться мучительные боли в груди и левом боку; поработав с час, Андрей Иванович выходил в коридор, ложился на пол, положив под себя папку, и лежал десять — пятнадцать минут; отдышавшись, снова шел к верстаку. И часто он с отчаянием думал о том, что его «хроническое воспаление легких», по-видимому, переходит в чахотку.
Вырабатывал теперь Андрей Иванович страшно мало. Даже не пропустив за неделю ни одного дня, — а это бывало редко, — он приносил в субботу домой не более четырех-пяти рублей. Настоящая нужда была теперь дома, и Александре Михайловне не нужно было притворяться, что нельзя достать в долг, — в долг им, правда, перестали верить. Платить за комнату десять рублей было теперь не по средствам; они наняли за пять рублей на конце Малой Разночинной крошечную комнату в подвальном этаже; в двух больших комнатах подвала жило пятнадцать ломовых извозчиков. Воздух был промозглый, сырой, в углах стояла плесень, капитальная стена была склизка и холодна на ощупь. Зина худела и жаловалась на ломоту в ногах, Андрей Иванович стал кашлять еще больше. И все-таки он не позволял Александре Михайловне искать работы.
Жизнь Александры Михайловны и Зины обратилась в беспросветный ад. Они не знали, как стать, как сесть, чтоб не рассердить Андрея Ивановича. Александра Михайловна постоянно была в синяках, Андрей Иванович бил ее всем, что попадалось под руку; в самом ее невинном замечании он видел замаскированный упрек себе, что он не может их содержать. Мысль об этом заставляла Андрея Ивановича страдать безмерно. Но у него еще была одна надежда, и он держался за нее, как утопающий за обломок доски.
У Александры Михайловны был троюродный брат по матери, очень богатый водочный заводчик Тагер; он знал ее ребенком. Года три назад Александра Михайловна решилась сделать ему родственный визит и напомнить о себе. Тагер признал ее и принял очень ласково, расспрашивал о муже, и на прощание просил ее в случае нужды обращаться к нему. Год назад Андрей Иванович начал кашлять, доктор советовал ему переменить занятие. Андрей Иванович вспомнил о Тагере и через Александру Михайловну попросил у него места. Тагер дал Александре Михайловне карточку к своему приятелю, владельцу многочисленных винных складов в Петербурге. Тот предложил Андрею Ивановичу место в пятьдесят рублей, но в разговоре назвал его «ты». Андрей Иванович вспыхнул.
— Вы, кажется, на вид как будто благородный человек, черный сюртук носите, — сказал он. — К чему же эта серая мужицкая повадка — «ты» людям говорить? Вы не в деревне, а в Петербурге.
Разумеется, дело расстроилось. Теперь Андрей Иванович снова послал Александру Михайловну к Тагеру. На этот раз Тагер встретил ее очень холодно и объявил, что, к сожалению, «соответственного» места не имеет для ее мужа. Через неделю Андрей Иванович послал Александру Михайловну снова. Тагер принял ее в передней, не протягивая руки, и сказал, что будет иметь ее мужа в виду и, если что навернется подходящее, известит ее. Александра Михайловна рассказала Андрею Ивановичу, как ее принял Тагер. Андрей Иванович выслушал, закусив губы от негодования и ненависти… и через три дня снова послал ее к Тагеру.
— Андрюша, да пойми же, ну, как же я пойду? — со слезами стала возражать Александра Михайловна. — Он даже разговаривать со мною не хочет!
— Должна же ты для мужа хоть немножко постараться, — сердито сказал Андрей Иванович. — Попроси его хорошенько.
— Так ты бы сам лучше пошел.
— Чего я сам пойду? Это твое дело. Он родственник тебе, а не мне.
Он таки заставил ее пойти. У Тагера лакей впустил Александру Михайловну в переднюю, пошел с докладом и, воротившись, объявил, что барина нет дома.
Андрей Иванович, в ожидании Александры Михайловны, угрюмо лежал на кровати. Он уж и сам теперь не надеялся на успех. Был хмурый мартовский день, в комнате стоял полумрак; по низкому небу непрерывно двигались мутные тени, и трудно было определить, тучи ли это или дым. Сырой, тяжелый туман, казалось, полз в комнату сквозь запертое наглухо окно, сквозь стены, отовсюду. Он давил грудь и мешал дышать. Было тоскливо.
Андрей Иванович отвернулся к стене и попробовал заснуть. Но сон не приходил; при закрытых глазах сумрак давил душу, наполнял ее тоской и раздражением. Андрей Иванович лежал неподвижно пять минут, десять. Вдруг где-то очень далеко раздался звонкий, смеющийся голос Зины. Она весело кричала: «Караул!..»
Где она кричит?.. Андрей Иванович продолжал неподвижно лежать и старался заснуть. Но этот голос, так неподходяще-весело звучащий среди тоски и тьмы, раздражал Андрея Ивановича; ему казалось, он именно из-за него не может заснуть.
— Караул! Караул! — задорно и весело неслись издалека крики, как будто отражаемые какими-то сводами.
Андрей Иванович порывисто встал, сунул босые ноги в калоши, накинул пальто и пошел на голос. Зина и кухаркина дочь Полька сидели в сенях, запрятавшись за старые оконные рамы, держали перед ртами ладони и кричали: «Караул!» Каменные своды подвала гулко отражали крики.
— Что это ты тут делаешь? Вылезай-ка! — отрывисто сказал Андрей Иванович.
Зина, испачканная пылью и паутиной, торопливо вылезла из-за рамы.
— Почему ты кричала «караул»?
— Я нарочно! — ответила Зина побелевшими губами.
Андрей Иванович широко раскрыл глаза.
— Как это так — нарочно? Ты не знаешь, когда люди кричат «караул»?
Он притащил Зину в комнату и жестоко оттрепал.
— Сидеть на стуле и молчать! — яростно крикнул он. — Чтоб я твоего голоса больше не слышал!
Зина, сдерживая всхлипывания, взобралась на стул и замерла. Гнев несколько облегчил Андрея Ивановича. Он снова лег на кровать, принял морфия и задремал.
Андрей Иванович спал около часу. Проснувшись, он вдруг почувствовал, что у него на душе стало хорошо и весело; и все кругом выглядело почему-то веселее и привлекательнее; Андрей Иванович не сразу сообразил, отчего это.
Зина радостно кричала на кухне:
— Солнышко! Солнышко!
За время сна Андрея Ивановича небо очистилось, и яркие лучи лились в окно. Конфорка самовара и медная ручка печной дверцы играли жаром, кусок занавеси у постели просвечивал своими алыми розами, в столбе света носились золотые пылинки; чахлые листья герани на окне налились ярко-зеленым светом.
Зина, в своих расползшихся башмачонках, стояла в кухне перед окном и заливалась смехом.
— Ах, как жить на свете хорошо, когда солнышко светит! — повторяла она, жмурилась и хлопала в ладоши.
Андрей Иванович смотрел на Зину через открытую дверь; он смотрел на ее отрепанное платье и распадавшиеся башмаки, на бледное, прозрачно-восковое лицо и думал о том, что у нее тоже есть своя маленькая самостоятельная жизнь, свои радости и горести, независимые от его горя.
Александра Михайловна воротилась от Тагера.
— Ну, что? — рассеянно спросил Андрей Иванович.
— Не принял меня.
Андрей Иванович помолчал.
— Черт с ним! Отъелся, брюхо отпустил себе, где же тут еще о людях думать!.. Знаешь, Шурочка, — поколебавшись, прибавил он, — пока что… Место подходящее не сразу найдешь… Придется и тебе тоже работы какой поискать себе.
Александра Михайловна просияла.
— Да как же иначе? Господи! О чем же я все время говорила тебе? Разве так можно жить? Все равно что нищие стали. Где же тебе теперь одному управиться!
— Ах, оставь, пожалуйста! — раздраженно ответил Андрей Иванович. — Я превосходно могу управиться! Дай подлечусь либо подходящее место получу, тогда твоя помощь будет совершенно излишняя. А что действительно сейчас я мало зарабатываю… Вон у Зины башмаков нету, даже на двор выйти не может, — ты бы вот на башмаки ей и заработала. Нужно и тебе немножко потрудиться, не все же на готовый счет жить.
Они долго обсуждали, чем заняться Александре Михайловне. Выбор был небогатый, — Александра Михайловна толком ничего не умела делать; на языке ее несколько раз вертелся упрек, что вот теперь бы и пригодилось, если бы Андрей Иванович вовремя позволил ей учиться; но высказать упрек она не осмелилась. Решили, что Александра Михайловна поступит пачечницей на ту же фабрику, где работала Елизавета Алексеевна.
XII
В мастерской жизнь шла обычным ходом. Ляхов был по-всегдашнему неизменно весел; и хозяин, и товарищи относились к нему хорошо; никто не поминал об его безобразном поступке с Андреем Ивановичем, мало кто даже помнил об этом. Но, чем больше забывали другие, тем крепче помнил Андрей Иванович.
Склонившись над верстаком, он угрюмо слушал болтовню и шутки товарищей с Ляховым. Прошло всего три недели, как в этой самой мастерской Ляхов зверски избил его, — и они уже забыли, как сами возмущались этим, забыли все… Самих их ведь никто не даст в обиду — они хорошие работники; а требовать, чтобы была обеспечена безопасность Андрея Ивановича, — с какой стати? За это, пожалуй, можно еще поплатиться!
Теперь Андрей Иванович с презрением и насмешкой вспоминал о том светлом чувстве, какое в нем раньше возбуждала мысль о товариществе. Он смотрел в окно, как по туманному небу тянулся дым из фабричных труб, и думал: везде кругом — заводы, фабрики, мастерские без числа, в них работают десятки тысяч людей; и все эти люди живут лишь одною мыслью, одною целью — побольше заработать себе, и нет им заботы до всех, кто кругом; робкие и алчные, не способные ни на какое смелое дело, они вот так же, как сейчас вокруг него, будут шутить и смеяться, не желая замечать творящихся вокруг обид и несправедливостей. И всегда так будет.
И ему вдруг пришла в голову мысль: он, Андрей Иванович, болеет, товарищи видят, как он мало зарабатывает, и, однако, ни разу не сделали ему подписки. Эти жалкие люди даже на такую мелочь неспособны по собственному побуждению. Андрей Иванович хорошо знал, как обыкновенно производятся подобные подписки: когда он, бывало, подходил с подписным листом, на котором сам первый вписывал рубль, то лишь двое-трое подписывались охотно, остальные же мялись и подписывались только под влиянием упреков и насмешек Андрея Ивановича. А теперь все они очень рады, что некому их заставить. Не пойдет же Андрей Иванович с подписным листом для себя!.. И он с ненавистью слушал басистый, глупый хохот Ермолаева на шутку Ляхова и вспоминал, что этому самому Ермолаеву, когда он в прошлом году лежал в больнице с воспалением легких, он, Андрей Иванович, собрал по подписке двенадцать рублей.
Это разочарование в товарищах мучило Андрея Ивановича еще больше, чем бессильная ненависть к Ляхову, счастливому, здоровому и сильному. Да и в Ляхове он ненавидел теперь не его самого: в нем для Андрея Ивановича сосредоточилось все товарищество, в которое Андрей Иванович верил, которому был готов служить и которое так жестоко обмануло его.
Ляхов продолжал усиленно ухаживать за Андреем Ивановичем. Но Андрей Иванович упорно и резко отталкивал все его подходы. Ляхов попробовал действовать через Катерину Андреевну. Она пришла в воскресенье к Колосовым, сияющая, счастливая, и пригласила их на свое обручение.
— Вы все-таки выходите за Ляхова? — спросила Александра Михайловна.
— Да.
— А как же тот, черненький? — вполголоса осведомилась Александра Михайловна.
Катерина Андреевна поморщилась и повела плечами.
— Ну его, — скучный он! Вася лучше… Так вы уж, Андрей Иванович, не откажите нам, приходите в воскресенье. Вася вас так просит!
— Пускай ждет! Только, право, не знаю, дождется ли!
Андрей Иванович сумрачно усмехнулся.
Катерина Андреевна помолчала.
— Простили бы вы его, Андрей Иванович! Ну что сердиться! Можно ли с пьяного человека взыскивать? Он так жалеет, что оскорбил вас! Все, говорит, готов сделать, чтоб опять получить дружбу Андрея Ивановича. Право, помирились бы!
— Я не женщина, Катерина Андреевна! — сурово ответил Андрей Иванович. — Вас вот можно как угодно оскорбить, а потом приласкай вас — вы и забудете все. А я не могу простить, когда попирают мои права, потому что я не раб, не невольник! Он этого никогда не дождется, так и передайте ему, негодяю!
В следующую субботу, после получки, Андрей Иванович зашел в «Сербию» выпить рюмку коньяку. В отрепанном пальто, исхудалый, с частым, хрипящим дыханием, он медленно подошел к буфету, не глядя по сторонам. Как раз возле буфета сидели за столиком Ляхов, Ермолаев и еще трое подмастерьев.
— Андрей Иванович, садись к нам, — сказал Генрихсен. — Что так одному-то пить.
Андрей Иванович угрюмо буркнул:
— Мне к спеху!
— Горд стал Колосов! — заметил Ермолаев. — Гнушается своими товарищами.
Андрей Иванович оглядел его с ног до головы.
— Горд? О нет, ты ошибаешься, я вовсе не горд…
Ляхов вдруг быстро встал и подошел к нему.
— Андрей! Ну, будет!.. Ради бога! — умоляюще произнес он, протягивая объятия. — Ну, прости меня! Я перед всеми товарищами прошу тебя: прости!
— Тебе и без моего прощения хорошо живется, — с ненавистью ответил Андрей Иванович.
— Ну, ради бога! Андрюша!.. Тебе моя палка нравилась, позволь мне ее подарить тебе в знак примирения! Из черного дерева палка, семь рублей заплачено… На! Прошу тебя, прими!
Андрей Иванович хотел повернуться и уйти, но вдруг остановился.
— Хорошо, я принимаю! — неожиданно сказал он и взял палку. — Но помни, Васька! — Задыхаясь, он постучал концом палки по столу. — Помни: когда я напьюсь так же, как ты в тот день, я всю эту палку обломаю о твою голову!
В голосе и в лице Андрея Ивановича было что-то до того страшное, что Ляхов побледнел; в его выпуклых глазах мелькнул испуг. Андрей Иванович, тяжело опираясь на палку, вышел из трактира.
На темной улице было пустынно и тихо. Чуть таяло. Андрей Иванович задумчиво шел. Он хорошо заметил, как Ляхов испугался его угрозы. И ему было странно, как это ему до сих пор не пришла в голову мысль о таком исходе. Конечно, он так и поступит: напьется, придет в мастерскую и на глазах у всех изобьет Ляхова до полусмерти; когда же хозяин вознегодует, то Андрей Иванович удивленно ответит ему: «Ведь у вас в мастерской драться позволяется!»
С этой поры мысль о предстоящей отплате заполнила всю душу Андрея Ивановича; он с наслаждением стал лелеять и обдумывать эту мысль, радуясь и недоумевая, как он не пришел к ней раньше.
Александра Михайловна, получив от Андрея Ивановича разрешение работать, ревностно взялась за новое, непривычное дело. По природе она была довольно ленива; но в доме была такая нужда, что Александра Михайловна для лишней копейки согласилась бы на какую угодно работу.
Попасть на фабрику ей не удалось, и она брала работу из фабрики на дом. В этом было много неудобного: пачечницы, работавшие на самой фабрике, могли все время отдавать работе, — между тем у Александры Михайловны много времени шло даром на ходьбу за материалом, носку и выгрузку товара и т. п. Кроме того, приходилось тратиться на освещение. Но самое невыгодное было то, что, несмотря на все это, работавшие на дому получали меньше, чем работавшие на фабрике: вторым платили за тысячу пачек двадцать копеек, первым же только восемнадцать. Причина этого была непонятна, но так делалось во всех фабриках. Притом домашним пачечницам выдавался и клей низшего качества, и бланки, которые хуже клеились. Вообще к ним относились в фабричной конторе так, как будто они были нищие, приходившие за подаянием.
Работая с пяти часов утра до полуночи, Александра Михайловна могла сготовить три-четыре тысячи пачек. Но редко представлялась возможность наработать столько. Если она приносила за день три тысячи пачек, конторщик сердился: «Что это так скоро? На вас бланков не напасешься! Приходи завтра после обеда!» Иногда бланков не выдавали по два, по три дня. Зато, когда у набивщиков было мало пачек, конторщик начинал торопить Александру Михайловну: «Ты, милая, поскорее работу сготовь, хоть пять тысяч принеси, все приму; уж ночь не поспи, а постарайся, а то дело станет». И Александра Михайловна не спала ночь, готовя пачки к сроку.
Когда подсчитывали недельный заработок, оказывалось, что Александре Михайловне следует получить два, два с полтиной.
Андрей Иванович не мог без раздражения смотреть на ее работу; эта суетливая, лихорадочная работа за такие гроши возмущала его; он требовал, чтоб Александра Михайловна бросила фабрику и искала другой работы, прямо даже запрещал ей работать. Происходили ссоры. Андрей Иванович бил Александру Михайловну, она плакала. Все поиски более выгодной работы не вели ни к чему.
Александра Михайловна вспомнила, что Катерина Андреевна как-то говорила ей, что у них в картонажной мастерской зарабатывают полтора рубля в день. Она тайком от Андрея Ивановича пошла к Катерине Андреевне. Катерина Андреевна сильно смутилась и ответила, что сейчас все места у них заняты. Александра Михайловна пошла к ее подруге, которую раза два встречала у Катерины Андреевны. Та расхохоталась и объяснила Александре Михайловне, что мастерицы вырабатывают у них те же пятьдесят — семьдесят копеек, как и везде, а Катерина Андреевна действительно получает полтора рубля; но она их получает от хозяина не только за работу, но и… «за свою красоту»…
XIII
Было Благовещение. Андрей Иванович лежал на кровати, смотрел в потолок и думал о Ляхове. За перегородкою пьяные ломовые извозчики ругались и пели песни. Александра Михайловна сидела под окном у стола; перед нею лежала распущенная пачка коричневых бланков, края их были смазаны клеем. Александра Михайловна брала четырехгранную деревяшку, быстро сгибала и оклеивала на ней бланк и бросала готовую пачку в корзину; по другую сторону стола сидела Зина и тоже клеила.
Андрей Иванович весь кипел раздражением.
— Долго еще эта канитель будет тянуться? — сердито спросил он. — Кажется, сегодня праздник, можно бы и не работать!
Александра Михайловна робко возразила:
— Как же быть, Андрюша? Конторщик велел, чтоб непременно к завтраму было шесть тысяч.
— «Конторщик велел»… Мало ли, что тебе будет приказывать конторщик!.. Брось, пожалуйста, ты ему не раба. Заснуть нельзя!.. «Велел»… А зачем он целых три дня всего по тысяче давал тебе?
— Тут уж не приходится рассуждать.
Андрей Иванович широко раскрыл глаза и поднялся на постели.
— Как это не приходится рассуждать? Ты не животное, а человек, тебе для того и разум дан, чтоб рассуждать. Дура!.. Брось, я тебе говорю!.. Слышишь ты? — грозно крикнул он.
Александра Михайловна покорно отложила работу. Теперь, когда Андрей Иванович много бывал дома, она совершенно подчинилась ему и не смела слова сказать наперекор. Андрей Иванович лежал, злобно нахмурив брови. Александра Михайловна пошла поставить самовар, потом воротилась и, молча сев к столу, стала читать «Петербургскую газету».
Каждое движение, каждый жест Александры Михайловны возбуждали в Андрее Ивановиче неистовую ненависть. Он сдерживался, чтоб не заорать на нее, — ему было противно, что у Александры Михайловны толстый живот, что она сморкается громко и что у нее на правом локте заплата.
— Что это ты читаешь?
— Вот тут напечатано: «Мнение женщин о мужчинах».
— К чему это тебе знать, скажи, пожалуйста? Для тебя такое чтение совсем не подходяще, ты и так не умна. Дай сюда газету!
Андрей Иванович вырвал у нее газету и стал читать. Через десять минут газета опустилась к нему на грудь. Он задремал. Но кашель вскоре разбудил его. Андрей Иванович кашлял долго и никак не мог откашляться; на лбу вздулись жилы, в комнате распространился противный кисловатый запах, которым всегда несет от чахоточных.
— А что ж, самовар у тебя ко второму пришествию поспеет? — спросил Андрей Иванович, перестав, наконец, кашлять.
— Самовар готов. Я тебя только тревожить не хотела, что ты спал.
Александра Михайловна подала самовар. Андрей Иванович, в туфлях и в жилетке, — всклокоченный, угрюмый, — пересел к столу.
— Сходи купи водки пеперментовой, — отрывисто сказал он. — Выпить охота.
— Андрюша, ведь опять жар у тебя будет, как вчера, — просительно возразила Александра Михайловна.
У Андрея Ивановича загорелись глаза.
— Это ты мне намекаешь, что я на твой счет пью? — спросил он, стиснув зубы. — Дрянь ты паршивая! — закричал он и яростно затопал ногами. — Никогда мне водка не вредит, она мокроту разбивает! Ты мне хочешь сказать, что я от тебя завишу… Не надо мне твоей водки, убирайся к черту!
— Мне не жалко, Андрюша, я пойду.
— Не нужно мне твоей водки, понимаешь ты?.. Гадина! Ничего от тебя не стану принимать! С голоду подохну, а от тебя корки хлеба не приму!
Он, задыхаясь, пошел к кровати и лег. Александра Михайловна тихонько оделась, ушла и принесла пеперментовой водки.
Андрей Иванович лежал на постели и глядел горящими глазами в потолок. Александра Михайловна сказала:
— Готово, Андрюша. Иди!
— Я тебе сказал, что мне не нужно твоей водки, — с ненавистью ответил Андрей Иванович. — Поняла ты это или нет?
Он быстро встал с постели, оделся и вышел вон.
У него спиралось дыхание от злобы и бешенства: ему, Андрею Ивановичу, как нищему, приходится ждать милости от Александры Михайловны! Захотелось чего, — покланяйся раньше, попроси, а она еще подумает, дать ли. Как же, теперь она зарабатывает деньги, ей и власть, и все. До чего ему пришлось дожить! И до чего вообще он опустился, в какой норе живет, как плохо одет, — настоящий ночлежник! А Ляхов, виновник всего этого, счастлив и весел, и товарищи все счастливы, и никому до него нет дела.
Андрей Иванович остановился на дамбе Тучкова моста. Куда идти? Идти было не к кому. Единственным человеком, в привязанности которого он не сомневался, был чухонец Лестман, но Андрей Иванович не мог без раздражения думать о нем Лестман за это время несколько раз проведовал Андрея Ивановича. Придет, сядет — и молчит, и нелепо вздыхает, а уходя, предлагает Андрею Ивановичу взаймы денег. Болван! Очень ему нужны его деньги! Вечерело, алые пятна зари на западе тускнели, по набережной в синеватой дымке засветилась цепь огоньков. Андрей Иванович стоял, закусив губы, и мрачно смотрел на огоньки. Вдруг он вспомнил о Барсукове. Не поехать ли к нему? Андрей Иванович пренебрежительно усмехнулся, воротился к разъезду и сел на проходившую конку.
Барсуков со всеми его взглядами казался теперь Андрею Ивановичу удивительно наивным и неумным. Ехал он к нему вовсе не для того, чтоб отвести душу, — нет, ему хотелось высказать Барсукову в лицо, что он — ребенок и тешится собственными фантазиями, что жизнь жестока и бессмысленна, а люди злы и подлы, и верить ни во что нельзя.
С ироническою улыбкою он мысленно обращался к Барсукову:
«Вы желаете знать, отчего происходит различное электричество и что такое чувствительная литература? Все это совершенно излишне, и никакой от этого не будет пользы».
Поезд пригородной дороги, колыхаясь, мчался по тракту. Безлюдные по будням улицы кипели пьяною, праздничною жизнью, над трактом стоял гул от песен криков, ругательств. Здоровенный ломовой извозчик, пьяный, как стелька, хватался руками за чугунную ограду церкви и орал во всю глотку: «Го-о-оо!! Ку-ку!! Ку-ку!!». Необъятный голос раскатывался по тракту и отдавался за Невою.
— Ванька, зачем забор ломаешь! — зычно крикнул кто-то с империала.
— Пятиалтынный пропил? — спросил другой.
— Го-го-го-гоо! — откликнулся ломовик, мощно потрясая ограду. — Ку-ку!! Ку-ку!! — снова понеслось над трактом.
По улице, среди экипажей, шагали в ногу трое фабричных, а четвертый шел перед ними задом, размахивая бутылкою, и с серьезным лицом командовал: «Левой! Левой! Левой!..» У трактира гудела и колыхалась толпа, мелькали кулаки, кто-то отчаянно кричал: «Городово-о-ой!.. Городово-о-ой!..»
Барсуков занимал от хозяйки довольно большую комнату вместе с товарищем. Андрей Иванович застал обоих дома — они сидели за чаем и читали газету. Товарищ Барсукова, Щепотьев, был стройный парень с энергичным, суровым лицом, с насмешливой складкой в углах губ.
Барсуков встретил Андрея Ивановича очень радушно. Он усадил его пить чай и с участием стал расспрашивать о здоровье. Про его историю с Ляховым он слышал от Елизаветы Алексеевны.
— Здоровье ничего, спасибо! — с угрюмой усмешкою ответил Андрей Иванович. — Если до лета доживу, так отслужу благодарственный молебен… За друзей! За товарищество! Да и за хозяина кстати… Как же! Ведь он мне большую милость оказал: меня в его мастерской избили, а он ничего, не рассердился на меня, позволил остаться.
Андрей Иванович просидел у Барсукова часа два. Он высказал все, что собирался высказать. Барсуков стал ему возражать, в спор вмешался и Щепотьев. Щепотьев был умнее и развитее Барсукова, говорил резко и убедительно. Но Андрей Иванович не сдавался, он мало даже слушал возражения, а с упорною, сосредоточенною злобою продолжал доказывать, что все люди подлецы и все ерунда.
Назад он ехал раздраженный и сердитый. Его собственные доводы убедили его еще сильнее в правильности его теперешних воззрений, и светлый взгляд его собеседников на жизнь и на будущее раздражал его. Как они не понимают, что это ребячество, как могут они находить случай с ним недоказательным!.. О, для самого Андрея Ивановича случай был очень доказателен: никому ни до кого нет дела, кроме как до себя… И вдруг мысль, которою Андрей Иванович до сих пор тешился и успокаивал себя, встала перед ним с полной определенностью; конечно, он изобьет Ляхова в мастерской, и он сделает это завтра же!
XIV
Утром Александра Михайловна понесла корзину с готовыми пачками на фабрику. Андрей Иванович выслал Зину в кухню и ножом открыл замок комода; в правом углу ящика, под тряпками, он отыскал кошелек и из полутора рублей взял восемьдесят копеек; потом Андрей Иванович захватил палку, которую ему подарил Ляхов, и вышел из дому.
Он зашел в «Сербию», сел в угол к столику и спросил коньяку. Андрей Иванович хорошо знал, как он страшен во хмелю, и хотел раньше напиться. В трактире посетителей было мало; стекольщик вставлял стекло в разбитой стеклянной двери, буфетчик сидел у выручки и пил чай.
Андрей Иванович выпил одну рюмку, сейчас же за нею другую и закусил мятной лепешечкой. В голове слегка зашумело. Он выпил третью рюмку. Лицо бледнело, в голове становилось все туманнее. Глядя горящими глазами в окно, он лихорадочно курил папиросу за папиросой и вспоминал о том испуге, какой охватил Ляхова при его угрозе. Выпил еще две рюмки. Дикое исступление бешенства росло в нем, вздымалось и охватывало душу. В этом было что-то захватывающе-радостное. Горькое сознание беспомощности и одиночества исчезло; Андрей Иванович чувствовал в себе силу, против которой ничто не устоит и которой не нужна ничья помощь.
Он не помнил, как допил бутылку, как прошел улицу. В конторе хозяин разговаривал с двумя заказчиками. Андрей Иванович сорвал с себя в конторе пальто, бросил его на подоконник и с палкою в руках вошел в мастерскую.
Ляхов сидел у верстака, лицом к окну, и, наклонившись, резал на подушечке золото. Среди ходивших людей, среди двигавшихся машин и дрожащих передаточных ремней Андрей Иванович видел только наклоненную вихрастую голову Ляхова и его мускулистый затылок над синею блузою. Сжимая в руке палку, он подбежал к Ляхову.
— Получай должок! — крикнул Андрей Иванович и с размаху ударил Ляхова по голове.
Ляхов втянул голову в плечи, в гневе вскочил и обернулся. Андрей Иванович, с всклокоченной головою, с горящими на исхудалом лице глазами, кинулся на него с палкою. Ляхов побледнел и отшатнулся.
— Кара-у-ул!!! — вдруг заорал он на всю мастерскую, еще глубже втянул голову в плечи и бросился бежать.
Тупой, животный ужас охватил его — ужас, при котором перестают рассуждать. Сталкивая всех локтями с дороги, Ляхов стрелою пробежал длинную мастерскую, выскочил на площадку и помчался по крутой каменной лестнице наверх, в брошировочное отделение. Андрей Иванович, задыхаясь, бежал за ним.
— Караул!.. Караул!.. — коротко выкрикивал Ляхов на бегу.
Они побежали между верстаками, задевая за пачки листов. Листы дождем сыпались на землю, девушки-фальцовщицы в испуге и удивлении кидались в стороны.
Ляхов влетел в комнату мастера, с ужасом слыша, что Андрей Иванович не отстает. Другого выхода из комнаты не было. Ляхов в отчаянии повернулся и быстро бросился навстречу Андрею Ивановичу. Они столкнулись на пороге, Андрей Иванович полетел навзничь. В том же тупом, нерассуждающем ужасе Ляхов кинулся на него, вцепился рукою в горло и, схватив в кулак валявшийся на полу костной фальцбейн[20], стал наносить Андрею Ивановичу удары по голове. С третьего же удара костяшка сломалась, но обезумевший от страха Ляхов ничего не замечал и продолжал наносить удары обломком.
— Это что такое? — раздался громовой голос хозяина.
Ляхов очнулся и поднялся на ноги, бледный и дрожащий. Андрей Иванович сидел, свесив окровавленную голову, ерзал руками по полу и старался вскочить.
— Опять скандалы тут поднимать?! — в бешенстве кричал хозяин.
Ляхов бросил костяшку и, ругаясь, пошел вниз.
— Нет, брат… погоди! — хрипел Андрей Иванович. Он поднялся на ноги и, шатаясь, побежал вслед за Ляховым.
— Удержать его, чего смотрите? — крикнул хозяин броширантам. — В участок захотелось тебе, скандалист ты этакий?
Андрей Иванович остановился.
— В участок?! — заревел он и устремился на Семидалова. — Сукин ты сын, эскулап!..
Броширанты схватили Андрея Ивановича.
Товарищи-подмастерья упросили хозяина не отправлять Андрея Ивановича в участок. Он плюнул и позволил им убрать его, куда угодно.
Андрея Ивановича, пьяного и залитого кровью, свезли домой. Он ругался и старался вырваться от сопровождавших его Ермолаева и Генрихсена. Его привезли и уложили в постель, но Андрей Иванович не унимался.
— Вы меня пустите или нет? — яростно кричал он, сверкая глазами. — Всех вас, мерзавцев, в одной помойной яме надо утопить, — фараоны вы, мазурики, арапы!.. Подать мне сюда Семидалова, — я ему покажу! Това-арищи… Вы рабы, вы невольники против моих мнений… Тьфу-у!!!
Плачущая Александра Михайловна повязала его окровавленную голову полотенцем, но Андрей Иванович тотчас же сорвал повязку. Он бушевал долго; но понемногу стал ослабевать. Наконец, уткнувшись залитым кровью лицом в подушку, примолк и вскоре заснул.
Андрей Иванович проснулся к вечеру. Он хотел подняться и не мог: как будто его тело стало для него чужим и он потерял власть над ним. Александра Михайловна, взглянув на Андрея Ивановича, ахнула: его худое, с ввалившимися щеками лицо было теперь толсто и кругло, под глазами вздулись огромные водяные мешки, узкие щели глаз еле виднелись сквозь отекшее лицо; дышал он тяжело и часто.
— Водка пеперментовая осталась у тебя? — хрипло спросил Андрей Иванович.
— Да.
— Дай-ка рюмочку! Да сходи принеси соленого огурчика.
Андрей Иванович отер мокрым полотенцем лицо, выпил, закусил соленым огурцом и молча повернулся к стене.
Всю ночь Андрей Иванович не спал. Он лежал и думал. Ему вспоминалась, как сквозь туман, схватка с Ляховым, и Андрей Иванович не мог простить своей глупости: Ляхов силен, как бык, он одною рукою может справиться с ним; следовало действовать совсем иначе — просто подойти к Ляхову и всадить ему в живот шерфовальный нож. Время еще не ушло. Андрей Иванович так и решил поступить. Вспомнил он безмерный ужас, в каком Ляхов побежал от него, и сладкая радость наполнила душу. О, недаром Ляхов боится его, — еще будет дело!
Но в теперешнем состоянии Андрей Иванович чувствовал себя ни на что не годным; при малейшем движении начинала кружиться голова, руки и ноги были словно набиты ватой, сердце билось в груди так резко, что тяжело было дышать. Не следует спешить; нужно сначала получше взяться за лечение и подправить себя, чтоб идти наверняка.
Наутро Андрей Иванович объявил Александре Михайловне, что он решил лечь в больницу и лечиться как следует.
XV
Был десятый час утра. Дул холодный, сырой ветер, тающий снег с шорохом падал на землю. Приемный покой N-ской больницы был битком набит больными. Мокрые и иззябшие, они сидели на скамейках, стояли у стен; в большом камине пылал огонь, но было холодно от постоянно отворявшихся дверей. Служители в белых халатах подходили к вновь прибывшим больным и совали им под мышки градусники.
Александра Михайловна ввела под руку Андрея Ивановича; на скамейке у окна только что освободилось место. Андрей Иванович сел, Александра Михайловна осталась стоять. Андрей Иванович был в торжественном и решительном настроении; он был готов на все, чтоб только поправиться; так он и собирался сказать доктору: «Лечите меня, как хотите, что угодно делайте со мной, я все исполню, — только поставьте на ноги!»
Рядом с Андреем Ивановичем сидел бледный, осунувшийся старик в рваном полушубке. Дальше полулежал, облокотившись о ручку скамейки, мальчик лет двенадцати, с лихорадочно горящими, умными и печальными глазами; он был в пеньковых опорках и онучах, замотанных бечевками, в рваной и грязной кацавейке. Возле него стояла женщина средних лет с бойким, чернобровым лицом.
— Твой паренек? — обратился к ней старик.
— Нет, так, из жалости привезла его, — быстро ответила женщина, видимо не любившая молчать. — Иду по пришпехту, вижу — мальчонка на тумбе сидит и плачет. «Чего ты?» Тряпичник он, третий день болеет; стал хозяину говорить, тот его за волосья оттаскал и выгнал на работу. А где ему работать! Идти сил нету! Сидит и плачет; а на воле-то сиверко, снег идет, совсем закоченел… Что ж ему, пропадать, что ли?
Старик участливо спросил мальчика:
— Давно ли из деревни?
— Второй год, — сипло ответил мальчик.
— Матка, чай, в деревне есть?
— Есть.
Старик вздохнул.
— В другое бы мастерство нужно тебе! В тряпичниках чему хорошему научишься… Платит тебе что хозяин?
— Пятнадцать рублей в год.
Из приемной вынесли на носилках больного с повязанной головой. Служитель крикнул:
— Федор Гаврилов! К доктору!
Женщина засуетилась и пошла с мальчиком в приемную. Наружные двери то и дело хлопали. Входили новые больные. Старик чесал под полушубком грудь и вздыхал.
— И малому плохо, и старому плохо, — сказал он, обращаясь к Александре Михайловне. — Не дай бог болеть рабочему человеку!
Александра Михайловна посмотрела на его корявые трясущиеся руки.
— А ты что работаешь?
— Я-то? Да вот здоров был, дрова пилил в Смольный институт… А теперь какая работа? Нету сил, ослаб. От еды совсем отбило. Два раза в день укушу хлебца, и ладно. Главное дело — ослаб.
Доктор в золотых очках и белом халате, с сердитым лицом, прошел в приемную к телефону.
— Тррррр!.. — зазвенел звонок телефона. — Александровская больница? — спросил доктор в телефон. — Коллега, не можете ли вы принять к себе мальчика двенадцати лет с неопределенною формою тифа? У нас совершенно нет мест.
Доктор замолчал, слушая ответ.
— Пожалуйста, коллега, я вас прошу! — проговорил он раздраженно. — Ребенку решительно некуда деться, приходится выбрасывать на улицу. Может быть, как-нибудь отыщете местечко.
Он замолчал, слушая.
— Трр!.. Трр!.. — сердито зазвякал телефон, требуя разъединения. Доктор воротился в приемную. Через минуту из нее вышла женщина с мальчиком. Она кричала:
— Куда я его дену? Извините, пожалуйста, таких правилов нету! Болен человек, — вы его обязаны принять.
— Ты, матушка, не шуми! — строго сказал служитель.
— Как же мне не шуметь, когда вы сурьезно поступаете! Куда я с ним теперь? И так последний двугривенный на извозчика отдала.
— В другую больницу обратись.
— Ну, уж спасибо! Есть мне время! Делайте с ним, что хотите!
И она быстро направилась к дверям. Служители бросились за нею и удержали.
— Нет, матушка, погоди!.. Бери-ка мальчишку!
Женщина плакала, ругалась, грозила градоначальником, но в конце концов пришлось смириться. Мальчик стоял и безучастно глядел на бушевавшую за окнами мокрую вьюгу.
— У-у, постылый! Связалась на свою погибель!
Женщина сердито взяла его за руку и вышла вон.
Старик, сосед Андрея Ивановича, тоже воротился из приемной. Он растерянно подошел к месту, где лежал его полушубок.
— Н-не знаю… — произнес он и замолчал.
Андрей Иванович мрачно спросил:
— Не приняли?
— Говорит: можешь на прием ходить. А то в другую больницу ступай… Уж не знаю…
— «В другую больницу»! — резко проговорил исхудалый водопроводчик с темным, желтушным лицом. — Вчера вот этак посадили нас в Барачной больнице в карету, билетики дали, честь честью, повезли в Обуховскую. А там и глядеть не стали: вылезай из кареты, ступай, куда хочешь! Нету местов!.. На Троицкий мост вон большие миллионы находят денег, а рабочий человек издыхай на улице, как собака! На больницы денег нет у них!
Старик задумчиво стоял, поводил головою и вопросительно глядел на свой полушубок.
— Главное дело — ослаб, сил нетути. С квартиры гонют.
Он вздохнул, надел полушубок и вышел вон.
А новые больные все прибывали. Заразных сортировали и давали им отказные билетики в соответственные больницы, очень тяжелых, умиравших принимали, а всем остальным отказывали.
Позвали, наконец, Андрея Ивановича. Доктор, с усталым и раздраженным лицом, измученный бессмысленностью своей работы, выстукал его, выслушал и взялся за пульс. Андрей Иванович смотрел на доктора, готовый к бою: он заставит себя принять — он не женщина и не мужик и знает свои права. Больничный сбор взыскивают каждый год, а болен стал, — лечись, где хочешь?
Доктор долго щупал пульс Андрея Ивановича и в колебании глядел в окно. Пульс был очень малый и частый. Такие больные с водянкою опасны: откажешь, а он, не доехав до дому, умрет на извозчике; газеты поднимут шум, и могут выйти неприятности. Больница была переполнена, кровати стояли даже в коридорах, но волей-неволей приходилось принять Андрея Ивановича. Доктор написал листок, и Андрея Ивановича вывели.
— Не приняли? — упавшим голосом спросила Александра Михайловна.
Андрей Иванович с гордостью ответил:
— Приняли!
Окружающие с завистью покосились на него.
Андрея Ивановича отвели в ванную, а оттуда в палату. Большая палата была густо заставлена кроватями, и на всех лежали больные. Только одна, на которой ночью умер больной, была свободна; на нее и положили Андрея Ивановича. Сестра милосердия, в белом халате и белой косынке, поставила ему под мышку градусник.
Вскоре пришел на визитацию палатный доктор. Он вторично выстукал и выслушал Андрея Ивановича, велел оставить его мокроту для микроскопического исследования и назначил лечение. По уходе доктора Андрей Иванович внимательно прочел свой скорбный лист.
Вечером Андрею Ивановичу сделали ванну, и он почувствовал себя немного лучше. Тяжелые больные легковерны: незначительное улучшение в своем состоянии они готовы считать за начало выздоровления; Андрей Иванович решил, что недели через две-три поправится, и горько пожалел, что не лег в больницу раньше.
Ночь Андрей Иванович провел без сна и опять думал о Ляхове. Ляхов, конечно, очень скоро узнает, что Андрея Ивановича свезли в больницу. То-то он обрадуется, то-то спокойно вздохнет! Дескать, попал в больницу, так уж не воротится. Только так ли это?.. После пасхи Андрей Иванович выпишется из больницы здоровым и крепким; он войдет в мастерскую, подойдет к Ляхову: «Здравствуй, товарищ!..» Ляхов, услыша его голос, вскочит с тем же тупым ужасом, как и тогда, но уж бежать ему не придется: одним взмахом Андрей Иванович всадит ему в живот шерфовальный нож… Стиснув зубы, он делал под одеялом быстрое, короткое движение сжатым кулаком и представлял себе в кулаке острый, блестящий шерфовальный нож.
В палате, битком набитой больными, было душно, и стояла тяжелая вонь от газов, выделявшихся у спавших. Дежурная сиделка дремала у окна. Дряхлый старик лакей с отеком легких стонал грубыми, протяжными стонами, ночники тускло светились, все глядело мрачно и уныло. Но на душе у Андрея Ивановича было радостно.
XVI
Назавтра после визитации доктора Андрей Иванович взял свой скорбный лист, чтобы посмотреть, что в него вписал доктор. Он прочел и побледнел; прочел второй раз, третий… В листке стояло: «Притупление тона и бронхиальное дыхание в верхней доле левого легкого; в обоих масса звучных влажных хрипов; в мокроте коховские палочки».
Андрей Иванович сразу страшно ослабел; изнутри головы что-то со звоном подступило к глазам и ушам; он опустил листок и закрыл глаза. «Коховские палочки»… Андрей Иванович прекрасно знал, что такое коховские палочки: это значит, что у него — чахотка; значит, спасения нет, и впереди смерть.
Принесли обед. Сиделка поставила Андрею Ивановичу миску с молочным супом.
— Обед принесен, эй! — сказала она и тронула его за рукав.
Андрей Иванович нетерпеливо повел головою и продолжал лежать, закрыв глаза. Коховские палочки… Всего два часа назад Андрей Иванович чувствовал себя в водовороте жизни, собирался бороться, мстить, радоваться победе… И вдруг все оборвалось и ушло куда-то далеко, а перед глазами было одно — смерть беспощадная и неотвратимая.
В два часа пришла на свидание Александра Михайловна. Андрей Иванович равнодушно объявил ей, что у него чахотка и он скоро умрет. Александра Михайловна широко раскрыла глаза и быстро спросила:
— Как? Что? Доктор сказал?
Андрей Иванович усмехнулся.
— Что доктор! Я сам знаю!.. У меня коховские палочки нашли — червячков таких, от которых бывает чахотка.
Александра Михайловна заплакала. Андрей Иванович смотрел на нее, и ему стало жалко себя, и в то же время почему-то вспомнилось равнодушное, усталое лицо палатного доктора и тот равнодушный вид, с каким он записывал в листок его смертный приговор.
С каждым днем Андрей Иванович чувствовал себя хуже. Он стал очень молчалив и мрачен. На расспросы Александры Михайловны о здоровье Андрей Иванович отвечал неохотно и спешил перевести разговор на другое. То, что ему рассказывала Александра Михайловна, он слушал с плохо скрываемою скукою и раздражением. И часто Александра Михайловна замечала в его глазах тот угрюмый, злобный огонек, который появлялся у него в последние недели при упоминании о Ляхове.
Между тем к Ляхову Андрей Иванович относился теперь без прежней злобы. Когда Ермолаев пришел его проведать и сообщил, что Ляхов просит позволения посетить его, Андрей Иванович только пожал брезгливо плечами и ответил, что если хочет, пусть приходит. Ляхов пришел раз и после этого стал ходить каждое воскресенье. Приходил он всегда с кем-нибудь из товарищей, держался назади, сконфуженно теребил в руках шапку. Андрей Иванович, неестественно улыбаясь, разговаривал с ним, и обоим было неловко.
Не мысль об истории с Ляховым мучила Андрея Ивановича. Вся эта история казалась ему теперь бесконечно мелкою и пошлою, мстить он больше не хотел, и Ляхов возбуждал в нем только гадливое чувство. Андрей Иванович страдал гораздо сильнее прежнего, он страдал совсем от другого — от нахлынувших на него трезвых дум.
О, эти трезвые думы!.. Андрей Иванович всегда боялся их. Холодные, цепкие и беспощадные, они захватывали его и тащили в темные закоулки, из которых не было выхода. Думать Андрей Иванович любил только во хмелю. Тогда мысли текли легко и плавно, все вокруг казалось простым, радостным и понятным. Но теперь дум нельзя было утопить ни в вине, ни в работе; а между тем эта смерть, так глупо и неожиданно представшая перед Андреем Ивановичем, поставила в нем все вверх дном.
И думы ползли одна за другою, злые и безотрадные, и Андрей Иванович не мог их отогнать… Прожил он сорок лет и все бессознательно ждал чего-то. Эта чадная, тошнотная жизнь не могла тянуться вечно. Он ждал — вот явится что-то, что высоко поднимет его над этой жизнью, придет большое счастье, в котором будет кипучая жизнь, и борьба, и простор. А между тем всему конец, впереди — одна смерть, а назади — жизнь дикая и пьяная, в которой настоящую радость, настоящее счастье давала только водка. Как он пил! И как все они пили! Когда не хватало денег на водку, они пили в мастерской спиртный лак. Чтоб уберечь лак, хозяин прибавлял в него анилиновой синьки, но они пили и с синькою, были готовы пить с чем угодно. Они калечили и отравляли свое тело, отравляли душу, и все шло к черту. А как было иначе жить? На что было беречь душу? На то, чтобы ходить на народные гулянья, пить там чай и качаться на качелях? Эка радость!..
Андрею Ивановичу вспомнился Барсуков и та картина смерти, о которой он рассказывал; умирает рабочий и думает: «Для чего он все время трудился, выбивался из сил, — для чего он жил? Он жил, а жизни не видел… Какая же была цель его существования?»
И он тоже, Андрей Иванович, — он жил, а жизни не видел. А между тем, ему казалось, он способен был бы жить — жить широкою, сильною жизнью, полною смысла и радости; казалось, для этого у него были и силы душевные, и огонь. И ему страстно хотелось увидеть Барсукова или Щепотьева, поговорить с ними долго и серьезно, обсудить все «до самых основных мотивов». Но Щепотьев сидел в тюрьме, Барсуков был выслан из Петербурга.
Александра Михайловна посещала Андрея Ивановича каждый день. Она приносила ему вина, фруктов, всего, чем пытался Андрей Иванович разжечь свой пропавший аппетит. Занятый своими мыслями, Андрей Иванович не задавался вопросом, как она все это достает. Он привередничал, сердился, требовал то того, то другого. Но однажды, когда Александра Михайловна, входя в палату, остановилась у дверей и вступила в разговор с сестрою милосердия, Андрей Иванович, глядя издали на жену, был поражен, до чего она похудела и осунулась.
— Ты все еще на фабрике работаешь? — спросил Андрей Иванович, когда она поставила на стол бутылку елисеевского лафита. И горячая нежность шевельнулась в его душе.
— Пока на фабрике, — устало ответила Александра Михайловна. — Уж не знаю, нужно будет чего другого поискать. Работаешь, а все без толку… Семидалов к себе зовет, в фальцовщицы. Говорит, всегда даст мне место за то, что ты у него в работе потерял здоровье. Научиться можно в два месяца фальцевать; все-таки больше заработаешь, чем на пачках.
Андрей Иванович ужаснулся. Условия жизни и работы фальцовщиц были ему слишком хорошо известны. Все остальное свидание он был молчалив и задумчив.
Когда Александра Михайловна пришла на следующий день, Андрей Иванович долго молчал, не в силах заговорить от охватившего его волнения. Наконец, сказал:
— Знаешь, Шурочка… Я всю ночь про тебя думал… Я много с тобою поступал неправильно… Как я тебе теперь помогу? Я не знаю, что тебе делать. Только один мой завет тебе — не поступай к нам в мастерскую: там гибель для женщины…
— Что же делать?
Андрей Иванович в тоске потер руки.
— Что? Я не знаю…
В конце апреля Андрей Иванович умер. Хоронили его на Смоленском кладбище. Было воскресенье. Большинство товарищей присутствовали на похоронах, в их числе Ляхов. Они на руках донесли гроб Андрея Ивановича до могилы. Тут же, на свеженасыпанной могиле, Александра Михайловна поставила четверть водки и справлены были поминки.
Похоронили Андрея Ивановича на самом конце кладбища, в одном из последних разрядов. Был хмурый весенний день. В колеях дорог стояла вода, по откосам белел хрящеватый снег, покрытый грязным налетом, деревья были голы, мокрая буро-желтая трава покрывала склоны могил, в проходах гнили прошлогодние листья.
Но не смертью и не унынием дышала природа. От земли шел теплый, мягкий, живой запах. Сквозь гниющие коричневые листья пробивались ярко-зеленые стрелки, почки на деревьях наливались. В чаще весело стрекотали дрозды и воробьи. Везде кругом все двигалось, шуршало, и тихий воздух был полон этим смутным шорохом пробуждавшейся молодой, бодрой жизни.
II. Конец Александры Михайловны (Честным путем)
I
Александра Михайловна кончила фальцевать листы «Петербургского вестника». Она сравняла с боков стопку сфальцованных листов и устало облокотилась об нее.
За соседним верстаком Грунька Полякова, крупная девушка с пунцовыми губами и низким лбом, шила дефектные книги. Она не торопясь шила и посвистывала сквозь зубы, как будто не работала, а только старалась чем-нибудь убить время: за шитье дефектных книг платят не сдельно, а поденно. Александра Михайловна искоса следила за Поляковой.
— Что это, какая вам всегда легкая работа! — не вытерпела она.
Полякова медленно повернула голову и небрежно оглядела Александру Михайловну.
— Я больная, у меня ревматизм в руках.
— Больная… — Александра Михайловна помолчала. — Вы, может быть, больная, зато вы есть одна. А у других, может, ребенок есть, его надо поить-кормить.
— Как кому судьба.
— И вовсе судьба тут ни при чем. Дело тут от мастера зависит, а не от судьбы.
— От мастера? Что-о вы?.. От какого-такого мастера?
Полякова нарочно повысила голос. Мимо как раз проходил мастер Василий Матвеев. Он услышал вопрос Поляковой и внимательно покосился на них. Александра Михайловна поспешно отошла прочь.
На круглых часах над дверью мастерской пробило четыре. У бокового окна работала за верстаком приятельница Александры Михайловны, Таня Капитанова. Солнце светило в окно, Таня непрерывно наклонялась и выпрямлялась. Когда она наклонялась, ее голова с пушистыми золотыми волосами попадала в полосу света и как будто вся вспыхивала сиянием.
Александра Михайловна подошла и сказала:
— Пора чай пить.
— Сейчас кончу! — торопливо ответила Таня.
Устало понурившись, Александра Михайловна с удовольствием и завистью смотрела на ее работу. Таня была лучшею работницею мастерской. Захватив со стопки большой печатный лист, она сгибала его на папке, с неуловимою быстротою взглянув на номера, и проводила по сгибу костяшкою. Лист как будто сам собою сгибался, как только его касались тонкие пальцы Тани. При втором сгибе мелькал столбец цифр, при третьем — какая-то картинка, сложенный лист летел влево, а в это время со стопки уже скользил на папку новый.
Таня сбросила с папки последний сфальцованный лист.
— Ну, пойдемте!
— Счастливая ты, Таня! — вздохнула Александра Михайловна.
В работе наступил перерыв. Девушки сидели кучками по четыре-пять человек и пили чай. В раскрытые окна несло жаром июньского дня, запахом известки и масляной краски.
Александра Михайловна и Таня пили чай вместе с двумя другими работницами — вдовою переплетного подмастерья Фокиной и бедной пожилой девушкой Дарьей Петровной. Александра Михайловна, сгорбившись, сидела на табуретке, испытывая приятное ощущение отдыха. Она уж третий месяц работала в мастерской, но все еще при каждом перерыве ей хотелось отдыхать долго-долго, без конца.
— Что за история такая! — задумчиво сказала она. — Все мне Васька Матвеев трудную работу дает. Напоила его кофеем, угостила, — думала, легче станет. Неделю давал шитье в прорезку, фальцовку на угол, а потом опять пошло по-старому.
Фокина усмехнулась.
— А вы как же думали? Вы думали, угостили раз, и готово дело! У него положение: поставишь угощение, — будет тебе хорошая работа на неделю.
— Вот так-так! — Александра Михайловна скорбно задумалась. — Что же это такое? Четыре человека их, мастеров. Вишневка, кофей, пирожки — рубль шестьдесят семь копеек мне обошлось. Четверть фунта кофею выпили, два фунта сахару съели, что съели, что по карманам себе напихали… Неужто мало им?
— А вы их одна, что ли, угощаете? — желчно возразила Фокина. — Раз-то, другой, всякая угостит; кому же они трудную работу будут давать?
— Так ведь, господи, я не о том, что трудная! Пускай и трудную работу дают, а чтоб только правильно делали, не обижали людей.
Таня гордо сказала:
— А я вот никого ни разу не угощала! И не стану угощать, без них справлюсь.
— А я тебе, Танечка, вот что скажу, — медленно произнесла Дарья Петровна, — не гордися! Погордишься, милая, погордишься, а потом пожалеешь. Разорение тебе какое, что ли, мастера уважить? А сила у него большая.
— Как же это мне быть теперь? — в печальном недоумении спросила Александра Михайловна, — девять-десять рублей заработаешь в месяц, что же это? Разве на такие деньги проживешь с ребенком?
— Вы вот что: попросите себе у Василия Матвеева приклейку, — посоветовала Дарья Петровна. — Вы уж третий месяц работаете, — вам давно пора приклейку давать. А это работа выгодная. Вон-он Федька идет, может, он знает, спросите, есть ли сейчас приклейка.
У Дарьи Петровны было смиренное, желто-бледное лицо, и она с ненужною угодливостью заглядывала в глаза тому, с кем говорила.
Александра Михайловна остановила проходившего броширанта и ласково спросила:
— Не знаешь, Федя, есть сейчас у мастера приклейка?
— Сколько угодно! «Русская поэзия», с портретами. Десять тысяч экземпляров.
В дверь заглянул из коридора переплетный подмастерье Ляхов. Он быстро вошел в комнату, схватил Федьку за плечо и грозно спросил:
— Тебе чего тут нужно?
— Чего… А вам чего? — с недоумением пробормотал Федька.
Ляхов поднес к его носу крепкий кулак.
— Я тебе, негодяй, все зубы твои повыбью!.. Пошел прочь, не сметь с Александрой Михайловной разговаривать!
— Эге! — Федька весело усмехнулся и, подняв брови, с любопытством метнул взгляд на Александру Михайловну.
— Господи, что же это такое! — воскликнула Александра Михайловна. — Василий Васильевич, вы с ума сошли, что ли?
— Я никакому мужчине не позволю говорить с Александрой Михайловной! Еще раз увижу тебя — изувечу! — крикнул Ляхов и свирепо выкатил глаза.
— Да что же это, господи! Василий Васильевич, я к хозяину пойду! Как вы смеете меня позорить?
— Так вот, помни!
Ляхов еще раз выразительно потряс кулаком перед носом пятившегося Федьки и, не глядя на Александру Михайловну, вышел. Улыбавшийся Федька в юмористическом ужасе продолжал пятиться к верстакам.
Александра Михайловна сидела красная и сконфуженная.
— Ну что же это такое, скажите, пожалуйста! Вот уж второй месяц не дает мне покою. Пристает везде, позорит, просто проходу никакого нету!.. И чего он ко мне привязался!
— Везде только про вас и говорит, такой бесстыдник! — сочувственно негодующе сказала Дарья Петровна. — Влюблен, говорит, не могу жить без нее. Это женатый-то человек! Такой стыд!
— Намедни пришел к нам, — усмехнулась Фокина, — рассказывает про свою любовь, плачет, — спьяну, конечно. Если, говорит, Александра Михайловна меня не удовлетворит, я, говорит, как только листья осыпятся, повешусь в Петровском парке. «Чего же, — я говорю, — ждать. Это и теперь можно». — «Нет, говорит, когда листья осыпятся».
— А еще был друг покойнику Андрею Ивановичу! — укоризненно вздохнула Александра Михайловна, и чуть заметная самодовольная улыбка пробежала по ее губам.
Девушки кончили пить чай и принимались за работу. В огромной живой машине начинали шевелиться ее части, и вскоре она пошла в ход быстрым, ровным темпом.
Александра Михайловна вошла в комнату мастера. Василий Матвеев, высокий, грузный мужчина с мясистым лицом, наклонясь над верстаком, накалывал листы. Он оглядел Александру Михайловну своими косящими глазами и молча продолжал работать.
Александра Михайловна сказала:
— Василий Матвеев! Я работу кончила, дай мне приклейку!
Мастер продолжал молча накалывать.
— Василий Матвеев!
— Да подожди ты, видишь, занят я! — грубо огрызнулся он.
Александра Михайловна, стиснув зубы, смотрела на его красное, потное лицо. Три недели назад Василий Матвеев ущипнул ее в руку около плеча, и она сурово оттолкнула его. «Ишь, недотрога какая выискалась!» — ядовито заметил он и с тех пор стал во всем теснить. Только ту неделю, когда Александра Михайловна напоила его кофеем, он был немножко ласковее.
Василий Матвеев, не спеша, продолжал работать, Александра Михайловна сердито спросила:
— Скоро, что ли? Мне нет времени ждать.
— Приклейку, — проворчал мастер. — Тебе рано приклейку, напортишь.
— Нет, не рано. Приклейка через полтора месяца полагается, а я уж третий месяц работаю.
— Приклейку… Мастеру уважения не доказываешь, а тоже, приклейку ей давай… Что нынче с Грунькой говорила?
— Да что, Василий Матвеев, разве не правду я сказала? Одним все легкую работу даете, другим все трудную. А ведь жить-то всем нужно.
— Нет сейчас приклейки, ступай! — оборвал Василий Матвеев.
Левая щека Александры Михайловны задергалась.
— Нет, есть приклейка, я знаю: «Русская поэзия»… Я к хозяину пойду.
Мастер молчал. Александра Михайловна решительно пошла к выходу.
— Там, в углу, — буркнул Василий Матвеев.
Она воротилась.
— Это вот?.. Какую картину взять?
— Пушкина портрет. Тысячу возьми, не больше.
— На какую страницу приклеивать?
— Да отстань ты, пожалуйста, не мешай!.. Пятьдесят шестая страница.
Александра Михайловна вышла. Внутри у нее кипело от злобы: десять минут ушло на переговоры, а он отлично знает, как дорого время при сдельной работе. Но ей было приятно, что она все-таки добилась своего. Александра Михайловна распустила пачку портретов, смазала их клеем и принялась за работу.
Кругом стоял непрерывный шелест от сворачиваемых листов. Слышно было, как под полом стучал в переплетном отделении газомотор.
— Ишь ведьма-то наша уезжать собирается! — сказала рядом Манька, бойкая девочка лет шестнадцати.
Гавриловна, худая старуха в грязной, отрепанной юбке, стояла у печки и с серьезным лицом стучала в нее костяшкою.
— Стучит, чтоб помело подавали! — засмеялась другая девочка, Дунька.
— Тара-та-там! Тара-та-там!.. Тара-та-та-та-там! — хрипло напевала полоумная Гавриловна, нелепо изогнув руки, и кружилась около печки на одном месте.
Манька спросила:
— Ты чего, тетенька, вертишься?
— Я, милая, молода была, много польку танцевала, все в одну сторону. Теперь раскручиваюсь… Тара-та-там! Тара-та-там!..
— Что это за безобразие! — сердито крикнула Фокина. — Работать мешает… Иди на место, слышишь ты!
— И вправду, что это! — сказала Александра Михайловна. — Работать нужно, а она развлекает. Ведь нельзя же, люди делом заняты!
Гавриловна молча стала к станку, поклонилась в пояс стопке листов и принялась фальцевать. Минуты две она молча работала, потом вдруг повернулась к Фокиной и громко крикнула:
— Черт тебя зашиби большим камнем! Белуга астраханская!
Девочки прыснули.
— Провались ты провалом, лопни твой живот! Чтоб к тебе ночью домовой на постель влез!
— Хо-хо-хо! — засмеялись броширанты.
Броширант Егорка крикнул:
— К ней самой, братцы, он каждую ночь лазает!
Гавриловна обрушилась бранью на него. Броширанты смеялись и изощрялись в ругательствах, поддразнивая Гавриловну. На каждую их сальность она отвечала еще большею сальностью. Это было состязание, и каждая сторона старалась превзойти другую. Девочки, радуясь перерыву в работе, слушали и смеялись.
К вечеру Александра Михайловна вклеила картины. Она сделала работу в два часа, за тысячу приклеек двадцать копеек — хорошо!.. Довольная, она понесла работу к мастеру.
Василий Матвеев раскрыл книжку, посмотрел и равнодушно сказал:
— Не на то место приклеила.
Александра Михайловна испуганно глядела на него.
— Как не на то? Ты же мне сам сказал, — на пятьдесят шестую страницу!
— Куда лицом вклеила, видишь? Я тебе говорил, что ты этого еще не можешь. «От Пушкина до Некрасова» — на эту сторону нужно было, к заглавию.
И он насмешливо смотрел косящими глазами, у которых нельзя было поймать взгляда. И Александре Михайловне казалось, — он потому и может быть так жесток, что его душа загорожена от людских глаз.
— Так ты бы мне так и сказал — к пятьдесят седьмой странице! — произнесла она обрывающимся голосом.
— Ну, ну, что я, глупее тебя, что ли? Говорил, нельзя тебе еще приклейку давать… Ступай, отклеивай.
Александра Михайловна, убитая, воротилась к верстаку; хотелось схватить, порвать всю работу, душили бессильные слезы: полдня уйдет на то, чтоб аккуратно отклеить картины и снова вклеить их на место.
Она вяло взяла в руки нож и принялась за отклейку.
II
Пробило восемь часов, мастерскую отперли. Александра Михайловна сунула опостылевшую работу под верстак и побрела домой.
Зина, семилетняя дочь Александры Михайловны, дремала на кровати.
— Вставай! — угрюмо сказала Александра Михайловна. — Картошку разогрела?
— Разогрела.
— Принеси.
Зина принесла из кухни разогретый жареный картофель, оставшийся от обеда. Придвинули столик к кровати, стали ужинать. Поели невкусного разогретого картофеля, потом стали пить чай. Зине Александра Михайловна намазывала на хлеб тонкий слой масла, сама ела хлеб без масла.
— Что это? — сурово спросила Александра Михайловна и взяла Зину за локоть. — Что это? Господи! Где это ты порвала?
Она дернула Зину к себе. Весь рукав ее платьица до самого плеча был разодран.
— Да что же это такое! Что ты, с собаками, что ли, грызлась?
Зина захныкала.
— Это мне Васька хозяйкин сделал!
— Васька хозяйкин? Ты тут балуешься, а я всю ночь сиди, рукав тебе зашивай?
Она схватила Зину за волосы и дернула. Зина отчаянно взвизгнула. Александра Михайловна трясла и таскала ее за волосы, а другою рукою изо всех сил била по платью и с радостью ощущала, что Зине, правда, больно, что ее тело вздрагивает и изгибается от боли.
— Ой! Ой!.. Мама!.. Мама!.. Ой!.. — испуганно выкрикивала Зина.
Александра Михайловна еще раз больно дернула ее за волосы и отпустила. Зина залилась плачем.
— Что? Будешь теперь помнить?
В комнату сходились жильцы. Девушка-папиросница, нанимавшая от хозяйки кровать пополам с Александрой Михайловной, присела к столу и хлебала из горшочка разогретые щи. Жена тряпичника, худая, с бегающими, горящими глазами, расстилала на полу войлок для ребят. Старик-кочегар сидел на своей койке и маслянисто-черными руками прикладывал к слезящимся глазам примочку.
Александра Михайловна злорадно говорила:
— Ты думала, помер отец, так на тебя и управы не будет? Мама, дескать, добрая, она пожалеет… Нет, милая, я тебя тоже сумею укротить, ты у меня будешь знать! Ты бегаешь, балуешься, а мама твоя с утра до вечера работает; придет домой, хочется отдохнуть, а нет: сиди, платье тебе чини. Вот порви еще раз, ей-богу, не стану зашивать! Ходи голая, пускай все смотрят. Что это, скажут, какая бесстыдница идет!..
Зина ныла и ела хлеб с маслом.
Поужинали скоро. Все укладывались спать. Из соседних комнат сквозь тонкие переборки доносился говор, слышалось звяканье посуды, громкая зевота. Папиросница разделась за занавескою и легла на постель к стене. Зина вытащила из-под кровати тюфячок, расстелила его у столика и, свернувшись клубком, заснула. Улеглись и все остальные. Александра Михайловна угрюмо придвинула лампочку и стала зашивать разодранный рукав Зинина платья.
На душе было мрачно. Она шила и думала, и от всего, о чем думала, на душе становилось еще мрачнее. Шить ей было трудно: руки одеревенели от работы, глаза болели от постоянного вглядывания в номера страниц при фальцовке; по черному она ничего не видела, нитку ей вдела Зина. Это в двадцать-то шесть лет! Что же будет дальше?.. И голова постоянно кружится, и в сердце болит, по утрам тяжелая, мутная тошнота…
В ушах все слышался шелест сворачиваемых листов и мерный стук газомотора под полом. Мысль обращалась на мастерскую, и Александре Михайловне представлялось, как все там быстро движется, торопится, старается, а над этой суетой тяжело лежит что-то холодно-жадное и равнодушное, и только оно одно имеет пользу от этой суеты; а что от нее им всем? Стараешься, выбиваешься из сил, а должаешь все больше, живешь, как нищая, совестно пройти мимо мелочной лавки, питаться приходится одною картошкою. И для чего тогда вся работа, все унижения, волнения? А уйти некуда. И дальше впереди будет то же. Попала она в темную яму, и нет из нее выхода. Нет и друзей, которые бы протянули руку.
Встало перед Александрой Михайловной конфузливое, белесое лицо эстонца-слесаря Лестмана. Он был друг покойного Андрея Ивановича и первое время поддерживал ее деньгами. Но три недели назад Лестман неожиданно сделал ей предложение выйти за него замуж; Александра Михайловна отказала сразу, решительно, с неожиданною для нее самой быстротой; как будто тело ее вдруг возмутилось и, не дожидаясь ума, поспешно ответило: «Нет! нет!» До тех пор она словно не замечала, что этот участливый, тускло-серый человек — мужчина, но когда он заговорил о любви, он вдруг стал ей противно-чужд. Лестман перестал помогать Александре Михайловне, но каждую неделю, в субботу или воскресенье, приходил к ней и — скромный, застенчивый — сидел, пил чай и скучно разговаривал. Глаза его как будто закрылись и он перестал замечать ее нищету. И Александре Михайловне было странно, как это она раньше принимала от него деньги и не понимала, что ни с того ни с сего никто не станет давать их.
Кругом дышали, храпели и бормотали во сне люди. Комната медленно наполнялась удушливою, прелою вонью. Лампочка с надтреснутым стеклом тускло светила на наклоненную голову Александры Михайловны. За последние месяцы, после смерти Андрея Ивановича, она сильно похудела и похорошела: исчезла распиравшая ее полнота, на детски-чистый лоб легла дума, лицо стало одухотворенным и серьезным.
Она шила, и мрачная тоска все тяжелее налегала на душу. Напрасно она старалась найти что-нибудь, от чего бы встрепенулась душа и с ожиданием взглянула вперед. На что ни наталкивались мысли, все было черно и безнадежно… Завтра получка. Что ей придется получить? Рублей пять за две недели. Видно, нет другого выхода: придется смириться перед мастером, пойти на уступки; нужно будет почаще угощать его, чтоб давал работу получше… Негодяй подлый! Она со злобою вспомнила, как он насмешливо смотрел на нее косящими глазами, у которых нельзя было поймать взгляда. Знает свою силу!.. И от полученной обиды снова заныло в душе.
Александра Михайловна стала раздеваться. Еще сильнее пахло удушливою вонью, от нее мутилось в голове. Александра Михайловна отвернула одеяло, осторожно сдвинула к стене вытянувшуюся ногу папиросницы и легла. Она лежала и с тоскою чувствовала, что долго не заснет. От папиросницы пахло селедкою и застарелым, грязным потом; по зудящему телу ползали клопы, и в смутной полудремоте Александре Михайловне казалось — кто-то тяжелый, липкий наваливается на нее, и давит грудь, и дышит в рот спертою вонью.
III
На следующий день после обеда Александра Михайловна, в накинутом на плечи большом платке, вошла в комнату мастера и приперла за собою дверь. Василий Матвеев, с деревянным лицом, молча следил за нею.
Александра Михайловна весело и приветливо заговорила:
— Вот, Василий Матвеев, у меня сегодня большой праздник, хочу тебя угостить!
Она достала из-под платка полубутылку портвейна и завернутые в бумагу пять кондитерских пирожных.
Лицо Василия Матвеева смягчилось.
— Хорошее дело, хорошее дело! Не забываешь мастера. Другой раз и он тебе может пригодиться.
Он встал, покосился на припертую дверь и вдруг быстро наклонил к Александре Михайловне лицо с забегавшими глазами.
— Приходи нынче после работы, вместе винцо разопьем.
И Александра Михайловна почувствовала, как его жирная рука взяла ее под грудь.
— Ах ты, негодяй! — Она изо всей силы ударила его по руке. — Подлец ты этакий, как ты смеешь?!
Василий Матвеев отшатнулся.
— Что такое? В чем дело? — невинно и громко спросил он. — Что тебе нужно?
Звенящим от слез голосом Александра Михайловна кричала:
— Я честная женщина, а ты смеешь меня за перед хватать?
В косых глазах Матвеева еще бегал блудливый огонек, но лицо уже было сурово и холодно.
— Ты что, что ты тут скандалишь? — повысил он голос, наступая на Александру Михайловну. — Что это ты такое принесла мне? Ступай вон!
— Негодяй! Подлец! — Александра Михайловна вышла из комнаты.
Красная, с блестящими глазами, она быстро подошла к верстаку, спрятала бутылку и остановилась, неподвижно глядя на свою работу.
— Что это у вас там было? Чего это он? — с жадным любопытством спрашивала Манька.
— Не твое дело! — резко ответила Александра Михайловна, не поворачивая головы. Она кусала губы, чтоб сделать себе больно и не дать прорваться рыданиям.
Кругом стоял непрерывный шорох сворачиваемых листов, работа кипела, молчаливая и напряженная. С разбросанных по верстаку портретов смотрели курчавые Пушкины, все в пледах и с скрещенными руками, все с желчными, безучастными к происшедшему лицами.
— У-у, милая моя! — раздалось в стороне.
Гавриловна приплясывала перед верстаком и горячо прижимала к груди только что сшитую большую веленевую книгу; потом она положила ее на четыре других, уже сшитых книги, отодвинула пачку и низко, в пояс, поклонилась ей и что-то бормотала.
В мастерскую, в сопровождении Василия Матвеева, вошел хозяин Виктор Николаевич Семидалов. Девушки оставили работу и с любопытством следили за ним: было большою редкостью, когда хозяин заглядывал в брошировочную.
Оба прошли прямо к верстаку Александры Михайловны. Василий Матвеев разводил руками и говорил:
— Невозможно, Виктор Николаевич, углядеть! Такой народ, просто наказание! Вот, извольте сами посмотреть!
Он полез под верстак и вытащил вино.
— Изволите видеть?
Хозяин, мрачный, как туча, смотрел на Александру Михайловну.
— Скажите, пожалуйста, вы не знали, что спиртные напитки запрещается вносить сюда? Я принял вас в память вашего мужа, помогал вам, но это вовсе не значит, что вы у меня в мастерской можете делать, что, вам угодно.
Александра Михайловна, бледная, с сжатыми губами, молчала, опустив глаза.
— Я и не знал, что вы выпиваете! — с усмешкою прибавил хозяин. — Да еще какие напитки дорогие — портвейн! А я думал, вы нуждаетесь… Слушайте: в первый и последний раз я вас прощаю, но смотрите, если это повторится еще раз!
Он пренебрежительно оглядел ее и вышел. Прислонившись к соседнему верстаку, стоял вихрастый, курносый мастер над девушками переплетного отделения, Сугробов.
— Ты давно тут работаешь? — спросил он, когда хозяин и Матвеев вышли.
— Третий месяц, — машинально ответила Александра Михайловна.
— Ну, не выдержать тебе, — с состраданием произнес он. — Беги лучше прочь, погубишь себя!
И он пошел к себе вниз; Александра Михайловна неподвижно стояла перед верстаком. Подошли Дарья Петровна и Фокина. Дарья Петровна спросила:
— Что это он на вас? Ведь вино-то вы ему купили. Что такое случилось?
— Так… Все равно…
— Мало, что ли, показалось ему?
Фокина испытующе взглянула на Александру Михайловну и усмехнулась.
— От такой красивенькой дамочки ему не портвейна нужно.
Дарья Петровна высоко подняла брови и украдкою бросила на Александру Михайловну быстрый взгляд.
— Вот мерзавец! — сочувственно вздохнула она.
У Александры Михайловны запрыгали губы.
— Уйду я отсюда!
Дарья Петровна помолчала.
— Куда уйти-то? Вы думаете, лучше у других? А я вам скажу, может, еще хуже. Тут хоть хозяин добрый, не гонится за этим, а вон у Коникова, — там прямо иди к нему девушка в кабинет.
— Какого Коникова? Конюхов фамилия его, — поправила Фокина. — На пятнадцатой линии.
— Ай Конюхов? Ну, Конюхов, что ли.
Дарья Петровна опять помолчала, взглянула на Александру Михайловну и еще раз сочувственно вздохнула.
Александра Михайловна со странным чувством слушала их. То, что случилось, было неслыханно возмутительно. Все глаза должны были загореться, все души вспыхнуть негодованием. Между тем сочувствие было вялое, почти деланое, и от него было противно.
Она возвращалась домой глубоко одинокая. Была суббота. Фальцовщицы и подмастерья, с получкою в кармане, весело и торопливо расходились от ворот в разные стороны. Девушек поджидали у ворот кавалеры — писаря, литографы, наборщики. У всех были чуждые лица, все были заняты только собою, и Александре Михайловне казалось, — лица эти так же мало способны осветиться сочувствием к чужой беде, как безучастные лица бумажных Пушкиных.
Громко и весело разговаривая, Александру Михайловну обогнала кучка девочек-подростков. Впереди, с лихим лицом, шла Манька. Под накинутым на плечи платком гибко колебался ее тонкий полудетский стан. У панели, рядом с ломовыми дрогами, на кучке старых рельсов спал ломовик. Манька громко крикнула:
— Дядя, зачем спишь?!
Девочки расхохотались.
Ломовик поднял взлохмаченную голову, молча поглядел девушке вслед и снова опустил голову на рельсы.
— Вот бы ему бабу здоровую подложить под бок, было бы ему тепло! — говорила Манька, быстро идя дальше. — Аа-чхи!! — вдруг громко сделала она, как будто чихая, в лицо двум стоящим у панели парням.
Парни пустили ей вслед сальную остроту. Девочки со смехом свернули за угол.
«Какая все помойная яма!» — с тупым отвращением думала Александра Михайловна. И она вспомнила, как хорошо и чисто жилось ей, когда был жив Андрей Иванович.
Спускались белые сумерки. У ренскового погреба, кого-то поджидая, стояла Таня, оживленная и веселая, со своими золотящимися, пушистыми волосами. Из погреба вышел красивый, статный гвардейский матрос. Таня взяла его под руку.
— Вот что: килек не надо, будет селедка. Лучше винограду купим.
Моряк поклонился Александре Михайловне. Это был жених Тани, Журавлев. Они пошли под руку через улицу к колониальному магазину. Александра Михайловна смотрела вслед, смотрела, как они тесно прижимались друг к другу, и еще сильнее чувствовала свое одиночество.
IV
Назавтра, в воскресенье, Александра Михайловна лежала под вечер на кровати. Ей теперь вообще хотелось много лежать, а вчера она к тому же заснула, когда уже рассвело; в соседней комнате пьяные водопроводчики подрались с сапожником, били его долго и жестоко; залитого кровью, с мотающейся, бесчувственною головою, сапожника свезли в больницу, а водопроводчиков отвели в участок. Потом воротился домой тряпичник, тоже пьяный, и стал бить свою жену; она ругалась и как будто нарочно задирала его, а он бил ее еще жесточе.
В комнате никого не было. Взрослые разошлись, дети играли на дворе.
Громкий голос спросил в коридоре:
— Здесь Колосова живет, Александра Михайловна?.. Эй, есть кто тут?
Александра Михайловна поспешно поднялась с постели, застегивая на груди кофточку. В комнату вошел Ляхов, с тросточкой в руке.
— Здравствуйте!.. Вот так квартира — нигде никого нет!
Александра Михайловна холодно ответила:
— Здравствуйте!
— Моя жена не у вас?
— Нет тут вашей жены.
— Нету… Гм!
Ляхов сел на качавшийся стул и, играя тросточкою, внимательно оглядывал обстановку.
— Ваш покойный муж был глуп, — неожиданно сказал он.
Александра Михайловна заволновалась.
— Василий Васильевич, если по-хорошему пришли, то так, а нет, то лучше ступайте отсюда!
— Он был глуп. Он вас не умел ценить. Если бы он был немножко поумнее, он бы вас холил, на руках носил бы. Он бы понимал, какая у него хорошая жена. А он вас только обижал.
Ляхов странными, что-то таящими в себе глазами оглядывал Александру Михайловну, и она, волнуясь, сама того не замечая, оправляла юбку и нащупывала пальцами, все ли пуговицы застегнуты на груди.
— Бросьте мастерскую, приходите ко мне жить, — продолжал Ляхов и придвинулся со стулом к кровати. — Я вам буду платить каждый месяц тридцать два рубля. Катьку прогоню, дам ей отдельный паспорт. Я без вас не могу жить.
Александра Михайловна, все больше волнуясь, встала и подошла к окну.
— Я не понимаю, Василий Васильевич, как вам не стыдно это говорить! Ведь вы были друг Андрею Ивановичу, он вас любил…
— Он был подлец, завистник! Он меня нарочно перед смертью женил на Катьке, по злобе, чтоб вы мне не достались.
Александра Михайловна засмеялась.
— Неужели? Скажите, пожалуйста!.. Мы ее, кажется, напротив, — отговаривали идти за вас.
— Я для того только и в больницу ходил к Колосову, чтоб посмотреть, скоро ли он сдохнет, — вызывающе сказал Ляхов.
— Василий Васильевич, уходите отсюда вон. Я вас не желаю слушать!
— Зачем вы к окну ушли?
Ляхов тяжело дышал, с тем же странным, готовящимся к чему-то лицом. Он встал и подошел. От него пахло коньяком. Александра Михайловна старалась подавить вдруг охватившую ее дрожь. Ляхов, бледный и насторожившийся, с бегающими глазами, стоял, загораживая ей дорогу от окна. Задыхаясь, она поспешно заговорила:
— Василий Васильевич, что же это будет? Раньше в мастерской и на улице не давали мне проходу, а теперь уж на квартиру ко мне приходите? Сами подумайте, разве же так можно!
— Я вам сказал, что я вас люблю. А что раз сказал, от того уж никогда не отступлюсь. Все равно, вы мне достанетесь, покою вам не будет… Я своего добьюсь…
Ляхов теперь тоже задыхался. Крепкий, с мускулистым затылком, он смотрел в лицо Александре Михайловне замутившимися, тупо-беспощадными, как у зверя, глазами. И Александра Михайловна поняла, — от этой животной, жестокой силы ей не защититься ни убеждениями, ни мольбами.
В дверях показался высокий, широкоплечий Лестман. Он снял с головы котелок и застенчиво приглаживал ладонью белесые волосы.
— Иван Карлыч, здравствуйте! — громко сказала Александра Михайловна и с неестественным оживлением пошла к нему навстречу мимо Ляхова.
Ляхов обернулся. Глаза его насмешливо вспыхнули.
— А-а, явленые мощи! Что так долго не являлись? Тебя уж тут заждались. С утра ждут, — что это милый не приходит?.. Местечко, значит, занято! Та-ак!..
Он засмеялся, надел шляпу и, не прощаясь, вышел…
Александра Михайловна радушно говорила:
— Садитесь, Иван Карлыч! Сейчас будем чай пить!
Она все еще не могла справиться с бившею ее дрожью. Лестман с недоумением следил за нею.
— Такой нахал этот Ляхов, просто я не понимаю! — сказала она. — С самого того времени, как Андрей Иванович помер, не дает мне нигде проходу. В мастерской пристает, на улице, на квартире вот… И придумать не могу, как мне от него отделаться!
Лестман покачал головою.
— Он всегда был нахал. Это не было корошо, что ваш муж уж давно его не прогонял.
Александра Михайловна сходила за кипятком, заварила чай. Лестман молча стал пить. От его приглаженных, словно полинявших волос, от плоского лица с редкою бородкою несло безнадежно трезвою скукою.
— Что это у вас, Иван Карлыч, рука завязана? — спросила Александра Михайловна.
— Это я себе руку зарезал на работе… Фельдшер посыпал каким-то пульвером[21], и еще больше заболела. Только я понял, что фельдшер неправильно сделает. «Нет, — я думаю, — надо не так». Взял спермацетной мази, снапса[22] и вазелина, сделал мазь, положил на тряпку, и все сделалось сторовое. Теперь уже можно работать, а раньше эту целую неделю и не работал.
— А у вас как, платят, когда заболеешь?
— Если доктор записку дает, тогда платят семьдесят пять копеек за каждый день. У нас доктор очень добрый, всем дает, а только я не хотел брать. Мастер всегда сердится за это. Лучше же я не буду брать, тогда он мне будет давать хорошую работу.
Александра Михайловна вздохнула.
— Видно, везде мастера обижают рабочего человека!
— А вам и теперь всегда дают плохую работу? — осторожно спросил Лестман.
— Плохую. Так теснит мастер, просто я не знаю. Уж думаю, не перейти ли в другую мастерскую.
Лестман медленно мигнул, и в белесых глазах проползло что-то. Александра Михайловна прикусила губу и замолчала. Ей стало ясно: да, он ждет, чтобы она совсем запуталась и чтоб тогда пошла к нему. И ей вдруг представилось: где-нибудь в темной глубине моря сидит большая, лупоглазая рыба и разевает широкий рот и ждет, когда подплывет мелкая рыбешка, чтоб слопать ее.
— Вы сколько же теперь саработаете? — осторожно выпытывал Лестман.
Александра Михайловна стала врать.
— Да зарабатываю собственно ничего. Двадцать рублей, когда постараешься, — двадцать пять. Жить можно, ничего, а только все-таки обидно, — зачем они неправильно поступают!
Она низко наклонилась над чашкою, чтоб Лестман не видел ее лица, а сама думала: «Всем, всем им нужно одного — женского мяса: душу чужую по дороге съедят, только бы добраться до него…» Она резко и неохотно стала отвечать на вопросы Лестмана, но он этого не замечал. Помолчит, выпьет стакан чаю и расскажет, как он в Тапсе собирал муравьиные яйца для соловьев.
— Нужно взять две ольховые палочки, сдирать с них козицу и в воскресенье утром положить крестом на муравьиную кучу. Все муравьи уйдут. Можно эти яйца продавать, фунт стоит восемьдесят пять копеек.
И опять молчит.
Наконец он встал уходить. Александра Михайловна проводила его до выхода, воротилась и села к окну. Смутные мысли тупо шевелились в мозгу. Она не старалась их поймать и с угрюмою, бездумною сосредоточенностью смотрела в окно. Темнело.
В комнату сходились жильцы, за перегородкою пьяные водопроводчики играли на гармонике. Александра Михайловна надела на голову платочек и вышла на улицу.
В сумерках по панели проспекта двигалась праздничная толпа, конки, звеня и лязгая, черными громадами катились к мосту. Проходили мужчины — в картузах, фуражках, шляпах. У всех были животные, скрыто похотливые и беспощадные в своей похотливости лица. Толпа двигалась, одни лица сменялись другими, и за всеми ими таилась та же прячущаяся до случая, не знающая пощады мысль о женском мясе.
Александра Михайловна свернула в боковую улицу. Здесь было тише. Еще сильнее, чем всегда, она ощущала в теле что-то тоскливо сосущее; чего-то хотелось, что-то было нужно, а что, — Александра Михайловна не могла определить. И она думала, от чего это постоянное чувство, — от голода ли, от не дававших покоя дум, или оттого, что жить так скучно и скверно? На углу тускло светил фонарь над вывескою трактира.
Стыдясь самой себя, Александра Михайловна подумала: «Зайти разве, выпить?»
Она постояла, внимательно огляделась по сторонам и тихонько скользнула в дверь.
Народу в трактире было немного. За средним столом, под лампой-молнией, три парня-штукатура пили чай и водку, у окна сидела за пивом пожилая, крупная женщина с черными бровями. Александра Михайловна пробралась в угол и спросила водки.
Молодой штукатур, с пухлым лицом и большим, как у рыбы, ртом, обнимал своего соседа и целовался с ним.
— Пущай же об нас люди говорят, что мы худо поступаем!.. Пущай. Один истинный бог над нами! Алешка, верно я сказал?.. Ярославец, еще бутылочку!
— Ваня! Будет, не надо!
— Ну, «будет»!
— Не надо!
— Эй, еще бутылочку!
— Ваня, не рассчитывай!
Чернобровая женщина, держа кружку за ручку, с враждебным вниманием слушала их.
Половой поставил перед Александрой Михайловной графинчик, она налила рюмку и выпила. Водка захватила горло, обожгла желудок и приятным теплом разлилась по жилам. Как будто сразу во всем теле что-то подправилось, понурая спина выпрямилась и стало исчезать обычное ощущение, что чего-то не хватает.
— Нет, не буду больше пить! — решительно произнес Алешка. Он взял с соседнего стола «Петербургский листок», хотел было начать читать и положил назад на стол. — Не стоит браться! — сказал он.
Чернобровая женщина, все так же враждебно глядя на него, громко спросила:
— Почему не стоит браться за литературу? Литература издается для просвещения! В ней пишут сотрудники, умные люди! Как же это за нее не стоит браться?
Штукатуры оглянулись и продолжали разговаривать. Чернобровая женщина обратилась к Александре Михайловне:
— Вот какой народ здесь в Петербургской губернии! Самый дикий народ, самый грубый. Поезжайте вы в Архангельскую губернию или Ярославскую. Вот там так развитой народ. И чем дальше, тем лучше. А в Смоленской губернии!.. Оттуда такое письмо тебе пришлют, что любо читать. А здесь, конечно, обломы все, только что в человеческой коже. Как они говорят: «Эка! пущай!..»
Через час Александра Михайловна вместе с чернобровой женщиной выходила из трактира. Александра Михайловна рыдала и била себя кулаком в грудь.
— Я честная женщина, я не могу! — твердила она. — Уйду, уйду, от всех уйду!.. Жить хочешь, так потеряй себя… Все терпеть, терпеть!.. Куда же уйти-то мне, господи?
Волосы ее выбивались из-под платка, она качала растрепанною головою, а чернобровая женщина своим громким, уверенным голосом говорила:
— Это иезуитское правило — всякий способ оправдывает свое средство!.. Иезуитское нормальное состояние…
V
В понедельник утром рассыльный положил перед Александрой Михайловной две толстые пачки веленевых листов.
— Подожди, что это такое? Почему мне два листа? Всем по одному дано.
— Мне какое дело, велено! — И рассыльный пошел дальше.
— Я не возьму, неси назад к мастеру, мне не надо!
За веленевые листы платят почти столько же, сколько за обыкновенные; между тем фальцевать веленевую бумагу много труднее: номеров страниц не видно даже на свет, приходится отгибать углы, чтоб номер пришелся на номер; бумага ломается, при сгибании образуются складки.
Александра Михайловна пошла в контору к хозяину. Там был и Василий Матвеев.
— Виктор Николаевич, позвольте узнать, почему мне дали два листа «Европейской флоры»? Всем по одному дано фальцевать, Поляковой ничего, а мне два.
Семидалов вопросительно взглянул на Василия Матвеева. Он развел руками и суетливо наклонился к хозяину.
— Так пришлось, Виктор Николаевич, ничего не поделаешь. Нужно же кому-нибудь дать, поровну на всех не поделишь.
— Вот Поляковой бы ты и дал, — сказала Александра Михайловна.
Матвеев покосился на нее.
— У Поляковой другая работа есть.
— Да-а, другая работа! Шитье в прорезку!
— Это все равно! — поучающе произнес хозяин. — Такую трудную работу нужно всем делить поровну, она права, работа на работу не приходится; нужно так распределять, чтоб никому не было обидно. Я вам это сколько раз говорил, вы знаете, я люблю, чтобы все делалось справедливо.
Александра Михайловна с торжеством воротилась в мастерскую. Следом вошел Василий Матвеев. Он медленно обошел работавших, потом остановился около Александры Михайловны.
— Ты хозяину жаловаться! Посмотрим, много ли выгадаешь. Хочешь выше мастера быть?.. Ладно!
Через два дня шить в проколку эту же «Флору» досталось опять Александре Михайловне. Раздачею шитья заведовал Соколов, один из помощников Василия Матвеева. Александра Михайловна пошла к нему объясняться. Соколов грубо крикнул:
— Что это тут за королева объявилась?.. Шей, что дают, и не рассуждай.
— Мне, милый мой, рассуждать нечего, а я к хозяину пойду, — спокойно возразила Александра Михайловна и отправилась в контору.
Хозяин выслушал Александру Михайловну и нахмурился.
— Знаете, голубушка, нельзя же все уже так поровну делить. Работа разная бывает, приходится иногда и потяжелее работу сделать.
С этих пор, завидев входящую в контору Александру Михайловну, Семидалов стал уходить. Первое время после ее поступления в мастерскую он покровительствовал ей «в память мужа», перед которым чувствовал себя в душе несколько виноватым. И его раздражало, что на этом основании она предъявляет требования, каких ни одна девушка не предъявляла, и что к ней нужно относиться как-то особенно, — не так, как к другим.
Вообще в конторе совсем иначе относились к девушкам, чем к переплетным подмастерьям. С подмастерьями считались, их требования принимались во внимание. Требования же девушек вызывали лишь негодующее недоумение, и они находились в полной власти Василия Матвеева с помощниками. Подмастерья получали расчет каждую неделю, девушки — через две недели. Подмастерья имели законные расчетные книжки, девушкам заработок вписывался в простые тетрадки. Иногда, просматривая списки с платою, хозяин находил, что такая-то девушка заработала слишком много, вычеркивал девять рублей и вместо них ставил восемь.
— Попробовал бы он с нами так-то, мы бы ему показали! — смеялись подмастерья, когда девушки рассказывали им про это.
И Александра Михайловна не могла понять, потому ли так покорны девушки, что им нет управы на контору, или потому и нет управы, что они так покорны. Она саднящими руками вкалывала иглу в плотную, как кожа, веленевую бумагу и с глухою ненавистью следила за Василием Матвеевым: жирный, краснорожий, надувшийся дарового кофе с вишневкою, он прохаживался между верстаками, отдуваясь и рыгая. Как будто барин расхаживался среди своих крепостных. А девушки, ругавшие его за глаза, в глаза были предупредительны и почтительны.
Мастерская становилась Александре Михайловне все противнее. Противна была и сама работа, и шедшая от залежавшихся листов пыль, и тянувшийся с лестницы запах варившегося внизу клея. Противны были люди кругом. Броширанты, работавшие вперемежку с девушками, нарочно говорили при них сальности и вызывали их на сальные ответы. Но противнее всего было, когда девушки ссорились между собою. А ссорились они часто, из-за каждого пустяка. И тогда одна бросала в лицо другой грязные, вонючие оскорбления и громко уличала ее, что она живет на содержании у ретушера Образцова, а кроме того, бегает ночевать к Володьке-водопроводчику. Бесстыдно рассказывались невероятные вещи о подброшенных и задушенных детях, о продаже себя за бутылку пива. Мастера и броширанты, засунув руки за пояс блуз, толпились вокруг и, довольные, покатывались со смеху; девочки-подростки с жадным любопытством слушали, блестя глазами. А поссорившиеся, как пьяные, не чувствовали своего унижения и продолжали перебрасываться смрадными словами.
Больше всего Александру Михайловну поражало, что среди девушек не было решительно никаких товарищеских чувств. Все знали, что Грунька Полякова, любовница Василия Матвеева, передает ему обо всем, что делается и говорится в мастерской, — и все-таки все разговаривали с нею, даже заискивали. И Александра Михайловна вспомнила, как покойный Андрей Иванович с товарищами жестоко, до полусмерти, избил однажды, на празднике иконы, подмастерья Гусева, наушничавшего на товарищей хозяину.
Вообще Александра Михайловна часто вспоминала теперь Андрея Ивановича и удивлялась, что не замечала раньше, какой он был умный и хороший. В его мыслях, прежде чуждых ей и далеких, как мысли книги, она теперь чувствовала правду, живую и горячую, как кровь. Ей понятным становилось его страстное преклонение перед товариществом, тоска по слабости этого товарищества в жизни. Почему, например, девушки втайне относятся друг к другу, как к врагам, когда всем им было бы лучше, если бы они держались дружно? И Александра Михайловна пробовала говорить им это, убеждать, но, как только доходило до дела, она чувствовала, что и самой ей приходится плюнуть на все, если не хочет остаться ни при чем.
Привезут из типографии новые листы. Все девушки насторожатся, глаза беспокойно бегают. Нельзя зевать, нужно узнать, выгодная ли работа; если выгодная, — нужно добыть ее или выклянчить у мастера. Листы обернуты картузною синею бумагою и обвязаны бечевкою. Девушки толпятся вокруг, беспокойно шушукаются, расспрашивают друг друга. Входит мастер.
— У кого работа на исходе? — спрашивает он.
— У меня вся, — отзывается Александра Михайловна.
Таня испуганно шепчет:
— Зачем говорите? Молчите! Я смотрела: бумага толстая-претолстая, и на свет номера не видать!
Рассыльный кладет перед Александрой Михайловной пахнущую типографскою краской кипу.
— Зачем говорите, не узнавши? — с сожалением поучает ее Таня. — Вы так всегда будете с плохой работой.
— Да как же узнаешь-то? — раздраженно возражает Александра Михайловна и, глотая слезы, глядит на толстую кипу, за которую опять получит гроши.
— А вы раньше спросите девушку, которая цензурные экземпляры фальцевала. Или вот, как мы сейчас сделали: надорвали на уголке картузную бумагу и подсмотрели. Развернуть нельзя, тогда уже не позволят отказаться, а так никто не заметит, что надорван угол, а заметят, — скажут: мужик вносил, углом зацепил за косяк. Тут, знаете, если смирной быть, только одни объедки будут доставаться.
Таня нравилась Александре Михайловне все больше. Всегда она была предупредительная, всегда готовая на помощь. Они теперь работали за одним верстаком, и Таня обучала Александру Михайловну приемам работы, показывала, какими способами добывать ее. Возьмет, например, выгодную работу у Василия Матвеева, потом идет наверх к Соколову. Соколов отказывает: «Тебе пусть Матвеев дает». — «У него нету, он к тебе послал». Наберет работы себе и Александре Михайловне и сложит все под верстаком. Когда же грозит невыгодная работа или когда Василий Матвеев тянет выдачу, отговариваясь недосугом, они достают из-под верстака запасную работу и делают ее.
— Как ты, Танечка, все достать умеешь! — восхищалась Александра Михайловна.
Таня гордо отвечала:
— Тут иначе нельзя. От косоглазого справедливости разве дождешься? Всякую пакость сделает, особенно нам с вами, что мы его презираем, не уступаем ему. Вы знаете, как к нему в комнату ни зайдешь, — сейчас начинает: пойди с ним на любовь… С боровом этим жирным! Такой дурак! Думает, не обернемся без него. Как же!
Александра Михайловна вздохнула.
— Тебе-то вот хорошо. Работаешь ты легко, на свете одна, — много ли тебе нужно? А вот как мне-то! Девочку надо кормить, работать никак не приноровлюсь. Уж так другой раз тяжело, просто и не знаю.
Таня молча теребила и сгибала угол бракованного листа. Поколебавшись, она заговорила:
— «Много ли нужно»… Я вам, Александра Михайловна, всю правду скажу: мне много-много денег нужно! Мне сто рублей нужно, вот сколько. Потому я так и стараюсь. Вы знаете, осенью Петя кончает службу, нужно какого-нибудь дела искать. Надумал он поступить в артельщики, в биржевую артель. Дело отличное, пятьдесят рублей жалованья, доходы есть. А только нужно залог в двести рублей; для начала можно сто, — другие сто из жалованья будут вычитать. Вот видите, сколько мне нужно. Восемьдесят рублей я уже скопила, еще двадцать осталось. Бог даст, в три месяца все сто будут готовы, и на свадьбу еще останется. Я бы и еще скорее набрала, да нужно тоже Пете помогать; вы знаете, как плохо в солдатах жить без денег… Поступит в артель, и сейчас же женимся; мастерскую брошу…
И, забывая о работе, она без конца говорила о своей любви и ожидаемой жизни.
VI
Была середина июля. Пора стояла глухая, заказы в мастерскую поступали вяло. Хозяин распустил всех девушек, которые работали в мастерской меньше пяти лет; в их числе были уволены Александра Михайловна и Таня. Они поступили на кондитерскую фабрику Крымова и К№, на Васильевском острове.
В обширных подвалах сотни девушек и женщин чистили крыжовник и вишни, перебирали клубнику, малину, абрикосы. От ягод в подвалах стоял веселый летний запах, можно было на месте есть ягоды до отвалу, и платили по шестьдесят копеек в день. Но это была временная работа, через две недели она прекратилась.
Александра Михайловна стала искать швейной работы. Она надеялась найти дело, с которого можно будет жить. В Старо-Александровском рынке ей дали на пробу сшить полдюжины рубашек с воротами в две петли, по гривеннику за рубашку. Она заняла у Тани швейную машину, шила два дня, потратила две катушки ниток. В рынке с нею расплатились по восемь копеек за рубашку.
— Вы же по десять отдавали! — возмутилась Александра Михайловна.
Хозяин холодно ответил:
— Нет, это не пойдет. Желаете по восемь копеек, — извольте, шейте! А по десять нам не подходит.
— Подходит не подходит, а отдавали за десять, и должны по десять заплатить!
— Василий, убери товар! — вздохнул хозяин и взялся за жестяной чайник.
Александра Михайловна, прикусив губу, в упор смотрела на веснушчатое, худощавое лицо хозяина.
— Ну, прощай, разживайся с моих двенадцати копеек!
— Доброго здоровья! — лениво отозвался хозяин, отхлебывая из стакана желтый чай.
Александра Михайловна возвращалась домой по Невскому. Был Ильин день. Солнце село; в конце проспекта в золотой дымке зари темнел адмиралтейский шпиль. Александра Михайловна вяло шла — униженная, раздраженная. Она посчитала: за два дня, за вычетом катушек, она заработала тридцать шесть копеек. Спускались прозрачные, душные сумерки. По панелям двигались гуляющие, коляски и пролетки с нарядными людьми проносились на острова. Из раскрытых дверей магазинов несло прохладою, запахом закусок и фруктов; за зеркальными стеклами красовались на блюдах огромные рыбы в гарнире, паштеты, заливные. Александра Михайловна угрюмыми, волчьими глазами смотрела на все, и в душе взмывала злоба.
Навстречу медленным, раскачивающимся шагом шла девушка, поглядывая на встречных мужчин. В руках был розовый зонтик, розовая кофточка плотно облегала корсет. Александра Михайловна, в отрепанной юбке, с поношенным платком на голове, внимательно оглядывала ее. Глаза их встретились. Из-под наведенных черных бровей взгляд девушки с презрительным вызовом отбросил от себя полный отвращения взгляд Александры Михайловны. Александра Михайловна остановилась и долго, с пристальным, гадливым любопытством, смотрела вслед.
На углу Владимирской девушку нагнал высокий господин в цилиндре. Он близко заглянул ей в лицо и что-то сказал. Они сели вместе на извозчика и покатили по Литейному. Александра Михайловна медленно пошла дальше.
«Просто все это делается! — с негодующею усмешкою думала она. — Оглядели, как корову, взяли и повезли, и она спокойно едет и позволит делать с собою, что угодно. Тварь бесстыдная!..»
Александра Михайловна думала так, а сама потихоньку косилась на свое отражение в зеркальных стеклах магазинов; у нее красивое лицо, с мягкими и густыми русыми волосами, красивая фигура. Если бы затянуться в корсет, надеть изящную розовую кофточку, на нее заглядывались бы мужчины.
И одновременно два слоя мыслей шли через ее голову, как, бывает, по небу идут, не мешаясь, два слоя облаков. Одни мысли — ясные и малоподвижные — говорили, как позорно для женщины продавать первому встречному то, чего никому нельзя продавать. Другие мысли, мутные и тяжелые, быстро шли понизу, у них не было ясных очертаний, и они говорили, что все это, напротив, очень просто; у женщин есть что-то, что тянет к себе мужчин, за что они щедрее и охотнее всего дают деньги; и нужно этим пользоваться, глупо терпеть, — для чего? Отчего не продавать и этого? И можно тогда бросить мастерскую, где пахнет пылью и вареным клеем, где броширанты говорят сальности и ходит, рыгая, краснорожий Василий Матвеев… Александра Михайловна с тайным удовольствием прислушивалась к этим мыслям и в то же время с гадливым презрением вспоминала, как спокойно сидела в пролетке девушка, которую увозивший ее к себе незнакомый человек обнимал за талию.
Темнело. В воздухе томило, с юга медленно поднимались тучи. Легкая пыль пробегала по широкой и белой Дворцовой площади, быстро проносилась коляска, упруго прыгая на шинах. Александра Михайловна перешла Дворцовый мост, Биржевой. По берегу Малой Невы пошли бульвары. Под густою листвою пахло травою и лесом, от каналов тянуло запахом стоячей воды. В полутьме слышался сдержанный смех, стояли смутные шорохи, чуялись любовь и счастье.
На юге вспыхнула синяя, бесшумная молния. Улицы становились странно тихими, только белая пыль изредка кружилась. Александра Михайловна присела на скамейку. Никогда раньше так страстно не хотелось ей счастья — неслыханно большого, вольного и бурливого. Гульнуть, развернуться так, чтобы насквозь прожгло горячим огнем и душу и тело. Чтобы вихрем вынесло ее из этой унизительной, грязной и скучной жизни. Ей казалось, теперь она начала понимать те приступы мучительной, рвущейся куда-то тоски, которая так часто охватывала Андрея Ивановича. Раньше она только недоумевала перед ними: было бы в доме тихо и мирно, хватило бы на жизнь денег, — чего ж еще? Его же этот-то тихий мир и давил. И казалось ей, — теперь и ее бы этот мир не удовлетворил. Хотелось чего-то другого, чего, — все равно, но только чтоб подняться над этой жизнью.
Александра Михайловна воротилась домой. Был десятый час вечера. Зина спала. В душной комнате тускло горела лампа. Жена тряпичника, в рваной рубашке, сидела на постели и ругалась через перегородку с хозяйкою. Сегодня праздник; скоро воротится тряпичник, безмерно пьяный; опять начнет она ругать его, и он, как собачонку, загонит ее под кровать и будет бить там кочергой, а когда он, наконец, устанет и заснет, она выползет из-под кровати и со стоном будет отдирать запекшуюся в крови рубашку от избитого тела. Уйти бы куда-нибудь! Александра Михайловна решила пойти к Тане.
Таня жила на том же дворе, в другом флигеле. Она выбежала на звонок — сияющая, радостная. И вдруг глаза потухли, лицо потемнело.
Александра Михайловна сконфуженно спросила:
— Я не вовремя?
— Нет… пожалуйста… — ответила Таня упавшим голосом.
В маленькой чердачной комнате, с косым потолком и окошечком сбоку было чисто и девически-уютно. По карнизам шли красиво вырезанные фестончики из белой бумаги, на высокой постели лежали две большие, обшитые кружевами, несмятые подушки. Подушки эти клались только на день, для красоты, а спала Таня на другой подушке, маленькой и жесткой.
За столом сидела приятельница Тани, портниха Прасковья Федоровна. На столе ворчал потухавший самовар, стояла бутылка водки, кильки и колбаса.
Таня, в черной юбке и серой шелковой кофточке, была неестественно оживлена, говорлива, и глаза ее блестели.
— Давайте выпьем! — предложила она. — Для кого приготовлено, тот не пришел, — и не надо! Без него обойдемся!
Они выпили по рюмке и стали закусывать.
— Ты Петра Ивановича ждала? — спросила Александра Михайловна.
— Кого ждала, того нету! — засмеялась Таня, выскребая из склизкой кильки коричневые внутренности.
Потом вдруг перестала смеяться и замолчала.
— Второй уж раз что-то не приходит, — задумчиво сказала она. — И прошлое воскресенье задаром прождала. Что это — уж не знаю. Скучно что-то. Думается, — может, он так себе только, за глупостями гнался! Повозился, свое получил — и прочь… — Таня молчала, размазывая вилкою внутренности нетронутой кильки. — Не должно бы этого быть, сто рублей нужны, чтоб в артель внести, а в нынешнее время разве легко такую невесту найти? А только видела я недавно, шел он с одного двора, — говорит: тетка больная, а мне думается, не от Феньки ли папиросницы он шел?.. Ну, выпьем еще! — лихо предложила она и налила по второй рюмке.
Прасковья Федоровна запротивилась.
— Ну, Танечка, что ты! Больно уж скоро!
— Ничего, а то с первой чтой-то закуска в рот не идет. Рюмочки маленькие.
— Вы когда же насчет свадьбы думаете? — спросила Прасковья Федоровна.
— Думали под филипповки венчаться.
Прасковья Федоровна вздохнула:
— И наша тогда же будет.
— А вы тоже замуж выходите? — спросила Александра Михайловна.
— Да.
— За кого?
— За портного одного. За кого же портнихе выходить! — засмеялась она.
— Такой противный! — заметила Таня. — Хромой, нос на сторону, рожа — вот!
Она смешно скосила губы и подперла пальцем нос на сторону. Все засмеялись.
— Хороший человек?
— Не знаю, я его мало видела, — равнодушно ответила Прасковья Федоровна.
Александра Михайловна помолчала.
— Что же вам спешить? Погодили бы, пригляделись. Знаете, другой раз бывает: поспешишь, а потом пожалеешь.
— Работать трудно, — устало произнесла Прасковья Федоровна. — Мастерская у хозяйки темная, все глаза болят. Профессор Донберг вылечил, а только сказал, чтоб больше не шить, а то ослепнешь.
— А может, и у мужа придется шить?
Прасковья Федоровна оживилась.
— Та работа легкая. Мужское платье всегда выгодно шить. А дамская работа, вы знаете, какая капризная: чтоб платье и отделка под тон были, чтоб жанр соблюсти, чтоб фасон подходил к лицу. Учительница — она требует, чтоб фасон был серьезный. Душеньке какой-нибудь, — ей шик надобен.
— Бывает так: выйдешь не подумавши, а потом другого полюбишь, — задумчиво проговорила Александра Михайловна.
Прасковья Федоровна хитро улыбнулась, скользнула взглядом в сторону и, покраснев, искоса взглянула на Александру Михайловну.
— Да я и сейчас люблю!
И далекий отблеск глубоко скрытого, стыдящегося чувства слабо осветил ее лицо.
— Что же за него не идете?
— Да он меня не любит.
— А он знает, что вы его любите?
— Может, и не знает… А зачем к нам не ходит? Любил бы, так ходил.
Ее худое лицо с большими черными глазами продолжало светиться, на губах легла девически-застенчивая улыбка.
— Нет, мой совет, подождали бы, — повторила Александра Михайловна.
— Теперь уж нельзя: обручальные кольца куплены… А только не дай бог, чтоб тот на обручение или на свадьбу ко мне попал, — то-то мне будет стыдно!
Прасковья Федоровна задумалась. Отблеск с ее лица исчез.
— Знаете, какие мне иногда глупости приходят в голову? — медленно проговорила она.
— Какие?
Прасковья Федоровна помолчала и удивленно раскрыла глаза.
— Зачем жить!
— Да что вы?
— Ей-богу! — с улыбкой подтвердила она.
Таня, засунув руки меж колен, блестящими от хмеля глазами смотрела вдаль.
— Ну, будет, что там!.. Скучно! — вдруг сказала она. — Давайте что-нибудь веселое делать. Эх, музыки нету, я бы потанцевала!
Она уперлась рукою в бок и заплясала, веселая и удалая, притопывая каблуками.
— Ну, ну, пойте! — настойчиво приказала Таня, стараясь рассеять налегшую на всех тучу тоски.
Она кружилась, притопывала ногами и вздрагивала плечом, совсем как деревенская девка, и было смешно видеть это у ней, затянутой в корсет, с пушистою, изящною прическою. Александра Михайловна и Прасковья Федоровна подпевали и хлопали в такт ладошами. У Александры Михайловны кружилась голова. От вольных, удалых движений Тани становилось на душе вольно, вырастали крылья, и казалось — все пустяки и жить на свете вовсе не так уж скучно.
— Дернем еще! — снова предложила Таня и быстро налила рюмки.
Прасковья Федоровна отказалась.
— Дернем! — лихо ответила Александра Михайловна, с влажными губами, часто и дробно смеясь.
В голове ее закружилось сильнее, становилось все веселее и вольнее; она подтопывала Тане, хлопала в такт ладошами и подпевала: «Эх!.. эх!..»
Запыхавшаяся Таня опустилась на кровать рядом с Прасковьей Федоровной и обняла ее.
— Ну, Парашенька, ты нам теперь спой!
Прасковья Федоровна, задумчиво смотревшая в окно, улыбалась.
Она стала петь. Пела она цыганские романсы и с цыганским пошибом. Голос у нее был звучный и сильный, казалось, ему было тесно в комнате, он бился о стены, словно стараясь раздвинуть их.
Дай упиться И насладиться Жизнью земной Вместе с тобой!Александра Михайловна сидела у окна. В раскрытое окно рвался ветер и обвевал разгоревшееся лицо. За березами палисадника теперь почти непрерывно вспыхивали бесшумные молнии. Прасковья Федоровна пела, задорно обрывала одни слова и с негою растягивала другие.
Предательский звук поцелуя Разыдался в ночиной тишине…Песня жгла жаждою страсти и ласк. И песня эта, и шедшие из тьмы шорохи, и разогретая хмелем кровь — все томило душу, и хотелось сладко плакать. Но тяжело лежала в душе мутная тоска и не давала подняться светлым слезам.
— Спой «Пару гнедых», — вдруг попросила Таня.
Прасковья Федоровна улыбнулась.
— Ну, Таня, что ты? Мне плакать не хочется!
— Ну, спой! Параша, спо-ой!.. — настойчиво и нетерпеливо повторила Таня.
— Вот какая… упрямая. Ну, хорошо!
Прасковья Федоровна запела. Пела она о том, какими раньше хорошими лошадьми были эти гнедые. «Ваша хозяйка в старинные годы много имела хозяев сама… Юный корнет и седой генерал — каждый искал в ней любви и забавы…» И вот она состарилась и грязною нищенкою умирает в углу. И та же пара гнедых, теперь тощих и голодных, везет ее на кладбище.
Тихо туманное утро в столице. По улице медленно дроги ползут.Голос певицы вдруг оборвался, она замолчала. Александра Михайловна низко опустила голову. Мутная тоска вздымалась с душевного дна, душили светлые слезы; и другие слезы, горькие, как полынь, подступали к горлу.
— Что это, слезы выступают! Вот смешно! — засмеялась Прасковья Федоровна, быстро утерла глаза и продолжала:
В гробе сосновом останки блудницы Пара гнедых еле-еле везут… Кто ж провожает ее на кладбище? Нет у нее ни друзей, ни… родных…И опять голос ее оборвался. Александра Михайловна всхлипнула. Таня наклонилась над столом, сжав руками виски. И сидели они все трое и, уткнувшись в руки, ревели, не стыдясь друг друга, и каждая думала о себе…
Александра Михайловна воротилась домой поздно, пьяная и печальная. В комнате было еще душнее, пьяный тряпичник спал, раскинувшись на кровати; его жидкая бороденка уморительно торчала кверху, на лице было смешение добродушия и тупого зверства; жена его, как тень, сидела на табурете, растрепанная, почти голая и страшная; левый глаз не был виден под огромным, раздувшимся синяком, а правый горел, как уголь. По крыше барабанил крупный дождь.
Александра Михайловна подняла спящую Зину и целовала ее и плакала.
VII
В этом году Семидалов праздновал на Успение двадцатипятилетие существования своего переплетно-брошировочного заведения.
Накануне всех девушек заставили с обеда мыть, чистить и убирать мастерские. Они ворчали и возмущались, говорили, что они не полы мыть нанимались, да и поломойки моют полы за деньги, а их заставляют работать даром. Однако все мыли, злые и угрюмые от унизительности работы и несправедливости.
Торжество началось молебном. Впереди стоял вместе с женою Семидалов, во фраке, с приветливым, готовым на ласку лицом. Его окружали конторщики и мастера, а за ними толпились подмастерья и девушки. После молебна фотограф, присланный по заказу Семидалова из газетной редакции, снял на дворе общую группу, с хозяином и мастерами в центре.
Странно было видеть, как вежливо и предупредительно разговаривал теперь Семидалов с фальцовщицами, — совсем как с дамами своего круга. Они, принаряженные, приятно улыбались и на его шутки тоже отвечали шутками. Александра Михайловна, с завитою гривкою на лбу, так же приятно улыбалась, разговаривала с ним, как с добрым знакомым, и старалась незаметно прикрыть рукою заштопанный локоть на своей парадной кофточке.
— Ну, господа, прошу покорно закусить! — объявил Семидалов.
Один стол был накрыт в конторе для хозяина, мастеров и конторщиков, другой — внизу — для подмастерьев, третий — в брошировочной для девушек. Фальцовщицы поднялись наверх и нерешительно толкались вокруг стола. Среди бутылок стояли на больших блюдах два огромных нарезанных пирога, кругом на тарелках пестрели закуски.
— С чем пирог-то?
— С визигой.
— Ишь, на икону всегда только водку и пиво ставят, а сегодня и наливка и вино… И сардинки тоже.
— Это как же, сюда и детей можно приводить? — спросила Александра Михайловна Таню.
У стола неизвестно откуда появились дети всех возрастов и жались к своим матерям.
— Д-да… Не гонят, — ответила Таня.
— Эх, Зину я не привела, не знала! — вздохнула Александра Михайловна.
Толпа девушек всколыхнулась и подтянулась. Вошел Семидалов в сопровождении конторщика, Василия Матвеева и газетного репортера. Матвеев поспешно налил в маленькую рюмку рябиновки и подал на тарелке хозяину. Семидалов взял рюмку, поднял ее в уровень с плечом и обратился к девушкам с речью. Василий Матвеев тем временем наливал в рюмки девушек водку и наливки. Хозяин говорил что-то чувствительное насчет их совместной работы в течение двадцати пяти лет, насчет того, что интересы его работниц всегда были ему так же дороги, как и его собственные; попросил и впредь со всякою нуждою прямо и откровенно обращаться к нему. Девушки слушали и беспокойно косились на стол, высматривая закуску.
Хозяин кончил, перечокался с девушками и вышел. Вдруг как будто ветром колыхнуло девушек и бросило всех к столу. Александра Михайловна получила толчок в бок и посторонилась; стол скрылся за жадно наклоненными спинами и быстро двигавшимися локтями. Фокина со злым, решительным лицом проталкивалась из толпы, держа в руках бутылку портвейна и тарелку с тремя большими кусками пирога. Гавриловна хватала бутылку с английской горькой, Манька жадно ела сардинки из большой жестянки.
— Да полегче же, господа! Что это за безобразие! — возмущались голоса.
Полякова сердито кричала Маньке:
— Ты что все сардинки забрала? Съела пару и передай дальше, возьми чего другого!
Александра Михайловна, прислонившись к верстаку, изумленно смотрела. В дверях стоял старый конторщик и хохотал, глядя на свалку у стола. Снизу, пережевывая закуску, поднялись подмастерья, заглядывали в дверь и посмеивались.
К Александре Михайловне подошла Таня с двумя кусками пирога на тарелке.
— Вы что же не берете ничего?
— Я подожду, когда они возьмут, — сдержанно ответила Александра Михайловна.
Таня улыбнулась.
— Тогда вам ничего не достанется. Вот вам кусок, давайте вместе есть.
Стол опустел. Фальцовщицы, спиною друг к другу, поедали по углам добычу и оделяли ею приведенных детей.
— Это у вас всегда так? — спросила удивленная Александра Михайловна.
Таня, закусив губу, с презрением оглядывала деливших добычу девушек и смеявшихся в дверях подмастерьев.
— Тут, у девушек, всегда. В переплетной, у подмастерьев, там все честь-честью делается: выпьют, закусят, потом опять выпьют. А здесь — только моргни, все расхватают. Такие жадины, боятся, как бы кому больше не досталось. Другая тут поест, еще вниз идет, к подмастерьям. Те ее, конечно, гонят прочь: «Чего тебе тут? Вам там наверху накрыто!..»
Закуски были съедены, напитки выпиты. Столы отодвинуты в сторону, явились подмастерья. Начались танцы. Пожилые работницы уходили с детьми домой.
Александра Михайловна выпила маленькую рюмку наливки, и ей хотелось веселиться. В большие окна смотрел туманный день и бледным светом отражался на полу. Александра Михайловна вглядывалась в давно приглядевшиеся лица девушек, и в тускло-белом, трезвом свете дня их хмельные лица казались отвратительными. Она видела, как подмастерья разговаривали и шутили с девушками, как обхватывали их и прижимали к туловищу, когда танцевали: никогда бы они так не держались с женами и дочерьми своих товарищей… Александра Михайловна вспомнила Андрея Ивановича, вспомнила высланную из Петербурга Елизавету Алексеевну и ее знакомых, и казалось ей: и она, и все кругом живут и двигаются в какой-то глубокой, темной яме; наверху брезжит свет, яркими огоньками загораются мысль, честь и гордость, а они копошатся здесь, в сырой тьме, ко всему равнодушные, чуждые свету, как мокрицы.
И перед Александрой Михайловной встала гордая голова Андрея Ивановича. Как хорошо было жить тогда, как хорошо было чувствовать над собою его сильную и уверенную в себе волю…
Темнело. Переплетный подмастерье Генрихсен, толстый и усатый, отдуваясь, танцевал с Поляковой русскую. Кругом смотрели и смеялись. Снизу поднялся сильно пьяный Ляхов. Бледный, с падающими на лоб волосами, он пошатывался на месте и выглядывал кого-то в толпе танцующих.
Александра Михайловна поспешно подошла к Тане.
— Что, Танечка, смотреть? Будет! Пойдем лучше, пройдемся.
Они вышли на улицу. Туман стал еще гуще. Как будто громадный, толстый слой сырой паутины спустился на город и опутал улицы, дома, реку. Огни фонарей светились тускло-желтыми пятнами, дышать было тяжело и сыро.
— Да, недаром покойник Андрей Иванович презирал женщин, — задумчиво сказала Александра Михайловна. — Смотрю я вот на наших девушек и думаю: верно ведь он говорил. Пойдет девушка на работу — бесстыдная станет, водку пьет. Андрей Иванович всегда говорил: дело женщины — хозяйство, дети… И умирал, говорил мне: «Один завет тебе, Шурочка: не иди к нам в мастерскую!» Он знал, что говорил, он очень был умный человек…
Они перешли Тучков мост и свернули на бульвар Среднего проспекта. Александра Михайловна мечтательно рассказывала:
— Бывало, когда жив был, хорошо все это так было, тихо, весело… В будни дома сидишь, шьешь на девочку, на мужа. В праздники пирог спечешь, коньяку купишь; он увидит, — обрадуется. «Вот, скажет, Шурочка, молодец! Дай, я тебя поцелую!» Коньяк он, можно сказать, обожал… Вечером вместе в Зоологический, бывало, поедем… Хорошо, Танечка, замужем жить. О деньгах не думаешь, никого не боишься, один тебе хозяин — муж. Никому в обиду тебя не даст… Вот бы тебе поскорей выйти!
— Я скоро выйду.
— Да ну? — Александра Михайловна заглянула в улыбавшееся лицо Тани. — Петра Иваныча видаешь?
— Как же! С тех пор как, помните, вы у меня были, три раза приходил. Дура я такая, бог знает, что тогда подумала. А у него вправду тетка хворала, больше ничего. Недавно даже померла, хоронил в воскресенье… Сядем здесь!
Они сели на скамейку бульвара около Шестой линии. Окна магазинов были темны, только в мелочных лавочках светились огни. По бульвару двигалась праздничная толпа. Заморосил мелкий дождь. Туманная паутина наседала на город и становилась все гуще. Электрический фонарь на перекрестке, сияя ярким огнем, шипел и жужжал, как будто громадная голубая муха запуталась в туманной паутине и билась, не в силах вырваться.
— Август месяц теперь, — сказала Таня. — В октябре или ноябре венчаться будем, он сам сказал. Отбудет службу, и сейчас же в артельщики, ему уж обещали. И сто рублей к тому времени будут готовы.
— Ну, дай тебе бог!
Таня оживилась.
— А правда, Александра Михайловна, красивый он? Всякий, кто ни посмотрит, удивляется. Из всей команды его наперед ставят на смотрах. Все девушки на него заглядываются. А он говорит: «Никого мне не надо, только тебя, говорит, одну я люблю…» И, знаете, я вам уж всю правду скажу: я беременна от него. Третий месяц… Ребеночек будет у нас. Правда, смешно?
Она не стыдилась, гордая своей любовью. Она радостно улыбалась и рассказывала без конца. На пушистых золотых волосах осели мелкие капельки дождя, от круглого лица веяло счастьем. И казалось, сквозь холодный осенний туман светится теплая, счастливая весна. Александра Михайловна расспрашивала, давала советы, и на душе ее тоже становилось тепло и чисто.
Ярко-синий огонь в фонаре шумел и жужжал и бессильно бился, плотно охваченный мутным туманом.
— Ну, Танечка, домой пора… Пойдем!
Они встали. Мимо со смехом прошла компания из двух девушек и трех кавалеров. В темноте блеснули золотые буквы на черно-оранжевом околыше матросской фуражки.
Таня дрогнула и остановилась.
— Петька! — крикнула она, быстро повернулась и пошла догонять компанию.
Александра Михайловна стояла и ждала. Вдали, в тумане, что-то вдруг колыхнулось. Темные силуэты заметались, взмахивая руками. Александра Михайловна поспешно пошла туда.
Таня стояла, прислонясь спиною к стене дома и опустив голову, а высокая девушка, в шляпе с красным пером, била ее по лицу. Компания стояла в отдалении и смотрела. Девушка лихо повернулась и, гордо неся голову, пошла к своим.
— Погоди же ты, Петька, — всхлипнула Таня.
— Что-о?!
Девушка быстро воротилась к Тане и снова сильно, с размаху, стала сверху бить ее по лицу. Прохожий парень весело гаркнул:
— Бе-ей!
Собиралась толпа.
— Баба — бабу!.. Ловко! — смеялись в толпе.
Девушка громко крикнула:
— Еще просишь? Просишь, что ль, еще?
Таня стояла, закрыв лицо руками.
— Дово-ольно! — всхлипнула она, втягивая носом лившуюся кровь.
Девушка пошла к компании, и они с громким смехом исчезли в тумане.
VIII
В начале сентября работа в мастерской кипела. Наступил книжный и учебный сезон, в громадном количестве шли партии учебников. Теперь кончали в десять часов вечера, мастерскую запирали на ключ и раньше никого не выпускали. Но выпадали вечера, когда делать было нечего, а девушек все-таки держали до десяти: мастера за сверхурочные часы получали по пятнадцати копеек в час, и они в это время, тайно от хозяина, работали свою частную работу — заказ писчебумажного магазина на школьные тетради.
Был такой вечер. Девушки — злые, раздраженные — слонялись по мастерской без дела. Только Грунька Полякова, не спеша, фальцевала на угол объявления о санотогене, — работа легкая и выгодная, — да шили книги две девушки, на днях угостившие Матвеева мадерой.
Александра Михайловна забыла оставить дома поужинать Зине; на душе у нее кипело: девочка ляжет спать, не евши, а она тут, неизвестно для чего, сидит сложа руки. В комнатах стоял громкий говор. За верстаком хихикала Манька, которую прижал к углу забредший снизу подмастерье Новиков. Гавриловна переругивалась с двумя молодыми броширантами; они хохотали на ее бесстыдные фразы и подзадоривали ее, Гавриловна делала свирепое лицо, а в морщинистых углах черных губ дрожала самодовольная улыбка.
Александра Михайловна вошла в комнату мастера и решительно сказала:
— Василий Матвеев, давай работы! А нет работы, так отпусти: у меня ребенок дома ждет.
— Да сейчас же, сейчас привезут листы, сказано вам! — нетерпеливо-увещевающим голосом возразил Василий Матвеев. — Мужик уж час назад в типографию поехал.
— И вовсе никуда мужик не поехал! А в десять часов скажешь: «Видно, задержали его, идите домой»… Отпусти… Василий Матвеев!
— Чтой-то ты, Колосова, много разговариваешь!
Он удивленно поднял на нее тусклые, косые глаза. Было в них спокойствие, и уверенное сознание силы, и нетерпеливая скука, как от привязавшейся ничтожной мухи. И противно и жутко стало Александре Михайловне: сколько власти над ними дано этому человеку! Закусив губу, она молча вышла вон.
У окна сидела Таня и, облокотившись о подоконник, задумчиво смотрела сквозь стекла на темную улицу. Александра Михайловна подсела к ней. Таня очнулась от задумчивости и привычным движением оправила пушистые волосы.
— А Фокина, ведьма, разглядела, подлая, что я беременна. Сейчас спрашивает меня: «Что это ты, Танечка, словно полнеешь в талии?» Уж по всей мастерской раструбила.
— Э, наплевать!
Таня гордо встрепенулась.
— Да понятное дело, плевать! Очень нужно!.. — Она замолчала и опять стала смотреть в окно. — А ко мне вчера Петя приходил, прощения просил.
— Долго собирался! Две недели целых! — усмехнулась Александра Михайловна.
— Ему стыдно было, не смел… Говорит, очень ему тогда было жалко меня, а только совестно было перед товарищами заступиться… Это Фенька-папиросница была.
— Хорош молодец! Говорит — любит, а совестно заступиться!
— Нет, Александра Михайловна, вы так не говорите. Он хороший. Зачем вы об нем так плохо понимаете? Конечно, всем завидно — всякой лестно такого красавца отбить. А он этой Феньки-шлюхи больше и видеть не может. Только, говорит, скопишь сто рублей, — и женимся.
— А знаешь, Танечка, что мне думается? Не любит он тебя. Любил бы, не говорил бы все про деньги.
Таня тоскливо повела плечами.
— Александра Михайловна, да как же вы не понимаете? Ведь ему, правда, деньги нужны, без залога в артель не принимают. Как же жить будем?.. Хорошо еще, пока залог берут небольшой; а скоро, говорят, семьсот рублей будут требовать. Очень уж много желающих… — Она поспешно прервала себя: — Батюшки, ведь сегодня суббота! А лампадка не оправлена, не зажжена!..
Таня взобралась на верстак, перекрестилась и стала оправлять лампадку. Мимо проходил броширант Егорка. Он протянул руку горстью по направлению к стоявшей на цыпочках Тане, подмигнул и сделал неприличный жест. Броширанты засмеялись. Таня оглянулась и, покраснев, быстро протянула руку, чтобы оправить юбку. Рука задела за лампадку, лампадка перекувыркнулась и дугою полетела на верстак. Зазвенело разбившееся стекло, осколки посыпались на пол. Таня соскочила с верстака.
— Ах, батюшки! — в испуге вскрикнула она.
Зеленое масло, перемешанное с нагаром, пролилось на стопку ярко раскрашенных обложек. От обгорелого фитиля расплывались пятна на девочку и собаку в зелени и на красное заглавие «Приключения Амишки», угол высокой стопки медленно впитывал в себя грязное масло.
Василий Матвеев вышел из своей комнаты.
— Что случилось? — Он подошел к верстаку, взглянул на залитую стопку и строго нахмурился. — Кто это сделал?
Таня ответила:
— Я.
— Та-ак… — Василий Матвеев стал перебирать стопку и вздохнул. — Придется перепечатывать тебе! Вот, пятьсот штук залила!
Таня обомлела.
— Сколько же это будет стоить?
— В восемь красочек печатана. Рублей пятьдесят заплатишь… Пойти, хозяину показать.
Он лениво пошел назад в свою комнату. Дарья Петровна испуганно зашептала:
— Пойди, поговори с ним! Может, что можно сделать, хозяин не узнает… А скажет, — готово дело, придется тебе на свой счет печатать.
— И вправду, иди скорей! — сказала Фокина.
Дарья Петровна в ужасе качала головою:
— Пятьдесят рублей, — что же это, господи!
Таня с испуганным, растерянным лицом пошла к мастеру. Через две минуты она воротилась. Бледная, с большими, сразу впавшими глазами, она припала к верстаку и зарыдала.
— Что он сказал тебе? — спрашивала Александра Михайловна.
— Подлец, негодяй грязный!.. Негодяй, негодяй, негодяй!..
— Да что он сказал-то тебе?
— Могу, говорит, сделать, что хозяин ничего не узнает!.. Оо-о!.. Мерзавцы подлые!..
Таня быстро подняла голову, глаза блеснули. Громко и раздельно она сказала:
— Поедем, говорит… в баню с тобой! — И, зарыдав, она припала грудью к верстаку.
— В баню, говорит, поедем! — передала Александра Михайловна окружающим. Бешеная злоба сдавила ей дыхание. Хотелось, чтобы кто-нибудь громко, исступленно крикнул: «Девушки, да докуда же мы будем терпеть?!» И чтоб всем вбежать к Матвееву, повалить его и бить, бить эту поганую тушу ногами, стульями, топтать каблуками… Дарья Петровна с сожалением смотрела на Таню, глаза Фокиной мрачно горели.
Таня рыдала, не глядя на окружающих. Гавриловна цинично усмехнулась и махнула рукою.
— Э, ступай, чего там! Тоже, подумаешь… Авось, не лужа, останется и для мужа.
Вошел Василий Матвеев, красный, с злыми глазами.
— Ты что тут на меня врешь? — злобно обратился он к Тане.
Таня, прижимая руки к груди, в упор смотрела на Матвеева.
— Подлец ты, подлец, Василий Матвеев!
— Вам что тут нужно, чего толчетесь? — крикнул Матвеев на девушек. — Ступай, берись за работу! Что за беспорядок!
Фокина грубо спросила:
— За какую работу-то браться?
— Аль все нету еще? Ну, значит, не готовы листы в типографии. Можно шабашить.
Девушки стали расходиться. Таня рыдала, припав к верстаку. Александра Михайловна положила руку на ее плечо.
— Ну, Таня, будет! Что уж так убиваться! Ведь прибавил, небось, мастер. Ну, двадцать пять, тридцать рублей вычтут, работаешь ты хорошо, скоро наверстаешь.
Таня в тоске заломила руки.
— Александра Михайловна, милая! Мне спешить нужно! Еще год пройдет, — не женится на мне Петя. Ребенок у меня скоро будет, а он легкий сердцем, закрутят его. Другую невесту найдет с приданым. За такого всякая пойдет. Теперь не женится, бросит…
Она замолчала, широко раскрытыми, красными и опухшими глазами глядя перед собою.
— У-у, подлец грязный! — с отвращением всхлипнула она, и трепет пробежал по ее телу.
И она продолжала неподвижно смотреть перед собою. И вдруг подняла на Александру Михайловну свое распухшее, жалкое лицо.
— Скучно мне, Александра Михайловна… Милая!.. Так скучно!.. — ломающимся от слез голосом воскликнула она и схватилась за руку Александры Михайловны, — крепко, как будто стараясь удержаться за нее.
Задыхаясь, Александра Михайловна заговорила:
— Таня, слушай! Не бойся, я тебе все устрою!.. Не бойся, иди домой, вот увидишь, все выйдет по-хорошему… Я к тебе нынче же приду, жди меня, слышишь?.. Вот увидишь, как все будет хорошо… Не бойся! — радостно повторяла она.
Александра Михайловна вышла в прихожую и поспешно оделась. Внизу слышен был говор спускавшихся по лестнице девушек. Александра Михайловна догнала их.
— Девушки, слушайте! — одушевленно заговорила она. — Давайте, соберем меж собой деньги и поможем Тане!
Дарья Петровна растерянно взглянула на нее и смешалась.
— Правда, девушки! — убеждала Александра Михайловна. — Ну, что стоит! По рублю, по два всякая может дать. Не помрем с голоду из-за рубля. А ей помощь будет… Все над Ваською Матвеевым посмеемся.
Фокина, покручивая головою, молча смотрела в глаза Александре Михайловне и вдруг громко расхохоталась.
— Ловко придумала!.. У меня вот пятеро ребят, — нужно их накормить, ай нет? Выдумала… Очень нужно!
Другая девушка враждебно возразила:
— Рубль! Для бедного человека рубль много значит, если он нужен.
— Ничего, пускай съездит в баньку, попарится с мастером. За баню не платить, все экономия! — сказала Гавриловна и хрипло засмеялась.
IX
Александра Михайловна возвращалась домой с Дарьей Петровной. Ее поразило: не только никто не откликнулся на ее призыв, а напротив, после первого взрыва возмущения явилась даже как будто вражда к Тане. Никто даже не обрезал Гавриловну за ее гнусные слова. За что все это?.. Возбуждение Александры Михайловны сменилось усталостью, на душе было обычное тупое отвращение ко всему.
Дарья Петровна угодливо заглядывала Александре Михайловне в глаза и своим смиренным голосом говорила:
— Знаете, где ж у нас что собрать. Ведь сами все вроде как бы нищие живут. А у ней вон, у Танечки, говорят, не одна уж десятка припасена.
Александра Михайловна молчала. Они проходили по Большому проспекту мимо трактира.
— Зайдем, выпьем полбутылочки, — предложила Дарья Петровна, как будто стараясь чем-нибудь загладить свой отказ.
— Нет, мне домой пора, девочка ждет! Она сегодня еще не ужинавши.
— Вы не стесняйтесь! У меня сейчас деньги есть, другой раз вы меня угостите. А девочка все равно уж заснула.
Александра Михайловна колебалась: домой идти — придется зайти к Тане. А что она ей теперь скажет?.. Александра Михайловна согласилась.
Они вошли в трактир; Александра Михайловна прошла в заднюю комнату, конфузливо опустив лицо. Подали водку. Они выпили по рюмке.
Наверху ухал и гудел орган. Около окна сидел стройный студент-медик и читал «Стрекозу». Полная, высокая девушка в пышной шляпе пила за соседним столом пиво и громко переговаривалась через комнату с другою девушкою, сидевшею у печки.
Дарья Петровна налила рюмки. Они снова выпили, Александра Михайловна вздохнула.
— Эх, жалко мне Таню!
Дарья Петровна подняла на нее глаза и улыбнулась медленною, загадочною улыбкою.
— Ничего-то вы, Александра Михайловна, не знаете, ничего не понимаете! Знаете, я вам по секрету скажу: рано, поздно, все равно не миновать Танечке косоглазого… Поглядите сами, разве с нашей работы можно честно прожить? Не она первая, не она последняя.
Александра Михайловна широко раскрыла глаза. Дарья Петровна продолжала:
— Я вам всю правду скажу: все так делают. Ведь Василий Матвеев у нас все равно, что хозяин, сами знаете. Хочет — даст жить, не хочет — изморит работою, а получишь грош. И везде так, везде мастеру над девушками власть дана. А есть-то всякой хочется. Ведь человек для того и живет, чтобы ему полегче было… Поступит девушка, — ну, сначала, конечно, бодается, пока сил хватает, а потом и уступит. Что ж делать, если свет нынче стал такой нехороший?
Дарья Петровна снова наполнила рюмки и выпила свою. Александра Михайловна, не шевелясь, смотрела на нее.
— Хорошо вот, вы такая гордая, настойчивая, — льстиво говорила Дарья Петровна. — А много ли у нас таких? Грунька Полякова, сами знаете, и сейчас живет с ним. Маньку два раза к себе увозил. С Гавриловной когда-то целый год жил. А Фокина вот, — на что уж непоклонная, а сколько раз к нему хаживала, как помоложе была… Я вам правду скажу: которая девушка замужняя или помогу имеет со стороны, ну, та может куражиться. А нет помоги, что ж поделаешь? Вон у Фокиной пятеро ребят, всех одень-обуй; как тут куражиться?
— И вы, вы тоже уступали ему?!
— Я… я-то?.. Я-то нет… Зачем я ему буду уступать?
— Господи, и как не стыдно! — Александра Михайловна глядела ей в глаза и качала головою.
Дарья Петровна хмелела. В ее смиренных глазах мелькнули ненависть и вызов.
— Что ж — «стыдно»? Со стыдом, милая, сыта не будешь!.. Еще поглядим, как другие-то всякие себя соблюдут.
Новое что-то, широкое и страшное, раскрывалось перед Александрой Михайловной. Так вот оно что! Вот отчего все были так странно равнодушны, когда она сообщала о приставаниях к ней мастера, вот почему была словно тайная радость, когда Таня попала в беду.
Они замолчали. Александра Михайловна залпом выпила свою рюмку. В голове шумело, перед глазами было смиренное, желто-бледное, ничего не выражающее лицо Дарьи Петровны. И жутко было это отсутствие выражения после того, что она сейчас говорила.
Наверху по-прежнему ухал и звенел орган. Полная девушка в пышной шляпке переговаривалась с нарумяненной девушкою, сидевшею у печки.
— Ты вчера именинница была? — спрашивала нарумяненная девушка.
— Нет, меня вправду Матреной звать, а не Лизаветой. А это я студента одного надула, чтоб подарок мне сделал. Я двенадцать раз в году именинницей бываю: и на Веру-Надежду-Любовь, и на Катерину, и на Зинаиду, и на Наталью… Вот подвязки подарил; говорит, три рубля отдал. Врет, конечно, не больше полутора заплатил.
Полная девушка, не стесняясь, подняла юбку выше колена и показала новые ярко-красные подвязки.
Она говорила громким, немного сиплым голосом, с веселою улыбкой, и видно было, что говорит она не для подруги, а для студента.
Студент опустил «Стрекозу» и посмотрел на девушку. Она спросила его:
— Правда, яркие?
Дарья Петровна зашептала:
— Это Матрешка Грушева, тоже в нашей мастерской была. Как бы не узнала. Такая бесстыдная, нахальная. Заговорит при всех, оконфузит перед людями.
— Вот, студенты-медики! Такой это народ — ничего не боятся! — сказала полная девушка, обращаясь к подруге. — В воскресенье ночевала я у одного на Введенской улице; проснулась ночью, хвать — прямо рукою за стелет зацепила! Кости сухие висят, щелкают, — такие страсти! И спят себе, не боятся ничего. То-то живодеры!.. И шутки тоже любят шутить. Намедни идем мы три девки, все пьяные вдрызг, «мама» сказать не можем. Взяли нас студенты, повезли куда-то. Пьяна я была, ничего не помню, не знаю, что они с нами делали. Только проснулась, вижу — холодный кто-то рядом. Зажгла спичку, — мертвец!.. В анатомический завезли нас, подлецы! Кожа содрана, руки скрючены. У меня весь хмель соскочил. Нам бы три ступеньки вверх подняться, они все там были, а мы — вниз, да поскорее домой. Не знаю, как добрались, рукав весь в крови испачкан, карболовкой пахнет.
Она оглядела всех, медленно улыбаясь. Дарья Петровна поспешно наклонилась лицом над скатертью. Александра Михайловна слушала с пристальным детским любопытством, стыдясь и удивляясь, как она все это может рассказывать.
Девушка подметила выражение ее взгляда, увидела бедную, отрепанную одежду соседок и продолжала, рисуясь своим бесстыдством.
— А все-таки люблю студентов — хороший народ, правильный! Не то, что купцы, — те все жулики. Намедни гуляю по пришпехту, важный купец подошел — в котелке, пальто шевиотовое. Приехал со мною ко мне, полбутылки коньяку спросил в два рубля, лимонаду. Ну, думаю, не иначе, как он мне двадцать пять рублей за ночь заплатит. Легли спать. Вижу, хороший человек, подвалилась ему под бочок и заснула. Он потихоньку встал, оделся и удрал. Слышу, дверь хлопнула. Вскочила, — как бежать за ним? Я совсем голая! Люблю, говорит, чтоб девушка со мной голая спала… Так и удрал, ничего не заплативши. И за коньяк самой пришлось отдать деньги… Ну, да я ему еще отплачу! Кислоты на двадцать копеек куплю, пойду гулять, встренусь, я его сразу узнаю, — да сзади потихоньку все пальто ему и оболью. В пятьдесят рублей ему моя ночевка встанет.
Студент положил газету на колени и слушал, слегка улыбаясь. Он был красивый и стройный, с мягкою русою бородкою.
Девушка оправила пунцовый бантик на полной, белой шее и вздохнула.
— До чего я толстею! Запонка не сходится, пришлось на самый край перешить пуговку… Вот Лелька, та сухая, как кошка: идет гулять, за корсет полотенце запихивает. А мне этого не надо, у меня все свое, натуральное…
Девушка медленно взглянула на студента.
— Вот в кого бы я влюбилась! Какой хорошенький — прелесть!.. Мужчина, пойдем со мной! — вполголоса прибавила она.
Студент сердито нахмурился и молча взялся за журнал.
Она пересела к его столу и переставила туда свою бутылку с пивом. Бутылка студента была уже пуста.
— Я только сегодня в бане была, чистенькая! — сказала девушка и налила из своей бутылки пиво в стакан студента.
Студент возмутился.
— Не надо, зачем вы мне наливаете?
— Это моя бутылка, я плачу, — успокоила его девушка.
Студент выпил и, чтобы отплатить, спросил еще бутылку. Девушка отказалась.
— Нет, больше не стану пить! Я уж с семи часов по кабакам. Еще много придется, будет!.. Ну, цыпочка, вставай, пойдем вместе.
— Не пойду я! — сердито ответил студент, сконфуженно косясь по сторонам.
Девушка расплатилась и медленно, качающеюся походкою вышла, сверкнув в дверях яркою шляпкою. Студент посидел, поспешно встал и тоже вышел.
— Шкура подлая! — с ненавистью и отвращением сказала Дарья Петровна.
Александра Михайловна, пораженная, молчала. Никогда она раньше не думала, чтоб все это делалось так бесстыдно и открыто. И именно в этом дерзком, вызывающем бесстыдстве было что-то странно привлекательное. Она смотрела на желто-бледное, иссохшее в работе лицо Дарьи Петровны и сравнивала его с полным, веселым лицом ушедшей девушки. Дарья Петровна презирает ее, а за что? Все они точно так же из расчета отдаются мужчинам, а хотят казаться честными, зато сохнут и надрываются в скучной мастерской, а та смелая, ничего не боится и не стыдится! Ушла из мастерской, и вот живет в бесшабашно-веселом, ярком мире, шикарною, изящно одетою.
Александра Михайловна возвращалась домой. В голове шумело, и в этом шуме подплывали к сознанию уже знакомые ей уродливые, самое ее пугавшие мысли. Может быть, потому, что молодой человек, с которым ушла девушка, был красив, и в Александре Михайловне проснулась женщина, но на душе было грустно и одиноко. И она думала: проходит ее молодость, гибнет напрасно красота. Кому польза, что она идет честным путем?..
И вдруг смутные, робко касавшиеся сознания мысли плавным порывом ворвались в сознание, слились в яркую, смелую и радостную от своей смелости мысль: да! на все наплевать, глупо быть честною! Для чего надо дорожить собою, видеть в себе что-то важное, особенное, чему словно и цены нет? Ведь все это так просто, так удивительно просто и ясно! Не видеть постылой мастерской, жить вольно и красиво, пить вкусный и дорогой коньяк, давать обнимать себя красивым молодым студентам. И день весь будет свободный, Зина не будет бегать без призора и ложиться спать голодною… Что в этом плохого?
Было поздно. По пустынному проспекту изредка проходили накрашенные, разодетые женщины. Их темные фигуры медленно появлялись из мрака. При блеске газовых фонарей грубые румяна казались веселым румянцем, сами женщины были прекрасны в своей таинственности и смелом презрении своем к людскому мнению. Александра Михайловна с тайным замиранием долго ходила по проспекту и широкими, детски-любопытными глазами провожала каждую женщину: да, они поняли, что все это просто и естественно, и не побоялись пойти на это. И теперь они казались Александре Михайловне близкими и родными.
X
Ввиду спешной работы в мастерской работали и в воскресенье до часу дня. У Александры Михайловны с похмелья болела голова, ее тошнило, и все кругом казалось еще серее, еще отвратительнее, чем всегда. Таня не пришла. У Александры Михайловны щемило на душе, что и сегодня утром, до работы, она не проведала Таню: проспала, трещала голова, и нужно было спешить в мастерскую, пока не заперли дверей. Александра Михайловна решила зайти к Тане после обеда.
Кругом стояло обычное шуршание сворачиваемых листов, спины девушек обнообразно сгибались и разгибались. Василий Матвеев возился около обрезной машины, обрезывал какие-то яркие обложки и, обрезав, тщательно осматривал каждую. Александра Михайловна, вся полная воспоминанием о вчерашних признаниях Дарьи Петровны, с необычным чувством, как прозревшая, осматривалась вокруг. Меж двигавшихся голов девушек мелькали жирные плечи и короткая шея Василия Матвеева. И у него и у них всех были такие буднично-спокойные, ничего не выражавшие лица!.. Как будто вовсе и не лежало между ними той ужасной, грязной тайны, о которой вчера узнала Александра Михайловна, или как будто эта тайна была чем-то совсем обычным, что не может ни давить, ни мучить.
Выходя в час из мастерской, Александра Михайловна слышала, как хозяин кричал в конторе на Василия Матвеева, а тот суетился, разводил руками и что-то объяснял Семидалову.
Под вечер Александра Михайловна сидела у себя и шила. Вошла Дарья Петровна.
— А-а… Здравствуйте! — Александра Михайловна приветливо поднялась. — Садитесь, пожалуйста!.. Чайку позволите?
— Нет, нет, не трудитесь! Я к вам только на одну минуточку, спросить хотела: где вы бумазею покупали к той вон кофточке, в которой на празднике были?
Александра Михайловна сказала:
— Благодарю вас. Очень уж мне рисунок приглянулся. Ну, прощайте! Я спешу. — Дарья Петровна помолчала. — А Танечка-то наша, слыхали? — вздохнула она.
Александра Михайловна встрепенулась.
— Что?
— Ведь пошла… к Ваське-то Матвееву.
— Не мо-ожет быть!
У Александры Михайловны опустились руки, и она медленно села на кровать.
— Верно. Девушки видели… И как ловко он с обложками обернулся! Какие по краям были залиты — обрезал покороче, стали, как новые, а которые больше были залиты — пустил в обрезки, хозяину сказал, что из типографии двух сотен не дослали. Хозяин раскричался: «Как же вы не сосчитали?» — «Я, говорит, считал, да вы меня позвали, а воротился, — мужик типографский уж уехал…» Жалко Танечку нашу, правда?
Она вздохнула, а желтое, смиренное лицо светилось тайной радостью.
— Господи, господи, что же это такое! — сказала Александра Михайловна. — То-то я сегодня утром шла, смотрю, как будто на той стороне Таня идет; кутает лицо платком, отвертывается… Нет, думаю, не она. А выходит, к нему шла… И какой со мною грех случился! — стала она оправдываться перед собою. — Хотела к ней утром зайти, не поспела, девчонка задержала. А после работы зашла, уж не было ее дома…
Дарья Петровна ушла. Александра Михайловна села к окну и задумчиво уставилась на темневший двор.
«Жалко Танечку», — думала она. Но жалость была больше в мыслях. В душе с жалостью мешалось брезгливое презрение к Тане. Нет, она, Александра Михайловна, — она не пошла бы не только из-за пятидесяти рублей, а и с голоду бы помирала… Гадость какая! Она — честная, непродажная. И от этой мысли у нее было приятное ощущение чистоты, как будто она только что воротилась из бани. Не легкое это дело остаться честной, а она вот сохранила себя и всегда сохранит.
Пришел Лестман. Он пил чай и застенчиво крутил редкую бородку, а Александра Михайловна, вздыхая, рассказывала ему о происшествии с Таней. Ругала Василия Матвеева, жалела Таню, и около губ чуть заметно играла скромно-гордая улыбка.
XI
— Я… я знаю… Господи, что же это?.. Пустите… Я знаю! — задыхаясь, твердила Александра Михайловна и с смертельно-бледным лицом проталкивалась сквозь толпу. — Городовой, это девушка одна… Я знаю!.. О господи!..
Она уже минуты три стояла в толпе, теснившейся на набережной. За краем гранитного спуска медленно плескались длинные зеленоватые волны, утреннее солнце глубоко освещало их и делало прозрачными, и на этом зеленоватом, плещущем фоне неподвижно рисовалось лежавшее на плитах тело девушки. Мокро-тяжелая черная юбка плотно облегала вытянутые ноги. Острые концы ботинок торчали в стороны. Александра Михайловна подалась вперед, чтоб разглядеть лицо, и с смутно жалостливым, жадным любопытством смотрела: широкий, чистый лоб; от угла рта по синеватой щеке тянулась струйка пенисто-темной жидкости. Вдруг серая шелковая кофточка на выступе груди показалась странно знакомою. Потом, вызывая недоумение, стали знакомыми округлость щеки, намокшие рыжеватые волосы. И загадочно-неизвестное чуждое лицо утопленницы вдруг превратилось в знакомое лицо Тани.
— Городовой, я знаю… Господи, господи!.. — повторяла Александра Михайловна. — Это девушка одна, Капитанова фамилия… Татьяна… О боже, что же это?
Городовой, вынув книжечку, записывал имя утопленницы и адрес Александры Михайловны, толпа приставала к Александре Михайловне с расспросами, а она, всхлипывая, повторяла: «Господи, господи!» и, не отрываясь, смотрела на Таню. Все в ней было близко знакомо и все — страшно, необычно, скрытно-чуждо. Вся она была пропитана тайно принятым вчера позором и одиночным ужасом пошедшей на самоуничтожение жизни.
И она лежала на мостовой, неподвижная, жалкая и загаженная. Мокрая юбка плотно облегала раздвинутые ноги, в этом было что-то особенно жалкое и беззащитное. Хотелось наклониться, оправить юбку, скрыть выставленные под чужие взгляды ноги. А за гранитным спуском все плескались прозрачно-зеленоватые длинные волны, и от них веяло сырым запахом водорослей.
Труп увезли. Александру Михайловну пригласили в участок, там еще раз записали все. Она вышла на улицу. Давно было пора идти в мастерскую, но Александра Михайловна забыла про нее. Она шла, и в ее глазах плескались зеленоватые, пахнувшие водорослями волны, и темнопенистая струйка тянулась по круглой щеке.
Было яркое сентябрьское утро. Солнце золотым светом заливало дома, магазины и конки. На теневой стороне улиц, вдоль высоких домов, стояла туманно-синяя дымка.
Дворники в фиолетовых фуфайках мели улицы, по панелям шли люди с равнодушными, не знающими случившегося лицами, они не только не знали о случившемся, они как будто не знали и того, как страшна жизнь и как беспомощны против нее люди.
И опять перед Александрой Михайловной плескались прозрачно-зеленоватые волны, и Таня лежала с плоскими, слипшимися на синеватом лбу волосами. Александра Михайловна вспомнила, как месяц назад на этих волосах, тогда живых и пушистых, дрожали капельки осеннего дождя, и они золотистым сиянием окружали круглое, весенне-счастливое лицо Тани. Она была горда своею любовью и вызывающею непреклонностью, — пришла жизнь, подстерегла и сломила непреклонность, гнусно загадила любовь, загадила и измяла все. И так со всеми ими — с девушками, с женщинами: за то, чтоб жить, мало отдавать труд и здоровье, — у них есть еще то, до чего жизнь жестоко жадна, и она не отступит, пока не возьмет и этого, пока в ее пахнущую кровью мясную лавочку смирившаяся женщина не принесет и своего мяса. А не смирится, будет стараться оставить своей душе ее дорогое и свое, — то не будет ей пощады, и кругом станет пустыня, где медленно умирают с голоду и крик отчаяния замирает без ответа.
Александра Михайловна вдруг почувствовала, что ведь и сама она давно уже находится в такой пустыне, что она беспомощно бродит по ней, а жизнь немигающим, злым, как у индюшки, глазом следит за нею и ждет. Встал перед нею Ляхов с тупо-беспощадным, жадным до нее лицом, встал Лестман с проползающим в белесых глазах осторожным ожиданием, Василий Матвеев с косящими глазами, у которых нельзя поймать взгляда… Все это сливалось в один беспощадно-похотливый глаз, и мимо проносились девушки-работницы в отрепанных юбках, выплывавшие из мглы проспекта женщины с накрашенными лицами, плачущая над песней о гнедых Прасковья Федоровна и Таня с синеватым лицом, с ногами, плотно охваченными мокрою юбкою… И казалось Александре Михайловне: вот-вот подхватит ее, и унесет, и замешает в этот поток опозоренных, продавшихся за право жизни женских тел.
Она вышла к набережной. Широкая синяя река лениво и равнодушно плескалась под солнцем, забыв, что сделала сегодня ночью. И так же равнодушно смотрели ряды каменных громад, сверкавшие за рекою в голубом тумане. Александра Михайловна села на скамейку. Ею овладела смертельная усталость. Сгорбившись, с опустившимися плечами, она тупо смотрела вдаль. На что ей надеяться? Мрачно и пусто было впереди, и безысходный ужас был в этой пустоте.
«А зачем было так плохо поминать и Лестмана?» — вдруг мелькнуло у ней в голове.
И осторожно, стараясь не натолкнуться в мыслях на возражения, Александра Михайловна продолжала думать: «Он не то, что другие; за нехорошим он не гонится, все хочет сделать по-честному».
XII
В десятых числах ноября на Васильевском острове, в одной из квартирок огромного грязного дома за Малым проспектом, шел свадебный пир. Гармоника играла кадриль, стол был заставлен пивными бутылками и бутербродами, в воздухе стоял русский, немецкий и эстонский говор. Александра Михайловна, с завитою гривкою на лбу и в корсете, танцевала со своим шафером, переплетным подмастерьем Генрихсеном. За два месяца, как она не работала в мастерской, она сильно располнела, особенно в нижней части лица, синие глаза смотрели спокойно и довольно.
Александра Михайловна говорила Генрихсену:
— Он смирный, трезвый. О девочке моей обещает заботиться. А в мастерской оставаться было невозможно: мастер притесняет, девушки, сами знаете, какие. Житья нет женщине, которая честная. Мне еще покойник Андрей Иванович говорил, предупреждал, чтоб не идти туда. И, правда, сама увидела я: там работать — значит потерять себя.
— Ну да, ка-анешна! Ну да! — соглашался толстяк Генрихсен и, ухватив Александру Михайловну за талию, устремлялся навстречу визави.
В голове у Александры Михайловны кружилось от выпитого пива. Она смотрела, как толстый Генрихсен, отдуваясь, вытанцовывал соло, и вспомнила, как он, так же отдуваясь, танцевал на празднике иконы русскую. Вспоминались ей грязь и позор мастерской, вспоминались бурливо, как в самоваре, кипевшие в мозгу думы о жизни и порывы к борьбе с нею. Тихое спокойствие охватывало душу — и радость, что не нужно больше дум и борьбы. Вставали лица девушек-подруг, на сердце шевелилось брезгливое презрение к ним, и Александра Михайловна с гордостью думала: «Кто захочет, у кого есть в душе совесть, та всегда останется честною».
Кадриль кончилась. К Александре Михайловне подсел Лестман, в белом галстуке и шершавом черном сюртуке. Громадные руки торчали из коротких рукавов. Он обнимал Александру Михайловну за плечи, заглядывая в лицо.
— Сурочка, как я тебя люблю! — в пьяном восторге твердил он, и жмурился, и в сотый раз лез целоваться.
1898–1903
Проездом
— Ну, еще раз, прощай!.. Прощай, моя милая, милая!..
Ширяев прижимал к груди голову Катерины Николаевны и целовал ее лоб, где от него отходили мягкие волосы. В просвете между березами, над пчельником, светил месяц. Березы перед месяцем казались черными, а воздух за ними — прозрачно-синим и очень глубоким. Пахло спелою рожью.
Катерина Николаевна подняла голову и шепнула:
— Погоди, идет кто-то!
Они осторожно подались в темноту. Но в саду стояла глухая июльская тишина, и ничего не было слышно. Из темноты высовывались лапчатые ветви липового куста, от лунного света они казались серыми.
Ширяев громко сказал:
— Э, трусиха! Никто не идет.
И обнял ее за плечи. Они стояли так в темноте. Он чувствовал сквозь сукно студенческой тужурки, как она прижалась к нему. Обоим было необычно, слегка стыдно и сладко от этой близости.
Катерина Николаевна медленно отстранилась.
— Ну, ждут чай пить, пойдем! А то хватятся нас. — И тихо шепнула на ухо: — Завтра утром я встану тебя провожать.
Улыбаясь, он повторил: — Тебя.
— Ты, тебя, тобою, о тебе… — раздельно сказала Катерина Николаевна и с шаловливым вызовом глядела ему в глаза. Оба чувствовали себя, как дети. Хотелось говорить глупости. И Ширяеву радостно было видеть этот детски-шаловливый блеск в ее глазах, всегда серьезных и как будто вслушивающихся.
В конце темной липовой аллеи ярко светились окна дома, слышался говор, смех, звяканье чайной посуды. Ширяев и Катерина Николаевна медленно шли в темноте, прижавшись друг к другу. И Ширяеву казалось, — никогда еще ни у кого не было такого счастья, как у них.
Они вошли в залу. Он — плотный и слегка сутуловатый, с большою головою. Она — тонкая и гибкая, казавшаяся от этого выше его. Все мельком внимательно взглянули на них. Они думали, что никто ничего не замечает, а любовь и счастье так и сияли на их лицах.
Студент Алексей Болотов, брат Катерины Николаевны и товарищ Ширяева, разговаривал с земским врачом Кореневым. Алексей говорил быстро, слегка запинаясь и размахивая руками. А доктор, с загорелым лицом и взглядом исподлобья, лениво курил папиросу за папиросой и ворчащим голосом задавал вопросы.
Ширяев прихлебывал из стакана чай и прислушивался к разговору. Доктор расспрашивал Алексея с интересом, но за всеми его расспросами и возражениями чувствовалось что-то тускло-серое и бездеятельно-скептическое. Было странно слушать его, как будто в яркий весенний день он доказывал, что небо обложено тучами и моросит вялый, бессильный осенний дождь. Жена доктора — худая, с узким, болезненным лицом — поддерживала Алексея против мужа. Но все, что она говорила, было шаблонно и неинтересно.
В разговор втянулись Катерина Николаевна и Ширяев. И у них, и у доктора, казалось, были одинаковые желания, одинаковые цели. Но, когда о них говорил доктор, его слова были похожи на сухие червивые орехи. А в устах его противников эти же слова становились живыми и горячими, полными волнующего смысла. И двум слушавшим гимназисткам, сестрам Катерины Николаевны, тоже стало странно от осенне-вялого настроения доктора.
Ширяев большими шагами расхаживал по зале. В раскрытые окна тянуло все тем же широким, сухим запахом спелой ржи. Месяц светил сквозь липы, за ними чувствовался вольный, далекий простор. Доктор, сгорбившись, пил крепкий, как темное пиво, чай, непрерывно курил и затушивал папиросы в блюдечке. От окурков на блюдечке стояла коричневая слякоть. Загорелое лицо доктора было темно, как будто от табачной копоти. И так весь он казался чуждым широкому простору, который тянулся за окнами…
Марья Сергеевна, жена доктора, сказала:
— Коля, пора ехать.
Доктор покосился на нее.
— Сейчас.
На помолодевшем и оживившемся лице Марьи Сергеевны играла легкая улыбка победительницы. И доктор самолюбиво чувствовал, что его возражения оказались в глазах всех пустыми и ничтожными.
Он вздохнул и обратился к матери Катерины Николаевны:
— Что ж, Анна Павловна, налейте на прощание еще стаканчик.
— Да куда вам спешить, посидите еще!
Чтоб не дать доктору времени согласиться, Марья Сергеевна поспешно отказалась.
— Нельзя, Анна Павловна, детишки дома ждут. У Феди второй день жарок, мне и то не по себе.
Доктор не спеша помешивал ложечкою в стакане и курил. Он лениво сказал Ширяеву:
— А я к вам как-то, Виктор Михайлович, заходил в Томилинске. В конце июня.
— Это… позвольте! — вспомнил Ширяев, — после обеда вы зашли, сказали кухарке, что будете вечером?
— Да, да.
— Так это вы были… Отчего ж вы меня не вызвали? Ведь я дома был.
— На двор нужно было заходить, а кухарка у ворот сидела.
Ширяев засмеялся.
— А вечером так и не зашли. Я весь вечер просидел, ждал. — Он не прибавил: «И ругался, потому что нужно было уйти по делу».
— У приятеля, знаете, засиделся. Члена управы. То, се, спохватился — одиннадцать часов… А вы скоро назад в Томилинск?
— Завтра утром.
Доктор оживился.
— С пассажирским? Слушайте, так поезжайте с нами сейчас! Ведь мы в четырех верстах живем от станции. Поедем вместе, переночуете у нас, а утром ровно к десяти я вас доставлю на станцию. Завтра у меня приема нет, как раз в ту сторону нужно ехать к больному.
Ширяев в замешательстве крутил бородку.
— Не знаю, право…
Ему было куда приятнее провести вечер с Катериной Николаевной. Марья Сергеевна очень обрадовалась.
— Нет, правда, Виктор Михайлович, поедемте! Отлично проедемся. Попьем чайку у нас…
Катерина Николаевна возразила:
— Да у вас и сесть-то негде. Ведь вы на маленькой тележке приехали.
— Ну, пустяки какие! На козлах можно, — сказал доктор. — Хотите, я сяду? А тут, наверно, лошади нужны рожь возить. Что их напрасно за пятнадцать верст гонять! Верно ведь? — обратился он к Анне Павловне.
— Лошади-то тут, положим, ни при чем, — сдержанно ответила Анна Павловна, но Ширяев уловил в ее голосе, что она не против предложения доктора.
Он беззаботно сказал:
— Ну, ладно, все равно!
Марья Сергеевна попросила, чтобы велели запрягать тележку. Катерина Николаевна вышла на балкон. Следом незаметно вышел и Ширяев. Они близко друг от друга облокотились о решетку. Он в темноте положил руку на ее руку и тихо гладил.
— Зачем ты согласился ехать?
— Как было отказаться? Неловко… Эх, хорошо у вас тут. Как хорошо!
Ширяев глубоко дышал. И от запаха ржи в саду, и от садившегося за рекою месяца, — от всего несло счастьем и полною, радостною жизнью.
Лошадей подали. С шутками и смехом все вышли на крыльцо. Катерина Николаевна также улыбалась, но лицо было затуманено.
Тележка проехала спящую деревню, покатила по накатанному проселку. Пыль поднималась из-под колес и стояла в воздухе. По звездному небу бесшумно скользили падающие звезды. Марья Сергеевна оживленно рассказывала Ширяеву про время, когда она служила библиотекаршей в воронежской библиотеке. Ширяев, с тем же ощущением молодости и счастья, слушал ее, оглядывался вокруг и вспоминал, как с крыльца на него смотрело из темноты отуманенное лицо Катерины Николаевны. В низинах стоял влажный холодок, а когда тележка выезжала на открытое место, из ржи тянуло широким теплом. И звезды сыпались, сыпались.
Была поздняя ночь, когда они приехали. Марья Сергеевна поспешила в детскую, доктор с Ширяевым вошли в кабинет. На письменном столе были навалены медицинские книги, пачками лежали номера «Врача» в бледно-зеленых обложках. Ширяев, потирая руки, прошелся по кабинету. Остановился перед большою фотографией над диваном.
— Кто это? — спросил он.
На фотографии было снято несколько студентов и девушек. Ширяев узнал доктора в студенческом мундире, с чуть пробивающеюся бородкою, и его жену. Студенты смотрели открыто и смело. Девушки, просто одетые, были с теми славными лицами, где вся жизнь уходит в глаза, — глубокие, ясные. Поразило Ширяева лицо одной девушки с нависшими на лоб волнистыми, короткими волосами; из-под сдвинутых бровей внимательно смотрели сумрачные глаза.
Доктор ответил:
— Это на голоде мы снимались в девяносто первом году.
Ширяев указал на девушку.
— А это кто?
— Сестра Марьи Сергеевны… Не правда ли, замечательное лицо?
— Где она теперь?
— Отравилась… В Якутской области… Да вы, наверно, слышали про нее…
Доктор рассказал мрачную историю, от которой веяло безысходным ужасом. Ширяев вглядывался в непреклонно-гордое, суровое лицо девушки, и ему казалось, — она и не могла кончить добром; тень глубокого трагизма лежала на этом лице. Доктор рассказывал про других участников группы…
Ширяев от глубины души сказал:
— Ей-богу, много на свете хороших людей!
— Много, — согласился доктор.
Вошла Марья Сергеевна.
— Господа, идите, чай готов. Что вы это смотрите? А… Это мы все на голоде снимались. Сестру видели?
— Видел.
— Ну, пойдемте!
Они вошли в узенькую залу с бревенчатыми, неоклеенными стенами. Марья Сергеевна села за самовар. Ширяев смотрел на ее болезненно-темное, нервное лицо, слушал ее шаблонные фразы. Вспоминал ее молодое лицо на карточке, с славными, ясными глазами. И казалось ему, — что-то тут погибло, что не должно было погибнуть.
Доктор непрерывно курил и пил стакан за стаканом очень крепкий чай. Марья Сергеевна рассказывала о прошлом времени, о работе на голоде и холере, о своих занятиях в воскресной школе. И лицо ее все больше светлело и молодело. Выражения переставали быть шаблонными.
Во втором часу они разошлись. Ширяева положили на маленькой террасе, выходившей в цветник. На темном небе по-прежнему бесшумно мелькали падающие звезды. Там, далеко наверху, как будто шла какая-то большая, спешная жизнь, чуждая и непонятная земле. От пруда тянуло запахом тины, изредка квакали лягушки. Было душно.
Ширяев разделся и лег. Ему постелили на полу, положив, вместо тюфяка или сена, свернутое вдвое зимнее одеяло. Он лежал, и в голове его проходили образы хороших людей, и ярче их всех — образ девушки, которую он сегодня целовал в саду, средь сумрака, пахнувшего рожью. В ушах стоял тонкий звон вившихся вокруг головы комаров. То там, то здесь кожа начинала гореть, как будто к ней прикладывали тлеющую спичку. Ширяев тер шею и лицо. Комары не унимались. К уху приближался тонкий, уныло-сосредоточенный звон. Ближе, ближе. Замолкал. И Ширяев злобно хлопал себя по виску.
— Черти проклятые! — ворчал он и кутался с головою в простыню.
От подстеленного одеяла пахло нафталином. В детской плакал ребенок. Лягушки на пруде квакали громко и непрерывно, как весною. И сквозь дремоту это кваканье вырастало во что-то громадное и близкое. Ширяев тяжело думал:
«Чего они расквакались? Должно быть, к дождю. А может быть, потому, что лошадь ходит около пруда…»
Комар с злобно-унылым звоном, как будто исполняя надоевшую обязанность, приближался к лицу. Ширяев решительно сбросил одеяло и сел. Светало. Над постелью колыхалось прозрачно-серое облако комаров. За ивами, над прудом, стоял туман. Ширяев нащупал портсигар и закурил папиросу.
Было очень тихо. Далеко на востоке запели петухи. Им откликнулись ближе, пение росло и медленно, плавно приближалось. На деревне звонко запел молодой петух. Где-то близко, за домом, как будто запоздав и испуганно встрепенувшись, хрипло заорал совсем, должно быть, старый петух. Отовсюду кругом вперебой неслось:
— Кикики-ки-и-и!.. Кикики-ки-и-и!..
И дальше, к западу, откликались и начинали петь новые петухи. Как будто невидимый дух плавно летел в тьму запада с вестью об утре, и, почуяв над собою его властный полет, встрепенувшиеся петухи приветствовали вестника. На востоке пение смолкло. Замолкали петухи кругом. Теперь то же напряженное, непрерывное пение было слышно на западе. Оно удалялось и затихало за горизонтом. И представлялось Ширяеву, как эта широкая, предутренняя волна звуков катится по земле все дальше, дальше. И следом за нею плывет тихое утро.
В детской опять заплакал ребенок. Был слышен голос Марьи Сергеевны. Ширяев побоялся, как бы Марья Сергеевна не увидела в окно, что он не спит. Он лег. Всходило солнце, начинало припекать. Комаров стало меньше, но было жарко. В зале на часах жидким жестяным звоном пробило четыре.
Ширяев неожиданно заснул. Проснулся он в восьмом часу, с тяжелою, мутно-горячею головою. Солнце пекло прямо в лицо. Он сходил к пруду и выкупался.
На террасу выглянула Марья Сергеевна, в блузе, с бледным, измятым лицом.
— Вы уже встали? Ну, как вам было спать?
— Спасибо, очень хорошо!
— Идемте в залу. — Она устало села за чайный стол. — Сначала долго не могла заснуть, — вчерашние разговоры взволновали. Потом Федя не давал спать. Голова болит теперь.
С террасы с плачем вошла пятилетняя дочка Марьи Сергеевны, Аня. Она морщила пухлые щеки и тянула:
— Ма-ам, меня Костя ущипну-ул!
Марья Сергеевна нетерпеливо сказала:
— Ах, господи! Ну, не плачь!.. Не играй с ним, и не будет щипать. Вот на тебе печеньица.
Она дала ей из сухарницы альбертинку. Вошел доктор.
— А-а, чай сейчас?.. Здравствуйте!.. Я сейчас приду, только на минуту сбегаю в больницу.
Он вышел через террасу. Подали самовар. Небо нахмурилось, дверь террасы хлопнула. Марья Сергеевна поморщилась.
— Господи, как голова болит!
Ширяев участливо спросил:
— Часто она болит у вас?..
— Э, почти всегда!.. С нянькою боюсь на ночь детей оставлять, самой приходится возиться. Встанешь ночью к ребенку, потом два часа не можешь заснуть. Утром с шести часов в доме начинают подниматься, шуметь, — я уж не могу спать. Не помню даже, когда это было, чтоб я выспалась.
Со двора раздался обиженно-негодующий голос Кости:
— Мама, не вели Ане дражниться!
Марья Сергеевна засмеялась и взглянула на Ширяева.
— Боже мой, какой ужас! Восьмилетний малый, — и его Аня обижает!.. Как же она тебя дразнит?
— Говорит: у тебя черный хлеб, а у меня печеньице!
— Ты лучше скажи мне, зачем ты ее щипал?
— Я ее не щипал! Она с палочкой играла, палочка сломалась и, наверное, ее ущипнула…
— Вот как! Ну, пожалуйста, чтоб палочка больше не щипалась!
— Пускай она с палочкой не играет, а я тут ни при чем.
Ширяев спросил:
— У вас четверо деток?
— Четверо. И, к сожалению, три мальчика… Я бы хотела, чтоб у меня одни только девочки были. Мужчины всегда гораздо эгоистичнее. В детстве за ними ухаживают сестры, мать. Женятся, — жены. Для них женщины только для того и существуют, чтоб ухаживать за ними. — В голосе Марьи Сергеевны звучало тайное раздражение. — Главное, чтоб не заботиться самим о житейских мелочах: о топке печей, о провизии, о пеленках… Право, удивляете вы меня все. Говорили бы прямо, когда женитесь, что вам нужна экономка и нянька. Ведь в этом для вас вся суть. А между тем вы всегда говорите: «Мы будем с тобою работать на благо людей, развиваться, читать».
Воротился доктор. Он уселся за стол, положил в свой чай сахар и медленно улыбнулся.
— Приходила сейчас баба одна, старуха. «Я, говорит, у тебя вчера была, ты мне поворожил. А назад пошла я и потеряла твою ворожбу». Это про рецепт. Вместо того чтоб в аптечку нашу снесть, понесла с собой… Ворожбу!.. До чего дики, боже мой! Бьешься, бьешься — сил нет. Вроде как бы гнус какой висит над тобою эта баба, и притом в огромном количестве. Сотню лет надо поработать, чтоб привыкли. Спасибо еще, земство наше хорошее, не скупится на врачебное дело. Вот больничку новую нам выстроили на восемь коек. На Успенье освященье будет. Приезжайте… — Он взглянул на жену. — Не забыть бы генеральшу на освящение пригласить, княгиню Медынскую.
Марья Сергеевна пренебрежительно повела плечами.
— Для чего этих дам-аристократок приглашать? Очень нужно с ними знаться!
Раздражаясь, доктор сказал:
— Как ты этого не понимаешь? Она жертвовала!
Марья Сергеевна вспыхнула.
— Ну, не понимаю!.. Что ж такого? Почему я не имею права высказать свое мнение? Вот либеральная привычка — злиться, когда с ним не соглашаются!
Доктор с затаенною враждою взглянул на нее, поспешно сделал безразличное лицо и обратился к Ширяеву:
— Вот вам и хорошая погода! Посмотрите-ка, какие тучи собираются.
Ширяев осторожно спросил:
— А не пора нам ехать?
Доктор взглянул на часы.
— Скоро нужно выезжать. Вели, Маша, запрягать лошадь, — сумрачно обратился он к жене.
Вошел фельдшер.
— Николай Петрович, извините, забыл спросить. Нужно Гавриле клизму ставить?
— Погодите, я сам схожу. Нужно еще посмотреть, не промокла ли повязка у Груньки.
Он ушел с фельдшером. Полил дождь, капли зашумели по листьям деревьев. Ветер рванул в окно и обдал брызгами лежавшую на столике книжку журнала. Марья Сергеевна заперла окна и дверь на террасу. Шум дождя по листьям стал глуше, и теперь было слышно, как дождь барабанил по крыше. Вода струилась по стеклам, зелень деревьев сквозь них мутилась и теряла очертания.
В голове у Ширяева было тяжело. В комнате потемнело. Лицо Марьи Сергеевны стало еще бледнее, болезненнее и раздраженнее. Ширяев видел, как все в ней кипит, словно кто-то ушиб ей постоянно болящую язву. Он взял со столика книжку журнала, стал перелистывать. Чтоб отвлечь Марью Сергеевну от ее настроения, спросил:
— Видели вы книгу «Проблемы идеализма»?
— Не видела. — Марья Сергеевна помолчала. — И ничего даже не слышала про нее. Где мне теперь читать… А что, интересная?
— Об ней много этот год было разговоров. Мне не нравится…
Он стал говорить о книге.
На дворе дул ветер. Дождь хлестал в стеклянную дверь террасы. За дверью появилась темная фигура доктора с зонтиком. Он постучал в стекло. Ширяев отпер дверь. Марья Сергеевна сердито сказала:
— Что ты все через террасу ходишь? Через каждые пять минут отпирать тебе!
Доктор резко и нетерпеливо ответил вполголоса:
— Ну, хорошо!
— Что — «хорошо»? Вовсе не хорошо! Ходи кругом, через крыльцо… Сыро, сквозит, а ты постоянно через балкон. Только и знай, что вставай, отпирай тебе…
Она продолжала говорить, а доктор с неестественно-безразличным лицом обратился к Ширяеву:
— Да, я вот думал, что хорошая погода надолго установилась. Барометр вчера показывал beau temps[23]. А изволите видеть, что на дворе делается!
Марья Сергеевна замолчала и стала перетирать стаканы. Ширяев смотрел на нее и думал: «Ведь были же, были у нее эти ясные, славные глаза, с какими она снята на группе… Обманывала ли ими жизнь, как она обманывает людей мимолетною девическою прелестью? Или тут погибло то, что не могло и не должно было погибнуть? почему тогда оно погибло так легко и так безвозвратно?»
Марья Сергеевна спросила доктора:
— Скажи, пожалуйста, ты видел книгу… Как ее, Виктор Михайлович?.. Да, «Проблемы идеализма»… Видел ее?
Доктор неохотно пробурчал:
— Видел.
Она нервно засмеялась.
— Удивительное дело! А я даже ничего и не знала, ничего даже не слышала про нее!
— Кто ж в этом виноват? — доктор пожал плечами.
— Вот и подумай, кто в этом виноват… От кого я что-нибудь могу услышать, кроме тебя? Весь день торчу в кухне и детской, забочусь, чтоб тебе обед был вовремя, и чтоб тебе дети не мешали спать после обеда. Откуда же я могу знать?
Доктор нахмурился и тяжело вздохнул.
— Ну, пошло!
— Да, пошло! «Общение», «совместная духовная жизнь»… Какие красивые слова, как приятно употреблять их в умных разговорах! Со стороны можно подумать, какой новый человек, с какими новыми требованиями от брака! А на поверку выходит, — обыкновенный мягкотелый интеллигент, нужно только все прежнее.
Она говорила нервным, спешащим голосом, как будто нарочно старалась не дать себе времени одуматься. Ширяеву было неловко. В глазах доктора загорался мрачный, неврастенический огонек. Он тоже терял желание замять ссору и не дать ей разгореться хоть при чужом человеке. Враждебно глядя на жену, он спросил:
— Скажи, пожалуйста, при чем тут мягкотелость?
— Нужно только все прежнее. Чтобы жена рожала детей, заботилась о провизии, о дровах и устраивала уют. А чтоб самому спокойно пользоваться жизнью… Господи, настоящие пауки, право! Приникнут к женщине и сосут. И высасывают ум, запросы, всю духовную жизнь. И остается от человека одна родильная машина.
Доктор еще раз раздельно спросил:
— Ты скажи мне, — при чем тут мягкотелость? Ну, укажи мне, — вот я спрашиваю тебя: как иначе устроить нашу жизнь? Сам я не могу заботиться об обеде, потому, что мне до обеда нужно принять сто человек больных. После обеда мне нужно поспать, а то я вечером не в состоянии буду ехать к больным. Если я вздумаю следить за дровами и провизией, то не в состоянии буду зарабатывать на дрова и провизию. Ребят мне нянчить тоже некогда… В чем же я могу тебя облегчить? Ну, скажи, укажи, — в чем?
Марья Сергеевна рассмеялась и торжествующе взглянула на Ширяева.
— Вот, вот! Это самое и выходит: будь экономкой, нянькой, и больше ничего!
Доктор с угрюмым вызовом подтвердил:
— Это самое и выходит: будь экономкой и нянькой! Оно так в действительности и есть в каждой семье. Да и не может быть иначе. Только интеллигентный человек стыдится этого и старается скрыть от посторонних, как какую-то дурную болезнь. Почему же этого прямо не признать? Если люди женятся для бездетного разврата, то вопрос, конечно, решается легко. Но тогда зачем жениться? А в противном случае женщина только и может быть матерью и хозяйкой.
Марья Сергеевна насмешливо протянула:
— Вот как!.. Я это от тебя в первый раз слышу.
— Да. И все нынешние… общественные формы, что ли, таковы, что иначе и не может быть. Мы теоретически выработали себе идеал, который соответствует совсем другому общественному строю, более высокому. И идем с этим идеалом в настоящее. А в настоящем он неприменим. И все только мучаются, надсаживаются, проклинают свою жизнь.
Ширяев осторожно спросил:
— Почему же вы думаете, что в настоящем этот идеал неприменим?
— Ну вот научите меня, — как его применить? Я не знаю. Хотел самым искренним образом, а изволите видеть, — жизнь устроила по-своему. Раз есть семья, необходим свой отдельный угол. Угол, очень сложно управляющийся! Этого только не видно со стороны… Настолько сложно, что нужен один руководитель. Попробуйте-ка, вмешайтесь в распоряжения хозяйки! Что ж выходит? Выходит — весь вопрос только об обмене ролями между мужем и женой. Потому что одному-то из них все равно нужно сидеть в этом углу. Ну-с, а что же это за решение? Я по крайней мере такого решения не принимаю. Не умею ухаживать за детьми. Не умею нянчить их и варить кашки. Не умею и не хочу. Инстинктов соответственных, что ли, нет у мужчины. Но только и мать-то ни одна, если в ней есть хоть капля материнского чувства, не согласится на это… Отдельные мужчины, пожалуй, есть такие. Но все они, сколько я их ни видал, с совершенно бабьей натурой, безвольные и бездеятельные… Так вот-с, я и спрошу: как же тут быть женщине? Либо смотреть на детей в семье, как на какие-то злокачественные образования, либо… старая история: не выходить замуж и не иметь детей.
Доктор пожал плечами и взялся за свой стакан. Он лениво глотал крепкий чай. В маленькой зале сгущался серый сумрак. Ширяев думал: «Уж давно бы пора ехать».
Своим ворчащим голосом доктор нехотя заговорил:
— В будущем, там другое дело. Там решение вопроса ясно. И уж теперь жизнь дает намеки на это решение, особенно за границей. Сложное, трудное управление собственным углом становится ненужным. В домах — центральное отопление. На каждом перекрестке — Дюваль или Ашингер, где вы без всяких хлопот имеете сытный, здоровый стол. Все больше развиваются всякие ясли, детские сады. Все больше сознается, что не мать — лучшая воспитательница ребенка, что для воспитания нужно умение и призвание.
Ширяев решительно сказал:
— Николай Петрович, как хотите, мне нужно на станцию!
Доктор усмехнулся.
— Гос-споди, как он беспокоится! — Он не спеша взглянул на часы. — Чего вы боитесь? Поспеете… Вот еще по стаканчику выпьем и поедем… — Он угрюмо покосился на жену. — Маша, скажи, чтоб подавали лошадь.
Ширяев с враждою подумал:
«Почему он сам не может сказать? Расселся тут, курит и болтает, а у ней голова болит…» Он сумрачно оглядел доктора и встал.
— Я сейчас скажу.
Лошадь подали. Доктор набивал портсигар папиросами. Лицо Марьи Сергеевны стало еще бледнее и болезненнее. Она пожала Ширяеву руку.
— Ну, прощайте!.. Вот вы теперь видели, во что обращается через десять лет русский радикальный интеллигент.
Доктор исподлобья оглядел ее и стал надевать пальто.
Сели и поехали. Из низких туч моросил дождь. Колеса тележки скользили по размокшей, глинистой дороге. Доктор сидел в тележке, сгорбившись под зонтиком. Зонтик трясся, и тряслась спина доктора.
Из-за рощи выглянули красно-коричневые станционные здания с зелеными крышами. Над ними взвился белый дымок. Слабо донесся свисток поезда. Ширяев спросил:
— Это не наш поезд?
— Нет, товарный…
Подъехали к станции. Доктор крикнул сторожу:
— Пассажирский скоро придет?
— Сейчас ушел.
— Да-а, изволите видеть… Вот она какая штука! — Доктор помолчал. — Что ж теперь делать? Придется вам с почтовым ехать, в десять вечера. А пока идите к нам, — пообедаете, чайку попьете.
Ширяев холодно ответил:
— Нет, я уж тут подожду. Может быть, удастся уехать с товарным.
— Ну, как хотите. До свиданья!
Кучер повернул лошадь. Над забрызганным грязью задком тележки опять затряслась сгорбившаяся под зонтиком спина доктора. Ширяев подумал: «Русак проклятый!»
Он сидел на платформе, подняв воротник пальто. На зеленом фоне деревьев сияли мелкие капли дождя. Было холодно, сыро. В душе лежал противный, мутный осадок, не хотелось вспоминать и думать о виденном… В жизни обычной, ровной, как во всем, к чему не приглядываешься, — вдруг расселась широкая щель. Из нее пахнуло тупым надсадом. Зашевелились темные вопросы… Ширяев старался не замечать их. В памяти вставали мягкие волосы над лбом, тихий шепот средь сумрака, пахнувшего рожью. И он думал: с ними, — с ними этого не повторится. Люди ищут нового счастья и ждут, что к нему прийти так же легко, как к старому. А жизнь густа, дремуча и не раздвигается сама собою в гладкую дорожку. Кто хочет новых путей, должен выходить не на прогулку, а на работу.
С неба сеял мелкий дождь. Сырой ветер дул с полей.
1903
В путах
[текст отсутствует]
На высоте
I
Парный извозчик ехал по шоссе в гору. За черными садами море смутно сверкало под звездами. Ордынцев упорно молчал. Вера Дмитриевна осторожно просунула руку под его локоть и с ласкою заглянула в глаза.
— Боря, ты за что-то сердишься на меня?
Ордынцев пожал плечами.
— Нет… За что сердиться? — Он в нерешительности помолчал. — Я только немножко удивлен. Ну, как ты, Верочка, до сих пор не знаешь, что значит «пойти в Каноссу»?
Вера Дмитриевна медленно высвободила руку и со сдержанным вызовом ответила:
— Что ж делать, не знаю!
— Не знаешь, — ну, спросила бы меня потом. А то при всех.
— Я вовсе не стыжусь показать, чего не знаю. Мне интересно было, что говорил профессор Богодаров. А он все поминал эту Каноссу. Я и спросила… Очень мне нужно, что подумают!
— Оно так, но я не понимаю, — для чего выставлять перед всеми свое невежество? Какая в этом нужда?
Пролетка катилась. Вера Дмитриевна молча смотрела в сторону. Вдруг она быстро сказала:
— Лучше я никогда не буду ездить с тобою к твоим знакомым. — И голос ее задрожал.
— Ну, Вера, зачем ты это говоришь? — мягко возразил Ордынцев. — Я сказал, что думал. Если тебе обидно, прости. Я не хотел задевать тебя.
— Вовсе не обидно. А только я чувствую, что тебе неловко бывать со мною у твоих знаменитых знакомых, стыдно. Я тебя постоянно компрометирую… Да и зачем мне там бывать? Ты им интересен, а я, — что я для них такое? Просто — жена Ордынцева, больше ничего.
Ордынцев ласково гладил ее руку в перчатке, как будто возражал этою ласкою.
— Ты сильно ошибаешься, если так думаешь! Я о тебе слышал здесь уже несколько отзывов… В тебе есть что-то удивительно честное, юношески-чистое. Это вызывает недоумение — и привлекает. Потому что сами мы слишком сжились со всякими условностями. Да взять, наконец, хоть бы как раз эту самую «Каноссу». Из нас никто бы не спросил, если бы и не знал. Стыдно было бы. А ты спросила. И видела ты, как глаза у Богодарова засмеялись мягко и ласково?
Ордынцев старался утешить Веру Дмитриевну. Но от его слов в нем самом исчезла досада за «Каноссу», и она стала мила ему, с ее открытою душою и юным, девическим взглядом. Вера Дмитриевна молча, с затуманившимся лицом, смотрела на море.
Извозчик остановился. В заросшей плющом каменной ограде была решетчатая калитка. Они поднялись по каменным ступенькам и пошли вверх по кипарисовой аллее. Было темно и очень тихо. В воздухе стоял теплый, пряный аромат глициний. Ордынцев поднес к губам руку Веры Дмитриевны и тихонько целовал ее ладонь в разрез перчатки.
Убеждающим голосом, мягко и виновато, он сказал:
— Ну, девочка моя, ты не сердись на меня!
В обрывистом шепоте слышалась загорающаяся страсть.
Вера Дмитриевна грустно опустила голову.
— Я не сержусь.
Будет нервная, мучительная и ненужная для нее ночь… Он будет предупредительно-нежен и виновато-благодарен. А потом — через силу сдерживаемая грубость, непонятное, обидное отвращение на лице и холодная скука.
Но теперь он — такой большой, с серьезным, думающим лбом — был покорен и ласков, как маленький мальчик. И в душе поднималось что-то тихое, матерински-нежное. Хотелось сделать ему приятное. Она сняла перчатку и ласково провела рукой по его щеке.
— Мне очень нравится, как ты сегодня говорил. Столько у тебя всегда нового, неожиданного! По лицам видно, как твои слова все ворошат в душах, все ставят вверх дном, заставляют над всем думать. А ты заметил, ведь Завьялов угощал тобою гостей?
Ордынцев пренебрежительно улыбнулся.
— Ну, угощал!
— Конечно!.. И ужасно был рад, что угощение вышло такое хорошее, — прошептала она и с гордостью погладила его волосы.
Ордынцев отпер ключом дверь дачи, они вошли в комнаты. В широкие окна было видно, как из-за мыса поднимался месяц и чистым, робко-дробящимся светом ласкал теплую поверхность моря. Вера Дмитриевна вышла на балкон, за нею Ордынцев. Здесь, на высоте, море казалось шире и просторнее, чем внизу. В темных садах соловьи щелкали мягко и задумчиво. Хотелось тихого, задушевного разговора.
Странно низко, почти в уровень с крышею, по небу плыло от гор к морю воздушное белое облачко. Вера Дмитриевна сказала:
— Посмотри вверх, как низко облачко.
На глазах облачко бледнело, растягивалось и растаяло в воздухе. Ордынцев рассеянно ответил:
— Клочок тумана с гор.
Он тихонько расстегнул у кисти ее рукав и скользнул рукою по тонкой, голой руке к плечу. Она, все с тою же материнскою нежностью, гладила его курчавую голову, прижавшуюся к ее груди. И в темноте ее лицо становилось все грустнее и покорнее.
II
Когда Вера Дмитриевна проснулась, Ордынцев давно уже, обложенный книгами, сидел на балконе своей комнаты и писал. Вера Дмитриевна чесала перед зеркалом волосы. На душе было тяжело, одиноко. В зеркале отражались ее плечи и шея. С враждою смотрела она на свою наготу и на невидимые следы его поцелуев на ней: почему, почему он — такой любящий, тихо-нежный, когда хочет ее, а в другое время почти ее даже не замечает? Как возможны такие резкие изменения, и почему этого нет у нее? Почему у нее горит к нему постоянно ровное, нежное чувство? И вот эти оскорбительные батистовые рубашки, эта декадентская прическа, — всего этого хочет он… Гадость, гадость!
На балконе, на лазурном фоне моря, рисовалась наклоненная над столом красивая голова Ордынцева. Вера Дмитриевна с враждою вглядывалась в него. Вот — грубый и хищный самец. Удовлетворил свой голод по самке и теперь себялюбиво-безразличен ко всему, что не он.
Вера Дмитриевна оделась, заварила для Ордынцева кофе и села читать статью в журнале о последней книге Ордынцева. Статья была злобная и плоская. Цитаты, вырванные из книги без связи, пестрели нелепыми вопросительными и восклицательными знаками. И все-таки, даже изуродованные, цитаты эти сияли в серой статье, как лучи весеннего солнца в неубранной и грязной мещанской спальне. И на душе стало хорошо, серьезно. Вера Дмитриевна вошла в комнату Ордынцева, как будто чтобы положить на место журнал. Молча подошла и с тихой лаской поцеловала его в затылок. Ордынцев поморщился и, не оборачиваясь, нетерпеливо замахал рукою.
В двенадцать часов Вера Дмитриевна позвала его пить кофе. Он вошел, и в медленно двигавшихся глазах глубоко светилась еще продолжавшая работать мысль. Вера Дмитриевна спросила:
— Писалось тебе?
— Чудесно писалось! — Довольно потирая руки, он сел за кофе. — Этот крымский воздух, он положительно вдохновляет.
— А я сейчас прочла статью Коробкова. Как глупо! Боже мой, как все глупо!
Ордынцев улыбнулся.
— Да-а… И главное, злость-то беззубая, не задевает. Ругают тебя, а читать скучно.
— А знаешь, в одном я все-таки согласна с ним, а не с тобой, где он защищает утилитаризм. Я не понимаю, почему ты утилитаризм находишь пошлым. Ведь его не нужно непременно понимать в смысле «моральной арифметики» Бентама: хочу поступить хорошо — и высчитываю, что для меня же это будет выгодно и приятно. Так никогда это не делается. Просто, я поступаю хорошо, потому что мне было бы противно поступить иначе.
Он неохотно протянул:
— Ну, да… Дело в том, что наши так называемые нравственные действия вообще внеразумны, и здесь не может быть самого вопроса об их выгодности или приятности.
Вера Дмитриевна встрепенулась и придвинулась к нему.
— Погоди, почему? Ведь чувство голода тоже внеразумно, а оно в то же время неприятно, и я ем. Ем, потому что я голодна, потому что мне хочется есть, потому что я испытываю ощущение голода…
Ордынцев лениво потянулся и шутливо похлопал ее по руке.
— «Голодна», «хочется есть», «испытываю ощущение голода», — ведь все это одно и то же!.. Ах, Верка!.. — Он добродушно засмеялся.
Вера Дмитриевна нетерпеливо возразила:
— Ну, это не важно! Я только хочу сказать…
Он стал серьезен.
— Я понимаю, что ты хочешь сказать. Пожалуй, в этом смысле ты права.
Вера Дмитриевна быстро взглянула на него, закусила губу и молча наклонилась над чашкою. Она видела, — Ордынцев соглашался просто потому, что ему было неинтересно спорить. Чувствовалось, он уже сотни раз слышал все эти возражения, и их скучно было опровергать.
Она молча пила кофе. Ордынцев не заметил, почему она замолчала, и стал говорить о том, что сегодня писал. Он любил излагать Вере Дмитриевне свои новые мысли. При этом они становились и для него самого яснее и отчетливее.
И опять ее стал захватывать тот живой, сиявший мыслью огонь, которым были полны его слова. Она оживилась, спрашивала, возражала. Ордынцев легко отстранял ее возражения, как гибкие прутики, и вел ее мысль за своею, как послушного ребенка.
III
Вечером они пили чай у матери Ордынцева. Она жила с двумя дочерьми в Чукурларе. Ордынцев посещал ее аккуратно каждую субботу, был предупредителен к матери, болтал и смеялся с курсистками-сестрами. Вера Дмитриевна чувствовала себя там хорошо и свободно, но ее стеснял Ордынцев: она видела, что он здесь только исполняет свой долг. Часто, когда все они, и Ордынцев с ними, смеялись и дурачились, в его глазах вдруг мелькала только ей заметная скука и усталость. Чувствовалось, как все они чужды ему. Было неловко за себя и за всех. Как будто большой человек, согнувшись, ходил среди них на корточках, чтобы быть одинакового роста с ними, и она видела, как от этого у него ноет все тело.
Так было и теперь. Но Вера Дмитриевна не чувствовала неловкости за себя. Ей вдруг стало вызывающе странно, — почему это обыкновенная, живая жизнь так непереносима для него? Вот, даже эти кипарисы, дымчатая даль моря, горы — всё это как будто немножко конфузится перед ним оттого, что не думает о критериях познания… С какой стати всем им конфузиться?
Они вдвоем возвращались домой по набережной. Ордынцев был вял и бледен. Он потер висок.
— Голова начинает болеть… Проедемся на лодке, я погребу.
— Поедем… Тогда туда пойдем, лодки там отдаются.
Вера Дмитриевна указала рукою по направлению к молу. Ордынцев поморщился и украдкою поглядел по сторонам.
— Ну, Вера!..
— Ах, да! Неприлично пальцем показывать… Хорошо, не буду!
Она усмехнулась про себя и пошла, глядя в землю.
Вот тоже. Он по натуре боец, смелый и дерзкий. Его веселит, когда на него набрасываются орды защитников шаблона, когда его имя заливают грязью. Но это в области мысли. А в жизни он труслив и косен. Он двадцать раз оглянется в обе стороны, прежде чем перейти улицу, и приходит в ужас, если она режет котлету ножом… Она отыскивала в нем темное и нехорошее и старалась этим закрыть от себя тоску, которая была в ней от его холодности и отчужденности.
Солнце село. Все было в какой-то белой, тихой, раздражающей дымке. Тускло-белесое, ленивое море сливалось с белесым небом, нельзя было различить дали. Два черных судна неподвижно стояли на якорях, и казалось, они висят в воздухе.
Ордынцев молча греб. Вера Дмитриевна думала и не могла разобраться в той вражде и любви, которые владели ею. И было у нее в душе так же раздраженно смутно, как кругом. Волны широко поднимались и опускались, молочно-белые полосы перебивались темно-серебряными, в глазах рябило. Кружили чайки, и их резкие крики звучали, как будто несмазанное колесо быстро вертелось на деревянной оси.
Вера Дмитриевна злыми, вызывающими глазами посмотрела на Ордынцева и спросила:
— Скажи, Боря, ты сейчас любишь меня?
Он удивленно оглядел ее и пожал плечами.
— Что за вопрос!
— Ну, скажи, любишь? Он неохотно ответил:
— Люблю, конечно.
Вера Дмитриевна нервно рассмеялась и замолчала. Ордынцев, нахмурившись, продолжал грести. Она опять заговорила:
— Ведь любовь вообще бывает разная. Человек любит своего ребенка, любит и карася, жаренного в сметане. Но своего ребенка он не станет жарить в сметане.
Ордынцев перестал грести, внимательно посмотрел на нее и мягко сказал:
— Верочка, зачем этот тон? У тебя что-то есть на душе. Почему этого не высказать просто? Ведь гораздо легче все выяснить, когда не сердишься. Что с тобою?
Его простые, ласковые слова оборвали ее ненавидящее настроение.
— Что со мной?.. — Она помолчала, чтоб он не заметил подступивших к ее горлу слез. — Что со мной… Боря, мне странно, ты ничего не замечаешь, а ведь я уж сколько недель мучаюсь… И с каждым днем больше…
Ордынцев широко раскрыл глаза, как будто очнулся от глубокой задумчивости.
— Это правда, ничего не заметил, — наивно согласился он.
— Ну, вот… — Она еще помолчала. — Разве я не вижу, что ты меня совсем не любишь, что мы с тобой не пара? Ты живешь своею отдельною внутреннею жизнью, и до меня тебе нет совсем никакого дела. Тебе скучно со мной говорить. Все, над чем я думаю, для тебя старо, банально, уже давно передумано… И ты любишь только мое тело, одно тело… Господи, как это оскорбительно!
Ордынцев страдальчески нахмурился и вздохнул.
— Погоди, Вера. Согласись, ведь, например, Марья Александровна в двадцать раз красивее тебя. А ты знаешь, я ее не выношу. Зачем же так говорить?.. Дело очень просто. Ты удивительно романтична и все хочешь какой-то «общности душ». Сколько уж у нас об этом было разговоров. Ее у нас, конечно, нет и не будет. Люди с каждым поколением становятся все сложнее и разнообразнее. Теперь никогда уже два человека не смогут «слиться душами». Я думаю, скоро даже простая дружба будет становиться все труднее.
— Боря, да ведь у нас с тобою даже и этой простой дружбы нет, между нами нет ничего…Вспомни, о чем мы с тобою говорим. Чтоб кофе тебе вовремя приготовить, чтоб переписать на ремингтоне твою статью, — больше ни о чем. Что же у нас общего, что нас связывает? Только то, что ты — мой господин, а я — твоя раба.
— Во-от как! — Ордынцев замолчал и с выжидающим вниманием уставился на Веру Дмитриевну.
— Да!.. А ты этого совсем даже не замечаешь. Ты, как большое колесо, свободно вертишься, а меня захватил в свои спицы и вертишь с собой. Я постоянно смотрю на тебя снизу вверх, меряю себя твоими глазами. Твой тон, взгляд, улыбка — все действует на меня неотразимо, я постоянно настороже, как ты взглянешь на мое слово или поступок. А я привыкла быть сама собою, отдавать отчет только своей душе и никому другому. Со всеми людьми я чувствую себя уверенно, независимо, чувствую себя полным человеком. А теперь, с тобою, все это разметывается, все мешается, и я никак не могу отыскать почву под ногами…
Она говорила, торопясь и волнуясь, под его спокойно выжидающим, внимательным взглядом. И она знала, — на все ее слова у него найдутся неопровержимые возражения, и все-таки от этих возражений все останется в душе, как было. И она продолжала:
— Помнишь, мы недавно видели по дороге в Алупку плющ на сухом дереве? Ты душишь меня, как этот плющ. Дерево мертво, сухо, но плющ украшает его пышною, густою, чужою зеленью. Так и со мной: меня нет, вместо меня — ты. Я принимаю все, что ты думаешь, ты ведешь меня за собою, куда хочешь. Ты можешь дойти до самых противных для меня взглядов, — и я окажусь в их власти незаметно для себя самой…
Ордынцев, наконец, заговорил:
— Вера, но разве же я требую от тебя какого-нибудь подчинения? Подумай, в чем ты меня обвиняешь!.. Я начитаннее, — может быть, развитее тебя. Без меня ты решила бы такой-то вопрос так-то. Я прибавляю ряд данных, и благодаря им ты — совершенно свободно — приходишь к более обоснованному выводу. Ведь вот и вся моя роль.
Он говорил, как будто большой корабль уверенно резал носом мелкие, бессильно вздымавшиеся волны. Вера Дмитриевна взволнованно возразила:
— Нет, ты не просто даешь данные. Ты меня направляешь, прямо ведешь на буксире!
Ордынцев нетерпеливо потер руки.
— Я никак не могу понять — чего же ты от меня хочешь? Чтоб я ни о чем не говорил с тобою, чтобы не возражал тебе, если не согласен с твоими мнениями? Но ведь сама же ты сейчас только упрекала меня, что я будто бы говорю с тобой только о кофе и пишущих машинах.
Вера Дмитриевна тоскливо повела плечами и быстро двинулась на скамейке. Как будто птичка забилась, запутавшаяся в сети.
Ордынцеву вдруг стало ее горько жалко. Он пересел к ней и мягко сказал:
— В одном ты, может быть, права: я действительно слишком занят собою, своими мыслями. Ты часто должна получать впечатление, будто мне до тебя нет дела. Но только, девочка моя, не будь ко мне слишком строга. Я, может быть, урод, люблю как-то особенно. Но все-таки очень люблю тебя… А уж насчет «тела» ты так несправедлива, — мне даже дико слышать. Я помню, как ты курсисткою в первый раз пришла ко мне, я потом три дня ходил под впечатлением твоих ясных, тревожно спрашивающих глаз. И ты для меня — в этих глазах, в славной, удивительно чистой душе, но не в теле же! Верочка, ведь ты сама не можешь этого не чувствовать!
Вера Дмитриевна, уткнувшись лицом в ладони, плакала, стыдясь своих слез и не в силах сдержать. А он нежно гладил ее по волосам. Белый сумрак спускался на море. Бултыхала вода, над тихою поверхностью кувыркались выгнутые черные спины дельфинов с торчащими плавниками. И все кругом было смутно и бело.
К ночи Ордынцев лежал в сильной мигрени. Вера Дмитриевна ухаживала за ним, клала на голову горячие компрессы. С бережной любовью она вглядывалась в полумраке в его бледный, холодный лоб и думала, какой это хрупкий и тонкий инструмент — сильно работающий, мозг, и как нужно его лелеять.
IV
И все следующие дни Ордынцев был хмур и нервен. Ему не работалось. Он читал только беллетристику. В душе он винил в своем настроении Веру Дмитриевну, был скучен и более обычного холоден с нею. Глаза смотрели на нее с легким удивлением, как на незванно-пришедшую. Говоря с нею, он зевал.
Веру Дмитриевну это еще сильнее мучило, и черные подозрения роились в душе.
С раннего утра с гор подул на город бешеный ветер. Над улицами и домами вздымались тучи серой пыли. Деревья бились под ветром. Гибкие кипарисы гнулись в стройные дуги.
Вера Дмитриевна встала грустная, заплаканная. Ордынцев сидел у себя в кресле и читал Кнута Гамсуна. Она робко сказала:
— Хотелось тебя увидеть. Я на минутку… Не мешаю тебе?
Он вяло ответил:
— Нет, я не работаю.
Вера Дмитриевна горячо поцеловала его в голову и села.
— Мне сегодня ночью снилось. Вхожу я к твоей матери на балкон. Ты сидишь с нею. Когда я вошла, вы замолчали, ты вышел. А она странно взглянула на меня и говорит: «Мне нужно с тобою поговорить», и смотрит так серьезно!.. «Боре очень тяжело жить с тобою. Все, что ты ни скажешь, все так банально, неинтересно. Все его так раздражает… Неужели ты сама не чувствуешь, что ты ему не пара?» И во сне мне так тяжело стало, так обидно, обидно… Я проснулась и плачу… Зачем, зачем ты мне этого прямо сам не сказал?
Такая вся она была жалкая, бледная, с синими кругами у глаз… Ордынцев взял ее руки в свои и улыбнулся.
— Деточка моя! Ведь не ответствен же я за то, что говорю тебе в твоих сновидениях!
— Я должна отказаться от тебя, я об этом все время думала. Но я не могу!.. Я так тебя люблю! — Она прижалась головою к его плечу и зарыдала.
— Верочка, да ты с ума сошла! — всполошился он, пораженный ее словами. — Какие у тебя мысли! Что с тобой? «Отказаться!» Да пойми, что ты тогда со мною сделаешь!
Он стал говорить, как она необходима ему, как скрашивает его жизнь своими заботами и любовью, как ему дорого ее мнение об его работах. Вера Дмитриевна рыдала, прижав к лицу носовой платок. Потом вдруг быстро встала.
— Прости, все нервничаю!.. Зачем я об этом заговорила? Так глупо!
И ушла. Ордынцев думал и скучливо морщился… К чему это все? Как было легко и хорошо раньше, когда она с раскрытою душою шла ему навстречу, дышала им, как цветок солнечным светом. А теперь… Ну, да! В ней нет ничего особенного. Пора бы уж самой понять это и не требовать от жизни невозможного, а отдать силы на выращивание того, что есть у него…
Вечером они отправились в городской сад на симфонический концерт. Темнело, ветер крепчал. Навстречу по дорожке шел плотный и высокий профессор Богодаров, с седоватыми волосами до плеч, в серой крылатке.
Он издалека улыбнулся им, любовно и дружески глядя на Ордынцева.
— Здравствуйте. Симфонический концерт пришли слушать? Отменен. По случаю ветра… Сядем все-таки, послушаем хоть садовую музыку.
В тоне его голоса чувствовалось, как он любит и ценит Ордынцева. Они сели на скамейку перед ротондой.
Публики было мало. Оркестр играл «Шествие гномов», попурри из «Фауста». Ветер бушевал и трепал на пюпитрах ноты. Богодаров оживленно говорил с Ордынцевым. Вскоре они вполголоса горячо заспорили о чем-то.
Вера Дмитриевна сидела молча, кутаясь в накидку. На душе было одиноко. В груди тонко и быстро как будто дрожали натянутые струны. После утреннего разговора Ордынцев опять стал с нею нежен-нежен. Это было сладко и обидно. Хотелось плакать и от этого и от музыки, где скрипки пели о любви Маргариты к Фаусту. А в воздухе кругом дрожала жуткая тревога. Ветер шипел в деревьях. Электрические фонари мерцали и качались. Вправо на аллее, в тучах пыли, бились, изгибаясь, кипарисы. Из-за хребта Яйлы выглядывали черные, растрепанные тучи, как будто подстерегали что-то.
Ветер сильно рванул, пюпитры на эстраде опрокинулись, и ноты, как стая чаек, заметались в воздухе. Музыка оборвалась. Дирижер сказал что-то музыкантам. Все ушли. Вышел человек и объявил, что по случаю ветра музыка совсем отменяется. Служители подбирали на дорожках ноты.
Ордынцевы и Богодаров отправились в садовый ресторан. Они сели в стеклянной галерее и пили чай. Мимо прошел студент в потертой серой тужурке. Вдруг он нерешительно остановился, подошел и сказал, улыбаясь:
— Здравствуйте, Вера Дмитриевна.
Вера Дмитриевна взглянула и просияла.
— Бездетнов! Здравствуйте! Вы как здесь в Ялте?
Он ответил.
— Садитесь к нам чай пить, знакомьтесь. Это — профессор Богодаров, это — мой муж.
Студент почтительно поздоровался и сел. Вера Дмитриевна радостно и оживленно заговорила с ним, он отвечал, и они беседовали, как давнишние друзья.
Ветер завыл в саду и ударил песком в стекла галереи. Все оглянулись. Ордынцев нервно повел плечами.
— Вот в этакую погоду на море очутиться!
Бездетнов отозвался.
— Под вечер сегодня я был на набережной. Какое-то парусное судно уж совсем входило в гавань. Вдруг его понесло ветром в море. Выкинули красный флаг о помощи. Их уносит, а в гавани никто не двинулся на помощь. Так и исчезло за горизонтом.
— Парового катера здесь нет, а в лодке помочь невозможно, — вздохнул Богодаров, помолчал и спросил: — Вы, коллега, какого университета?
— В Московском был… Теперь уже не состою.
— По студенческим вылетели?
— Нет, не по студенческим… По обвинению в участии в социал-демократической партии.
Богодаров стал расспрашивать, и вскоре заспорили. Богодаров с Ордынцевым были против Бездетнова. Но Бездетнов держался, смотрел твердыми, даже слегка насмешливыми глазами и не уступал. И все, что он говорил, было для Веры Дмитриевны ясным, близким и родным.
Подошли знакомые Ордынцева. Спор прекратился. Вера Дмитриевна оживленно встала и вышла с Бездетновым в сад. Ордынцев видел в окно, как они быстро ходили по аллее, жмурясь от ветра, и горячо разговаривали.
V
В одиннадцатом часу Ордынцевы возвращались домой. В воздухе все чувствовалась та же тревога. Ветер с протяжным свистом проносился через сады. Телефонные проволоки жалобно гудели. Над головою с востока на запад неподвижно тянулась черная гряда туч. И что-то зловещее было в ее неподвижности, когда внизу все выло и билось. Горизонт над морем слабо сиял от невзошедшего еще месяца.
На душе у Веры Дмитриевны было светло. Против окружавшей тревоги росло бодрое, вызывающее чувство… И вдруг ей таким маленьким показался шедший рядом Ордынцев, опять ставший хмурым и нервным от окружавшей жуткой тревоги. Он заговорил:
— Славное лицо у этого студента… Но какой типично студенческий способ мыслить.
Вера Дмитриевна сдержанно спросила:
— Что же это за особенный студенческий способ мыслить?
— Ты заметила, он все превращает в прямоугольные четыреугольники? В сложное, загадочно-неправильное жизненное явление вколачивается железная рамка, и все становится удивительно простым и легко измеримым.
— Не знаю… А только я с ним была гораздо больше согласна, чем с вами.
— Кстати, кто он такой? Откуда ты его знаешь?
— Я с ним познакомилась в прошлом году, летом, когда гостила у подруги. — Вера Дмитриевна улыбнулась своим воспоминаниям и прибавила: — Такие странные у нас были отношения!
— Какие же?
Она помолчала.
— Я думаю, он меня любил… В первый раз меня поразило его поведение, когда мы ездили на мельницу. Там была над самым омутом узенькая, гнилая дощечка… Ты сердишься, я при тебе не делаю, а вообще меня так и тянет ко всему опасному. Я хотела пройти по этой дощечке, он вдруг страшно побледнел, схватил меня за руку. «Вера Дмитриевна, я вам не позволю идти». Я засмеялась: «Вот еще!» — и, конечно, все-таки пошла. И весь вечер он был бледен, задумчив. И мне в первый раз стало странно. И потом вообще, когда мы бывали одни, вдруг начинало чувствоваться что-то особенное, не всегдашнее.
Вера Дмитриевна рассказывала, мечтательно улыбаясь. Она шла на сочувственное внимание Ордынцева, как будто рассказывала своей подруге. А он слушал, подняв брови, и соображал: это было прошлым летом, значит за месяц, за два до их свадьбы…
Они пришли домой, вошли в комнаты. Вера Дмитриевна, охваченная воспоминаниями, опять заговорила:
— И много, много было… Раз мы все поехали на пикник к шлюзам. Мы с ним спустились по лесенке в один из ящиков, где шлюзы были опущены. Стоим, — по обеим сторонам ревет вода, скользкие стены дрожат, и из щелей бегут струйки. Опять почувствовалось что-то не всегдашнее, значительное. Он говорит: «Давайте расскажем друг другу, когда и кого мы любили». — «Хорошо». Он стал рассказывать. Десяти лет влюбился в девочку Таню на елке, она была в розовом платье и розовых туфельках. А с тех пор, кажется, не любил… А у самого голос дрожит, бледный… И еще сильнее почувствовалось это важное. Я сказала, что люблю тебя, я ему об этом раньше говорила. И вдруг он вспыхнул, нахмурился и резко стал мне доказывать, что я тебя совсем не люблю, что я люблю тебя только как писателя, а это совсем другое.
Ордынцев коротко сказал:
— Я думаю, он был прав.
Вера Дмитриевна не заметила скрытой вражды в его голосе, не заметила напряженно-безразличного выражения его глаз и горячо возразила:
— Нет, совсем не прав. Я для тебя дала бы себя на куски разрезать, а не сделала бы этого даже для Толстого. Тут совсем другое. К тебе любовь была какая-то шероховатая, с сомнениями и мучениями. Мне всегда казалось, — за что ты меня можешь любить? То гордилась тем, что ты такой умный и талантливый, любишь меня, то плакала. И всегда при тебе я чувствовала себя как будто немножко связанною. А с ним как-то странно было, но удивительно хорошо. Я знала, что люблю тебя, но с ним мне было так тепло-тепло и, главное, свободно. Я как будто грелась в его отношениях. Не было чувства снизу вверх, мы были во всем равны, как товарищи. Вместе читали, спорили. Мне были полезны его возражения, ему — мои. Говорю — и не боюсь, знаю, что мои слова не покажутся ему скучными. И стремления у нас тогда были общие, и общая работа подпольная… Скоро пришла телеграмма, ему пришлось уехать в Петербург, — и вот только теперь увиделись.
Ордынцев тяжело дышал. Вера Дмитриевна стояла, облокотившись о спинку кресла, вся отдавшись воспоминаниям. И он смотрел на нее — молодую, девически-стройную, опять желанную.
— Да-а… Значит, если бы не телеграмма, ты бы со мною разорвала, это вполне очевидно, — медленно заговорил Ордынцев, и глаза его были холодны и злы. — Твое отношение ко мне и теперь осталось прежним. Вина моя, значит, в том, что я слишком умен для тебя…
Вера Дмитриевна, пораженная его тоном, быстро подняла голову. Он продолжал медленно и беспощадно-мстительно, с разрешившеюся тревогою, которая была в нем от тревоги кругом…
— Что же мне теперь делать? Я тебя люблю, потерять тебя мне было бы очень тяжело… Случается, что женщина разрывает с близким человеком потому, что он пошлеет, опускается умственно и нравственно. Но разрывать из-за обратного, — на это, я думал, способны только мопассановские «poupées de chair, faites pour les baisers»[24]. Я стремился развиваться, стремился стать умнее, шире. Оказывается, в этом как раз и был мой промах. Нужно наоборот, стараться попридерживать себя, не идти вперед, а если можно, пятиться назад…
Он вдруг замолчал. Вера Дмитриевна стояла страшно бледная, с широко открытыми, огромными глазами. И Ордынцев с ужасом почувствовал, что теперь все пропало и сказанного не воротишь ничем.
— Ох, Боря, что ты сказал… — тускло произнесла она, вдруг вздрогнула, издала горлом странный, глухой звук и быстро ушла к себе.
Замок щелкнул.
Ордынцев дрожащими шагами несколько раз прошелся по комнате, потом подошел к двери и постучал:
— Верочка!
Она властно ответила:
— Нельзя!
И стало тихо.
Ордынцев серьезно и настойчиво сказал:
— Ну, Вера, отвори, мне необходимо с тобой поговорить.
— Боря, я сейчас не могу. Потом.
Он растерянно повернулся, вышел на балкон. Над морем стоял месяц, широко окруженный зловещим зеленовато-синим кольцом. По чистому небу были рассеяны маленькие, плотные и толстые тучки, как будто черные комки. Ордынцев постоял, вернулся в комнату, сел на диван. За дверью было тихо. Он с тревогою думал: что она делает? И не знал, что предпринять. И чуждыми, глупо-ненужными казались ему сложенные на столе папки с его работами.
Через час Вера Дмитриевна вышла, с сухими, большими и радостными глазами. Новым, не боящимся его возражений голосом она сказала:
— Я утром уезжаю.
Ордынцев внимательно посмотрел на нее и молча забарабанил пальцами по ручке дивана.
— Вера… Я глупо погорячился и наговорил непозволительных пошлостей, — через силу произнес он.
— Боря, нет, я не из-за этого… Но теперь я уж всегда буду думать, что камнем вишу на тебе. А потом… Я много сейчас передумала. Полезной я тебе никогда не буду. И вот, странно, — когда я это поняла, я вдруг почувствовала радость. Вдруг почувствовала, что хочу жить сама. Не тебя лелеять хочу, а хочу жить на собственный риск… Да, я не так умна, не так развита. А все-таки жить должна своим умом. И пусть будет, что будет…
Она подошла к двери балкона и жадно дышала свежим ветром. И стояла она, радостно и чутко насторожившись, как серна, почуявшая свободу.
Ордынцев чувствовал, что теперь все его уговоры окажутся бессильными. Он угрюмо смотрел на Веру Дмитриевну и думал: любила ли она его хоть когда-нибудь, или нет?
1904
Издали
[текст отсутствует]
Враги
Дмитрий Сучков был паренек горячий и наивный, но очень талантливый. Из деревни. Работал токарем по металлу на заводе. Много читал. Попал в нелегальный социал-демократический кружок, но пробыл там всего месяц: призвали в солдаты.
Время было жаркое. Отгремело декабрьское восстание в Москве. По просторам страны пылали помещичьи усадьбы. Разливались демонстрации. Лютовали погромы и карательные экспедиции. С Дальнего Востока после войны возвращались озлобленные полки. Начинались выборы в Первую Государственную думу.
Дмитрий Сучков попросился в Ромодановский полк, где служил его старший брат Афанасий. Полк только еще должен был прийти с Дальнего Востока. Триста новобранцев под командою двух офицеров, посланных вперед, ждали полка в уездном городке под Москвой.
Три дня всего пробыл Сучков в части, и случилось вот что. Солдаты обедали. В супе оказалась обглоданная селедка, — хребет с головой и хвостом. Сучков взял селедку за хвост, пошел на кухню, показал кашевару:
— Это что у вас, для навару кладется?
Кашевар с изумлением оглядел его.
— Ты… этого… агитатор?..
Назавтра вышел дежурный капитан Тиунов, прямо направился к Сучкову. Капитан — сухощавый, с бледным, строгим лицом и тонкими бровями.
— Ты тут собираешься агитацией заниматься… — И спросил взводного: — Ему устав внутренней службы читан?
— Никак нет, еще не читан.
Капитан крикнул на Сучкова:
— Стой, как следует!
— Я не знаю стоять, как следует, я стою, как умею.
— Как его фамилия?
— Что вы взводного спрашиваете, я и сам скажу, врать не стану. Сучков фамилия.
— Это ты вчера на суп жаловался?
— Да.
Капитан топнул ногой и грозно крикнул:
— Как ты смеешь так отвечать начальству?! Спроси у взводного, как нужно отвечать?
— Господин Гаврилов, как ему нужно отвечать?
Капитан совсем вскипел:
— Не «господин Гаврилов», а «господин взводный» или по имени-отчеству, и не «ему», а «его высокоблагородию»!
— Господин взводный, как этому высокоблагородию нужно отвечать?
— «Так точно» нужно говорить, «никак нет», «слушаю-с».
— Так точно, ваше высокоблагородие!
Капитан внимательно поглядел ему в лицо и отошел.
Вечером он пришел с фельдфебелем в казарму и сделал в вещах у Сучкова обыск. Однако Сучков ожидал этого и все подозрительное припрятал.
— Это что? Граф Салиас, «Пугачевцы». Ого! Какими ты книгами интересуешься!
— Вполне легальная книга!
— «Легальная»… Вот ты какие слова знаешь! Умеешь легальные книги отличать от нелегальных… А это что?
— Дневник мой.
Капитан Тиунов передал тетрадки фельдфебелю.
— Вы что же, читать его будете?
— Обязательно.
— А как это вам, господин капитан, не претит? Среди порядочных людей читать чужие письма не принято, а ведь дневники — те же письма.
Сучков за грубость был посажен на три дня под арест. Вскоре он заболел тяжелым приступом малярии и был отправлен в московский военный госпиталь. Там повел пропаганду среди больных солдат. По его почину они пропели «вечную память» казненному лейтенанту Шмидту. По приказу главного врача Сучков был выписан обратно в полк с отметкой о крайней его политической неблагонадежности.
Полк уж воротился с Дальнего Востока. Он стоял в губернском городе недалеко от Москвы. В полку было яро-черносотенное настроение. Начальство втолковывало солдатам, что в задержке демобилизации виноваты «забастовщики», что, по указке «жидов», они всячески препятствовали отправке войск с Дальнего Востока в Россию. Дмитрий Сучков пошел проведать брата Афанасия. Афанасий был ротным каптенармусом, имел в казарме вместе с фельдфебелем отдельную комнатку.
Встретились братья, расцеловались. Конечно, чаек, водочка. Тут же фельдфебель — большой, плотный мужчина с угрюмым и красным лицом.
Дмитрий спросил:
— Ну, что у вас там было на войне, рассказывай.
— Что рассказывать! Ты газеты небось читал… Расскажи лучше, что у вас тут.
Дмитрий стал рассказывать про 9 января, как рабочие Петербурга с иконами и хоругвями пошли к царю заявить о своих нуждах, а он встретил их ружейными залпами и весь город залил русскою кровью; рассказывал о карательных экспедициях в деревнях, как расстреливают и запарывают насмерть крестьян, о баррикадных боях на Красной Пресне в Москве. Рассказывал ярко, со страстью.
Когда он на минутку вышел из комнаты, брат его Афанасий покрутил головою и сказал:
— Мне это очень не нравится, что он говорит.
Фельдфебель же неожиданно сказал:
— А мне очень нравится!
Этого фельдфебеля солдаты в роте сильно боялись. Был он строг и беспощаден, следил за солдатами, не одного упек, служил царю не за страх, а за совесть. Но последние месяцы стал что-то задумываться, сделался молчалив, много читал библию и евангелие, по ночам вздыхал и молился.
Воротился в комнату Дмитрий Сучков. Взялись опять за чаек да за водочку. Фельдфебель спросил:
— Ну-ка, а как ты домекаешься — в чем тут самый корень зла, откуда вся беда?
— В царе, ясное дело! Безусловный факт!
В дверях толпились солдаты, дивились, что рядовой солдат так смело говорит с их грозным фельдфебелем, да еще какие слова!
Фельдфебель сказал:
— А ты этого, парень, не знаешь, что против царя грех идти, что это бог запрещает?
— Что-о? За царя грех идти! Вот что в библии говорится!
— Ну что… Ну что глупости говоришь! Я библию хорошо знаю.
— Есть она у тебя?
— Вот она.
— Ну, гляди. Первая книга царств, глава двенадцатая, стих девятнадцатый. Я это место вот как знаю, взажмурки найду. Читай: «И сказал весь народ Самуилу: помолись о рабах твоих перед господом богом твоим, чтобы не умереть нам; ибо ко всем грехам нашим мы прибавили еще грех, когда просили себе царя».
Фельдфебель молчал и внимательно перечитывал указанное место. Долго думал, наконец сказал:
— Теперь все понятно!
Облегченно вздохнул, перекрестился и закрыл книгу.
Долго еще беседовал фельдфебель с Дмитрием Сучковым. И стал с ним видеться каждый день. И ему не было стыдно учиться у мальчишки-рядового. Он говорил ему:
— Все у меня внутри было как будто запечатано, а ты пришел и распечатал, — вот как бутылку пива откупоривают.
Сам воздух в то время дышал возмущением и ненавистью. Агитация падала в солдатские массы, как искры в кучи сухой соломы. Агитацию вели Дмитрий Сучков, фельдфебель и еще один солдат, рабочий-еврей из Одессы. Дмитрий Сучков рос в деле с каждым днем. Солдаты смотрели на него, как на вожака. И все большим уважением проникались и к фельдфебелю, которого раньше ненавидели.
Весною случилось вот что. В железнодорожных мастерских арестовали четырех рабочих. Мастерские заволновались, бросили работу, потребовали освобождения арестованных. К мастерским двинули три роты Ромодановского полка. Перед тем, как им выступить, перед солдатами в отсутствие офицеров пламенную речь сказал Сучков, научил, как держаться, а фельдфебель Скуратов добавил:
— Если кто из вас по офицерской команде стрельнет, я его на месте уложу пулей. Когда дойдет до дела, не слушать офицеров, слушай моей команды.
Пошли. По дороге солдат завернули на двор воинского присутствия. Выступил один из ротных командиров, тот капитан Тиунов, о котором уже говорилось. Бледное, строгое лицо с тонкими бровями. В упор глядя на солдат, спросил:
— Скажите мне, братцы. Вы знаете, что такое присяга?
— Так точно.
— Может быть, не совсем хорошо знаете. Так я вам объясню. Не ваше дело рассуждать. Вы давали присягу царю и отечеству. Ты не отвечаешь за то, что твоя винтовка сделает, — за это отвечает начальство…
Увидел среди солдат Сучкова. Сучков часто замечал на себе и раньше пристальный, подозрительный взгляд капитана.
— Поди-ка сюда! А ты знаешь, что такое присяга?
— Так точно! Только всякий ее по-своему понимает.
Капитан понял, что он соглашается с ним, и обрадовался. И повел солдат к железнодорожному вокзалу.
Перед мастерскими чернела и волновалась тысячная толпа рабочих. Солдат выстроили спиною к вокзалу. Комендант кричал на рабочих, в ответ слышались крики:
— Выпустить арестованных!.. Все мастерские разнесем, поезда остановим!
Комендант крикнул:
— Теперь я с вами иначе заговорю!
И шатающимся шагом пошел к ротам. Стал сзади солдат и стал командовать.
— По толпе… залпом… роты…
И вдруг оборвал команду. Ряды стояли неподвижно, ни один солдат не взял ружья на изготовку. Комендант растерянно обратился к Тиунову:
— Капитан, почему ваши солдаты не берут на изготовку?
Тиунов, страшно бледный, молчал. Комендант вышел перед рядами и стал спрашивать отдельных солдат:
— Отчего ты не берешь на изготовку?
Солдаты стояли неподвижно, вытянувшись, и молчали, как окаменевшие. Скуратов, волнуясь, шепнул Сучкову:
— Ну, как кто поддастся!
Но никто не поддался. Комендант крикнул Тиунову:
— Тогда распоряжайтесь сами! И исчез.
Рабочие замерли на месте, услышав команду коменданта. Теперь они в бешеном восторге кинулись к солдатам.
— Ура, ромодановцы!
Окружили солдат, целовали, обнимали, совали в руки баранки, колбасу. Солдаты по-прежнему стояли неподвижно, соблюдая строй, — совсем истуканы!
От вокзала показался комендант, с ним человек пятнадцать жандармов с винтовками. Рабочие к солдатам:
— Братцы, дайте нам винтовки, мы их встретим!
Фельдфебель Скуратов скосил глаза на сторону и быстро ответил:
— Небось! Пусть хоть раз стрельнут, — мы им сами покажем!
— Ура! — закричали рабочие.
Комендант опять стал уговаривать рабочих, но теперь он говорил очень мягко. Рабочие толпились вокруг и постепенно оттирали жандармов. Жандармы очутились поодиночке в густой рабочей толпе. Ничего не добившись, комендант исчез.
Солдат повели к мастерским, выстроили перед воротами с приказом никого не выпускать. И опять молча и неподвижно, как окаменевшие, солдаты стояли, держа строй, а мимо них выбегали рабочие. Соединились в колонну и с пением марсельезы двинулись к городу, раньше прокричав ромодановцам «ура».
Командир полка, узнав о случившемся, пришел в бешенство, рвал на себе волосы.
— Батальон был самый боевой, а теперь как опоганился!
Командовавший отрядом капитан Тиунов все не являлся к полковому командиру с рапортом, так что пришлось послать за ним вестового. Вестовой побежал и, воротившись, смущенно доложил:
— Капитан Тиунов — застрелимшись.
Он выстрелил себе в грудь, пуля прошла навылет, но не задела ни сердца, ни крупных сосудов. Его снесли в лазарет.
Роты, участвовавшие в описанном деле, ходили, как победители. Время было такое, что начальство боялось их покарать. Вскоре полк ушел в лагеря. Ходили на стрельбу за пять верст от лагеря. После поверки солдаты уходили в лес, в условленное место, на митинг. По дороге — свои патрули: спрашивали пароль. Выступали присланные ораторы. Говорили о Государственной думе, о способах борьбы, о необходимости организации, о светлом будущем. Это был для солдат какой-то светлый праздник. Все ходили, как будто вновь родились. Постановили больше не ругаться матерными словами. Красное, угрюмое лицо фельдфебеля Скуратова теперь непрерывно светилось, как раньше у него бывало только в светлое воскресение. Установились у него близкие, товарищеские отношения с солдатами. Однажды стирал он в прачечной свое белье. Увидел дежурный офицер.
— Вот молодец! Фельдфебель, а сам стирает! Каждый рядовой норовит теперь это на другого свалить, а он — сам. Молодец! Вот это хороший пример.
Фельдфебель молча продолжал стирать.
— Слышишь, я говорю тебе: «Молодец!»
Скуратов молчал. Офицер грозно крикнул:
— Ты что, скотина, не слышишь? Я тебе говорю: «Молодец!»
Нужно было ответить: «Рад стараться!» Но Скуратову противно было это сказать. И он неохотно ответил:
— Не молодец, а нужда. Нет денег прачку нанять.
В начале августа, когда полк стоял еще в лагерях, случилось вот что. В праздник Преображения, 6 августа, два солдата гуляли за полковой канцелярией. И вдруг нашли в овраге большую кучу распечатанных писем и отрезов, денежных переводов, адресованных солдатам. Стали читать письма. В них солдатам писали из деревни, чтобы не стреляли в мужиков, чтобы стояли за Государственную думу. А по сверке денежных переводов оказалось, что адресаты денег этих не получили.
Заволновался полк. Сходились кучками, передавали друг другу о находке, ругались и грозно сжимали кулаки. К вечеру весь лагерь шумел, как развороченный улей. Офицеры попрятались. Солдаты искали Сучкова, чтобы он им «сказал». Но Сучков в тот день поехал в город за мясом, — его солдаты выбрали батальонным артельщиком. Кинулись к фельдфебелю Скуратову. Но он был только хорошим «младшим командиром», исполнителем, а теперь лишь недоуменно пожимал плечами. Да и правда, нелегко было направить общее негодование в нужное русло. Стали слушать каждого, кто громко кричал. Решили идти к помещению первого батальона, где находился денежный ящик и полковое знамя, деньги поделить меж собой, и со знаменем, с музыкой, двинуться в город. Пошли вдоль палаток, выгоняя спрятавшихся солдат. Открыли карцер, выпустили восьмерых арестованных, — «Пускай нынче всем будет радость». Пришли. Вдруг перед ними появился командир полка. Упал перед солдатами на колени:
— Братцы! Товарищи! Господа! Что хотите со мной делайте, а знамени и денежного ящика не трогайте!
— Э, слушай его! Валяй, ребята! Часовой, отойди!
Но тут фельдфебель Скуратов начальственно крикнул:
— Смирно, товарищи! Полковой командир дело говорит. Не трогать знамени и денежного ящика. Дайте полковому командиру сказать, что хочет.
Полковой командир приободрился и сказал:
— Ребята! Вы заявите свои требования, я их все добросовестно разберу, а дело сегодняшнее мы замнем.
Солдаты наперебой стали говорить о найденных в овраге письмах и денежных переводах, о незаконных работах для офицерского состава, которые заставляют делать солдат.
— Ребята, вы все сразу говорите и очень далеко стоите. Подойдите ближе!
— А, сукин сын, заметить хочет тех, кто говорит! К черту его!
Раздались пьяные голоса:
— Идем, офицерское собрание разнесем!
В это время — были уже сумерки — воротился из города Сучков. Солдаты кинулись к нему. Он развел руками и покачал головой:
— Ай-ай-ай! Что же делать теперь?
Сказали ему, что часть солдат пошла громить офицерское собрание. Он побежал к ним, остановил. Повел всех в рощу за лагерем «вырабатывать требования». Поздно ночью солдаты мирно разошлись по палаткам. Сучков задумчиво шел со Скуратовым домой.
— Да… Как теперь эту кашу расхлебывать!
Около палаток к Сучкову в темноте подошел вестовой.
— Сучков, иди скорей, тебя к себе капитан Тиунов зовет. Велит, чтоб сейчас же пришел.
— Что я ему? Почему я должен к нему являться?
Однако пошел.
Капитан Тиунов, на днях только вышедший из госпиталя, исхудавший, сидел на табуретке перед бараком и курил.
— Это ты, Сучков? Здравствуй!
— Здравия желаю!
— Пойдем в барак.
Вошли.
— Садись.
— Я, ваше высокоблагородие, постою.
— Садись, говорят тебе.
Сучков сел. С минуту молчали. Наконец, Тиунов заговорил:
— Вот. Еще раз встретились с тобой. Теперь, может, уже в последний раз. — Помолчал. Потом нагнулся к Сучкову и шепотом спросил: — Что ты такое сделал, сукин сын?
— Что я такое сделал?
— Что сегодня было, это твоих рук дело.
— Меня тут даже не было, я в город ездил.
— Все равно, это все ты… Ты жид?
— Никак нет.
— Может, поляк?
— Никак нет.
— Ну, может, в роду у тебя поляки были?
— Этого знать не могу, — с усмешкой ответил Сучков. — Тогда не жил.
— Та-ак, та-ак… — задыхаясь, произнес Тиунов. Вдруг взял со стола замок, подошел, привесил к двери и запер на ключ.
Сучков подумал:
«Бить, что ли, будет? Ну, это еще посмотрим, кто кого! Как бы ему самому не было большого полому!»
Тиунов из-под шитой подушки на диване достал револьвер и нацелился на Сучкова.
— Сознавайся!
Указательный его палец лежал на спуске, в дырах барабана видны были пули. Заряженный. У Сучкова же шинель была внакидку, застегнута у шеи на два крючка, руки спутаны: пока станешь отстегивать крючки, — застрелит.
— Да в чем сознаваться?
— Ты им брошюры давал, прокламации писал… Сознавайся! Убью тебя, как пса. Что ты им давал?
— Что давал! Газету сейчас дать, — почище будет всякой прокламации! Правда теперь пошла в газетах, тоже вот в них отчеты Государственной думы печатаются…
Тиунов схватился за голову.
— Эх, вот эта Дума еще!.. Нет, ты им все-таки еще прокламации давал… Ну, слушай! Ведь вот твоя смерть здесь, в дуле… Сознавайся!
— Да ну, стреляйте! Что там разговаривать! Жизнь мне не дорога, а смерть не опасна!
Тиунов вдруг положил револьвер, снял с двери замок и опять сел рядом с Сучковым.
— Ну, смотри, видишь? Я револьвер положил, дверь отпер. Но все-таки знай: если ты меня не убьешь — я тебя убью!
Замолчали.
— Давал ли им прокламации, нет ли, — а все это дело — твое. Ну-с, что же, доволен? Денежки из казенного ящика поделить, офицерский буфет разграбить… Чего же вы этим достигнете? Ты хочешь анархии.
— Я не хочу анархии.
Капитан удивился.
— Не хочешь?
— Не хочу. У вас анархией называется свобода, вы сами рабы и хотите, чтоб все рабами были. Нам друг друга не понять. У вас одна душа, у нас другая.
— Свобода… Свобода? Ты хочешь свободы, а вызовешь анархию, проклятый ты человек! Ты ее вызовешь, в ней и я погибну, и сам ты, и Россия!.. Радуешься ты на то, что сегодня было?
— Нет, не радуюсь.
— Ну, и никакой тебе никогда радости не будет. Может, когда-нибудь, как увидишь, что вы с Россией сделали, сам ужаснешься!
— Как говорится, — бог не выдаст, свинья не съест.
Тиунов встал.
— Ну, теперь прощай! — Он протянул Сучкову руку и с ненавистью пожал ее. — Прощай. А мы — мы будем драться с вами до последнего!
Сучков с вызовом поглядел на него.
— Не испугаемся: кто кого!
Тиунов скрипнул зубами и бросился к столу за револьвером. Остановился, повернулся.
— Уходи скорей, говорю тебе!
— Здравия желаю!
Сучков откозырнул и вышел из барака.
1940
На отдыхе
[текст отсутствует]
В мышеловке
Была глубокая ночь. Ярко и молчаливо сверкали звезды. По широкой тропинке, протоптанной поперек каолиновых грядок, вереницею шли солдаты, Они шли тихо, затаив дыхание, а со всех сторон была густая темнота и тишина. Рота шла на смену в передовой люнет. Подпоручик Резцов шагал рядом со своим ротным командиром Катарановым, и оба молчали, резцов блестящими глазами вглядывался в темноту. Катаранов, против обычного, был хмур и нервен; он шел, понурив голову, кусал кончики усов и о чем-то думал.
Шаг за шагом все дальше назади оставались окопы, где вокруг были свои, где чувствовалась связь со всеми. От мира и жизни рота как будто отходила в одинокий, смертно-тихий мрак. Тропинке не было конца, и, когда они подошли к люнету, казалось — они прошли версты две, хотя до люнета было только семьсот шагов.
Завидев смену, в окопе облегченно зашевелились. Командир вышел из окопа и, расправляя отекшие ноги, молча протянул руку офицерам. Он тоже был угрюм и зол.
Катаранов шепотом спросил:
— Что хорошего?
— Постреливают… Направо, за могилкою, должно быть, японский секрет. Шагов полтораста.
Его солдаты осторожно вылезали из люнета. На носилках вынесли что-то вытянувшееся и неподвижное. Катаранов кивнул на носилки и спросил:
— Сколько?
— Один убит, трое ранено… Тише вы, черти! — зашипел офицер на солдата, который зацепил прикладом за котелок.
Пришедшая рота тихонько размещалась в окопе. Катаранов и Резцов тоже спустились вниз.
Назади с глухим шорохом удалялась смена. И казалось — вот порывается последняя связь с миром Кто-то там сзади сдавленно раскашлялся. И сейчас же где-то сбоку темноту пронзил струистый огонек, по молчаливым полям прокатился выстрел. Люди разом встрепенулись, винтовки в их руках зашевелились.
— Без команды не стрелять! — грозно протянул Катаранов.
Еще сверкнули две струйки. Две пули, ноя, пронеслись мимо окопа. И все замолкло. Кольцом сдвинулась вокруг живая, подстерегающая тишина. Она отовсюду смотрела из темноты, и все напряженно вглядывались ей навстречу.
Люнет, который занимала рота, был громко известен во всем корпусе. Офицеры называли его «Сумасшедшим люнетом», потому что, продежурив в нем сутки, два офицера сошли с ума и прямо с позиции были отправлены в госпиталь; солдаты прозвали люнет «Мышеловкой». Для чего он существовал, какое было его назначение, — никто не мог понять. Люнет лежал совсем одиноко в чистом поле, на полверсты вперед от наших позиций и всего за четыреста шагов от японских; с флангов японские позиции загибались вокруг него, а справа и несколько сзади серела вдали грозно укрепленная японцами деревня Ламатунь; кроме того, люнет был под косым обстрелом одного из наших люнетов. И отовсюду в него летели пули.
Начальник дивизии рапортом указывал корпусному командиру на полную ненужность этого люнета, на то, что в любой момент японцы шутя могут перебить всех его защитников. Корпусный положил на рапорте резолюцию: «Умереть в окопах — это значит одержать победу». И все знали, — он очень гордился, что в районе его корпуса линия укреплений выдается вперед больше, чем в соседних корпусах; и все знали также, что сам он ни разу не рискнул самолично побывать в этом люнете. Японцы спокойно предоставляли русскому вождю тешить свое честолюбие; наши два раза очищали люнет, и японцы его не занимали: видимо, он был им не нужен и не страшен.
Морозило. Солдаты, сжимая винтовки, пристально вглядывались в темноту. Было очень тихо. И звезды — густые, частые — мигали в небе, как они мигают, только когда на земле все спят. Казалось, вот-вот прекрасною, прозрачною тенью пронесется молчаливая душа ночи, — спокойно пронесется над самою землею, задевая за сухую траву, без боязни попасть под людские взгляды. А в этой земле повсюду прятались насторожившиеся люди и зорко вглядывались в темноту.
Резцов глубже засовывал руки в рукава полушубка. Впереди люнета смутно шевелился сухой, несрезанный каолян, слышался шорох его листьев. Отчего они шуршат? И повсюду что-то чернело, осторожно шевелилось и старалось спрятаться в тишину. Вдруг, беззаботно к этой тишине, злобно и хрипло огрызнулась во мраке собака; другая, молоденькая, жалобно завизжала. Там, в каоляне, они гложут неубранные трупы. И опять стало тихо.
Внутри тела мелко и часто трепетала невидная снаружи дрожь, воздух выходил из ноздрей прерывистою струею. И Резцов глубже засовывал руки в мех рукавов. Ползли предательские шорохи, их осторожно душила живая, подстерегающая тишина. Вот сейчас эта тишина вздрогнет, разверзнется, и с ярым воплем из нее ринутся на люнет темные толпы. Что тогда делать?
Резцов думал, — и на душе становилось вызывающе-весело и не страшно. Ну, подкрадутся японцы и бросятся в штыки. Ясно, поддержки сзади не пришлют. Ясно, придется выскочить из окопа и схватиться врукопашную. И ясно, исход будет один — смерть. Все было ясно и просто. Хотелось беззаботно улыбаться.
Из темной дали, с левого фланга, слабо донесся ружейный выстрел, отдавшийся в горах коротким эхом: таах-та!.. Другой, третий, — и затрещала частая, сливающаяся пальба пачками. Тишина кругом еще больше насторожилась, стала еще более жуткою. На темном небе, казалось, вспыхивали слабые отсветы. Пальба трещала спешно и лихорадочно, потом стала ослабевать. Донеслось еще несколько одиночных выстрелов. Замолкло.
Опять еще сердитее огрызнулась в темноте хриплая собака, и еще жалобнее завизжала молодая собачонка и повизгивала долго, обиженно. Было странно: кругом — огромное, притаившееся всеобщее ожидание, а тут же, чуждые всему, сосредоточенно копошатся свои отдельные маленькие злобы и обиды.
— Оо-о!.. — Кто-то сладко зевнул в темноте. — Холодно, морозы пошли. Какая-то будет матушка весна красная?
Солдаты давно уже перестали вглядываться в темноту и стояли, — равнодушные, беззаботные к тому, что кругом. Резцов стал себе противен со своими копошащимися в мозгу, пугливо вздрагивающими мыслями. В этой окопе сошло с ума два офицера, — именно офицера: так же они стояли, так же спрашивали себя: «Чего там?… А что, если?…» А вот кругом люди — равнодушно-спокойные и бездумные; придет миг, и они со свежими, вдруг вспыхнувшими душами схватятся за винтовки.
Резцов пошел сделать обход своей части люнета. Капитан Катаранов стоял в середине люнета. Положив голову в папахе на руку, он облокотился о бруствер и о чем-то думал. За последние две недели Катаранов стал совсем другим, чем прежде: был молчалив и угрюм, много пил; в пьяном виде ругал начальство, восхвалял японских генералов Куроки, Ояму, Нодзу, оглядывал всех злыми, вызывающими глазами и как будто ждал возражений; а то плакал, бил себя кулаками в грудь и лез целоваться.
Он очнулся от задумчивости и рассеянно взглянул на Резцова.
— Ну что? Не спят у вас люди?
— Нет.
Катаранов опять молча облокотился о бруствер. Резцов пошел к себе.
Медленно двигались по небу звезды, одни заходили, слева из-за сопок появлялись другие. Вдали изредка слышались одиночные выстрелы. Солдаты стояли, неподвижно опершись о винтовки. Временами то один, то другой топал озябшими ногами.
Небо над сопками чуть засветилось. Катаранов прошел по окопу и позволил желающим ползти в каолян за топливом и назад, к ручью, за водой.
Солдаты оживились и поползли. Стало весело и жутко. Слышался острый хруст срезываемого каоляна, шепот и сдержанный смех.
Из темноты выделилась фигура солдата с огромною связкою каоляна за плечами. Солдат шел к люнету, согнувшись под тяжестью, медленно и неспешно) как дворник, несущий дрова. Резцов возмущенно следил за ним; всею своею огромною, медленно движущейся фигурою он как будто намеренно выставлял себя под выстрелы. И правда, в японских окопах засверкали огоньки, и пули зажужжали в воздухе.
— Хренов! Да беги же скорей, чего ползешь! — сердито прошипел Резцов.
Хренов, исполняя приказание, неуклюже пробежал десяток шагов и опять пошел не спеша. Его бородатая, наклонившаяся под связкою голова показалась у окопа.
— Да иди ты скорей, сукин сын! Прыгай в окоп!.. Подстрелят тебя!
— Ни-икак нет! — Хренов медленно влез в окоп. — Пули их, ваше благородие, добрые! — объяснил он Резцову и бросил вязанку. — Ну, ребята, грейся теперь сколько влезет.
Светлело. Запоздавшие поспешно сползались к люнету. Пули жужжали чаще.
Солдаты разжигали в земляных печурках каолян и кипятили в котелках воду. Беловато-синие дымки вились над окопом. И назади, впереди, у наших и у японцев, — везде закурились дымки. В воздухе запахло гарью, напоминая о тепле и горячем чае. С середины люнета донесся голос Катаранова:
— Ребятушки! Глубже в окопе сидеть. Кроме Часовых, не высовываться!
На дне окопа, под лесом торчавших во все стороны штыков, весело копошились черные папахи и нагольные, заглянцевевшие от носки полушубки. Каоляновые стебли в печурках потрескивали.
— Матрехин, где у тебя вода запасена?
— Вон она на краю стоит, в жестянке.
Хренрв подошел к жестяному ящику из-под патронов, наполненному водою; посмотрел на посудину, подумал.
— Ну-ка, балтийская эскадра! Иди, покоптися! — вздохнул он и бережно поднял посудину.
Солнце выплыло из-за сопок, косые лучи сквозь напитанный дымом воздух били по заиндевевшим былинкам, по грядам полей. Солдаты пили из кружек чай, острили и смеялись. Низенький и старообразный Василий Матрехин, с отлогим, глупым лбом, отхлебывал из кружки чай, заедал его мерзлым хлебом и недовольно говорил:
— Как, значит, на действительной службе служил я, то был отделенным, н-да!.. А теперь из запаса взяли, ни одного рядового подо мною нету!
— Ничего, милый, не горюй, — утешал его стройный и худощавый Беспалов, с Георгием на полушубке. — Ты человек женатый. Только знай посиживай тут. А жена уж для тебя дома постарается, целое отделение пока нарожает. Приедешь, будет кем командовать.
Беспалов говорил, и его красивое лицо вспыхивало быстрою, как будто светящеюся улыбкою.
Резцов снисходительно улыбался в свои закрученные усики, на душе было немножко одиноко: хотелось, как равному, замешаться в эту кучу тесно жавшихся друг к другу тел, смеяться остротам, острить самому.
Катаранов прислал ему приглашение пить чай. Резцов пошел, пробираясь меж жавшихся к стенкам солдат. Часовой оживленно обратился к нему:
— Ваше благородие! Японец орудия перевозит с сопки в деревню. Близко, можно пулей достать.
Резцов выглянул. Всего за тысячу шагов от них, за линией окопов, медленно ехали два тяжелых орудия; ездовые спокойно сидели на лошадях и даже не оглядывались на их люнет. Чувствовалось полное пренебрежение и презрение.
Мимо уха Резцова коротко зыкнула пуля. Он быстро втянул голову в плечи и поспешил к Катаранову. Катаранов, припав к брустверу, смотрел в бинокль.
— Федор Федорович, видите орудия? — радостно спросил Резцов. Катаранов оторвался от бинокля. Его глаза смотрели хмуро.
— Вижу.
— Дать бы по ним пару залпов.
— Не дам ни одного выстрела. — Лицо у него было странное — сосредоточенное и серое. — Сядем чай пить! — решительно произнес он.
Они опустились на дно окопа. Катаранов наливал из эмалированного чайника чай.
— Водки нету, здорово бы я сейчас выпил! — вдруг сказал он.
Резцов отхлебывал из своей кружки и с осуждением молчал. Потом не выдержал, встал и посмотрел: орудия скрывались за выступом равнины. Он опять сел. Катаранов с любопытством спросил:
— Следовало бы их обстрелять?
— Следовало, — сумрачно ответил Резцов.
Катаранов, со злыми глазами, усмехнулся и замолчал.
— Подлецы, сколько сала напустили в воду. Нет чтобы сполоснуть котелок!.. — Он сердито хмурился, заглядывая в свою кружку; потом продолжал о прежнем, как будто убеждая самого себя: — Ну, а что бы было? Подстрелили бы мы пару лошадей, а они бы в ответ в нашу мышеловку, как по клавишам, дюжину шимоз. И весь бы люнетик с ротою полетел к черту. Расстояние до вершков измерено, терпят нас, пока сидим смирно… Ох, тяжело мне!.. — Катаранов с страданием покрутил головою.
Резцов пробирался к себе. Густо шевелились солдаты, к нему оборачивались смеющиеся лица. Пили чай из кружек, грели у печурок руки и ноги. Охватывало беззаботным весельем.
Резцов сел на своем конце. Солдаты поднимались, раскладывали на бруствере чайники, котелки, полушубки. И, как только высовывался край папахи, над бруствером сейчас же проносилось несколько пуль.
— Ваше благородие! Имею честь доложить: мой башлык ранили… В трех местах!..
Беспалов, с своею быстро проносящеюся по лицу улыбкою, развертывал перед Резцовым пробитый пулями башлык.
— В другой раз, ваше благородие, нужно больше лопат брать для хлеба, — мрачно заметил Хренов.
— Для хлеба?
— Так точно! Никак ножом его не урежешь, замерз.
— Лопатой ударишь, и то одни искры сыпятся, — прибавил Беспалов.
Было весело. Резцов думал: вот это настоящие солдаты.
С запада ровною полосою поднимались густые белые тучи. Оттуда подул ветер. Стало еще холоднее. Солдаты кутались в полушубки. Матрехин, с серьезными, глупыми глазами под отлогим лбом, рассказывал про волчиху, у которой его дядя увез волчат. Он рассказывал солидно, томительно-медленно. Солдаты посмеивались, потешаясь над тем, как он рассказывал.
— Щенят этих забрал, потом, значит, — ходу! Дядя-то мой родной, у него я жил… Да… Во весь карьер поскакал. Глядь, она катит… Н-да!.. Катит. А он, дядя мой родной, домыслил, — мостом не поехал, а через воду поскакал. Я только забыл, целовальник какой был… Ну, хорошо! Привез к нашему ко двору…
Недалеко от Резцова стоял на часах Беспалов. Он прислушивался к рассказу Матрехина и слегка улыбался своим красивым, худощавым лицом.
— Глядь, вечер подошел, сели чай пить… А она — орет, дьявол, н-да!.. Зашла с плетня, значит, и давай плетень ломать… Он хочет пойти, сказать нашим, и боится…
Хренов грубо спросил:
— Кто он-то?
Солдаты захохотали.
— Да целовальник, я же сказал!.. Н-да… Как раз она как подскакивает, как приткнула, — вроде как бы на двенадцать голосов закричала корова…
Беспалов вдруг перестал улыбаться. Его лицо стало строгим и серьезным. На внутренней стороне бруствера комок мерзлой глины щелкнул и распался; потом, по другую сторону Беспалова, тоже что-то слабо хрустнуло, комочки глины посыпались в окоп.
Лицо Беспалова становилось все бледнее и строже. Он переступил с ноги на ногу, немного, подался к брустверу и стал рассеянно смотреть в другую сторону. Резцов понял: справа и немного сзади, из занятой японцами деревни, к часовому пристреливались. Новая пуля с сердитым, прерывистым жужжанием рикошетом перелетела через окоп.
— Беспалов, присядь! — взволнованно крикнул Резцов.
Беспалов медленно опустился на корточки.
— Зачем тебе все время стоять? Выглянешь, осмотришься — и садись назад.
— Слушаю-с!
С его лица медленно сходила строго-серьезная тень заглянувшей в глаза смерти. Матрехин продолжал рассказывать. Беспалов прислушивался и опять сдержанно улыбался.
Бело-серые тучи росли и вздувались, из-под них дуло сухим, колющим холодом. Беспалов осторожно поднялся и, сдвинув брови, стал осматриваться.
Вдруг, слабо зазвенев штыком, брякнула о землю упавшая винтовка. Беспалов дернулся, схватился за шею и грузно сел на дно окопа.
Он коротко и тяжело харкал, во рту клокотала кровавая слюна; грудь со спешным испугом расширялась и напрасно старалась вобрать воздуху.
— Кликните скорей фельдшера! — распорядился Резцов, стараясь казаться спокойным.
Горло было прострелено навылет, в кровавых ранках свистел воздух. Фельдшер беспомощно пожал плечами, наложил на шею повязку. Беспалов, с тоскою в мутящихся глазах, сейчас же сорвал повязку? он показывал руками, что не хватает воздуху. И в ранках свистело; кровь, пузырясь, поднималась над ранками и алою пеною стекала к затылку.
Солдаты молча смотрели. Беспалов метался на земле, грудь тяжело дышала, как туго работающие мехи. Творилось странное и страшное: красивое, худощавое лицо Беспалова на глазах распухало и раздувалось, распухала и шея и все тело. Как будто кто-то накачивал его изнутри воздухом. На дне окопа в тоске ерзало теперь чужое, неуклюже-толстое лицо, глаза исчезли, и только узенькие щелки темнели меж беловатых пузырей вздувшихся век.
Подошел Катаранов.
— Помог бы ты ему как-нибудь, — сумрачно сказал он.
Фельдшер опять беспомощно пожал плечами.
— Никак, ваше благородие, невозможно! Только от операции была бы помощь. Кабы в госпиталь его свезть. А тут где же?
Катаранов постоял, засунув руки в карманы полушубка.
— Нечего тут, ребята, смотреть!.. Расходись! По местам! — приказал он и, понурив голову, пошел обратно.
Беспалов метался, перекладывал голову со стороны на сторону, из ранок, пузырясь, со свистом выползала кровавая пена. Он распахнул полушубок, расстегнул мундир, разорвал на груди рубашку. И всем тогда стали видны его раздувшиеся белые плечи, как будто плечи жирной женщины. И он метался, и на лице была смертная тоска.
— За что страдает? Неизвестно за что! — вполголоса сказал Хренов, не отрывая глаз от раненого.
Матрехин покосился на Резцова и поучающе возразил:
— Бог, он знает за что!
И вздохнул.
Бело-серые тучи покрыли небо, кругом стало мрачно; рванул ветер, и из туч посыпалась мелкая, частая крупа. Крупинки метались в воздухе, прыгали по брустверу, по плечам и папахе нового часового. Сухие листья каоляна жалобно ныли вокруг стеблей.
Резцов, скорчившись, сидел в углу окопа и старался не смотреть на Беспалова, которому нельзя было помочь. Солдаты теперь молча сидели, стиснув зубы, — озябшие, угрюмые и ушедшие в себя. И никто не смотрел на Беспалова. А Беспалов, одинокий в своих муках, все хрипел и метался; белые Крупинки прыгали по вздувшемуся лицу, и было это лицо странного, темно-прозрачного цвета, как намокший снег.
Сбоку, сквозь разрыв туч, неожиданно сверкнуло солнце. Оно заглядывало на землю в дыру меж туч и весело смеялось, как маленький, непонимающий ребенок. Тучи сердито задернули дыру, кругом опять стало мрачно.
Крупа перестала падать; но сделалось еще холоднее. Стыли ноги, холод забирался внутрь тела. Как будто душа сама застывала, было в ней неподвижно и мрачно.
Опять прошел по окопу Катаранов. Он шел, не пригибая головы, что-то сказал солдатам. Солдаты дружно захохотали; смеющиеся, скуластые лица поднимались к нему, тоже говорили что-то смешное. Еще с остатком улыбки на губах, не глядя на хрипящего Беспалова, Катаранов подошел к Резцову.
Улыбка была на губах, но глаза смотрели невнимательно, и за ними чувствовалась упорная дума. Упорная и тяжелая. Было неловко и грустно смотреть на него.
— Что это вы такой? — рассеянно спросил Катаранов.
— Какой?
— Голова, что ли, болит?
— Да разбаливается от чего-то.
— Легли бы, поспали. Я вам бурку пришлю… Ребята, кому спать охота, спи, пожалуйста, сейчас! — обратился он к солдатам. — А ночью, если кто спать будет, тут же все зубы выбью… Дай посижу с вами… Подвинься ты, болван!! — рявкнул он на Матрехина. — Мало, что ли, места тебе?
Он подвернул под себя полушубок и сел тесно рядом с Резцовым. Перед ними была серо-желтая стенка окопа. Оба молчали.
— Жалко Беспалова, хороший был солдат, — равнодушно заговорил Катаранов.
И вдруг губы его задергались, искривились, как у маленького мальчика, и слезинки запрыгали по редкой бороде. Он поспешно оперся локтем о колено и закрыл рукою лицо от солдат.
— Ничего! «Умереть в окопах — это значит одержать победу»… У-у, с-сукин сын!.. — Катаранов смахивал слезы, а его тонкие губы злобно кривились и растягивались. — Вы еще мало видели в бою нашего солдата. Какие молодцы! На смерть идут, как на работу, спокойно и без дрожи… Русский человек умеет умирать, но, — господа! Дайте же, за что умереть!..
Он ближе придвинулся к Резцову, чтоб не слышали солдаты, и, с страдающею ненавистью в голосе, зашептал:
— Знаете вы про дело нашего полка на Шахе? Шли мы на деревню без разведок, без артиллерийской подготовки. Господин полковник, Дениска наш, вбил себе в голову, что деревня пустая стоит. Проезжий казачишка пьяный, видите ли, сказал, — как не поверить? И шли мы в атаку с незаряженными ружьями. Офицеры верхом… Япошки подпустили нас да сразу и ахнули — из ружей, из пулеметов. Боже мой, что было!.. Восемьсот человек легло. Дениска наперед всех ускакал… Мы ждали — его отдадут под суд, — какое! У корпусного в реляции это вышло так великолепно: «При атаке легло восемьсот человек»… И Дениска получил золотое оружие!.. А командир Ромодановского полка — умница, дельный — почти без потерь взял три укрепленных деревни, — корпусный не подал ему руки! «Отчего у вас так мало потерь? Вы — трус! Вот слесарцы восемьсот человек потеряли!..» И никто из его полка не получил награды… Знаете вы все это?
— Знаю. — Резцов слабо улыбнулся и вполголоса пропел:
Один полковник умный был И тот немилость заслужил: Убитых мало!.. Убитых мало!..— И это знаете… — Катаранов охватил руками колени и угрюмо задумался.
Тучи уходили, проглянуло солнце, но ветер дул, и было холодно. Беспалов все хрипел и метался под наброшенным на него, полушубком; его вздувшееся лицо было теперь почти черное.
Катаранов глубоко вздохнул и покрутил головою.
— Тяжело мне! Ох как тяжело!.. Пошли у меня в последнее время разные мысли, нет от них нигде места. Ничего мне теперь не надо, ни о чем я не молюсь — пусть будет что будет… Недельки две назад рассказал мне адъютант из штаба корпуса… Видите, вот перед нами, за речкой, японская сопка; укреплена она, — не подступишься, форменная крепость. Так вот Соболев, корпусный наш, изо всех сил выбивался на военном совете, доказывал, что непременно нужно ее взять в лоб. — «Это, говорит, стратегический ключ. Придется положить десяток тысяч, но что же делать? На то и война!..» Десяток тысяч! А почему ему это нужно? Перед сопкою какой корпус стоит? Наш. Если сопку возьмем, как ее назовут? Соболевского. Путиловская сопка есть, будет еще Соболевская…
* * *
Резцов слушал насторожившись. Катаранов, перед которым он так еще недавно благоговел, теперь колебал в нем то, что для Резцова было основою всего их дела: не критиковать, не копаться в распоряжениях, — а с бодрою верою делать то, что приказано. Враждебно глядя Катаранову в глаза, он возразил:
— А может быть, это вправду необходимо. Как мы можем рассуждать? Разве мы знаем их планы?
— Нет, не знаем. Может, и необходимо! Уехал тогда адъютант, я это и сам подумал. С чего ему было верить? Баронишка, болтун и враль… А я вот поверил. Стой, почему? И пошли у меня мысли. И увидел я, что давно уж оттуда не жду ничего, — только глупостей и пакостей. Может, нечаянно что и хорошее придумают, да нет уж веры… Голубчик, вы только подумайте в своей голове: вот, сидим мы в этой чертовой мышеловке, мерзнем; вот солдат умирает, — золото солдат, цены ему не было… Что такое? Для чего? Какой смысл? Ведь и вы, и я, и солдат — всякий знает, что смыслу нету. Что же это такое? — Подняв брови, Катаранов удивленно осматривался, как будто только что проснулся в незнакомом месте. — Ведь это все кругом люди, не мешки с песком. Взяли, ткнули сюда, говорят: «Не рассуждай»… О господи! Приди сейчас сюда Скобелев, скажи: «Капитан Катаранов! Поднимите роту и тихим шагом, сомкнутою колонною, идите вперед!» — и поднял бы и повел бы… Всю бы роту уложил до единого человека, сам бы умер, — с блаженством, с восторгом бы умер. Верил бы я, верил, что это так нужно, что наше дело не рассуждать, а умирать. А теперь, — голубчик! Нету этой веры. Мы, как бараны, умираем, наверху сидят — реляции пишут. Для этих реляций мы и умираем…
Резцов холодно и враждебно смотрел на него.
— Просто вы устали и изнервничались, — пренебрежительно сказал он. — До сих пор были неудачи, вы и упали духом. И у Скобелева бывали неудачи, и он делал ошибки. Только тогда офицеры наши не ныли, а делали свое дело, и все было хорошо. А мы только критикуем и рассуждаем о том, чего не знаем.
Катаранов с колючею, злою усмешкою слушал. И в этой усмешке Резцов почувствовал, что Катаранов с вызовом рвет все свое прошлое и что они теперь враги.
— И в самом деле, чего тут рассуждать! — ядовито протянул Катаранов. — Нашего ли это ума дело? Умишко у нас плохонький, армейский. Ясное дело, для кого стараемся, — «для отеечества!»…
Убитых мало!.. Убитых ма-ло!.. —фальшиво пропел он, нелепо оттягивая нижнюю губу. — Верьте; мальчик, в начальство, верьте, что и тут япошек разобьем, и Порт-Артур удержим, и балтийскую эскадру доведем…
— Прежде всего, господин капитан, я вам не «мальчик»! — крикнул Резцов, вдруг краснея и выкатывая глаза.
Глаза Катаранова вспыхнули весело и задорно, но неожиданно потухли. Как будто он был на какой-то серьезной, жутко-тихой высоте, с которой все казалось пустяками. Он мягко улыбнулся и положил руку на рукав Резцова.
— Голубчик, не сердитесь! Верно — не к чему все это было говорить… Ну, прощайте, я пойду. Спите, пока светло. Я вам бурку пришлю. И не сердитесь… Хороший мой!
Катаранов встал и потопал озябшими ногами.
Солдаты, скорчившись на дне окопа, угрюмо дремали. Беспалов перестал хрипеть, его застывший труп был с головою покрыт полушубком. Бородатый солдат в башлыке, втянув голову и странно высоко подняв руки, мрачно и сосредоточенно устанавливал на бруствере свой котелок, — устанавливал и никак не мог установить.
— Андреев!! — грозно крикнул Катаранов.
Солдат в башлыке повернул на окрик свое озябшее, посинелое лицо. Катаранов молча и выразительно смотрел ему в глаза. Андреев тоже молча смотрел и медленно мигал. Резцов понял: он нарочно выставлял руки над бруствером, чтоб получить в них пулю.
— На полпенсии захотелось? — спросил Катаранов, грозя пальцем.
— Ни-икак нет!
— Смотри у меня! Будешь ранен, — прямо под суд отдам!.. Садись!
Андреев медленно опустился на корточки. Катаранов пошел на свой конец. Вокруг его папахи зажужжали пули, — Резцов слышал их, — но Катаранов шел, как будто нарочно не пригибая головы. Резцов морщился и закусывал губы и следил за двигавшеюся папахою, пока она не исчезла за изгибом люнета.
Вдруг все ему стало противно. Все кругом было серо, скучно и глупо. Погас огонек, освещавший изнутри душу. Холод все глубже вбирался в тело. И болела голова. И стыли неподвижные ноги.
Катаранов прислал бурку. Резцов подобрал ноги под полушубок, покрылся буркою и, надвинув на лицо папаху, прислонился к стене окопа. Он сердился, что нет в душе прежней ясности, он не хотел принять того, чем был полон Катаранов: с этим здесь невозможно было жить и действовать, можно было только бежать или умирать в черном, тупом отчаянии.
И ему вспомнилось, как месяц назад они шли в предрассветных сумерках в бой, как под лопавшимися шрапнелями весело и задорно светились милые глаза Катаранова. Их рота дерзко пробралась почти в тыл наступавшим, захватывало дух от жуткой радости, и вдруг под неожиданными залпами одной их роты побежали назад наступавшие батальоны. Тогда было хорошо и светло.
Когда Резцов проснулся, был вечер. Справа, над рощею, блестел тонкий серп молодого месяца, запад светился прозрачно-зеленоватым светом. Загорались звезды. Было тихо и морозно.
В сумраке темнели неподвижные фигуры солдат. Понуренные головы в папахах прислонились к холодным штыкам, лица были угрюмые и ушедшие в себя, со скрытыми, неведомыми думами. Неподвижно лежал труп Беспалова. За изгибом люнета, невидно для Резцова, протяжно охал новый раненый.
Резцов кутался в полушубок. В сонном мозгу было ощущение тепла внутри тела, и желание покоя, и любовь к себе; чувствовалось, что страшно, невыразимо страшно сидеть в этом одиноком ровике под стерегущим взглядом смерти. И была грустная любовь ко всем, потому что так хорошо человеку ощущать безопасность кругом и теплоту внутри себя, и так хорошо бы сладко вытянуться под теплым мехом, расправить отекшие ноги и чтоб сонный мозг опять погрузился в теплое, бездумное забытье.
И звезды в зеленоватом небе сияли тихо, ясно. Человеческие жизни, ясные звезды — все равно. Каждую ничем нельзя заменить, каждой нет цены. Если только любить себя, то это так легко почувствовать и понять! Кругом холодно, темно, людям нужно бы жаться друг к другу. А они все, сами застыв от холода, высматривают из-за насыпей, как бы всадить друг в друга пулю…
— Ваше благородие! Ваше благородие!
Дрожащая рука сильно трясла Резцова за плечо.
— В чем дело?! — Он быстро вскочил на ноги.
— Ротного убило!
Взволнованно двигались спины и затылки под папахами, солдаты теснились к середине люнета, напирали друг на друга и вытягивали головы. Новым, твердым и властным голосом начальника Резцов крикнул:
— Куда поперли?… По местам!
Солдаты отхлынули. Резцов пробрался на середину люнета. Катаранов полусидел на дне окопа, прислонившись виском к мерзлой стенке; во лбу над глазом чернела круглая дырка, кровь струилась по щеке и бороде. Он внимательно следил за подходившим Резцовым. Глаза ясные и тихо-задумчивые.
— Федор Федорович!.. — обрывающимся голосом воскликнул Резцов.
— Вправо… за могилками… опять… японский… секрет…
Катаранов говорил свободно, но необычайно медленно, равномерно растягивая звуки. Сказал и замолчал, и смотрел, как будто все еще задумавшись. Но глаза под пробитым лбом становились стеклянными и мертвыми.
Резцов с настойчивым, жутким вопросом вглядывался в эти глаза. Они не дали ответа.
Исполнение земли
[текст отсутствует]
Под кедрами
[текст отсутствует]
Примечания
1
Съезд состоялся в Ганновере в 1899 году и осудил Э. Бернштейна, автора книги «Проблемы социализма» (1898), в которой ревизуются основные положения марксизма.
(обратно)2
Заимствование у А. С. Грибоедова (см. комедию «Горе от ума», действие 2, явление 4).
(обратно)3
«Гамлет», действие 1, явление 5.
(обратно)4
Ария из оперы А. Г. Рубинштейна «Демон» (1872), написанной на слова поэмы М. Ю. Лермонтова.
(обратно)5
Из стихотворения А. А. Фета «Приметы» (1854–1855).
(обратно)6
Из стихотворения Н. А. Некрасова «Крестьянские дети» (1861).
(обратно)7
Начало русской революционной песни на мотив французской «Марсельезы». Слова П. Л. Лаврова.
(обратно)8
Серия приключенческих романов французского писателя Понсон дю Террайля (1829–1871), выходивших в Москве в 1874–1875 годах. Он же автор авантюрно-приключенческих романов «Похождения Рокамболя» и «Воскрешение Рокамболя».
(обратно)9
Из «Песни про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» (1838) М. Ю. Лермонтова.
(обратно)10
Драматическая поэма норвежского драматурга Генриха Иоганна Ибсена «Пер-Гюнт» (1866), действие 2.
(обратно)11
Одна из основных работ (1781) немецкого философа-идеалиста Иммануила Канта.
(обратно)12
Беклин Арнольд (1827–1901) — швейцарский художник-символист, автор картин «Остров мертвых», «Поля блаженных», «Священная роща» и др. Был популярен в буржуазной среде.
(обратно)13
«Орля» — повесть Ги де Мопассана (1887).
(обратно)14
Питомец воспитательного дома.
(обратно)15
«Сделано Рафаэлем для черных монахов» (итал.).
(обратно)16
Из стихотворения Н.А.Некрасова «Наборщики» из «Песен о свободном слове» (1865).
(обратно)17
Из баллады А. К. Толстого «Василий Шибанов» (1840-е годы).
(обратно)18
Герои комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1835), действие 4, явление X.
(обратно)19
Шалфатка — согнутый вдвое картон, куда складывается неоконченная работа переплетчика.
(обратно)20
Фальцбейн — инструмент, употребляющийся при ручной фальцовке листов.
(обратно)21
От немецк. Pulver — порошок (Ред.).
(обратно)22
От немецк. Schnaps — водка (Ред.).
(обратно)23
Ясно (франц.).
(обратно)24
«Красивые куклы, созданные для поцелуев» (франц.).
(обратно)
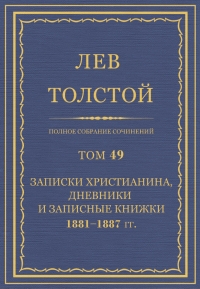

Комментарии к книге «Том 2. Повести и рассказы», Викентий Викентьевич Вересаев
Всего 0 комментариев