М. В. АВДЕЕВ Иванов
Посвящается друзьям К*
I
Молодость, молодость! Куда ты спешишь? Куда ты бежишь, не озираясь по сторонам, торопясь прожить от сегодня до завтра! Смотри, близко, ближе, нежели ты думаешь, на повороте дороги ждет тебя зрелость со своим спокойным лицом и строго спрашивает она тебя, что вынесла ты с собою из своего торопливого бега, под какой ношей потратила ты свои свежие силы, какой тяжелый запас ты так трудно и так спешно несла. Что ответишь ты ей?
Года прошли над Тамариным, с тех пор как мы оставили его удалившимся в деревню для поправления сил и немного расчувствовавшимся под влиянием свежей любви и чистого воздуха. И в эти года были у него любопытные встречи. Много лиц и мест прошло перед ним, и между всех лиц и во всех местах он пристально наблюдал и болезненно всматривался в самого себя. По-прежнему он жадно искал чувств и, найдя их, как натуралист, рассекающий редкий цветок, анализировал всякое внутреннее движение... нужды нет, что этим убивал его. Но мы пройдем мимо этих новых лет, повторяющих прежние, мимо этих новых лиц, напоминающих старые. Не один Тамарин имеет право на наше внимание: и другие образы, вместе с ним вызванные воображением, еще не досказали нам своего последнего слова.
Вставайте же, старые, знакомые тени! Мы опять в городе Н***, в том же деревянном доме над Волгой, на пустынной набережной. Был час седьмой вечера. Первый снег большими хлопьями ложился на избитую мостовую, придавая сумеркам новый оттенок света. Под горой еще незамерзшая река тяжело двигалась своей сизо-мутной, как будто иззябшей от стужи, водой. На дворе знакомого нам дома стоял дорожный экипаж. Четверня потных и худых лошадей отдыхала, понурив головы, привязанная у дышла. В передней на полу лежало не сколько дорожных ящиков; камердинер, опоясанный широким английским ремнем, и мальчик возились около них; в углу, в изорванном полушубке, в мокром сером кафтане, с кнутом и рукавицами за поясом, стоял ямщик, в ожидании на водку, и для препровождения времени вытаскивал комки грязи из бороды. В нежилом доме было холодно и сыро. Первые комнаты, темные и пустые, производили какое-то тяжелое впечатление; но в угольной светился огонь. В ней, у разгорающегося камина, сидел Тамарин, в дорожном платье и теплом пальто, которое не успел еще скинуть. Он был таков же, каким мы знали его, и, по-видимому, годы мало следов оставили на нем; но — и может быть, это было влияние дороги, которую он только что сделал, — в темных глазах его было меньше блеска и больше этого матового холодного выражения — следствие физической или нравственной усталости; только его ленивые, небрежные движения как будто потеряли часть юношеской гибкости и стали немного резче и прямее, да отвесная морщина признак какой-то постоянной мысли — глубже обозначалась на гладком лбу, и две легкие черты по углам рта при давали более насмешливое выражение его улыбке. А впрочем, то же спокойное, бледное, с тонкими очертаниями лицо, которое одинаково глядит на радость и горе, та же простая и безыскусственная красивость манер, которые до того прививаются иногда к человеку, что делаются его натурой. Сухие березовые дрова трещали и ярко разгорались в камине. Протянув к нему ноги из низкого и широкого кресла, Тамарин, закурив обычную папиросу, в ожидании чая, лениво грелся, пристально глядя на огонь. Вокруг, на столе, этажерках и окнах, лежали его книги и вещи в том нетронутом порядке, как некогда были им оставлены. Годы прошли над ними только слоем пыли, и все в них дышало еще вчерашней жизнью, хотя этому вчера минуло несколько лет. В этой среде прошлого прошлые впечатления невольно налетают на душу; и немудрено нам отгадать, отчего Тамарин так пристально смотрел на переливающийся по стоячим поленьям огонь: это была для него та минута забытья, в которую человек перестает жить настоящей жизнью, воображение вдруг отодвигает ее назад и, вычеркнув из памяти целый ряд долгих и трудных лет, вместо них вызывает из прошлого несколько давно пережитых дней и ясно и резко становит их перед внутренними очами. С ним совершалось одно из необъяснимых чудес человеческой натуры, на которые мы не обращаем внимания, потому что они случаются каждый день... и, как будто для поддержания обмана, вдруг ему послышались знакомые голоса в передней, кто-то скоро прошел по пустым комнатам и с шумом вошел в каминную.
— Ба! Островский!
— Тамарин! Какими судьбами? — И Островский бросился обнимать Тамарина. — Вот именно как снег на голову, — сказал Островский, — у нас же сегодня первый снег выпал. Представь себе, едем мы...
В эту минуту, лениво пришаркивая ногами, в дверях показалась длинная фигура.
— Федор Федорыч! — сказал Тамарин, идя ему навстречу.
— Здравствуйте, — отвечал Федор Федорыч с довольной улыбкой, пожав Тамарину руку немного крепче обыкновенного. — Продолжайте князь, я вас прервал, - сказал он, подвигая к камину покойное кресло и усаживаясь в него.
— Едем мы по набережной с Федором Федорычем — вдруг видим у тебя огонь: мы и заехали. Откуда занесло тебя?
— Да чтобы ясно сказать, так с последней станции, — отвечал Тамарин.
— Надо прибавить, по какому тракту, — заметил Федор Федорыч.
— Это все равно: я езжу с весны, лето провел на водах.
— На зиму к нам? Ничего умнее ты не мог придумать.
— Может, пробуду и зиму — как поживется. Ну, а у вас что нового?
— Нового немного. Самую занимательную вещь и доброе дело удалось сделать мне: я отучил здешних жителей угощать себя и гостей здешними винами. Теперь все выписывают из Петербурга...
— А далее?
— А более почти и нет ничего. В нашем городе как-то вообще ничего не случается, а если что и случится, так лучше, если б уж не случалось: поссорится кто-нибудь, умрет, родит, женится... Прошло, брат, доброе, старое время, когда одна половина города была влюблена в другую. Бывало, у всякого своя севильская маркиза. Нынче не то! Молодежи новой понаехало, да молодежь все о деле толкует.
— Хорошая молодежь! — заметил Федор Федорыч. — Немного старики-молодежь, а хорошая.
— Ну, а женщины?
— Да женщины по-прежнему. Все новенькое любят: для них что материи на платье, что мужчины — последний привоз в ходу.
— Ты мне пророчишь успех, Островский.
— Ну это вопрос нерешенный! Ведь ты уж побывал на здешних подмостках. Вы как думаете, Федор Федорыч?
Федор Федорыч вынул сигару, отрезал машинкой кончик и стал закуривать ее: он собирался вступить в разговор.
— Я думаю, — сказал он, обращаясь к Тамарину и пустив предварительно несколько струек дыма, — я думаю, что если вы выступите в старом амплуа, то будете иметь успех... разве у очень молоденьких девочек.
— Вы мне не льстите, — отвечал с усмешкой Тамарин. — Впрочем, вы ошибаетесь, если думаете, что я принимаю какую-нибудь роль, а чужую тем более. Мне и своя надоела.
— Я говорю про амплуа, а не роль: этого не должно смешивать. Вот видите ли, все мы более или менее актеры, потому что жизнь, по моему мнению, бывает, смотря по обстоятельствам, интересная или пустая драма... иногда и водевилем разыгрывается. Это ужасно старый взгляд. Но вы меня заставляете развивать его. Бездарность хватается за разные роли: сегодня молча драпируется рыцарем, а завтра будет брать взятку, и сегодня и завтра все будет бездарностью. Вы талантливый актер; но и таланты иногда меняют амплуа и пробуют свои силы в другом роде. Я бы это мог, пожалуй, подкрепить примерами, да не читаю ни «Пантеона", ни «Репертуара".
— Хорош талант, которым интересуются молоденькие девочки! — сказал Тамарин. — Продолжайте, Федор Федорыч.
— Талант остается талантом, да вкусы меняются. Впрочем, я, может, и ошибаюсь; но обещаюсь обстоятельно решить вопрос перед вашим отъездом и даже, если хотите, подкреплю его теорией.
— О вкусах, — прибавил Островский. — Мой вкус, например, не мешать вина с водой, а есть люди, которые совсем другого мнения; но о вкусах не спорят, и я с ними не спорю и вам то же советую.
Тамарин усмехнулся своей невеселой, равнодушно насмешливой улыбкой, Федор Федорыч с наслаждением принялся курить сигару, как чело век, отдыхающий после тяжелого труда. Подали чай, и некоторое время только слышен был стук опускаемых стаканов, да дым сигар и папирос вился между молчаливыми собеседниками и длинными струями тянулся в ярко топившийся камин. Но Островский не мог сидеть долго молча и первый заговорил:
— Ты вовремя приехал, Тамарин. Варенька Имшина на днях переезжает сюда. Уж не списались ли вы?
— Ба! — сказал Тамарин таким тоном, который ровно ничего не говорил.
— Она уже здесь — вчера еще приехала, — сказал Федор Федорыч.
— Быть не может! Как же я не знал этого?
— Странно, а справедливо: мне Иванов сказывал.
— Ну, ему как не знать: он целое лето пробыл около деревни Имшиных.
Тамарин взглянул искоса на Островского, потом спросил, как будто нехотя:
— Кстати, каково живет она?
— Ну, об этом опять надо спросить у Иванова; а впрочем, хорошо: с полдюжины детей уж есть.
— Слухам должно верить вполовину, — заметил Федор Федорыч, — а для князя можно сделать исключение и убавить втрое.
— Все равно: коли нет, так могут быть. Где ж мне чужих детей помнить! сказал Островский.
— А Иванов — что это такое? — спросил Тамарин.
— Ничего, деловой человек... Разве ты не знаешь, что Ивановы во всяком городе водятся: ну, и здесь есть Иванов.
— Таких, как этот, однако ж, немного, — заметил Федор Федорыч.
— А что, он много побед делает? — спросил Тамарин с насмешкой.
— Лучше этого, — отвечал Федор Федорыч, — он их вовсе не ищет.
— Довольно неглупое средство, чтоб иметь успех.
Федор Федорыч ухмыльнулся довольно зло, но Тамарин не заметил этого. Его перебил Островский:
— Не догадывайся, пожалуйста, Тамарин, или твоя проницательность будет пользоваться одинаковой репутацией с моим кредитом. Иванов столько же похож на волокиту, как мы с тобой на скромников...
— А Варенька?
— Ну, это еще дело темное, а догадываться можно: ты знаешь лучше других, что значит прожить лето в соседстве...
— Ты, кажется, напрашиваешься, чтоб я тебе запел арию из Роберта: «Ты мой спаситель". Это старо, Островский. Но, чтобы не быть не благодарным, я тебя попотчую моим дорожным ромом, и пожалуйста, считай меня расквитавшимся.
— Принимаю условие охотно, охотно принимаю и даже нахожу, что ты сегодня немного великодушен: не растрясло ли тебя?
— У меня венская коляска, да у нас нынче и шоссе очень порядочно. Не Иванов ли им здесь занимается? Вы, кажется, говорили, Федор Федорыч, что он деловой?
— Очень, да по другой части. Он служит с мужем Марион.
— Ба! Муж Марион здесь! Что ж вы мне не сказали?! С женой?
— Да, и с женой. Только будьте покойны: вакансия его друга свободна.
— Я на нее не мечу, Федор Федорыч, а если бы и имел намерение, так меня Ивановы не остановят: я бывал на скачках с препятствиями.
— И надо отдать справедливость: хорошо скачешь, друг Тамарин! Ты мне напомнил доброе старое время нашей английской охоты. Но тут страшны не препятствия. Ты знаешь Марион? Чудная женщина!
— Больше этого: женщина-редкость, — сказал Федор Федорыч, — она еще никогда не любила.
— Да что ж мы о ней говорим Тамарину: он ее знает лучше нас, — перебил Островский.
— Ты едва ли не ошибаешься, — отвечал Тамарин, — вам покажется смешно, если я скажу, что мы с ней проходили курс дружбы. Это было очень ново и чрезвычайно забавляло меня.
— Да, — сказал Федор Федорыч, — в самом деле, это было занимательно, жаль только, что мало развито. Я думал проверить на опыте мое мнение, что дружба есть чувство переходное; но в это время вы заняты были курсом любви с Варенькой, и опыт остался неоконченным.
— А вы по-прежнему любите наблюдать чужие глупости? — спросил его Тамарин.
— Это лучшее средство не делать их самому, — отвечал он. — Признаюсь вам, в тот приезд вы меня много занимали, и не будь здесь Иванова, я бы в состоянии был, я думаю, сам начать жить, что очень скучно. Я очень рад, что вы приехали, — прибавил Федор Федорыч, лениво вставая и искренно пожав руку Тамарину.
— Куда же вы? — спросил Тамарин.
— Да в клуб пора. Я с вами заболтался. Боюсь, Николай Николаич рассердится: он не любит, когда поздно приезжаешь.
— Хотите, я вас завезу? — сказал Островский.
— Благодарствуйте: у меня есть извозчик.
— Ну так вы меня довезете, потому что у меня нет его.
— До свидания.
— До свидания.
И они уехали.
Когда Тамарин остался один, сильнее прежнего всколыхнулись и встали в его воображении и прошлые дни, и полузабытые образы. Но это воспоминание не освежало его, а, скорее, возбуждало какое то тревожное, беспокойное ощущение. Рассказы приятелей отчасти отдернули для него эту тонкую пелену забвения, сквозь которую все даже неприятное прошлое видится в каком-то успокоительном полусвете. Так, Варенька уже не виделась ему, как час назад, едва вышедшей замуж молоденькой и уже немного разочарованной дамой, сохранившей еще всю прелесть девических манер, — она не была уже его, когда-то любящей Варенькой: теперь ему виделась в ней просто молоденькая провинциальная барынька, жена Володи Имшина с каким-то поклонником Ивановым. Тамарин вообще любил детей, как Талейран, только тогда, когда они плачут, и то оттого, что их в это время обыкновенно уносят; не был он охотник и до соперников, а совместников всегда находил решительно лишними. И поэтому тяжелое чувство пробудило в нем воспоминание о Вареньке. Это была досада и язвительный укор оскорбленного самолюбия, которому напоминали его прошлое унижение; от одной этой мысли желчь его зашевелилась, резче обозначилась отвесная морщина на лбу, и он слегка побледнел. Но воспоминания, как цепь, в которой одно звено продето и выводит за собой другое, сменились, и грациозный образ Марион ярко и отрадно блеснул перед ним, усталые глаза его оживились; ему представилась заманчивость нежданной встречи, и, обрадованный проявившимся желанием, он отбросил в камин недокуренную папиросу, позвонил и спросил переодеться.
II
Мари Б***, которой мы оставим грациозное имя Марион, данное ей молодежью и напоминающее по созвучию целый ряд блистательных красавиц, в то время, когда ее застает наш рассказ, была одна. И над ее прелестной головкой прошли годы; но они в ней, как в Нинон, казалось, боялись разрушительно коснуться той прелести созданья, которую природа как будто творила с любовью артиста: Марион была хороша по-прежнему. Это не была строгая классическая красота, бросающаяся в глаза и возбуждающая удивление; при встрече она не поразила бы вас, но раз пристально взглянув, вам не хотелось бы отвести глаз от нее. Марион было лет двадцать шесть или семь; она была высока, стройна и как-то особенно легко сформирована. Темно-русые, почти черные волосы волнисто ложились на правильный овал лица. Черты этого лица и изгиб профиля были необыкновенно тонки и изящно отчетливы. Карие глаза, открытые и веселые, чудесно оживляли его. Но рот составлял ее лучшую прелесть. В складе и разрезе его губ была какая-то особенная доброта, а в общем такая грациозная и свободная подвижность, что, глядя на него, можно было, кажется, видеть, как вылетало из него каждое слово.
Маленькая комната, в которой сидела Марион, была комфортно и хорошо меблирована, хотя неизбежно носила печать провинции, где почти никогда не бывает полной гармонии, и с мебелью, выписанной из столицы, с артистическими вещицами современной роскоши красуется произведение домашнего столяра Антипа или подарок из вновь приезжающего двадцать лет кряду французского магазина Пентюхина.
Марион, как я сказал, была одна. Она сидела на этом кресле-диванчике, которое, кажется, называется помпадур, углубясь в мягкую выемку спинки и положив ноги на его триповую обивку. Перед ней на столе горела в пол-огня лампа под розовым колпаком, возле стояла недопитая чашка чаю, и развернутый роман лежал вверх корешком; закуренная папироса была брошена на серебряной пепельнице. По туалету и позе Марион можно было догадаться, что она откуда-то возвратилась утомленная и отдыхала. На ней было свободное и простенькое платье, легко перехваченное поясом, а сверху накинута какая то темная бархатная штучка в роде душегрейки; хорошенькая головка ее не была закинута, как у человека, мечтающего или наслаждающегося ленью, но легко наклонена, как у скучающего или усталого; плечи будто от холода немного сжаты; руки, сложенные одна в другую кистями, брошены, словно лишние, по стану.
В самом деле, Марион недавно воротилась с какого-то званого обеда. Но не обед этот утомил ее: она слишком свыклась и с бессонными ночами, и с танцами до упаду, и с невыносимыми раутами, чтобы уставать от них... Нет! Утомил ее внутренне однообразный и пустой ход жизни, устала она от этих немногих безмятежных годов, считаемых зимними веселостями, которые проносились над нею так легко, что не отметили своего следа ни одной морщинкой.
Если бы увидели Марион сегодня пышную и нарядную, как цветок ее букета, весело танцующую и блестящую на балу, если бы ее увидели завтра, ловко носящуюся в черной амазонке на кровном резвом коне, если бы ее увидели на рауте, свободно и игриво отвечающую направо и налево кружку лучшей молодежи, которая теснится и жужжит около нее, как черные, вечерние жуки на закате у зеленой опушки леса, — как насмешливо и злобно посмотрела бы на нее целая фаланга старых дев, молча вянущих в углу, и этих женщин, являющихся в торжественных костюмах на большие балы и сидящих на нем вдоль стен, в виде дурной лепной работы, весьма счастливых, если их поднимет какой-нибудь знакомый из своих, — с какой завистью и ожесточением закричали бы они: «Есть отчего утомиться и скучать этой Марион! Мы бы отдали половину нашей жизни, чтобы так же проскучать остальную"...
Да! Было отчего скучать и утомиться Марион! Потому что в ее прекрасное тело Бог вложил теплую и живую душу, не удовлетворяющуюся обыденной жизнью. Час за часом, день за днем, год за годом шли перед ней ровно, легко и пусто, как строй кордебалетных фигуранток. Не собиралась гроза над ее головой, не пробивал ее холодный дождь до костей, не шла она с замирающим сердцем по скользкой доске над пропастью: день ее был ясен, дорога ровна, а мелкая пыль порошила да порошила, тонким слоем все ложилась да ложилась на нее.
Марион была институтка. Она вышла из института живая и хорошенькая, весело и прямо взглянула на жизнь молодыми глазами и нашла, что надо сделать из нее роман. Ей предложили в спутники жизни Ивана Кузьмича: она согласилась безропотно, потому что ей очень хотелось быть дамой раньше всех подруг.
Но Иван Кузьмич по справке оказался очень добрым человеком, доставлял ей все зависящие от него удовольствия и решительно не походил на варвара: прямодушная Марион созналась в истине. Между тем толпа поклонников и утешителей разных сортов и манер явилась вокруг ее. Немного испуганная, хоть и очень довольная, Марион вооружилась всем мужеством добродетели и решилась обороняться до последней капли крови от этой страшной массы преследователей; но большая часть пламенных обожателей, увидев ее вооружение, весьма спокойно отошла без приступа, а тех, что были поназойливее и подошли ближе, она увидела в лицо и нашла, что игра не стоит свеч. Тогда Марион обратилась к мужу: она хотела окружить его спокойствием после утомительных работ, подругой-утешительницей явиться ему в черный день, любовью и женственной лаской облегчить ему трудный путь жизни. Но Иван Кузьмич, возвращаясь из совсем неутомительной должности, просил поскорее обедать и любил отдохнуть от забот часика два в кабинете, черным днем считал тот, в который проигрывал по маленькой в клубе, и находил, что путь жизни, с его кругленьким состоянием, вовсе не труден.
... Жизнь Марион была сложена из самых счастливых условий. Марион была молода и хороша, ум ее был остер и разнообразен, состояние порядочное, муж очень добрый человек. Хозяйством Марион заниматься было незачем, потому что она имела клад — домоуправительницу. Детьми Марион Бог не благословил; музыку она любила только слушать, но призвания к ней не чувствовала; читать... но не весь же день читать! Она и то читала иногда романы Сю, Дюма и Мери, но и те очень основательно ей надоели. Что ж было делать ей почти одной день-деньской с глазу на глаз со своим спокойствием, бесцельностью и досугом? И отдалась она обыденному ходу так называемой светской жизни, и видела она своим ясным умом каждую простую и выкрашенную нитку, из которой соткана была эта жизнь, на досуге тешилась иногда, насмешливо перебирая ее, — и все-таки жила ею. А дни шли за днями и выводили год за годом. И вот отчего сидела Марион утомленная и как будто усталая, и книга ее лежала недочитанная, и чашка стояла недопитая, и папироса была брошена недокуренная. Марион была уже не семнадцатилетняя институтка и не предавалась, как говорится, златым мечтам, потому что это значило только дразнить себя; но все же наедине с собою думается о чем-нибудь, даже и тогда, когда совершенно не о чем думать. И теперь перед полуусыпленным воображением Марион несвязно проходило много бесцветных знакомых ей лиц, много неясных картин прошлого отражалось так смутно и неопределенно, как дурно освещенный предмет на дагерротипной дощечке. Но один эпизод этого прошлого, когда луч памяти нечаянно упал на него, светлее и живее предстал перед нею, как иногда среди длинной и однообразной дороги на повороте какой-нибудь ландшафт вдруг нечаянно выглянет из-за угла леса и живописно и прихотливо раскинется перед глазами и надолго прикует их к себе всей прелестью неожиданного. Этот эпизод была встреча Марион с Тамариным. Она была коротка и мимоходна. Посреди бесцветных и однообразных лиц, наполнявших Н*ское светское общество, надо немного рельефности, чтобы быть замеченным. Как два путника, которых свела и развела дорога, они прошли мимо друг друга, но прошли, не раз оглянувшись назад и, может быть, тайно жалея, что им выпал не общий путь. И когда Марион вспомнила о Тамарине, ей живо нарисовался какой-то бал, пестрый круг танцующих, она в розовом платье с букетом белых камелий, а возле нее Тамарин, что-то ей тихо и оригинально говорящий, а впереди целая толпа безмолвно рисующихся нетанцующих мужчин, которая смотрит на нее, и ей так хорошо, и она, полная внутреннего самодовольствия, тихо обводит глазами весь пестрый круг; и вот в стороне одна пара представилась ей резко и ясно — и узнала она Вареньку, пристально смотрящую на нее задумчивыми темно голубыми глазами, а возле нее румяного и счастливого Володю, которого она не слушает... И тут бал исчез и целый ряд других мыслей бегло и тесно понесся перед нею...
В это время портьера у двери немного приподнялась и кто-то в черном едва слышно вошел по ковру.
Марион повернула голову, немного вгляделась и тихо вскрикнула:
— Тамарин!
Тамарин поцеловал добродушно протянутую ему ручку и сел в кресло, в изголовье кушетки.
— Согласитесь, что вы меня не ждали, — сказал он.
— Еще бы! Вы имеете талант исчезать и являться точно нарочно для эффекта. Знаете ли, что я сию минуту думала об вас!
— А я вам это доказываю. Я приехал не больше двух часов назад и тотчас же к вам.
— И я уж успела заметить в вас перемену: вы воротились, кажется, любезнее, а мало постарели, — сказала Марион, оглядывая Тамарина. — Откуда вы?
— Когда лет пять не посидишь на месте, так немного трудно отвечать на это. Жил в деревне, теперь из-за границы.
— Везде занимались своей особой?
— А воротился к вам...
— Не обморочите! Вы забыли, что мне двадцать... ну да сколько бы ни было, а уж не семнадцать лет.
— Тем лучше! Для вас не нужно становиться на ходули.
— И для Вареньки теперь тоже: она немногим моложе меня. Что ж вы не спрашиваете о ней или уж наведались?
— Я у ней не был, да и не скоро буду: ведь не давал я обет хранить к ней вечное постоянство; она меня мало занимает теперь.
— Не потому ли, может быть, что и она вами столько же занимается?
Тамарин немного сморщился.
— Нет, — отвечал он, — оттого что я не люблю повторять зады и найду кого-нибудь поинтереснее ее.
— Можно узнать кого?
— Вас, например.
Марион вместо ответа выдвинула вперед нижнюю губку и насмешливо усмехнулась.
— Вы, кажется, слишком самоуверенны. Смотрите, чтоб я в самом деле не влюбился в вас, — сказал Тамарин.
— Чем это, например?
— Уж конечно, не ухаживанием.
— Слава Богу! Я было уже приготовилась зевать.
— Есть другие средства нравиться. Если бы, например, я имел выгоду быть дурен, как Отелло, я бы рассказывал сказки: женщины ужасно любят делать героев. Если бы я имел несчастье быть хорошеньким мальчиком, я бы танцевал с вами польку abonnee, ездил верхом, а в промежутках живописно рисовался. Еще проще, стараться чаще встречаться, уметь занять и развлечь, быть разнообразным и угодливым, не выказывая претензии, — словом, приучить к себе, заставить привыкнуть. Эта дорога очень избитая, но удобная; это значит добиться любви.
Марион рассмеялась.
— Надо отдать вам справедливость — вы хорошо знаете предмет, — сказала она.
— Еще бы: это была моя специальность, — отвечал Тамарин. — А вы как кокетничали?
— Тамарин! Разве делают подобные вопросы женщинам.
— Вам его можно сделать, потому что вы действительно никого не любили.
— Почему вы знаете? А если и нет, так, вероятно, оттого, что никто этого не стоил.
— Ничуть не бывало! Это было бы уже чересчур нелестно для ваших поклонников. Да и женщины, расположенные любить, вовсе не так требовательны: им достаточно одной нравящейся черты, чтобы за ней не видеть остальных. Я знал премиленькую вдову, которая была влюблена в одного юношу и вышла за него замуж оттого только, что у него была вздернута верхняя губа и это придавало ему надменный вид, а малый был препустой. А вы просто не любили, оттого что составили себе какой-нибудь идеал несуществующего героя и в ожидании его скучаете.
— Знаете, Тамарин, вы стали очень раздражительны, — заметила Марион.
— Охота же вам нарочно сердить меня, когда я приезжаю к вам с самыми дружескими намерениями...
— Вскружить мне голову? Смотрите, не наскучьте.
— Я нетребователен.
— Будто?
— Доказательство, что уезжаю сейчас, а вы меня отметьте своим поклонником, да, пожалуйста, опасным.
— Куда же вы? — спросила Марион.
— В клуб, — сказал Тамарин, — я еще никем не занят, так боюсь долго оставаться с вами.
Он пожал ей руку довольно холодно и ушел.
Когда Марион осталась одна, ей уже было как-то не так скучно. Приход Тамарина развлек ее: хоть немного, а его прихотливая капризная натура интересовала ее. И притом ей был любопытен вопрос: станет ли Тамарин в число ее поклонников или изберет другую, и кто будет эта другая? И занятая этими мыслями Марион незаметно провела вечер. И теперь, если читатель в нынешней Марион не узнает Марион прежнюю, пусть вспомнит он, что годы светской жизни прошли по ее чистым грезам и не оживилась ни одна из них; пусть вспомнит он, что скука наложила на нее свою тяжкую руку. Пусть вспомнит он это, и тогда судит мою Марион...
III
В то же время, в другом углу города, другая женщина также одна собиралась коротать длинный осенний вечер, и много в городе N, пожалуй, набралось бы подобных женщин, но не до всех них нам дело.
В одной из внутренних комнат довольно большого деревянного дома, в той комнате, которая составляет переход от полуобитаемых залы и гостиной к спальне и детским и девичьим, на диване, за рабочим столиком, сидела молоденькая женщина. Она была среднего роста, и простенькое платье обхватывало довольно полный, но гибкий и мягко округленный стан. Ей было лет двадцать пять; русые волосы, гладко и не низко спущенные, обрамляли ее круглое, свежее лицо. Лицо это было лишено резких линий и только оттенялось темно-голубыми с поволокой под длинными ресницами глазами да ясно и отчетливо обрисованными бровями. Подобного рода лица обыкновенно называются хорошенькими, но простыми; действительно, в смысле ограниченном это было простое лицо: на нем не было печати ни сильной мысли, ни своевольной страсти. Но его мягкие и приятные очертания были согреты какой-то душевной теплотой, и оно как нельзя лучше именно своей невыразительностью выражало эту высокую простоту бесхитростного ясного ума и чистого сердца, которые без глубокого понимания, без мелочного анализа тотчас видят всякую вещь в ее естественном свете, отзовутся на всякое слово прямым отзывом. Вообще по наружности сейчас было видно, что наше новое действующее лицо был тип молоденькой барыни, выращенной и живущей в провинции, большей частью в деревне, среди безграничных гладких полей, под наметом какого-нибудь старинного запущенного сада, в большом деревянном с пристройками доме, на сдобном печенье, густых сливках, под надзором матери-природы. И теперь всмотритесь в нее хорошенько: узнаете вы нашу старую знакомую, нашу миленькую Вареньку!
Да, это была Варенька! Теперь, по всем бы приличиям, следовало ее называть Варварой Александровной; но я прошу вашего позволения, читатель, оставить ей ее первое имя: оно к ней как-то больше идет, и — признаться ли в слабости? — я люблю его: его первое начертило мое еще только очиненное тогда перо и свыклось с ним; оно приятно, чем-то родным звучит моему слуху... Итак, с вашего позволения, я буду называть ее Варенькой; а она не рассердится: мы с ней старые знакомые...
Если бы мы вошли в ее комнату часа полтора назад, мы бы нашли молодую хозяйку за самоваром. Владимир Иваныч, по-прежнему довольный судьбой и собой, довольно пополневший, но мало изменившийся и с еще очень недурной наружностью (впрочем, смотря по вкусу), — Владимир Иваныч представился бы нам в халате на беличьем меху, с трубкой в зубах, в низких креслах, только что вставший от послеобеденного сна и сидящий за тем же столом перед большим стаканом чаю. Сбоку мы бы увидели двоих детей, под надзором няньки, сидящих, с беленькими нагрудниками, на высоких стульях.
Немного погодя картина переменялась. Стол, со всеми многочисленными принадлежностями чая, убирался к стене. Владимир Иваныч, удаляясь на некоторое время в кабинет, возвращался оттуда облаченный в широкое пальто, нежно спрашивал жену: «Ты, Варечка, что будешь делать?" — и, не дожидаясь ответа, целовал ее на счастье и отправлялся в клуб. Затем приводили детей: Варенька крестила их, укладывала спать и возвращалась в свою любимую комнату. Тут, за рабочим столом, перед двумя свечами, застает ее наш рассказ.
Когда в долгий осенний или зимний вечер, за пяльцами или с шитьем в руках, едва занятые механизмом работы, вы, молодые барыни, не закружившиеся в светских выездах, сидите одни, молча беседуя со своей думой, когда послушная иголка блестит и звонко вытягивает длинную нитку в вашей проворной руке или крючком быстро хватает от пальца к пальцу едва видные шелковые петли, скажите, пожалуйста, о чем думаете вы? Не все ж у вас на уме мелкий расход да домашнее хозяйство, не все же думаете вы о детских болезнях, о последнем вечере и будущем бале, о том, что говорила одна ваша знакомая, и что сделала другая. Ведь проходит, я думаю, иногда перед вами ваша простая жизнь, вся чудно составленная из неуловимых, непонятных нам движений сердца, беспрерывных душевных волнений и каких-то маленьких, но недосягаемых для нас мыслей... Так скажите ж, пожалуйста, о чем думаете вы? Но барыни имеют похвальную привычку не говорить никогда, о чем они думают, если только они не думают в ту минуту о совершеннейших пустяках; а у нас уже принято за аксиому, что женское сердце — неразрешимая загадка; поэтому я не берусь решить, о чем думала Варенька, сидя одна с шитьем в руках за рабочим столиком. И долго она сидела так, и несколько раз переменяла она длинные нитки, вдевая их в едва видные ушки, и пока глаза ее были пристально устремлены на беглую руку, вооруженную иглой и серебряным наперстком, вольная дума ее где-то немало носилась и гуляла. Иногда Варенька задумывалась, останавливалась шить и рассеянно водила кончиком иглы по стеариновой свече, потом как будто прислушивалась и опять принималась шить, и опять среди мертвой тишины только слышались ширканья нитки о полотно. Но видно, в этот день судьба не судила моим барыням коротать одиноко длинный вечер. Было уже часов около десяти, когда стукнула дверь в прихожей Имшиных, кто-то вошел, и вскоре послышалась из залы мужская походка.
Варенька воткнула иголку в шитье и повернула голову к двери, кажется, угадывая наперед, кто должен войти. В самом деле, почти в это же время вошел какой-то статский господин, по складу, должно быть, еще молодой, но лет довольно неопределенных, потому что был он несколько старообразен. Покрой его платья ясно обличал хорошего столичного портного, но во всем туалете, несмотря на его простоту, проглядывала какая-то небрежность: видно было, что о нем мало думали. Молодой человек был среднего роста, худощав, но крепко сложен и не то чтобы темно-рус, не то чтобы белокур; густые и короткие волосы, немного курчавые, закидывались назад и не скрывали сильно развитых выпуклостей головы. Черты его лица были неправильны и, положительно, некрасивы, но не отталкивающи и выразительны, манеры благородны, но без всякой утонченности, просты и естественны. Словом, это был человек, на первый взгляд не подкупающий наперед себе мнения, человек, про наружность которого обыкновенно говорят: он нехорош собой, но у него умное лицо.
Вошедший молодой человек был Иванов.
Увидев его, Варенька не переменила положения, улыбнулась и протянула ему руку.
— Скажите, пожалуйста, что с вами? Где вы пропадали?
— Мне давно к вам хотелось, да нельзя было: дело попалось серьезное, сказал Иванов, пожав руку Вареньки и садясь против нее.
— Вы вечно с делами! Скажите, что, они вас очень занимают? Вы находите в них наслаждение?
Иванов рассмеялся.
— Ну, наслаждения-то, по правде сказать, мало, — заметил он, — однако есть и такие дела, в которых действительно принимаешь искреннее участие, потому что ими задет живой вопрос или они вопиют о справедливости; а бывают и другие: не все на свете высокая драма. Да вы, я замечаю, хотите сегодня говорить со мной как с деловым человеком?
— Нет, я хотела вам сказать, что соскучилась о вас: я так привыкла в деревне почти каждый день видеть вас.
— Не всегда же бывает работа; зато я теперь отделался и принадлежу весь себе.
— И намерены много выезжать?.. Постойте! Пили вы чай?
— Нет еще. Да я в клубе напьюсь; к чему ваших людей беспокоить!
— Полноте! Они очень рады лишний раз чаю напиться...
Варенька позвонила и велела подать самовар.
— Да! Так вы будете теперь выезжать?
— Надо бы, да, признаться, лень; к тому же нет ничего скучнее первых знакомств, покуда не спознаешься с людьми, и я, право, не вижу, зачем ездить куда не хочется.
— Что же, все сидеть с делами, с книгами да с приятелями? Неужто у вас нет других потребностей?
— Как не быть! Оттого-то двух дней не пройдет, чтобы я у вас не побывал.
— Ну, я совсем другое.
— А больше мне ничего и не надобно. Когда у меня голова устанет, я иду к вам, и на душе становится как-то легче.
— Мне бы хотелось, чтобы вам кто-нибудь вскружил голову.
— Избави Боже! Да для чего же? Я не знаю хуже положения влюбленного.
— Ну, это только со стороны так кажется, а вам бы не мешало на себе испробовать. Если б я вас не знала лучше, я бы подумала, что вы сухой человек; а то вы мне странны. Вы развиты до того, что сочувствуете всему. Вы и женщине сочувствуете и глубоко и прекрасно понимаете ее; да вы смотрите на нее как-то издали, как знаток, как задушевный любитель на картину, вы ее разбираете и любуетесь, а не чувствуете той простой вещи, что в ней, как в живом существе, надо принимать участие живое?
В это время подали самовар, Варенька встала, немного зарумяненная разговором, вся милая и природной миловидностью и беспритязательной простотой и естественностью, и занялась исключительно кипятком, который зажурчал в чайник и задымился над ним горячим паром.
Иванов сидел против нее. Он весело смотрел на эту добрую хозяйку и любовался ею. Даже одно время на его лице отразилось такое теплое и живое чувство, которое заставляло предполагать, что он может любоваться женщиной едва ли не по правилам Вареньки; но вскоре рука его, вероятно, почуяв приближение чая, произвольно отправилась в левый карман, вынула оттуда сигарочницу, и Иванов занялся ею.
Закурив сигару, он отвечал:
— Вы прекрасно судите о женщинах; да чтобы всех их оценивать по-вашему, право, жизни недостанет. Положим, сделаешь исключение для одной, а на других уж поневоле придется посматривать простым любителем.
— Да кто ж вам говорит обо всех! Выберите одну, и она будет представительницей других: на ней и выкажется ваш взгляд на женщину вообще. А дело в том, что вы ни для кого исключения не делаете. Для этого-то я и хочу, чтобы вам хоть одна вскружила голову... Вам сливок или лимону?..
— У нас и кроме сердца есть еще кое-что; а исключительная любовь иногда так его защемит, что про остальное-то и не подумаешь. Когда я был помоложе и кровь бойчее текла в жилах, и я еще не знал, какая внутренняя потребность беспрерывно шевелится во мне и не дает покою, я искал столкновения с женщинами и влюблялся, и разочаровывался, и снова влюблялся, и от всего этого оставалась только какая то тяжелая накипь в сердце да усталость. Теперь, когда для меня цель и даль жизни стали пояснее, я знаю, какую часть в ней должно занимать сердце; от этого я и не бегаю от любви, да и за ней не бегаю; коли хочет, пусть сама придет, и если бы можно, так посмирнее да поспокойнее.
Иванов стряхнул пепел с сигары и принялся за чай.
Варенька во время его речи смотрела на него с беспокойным участием. Она была достаточно охлаждена опытом, чтобы не увлекаться резко высказанным мнением или ловко надетой маской. Она видела, что перед ней сидит не актер, говорящий свою речь, а человек, просто объясняющий свой взгляд и убеждения; именно поэтому она и приняла в нем участие.
— Послушайте! — сказала Варенька. — Вы впадаете в другую крайность — в деятельность практическую, которая также не удовлетворяет вас.
— Что же делать! Ведь надобно же быть чем-нибудь! Не могу же я сидеть сложа руки, когда всякий встречный на улице имеет право спросить меня, что ты здесь делаешь, когда этот вопрос, наконец, беспрестанно стоит передо мной, когда я должен каждую минуту отвечать на него и себе и другим. А если моя деятельность не удовлетворяет меня, так это другой вопрос; да и когда ж, наконец, человек удовлетворяется? Зато есть и хорошие минуты, которых бы, может, и не оцепил без того. Разве, например, не хорошая минута посидеть вечер с вами да поговорить о маленьких вещах, которых всегда так много на душе, провести вечер, как теперь, например, или как мы проводили у вас в деревне: чай на террасе, перед глазами старый сад, деревья неподрезанные, дорожки, по которым, как в лесу, заблудиться можно, вечер тихий, румяный, и в этой тишине откровенный, задушевный разговор, а еще лучше — помолчать вдвоем да послушать эту тишину, в которой изредка прогудит дальний стук телеги да ветер донесет какую-нибудь заунывную песню... Славно, славно... — тихо прибавил замечтавшийся и задумавшийся Иванов.
Варенька не прерывала его: она, кажется, сама немного замечталась; но это не была грустная мечтательность, — напротив, к ней будто прибавлялись какая-то веселость и приятная мысль. Варенька смотрела на Иванова немного рассеянно, а между тем сдержанная лукавая и довольная женственная улыбка обличала эту тайную мысль и так хорошо оживляла собой се ясное и спокойно-милое лицо.
Иванов, однако ж, замечтался ненадолго. Он потер руку об руку, как это делает иногда нецеремонный человек, когда у него что-нибудь шибко зашевелится на душе, и прибавил в виде заключения:
— Какая досада, что у нас теперь зима! — И потом попросил себе чаю.
И затем пошла у них простая, мирная и задушевная беседа. Варенька не делала больше пытающих вопросов и, казалось, была довольна их выводом. Иванов как будто избегал этих грустно-тяжелых и всегда почти безвыходных мыслей, перед которыми часто останавливается смущенный ум. Эта беседа для ума холодного, для слушателя безучастного показалась бы, может быть, скучна и незначаща: не надо было слушать сердцем, понимать чутко настроенным чувством; она походила на говор, сопровождающий конец дня, когда солнце уже сядет, на западе еще не потухли розовые облака, а уже с другой стороны встал месяц и облил белым светом широкий круг на небе и широкую полосу по земле, и вся природа перед сном спешит договорить свои предсонные, вечерние звуки. Слышен в этих звуках только какой-то неясный говор; ни один из них отрывчато не поразит вашего слуха, но все они составляют одну чудную гармонию, навевают на душу тишину несказанную, и какая-то отрадная и освежительная мысль стелется тогда по душе, как прохладный туман по полю...
И долго шла у них эта беседа. Часы уже пробили полночь, когда Иванов вспомнил, что почта, вероятно, уже получена, взял фуражку, пожал руку Вареньке и отправился в клуб читать газеты. Варенька не удерживала его, но по уходе его, взяв со стола свечу и проходя мимо часов, подумала, что хорошо бы придумать такие симпатические часы, которые бы очень громко били при одних гостях и молчали при других; потом она вошла в смежную комнату, но вдруг на самом пороге, как будто прикованная, остановилась. Бывают иногда такие неожиданные и так нечаянно поражающие мысли, что на мгновение, как молния, рассыпавшаяся перед глазами, ослепляют и парализируют все способности. Но это длится недолго: рассудок берет мысль в свое ведение и начинает судить ее. Варенька вошла в спальню и, едва слышно вздохнув, притворила за собой дверь.
IV
Иванов отправился пешком от Имшиных. Белый снег лежал густым и мягким слоем по земле и крышам. Местами выказывалась из-под него замерзшая кочка или черная колея прорезывала его. Большая часть домов была уже темна, и ночь для них наступила со всеми правами; но на повороте за угол большой каменный двухэтажный дом весь светился огнями. У подъезда его стояло несколько экипажей; кучера, постукивая рукавицами, толкали друг друга для препровождения времени, иные дремали на пролетках, иные, как лазарони под портиками Венеции, спали на каменных ступенях крыльца. Иванов пробрался между ними, причем они на него, как на пешехода, посмотрели несколько презрительно, оставил шинель, шляпу и калоши в швейцарской и, узнав, что принесена почта, торопливо вбежал по широкой лестнице. Несколько комнат, которые пришлось проходить Иванову, были заставлены столами, и правильные группы играющих сидели за ними между четырех свеч. В первой комнате была игра, так называемая детская, по маленькой, в следующей — серьезнее; но шуму и возгласов было в обеих одинаково достаточно. При входе Иванова некоторые из играющих ему поклонились, другие не приметили, третьи, не отворачивая головы от карт, только искоса посматривали на него. Из одного угла раздался голос: «Дмитрий Семеныч! Дмитрий Семеныч!" Иванов оглянулся и увидел одного малознакомого ему господина, свирепой наружности, с седыми всклокоченными волосами, который звал его. Иванов подошел.
— Полюбуйтесь-ка, полюбуйтесь, — сказал ему свирепый господин, трагическим голосом.
— Проиграли? — спросил Иванов, сколько мог жалобнее.
— Чего тут спрашивать! Разве вы не видите! — сердито сказал господин, показывая на запись с минусами. — Вот они! Все с дышлом! С разбегу девять роберов! Это только со мной случается! — пробормотал сердитый господин, отворачиваясь от Иванова, которого, кажется, нашел мало ему сочувствующим, и отыскивая, кому бы еще рассказать о своем несчастье.
Тут же недалеко сидел Федор Федорыч и вынимал из портмоне деньги.
— И вы проиграли? — спросил Иванов, дотронувшись до его плеча.
— Немного! — отвечал Федор Федорыч, лениво протягивая ему руку.
— Да нешто ему, — заметил его партнер мягким голосом, аккуратно укладывая депозитки в кусок бумаги, заменявшей ему бумажник. — Ему бы воротнички побольше выпустить да вот и идти в ту комнату за детский стол. Ну, как вам теперь было не ходить с валета в мой инвит! Дама под сюркупом, коли ею промирят, и я импас сделаю.
— Не сделали бы, — заметил утвердительно Федор Федорыч.
— Как не сделал бы! Слышите! Когда у меня туз бубен бланк, приемный лист; пики гарде, фосски снесены и трефы франки: вся игра ассюрирована! Эх, Федор Федорыч! — заключил он, ласково погрозив ему, затем посмотрел карту ужина и спросил себе омлет а ла рюс с финизертом и каракеты с амуретами под ламбертовым соусом.
А Федор Федорыч взял Иванова под руку и отправился с ним в библиотеку.
Пока Иванов просматривал новые журналы и газеты, человека три-четыре молодежи, его близких знакомых, присоединились к нему. Потом, чтобы не мешать другим, они вышли в соседнюю комнату, Федор Федорыч поспешил придвинуть покойное кресло и усесться у камина. Иванов и его приятели расположились около, некоторые спросили чаю, закурили сигары, и вскоре в этом углу образовалась живая и интересная группа. Численно она была невелика, но тем не менее замечательна. Ее составляли несколько молодых людей, получивших основательное образование. Наградила ли их мать-природа ясным взглядом на вещи, или просто обставила их развитие счастливыми условиями, только не разменяли они Богом данный талант на мелкую монету, не потратили его на покупку маленьких успехов, а старательно искали честной и полезной деятельности и предавались ей со всей горячностью и энергией молодости. Очень естественно, что, движимые одной общей целью добра, они, сойдясь вместе, тотчас поняли и отличили друг друга и, как камни в калейдоскопе, сдвинулись в одну гармоническую группу. Ее-то оставляет наш рассказ в то время, когда она беспорядочно расположилась вокруг камина и в ней закипал разговор живой и разнообразный, и все, что близко касалось жизни, — все, что было еще тепло современным интересом, нашло отголосок в этом разговоре.
В другом углу комнаты была другая картина. За ярко освещенным столом, с бокалами и стаканами, сидели несколько человек, между которыми мы узнаем Тамарина и Островского: перед ними стоял значительный ряд бутылок, и громкий разговор шел шумно, пестрел остротами и анекдотами и перебивался иногда до того, что нельзя было разобрать, кто кому говорит.
Тамарин довольно поздно приехал от Марион в клуб поужинать. Его встретило несколько протяжных "а! вот и он!" тех из его прежних знакомых, которые знали уже о его приезде. Непредупрежденные все закричали: «Ба, ба, ба! откудова!" — и вслед затем ему отверзлось несколько объятий и протянулось много рук, из которых некоторые, в знак искренней радости, так пожали его небольшую худощавую руку, что он не закричал от боли только потому, что посовестился. Островский, кончавший уже партию в карты, по праву старой дружбы взял Тамарина в свое исключительное распоряжение и повел в залу.
— Откуда это во фраке? — спросил он, прохаживаясь с ним.
— От нее! — отвечал Тамарин.
— Да кто ж тебя знает, кто нынче у тебя она! Марион, что ли?
— От тебя решительно ничто не укрывается.
— Ну и делишки идут хорошо?
— Я не в тебя. Да и что ж ты хочешь? Марион ведь не шестнадцати лет! А ты слышал, у кого посоветовал мне Федор Федорыч искать успеха?
— Что Федор Федорыч!... Федор Федорыч нынче завирается, сдружился с какой-то молодежью, которая ни в дудочку, ни поплясать: совсем портиться начал.
— Кстати о молодежи: кто у вас здесь?
— О, есть славные ребята! Вот они все в столовой: видишь, вон этот, например, что руками размахивает, двадцать три года, а один усидит бутылку рому и как ни в чем не бывало! Замечательная личность! Пойдем ужинать: я тебя познакомлю с ними.
Но Тамарин отговорился теснотой и спросил себе ужинать в каминную. Островский тоже.
Мало-помалу господа, любившие Островского, начали присоединяться к ним, и вскоре образовался там кружок, в котором мы и Иванов нашли Тамарина.
Кружок этот составляли молодые, даже большей частью очень молодые люди, которые равно столько же были современны XIX столетию, сколько были бы и XVII, и, пожалуй, XXI: тип их мало изменяется веками.
Во время оно пальма первенства в таком кружке доставалась храбрейшему на дуэлях, ночных похождениях и всякого рода опасных стычках. Позднее между этой молодежью начал господствовать некто кутеж. Вино признано самым опасным соперником, и какая-нибудь замечательная личность, безнаказанно одолевающая бутылку рому, пользуется уважением. Про него рассказываются анекдоты, он смотрит с презрением на какого-нибудь господина, у которого язык пришепетывает от нескольких стаканов шампанского. И много свежих сил и энергии и хороших побуждений сорит эта молодежь вместе с деньгами только потому, что не приготовлена потратить их на что-либо лучшее!
Тамарин, попавшись в подобный кружок, был не очень доволен. Правда, что на него в нем смотрели с уважением, — перед ним смирились все замечательные личности, усиживающие более или менее бутылок, и если еще изрядно пили, то это только по привычке; но их уважение не слишком ему льстило. Все же он, также по-пустому тративший свои силы, носил сознание их; все же он был внутренне развит, хоть и ложно; все же он был выше их.
Тамарин довольно рассеянно слушал окружающих, довольно холодно отвечал на вопросы и спешил кончить ужин. Но когда вошла новая партия молодежи, в которой был Иванов, когда он вслушался в их разговоры, то почувствовал свое положение еще более неловким. Есть что-то особенное в этой серьезной, честной и благонамеренной молодежи, которая, слава Богу, в настоящее время составляет некоторую массу, а не исключение. Тамарин, долго живя в деревне и за границей, в первый раз сошелся с нею. Он ее смутно, но инстинктивно понял. Она невольно обратила на себя его обыкновенно равнодушное внимание, и какое-то беспокойное чувство пробудилось в нем. Может быть, отличив в ней лучшую часть молодежи, ему было досадно показаться ей в не совсем избранном кружке, к которому никогда не принадлежал и в который попал случайно, а может быть, представитель своего времени, он отгадал в ней ядро нового поколения, — поколения, которое идет совсем иной дорогой и со временем с обидным сожалением отзовется о них, в свое время так желчно и беспощадно смеявшихся над другими. Как бы то ни было, но встреча с Ивановым и его приятелями, особенно в настоящую минуту, произвела на Тамарина неприятное впечатление; оно усилилось еще более от столкновения противоположностей, для него невыгодных. Между тем как с одной стороны до него долетали живые и бойкие речи, дельные и оригинальные замечания, вокруг себя он слышал старые анекдоты и плоские или избитые остроты. Тамарин пытался было уйти, но десятки рук его удерживали и все хором убеждали остаться. Наконец прозвонил первый звонок, и монотонный голос прокричал: «Второго половина!"
— Господа! — сказал тогда Тамарин, вставая. — Нет общества, которого не покидают...
И вся компания поднялась с шумом. Тамарин готов уже был выйти из комнаты, как в самых дверях его встретили две растопыренные руки, остановили и крепко обняли. Это был Володя Имшин.
— Сергей Петрович! Какими судьбами! Как рад вас видеть! — говорил раздобревший Володя уже не нерешительным тоном слабого соперника, а с самоуверенностью человека, сознавшего собственное достоинство. — А я заигрался в той комнате и не знал, что вы здесь... Очень, очень рад.
Тамарин, увидев его самодовольную наружность, невольно улыбнулся, пожав ему руку, ответил что-то и искал случая расстаться. В это время проходил Иванов. Имшин и его поймал.
— А, Дмитрий Семеныч, и вы здесь! Сергей Петрович! Вы незнакомы? Mr. Иванов — mr. Тамарин.
Тамарин готов был сказать дерзость Имшину за это непрошеное знакомство. Он слегка прикусил губу, как делал это во время сильной досады, и сухо поклонился Иванову. Иванов, в свою очередь, ответил ему довольно холодно, и они поспешили разойтись.
V
Какому-то затейливому человеку раз пришло в голову, что если люди приезжают в гости для того, чтобы танцевать или играть в карты до бела утра и, разъезжаясь, говорят иногда, что им было очень весело, то недурно бы было созвать этих людей просто затем, чтобы им доставить удовольствие видеться с хозяевами или своими знакомыми, дать случай говорить не урывками во время кадрили, а сколько кому и с кем пожелается, делать не то, что заставляют, а что кому вздумается. Затейливый человек полагал, что всем будет страшно весело, и сделал раут. Не знаю, что думали, разъезжаясь, его гости, но мое личное мнение, что рауты не самая веселая вещь на свете.
В некоторых солидных домах столицы они еще имеют свое значение: на них собираются знаменитости всех родов — знаменитости служебные, знаменитости артистические; гостиная принимает тогда вид живого собрания редкостей, делается чем-то вроде музеума, и чем она полнее, тем слава ее громче, тем хозяин довольнее. Посмотрим теперь раут провинциальный. В городе N жила почтенная дама, которой фамилии я придумывать не стану, потому что она мало интересует и вас, и меня. Почтенная дама была уже в летах, как и следует почтенной даме, имела состояние, осталась вдовой человека, пользовавшегося в свое время весом в губернии, и, к несчастью, не играла в карты, иначе она бы делала очень милые карточные вечера, на которых всякому выигравшему было бы довольно весело. Почтенная дама была немного сплетница и мало кем любима, у почтенной дамы была вечно скука непроходимая; но все находили, что она почтенная дама, и ездить к ней считали необходимостью. Вследствие этого она назначила день, и у ней образовались хронические рауты.
В иные дни у почтенной дамы собиралось очень мало, разве только самые праздношатающиеся и самые искательные; первые ездили оттого, что некуда было деваться, а вторые хоть и были вполне убеждены, что они тут равно ничего не сыщут, но ездили на всякий случай, думая про себя: «Не ровен час, может, и понадобится". Но иногда совесть или сама почтенная дама упрекала и других жителей города N, и тогда они, чтобы не скучать поодиночке, сговаривались между собой и гурьбой являлись в назначенный день. В один из этих дней и мы отправимся к почтенной даме.
Был час одиннадцатый вечера, и, несмотря на манию многих съезжаться поздно, гостиная почтенной дамы начала уже наполняться, потому, может быть, что все знали привычку хозяйки пораньше ложиться спать. Через час съехалось почти все, что имело намерение съехаться, и небольшая комната наполнилась, как чаша под рукой тороватого кравчего.
Влево от двери, у середины внутренней стены, стоял, как водится, классический диван и перед ним, в виде баррикады, овальный стол; в обе стороны от него широким полукругом стояли кресла. В начале вечера дамы были сами по себе, мужчины сами по себе. Дамы занимали диван и кресла около него, причем как-то очень искусно между ними устроилось некоторого рода местничество, и более других почтенные дамы сидели на диване с самой почтенной дамой. Мужчины стояли в противоположной стороне, близ окон. Иногда какой-нибудь не очень развязный господин, подходящий к хозяйке дома, чтобы засвидетельствовать ей свое нижайшее почтение, отдав поклон и осведомившись о ее здоровье, весьма затруднялся отступательным движением и ретировался с замешательством Наполеона в 1812 году. Зато иные бойкие юноши, понимая, впрочем, всю тяжесть обязанности дамского кавалера, смело входили в заповедное полукружие и обращались к которой-нибудь из дам с вопросом, решительно не стоящим того, чтобы для него сдвинуться с места. Но, поставленные в необходимость, весьма выгодно рисуясь белым жилетом перед одной избранной, показывать спинку своего фрака противоположной стороне, они тоже недолго выдерживали невыгодное положение, но при отступлении выказывали большее знание светской тактики.
Вообще разговор не клеился. Дамы, сидящие на диване, говорили довольно громко; дамы, сидящие в креслах, говорили вполголоса с одной из своих соседок, причем, чтобы показать свободу манер, поправляли ей воротничок или играли кончиком длинной ленты ее пояса. Мужчины, стоящие у противоположной стены, тоже довольно затруднялись своим положением и говорили друг с другом, поворачиваясь только головою. Некоторые, приняв озабоченный вид или даже, для большей натуральности, потерев рукою по лбу, поспешно подходили к своему приятелю и, взяв его под руку, уводили в залу, как будто для серьезного разговора.
— Что тебе нужно? — спрашивал приятель.
— Да что, братец! Скука ужасная, не знаешь, что делать, — отвечал тот.
И как приятель его совершенно с ним соглашался, то оба они, сохраняя все-таки озабоченный вид, продолжали ходить по зале, молча или говоря о пустяках, но при этом, когда видели, что могли быть замечены хозяйкой, делали руками весьма одушевленные жесты.
Наконец, когда общая скука и связанность достигли полного развитая, хозяйка дома, как будто дожидавшаяся нарочно этой минуты, решилась разнообразить вечер и, обратившись к одной весьма зрелой девице, сказала ей мягким голосом:
— Не споете ли вы нам, ma chere, что-нибудь? — Потом адресовалась к ее матери, сидевшей на диване, и прибавила: — Какой у вашей Sophie приятный голос! Я ее всегда слушаю с наслаждением.
В ответ на это мать как-то понагнулась и скромно поправилась на диване, а дочь, знавшая, что дело без ее пения не обойдется, и давно только ожидавшая приглашения, сделала кисло-сладкую улыбку и отправилась к фортепьяно. У зрелой девицы был очень маленький голос и большие глаза; поэтому фиоритуры и высокие ноты она преимущественно выделывала последними. Хотя ни тот, ни другие давно уже не производили эффекта, хотя и голос и фортепьяно много потерпели от времени, но нравственное влияние пения было огромно. Все затруднявшиеся доселе своей особой и не знавшие, что из нее сделать, нашли себе занятие. Некоторые из мужчин спешили принять позы, другие садились, соблюдая строжайшую тишину; глаза всего общества обратились на певицу с выражением такого внимания и участия, как будто покойница Малибран пела перед избранными меломанами, и все слушали, казалось, с таким наслаждением, с каким первый любовник театра выслушивает признание своей возлюбленной. Ария кончилась, и все поспешно бросились благодарить зрелую деву, вероятно, боясь, чтобы она не запела еще что-нибудь. Действительно, чара была уже совершена, и дальнейшее пение было решительно не нужно. Большая часть дам, пользуясь предлогом, встали со своих мест, оправив при этом, как водится, платье; некоторые, ссылаясь на духоту, взявшись под руки но две и но три, пошли ходить по зале, другие вышли в соседнюю, маленькую гостиную. Мужчины разделились между ними, и с этой минуты каждый имел право привольнее скучать с кем-нибудь, что все-таки веселее, чем скучать в одиночестве; а один скромный юноша даже нашел в это время, что вечер очень одушевился.
И вот так называемый провинциальный раут. Если я говорю "раут", то это потому, что жителям города N очень нравилось давать это название скучным вечерам: оно как будто возвышало в собственных глазах их значение. Вследствие этого некоторые простосердечные люди понимали это слово совсем в другом значении, так что одни приезжий из уезда господин, возвратясь с бала, на вопрос жены: «Весело ли было?" — отвечал, зевая: «Нет, матушка, ужасный был раут!"
Но если я привел вас, читатель, на вечер почтенной дамы, то, конечно, не с тем, чтоб показать вам его скуку.
Между настоящим вечером и предыдущими сценами прошло несколько недель. В этом промежутке времени с нашими героями не произошло ничего примечательного. Иванов по-прежнему бывал у Вареньки; по-прежнему тихи, добродушны, теплы были их задушевные беседы. Тамарин часто начал посещать Марион; его общество много развлекало ее и ей нравилось.
Но он не ухаживал за ней, потому что их отношения были слишком открыты, слишком холодны. Скорее это было немое условие разнообразить взаимную скуку, придать себе в собственных глазах какое-нибудь значение, хлопотать ни о чем для того только, чтобы считать себя чем-нибудь занятым.
Между тем добрые жители города N, не прибегая к изобретению особых, подтверждающих фактов, по какому-то единодушному сочувствию связывали в своих понятиях и разговорах эти две пары каждую между собою. Где была речь о Вареньке, там делали намек на Иванова; если говорили, что там-то будет Марион, то добавляли, что, вероятно, приедет и Тамарин. Итак, несмотря на наше молчание, взятая нами повесть развивалась сама собою. Так незаметно ходят по небу разрозненные облака, пока, сойдясь, не сольются в одну тучу, не загремят громом и не блеснут перед глазами яркой молнией. Варенька в известный нам вечер была у почтенной дамы. Был тут и Иванов, которому почтенная дама давно уже и неоднократно выговаривала, что он не хочет навестить ее; но мы позволяем себе думать, заодно с жителями города N, что не одни эти выговоры заставили его приехать в этот раз.
Довольно поздно приехала Марион, как всегда прелестная и как всегда очень мило одетая. Вскоре после нее явился и Тамарин, что дало случай одной даме сказать другой что-то на ухо.
Вечер шел своим чередом, и много, может быть, маленьких сцен, маленьких драм, решительно невидимых равнодушному зрителю, разыгралось на нем, но мы исключительно займемся нашими действующими лицами.
В начале вечера, когда еще общая скука и какая-то неподвижность, казалось, осязательно тяготели над обществом, Марион сидела в углу близ дивана, а Варенька наискось от нее. Тамарин и Иванов имели ловкость пристроиться позади своих дам и не разделять неудобного положения большей части присутствующих мужчин. Теперь, когда эти две пары были помещены одна против другой, резче бросалась в глаза разница между ними. Как я ни люблю мою первую героиню, но должен сознаться, что она в некоторых отношениях теряла от сравнения с Марион. Не говоря уже, что Варенька уступала ей наружностью, не было в ней этой изящной грациозности манер Марион, не было прихотливого, но всегда чудесного вкуса ее в туалете. Зато в Вареньке была какая-то милая простота обращения, что-то доброе и влекущее к ней, что-то симпатизирующее всему хорошему, как будто ее прекрасная душа была наруже и украшала ее невидимой прелестью.
Между их кавалерами была своего рода яркая противоположность.
Тамарин во всякой гостиной был как у себя. Он был бы заметен не только в скромном собрании у почтенной дамы, но и в лучшем салоне столицы. Его холодный, несколько резкий и самоуверенный тон, его выдержанность в свете, который он знал не понаслышке, а видел насквозь, со всеми закулисными машинами и красиво намалеванными декорациями, — все в нем, начиная со всегда безукоризненного и отнюдь не рабски модного туалета до спокойно бледного и послушного лица, клало на него какую-то отличительную печать, с первого же взгляда отделяющую его от массы. Он не играл ныне уже довольно избитую роль льва, но львы первой руки не затемнили бы его.
Не таков был Иванов. Он был в свете ни робок, ни неловок, ни излишне развязен. Как человек, получивший прекрасное образование, выросший и державшийся постоянно в порядочном кругу, и даже более этого — человек от природы порядочный, он всюду был на своем месте; но чтобы заметить и отличить его, надо было его узнать. Видно было, что свет и успех в нем не был, как для многих, целью его жизни; он не пренебрегал им, потому что понимал его истинное значение, но по этой же самой причине и не предавался ему исключительно. В нем для большинства он был дюжинным человеком, но для людей, его знающих, стоял головой выше всех блестящих молодых людей, делающих себе карьеру польками.
Не знаю, о чем говорил Иванов с Варенькой, — говорил, казалось, весело и добродушно; но дама его была как будто рассеянна. Иногда она обводила глазами присутствующих, на мгновение останавливала их на Тамарине и Марион и вслед затем обращалась к Иванову и старалась показать, что она слушает его внимательно; но в словах ее было видно какое-то легкое смущение. Бывает известное состояние духа, когда Бог весть отчего сжимается сердце, будто чуя что-то недоброе. Бывает еще и другое состояние, когда присутствие какого-нибудь совершенно постороннего лица ставит нас в какое-то беспокойство: люди ученые приписывают это магнетическому влиянию, а старухи-няньки говорят просто, что это с глазу, — ученым людям верят, а над старыми няньками смеются, хотя, по-моему, эти мнения вовсе не далеко расходятся, и едва ли последнее не имеет перед первым преимущества давности. Как бы то ни было, но в подобном положении духа была Варенька. Иванов, кажется, не замечал этого и продолжал говорить, обращаясь то к ней, то к ее соседке, а между тем взгляд Вареньки довольно часто и как будто нечаянно направлялся в противоположный угол.
Там сидели, как я уже сказал, Марион и Тамарин.
Их разговор тоже остался нам неизвестен, но по некоторым данным можно было составить себе о нем определенное понятие. Тамарин в этот вечер в первый раз встречался с Варенькой после долгого отсутствия. Правда, что, делая визиты, он был и у Имшиных, но видел только одного Володю. И, как нарочно, в это первое свидание Иванов, которого городские слухи давали в поклонники Вареньки, был почти неотлучно с нею. Это обстоятельство в глазах Тамарина, не имевшего случая проверить справедливость слухов, не могло пройти незаметным и, как человеку самолюбивому, не могло быть не досадно.
Оно, кажется, не укрылось и от женской проницательности Марион, и вот отчего их неслышный разговор был отчасти понятен.
Многие находят удовольствие подсмеяться над скрытным или самолюбивым человеком, когда в нем заметят слабую струну.
Марион рада была средству оживить и разнообразить свои отношения к Тамарину, на основании хорошо известной пословицы, что маленькие ссоры поддерживают дружбу. Боюсь утверждать, но, может быть, женская гордость, никогда не прощающая чужих, хотя и прошедших успехов, играла тут свою роль. Так или иначе, но по живым, веселым черным глазам Марион, быстро переносящимся от Вареньки и Иванова к Тамарину, можно было догадаться о предмете разговора, а по насмешливой улыбке, которая на ее особенно выразительных устах имела какую то острую колкость, видно было, что она не щадила его. Тамарин составлял резкую противоположность с оживленной фигурой соседки. Он был немного бледнее обыкновенного. Выражение его лица, всегда холодное и равнодушное, на этот раз было еще холоднее, еще равнодушнее, что дает повод думать, что оно таило совсем другое расположение духа. Взгляд Тамарина, следуя иногда за взглядом Марион, останавливался на Вареньке и Иванове с каким-то презрительным невниманием; в его коротких и резких ответах, сопровождаемых едкой усмешкой, виднелась скрываемая желчная раздражительность, и можно было держать пари, что Тамарин недурно защищался. Так шло время до тех пор, пока зрелая дева не спела своей арии. По окончании ее Марион встала и — не знаю, с умыслом или без умысла — взяла Вареньку под руку и пошла с ней в смежную комнату. Там они сели на маленький двойной диванчик. Возле него было одно только кресло. Иванов, вошедший вслед за дамами, увидел какой-то кипсек на столе и занялся им. Место осталось свободное. Вскоре Тамарин занял его.
Тамарин пошел было в залу, нашел, что там так же скучно, как и везде, и хотел, кажется, ехать, но, увидев Марион рядом с Варенькой, вдруг воротился. Он подошел к дамам своей ленивой, немного небрежной походкой; лицо его приняло веселое выражение, и две морщинки около рта обозначили улыбку. Варенька давно знала эту улыбку и в эту минуту чувствовала себя как-то неловко: она так давно отвыкла от всех тревожных встреч, она так полюбила свое настоящее спокойствие.
Предчувствие не обмануло Вареньку. Тамарин сел возле нее и обратился к ней:
— Вы знаете, что я был у вас, m-me Имшина; но вы не хотели доставить мне удовольствие видеть вас, — сказал он.
— Я сама очень жалела, что не могла к вам выйти, — отвечала Варенька, — в это время я была занята.
— Можно узнать кем? — спросил Тамарин, пристально глядя ей в лицо и продолжая улыбаться.
— Боже мой, детьми, может быть, хозяйством, — отвечала Варенька, немного покраснев. — Я теперь уже не помню.
— И прекрасно делаете! Знаете, иногда очень хорошо уметь забывать.
— Надеюсь, не в этом случае: это не стоило того, чтобы забывать или помнить.
— Вы меня совершенно поняли, — продолжал Тамарин, — я именно и говорил не про этот случай. Удивительно, как мы понимаем друг друга.
— Напротив, вы говорите так загадочно, что я решительно не понимаю вас, сказала Варенька, стараясь казаться как можно равнодушнее.
— Не понимаете?! — возразил Тамарин с удивлением. — А я, безумец, все мечтал, что мы так хорошо понимаем друг друга. Знаете ли, что вы этим словом разрушили мои лучшие иллюзии. Я так верил в симпатию с вами, так твердо был убежден в сродстве наших душ! Это было мое единственное утешение во время разлуки. Приезжаю, спешу вас видеть — и вдруг...
Тут Варенька встала, пожала руку Марион и, сказав, что ей пора ехать, вышла из комнаты. Она, казалось, приняла весь разговор Тамарина за пустую болтовню праздношатающегося старого знакомого и осталась совершенно равнодушной к ней. Но, по неровному и частому дыханию, по какому-то особенному оттенку глаз, можно было заметить ее внутреннюю тревогу.
Марион посмотрела ей вслед, обернулась к Тамарину и покачала головою. Тамарин усмехнулся.
— Как вы злы! — сказала Марион.
— Да ведь вам этого и хотелось, — отвечал Тамарин равнодушно.
Марион оставила его и пошла к дамам. Тамарин лениво встал, пробрался лениво между гостями и уехал домой.
Вскоре после их ухода Иванов закрыл кипсек и вышел. Не знаю, остался ли он доволен рисунками, но он был немного бледнее обыкновенного.
Маленькая комната, свидетельница маленькой сцены, осталась пустой.
VI
Быть может, мой читатель или моя читательница посетуют на меня, что я им описываю мелкие сцены мелкой жизни; быть может, найдут, что эти обыденные вещи слишком незначительны для того, чтобы на них останавливать внимание, и что я им показываю бурю в стакане воды. Да позволено будет мне оговориться.
Любо мне было бы, дав волю фантазии, широкой кистью рисовать яркие картины. Привольно было бы моему перу чертить во весь рост правильные, резкие и высокие фигуры людей, созданных воображением, и в просторной раме развернуть их пылкие и глубокие страсти. Но что бы я ответил тогда себе, если б, строго взвешивая и ценя свой свершенный в тишине рабочего кабинета труд, при взгляде на полную картину, в которой ищешь мелких неверностей, чтобы поправить их последнею чертой, — если бы в это время предо мной возник вопрос: чьи это образы? где живут эти люди? какому веку, какой стране, какому слою общества принадлежат они? где они взяли свои живописные костюмы? где они выучили эффектные роли? у кого переняли они эти античные позы? И тогда, читатель, поглядев на Божий свет, в котором, может быть, мы не раз встречались, я бы даже при уверенности, что моя картина займет тебя, поставил бы ее перед собой, с авторским самолюбием каждый день любовался ею, но посовестился бы показать ее и, смирив полет фантазии, принялся бы чертить небольших людей в небольших драмах, которые имеют неудобство походить на тебя, на меня или на наших знакомых.
С другой стороны, есть отрадное убеждение и утешительная мысль при выборе верной и мелкой драмы, назначенной суду публики. Довольство ею вне условий исполнения есть признак нашего внутреннего развития. Бой быков и смерть гладиаторов не нужны для потрясения людей, умеющих плакать над вымыслом слепого старца. Сильно настроенная струна звучит от легкого прикосновения, восприимчивой бумаге достаточно одной секунды света, чтобы резко запечатлеть всю отраженную на ней картину. И в нашем обществе часто от одного резкого слова, одного холодного взгляда невидимо, но долго болит чуткое сердце, и весело и с улыбкой смотрит иногда светский человек на разрушенное счастье всей своей жизни.
Вот отчего я описываю мелкие сцены. И затем к делу.
В городе N, как во всех почти губернских городах, лучшие даже улицы не застроены сплошь большими домами и промышленность не толпится на них занять всякий свободный угол. На одной из этих улиц небольшой пятиоконный деревянный дом, довольно благообразной наружности, был занят Ивановым. Комнат в этом доме было немного, и большая и лучшая из них, которая, кажется, в намерениях строителя должна была играть роль залы, т.е. самой бесполезной и всегда почти незанятой в семейной жизни, была обращена Ивановым в кабинет. Меблировка его не отличалась провинциальными претензиями на столичную роскошь. Широкие, покойные диваны и шкаф с книгами занимали три стены; огромный стол, покрытый зеленым сукном, стоял почти во всю длину четвертой. Стол этот был весь завален книгами, бумагами, делами, и только посредине его оставалось небольшое свободное пространство, на котором был письменный прибор, портфели и место для письма. По углам, у диванов, были два небольшие столика; несколько покойных кресел по комнате и одно у стола дополняли меблировку.
Был еще час десятый утра, а уж Иванов сидел в своем кабинете и что-то писал. Вскоре пришла какая-то баба-просительница и долго рассказывала свою претензию, в которой почти нельзя было доискаться смысла, и несколько раз принималась кланяться и плакать, подперев предварительно рукою щеку; потом ушла она. Пришел мужик и тоже толковал долго, и когда Иванов, выслушав, отпустил его и принялся было писать, мужик отошел немного, вытащил из-под зипуна платок, развязал узлом завязанный угол, вынул целковый и, подкравшись, осторожно подал его Иванову.
— Ступай, ступай, — сказал Иванов, невольно улыбнувшись.
Мужик отошел, вытащил опять платок, опять развязал узелок, вынул еще целковый и снова поднес уже оба потихоньку Иванову.
— Ступай: ведь я тебе сказал, что просьба твоя будет исполнена; чего ж тебе еще! — сказал опять Иванов.
Мужик отошел и задумался.
— Что ж, батюшка! Ведь это не то, чтобы тово: ведь это из уважения к милости вашей; за что же отказом обижать?
Но заметив, что Иванов начинал сердиться, он вышел, думая про него, что вот и хороший человек, а гордый: благодарности не принимает.
А между тем Иванов снова принялся писать и писал долго и скоро, весь погруженный в свое занятие, пока наконец не окончил бумаги; и тогда, бросив перо, он опустился к спинке кресла, вздохнул, как после тяжелого труда, закурил сигару и задумался. Его умное и выразительное лицо, так недавно еще озабоченное работой, теперь все было отдано мысли и отражало сильную внутреннюю тревогу... Да, Иванов переживал одну из тяжелых минут жизни.
Бывает известная, болезненная настроенность и раздражительность сильной души, когда вдруг помрачено одно из ее светлых верований, или хотя слабо поколеблено какое-нибудь пылкое убеждение. Тогда сомнение, как зимний воздух в недотворенную дверь, нахлынет на нее, и нет уже более для нее в эту минуту ни верований, ни убеждений. Все лучшее души и все ее заветные помыслы одеты этим тонким паром сомнения, а все жесткое и черное жизни так и встает перед очами, так и звучит в ушах грустным воплем. Это не раздражительность желчного человека, которого сердит и дурная погода, и худо свернутая сигара, и пошлое лицо первого встречного, это сомнение странника, давно идущего одной дорогой и спрашивающего себя, в ту ли сторону ведет она; это неверие факира, полжизни бодро стоящего перед идолами и начинающего в них подозревать деревянные истуканы.
Тяжело было Иванову, подавив внутреннюю тревогу и весь сонм разнородных мыслей, который кипел в голове его, сидеть за деловой бумагой да выслушивать и разбирать чужие просьбы; но едва ли не тяжелее стало ему, когда он отдался своим думам.
Догадается, вероятно, читатель, что вчерашний разговор Тамарина с Варенькой был главной причиной этой раздражительности Иванова; но ошибется тот, кто подумает, что любовь играла тут какую-нибудь роль. Нет! Иванов не был влюблен в Вареньку; но для него она олицетворяла бесхитростное, чистое существо, до которого жизнь коснулась одной только благотворной стороной, — существо, которое во всем видит одно добро, потому что само не испытало и никому не делало зла. И вдруг Тамарин, которому Иванов мало сочувствовал и потому уже, что видел в нем человека, преданного только свету, и по его натуре, которая была диаметрально противоположна его собственной, — вдруг этот светский господин при первой встрече говорит с Варенькой тоном вежливого пренебрежения, делает ей какие-то намеки на ее прошлое, почти смеется над ней, а она вместо того, чтобы остановить Тамарина и заставить его краснеть и извиниться, сама приходит в замешательство, как будто в ней потревожили старый укор, открыли пятно прошлого, которое она тщательно скрывала...
Иванов в свой век, как и всякий, многому верил и во многом ошибался; каждая ошибка служила ему уроком, каждый раз он с большей осторожностью доверялся новому выбору; но года и опытность не изгладили в нем душевной теплоты, не уменьшили в нем потребности привязанностей; он выбирал строже, доверялся реже, но, раз выбрав, отдавался охотно и доверчиво своему предмету, своему убеждению, и тем больнее была для него всякая новая ошибка. В настоящем случае Иванов не разочаровался в Вареньке: он не был так подозрителен, чтобы по одному намеку разом потерять к ней всю доверенность, и так строг и нетерпим, чтобы ставить в преступление всякий проступок. Но она теряла в его глазах свою чистоту: может быть, пятно было и невелико и невидно, да оно было. И раз, когда сомнение смутило его внутреннее спокойствие, на многое иначе взглянул Иванов своей встревоженной душой; много вопросов, как стая испуганных птиц, чутко дремлющих на ночлеге, поднялось и встрепенулось в глубине мысли, — и недоверчивым оком посмотрел он тогда на многое внутри и вне себя.
Да! Иванов переживал, может быть, благотворную, но трудную минуту.
Он был выведен из задумчивости приходом одного приятеля — молодого человека.
— Здравствуй, Иванов, — сказал пришедший, — я к тебе по делу посоветоваться с тобой; да ты, кажется, сегодня в хандре?
— Ничего! — отвечал Иванов, дружески пожав ему руку. — Хандра хандрой, а дело делом; что тебе?
Тут пришедший господин вынул какую-то бумагу, начал рассказывать дело и потом довольно долго толковал о нем с Ивановым.
Когда они кончили, приятель Иванова посмотрел на часы и, заметив, что еще рано к должности, спросил, не задерживает ли его, и, получив отрицательный ответ, закурил сигару.
— Кстати, Иванов: чем решено у вас дело этой вдовы с родственником Петра Петровича? — спросил он.
— Ничем еще, — отвечал Иванов, — большинство, кажется, против нее; но я подаю свое мнение: хочешь прочитать?
— Пожалуйста!
Иванов подал несколько только что исписанных листов, и приятель его принялся читать. Он читал молча; но по его лицу Иванов угадывал и место, которое он прочитывал, и впечатление, производимое на него чтением. Иногда он сурово сдвигал брови, иногда приподнимал их выразительно и немного выдвигал губы, как будто хотел сказать: «Вот оно что!" Иногда он улыбался, как улыбаются любимому ребенку, когда он немного зашалит. Прочитав бумагу, он подал ее Иванову.
— Дело чистое и правое, — сказал он, — ты иначе и поступить не мог; но, знаешь, немного резко высказано: видно, что ты писал его не совсем спокойно. Тут надобно действовать осторожно. Ты знаешь, что Петр Петрович против него; он здесь силен, а на тебя и без того, кажется, дуется...
— За то, что я не езжу его поздравлять с праздниками. Тем лучше: это выведет нас из ложных отношений. Я терпеть не могу, когда мне дружески жмут руку и в то же время подставляют ногу, чтобы я споткнулся.
— Скажи, пожалуйста, что тебя рассердило сегодня?
— Вздор! — отвечал Иванов. — Отчего ты не был вчера у Р***?
— Лень было: часов до десяти занимался, устал и для отдыха начал читать; потом, с чаем, с книгой, в халате и с сигарой, мне было так хорошо, что я решительно не понимал, зачем ехать на вечер, где, я уверен, встретишь скуку.
— И еще кое что хуже скуки. Ты знаешь Тамарина?
— Видал. Не глуп, кажется, да из праздношатающихся.
— А ничего не знаешь о его отношениях к Вареньке Имшиной?
— Решительно ничего! Тамарин в свое время, говорят, имел успех, да к Имшиной это относиться не может... А что?
— Этот Тамарин, должно быть, страшно самолюбив, и не знаю чем, а, вероятно, Имшина оскорбила его. Язык у него злой и хоть кого так срежет. Вчера вечером ему вздумалось позабавиться над Имшиной: он над ней смеялся, делал какие-то намеки и сконфузил ее, бедную. Хорошо, что при этом были только я да Мари Б***.
— Не знаю! Ничего не знаю! — задумавшись, отвечал пришедший господин.
В это время чья-то лошадь мелькнула мимо окон и остановилась у подъезда. Через минуту вошел Островский. Иванов был знаком с ним только по встречам в обществе; поэтому приезд Островского немного удивил его; но, разумеется, он не дал этого ему заметить.
— Здравствуйте, князь! — сказал он, идя ему навстречу.
— Ба! Вы уже встали и, кажется, за делом! Я сегодня рано выехал и воображал, что всех, как Тамарина, застану чуть не в постели.
— Я встаю рано, — отвечал Иванов. — Угодно сигару или папирос?
Островский сел и закурил.
— Я к вам с просьбой, сказал он, — сегодня концерт одной приезжей певицы, слышали вы?
— Да, слышал! Говорят, плохо поет.
— Может статься, да зато прехорошенькая. Я взялся раздавать билеты; помогите, пожалуйста.
— Раздавать я не берусь, потому что никого сегодня не увижу, а для себя возьму.
— А вам угодно? — спросил Островский, обращаясь к приятелю Иванова.
— С удовольствием, — отвечал тот.
Островский вынул билеты, получил деньги, показал, что еще много осталось нерозданных, и разговор на минуту перемежился.
— Да вот к кому всего лучше обратиться с вопросом, — сказал приятель Иванова. — Ведь вы давно здесь живете, князь?
— И не спрашивайте! Приехал на полгода — живу шесть лет. Это только я могу делать такой вздор! А что вам?
Иванов немного смешался. Ему, кажется, вовсе не хотелось сделать Островского участником предыдущего разговора.
— А с Тамариным нынче только познакомились? — продолжал его приятель. Островский усмехнулся.
— Помилуйте! Мы с Тамариным вместе выпущены из школы, вместе несколько лет выезжали. Я с Тамариным сходился чаще, нежели рюмка с графином. Голова отличная, язык острее английской бритвы, сердца меньше, чем у меня наличных денег. А женщины от него без ума... оттого, что он с ними обходится как ребенок с игрушкой.
— Вот об этом-то и речь, — продолжал приятель. — Не знаете ли вы, в каких отношениях он прежде был с Имшиной?
— А! С Варенькой? Это старая история. Лет пять назад Тамарин жил в деревне по соседству с ними. Ну знаете, в деревне девочка-то в него и влюбилась, да так, как только в состоянии влюбляться одни провинциальные барышни. Ну, просто ночи не спит и похудела. Тамарин сюда переехал, и ее мать сюда привезла. Что ему здесь делать с ней? Тут Имшин подвернулся; Тамарин просто себе на уме: он ей посоветовал или так холодность показал — смотрим: она и вышла за Володю. Но уж тут положительного я ничего не могу сказать, не думаю ничего дурного об их отношениях, решительно ничего; но знаю, что тут маленькая страстишка была; впрочем, Тамарин скоро уехал отсюда... Однако ж я заболтался с вами, а у меня еще семьдесят билетов. До свидания, господа!
И Островский пожал им наскоро руки и уехал.
— Охота тебе была спрашивать этого болтуна! — сказал с досадой Иванов.
— Мой учитель немец говаривал, что нет такой глупой книги, из которой нельзя бы было почерпнуть поучительное, и хоть это только немцы в состоянии извлекать поучительное даже из глупых книг, но по нужде и ты можешь последовать примеру. В словах Островского, верно, есть что-нибудь и справедливое; а впрочем... это меня мало интересует, желаю и тебе того же.
Затем и приятель Иванова простился с ним и уехал.
Иванов остался в прежнем расположении духа, если еще не хуже, и, надо правду сказать, предыдущие разговоры были не такого рода, чтобы могли развлечь его. Но, взглянув на часы, он поспешно отобрал некоторые бумаги, переоделся и вышел.
Как иногда бывает невыносимо тяжело оторваться от пустой и даже горькой мысли для какого-нибудь серьезного дела!
Через час после ухода Иванова вошел его слуга и положил на письменный стол какое-то запечатанное письмо.
VII
Иван Кузьмич Б*, или, чтобы лучше объяснить читателю, муж Марион, которого, как и многих из мужей на всем свете, больше звали по жене, чем по его собственной личности, и от этого называли иногда mr. Марион, — Иван Кузьмич, было ли у него занятие, или нет, утро всегда проводил в кабинете, как и следует деловому человеку.
Кабинет Ивана Кузьмича был во всех отношениях приличный кабинет. Этажерки с книгами, расставленными в строгом порядке и по формату; бюро, на котором он никогда не писал, хотя на нем всегда лежала белая бумага; покойный сафьянный диван с шитыми по канве подушками — дар почтенных дам в дни его тезоименитства; пирамидка с трубками и бисерной табачницей возле дивана; наконец, письменный стол с двумя десятками ящиков, бумагами, аккуратно разложенными и придавленными прессами, великолепной чернильницей и прочими атрибутами письма, - все было чисто, опрятно, прилично. Даже на стенах кабинета висели, как следует, перед столом: календарик и портрет какого-то господина почтенной наружности, со звездой, а над диваном большая картина масляными красками, в золоченой раме, черная до того, что на ней почти ничего нельзя было разобрать, и освещенная так искусно, что, откуда ни посмотри, всегда увидишь отражение которого-нибудь окна.
Если кабинет был совершенно приличен деловому человеку, то сам Иван Кузьмич был до того приличен своему кабинету, что одному без другого чего то недоставало, и трудно решить, что было нужнее — кабинет ли Ивану Кузьмичу, Иван ли Кузьмич своему кабинету.
Иван Кузьмич был добрейший человек, довольно мягких правил, весьма готовый, без больших пожертвований и сохраняя благовидность, угодить, как говорится, и нашим и вашим; но наружность его решительно не позволяла подозревать этих маленьких слабостей. Он был черноволос и носил спереди небольшой хохолок, или тупей. Лицо, худощавое и благообразное, с маленькими бакенбардами около ушей, было степенно, серьезно и даже важно, именно насколько следовало человеку в его положении. Глаза его не обладали особенной выразительностью, но зато были опушены сверху густыми, черными, весьма подвижными бровями, из которых Иван Кузьмич, как опытный человек, извлекал всевозможную пользу, придавая их движениями все желанные выражения лицу.
Был час второй утра. Иван Кузьмич сидел в креслах, боком к письменному столу, пил кофе из фамильной чашки, курил сигару и читал в «Пчелке" производства и политические новости. На нем был темно-коричневый сюртук, застегнутый доверху; на носу его были золотые очки, посаженные так ловко, что Ивану Кузьмичу стоило немного важно откинуть назад голову, чтобы читать с их помощью, и склонить ее, чтобы, приподняв брови, хитро и глубокомысленно смотреть поверх них.
В таком положении был Иван Кузьмич, когда вошедший слуга доложил об Иванове. Иван Кузьмич посмотрел на пего через очки, сделал вид, как будто задумался, хотя не имел и мысли отказать Иванову, и наконец сказал: «Проси".
С Ивановым Иван Кузьмич был всегда любезен и, сколько мог, прост. Есть люди, перед которыми никто не важничает и не говорит свысока, хотя бы они были и молодые и ниже: чувствуется, что перед ними-то бесполезно и даже неловко. Кроме того, Иван Кузьмич любил Иванова и уважал как дельного человека. Поэтому он его принял, как принимал только равных себе.
— А я сегодня не пошел в присутствие, — сказал он, после обычных приветствий, — голова что-то ужасно болит, так, вот, начиная с этого места вплоть до затылка. Уж кофеем лечусь. Не прикажете ли?
— Благодарствуйте: я не пью, — отвечал Иванов. — А у вас сегодня слушается дело NN?
— Да, знаю! Родственника Петра Петровича, с этой вдовой... как бишь ее? Забыл фамилию! Ну, да она должна его проиграть, я думаю.
— Не знаю. Я, со своей стороны, подал мнение за нее, — сказал Иванов
— Мнение! Гм! Мнение! А позвольте полюбопытствовать, нет ли его с вами.
— Вот у меня черновая: я нарочно принес вам показать.
Иван Кузьмич поправил очки, закинул голову назад, придал было бровям глубокомысленное выражение, но с первых же слов приподнял их в виде восклицательного знака, да так и оставил.
Иванов между тем закурил сигару и пытался рассмотреть картину, на которой ничего не было видно.
— Гм! — сказал Иван Кузьмич, складывая бумагу и передвинув брови. — Вы рассматриваете вопрос с новой точки зрения. Конечно, по-вашему, вдова права, а взгляните-ка на нее с прежней точки, так и выйдет вопрос нерешенный.
— Мне кажется, она со всех сторон права, — сказал Иванов.
— Нет, не говорите! Да притом же у родственников-то Петра Петровича детей-то что! Да все мал-мала меньше.
— Это к делу нейдет.
— Ну нет, уж вы этого не говорите! Ну да и Петр-то Петрович ведь, знаете, человек эдак с весом, ну да и с гонором человек: не любит, чтобы ему на ногу наступали.
— Кто ж это любит, — заметил Иванов.
— Вы все шутите! А дело щекотливое, верьте мне. Ну вот теперь следствие поднялось в Тарараевой. Дело кляузное! Концов не соберешь; в третий раз переследуют. Ну как туда вас турнуть! Да и Петр-то Петрович человек почтенный, знаете: это его огорчит; а у него приливы крови бывают к голове...
— Послушайте, Иван Кузьмич. Вы хотите, чтобы я говорил серьезно, извольте! Дела тарараевского я не боюсь, даже нахожу, что это очень любопытное дело. Что же касается до Петра Петровича и его приливов крови, до того, что ему многие кланяются, оттого, что у него есть родня и знакомые, которым он сам кланяется вдвое ниже, — все это нисколько не изменяет ни дела, ни моего взгляда на него. Приливы крови и родство не юридические факты. Я хотел только показать вам свое мнение, но не изменю его.
И Иванов взялся за шляпу.
— Да! — сказал Иван Кузьмич, переменив тон и поправив очки. - Действительно, с вашей точки зрения, вы справедливы, — совершенно справедливы, хотя с другой точки и можно сделать возражения. Но проклятая головная боль сегодня мне покоя не дает, и мыслей даже никаких нет в голове, — совсем нет! Точно пустой бочонок! От этого и в присутствие не поехал... Так, вот, с этого места вплоть до затылка... Водки не хотите ли? У меня есть так называемая семи-отрад: удивительная!
Иванов отказался, пожал Иван Кузьмичу руку и вышел.
Иван Кузьмич, притворив дверь, покачал вслед ему головой, спросил, дома ли жена, и пошел к ней: он чувствовал необходимость высказаться кому-нибудь.
У Марион сидел князь Островский. Он был весьма доволен раздачей билетов, потому что это давало ему случай перебывать в двадцати местах в одно утро и очень нескучно убить его. В строгом смысле, он более развозил новости, чем билеты, и собирал более слухов и сплетен, чем денег.
Вероятно, много сообщил он любопытных вещей Марион, довольно равнодушно его слушавшей, прежде нежели рассказ дошел до него; но в настоящее время речь его коснулась близкого нам предмета.
— А-х, забыл вам рассказать уморительную вещь! — говорил Островский. - Был я сегодня у Тамарина. Он только что встал, закусывает и пьет вместо чая зельцерскую воду. «Что, — я говорю, — приятель, верно, вчера шампанского выпил?" "Нет, — говорит, — на ночь скукой объелся". «Признайся, верно, рассердил кто-нибудь", — говорю я. «Да как, — говорит, — не рассердиться: целый вечер видеть перед глазами глупейшую идиллию — Имшину с Ивановым; да тут, — говорит, еще"... — Островский остановился.
— Что такое? — спросила Марион.
— А тут вы подтрунили над его прежней слабостью... Зато, кажется, и досталось от него Имшиной; да еще он жалел, что она скоро уехала.
— Не говорите, пожалуйста! — сказала Марион. — Тамарин был вчера неизвинителен.
— Ну уж и неизвинителен! Помилуйте! Девочка была от него без ума, с досады вышла замуж за Володю: прекрасно! Но вот проходит каких-нибудь пять лет, Тамарин возвращается и вдруг видит пополневшую барыню, очень довольную своим мужем, который позволяет ей любезничать с каким-нибудь Ивановым... Да это, надеюсь, хоть кого взбесит!
— Да! — сказала Марион. — Действительно, как не страдать ей весь век по Тамарину!
— Да уж лучше страдать весь век по Тамарину, чем утешаться Ивановым. Но послушайте. Этим история не кончилась. Мне хотелось посмотреть на огорченного любезника: ведь Иванов вчера все слышал. Заезжаю к нему, он как будто и ничего, только волосы встрепаны; приятель у него сидит; о чем же начали они меня расспрашивать? О прежних отношениях Тамарина к Имшиной!
— Ну вы, я думаю, не поскромничали, — заметила Марион.
— О, нет! Конечно, я рассказал им кое-что: но поверьте, далеко не все, что знаю. Да Иванову и говорить нельзя: он и так-то всегда серьезен, а влюбленный должен быть просто свиреп. Подумает еще, что клевещу, скажет: фактов подавай...
— Здравствуйте, князь, — сказал Иван Кузьмич, входя. — Вы, верно, говорите про Иванова: вообразите, каких вещей он мне сейчас насказал! Говорит: и родство Петра Петровича, и связи его — все, говорит, это не юридические факты; ему, говорит, все кланяются оттого, что он сам кланяется вдвое ниже... да и пошел и пошел.
— Ха, ха, ха! Ну да ему сегодня можно извинить: он не в своей тарелке, сказал Островский.
— А что?
— Да так: его муха укусила!
— То-то я вижу, что, должно быть, муха укусила, — заметил глубокомысленно Иван Кузьмич. — Человек просто в петлю лезет. Видите ли, дело есть одно, кляузное дело у вдовы одной с родственником Петра Петровича. Ну вдова-то с некоторой стороны права, хотя с другой точки зрения и представляется затруднение. (Островский поправился на креслах, будто неловко сидел.) Я, признаться, знаете, чтобы и вдову-то не обижать, ну да и Петр Петрович человек знакомый и всегда так любезен со мной; я и в присутствие не поехал; думаю, пусть их там; а Иванов-то, как вы думаете, бряк мнение за вдову... как будто она ему теща какая-нибудь или свояченица.
— Что ж, разве ему за это достанется? — спросила Марион с любопытством.
— Нет, матушка! Кто говорит: достанется! Он был вправе это сделать. Даже с некоторой стороны, то есть с одной стороны, он и справедлив; да мнение! Ведь молодые люди шутят мнением... Я вот тридцать три года служу, да никогда своего мнения не подавал, да, признаться, не люблю, когда и другие подают. Иванов хороший человек, дельный и честный человек, да беспокойный, беспокойный. Ну что он теперь Петра Петровича вооружил против себя: он шутит Петром Петровичем, ему горя мало! Говорит: справедливость! Ну а вот как пошлют тарараевское дело переследовать: вот ему и справедливость и юридический факт! Да это и... и... и... - Иван Кузьмич замотал головой и не договорил.
Островский этим воспользовался и встал.
— Постойте, князь, куда же вы?
— Нужно; дела есть, — сказал он, торопясь уйти.
— Подождите, — сказала Марион. — Увидите вы сегодня Тамарина?
— Как же! Мы вместе обедаем.
— Скажите ему, чтоб заехал вечером.
— Непременно! А меня что ж не зовете?
— Вам будет скучно со мной и мне с вами едва ли не тоже.
— Вы меня вечно огорчаете; поеду утешаться, — сказал Островский.
— Да чего лучше, князь! Хотите семи-отрадной? Чудная водка; по секрету рецепт достал! Пойдемте ко мне.
— И как нельзя больше кстати. А меня сейчас Григорий Григорьич угостил какой-то белибердой, должно быть, трех горестей: к нему жена с детьми приехала.
И он ушел с Иваном Кузьмичом в его кабинет.
Все, что слышала Марион про Иванова, ее беспокоило. Его расспросы Островского, его вмешательство в дело, которое могло навлечь ему неприятности, в чем убедил ее еще более Иван Кузьмич во время обеда, она приписывала раздражительности влюбленного, оскорбленного вчерашней выходкой Тамарина и дошедшими до него слухами о Вареньке. Совестливость Марион упрекала ее. Добрая душа, она считала себя отчасти причиной всего происшедшего: не затрагивай она раздражительного самолюбия Тамарина, может быть, ничего бы и не было. А тут из-за ее прихоти нарушается тихое счастье скромного существа. Иванов, которого она мало знала, но считала за хорошего человека, может повредить себе, и вообще затевается какая-то история, как очень часто, из-за ничего, благодаря праздным толкам они затеваются в небольших городах, и в эту историю будет впутано имя Вареньки, к которому, как доброе существо к доброму, она чувствовала невольное расположение. Все это мгновенно представилось Марион, как только она услыхала болтовню Островского и рассказ мужа; выходка Тамарина ей и без того не нравилась, и поэтому она поручила Островскому пригласить Тамарина к себе, чтобы высказать ему свое неудовольствие, как позволяет это себе всякая хорошенькая женщина с мужчиной, который за ней ухаживает.
Но, обдумывая более все это маленькое происшествие, маленькие слухи, маленькие предположения, из которых, как из всего маленького, могли выйти большие неприятности, что в провинциальной жизни, где все очень мелко, обыкновенно так и водится, Марион решилась употребить все усилие, чтобы потушить дело в самом начале. Немудрено, что она в этом случае придумала, как умный дипломат, — я сказал уже, что она была хорошенькая женщина, — но ей надобно было иметь дело с самолюбием такого человека, как Тамарин, а тут и дипломатия не поможет. Марион придумывала так долго, сколько может придумывать женщина, т.е. ровно несколько минут с секундами, — и ничего не придумала. Между тем время шло; несколько раз мысль ее обращалась к занимавшему ее предмету и с прежним неуспехом оставляла его, чтобы тотчас же перенестись совсем на другой. Марион начинала уже сердиться, но, взглянув по привычке на себя в зеркало, улыбнулась и вовсе перестала думать.
Часу в девятом вечера, когда Марион, прижавшись в угол дивана, курила папиросу, ей доложили о Тамарине. Поза ее не была картинка; но она, по примеру героинь светских романов, не переменила ее, зная, что всякая поза хорошенькой женщины очень хороша; туалет ее был ее обыкновенный туалет, вообще она осталась такова, как была всегда. Тамарин, напротив, был в каком-то апатическом расположении духа; он как будто устал, что, может быть, казалось от желтоватого цвета лица, при огне переходящего в бледность.
Марион приняла его немного холодно.
— Вы меня звали? — спросил Тамарин.
— Да! — отвечала Марион, не подав ему руки. — Я хотела вам сказать, что сердита на вас.
— Что вам за охота застращать меня с первых же слов! Хоть бы приготовили! — заметил Тамарин, весьма равнодушно садясь в кресло.
— Вы не из робких! А все-таки я вам скажу, что серьезно сердита на вас.
— За что ж немилость! Уж не за Имшину ли?
— И за нее, и за себя. С чего, во-первых, вы взяли, что доставляете мне удовольствие нападками на бедную Вареньку?..
— Я узнаю вашу чувствительность, — отвечал Тамарин. — Когда перед хорошенькой женщиной является другая хорошенькая, она с ней очень мила и любезна, хоть и не прочь немножко ей повредить. Чуть эта женщина унижена, сейчас являются глубокое сострадание, и участие, и сожаление... Это я не о вас собственно говорю...
— Не обо мне говорите, а обо мне думаете, и очень ошибочно, потому что судите по себе. Я ни с кем не соперничаю, а с Варенькой тем менее, да и не из чего. Впрочем, вы мне не верите; да это все равно! — Тамарин наклонил голову в знак согласия. — Во-вторых, ваш поступок с Варенькой неизвинителен. Мстить, и мстить женщине, за то, что она через пять лет переменила о вас мнение! Куда как хорошо!
— Вы находите, что это было мщение? Я не знал, что у меня такие южные страсти.
— Да, это мстительность самолюбия, которое до того раздражено, что оскорбляется всем на свете. Как, в самом деле, забыть Тамарина, когда он несколько лет назад удостаивал своим вниманием! Как остаться равнодушной при его появлении и быть любезною с каким-нибудь Ивановым!...
И говоря это, Марион действительно сердилась; лицо ее несколько разгорелось и черные глаза оживились: она была чудно хороша.
— Вы должны быть довольны, — прибавила она. — Иванов все слышал, и ваш разговор, может быть, будет иметь неприятные последствия и для него, и для Вареньки. Радуйтесь!
Тамарин действительно был доволен. Слова "как вы злы" имели для него значение комплимента. Притом же он думал, что женщина, которая сердится, есть уже женщина, которая интересуется.
Он посмотрел на одушевленную Марион и не мог удержаться от улыбки; но он ей придал другое выражение.
— Действительно, я ужасно злой человек и, кроме того, страшно самолюбив и мстителен, — сказал он. — В самом деле, шутка ли, мне вздумалось скуки ради посмеяться над мечтательницей, у которой во время оно был совсем другой вкус... и о ужас! — сколько шуму и суеты, какая тревога, какие огорчения! Тамарин эгоист, Тамарин зол, Тамарин мстителен! А Тамарину просто пришла охота мимоходом задеть хлыстиком по муравейнику. Виноват ли он, что все там перетревожилось.
— Да! С тем приключением, — сказала Марион, — что в этом муравейнике он задел женщину, которая ему прежде нравилась, и человека, которому отдают предпочтение!
— Поверьте, если бы я знал, что Иванов и Варенька так встревожатся от моей шутки и что ее припишут коварным замыслам оскорбленного самолюбия, я бы их оставил в покое!
— А если так, то докажите это! Положим, не ваша вина, что благодаря вестовщикам из шутки делают какую-то историю, что, может быть, они приняли ее слишком горячо, вам очень легко все поправить. Варенька вас не приняла — поезжайте к ней завтра, обратите все в шутку и извинитесь...
— Вам этого хочется? — сказал Тамарин.
— Вы мне доставите удовольствие, — сказала Марион, — тем больше, что я тут считаю себя немного виноватой.
— Извольте! — сказал Тамарин. Он встал, поклонился и вышел.
Марион поглядела ему вслед и улыбнулась.
VIII
Иванов возвратился домой часу в четвертом. Он забыл и вчерашнюю выходку Тамарина, и болтовню Островского, и Вареньку. Целое утро он ездил по делам или ими занимался, и в голове его, как у игрока, проведшего несколько часов за картами, вместо тузов и двоек, вертелась какая-то пестрая смесь своего рода. Кроме того, его очень интересовало вновь открывшееся тарараевское дело, которым Иван Кузьмич хотел запугать его, и дело это со своей запутанностью, сложностью и драматизмом завязки представлялось ему во всей юридической трудности и прельщало его воображение, как прельщает стратега план неизвестного ему сражения, математика вычисление пути новой кометы, или женщину — роман какого-нибудь пресловутого французского писателя в двадцати семи томах и с самым страшным заглавием. Однако ж ни тарараевское дело, ни хаос бумаг и просителей не заставили его забыть час обеда. Он позвал слугу, чтобы велеть накрыть на стол.
— Изволили видеть письмо? — сказал слуга
— Какое письмо?
— Принесли от Имшиных.
Он взял его с письменного стола, подал и вышел.
Иванов повертел письмо в руках, распечатал, нашел кругом исписанный мелким почерком почтовый лист, как только умеют писать одни женщины, взглянул на подпись, пожал плечами и начал читать.
Письмо было от Вареньки. Вот оно:
"Мое письмо удивит вас. Вы сделаете вопрос: к чему писать, когда мы так часто видимся, когда можем все пересказать друг другу? Это правда. Но есть вещи, которые тяжко пересказывать, есть случаи, про которые трудно говорить женщине даже самому близкому человеку, даже своему другу. А я именно об этом должна говорить с вами: вот отчего я к вам пишу.
Вам показался странным вчерашний поступок человека, которого имя мне даже неприятно написать здесь, его насмешки, его намеки на прошедшее? Еще страннее, может быть, было для вас то, что я не остановила его, растерялась и вместо ответа, которого он заслуживал, спешила уйти. Этому вы были причиной. Я знала, что вы тут, что вы все слышите: меня смущала мысль, что вы обо мне подумаете; мне было совестно и досадно, что я прежде ничего не говорила вам. Отчего, спросите вы, именно о вас только я думала в эту минуту? Потому, что вашим мнением я дорожу, потому, что считаю вас добрым, искренним, бескорыстным другом... ошиблась ли я?.. Вот причина, по которой хотела я только одного — как можно скорее прервать это невыносимое положение. Оно отчасти продолжается для меня и теперь. Я буду спокойна только тогда, когда все вам выскажу, хотя, Бог видит, как мне тяжело переносить это полузабытое, это неясное, как неприятный сон, прошлое. Слушайте же.
Лет пять-шесть назад я еще не была замужем, а жила с матушкой в Неразлучном.
Мне было осьмнадцать лет; соседей, особенно молодых, не было. Володю, с которым я росла, я считала за родного, за мальчика, и потому не обращала на него большого внимания. В это время в четырех верстах от нас поселился Тамарин.
Если бы я встретила его не приготовленная, не настроенная доходящими до меня слухами, я бы, может быть, прямо взглянула на него и скоро его разгадала. Но у меня была подруга, которая, не любя его, выставила в каком-то загадочном свете; возле нас жила прехорошенькая баронесса ***, которая, говорят, страстно любила Тамарина и на которую он имел какое-то странное влияние. Он был интересен, ловок, опытен; склад ума его был для меня нов и оригинален — звали его демоном. Баронесса уехала, и он начал ухаживать за мной: чего же еще больше, чтобы заставить полюбить себя молодую, неопытную девочку?.. Да, я полюбила его!... Уф! Как тяжело мне было написать это слово!...
Теперь, оглядываясь через столько лет на это отжитое чувство, оно мне кажется странным и непонятным... не потому, что я любила Тамарина, но потому, что я любила в нем именно его ложную сторону — то, что теперь заставило бы меня отвернуться от него и пожалеть о нем. Мне в нем нравился не светский человек, одаренный умом резким, оригинальным и анализирующим, не человек богатый способностями, хотя на ничто потративший их, самолюбивый потому, что он сознавал свои преимущества перед другими. Нет! Нравилась мне в нем его игра чувствами, его душевные страдания, которым я верила и которых источник мне был неизвестен. Видела я в нем человека высшей натуры, одаренного какою-то моральною властью; мне нравилось в нем особенно то, чего я не понимала: его загадочность... Она давала просторную канву моему пылкому воображению, и ему было любо вышивать по ней прихотливые узоры! Много доставлял он мне горьких минут, глубоких страданий, и я их принимала как что-то должное, чем я обязана была платить за его любовь: мне сладко было даже страдать от него... Что вы хотите! Когда мы любим человека, мы любим в нем и его недостатки, которые кажутся нам в каком-то особенном свете. Я была слепа; но я тогда была счастлива!...
Тамарин на зиму переехал сюда; я уговорила матушку сделать то же.
И здесь, живя и встречаясь в обществе, воображению было меньше разгула. Поступки Тамарина со мною, его боязнь общественного мнения заставили меня взглянуть на него иначе, и из-под моего призрака начал проглядывать для меня другой человек: сухой эгоист, бессильный самолюбец. Простая, безыскусственная любовь Володи показалась мне в другом свете, мне хотелось разорвать связь с Тамариным — я вышла замуж.
Что вам сказать больше? Когда я вышла замуж, Тамарин снова явился ко мне, и в этом случае любовь его была, может быть, искреннее всех его прежних чувств; но ослепление уже исчезло... Тамарин уехал. Тихая семейная жизнь в деревне благотворно подействовала на меня. Когда побудешь долго глаз на глаз с природой, от души так легко отпадает все ложное и искусственное. Потом вас Бог послал в наше уединение. Вы имели на меня большое влияние. Чтобы увидеть всю ложь, всю болезненность, всю неестественность такого человека, как Тамарин, надобно было поставить против него вас, благородного, честного, с вашим простым и здравым взглядом на вещи, с вашей любовью ко всему прекрасному и трудам для его достижения. Говорю я вам прямо и о моем мнении, и о моем чувстве к вам. Мнения моего вы не примете за лесть. Чувства мои такого рода, что я могу о них говорить громко, не краснея ни перед собою, ни перед другими: вы, я знаю, их не перетолкуете.
Теперь вы поймете, отчего я вчера была так не находчива, отчего я так боялась вашего осуждения; но, высказав вам все, я спокойна. Мне не страшны будут выходки Тамарина, и я найду на них ответ, когда вы узнаете наши прежние отношения, в которых он думал найти право надо мною. Я следую вашему правилу — избегать ложных положений, и все вам высказываю. Вас, которого я так уважаю, избираю моим судьей: неужели вы обвините меня?
В."
Иванов прочитал письмо, повертел его в руках, опять местами перечитал и положил в портфель. По выражению лица его видно было, что он остался доволен его содержанием, но что вместе с тем оно заключало в себе что-то его смущающее.
Долго Иванов ходил скорыми шагами по комнате; он не слыхал, как слуга два раза докладывал ему, что стынет горячее на столе, — наконец пообедал рассеянно, закурил сигару и опять начал ходить. Немного погодя Иванов как будто на что-то решился, спросил шляпу и уехал.
Был вечер. Варенька сидела одна в известной нам комнате, за работой, как и в первый раз, когда мы встретились с ней в этом рассказе. Только она не была так покойна, как прежде. Лицо ее было бледно, и на нем, как от легкого облака в ясный день, лежал какой-то оттенок, который придает невольная дума. Зато при каждом скрипе двери, когда Варенька быстро поворачивала голову, яркий румянец мгновенно разливался на щеках ее и потом медленно, медленно с них сбегал. Она продолжала шить бегло, скоро, как будто этой спешностью работы торопила время. Видно было, что какая то неспокойная мысль управляла ее движениями.
С полчаса или час длилось это ожидание; наконец дверь еще раз стукнула; румянец опять вспыхнул на щеках Вареньки, но в этот раз послышалась знакомая походка, и румянец исчез мгновенно: бледная, но с веселой улыбкой встретила Варенька вошедшего Иванова. Они, как и всегда, пожали друг другу руку; но крепче обыкновенного было их рукопожатие.
— Я хотел бы сердиться на вас, — сказал Иванов. — К чему это объяснение, к чему эта исповедь прошлого? Разве недостаточно было бы одного слова вашего, чтобы разъяснить мои сомнения, если бы я их имел? Разве, наконец, я сомневался когда-нибудь в вас? Но, вспомнив вашу доверенность, мне остается только искренне, искренне благодарить за нее.
Варенька подняла на Иванова темно-голубые глаза, зарумянилась и тихо спросила:
— Так вы не обвиняете меня?
— Боже мой! Кто ж не увлекался из нас ложным эффектом, загадочностью... кто не ошибался? — отвечал Иванов.
— Да, я тогда была молода, — вздохнув, сказала Варенька.
— Послушайте: зачем тревожить это прошлое! Оно прошло и слава Богу! Вы из него вынесли спасительный урок. Оставьте его. Стоят ли несколько вздорных слов, сказанных Тамариным, чтобы обращать на них такое внимание. Если бы вы встретили их более хладнокровно, вы бы, конечно, не допустили его и, надеюсь, впредь не допустите повторить что-нибудь подобное.
— О, нет! Теперь, когда вы все знаете, когда я уверена, что вы не обвиняете меня, я спокойна, и меня нисколько не тревожит встреча с Тамариным: но вчера, если бы вы знали, как мне было совестно перед вами. Я не спала целую ночь. Меня мучило сомнение, что вы обо мне подумаете, что вы подумаете об этом прошлом, на которое так низко намекал Тамарин. Я не могла себе простить, что ничего прежде не сказала вам, и успокоилась только тогда, когда все вам написала.
— Я уже вас благодарил за доверенность, — сказал Иванов, — и, поверьте, высоко ценю ее. Но к чему вам подчинять себя чужому мнению? Отчего это недоверие к собственному суду? Разве нам недостаточно его?
— Что ж делать! Мы, женщины, уж так созданы: нам нужна непременно опора или руководитель. Мужчина может нас увлечь в гибель, он же должен поддерживать нас и на прямом пути. Я не думаю, чтобы женщина по собственному произволу могла пасть или возвыситься. Разве вы недовольны, что я обратилась к вам?
Варенька посмотрела на Иванова так мило, так мило, что, верно, каждый из вас, читатель, захотел бы быть на его месте.
Иванов вместо ответа улыбнулся и немного наклонился.
— Да! — продолжала Варенька. — Я вам должна высказаться... Я недаром обратилась к вам. Я вам многим, многим обязана, хотя вы, быть может, и не замечаете этого. Общество честного, бесхитростного и благородного человека невидимо целебно. Наши тихие, откровенные беседы много изменили меня. Я чувствую, я как-то теплее, прямее и проще стала смотреть на вещи, у меня есть сознание, что я лучше стала с тех пор, как узнала вас: как же мне не уважать, как же мне... — Варенька немного остановилась. — Как же мне не чувствовать к вам искренней доверенности и дружбы!
Варенька говорила это с какой-то особенной добротой и задушевностью. Слушая ее, казалось, что она действительно должна была все это высказать. Она, кажется, была бы не права, ей было бы совестно перед собой не сказать Иванову того, что она чувствовала. И на ее прямодушном, откровенном лице, немного зарумянившемся и как-то особенно в эту минуту тихо прекрасном и одушевленном, можно было читать искренность каждого слова, заметить, как оно было прочувствовано в душе и как верно его передали.
Иванов смотрел на Вареньку и с удовольствием, и с грустью. И на его умном и довольно резко очертанием лице показалось мягкое, несвойственное ему выражение, как будто какое-то тоскливое чувство невольно пробилось наружу и смутило эти резкие черты.
— Вы слишком многое мне приписываете, — отвечал он. — Не знаю, кто из нас более выиграл от взаимного сближения; и я, в свою очередь, мог бы сказать, чем я вам обязан. Но мне особенно грустно было вас слушать именно теперь. Чем короче и задушевнее будет наше сближение, чем полнее мы поймем друг друга, тем больше будет лишение и тем труднее разлука: мне надобно ехать.
— Куда это? — побледнев, с недоверием, спросила Варенька.
— Мне дают поручение в ***.
— И надолго?
— Не знаю наверное, но думаю, что очень надолго. Я нарочно зашел к вам, чтобы сообщить об этом. В 10 часов меня ждут, чтобы окончательно переговорить о деле. — Иванов посмотрев на часы и, вставая, сказал: — Я почти опоздал.
Он подал и пожал Вареньке руку; но она смотрела на него все как будто не веря.
Иванов пошел и был уже почти у дверей, когда Варенька остановила его.
— Послушайте! — сказала она и остановилась в нерешимости.
Иванов ждал.
Варенька хотела, кажется, сказать: «Нельзя ли вам не ехать?" — но только спросила его: «Так вы поедете?.." Но этот вопрос был так сделан, что он был красноречивее всякой просьбы.
Иванов немного смутился: какая-то борьба, видимо, овладела им.
Было одно мгновение, когда Иванов, казалось, готов был отказаться и от свидания, и от дела и воротиться к Вареньке; он стоял в какой-то непонятной нерешимости и рассеянно ответил:
— Не знаю, можно ли мне остаться.
У Вареньки был еще, казалось, какой-то готовый вопрос; но прежде, нежели она его сказала, Иванов уже вышел.
Варенька осталась одна, бледная, задумчивая. Долго, долго сидела она, не выпуская из рук работы и между тем не работая. В голове у нее толпились смешанные, неожиданные мысли. То она думала, как сделать, чтобы Иванов не ехал, то как ей будет скучно и пусто, когда он уедет. Она остановилась на первой мысли и делала разные предположения, придумывала разные способы, чтобы удержать Иванова. Но видно, ничего доброго не придумала и не предвидела ее хорошенькая и грустно склоненная головка, потому что она все неподвижно-задумчиво сидела над неконченой работой, и какие то темные думы проходили и отражались на ее бледном челе. В доме была тишина мертвая: все, что было в нем живого, давно уже спало... только в передней и в девичьей чуть светились нагорелые свечи, и камердинер Володи и горничная Вареньки крепко дремали. Наконец когда сани Володи, возвращающегося из клуба, подъехали к дому и зазвенел колокольчик у двери, Варенька очнулась будто из забытья н, все такая же грустная и задумчивая, взяла свечи и вышла в спальню.
IX
Чтобы объяснить внезапное решение Иванова, мы должны отступить на несколько часов назад.
Получив письмо Вареньки, Иванов над ним задумался. Привыкнув прямо смотреть на вещи, не обманывать себя ложными истолкованиями, разбирать часто замаскированное начало и по возможности угадывать его исход, он увидел из письма Вареньки, что эта тихая привязанность, которая начинается обыкновенно привычкой, сходством взгляда и вкуса, крепчает и переходит во что-то скрывающееся под фирмой дружбы; что эта привязанность, высказанная теперь Варенькой, благодаря потрясению, которое невольно дал ей Тамарин, начинает принимать другой оборот и перерождаться в более определенное чувство. Строго по этому случаю взглянул Иванов и на себя и не мог не признаться, что он сам находит большое удовольствие в обществе Вареньки... Откровенность Вареньки, доверенность и дружба, ею высказанные, сладко затронули в нем самые звучные струны, — и знал он, что едва ли устоит против заманчивой склонности, если она сильнее и определеннее разовьется. Все это предвидел и чувствовал Иванов, и неизбежный вопрос: «Что из этого выйдет?" — невольно представился ему не как расчет холодного эгоизма, который взвешивает проигрыш с выигрышем, но как мысль пловца, которого незаметно прибивает волна в заманчивую пристань и который видит, что есть еще время, хотя с трудом, воротиться в неспокойную, но нужную ему быстрину.
Многие из нас задают себе подобные вопросы, но в ответ на них настроят таких рогатых силлогизмов, что всегда вывод будет в пользу собственного удовольствия. Не таково было решение Иванова. Он нашел, что нужно избежать этого рождающегося чувства, которое может повлечь за собой опасную борьбу, пока еще есть время. Ему тотчас же представилось трудное, запутанное дело, которым пугал его Иван Кузьмич, представляющее широкое поле его жажде труда и пользы. Он колебался недолго: отправился к одному господину, от которого зависело назначение лица, и предложил свои услуги. Господин этот посмотрел на Иванова с маленьким недоумением, но был весьма рад его предложению. Лучшего чиновника ему нельзя было желать; к тому же, может быть, он, как многие, питал уважение к Петру Петровичу и имел случай убить одним камнем двух птиц: поэтому назначение ему было обещано.
Да не подумают, чтоб я хотел выставить моего героя типом безукоризненной добродетели. Нет, он имел свои недостатки, и, может быть, эти именно недостатки облегчили ему более, чем кому-либо другому, настоящую решимость: Иванов не слишком любил нежные склонности. Обладая теплым и живым сердцем, он боялся его увлечений; он допускал их, но желал, как он выражался, чтобы они пришли потише да поскромнее. Ему было бы тяжело нести чувство, которое могло связывать его мысль и деятельность. Вот отчего выбор для него был нетруден; вот отчего, говоря с Варенькой и увидев всю глубину ее расположения, какой-то укор, какое-то сожаление поднялось в его душе, — ему жаль стало Вареньки и, может быть, и себя; ему в первый раз блеснул вопрос: не слишком ли много жертвует он потребностями сердца требованию своих убеждений, не отдаст ли он много теплого чувства за одну мысль? Волнуемый этими вопросами, он спешил уйти от Вареньки; и тогда тише и тише становился в его ушах отзвук нежных слов; недолго ему представлялся выразительный взгляд ее прекрасных, темных, голубых глаз. Кругом его виднее и виднее восставала общественная жизнь, сильнее и сильнее слышались ему житейские вопросы. Когда Иванов пришел домой, он уже решился ехать.
На другой день, часу во втором, Иванов отправился к Ивану Кузьмичу. Его он не застал дома; но слуга сказал, что барыня принимает, и Иванов зашел к ней проститься.
Марион, кажется, не ждала его, но, судя по встрече, была очень довольна его приходом.
- A, mr. Иванов! Вы редкий гость, — сказала она, — и я тем больше рада вас видеть. Отчего вы так мало показываетесь: бегаете от общества?
— Я действительно меньше бываю в нем, чем нужно и чем бы мне хотелось бывать. Но в этом случае я бегаю не от общества, а от тьмы маленьких условий, которые оно налагает и которые кроме скуки отнимают пропасть времени.
Марион чувствовала по себе пустоту этих условий; но она не знала, как избавиться от них; это ее занимало.
— Я вас понимаю, — сказала она, — но не у всех же такая охота и терпение заниматься делами, как у вас; нельзя же быть и без общества: и в нем скучно, а без него умрешь от скуки.
— Разумеется, если нет никакого интереса в жизни, если нет обязанностей или призвания, которым отдаются с охотой. Но вы не думайте, что бы за всем тем мы оставались без общества. Есть несколько человек одинакового, в этом случае, мнения, которые рады встретиться друг с другом, и встречаются часто и охотно, просто, без претензий: вот общество, в котором отдыхаешь.
— Положим, так. Но это общество мужское; а женщины?
— Это другой вопрос. Вот отчего и недостаточен наш круг, от этого иногда и есть необходимость выезжать в свет, особенно если нет одного или нескольких коротко знакомых семейств.
— Теперь я понимаю, отчего вы мало выезжаете, — улыбаясь, заметила Марион, — у вас нет недостатка в подобном семействе и остальным вашим знакомым приходится пенять на монополию Вареньки Имшиной.
И Марион была довольна оборотом, который принял разговор: ей давно хотелось навести речь на Вареньку.
— Я с ней познакомился летом, в деревне, — сказал, Иванов, — а вы знаете, что нигде нельзя так скоро сойтись. Это преимущество деревенской жизни; я его сохранил и здесь.
— И я уверена, что сохранили с удовольствием: я ее очень люблю. Давно вы ее видели?
— Я к ней заходил вчера вечером, чтобы сказать, что я еду. Я и к вам пришел проститься.
— Как! Куда же вы уезжаете?..
— Довольно далеко отсюда. Меня посылают по делу.
Марион сейчас припомнился разговор ее мужа. Она вообразила, что Иванов в минуту огорчения пошел против Петра Петровича и что это причина его отъезда. Неудивительно, что она делала подобные предположения: она так долго жила в провинции, где все объясняют по своему. Марион стало жалко Иванова.
— Послушайте, mr. Иванов, — сказала она, — я вам сделаю, может быть, нескромный вопрос, но сделаю его из участия к вам: скажите мне, что за причина вашего отъезда?
Иванову странен показался этот вопрос.
— Тут нет ничего нескромного или тайного, — отвечал он. — Дело, по которому я еду, весьма серьезно; оно было запутано людьми неблагонамеренными, и я просил, чтобы меня назначили, в надежде открыть истину.
Марион посмотрела на Иванова с недоверием. Сначала ей показалось необъяснимо, какое дело человеку принимать на себя труд, для того чтобы открыть истину в предмете, совершенно его не тревожившем. Потом ей сейчас мелькнула другая идея, что Иванов, рассорившись с Варенькой, хочет уехать от нее. Ей была тяжела мысль, что она, может быть, была причиною ссоры, и она решилась во что бы ни стало объяснить все Иванову.
— Так вы сами просились? — спросила она. По тону, которым был сделан вопрос, Иванов видел, что он делан не для того, чтобы только спросить что-нибудь: его очень заинтересовало, почему Марион принимает в нем такое участие.
— Да! — отвечал он. — Почему же вы не допускаете этого?
— Вы, как я слышала, человек прямой, mr. Иванов, и я с вами буду говорить прямо, в уверенности, что вы мне так же ответите. Я думаю, что я знаю настоящую причину вашего отъезда. Вы мне не хотите ее сказать, — эта деликатность понятна. Но эта причина неосновательна; вы увлечены недоразумением, ошибкой, и я бы хотела вывести вас из заблуждения, потому что принимаю в этом живое участие.
Иванова очень удивили и догадки Марион, и самое участие; он подозревал, что тут что-то кроется, и, в свою очередь, тоже хотел все разъяснить.
— Чтобы говорить откровенно, — сказал он, — так не надобно играть в загадки. Я вижу, что вы почему-то принимаете участие в моем отъезде, и много за это вам благодарен; по, чтоб скорее дойти до цели, я прошу вас называть вещи прямо, а не намекать на них. Это гораздо проще и лучше. Верьте, что прямая дорога самая короткая: к чему делать дело вполовину!
Марион немного затруднилась. Она знала, что в свете можно все сказать, но умеючи. Но ей понравился вызов Иванова: она видела, что с ним именно надо говорить прямо, потому что он не перетолкует ничего в дурную сторону.
— Хорошо! — сказала Марион. — В таком случае признайтесь, что вы уезжаете не собственно для дела, а просто от Вареньки?
Иванов не мог постичь, чтобы женская проницательность могла идти так далеко.
— Это не совсем так, — отвечал он, подумавши, — но половина причины отъезда действительно Варвара Александровна.
— И все это началось по поводу разговора у Р**, который вы слышали?
Глаза Иванова значительно увеличились в орбите.
— Да! Я не хочу лгать: этот разговор имел влияние, — отвечал Иванов.
— Я вас не спрашиваю, — продолжала Марион, — потому что это было бы слишком нескромно; но я знаю, вы любите Вареньку...
— В таком случае, — отвечал совершенно растерявшийся Иванов, — я должен признаться, что вы знаете более меня, потому что я, право, сам не знаю, люблю ли ее...
Марион улыбнулась самодовольно.
— Да, — сказала она, — вы ее любите, хотя не признаетесь в этом даже самому себе. В таком случае, я должна вам сказать, что причина вашего отъезда неосновательна. Варенька нисколько не виновата. Тут больше всех виноваты вы и я.
Иванов решительно уже ничего не понимал.
— Кто ж обвиняет Варвару Александровну? — сказал он. — Но я решительно не понимаю, почему мы с вами виноваты!
— Оттого, что мы были причиной разговора Тамарина с Варенькой: я потому, что смеялась над Тамариным и задела его самолюбие; вы — потому, что подали мне этот случай и возбудили его ревность.
— Я? — спросил с удивлением Иванов. — Г. Тамарин меня считает соперником, и короткость m-me Имшиной со мной возбуждает его зависть! Вот уж этого-то я никак не ожидал! — прибавил он.
— А между тем это так, и вот настоящая причина его неизвинительной выходки. Признавая себя виноватой в ней, я хочу поправить ее последствия. Вам, может быть, дурно пересказали прежние отношения Вареньки к Тамарину, и они огорчили вас. Но вы несправедливы: Варенька ни в чем не виновата; вы не должны на нее сердиться и невесть для чего уезжать от нее.
Иванов увидел свет.
— Вы ошибаетесь, — сказал он. — Прошлое Варвары Александровны мне хорошо известно, потому что она сама захотела мне все рассказать. На нее я нисколько не сержусь и не имею ни права, ни причины сердиться: она ни в чем не виновата.
— Так зачем же... — И Марион остановилась. — Нет! — сказала она. — Я ошиблась и невольно вовлекла вас в откровенность; я не имею права спрашивать более.
— Вы были откровенны со мной и выказали ваше участие; вы имеете право и на мою откровенность, — сказал Иванов. — Разговор Тамарина действительно имел на меня влияние: он заставил меня дать себе отчет в моих чувствах к Варваре Александровне. Я вам сказал уже, что не знаю, люблю ли ее; но я знаю, что могу любить. Что ж из этого выйдет? Любовь, ставящая нас в ложные отношения! Я враг ложных дорог и положений: пока есть время, я решился ехать. С другой стороны, дело, которое мне поручают, действительно меня интересует: тут я могу дать себе волю служить своему призванию и убеждениям; тут я, может быть, буду полезен. Вот отчего я еду.
Иванов говорил это просто, не драпируя себя героем. Видно было, что он говорил, что чувствовал.
Марион посмотрела на него и невольно сказала:
— Вы благородный человек! — И потом, вздохнув, прибавила: — Но мне жаль бедную Вареньку!
Иванову, кажется, это направление разговора не нравилось, и он поспешил дать ему другой оборот.
— Так я возбуждаю зависть? — сказал он смеясь. — Я кажусь г. Тамарину счастливым поклонником m-me Имшиной; он вмешивается в дело, воображает, что расстраивает наше тихое счастье, и по этому случаю, вероятно, считает себя орудием судьбы, которая бросает его как молот на главу невинных жертв...
Иванов нечаянно, но верно очертил Тамарина, именно таким, как он казал себя перед Марион, и ей стала понятна и смешна искусственная интересность Тамарина.
— В настоящую минуту он рисуется перед Варенькой, — сказала Марион, — я его послала к ней извиниться.
— Я думаю, что Тамарин дурно исполнит ваше желание. Он так самолюбив, что, верно, никогда в жизни не признавался в ошибке, — и не из упрямства, а потому, что он сам уверен, что все, что он сделает, должно быть так сделано. Однако ж мне бы хотелось убедить его, что хоть раз в жизни он ошибся: именно в своем предположении обо мне.
Затем, обменявшись еще несколькими словами с Марион, Иванов поблагодарил ее за участие, ею высказанное, простился и уехал. И прощание их было тепло и радушно: от одного откровенного разговора они будто стали давно и близко знакомы друг с другом, — и Марион было жаль, что уезжает Иванов.
X
В то время, как происходила описанная нами сцена, встреча другого рода была в доме Имшиных.
В урочный час визитов Тамарин довольно лениво, почти нехотя отправился к Вареньке. Ему предстояла не очень завидная роль извинять свой поступок и, может быть, слушать упреки; но он не смущался этим: он был так уверен в своем превосходстве над Варенькой, что вполне надеялся дать такой оборот объяснению, какой ему вздумается.
Тамарин, сказал я, собирался нехотя просто потому, что ему лень было ехать.
В таком расположение духа, мало, впрочем, думая о встрече, Тамарин спокойно вошел в гостиную Имшиных.
Варенька, по обыкновению, сидела одна: муж ее куда-то уехал. Она никого не ждала к себе, но всего менее ждала Тамарина, когда, услыхав шаги, обратилась к двери и увидела его как и всегда холодную и равнодушную фигуру. Варенька была немного бледна и очень интересна; приход Тамарина не изменил ни того, ни другого; напротив, она его встретила так спокойно, как будто ждала его с пустым визитом.
— Видите ли, как я неотступно желаю иметь удовольствие вас видеть, m-me Имшин, — сказал Тамарин. — Вы не хотели пустить меня в первый раз, я пробую счастье во второй.
Варенька очень мило ответила на поклон Тамарина, просила его сесть и стала что-то искать в рабочей корзине: она хотела, чтобы Тамарин сам начал разговор.
— Вы на меня сердитесь? — сказал Тамарин.
— За что? — с удивлением спросила Варенька.
— Мне казалось, что вам не понравился мой разговор прошедшего вечера.
— А вы хотели им понравиться?
— Я не до такой степени неловок, чтобы избирать подобные средства, — сказал Тамарин. — Но есть положения, в которых поддаешься невольному чувству. Я был не прав перед вами и приехал в этом сознаться, и вместе с тем, однако ж, мне бы хотелось объяснить вам причину этого, и, я уверен, вы бы не строго обвинили меня.
— Объясниться?! Перестаньте, mr. Тамарин: это на вас не похоже. Причины я их очень хорошо знаю: вам просто было досадно, что я встретила вас гораздо равнодушнее, нежели вы ожидали. Признайтесь, вы, я думаю, очень жалели, что у вас не осталось от прошлого ничего, что бы вы могли с презрением бросить перед всеми и сказать: смотрите, как я мало дорожу им; у вас только и было, что несколько намеков и насмешек, которыми вы могли заплатить бывшей деревенской девочке за ее прежние чувства, за то, что ее пылкая голова сделала из вас какого-то героя и слепо и смешно верила в ваши достоинства. Странное средство заставить — не скажу: любить, но уважать себя.
Варенька, говоря это, несколько одушевилась, и на ее бледных щеках заиграл легкий румянец.
Тамарин слушал так равнодушно, как будто дело шло не о нем.
— Вы слишком строги, — отвечал он, — и много приписываете моим словам. Но потрудитесь поставить себя на мое место и тогда осуждайте меня. Я не говорю, что я сохранил к вам прежние чувства; но как хотите, все остается какое-то влечение к той, которая прежде добровольно признавала над собой naine влияние, и кажется, что не может она совершенно отречься от него. И вдруг, когда видишь, что по одной прихоти сердца не только отбросили, но смотрят с каким-то унижающим равнодушием на это влияние, — мало того что, проходя без внимания мимо того, которого прежде так высоко ценили, в его же глазах поклоняются и удивляются невесть кому... О! Тогда очень естественно — придет на язык желчное слово!
— Все это, может быть, очень справедливо с вашей точки зрения: я и не спорю. Разве я обвиняла нас?.. Но одного я тут не поняла. Объясните, пожалуйста, кто этот невесть кто, которому я поклоняюсь и удивляюсь?
— Я нескромных замечаний не объясняю, — сказал Тамарин, — и предоставляю вам самим угадать.
— Один человек, с которым я ближе других знакома, — это Иванов. Если вы говорите про него, — сказала Варенька, — так этот невесть кто может и очень может заменить кого бы то ни было. Я ему не поклоняюсь и не удивляюсь, но искренно уважаю его, и ваше самолюбие может быть покойно: чувства мои к нему совсем другого рода, чем к вам.
Тамарин понял эпиграмму, и, несмотря на его желание быть равнодушным, желчь зашевелилась в нем.
— После ваших слов, — сказал Тамарин — я сам начинаю питать к г. Иванову глубокое уважение, особенно за его умение внушать такие чувства...
— Этих чувств вы никак не поймете, — отвечала Варенька, — они не в вашей натуре.
— Тем интереснее было бы их узнать, — сказал он, улыбаясь, — учиться никогда не поздно.
— Вы хотите их знать, — сказала Варенька, — извольте. В вас я любила какой-то призрак, который создала моя семнадцатилетняя пылкая и неопытная голова; вы сами это чувствовали и как-то искусственно поддерживали его; все наши отношения были ложны, и от этого, оба свободные, мы скрывали, мы инстинктивно стыдились своих чувств. Отношения и чувства мои к Иванову так просты, так естественны и чисты, что мы не имеем нужды их таить, и я, жена другого, могу, не краснея ни перед собой, ни перед мужем, сказать, что люблю Иванова как лучшего друга...
Тамарин встал, поклонился и, улыбнувшись, сказал:
— С чем и имею честь поздравить вас и его.
Но, прежде нежели он вышел, он встретил взгляд Вареньки, и от этого взгляда, может быть, после многих лет самоуверенного спокойствия, он в первый раз почувствовал себя как-то неловко.
Тамарин возвращался от Имшиных в неприятном расположении духа. Он не мог еще дать отчет в своем чувстве; но какое-то смутное неудовольствие несносно овладевало им. Не в первый раз, конечно, не сбывались его намерения и ожидания; но никогда еще он не выдерживал такой неудачи; прежде он переносил их хладнокровно и с уверенностью в отыгрыше, как отступающий полководец, который уверен в своих силах, теперь этой неудачной встречей в нем была потрясена его уверенность в самом себе. Он не сознавал этого вполне; но самая безотчетная неприятность происходила от этого инстинктивного сознания.
Браня себя за то, что был у Вареньки, Тамарин естественно вспомнил Марион, которая была этому причиной, и тогда его неудовольствие, найдя исход, вдруг все обратилось на нее. И вспомнились тогда Тамарину вся бесцельность и бесплодность его ухаживаний за Марион, ее умение поставить себя с ним в короткие, но холодные отношения, ее такт, с которым она постоянно сохраняла над ним какое-то превосходство. Самолюбие Тамарина, только лишь оскорбленное Варенькой, еще сильнее болело в нем от этой неудачи — и он спешил к Марион, как будто что-то звало и тянуло его туда, между тем как желчь и злость шевелились у него на душе.
Между тем Марион была совершенно в противоположном настроении духа от свидания с Ивановым. Она в первый раз близко увидела прямую, дельную и полную благородных побуждений натуру этого свежего душой и чувствами человека, и встреча с ним как-то тепло и благотворно на нее подействовала. Пристальнее и глубже взглянула Марион на свою жизнь, и она показалась ей еще пустее и бесцветнее. И тогда мечта расправила крылья и понесла ее к другой жизни, показала ей в ясном и тихом свете новую жизнь в ином обществе. И думала Марион, как бы хорошо было, отвергнув эти мелкие светские условия, удалясь от пестрого и пустого круга, составить себе другой кружок, в котором бы жизнь души и ума питалась и отдыхала, в котором можно бы было говорить, не заботясь о пересудах, слушать и не слышать мелких изворотов в мелких толках и претензиях, — слушать и услышать живое и теплое слово, искренний и прямой ответ на всякий задушевный вопрос...
В это время вошел Тамарин. И, надо признаться, он не мог прийти более некстати.
— А, это вы? — сказала Марион, нехотя отставая от своей мечты.
— Да, это я, — отвечал Тамарин. — Я пришел вам сказать, что исполнил ваше желание и благодаря вам провел скучнейшую четверть часа в жизни.
— Вы, кажется, не находили этого прежде в беседах с Варенькой, — заметила Марион, — значит, обязаны перемене себе, а не мне.
— Если бы не вы, мне бы не пришло в голову идти к Имшиной затем, чтобы слушать ее объяснения в нежных чувствах к Иванову.
— Я понимаю, что он стоит их, — сказала Марион.
— Давно ли вы разделяете вкус Варвары Александровны? — спросил Тамарин.
— С тех пор, как ближе узнала Иванова: он сейчас был у меня.
— Я замечаю, — сказал Тамарин очень серьезно, — что в городе N Иванов становится чем-то вроде поветрия; это сирокко, который сушит женские сердца, как ромашку в аптеке.
— Вот видите ли, есть разные способы нравиться, — отвечала Марион. - Самый простой — это часто встречаться, уметь занять и развлечь, быть всегда разнообразным и угодливым, не выказывая претензий и излишней предупредительности... Ах, кстати: я вас забыла поблагодарить за визит к Имшиной.
— Не стоит благодарности, — отвечал Тамарин.
— Да! Нужно, словом, заставить привыкнуть к себе... сделаться необходимым... Вы, кажется, говорили, что это называется добиваться любви?..
Тамарин поклонился.
— Есть еще и другие способы, — продолжала Марион, — вы их много что-то насчитали, и они вам все хорошо известны. Но вы забыли один, и самый простой: это быть тем, что мы есть, и не добиваться ничего, — и это прекрасный способ. Когда всякий день видишь одного в своей заученной роли, другого — вечно драпирующегося в какое-нибудь интересное чувство, — всех, точно актеров, на подмостках, из которых каждый силится обратить на себя внимание, с бездной претензий на успех: знаете ли, как после этого обрадуешься, когда увидишь просто хорошего, безыскусственного человека, который не навязывает вам своих чувств и убеждений, не бросает пыли в глаза, не ищет ни удивления, ни поклонения, а является таким, как есть, и если нравится, так нравится истинным своим достоинством. Вот секрет Иванова, и он, право, недурен.
— Извините за сравнение, m-me Б, — сказал Тамарин, — но вы сегодня поучительны, как прописи.
— А вы становитесь скучны, как они, — с досадой отвечала Марион.
— Во всяком случае, вы согласитесь, что я разнообразен, — вставая, сказал Тамарин, — до сих пор я не доставлял вам этого развлечения; я хотел допустить его как редкость.
Затем он поклонился и вышел. И после него Марион с какой-то отрадой и наслаждением опять предалась своей мечте и сладкой задумчивости, опять перенеслась в созданный ее воображением круг. Ей это было так извинительно! Она видела и сознавала пустоту светской жизни, но не знала выхода из нее. После разговора с Ивановым ей открылся исход, и тогда много еще блесток светской жизни опало в ее глазах; несносен и скучен своей душевной скудостью показался ей Тамарин, — этот блестевший в свое время представитель светской молодежи, и вот отчего в порыве свежего впечатления она так дурно приняла его, — вот отчего она с таким удовольствием по его уходу снова отдалась своим мечтам. Сбудутся ли они или разлетятся, как и все мечты? И если сбудутся, то не покажется ли ей действительность далеко ниже их: не покажется ли она ей не покрытая блестками, жестка и тяжела?
Не будет ли ей странно принимать у себя бесцеремонных людей, позволяющих себе приходить вечером в сюртуках и вместо любезностей говорить иногда серьезно? Не будет ли тяжело ее самолюбию отдалиться от лучшего светского круга, в котором она первенствовала и который отдалится сам от нее и будет находить ее странною? Знает ли она, сколько надобно твердости и силы, что бы оторваться от этих маленьких условий и требований, которые ей кажутся теперь такими пустыми и скучными, и к которым между тем она так привыкла... И уверена ли ты, Марион, в своих силах, и уверена ли ты, что краска ложного стыда не бросится тебе в лицо и не смутится твое самолюбие от одного пустого вопроса, когда прежняя твоя подруга, светская барыня, спросит тебя: «С кем это я вас встретила вечером?" — и ты на ответ должна будешь назвать какого-нибудь неизвестного свету Иванова, и не найдешь ничего для объяснения его положения, как сказав только то, что он хороший человек?..
Время одно может решить эти вопросы, и я не берусь раскрывать их перед читателем. Знаю только, что в настоящие минуты они не приходили в хорошенькую голову Марион: безотчетно и сладко предавалась она розовым мечтам, и вызвало ее из них не строгое раздумье, а голос Ивана Кузьмича.
— Машенька! Машенька! — кричал он из залы. — Слышала ты, Иванов-то на следствие едет? Да добро бы посылали, а то сам вызвался — просто-таки сам. А? Как это тебе покажется? Да его, в самом деле, какая-то муха укусила; или, лучше сказать, у него просто какая-то муха в носу сидит и не дает ему покоя... да! Матушка! — сказал он, взглянув на Марион и всплеснув руками. — Что ты это делаешь со мной: четыре часа, а ты еще не одета! Разве ты забыла, что у Анны Семеновны маленький сынок, Шушу именинник! А ты, чай, и поздравлять не посылала? Хорошо, что я сам заехал. Ты знаешь, что Шушунчик ее любимец! Она нас звала обедать, и всего-то будут мы, Григорий Григорьич с женой, да самые короткие. И пожалуй, еще Григорья-то Григорьича мы, по твоей милости, ждать заставим...
— Иду, иду! — сказала Марион, нехотя вставая.
XI
Федор Федорыч поутру в этот день узнал о скором отъезде Иванова, и ему стало грустно и досадно. Человек бездействующий, и бездействующий сознательно, он умел сделать себе занимательным свое безжизненное существование: он жил чужой жизнью. Все новое и замечательное в моральном мире сильно привлекало его внимание; он жадно слушал каждый звук жизни, он наблюдал и анализировал каждое ее проявление, и во всем он был только посторонний зритель. Одаренный от природы умом проницательным и ясным, он развил его еще более привычкой постоянной мысли, и мысль в нем росла насчет деятельности и, поддержанная физической ленью, поглотила всю его практическую жизнь. Бог знает, для кого и для чего копил он огромный запас наблюдательности, не думая его никому передавать, еще менее думая самому сделать из него применение. Наблюдательность сделалась его страстью. Его интересовал всякий оригинальный характер, всякая прямая или уродливая натура. Отличив кого-нибудь из знакомых какой-либо стороной ума или характера, выходящего из обыкновенного уровня, он следил за ним, как натуралист за неизвестным ему животным или насекомым, и наблюдал до тех пор, пока не разгадывал его. Чем богаче и разнообразнее была встретившаяся ему натура, тем сильнее влекла она его к себе, тем с большей любовью он к ней привязывался. Но, раз поняв совершенно человека, он оставлял его как прочитанную книгу. Он и книги читал как-то особенно: если в них попадался ему какой-нибудь характер, то, разобрав и поняв его таким, как хотел его изобразить автор, он видел в нем лицо живое, уже близко ему знакомое. Тогда он следил за ним во всех выведенных на сцену положениях и часто вдруг останавливался и говорил: «Не может быть, чтобы такой-то сделал или сказал это: он должен был вот что сделать", и затем он умственно переделывал сцену; но если замечал дальнейшее отклонение автора, то говорил: «Э, приятель, не туда пошел!" — и затем бросал книгу, как бы интересна ни была она.
Понятно, отчего в свое время Тамарин много интересовал Федора Федорыча: но его пора прошла и, как новое и современное явление, все внимание его привлек Иванов. Вот почему отъезд его так огорчил Федора Федорыча. Но прежде нежели ему должно было расстаться со своим любимым и богатым объектом, он хотел доставить себе последнее удовольствие. Предлог он отыскивал недолго и тотчас же отправил записки к Иванову и Тамарину следующего содержания:
"У меня сегодня именинница тетенька: приезжайте обедать и поздравить меня".
Затем он послал за лучшим в городе поваром, велел ему по собственному усмотрению приготовить маленький обед, достал доброго вина и сел отдыхать после совершенного труда, ожидая с удовольствием условленного часа.
Домашний быт Федор Федорыча очень верно отражал его лень и беззаботность и вместе с тем любовь к удобству. Первая комната, совершенно пустая, была украшена пятью стульями, склонявшимися к полу под весьма прихотливыми углами, и столом, который при удобном случае очень охотно переваливался с ноги на ногу.
В крайней, в углу, одиноко стояла кровать со столом, исправляющим должность туалетного, потому что на нем было разбросано несколько хорошеньких, но в большом беспорядке, вещиц из туалетного несессера. В средней комнате опять стол длинный, запыленный, заваленный кучей книг сверху, и с пустой чернилицей и засохшими перьями посредине; но у противоположной стены этой комнаты заметно отделялся любимый угол хозяина. Там был камин, не для украшения, как это делается во многих домах, но камин, способный топиться, чем Федор Федорыч очень часто и с удовольствием пользовался. Около камина стояли два весьма покойных кресла, такой же диван и маленькие столики. Тут постоянно сидел — во все время, когда не лежал, — Федор Федорыч, и тут, у светлого и теплого огонька, мы застаем его поджидающим гостей.
В известный час, Иванов и Тамарин приехали почти вместе: Иванов немного раньше, Тамарин немного позже. Оба они были удивлены такой тесной и нечаянной встречей; но Иванов не обратил на нес особенного внимания, а Тамарин, кажется, догадался и усмехнулся.
— Федор Федорыч! — сказал он, входя. — Есть у вашего слуги оракул?
— Нет: он чтениями не развлекается, — отвечал Федор Федорыч. — На что он вам?
— В нем отмечены черные дни, — сказал Тамарин. — Мне хотелось бы посмотреть, есть ли в нем нынешний?
— А что, разве с вами были какие неудачи?
— Да, я сегодня получил от дядюшки неприятное письмо. Кстати, поздравляю вас с именинами тетушки.
— Черные дни кончаются до обеда, — сказал Федор Федорыч. — Давайте закусывать.
Вскоре затем они сели за стол.
Стол, благодаря сметливости слуги, подложившего под его ноги бумажки, стоял весьма исправно, а при помощи жившей наверху барыни, знакомой с Федором Федорычем, сервирован очень хорошо; обед изготовлен был прекрасно, и все бы шло как нельзя лучше, если б Тамарин, как будто нарочно, не был упрямо молчалив. Но хороший обед и вино всегда действуют благотворно, и когда подали замороженное шампанское, Тамарин был уже в гораздо лучшем расположении духа.
— У вас славный повар, — сказал он. — Желаю вашей тетушке почаще быть именинницей.
— А я желаю вашему дядюшке перестать совсем к вам писать, — отвечал Федор Федорыч, — а между тем мы хорошо сделаем, если пожелаем доброго пути отъезжающему.
— Вы разве едете? — спросил Тамарин, который еще ничего не слыхал об этом.
Иванов отвечал утвердительно и коротко рассказал ему, куда и зачем он едет.
Этот отъезд, кажется, заинтересовал Тамарина и окончательно рассеял его молчаливость. Тамарин и Иванов в первый раз сходились близко и были поставлены в такое положение, что должны были говорить друг с другом. Оба они выиграли во мнении один другого от этого сближения. Конечно, они не чувствовали друг к другу особенного влечения, но каждый мог отдать, и отдавал, справедливость другому. Не разделяя взгляда Тамарина на вещи и сознавая всю ложность его убеждения, Иванов видел в нем умного и далеко недюжинного человека. Тамарин, со своей стороны, сознался, что он слишком свысока смотрел на Иванова и что, не уронив собственного достоинства, можно иметь такого соперника, и, раз допустив эту мысль, Тамарину хотелось поближе узнать его.
Наши собеседники, встав из-за стола, уселись вокруг камина.
Ранние зимние сумерки спускались на землю; свечей не было в комнате. Красно-синеватый огонь в камине трещал, извиваясь по сухим дровам, и дрожал, и сводил, и наводил длинные тени по противоположным стенам и блестевшим окнам. Близ камина, за чертой сильного жара, но под ярким освещением сидели два гостя. Отчетливо от яркого огня обрисовывался резкий и умный профиль Иванова, и как будто изменялись и переливались красивые и тонкие черты лица Тамарина. А немного сзади них, усевшись с ногами в угол дивана, погруженная в полумрак и полусвет, рисовалась длинная фигура Федора Федорыча, то вдруг ясно и резко выдавалась она, облитая светом, то опять, неопределенная и темная, тонула во мраке.
Никогда человек не бывает так способен к откровенной и простодушной беседе, как после хорошего и легкого обеда. Физическое довольство и спокойствие делают его добрее, и ему становится как-то лень скрытничать и притворяться в это время.
Но бывают другие минуты, когда не говорится о пустяках, когда не болтается и не хочется заниматься мелочью и вздором, и, напротив, с души поднимаются самые дорогие, самые близкие ей вопросы, — они требуют высказаться, хочется поделиться и обменяться ими, хочется показать их как лучшую картину небольшому кругу знатоков, чтобы узнать ей настоящую цену. В настоящее время это была именно такая минута. Сумерки, так всегда настраивающие к тихой, задушевной беседе, неопределенность и самая картинность освещения, вызывающая что то серьезное, наконец, чувство, что находишься с людьми, которым под силу всякая мысль, которые не поверят ей на слово и не преклонятся безусловно перед ней, а взвесят здраво и обменяются равносильной мыслью, — все это располагало к чему-то более глубокому, более достойному самого себя.
Несколько времени все сидели молча, каждый о чем-то тихо задумавшись. Только дым сигар и папирос тонкими синеватыми и изгибающимися струями тянулся в камин да душистый желтый чай легко испарялся из стаканов, сквозя в них как чистый янтарь и переливаясь от огня золотистыми красками. Тамарин первый прервал молчание.
— Я бы на вашем месте, mr. Иванов, не охотно поехал отсюда, — сказал он.
— Отчего же?
— Не далее как сегодня утром я слышал о вас такие отзывы двух прехорошеньких женщин, что ради них стоило бы здесь остаться.
— Хорошие отзывы мало обещают, mr. Тамарин, да если бы и действительно обещали какой-нибудь успех, так это бы нисколько не остановило меня.
— У всякого свой взгляд, — сказал Тамарин, — но надо быть очень пресыщенным этими успехами, чтобы легко от них отказываться.
— Да, если они составляют цель жизни, — отвечал Иванов, — в мою они не входят.
Тамарина это замечание несколько укололо.
— Трудно, однако ж, найти вещь лестнее и приятнее, — заметил Тамарин, — и уж конечно, честолюбие их не стоит.
— Вы сравниваете с ними такую монету, перед которой они действительно стоят очень высоко. Я совершенно согласен с вами, что эти успехи и лестны, и приятны; но они слишком дорого обойдутся, если отдать им всего себя.
— Я понимаю, — сказал Тамарин, — что вы ставите выше их деятельность практическую, ищете другого, более обширного поля для своих свежих сил и способностей... кто из нас не искал этого! Когда я был молод, и я мечтал об этой благородной, блистательной деятельности. Да нелегко найти ее... Найдите мне ее по моим силам и способностям... А когда на их богатый запас придется мелкий труд с грошовой пользой, тогда... тогда успокоишь золотые мечты и запросы самолюбия и отдашься жизни другого рода, и будешь искать и довольствоваться теми успехами, которые вы так дешево цените.
Тамарин замолчал и принялся раскуривать потухшую папиросу.
— Да! — сказал Иванов. — Я с вами согласен: запросы молодости и самолюбия велики; а им часто выпадает на долю узкая, невидная тропа, которую они считают слишком мелкою, чтобы идти по ней: что ж делать! Не всякому достается широкая дорога труда, увенчанная лаврами. И, конечно, гораздо легче и приятнее обратить на себя внимание, ловко протанцевав польку на балу, нежели всю жизнь пробиваться трудовой дорогой к далекой пользе.
— И часто для того, чтобы наткнуться в ней на какой-нибудь камень и разбить об него последние силы? Ну уж, слуга покорный! — смеясь, сказал Тамарин. — Я, может быть, слишком устарел и стал материален, но лучше протанцую свои силы на балу, нежели разобью их на какой-нибудь неблагодарной работе.
— Я, может быть, слишком молод и мечтателен, — улыбнувшись, сказал Иванов, — но я думаю, что когда будет не под силу и не под стать танцевать более, тогда должно наступить тяжелое раздумье для танцующего весь век человека.
— Тогда остаются коммерческие игры с почтенными людьми, — равнодушно отвечал Тамарин.
— А всего лучше, сложив руки, смотреть на чужие хлопоты, — послышалось позади них, и вслед за тем, нагнувшись к стакану, выдалась из тени и ярко осветилась длинная и флегматическая фигура Федора Федорыча.
Тамарин и Иванов обернулись к нему и оба улыбнулись.
Вдруг в это время послышались в первых комнатах чьи-то шаги и голоса, и человека четыре или пять приятелей Иванова вошли в гостиную.
— Здравствуйте, Федор Федорыч! Мы собрались к Иванову провожать его, но узнали, что он у вас, и приехали за ним. Вы извините нас, — сказал один из пришедших.
— Охотно извиняю и очень рад, что вам пришла мысль явиться сюда, — сказал Федор Федорыч, радушно здороваясь с ними. — Но Иванова я так скоро не отпущу. Мы здесь пожелаем ему счастливого пути и вместе разопьем прощальный бокал. — И он велел подать вина.
Приезжие гости уселись около камина, и затем пошла оживленная и веселая беседа.
Говорили об отъезде Иванова; но никто не останавливал его, не предлагал тех иногда дельных, но всегда охлаждающих замечаний, которыми многие так охотно, как холодной водой на огонь, угощают в известных случаях, в виде добрых советов. Напротив, нашлось много теплых и ободряющих слов, поддерживающих Иванова в его добром намерении. Потом разговор перешел к другим предметам: кто говорил о своем начатом труде, другой о своих намерениях и надеждах. Видно было, что это не был так называемый кружок, навязывающий всем свои убеждения, замыкающий всех в узкую и тесную раму одного исключительного взгляда. Нет, это был круг людей, добровольно сошедшихся, каждый со своим взглядом, каждый со своими убеждениями и занятиями, но всех соединенных взаимной симпатией, влечением доброго и честного к честному и доброму. В разговоре их не было брошено ни одного женского имени, ничья сердечная склонность не выставлялась тут напоказ, осмеянная наперед самим собой, чтобы ее не осмеяли другие. Зато все живое и благородное в жизни было тепло и с участием ими принято; на все доброе нашлось у них ответное слово; всякое зло нашло в каждом из них личного врага. И видно было, что не умствовали они, а жили и трудились, — жили дельной практической жизнью, а не бесплодными воззрениями. Отодвинувшись в угол, Тамарин долго их молча слушал. Никто на него не обращал внимания, не стеснялся им. На свободе вслушивался он в их речи и увидел себя в каком-то чуждом мире. Все, что так живо их интересовало, было далеко от него. Их идеи, их взгляды были ему новы и странны. Должен он был сознаться, что многое, мимо чего равнодушно не раз проходил он, возбуждало их живое участие, было выставлено ими в ясном и резком свете. И увидел Тамарин, что широкая и непроходимая полоса отделяла его от этой молодежи, что светлее и далеко глубже их взгляд, что прямо, как отважные пловцы, врезались они в жизнь и приняли ее без прикрас и обольщений, с ее тяжелой, холодной волной, с ее светлыми брызгами. Долго слушал их Тамарин, и речи их казались ему какого-то другого склада и другого звука, и видел он себя посторонним и не нужным в этом свежем, молодом кругу... Взял тихонько Тамарин свою шляпу и вышел никем не замеченный.
Шумный и оживленный разговор продолжался еще некоторое время. Подано было вино, и все дружно сдвинули свои бокалы с бокалом Иванова и от души пожелали ему всего доброго. Наконец пора было ехать.
Приятели Иванова отправились к нему на квартиру, простившись с Федором Федорычем; Иванов поотстал от них и последний подошел к нему.
— Ну, прощайте, Федор Федорыч, — сказал Иванов, оставшись один.
— Прощайте, прощайте! — говорил Федор Федорыч, крепко пожимая Иванову руки.
И на его лице, обыкновенно равнодушном, явилось какое-то мягкое выражение. Он, казалось, что-то хотел сказать и не решался.
Иванов был уже в дверях, когда Федор Федорыч удержал его.
— Постойте-ка, постойте, — сказал он, — хочется мне вам сказать одну вещь. Вот видите, я не люблю советов давать и высказываться много не люблю, но хотел бы я вам замечание одно сказать. Вот видите ли, все, что вы там говорили о добре и пользе, все это хорошо, очень хорошо, и дай вам Бог, чтоб все это сбылось, и дай вам Бог сил на все это, но знаете ли, странное у вас самолюбие: вы его все в других кладете; а не грех и о себе подумать. Вы вот точно смотрите в окошко да думаете, как бы вот помочь соседу, у которого печка не топлена, а свою-то дверь забываете притворить. Догадываюсь я, например, что вы боитесь немного в сердечных делах запутаться: как, в самом деле, отдаться какому-нибудь чувству, когда вы себе на голову столько чужих забот набрали! Оно прекрасно! Хорошо чужому человеку в беде помочь, бедному руку подать, да свою-то избу зачем без нужды студить? Смотрите, чтобы после холодно не стало... Ну, однако ж, я заболтался. Прощайте, прощайте!
— Спасибо вам! — сказал Иванов, крепко пожав его руку.
Федор Федорыч проводил его и возвратился, задумавшись, к своему камину.
"Самолюбие! — думал он. — И у этого огромное самолюбие!"
Потом Федор Федорыч подумал, что и у него есть свое самолюбие, которое состоит в том, чтобы подмечать и наблюдать сколько-нибудь сильные или оригинальные личности, но что и его самолюбие не всегда удовлетворяется и ему часто приходится смотреть на давно знакомые, давно насквозь высмотренные лица, в которых столько же разнообразия, как во всех бубновых валетах из различных колод.
И затем Федор Федорыч отправился в клуб.
Было темно и холодно, когда Тамарин возвратился домой. И его, в угольной, удобной комнате, поджидал ярко топившийся камин, к которому, переодевшись, подсел Тамарин, но у камина поджидали его темные и безвыходные мысли.
Наступил для Тамарина тот день, когда, по выражению Иванова, видит весь свой век танцевавший господни, что ему не под стать и не под силу танцевать более, и приходит для него час тяжелого раздумья. Легко было ему с наружным равнодушием ответить, что тогда остается играть в карты с почтенными людьми; но знал он очень хорошо, что не всякое самолюбие усидится спокойно за карточным столом.
Весь век Тамарин жил одной жизнью часто насильственных ощущений и чувств. Любо ему было в свое время рядиться в картинные положения и чувства, когда наряд этот был в моде и ему к лицу, когда и сам он и другие верили в натуральность этого наряда. Любо ему было играть ощущениями, когда самолюбие его выигрывало в эту игру. Но когда заметил он, что устарел и становится обыденным его прежний наряд, что не много чести, по предсказанию Федора Федорыча, играть заметную роль в глазах молоденьких девочек, — тогда другими глазами взглянул он на себя и на прошлое.
Сила и новое столкновение обстоятельств иногда круто поворачивают человека и становят его на такую точку, что с иной стороны приходится ему посмотреть на давно знакомые и хорошо, казалось, осмотренные предметы. И вдруг под углом этого взгляда иногда открываются ему такие вещи, существование которых он и не подозревал доселе. Это как будто боковой луч, нечаянно упавший в темный и забытый угол и вдруг ярко осветивший в нем какую-то невиданную картину, нежданно восставшую перед изумленными очами, — иногда грустную и безвыходно-суровую картину. Хотелось бы отвести от нее глаза, хотелось бы не видеть и забыть, что видел ее, а она стоит перед очами и влечет их к себе всей силой новизны и истины, и с трепетом останавливается перед ней испуганное, но пораженное ею воображение.
Так было и с Тамариным. В первый раз в этот день самолюбие его было сильно и глубоко задето. В первый раз он увидел, что устарел со своими понятиями, суждениями и чувствами, что прошло его время и что люди с другими правилами идут перед ним совсем другою дорогою... Понял Тамарин, что странен он будет в ряду этой молодежи, в своем устарелом наряде, что не выдержать борьбы со свежими силами его истощенной силе и что пришла ему пора отойти в сторону и дать другим дорогу. Тогда взглянул он на свое прошлое и стал поверять все вынесенное им из своего пережитого, все, чем ему остается жить остальную жизнь.
Грустно сознаться, что прошла наша молодость, наша лучшая пора; грустно подводить итоги всему прожитому и истраченному, так весело прожитому и так щедро потраченному; и грустно и боязно, пройдя этот путь молодости, остановиться и приниматься пересматривать вынесенные из пройденного пути пожитки, собираться жить новым, собой нажитым добром. А что же должно чувствовать тогда, когда увидишь, что даром потрачены лучшее время и свежие силы и что не осталось от молодости ничего более, ничего кроме усталости!
Дельного Тамарин ничего не сделал, — он это знал, следовательно, тут ему и вспоминать было нечего... Жил он жизнью чувств, и стал он перебирать свои чувства.
Долго, задумавшись, сидел Тамарин, и пестрая вереница воспоминаний проходила перед ним. Но нерадостны были эти воспоминания. Другими, более строгими глазами смотрел он на них, и их ложные краски бледнели и спадали перед этим взглядом. И увидел он длинную цепь искусственных положений, обманов и насильственно и ложно возбужденных чувств. И от всех этих воспоминаний не осталось ни одного, от которого бы забилось его сердце, ни одного теплого, задушевного, над которым он мог бы сладко задуматься, которым мог бы согреть свое охолоделое чувство! А было бы что сохранить! Было бы что сберечь и затаить глубоко на сердце! Но холодно и без участия проходил он в свое время мимо этих чувств и гордо смотрел на них с высоты своего самолюбия.
И. вот пройдена молодость, подведен итог прошлому, и осталось от него ничто. И вот что он может показать другому поколению, — вот подножие его самолюбия. А перед ним еще полжизни, которую должен он прожить этим ничем. И тогда перед Тамариным, так охотно рядившимся и веровавшим в свои прежние страдания, явилось страдание истинное, страдание самолюбия, которому не на что опереться, обидное сознание в бессилии того, кто так много заставлял ожидать и обещал выполнить... Горькое, безвыходное страдание! И нарядиться-то нельзя в него, и нельзя его выставить напоказ и живописно драпироваться им!... Страдание, которое, как прореху на модном платье, надо прятать от постороннего глаза, потому что оно в состоянии возбудить не участие, а только обидное сожаление!...
Горько и невыносимо досадно было Тамарину. Хотел было он сам, в порыве досады, унижая свое самолюбие, убедить себя, что не мог он жить иначе, что не было ему дано сил на что-либо большее; но нет! Самое сознание настоящего положения, самая сила страдания говорили ему противное. Он не мог не анализировать свое прошлое и строго судить самого себя. Страшные, безвыходно тяжелые минуты переживал он. Было особенно одно мгновение — кризис страдания, когда все черные мысли разрослись до самого грозного размера. В это мгновение взгляд Тамарина упал на ящик с пистолетами, стоявший на столе, и приковался к нему. Но потом он оторвал от него глаза, провел рукою по бледному лбу, как будто желая смахнуть с него черные мысли... Много желчных и метко-злых слов пришло ему тогда на ум. Их только одни вынес он как результат всего прожитого. На свой собственный счет вырастил он и скопил их запас, и им обрадовался Тамарин, и, вооружившись ими, он остался жить...
Если вам случится встретить в обществе человека, никогда добродушно ничему не улыбающегося, — человека, который всякий успех, всякое полезное дело принимает холодно, который во всем старается подметить одну слабую сторону и беспощадно и метко смеется над нею, — человека, от которого не укроется смешное и который с наслаждением показывает его всем, злого языка которого боятся все нетвердо уверенные в себе, — всмотритесь в него: это переживший свое время Тамарин. Это Тамарин, которого мучит всякий дельный успех, потому что он напоминает ему его ничтожество. Это отживший Тамарин, которого нечего бояться, но о котором стоит пожалеть!
XII
Часу в девятом вечера большие открытые сани остановились у подъезда Имшиных. Иванов вышел из них и нашел Володю, Вареньку и детей всех за круглым чайным столом. Взглянув на дорожное платье Иванова, Варенька невольно побледнела: она не знала, что Иванов так скоро уезжает.
— Вы уже едете? — спросила она его.
— Да! — отвечал Иванов. — Я заехал к вам проститься.
И затем, в последний раз, он подсел к знакомому столу, за которым так часто и так отрадно беседовал с Варенькой. По-прежнему она угостила его чаем, но не по-прежнему шла их беседа.
Беседа, лучше сказать, вовсе не шла. Говорил большею частью Володя, да Иванов изредка старался поддерживать разговор. Варенька молчала. Было что то тяжелое и грустное тогда в этом кружке. Пустые слова и вопросы Володи как-то звучали одиноко и глухо. Не знаю, зачем и для кого говорил он их. У Вареньки и Иванова было много скопившегося на душе. Бог знает, были ли это теплые слова дружбы, запоздалые ли сожаления, или накопившиеся слезы. Они сами не сознавали этого, они были рады каждый, что не имели случая и времени высказаться друг другу. Им, может быть, было бы это еще тяжелее; но и теперь им было невыносимо, бессознательно тяжело... Их угрюмое молчание походило на затишье перед грозой. В воздухе темно и душно, нет ни солнца, ни туч, одна какая-то желтая знойная мгла, и все смолкнет, и все будто со страхом ждет чего-то неизвестного... вот, может быть, пахнет свежий ветерок и все разгонит, — может, вот сию минуту блеснет молния и страшный удар разразится над головою.
Иванов не мог долго выдержать этого положения.
— Пора! — сказал он, вставая.
И все за ним встали.
Иванов облобызался с Володей и поблагодарил его, потом подошел к Вареньке, но ничего не сказал ей, он только горячо поцеловал и крепко пожал ее руку, да потом одно, только одно мгновение, они как-то странно посмотрели друг на друга, и Иванов поспешно вышел.
Почтовая тройка двинулась, и поехал Иванов по длинным, изогнутым улицам, мимо знакомых ему домов справа и слева, смотревших на него своими разнохарактерными физиономиями. Вскоре сани спустились с горы, выехали на реку, и развязанный колокольчик зазвенел под дугой. Его однообразный, заунывный и глухой от мороза лепет, темная и пасмурная ночь, живая грусть — все скопилось вместе и навеяло Иванову горькие мысли... Долго ехал Иванов в горьком и тяжком раздумье, под заунывный, однообразный звон колокольчика, под грустный настрой печальных дум; долго он ехал в темную холодную ночь, и черные мысли, как ночные птицы, вместо сна, носились над головой его... Но вот встал из-за горы полный, бледноликий месяц. Как белая, изгибистая лента выделилась своей ровной матовой поверхностью покрытая пушистым снегом река, по которой шла зимняя дорога. Справа темными, неосвещенными обрывами стояли горы, и их голые отвесные бока были резко обнажены. С другой стороны стлался, насколько глаз охватит, низкий луговой берег. Однообразно и холодно раскинулась его освещенная луной равнина, с переливами света и тени, как заунывная музыка с легкими и монотонными вариациями. То блестела она и искрилась бледными огнями, то разрезывалась по перекату прозрачно желтой тенью. Местами, когда подходила дорога к ее некрутому берегу, тощий, обнаженный кустарник торчал наклонно своими голыми, худыми, будто иззябшими прутьями. Местами, когда дорога переваливалась к крутояру, на нем, по изгибу гор, мрачно и хмуро высился сосновый лес. Но его свинцово-темная зелень, будто посинелая от стужи, была еще холоднее, еще суровее среди зимнего ландшафта, нежели голые сучья кустов.
Взглянул Иванов на эту холодно-ясную, обнаженную от всех поэтически прекрасных вешних убранств природу, и что-то родственное душе его увидел он в ней. И он также принял жизнь, как она есть, не с одними ее душистыми цветами и яркой зеленью, — и он принял ее такую, как эта безыскусственная обнаженная природа, и любо стало ему смотреть в глаза этому созвучному с его мыслями, унылому виду. И нашел он в нем какое-то суровое наслаждение. Казалось, силы его росли и крепли наперекор морозу, и послышал он, что горячая кровь играет в груди его. Стряхнул Иванов тяжелые думы, крикнул ямщику: «Пошел!" — и, надвинув меховую шапку, помчался по гладкой дороге.
И тут мы остановимся и простимся, читатель, с нашими действующими лицами, которыми я, может быть, слишком долго утомлял твое внимание. Простимся и с Тамариным, одиноко сидящим со своей дорого купленной хандрой, и с новым знакомцем Ивановым, который выбрал трудный путь, и с Федором Федорычем, который не трудился выбирать себе никакого пути. Прости и ты, моя хорошенькая Марион, которую я оставил задумавшейся на распутье двух дорог, — и вы все, разнохарактерные, полуочерченные лица, которые мельком являлись и проходили по нашей сцене...
Но, как отъезжающий, который, навсегда покидая знакомый ему город, впоследние уже оборачивается к нему, и в то время, когда он уже тонет вдали, старается еще раз взглянуть на один близкий, родной ему дом, еще раз посмотреть, не увидит ли он кого у знакомого ему окна, — так я еще раз возвращаюсь на минуту, чтобы впоследние взглянуть на Вареньку.
Проводив Иванова до прихожей, Володя поспешно отправился в кабинет, переоделся и вошел к жене проститься. Он нашел ее бледной, задумчиво сидящей, пригорюнившись у стола.
— Ну, вот ты какая, Варенька! — сказал он. — Вот уж ты и опечалилась. Эдакая ты привязчивая! Чуть поближе с кем познакомилась, уж и любишь как родного. Ну, что тебе Иванов? Конечно, он хороший человек, да не родня какая-нибудь. Ну, полно, дурочка моя! — сказал он, нежно взяв ее двумя пальцами за подбородок и потормошив за него. — Ну, полно, — сказал он, — не грусти, я сегодня пораньше из клуба вернусь.
Затем он ее поцеловал — на счастье — и вышел.
Когда Варенька осталась одна, она осмотрелась и почувствовала какую-то страшную мертвящую пустоту.
Страшно стало бедной Вареньке! Не грустно, а как-то безотрадно, болезненно заныло ее сердце; какой-то неопределенно мертвящий страх сошел на него и наложил свою холодную руку.
Ею овладело какое-то беспокойство; боязно ей стало оставаться одной в этой комнате, где она так часто сидела в длинный зимний вечер, поджидая Иванова. Бледная встала Варенька и спешила выйти; точно тут была какая-то грозящая, неотвязно стоявшая перед нею мысль, от которой она хотела спастись, убежать. И она поспешно отворила дверь и вошла в смежную комнату. Это была ее спальня. Темные зеленые обои при слабом освещении придавали ей какой-то унылый вид. Левая сторона комнаты вся тонула в полумраке, и только неясно и живописно оттенялись в нем тяжелые штофные занавеси. Но направо, в углу, светился огонь. Перед широким резным киотом горела лампада. Его мерцающий и вздрагивающий свет, отражая на потолке три будто двигающиеся тени цепочек, скупо разливался и терялся в комнате, но ярко горел на золотых окладах, из которых таинственно смотрели святые лики. А кругом была тишина, тишина.
И было что-то величественно-спокойное и вместе скромное в этом слабо освещенном уголке, тихо и одиноко стоявшем, с его вечно мерцающей серебряной лампадкой. Было в нем что-то неодолимо влекущее и успокаивающее, нежданное, точно светлая мысль надежды, которая вдруг вспыхнет в голове, загроможденной грустными и черными думами. И взглянув на этот уголок, Варенька бросилась к нему, как странник бросается к родному берегу, как утопающий к добродушно и сострадательно протянутой к нему руке. Она пала ниц перед киотом и горько, горько заплакала.
Это была ее молитва, — самая искренняя, самая горячая, самая доступная небесам молитва... В этой молитве не было ни слов, ни просьб, ни желаний, ни мыслей. Она только плакала, она будто хотела только выплакать в слезах всю свою душу и положить ее, так как она есть, на суд Творца, к Его подножию. И долго, недвижная, лежала Варенька; только плечи ее вздрагивали от глухих рыданий, только густые темно-русые волосы ее скатились с головы и волной вокруг лица упали на пол. Мало помалу рыдания ее становились тише и тише. Безмолвие, ими нарушенное, нисходило и нисходило. И наконец все смолкло, и стала опять святая недвижная тишина во всем своем таинственном величии. Как будто необходима была она, чтобы молитва, ничем не сдержанная, могла свободно возноситься. И молитва Вареньки неслась выше и выше, и донеслась она до далеких небес...
Вдруг послышался шорох, и над ухом Вареньки заговорил неясный детский голос.
— Мама, мама, перекрести нас, — сказал кто-то.
Варенька очнулась, встала и горячо прижала к взволнованной и еще высоко вздымающейся груди курчавые, полусонные головки двух детей своих.


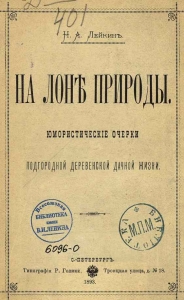
Комментарии к книге «Иванов», Михаил Васильевич Авдеев
Всего 0 комментариев