Иван Алексеевич Бунин Собрание сочинений в девяти томах Том 9. Освобождение Толстого. О Чехове. Статьи
Освобождение Толстого
I
«Совершенный, монахи, не живет в довольстве. Совершенный, о монахи, есть святой Высочайший Будда. Отверзите уши ваши: освобождение от смерти найдено».
И вот и Толстой говорит об «освобождении»:
— Мало того, что пространство и время и причина суть формы мышления и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть (все) большее и большее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них…
В этих словах, еще никем никогда не отмеченных, главное указание к пониманию его всего.
Астапово — завершение «освобождения», которым была вся его жизнь, невзирая на всю великую силу «подчинения».
Помню, с каким восторгом сказал он однажды словами Пифагора Самосского: «Нет у тебя, человек, ничего, кроме души!» Знаю, как часто повторял Марка Аврелия: «Высшее назначение наше — готовиться к смерти». Так он и сам писал: «Постоянно готовишься умирать. Учишься получше умирать».
«Я — Антонин, но я и человек; для Антонина град и отечество — Рим, для человека — мир».
Для Толстого не осталось в годы его высшей мудрости не только ни града, ни отечества, но даже мира; осталось одно: бог; осталось «освобождение», уход, возврат к богу, растворение — снова растворение — в нем.
Князь Андрей слушал пение Наташи: — Страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределенным, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам и даже была она, — эта противоположность томила и радовала его во время ее пения…
Эта «противоположность» томила Толстого с рождения до последнего вздоха.
Как умирал князь Андрей?
«Чем больше он в те часы страдальческого уединения и бреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви значило — никого не любить, значило — не жить этой земной жизнью».
«Отверзите уши ваши, монахи: освобождение от смерти найдено. Я поучаю вас, я проповедую Закон. Если вы будете поступать сообразно поучениям, то через малое время получите то, ради чего благородные юноши уходят с родины на чужбину, получите высшее исполнение священного стремления; вы еще в этой жизни познаете истину и увидите ее воочию».
Христос тоже звал «с родины на чужбину»: «Враги человеку домашние его… Кто не оставит ради меня отца и матери, тот не идет за мной».
Их немало было, «благородных юношей, покинувших родину ради чужбины»: был царевич Готами, был Алексей Божий человек, был Юлиан Милостивый, был Франциск из Ассизи… К лику их сопричислился и старец Лев из Ясной Поляны.
II
— Родился я и провел первое детство в деревне Ясной Поляне…
Он начал этими словами свои неоконченные «Первые воспоминания», которые писал для своего друга и последователя Бирюкова, предпринявшего составление его биографии. Он разделил тогда свою жизнь на семилетия, говорил, что «соответственно семилетиям телесной жизни человека, признаваемым даже и некоторыми физиологами, можно установить и семилетия в развитии жизни духовной». Этих семилетий было с небольшим недочетом двенадцать.
Первое — детство:
Рождение и жизнь в Ясной Поляне. Родился (от графа Николая Ильича Толстого и графини Марии Николаевны Толстой, урожденной княжны Волконской) 28 августа 1828 года[1]. На втором году от рождения потерял мать, умершую тридцати девяти лет. Учение начал дома, с гувернером-немцем, написанным в «Детстве» под именем Карла Ивановича.
Второе — отрочество:
Жизнь с семьей и продолжение учения в Москве. Там, на восьмом году от роду, потерял отца, внезапно умершего от разрыва сердца сорока двух лет.
Третье — юность:
Переезд сирот в Казань к бабушке по отцу, учение в казанском университете. Университетское учение, за малыми успехами[2] в науках и в силу собственного сознания «бесполезности всего того, чему эти науки учат», оставил со второго курса, чтобы воротиться в Ясную Поляну и посвятить себя сельскому хозяйству и заботам о своих крепостных. После разочарования и в этом, уехал в Москву, потом в Петербург, с намерением служить по гражданской службе.
Четвертое — от 21 года до 28 лет:
Разочарование в мечтах и о гражданской службе. Военная служба на Кавказе, потом в осажденном Севастополе. Начало писательства. Написал в это семилетие: «Детство», «Отрочество» и «Юность», «Севастопольские рассказы», «Метель», «Два гусара», «Утро помещика»; начал «Казаки».
Пятое — от 28 до 35 лет:
Выход из военной службы, заграничные путешествия для знакомства с постановкой школьного дела в Европе, педагогическая и судебная деятельность в Ясной Поляне — и женитьба на Софье Андреевне Берс. «Казаки» и начало «Войны и мира». В это семилетие потерял брата Дмитрия, потом брата Николая.
Шестое — от 35 до 42 лет:
Семейная жизнь, уже четверо детей, хозяйство, писание и печатание «Войны и мира».
Седьмое — от 42 до 49 лет:
Поездки на лечение кумысом в Самарскую губернию. Там же работа на голоде. «Анна Каренина». Рождение еще четверых детей (из которых два мальчика умерли).
Восьмое — от 49 до 56 лет:
«Исповедь». Переезд в Москву для воспитания детей. Знакомство с Чертковым. «Чем люди живы», «В чем моя вера», «Так что же нам делать». Рождение еще одного сына и еще одной дочери (Александры).
Девятое — от 56 до 63 лет:
Жизнь в Москве. Рассказы для народа, «Смерть Ивана Ильича», «Власть тьмы», «Плоды просвещения», «Крейцерова соната», начало писания «Воскресения». Рождение еще одного ребенка, Ванечки.
Десятое — от 63 до 70 лет:
Новая работа на голоде (в Тульской губернии). Отказ от авторских прав на все, что написано после 1881 года. «Царство божие внутри вас», «Хозяин и работник», «Об искусстве». Смерть Ванечки.
Одиннадцатое — от 70 до 77 лет:
Первая тяжелая болезнь. Появление в печати «Воскресения» Отлучение от церкви. Переезд всей семьи в Ясную Поляну. Зима в Крыму, где пережиты еще воспаление легких и брюшной тиф. Начало составления «Круга чтения». Писание писем и обращений: к духовным друзьям и последователям, к правительству, к военным, к церковнослужителям, к политическим и общественным деятелям…
И, наконец, двенадцатое, недожитое — от 77 до 83 лет:
Смерть наиболее любимой и близкой по духу дочери Маши. Тайное составление завещания, в котором право на все его писания передавалось Александре Львовне, а распоряжение ими Черткову. Бегство в ночь с 27 на 28 октября 1910 года из Ясной Поляны; болезнь в пути и смерть на железнодорожной станции Астапово (7 ноября).
Эта смерть была его последним «освобождением».
Уйти, убежать он стремился давно. Еще в 1884 году писал в дневнике:
— Ужасно тяжело. Напрасно не уехал… Этого не миновать…
В 1897 году опять совсем было решил уйти, даже написал прощальное письмо Софье Андреевне — и опять не осуществил своего решения: ведь бросить семью — это, значит, думать только о себе, а каково будет семье, какой это будет для нее удар!
Он тогда писал:
— Как индусы под шестьдесят лет уходят в лес, как всякому религиозному человеку хочется последние годы жизни посвятить богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой семидесятый год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения и хоть неполного согласия, но не кричащего разногласия со своими верованиями, со своей совестью…
То же писал и в ночь бегства:
— Я делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста. Уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и в тиши последние дни своей жизни…
К бегству подбивали его и со стороны. За месяц до бегства он писал:
«От Черткова письмо с упреками и обличением», — за то, что он, Толстой, все продолжает жить так, как живет. — «Они разрывают меня на части. Иногда думается уйти ото всех»[3].
Чертков впоследствии оправдывался, говорил, что не настаивал на его уходе. Нет, он только колебался, — например, так писал толстовцу болгарину Досеву:
— Если бы он ушел из дому, то, при его преклонных летах и старческих болезнях, он уже не смог бы жить физическим трудом. Не мог бы он также пойти с посохом по миру и заболеть и умереть где-нибудь на большой дороге или прохожим странником в чужой избе… он не мог бы так поступить из простой любви к любящим его людям, к своим дочерям и друзьям, близким ему по сердцу и духу. Он не мог бы, не становясь жестоким…
Как бы там ни было, он решился наконец и на полную возможность «умереть где-нибудь на большой дороге» и на «жестокость». 28 октября он был уже в Оптиной Пустыни:
— 28 окт. 1910 г., Оптина Пустынь. Лег (вчера) в половине 12. Спал до третьего часа. Проснулся и опять, как прежние ночи, услыхал отворяние дверей и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, нынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это Софья Андреевна что-то разыскивает, вероятно, читает. Накануне она просила, требовала, чтобы я не запирал дверей. Ее обе двери отворены, так что малейшее движение слышно ей. И днем и ночью все мои движенья, слова должны быть известны ей и быть под ее контролем. Опять шаги, осторожное отпирание двери, и она проходит. Не знаю отчего, это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажег свечу и сел. Отворяет дверь и входит Софья Андреевна, спрашивая «о здоровье» и удивляясь на свет у меня. Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс: девяносто семь. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать. Бужу Душана[4], потом Сашу, они помогают мне укладываться. Я дрожу при мысли, что она услышит, выйдет, — сцена, истерика, и уж впредь без сцены не уехать. В 6-м часу все кое-как уложено; я иду на конюшню велеть закладывать; Душан, Саша, Варя доканчивают укладку. Ночь — глаз выколи, сбиваюсь с дорожки к флигелю, попадаю в чашу, накалываюсь, стукаюсь об деревья, падаю, теряю шапку, не нахожу, насилу выбираюсь, иду домой, беру шапку и с фонариком добираюсь до конюшни, велю закладывать. Приходит Саша, Душан, Варя. Я дрожу, ожидая погони. Но вот уезжаем. В Щекине ждем час, и я всякую минуту жду ее появления. Но вот сидим в вагоне, трогаемся, и страх проходит, и поднимается жалость к ней, но не сомнение, сделал ли то, что должно. Может быть, ошибаюсь, оправдывая себя, но кажется, что я спасал себя — не Льва Николаевича, а спасал то, что иногда и хоть чуть-чуть есть во мне. Доехали до Оптиной. Я здоров, хотя не спал и почти не ел. Путешествие от Горбачева в третьеклассном набитом рабочим народом вагоне очень поучительно и хорошо, хотя я и слабо воспринимал. Теперь 8 часов, мы в Оптине…
О том, куда ему направиться, после того как он убежит из Ясной Поляны, он думал нечто очень неопределенное: «Куда-нибудь за границу… например, в Болгарию… Или в Новочеркасск и дальше — куда-нибудь на Кавказ…» В последнюю минуту он выбрал как первую цель монастырь в селе Шамардине, где доживала свою жизнь его престарелая сестра, монахиня матерь Мария.
— Ты останешься, Саша, — сказал он дочери в ночь бегства. — Я вызову тебя через несколько дней, когда решу окончательно, куда я поеду. А поеду я, по всей вероятности, к Машеньке в Шамардино…
«К Машеньке» — это значит: к той единственной, что осталась на свете от того бесконечно далекого времени, когда только что начиналась жизнь, когда «нам, братьям, было — мне 5, Митеньке 6, Сереже 7, и Николенька (которому было 11) объявил нам, что у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни болезни, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться, и все будут любить друг друга, все сделаются „муравейными братьями“…»
Известно, что это было, эти муравейные братья:
— Вероятно, это были моравские братья, о которых Николенька слышал или читал. Я помню, что слово «муравейные» нам особенно нравилось, напоминая муравьев в кочке. Мы даже устроили игру в муравейные братья, которая состояла в том, что садились под стулья, загораживали их ящиками, завешивали платками и сидели там в темноте, прижимаясь друг к другу. Я, помню, испытывал особенное чувство любви и умиления и очень любил эту игру. Муравейные братья были открыты нам, но главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы, эта тайна была, как он нам говорил, написана им на зеленой палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого Заказа, в том месте, в котором я, так как надо же где-нибудь зарыть мой труп, просил, в память Николеньки, закопать меня…
Последние годы его жизни были несказанно трогательны и прекрасны. И вот в это время он ехал однажды с Александрой Львовной верхом мимо этого места:
«Мы возвращались с отцом домой, поравнялись с полянкой, где весной на бугорке цвели голубым полем незабудки, а летом росли бархатные с розовым корнем и коричневой подкладкой крепкие грибы боровики. Отец окликнул меня:
— Саша!
И, когда я, пришпорив лошадь, подъехала, он сказал:
— Вот тут, между этими дубами… — Он натянул повод и хлыстом, отчего лошадь нервно дернулась, указал мне место. — Тут схороните меня, когда я умру…»
Теперь, в эту последнюю свою ночь в том доме, где он провел почти весь свой век, он расставался даже и с этой мечтой — лежать в могиле среди тех родных дубов, место которых было связано с памятью Николеньки. «Иногда думается уйти ото всех». Мог бы прибавить: и ото всего.
Почему он бежал? Конечно, и потому, что «тесна жизнь в доме, место нечистоты есть дом», как говорил Будда. Конечно, и потому, что не стало больше сил выдерживать многолетние раздоры с Софьей Андреевной из-за Черткова, из-за имущества… Софья Андреевна, заболевшая в конце концов и душевно и умственно, довела уже до настоящего ужаса своими преследованиями, и уже крайних пределов достиг стыд — жить в безобразии этих раздоров и в той «роскоши», которой казалась ему жизнь всей семьи и в которой и сам был принужден жить. Но только ли эти причины побуждали к бегству?
— Мне очень тяжело в этом доме сумасшедших, — писал он в своем дневнике.
Но писал и другое, гораздо более важное:
— Хороша у Ж.-П. Рихтера сказка об отце, воспитавшем детей под землей. Им надо умереть, чтобы выйти на свет. И они страшно желали смерти…
— Нет более распространенного суеверия, что человек с его телом есть нечто реальное.
— Хорошо думал о безумии личной жизни — не только личной жизни своей, но и жизни общей, временной.
— Что такое я? Отчего я?
— Пора проснуться, то есть умереть.
— Вещество и пространство, время и движение отделяют меня и всякое живое существо от всего бога.
— Все меньше понимаю мир вещественный и, напротив, все больше и больше сознаю то, что нельзя понимать, а можно только сознавать.
— «Но как же род человеческий?» Не знаю. Знаю только, что закон совокупления не обязателен человеку.
— Подняться на точку, с которой видишь себя. Все в этом.
— Мой дух живет и будет продолжать жить. «Но это уже не твой будет дух», — говорят на это. То-то и хорошо, что к этому тому, что останется жить после меня, не будет примешана личность. отвечаю я. Личность есть то, что мешает слиянию моей души со Всем.
— Тело? Зачем тело? Зачем пространство, время, причинность?
Он бежал «куда-нибудь» и не мог не знать, что, по его годам и слабостям телесным, при тех обмороках, в которые он впадал дома при малейшем переутомлении, ждала его на пути только смерть. «Но это-то и хорошо». Лишь бы не умереть, как умирает человек этого мира, а умереть, как зверь, — по древнейшему закону природы: в той священной тайне, в которой умирает «где-то» всякий свободный зверь, всякая свободная птица, ибо никогда не находит человек ни свободного зверя, ни свободной птицы мертвыми ни в городе, ни в деревне, ни даже в чистом поле. И, умирая, в бреду, несвязно внешне, но совершенно точно внутренне, он сказал (в полном соответствии со всем тем, что цитировано выше) чисто индусские слова:
— Все Я… все проявления… довольно проявлений…
Есть в книге его секретаря Булгакова запись, поражающая всех: «Я разлюбил Евангелие, сказал мне Лев Николаевич за 4 месяца до своей смерти». Но ничего не будет в этих словах поразительного, если вспомнить, что он сказал о своей жизни, разделив ее «на три фазиса».
Сперва, деля ее на семилетия, он писал Бирюкову:
— Когда я подумал, чтобы написать всю истинную правду о себе, не скрывая ничего дурного моей жизни, я ужаснулся перед тем впечатлением, которое должна была бы произвести такая биография… Я записал у себя в дневнике 6 января 1903 года следующее: «Я теперь испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость моей прежней жизни, и воспоминания эти не оставляют меня и отравляют мне жизнь…»
Потом он разделил свою жизнь «на периоды» и суд себе вынес уже более милостивый:
— Вспоминая свою жизнь, то есть рассматривая ее с точки зрения добра и зла, которые я делал, я увидал, что вся моя длинная жизнь распадается на четыре периода: тот чудный, в особенности в сравнении с последующим, невинный, радостный, поэтический период детства до четырнадцати лет, потом второй — ужасные двадцать лет грубой распущенности, служения честолюбию, тщеславию и, главное, похоти, потом третий — восемнадцатилетний период, то есть от женитьбы и до моего духовного рождения, который с мирской точки зрения можно бы назвать нравственным, так как в эти восемнадцать лет я жил правильной, честной, семейной жизнью, не предаваясь никаким осуждаемым общественным мнением порокам, но все интересы которого ограничивались эгоистическими заботами о семье, об увеличении состояния, о приобретении литературного успеха и всякого рода удовольствиями. И, наконец, четвертый — двадцатилетний период, в котором я живу теперь и в котором надеюсь умереть и с точки зрения которого я вижу все значение прошедшей жизни и которого я ни в чем не желал бы изменить, кроме как в тех привычках зла, которые усвоены мною в прошедшие периоды…
В последние годы он делил свою жизнь на «фазисы».
— Человек переживает три фазиса, и я переживаю из них третий. В первый фазис человек живет только для своих страстей: еда, питье, охота, женщины, тщеславие, гордость — и жизнь полна. Так у меня было лет до тридцати четырех, потом начался интерес блага людей, всех людей, человечества (началось это резко с деятельности школ, хотя стремление это проявлялось кое-где, вплетаясь в жизнь личную, и прежде). Интерес этот затих было в первое время семейной жизни, но потом опять возник с новой и страшной силой, при сознании тщеты личной жизни. Все религиозное сознание мое сосредоточивалось в стремлении к благу людей, в деятельности для осуществления царства божьего. И стремление это было так же сильно, так же страстно, так же наполняло всю жизнь, как и стремление к личному благу. Теперь же я чувствую ослабление этого стремления: оно не наполняет мою жизнь, оно не влечет меня непосредственно; я должен рассудить, что эта деятельность хорошая, деятельность помощи людям материальной, борьбы с пьянством, с суевериями правительства, церкви. Во мне, я чувствую, выделяется, высвобождается из покровов новая основа жизни, которая включает в себя стремление к благу людей так же, как стремление к благу людей включало в себя стремление к благу личному. Эта основа есть служение богу, исполнение его воли по отношению к той его сущности, которая во мне. Не самосовершенствование — нет. Это было прежде, и в самосовершенствовании много было любви к личности. Теперь другое. Это стремление к чистоте божеской. Стремление это начинает все больше и больше охватывать меня, и я вижу, как оно охватит меня всего и заменит прежние стремления, сделав жизнь столь же полною… Когда во мне исчез интерес к личной жизни и не вырос еще интерес религиозный, я ужаснулся, чувствуя, что мне нечем жить, но потом, когда возникло религиозное чувство стремления к благу человечества, я в этом стремлении нашел полное удовлетворение и стремление к благу личности; точно так же теперь, когда исчезает во мне прежнее страстное стремление к благу человечества, мне немножко жутко, как будто пусто, но стремление к той жизни и приготовление себя к ней уже заменяет понемногу прежнее, вылупляется из прежнего и точно так же, как и стремление к личному благу, удовлетворяет вполне и лучше стремления к благу общему. Готовясь только к той жизни, я вернее достигаю служения благу человечества, чем когда я ставил себе целью это благо. Точно так же, как, стремясь к благу общему, я достигал своего личного блага вернее, чем когда я ставил себе целью личное благо. Стремясь, как теперь, к богу, к чистоте божеской сущности во мне, к той жизни, для которой она очищается здесь, я попутно достигаю вернее, точнее блага общего и своего личного блага как-то неторопливо, несомненно и радостно…
Древняя индусская мудрость говорит, что человек должен пройти два пути в жизни: Путь Выступления и Путь Возврата. На Пути Выступления человек чувствует себя сперва только своей «формой», своим временным телесным бытием, своим обособленным ото всего Я, находится в тех своих личных границах, куда заключена часть Единой Жизни, и живет корыстью чисто личной; затем корысть его расширяется, он живет не только собой, но и жизнью своей семьи, своего племени, своего народа, и растет его совесть, то есть стыд корысти только личной, хотя все еще живет он жаждой «захвата», жаждой «брать» (для себя, для своей семьи, для своего племени, для своего народа). На Пути же Возврата теряются границы его личного и общественного Я, кончается жажда брать — и все более и более растет жажда «отдавать» (взятое у природы, у людей, у мира): так сливается сознание, жизнь человека с Единой Жизнью, с Единым Я — начинается его духовное существование.
«Человек переживает три фазиса…»
III
Из Ясной Поляны он выбрался между 4 и 5 часами утра (как записал Маковицкий, с удивительной точностью, много лет, изо дня в день, ведший свои записи о нем). Вез его в старой дышловой коляске старый кучер Адриан. Коляску сопровождал верхом, освещая путь факелом, конюх Филипп. Ехали на станцию Щекино Московско-Курской ж. д. (5 верст от Ясной Поляны). В дороге было холодно, и Маковицкий надел на него вторую шапку. На станции Щекино сели в товаро-пассажирский поезд, шедший от Тулы на Орел. На узловой станции Горбачево (105 верст от города Козельска Калужской губернии) пересели в смешанный поезд. В 4 ч. 50 вечера приехали в Козельск, в 5 верстах от которого находился древний мужской монастырь «Оптина Введенская Пустынь», а в четырнадцати верстах далее, в большом селе Шамардине, тот женский монастырь, где давно монашествовала Мария Николаевна.
Когда прибыли в Козельск, уже совсем смеркалось. Со станции поехали в монастырь в ямщицкой тележке по речной низменности, отделяющей Козельск от монастыря. Дорога была ужасная, грязная, говорится в записях Маковицкого. Было очень темно. Месяц светил из-за облаков. Лошади шли шагом. «Лев Николаевич спрашивал еще в вагоне и теперь спросил (ямщика), какие есть старцы в Оптиной, и сказал, что пойдет к ним». Под монастырем переправлялись через реку на пароме. В монастыре остановились у гостинника-монаха о. Михаила. О. Михаил, с рыжими, почти красными волосами и бородой, приветливый, отвел просторную комнату с двумя кроватями и широким диваном. Внесли вещи. Лев Николаевич сказал: «Как здесь хорошо!» И сейчас же сел за писание. Написал довольно длинное письмо и телеграмму Александре Львовне. Потом пил чай с медом (ничего не ел), попросил яблоко на утро и стакан, куда на ночь ставил самопишущее перо. Потом стал писать дневник, спросил, какое сегодня число. В 10 часов лег спать… Пиша, больше обыкновенного торопился… Когда ложился спать, Маковицкий хотел помочь ему снять сапоги, и он рассердился: «Я хочу сам себе служить!»
Никому до сих пор не известно: думал ли он остаться в Оптиной или Шамардине? Как там было остаться отлученному от церкви, не примирившись с нею? И вот предполагают: может быть, он хотел примириться. Для такого предположения есть некоторые основания.
Мой покойный друг Лопатина (сестра известного философа Льва Лопатина) рассказывала мне:
— Я была после смерти Толстого в Шамардине. Через широкую речку к монастырю перевозили на пароме монахи в белых подрясниках и белых скуфейках. Такие же монахи работали в полях. Кругом все радовало — тишиной, красотой, миром, был жаркий летний день. В чистеньком номере монастырской гостиницы, светлом, тесном и бедном, со странной маленькой деревянной кроватью, может быть, еще времен Бориса Годунова, за чаем с просфорами, монах много говорил о последнем посещении монастыря Толстым:
«Приехал, постучал и спрашивает: „Можно мне войти?“ Гостинник говорит: „Пожалуйте“. — „Ведь я Толстой, может, вы меня не примете?“ — „Мы всех принимаем, — говорит гостинник, — всякого, кто желание имеет“. Они и остановились у нас. Потом пошли к настоятелю, потом ездили в Шамардино, к сестре своей монахине… Потом за ними приехали…»
Монах еще говорил, что перед крыльцом настоятеля Лев Николаевич стоял на холоде и сырости с шапкой в руках. Он опять не хотел входить прямо, опять просил служку доложить: «Скажите, что я Лев Толстой, может быть, мне нельзя?» Монах сам вышел к нему, раскрыв объятия, и сказал: «Брат мой!» Лев Николаевич бросился к нему на грудь и зарыдал…
Приехав в Шамардино, к Марии Николаевне, он радостно сказал ей: «Машенька, я остаюсь здесь!» Волнение ее было слишком сильно, чтобы сразу поверить этому счастью. Она сказала ему: «Подумай, отдохни…»
Он вернулся к ней утром, как было у словлено, но уже не один: вошли и те, что за ним приехали. Он был смущен и подавлен, не глядел на сестру. Ей сказали, что едут к духоборам.
— Левочка, зачем ты это делаешь? — воскликнула она. Он посмотрел на нее глазами, полными слез.
Ей сказали (Александра Львовна):
— Тетя Маша, ты всегда видишь все в мрачном свете и только расстраиваешь папа. Все будет хорошо, вот увидишь…
И отправились с ним в его последнюю дорогу…
Если бы были свидетельства только вроде вот этих, можно было бы не придать им значения: и сама Лопатина, и подобные ей по духу, по правоверной, церковной религиозности, легко могли поддаться искушению создать легенду, будто он действительно стремился примириться с церковью. Но оказались и другие свидетельства.
Не случайно же все-таки поехал он в Шамардино. Заехал туда по пути? Но по пути куда? И зачем? Повидаться с сестрой? Но с какой целью? Просто с родственной? Но ведь, может быть, не только с родственной? Как бы там ни было, он поехал в Шамардино, ехал через Оптину Пустынь; по дороге туда от Козельска спрашивал ямщика о старцах, там ночевал и провел весь день в монастырской гостинице. Зачем? Известно, что много беседовал с о. Михаилом, — опять расспрашивал о старцах, спасающихся при монастыре в скиту, выражал желание повидаться с ними, а потом «вышел, бродил возле скита, дважды подходил к дому старца о. Варсонофия, стоял у его дверей, но не взошел»…
Это говорит, — то же, что и Лопатина, — известный журналист Ксюнин, посетивший Шамардино тотчас после его смерти. Он многое говорит в своей книге «Уход Толстого» со слов матери Марии и, между прочим, следующее: когда Толстой пришел к сестре, — он и в Шамардине остановился в монастырской гостинице, — они долго сидели, затворившись ото всех в ее спальне. Вышли только к обеду, и тогда Толстой сказал:
— Сестра, я был в Оптиной, как там хорошо! С какой радостью я жил бы там, исполняя самые низкие и трудные дела; только поставил бы условием не принуждать меня ходить в церковь.
— Это было бы прекрасно, — отвечала сестра, — но с тебя взяли бы условие ничего не проповедовать и не учить.
Он задумался, опустил голову и оставался в таком положении довольно долго, пока ему не напомнили, что обед окончен.
— Виделся ты в Оптиной со старцами? — спросила сестра.
Он ответил:
— Нет… Разве ты думаешь, что они меня приняли бы? Ты забыла, что я отлучен…
Чем бы все это кончилось? Может быть, и состоялись бы его встречи с оптинскими старцами и, может быть, привели бы они к возвращению его в лоно церкви. Но на другой день в Шамардино приехала Александра Львовна и привезла страшные вести из Ясной Поляны, — о том, что Софья Андреевна, узнав утром 28 октября о его бегстве, дважды покушалась на самоубийство (два раза убегала на пруд и топилась), рыдала весь день, била себя в грудь то тяжелым пресс-папье, то молотком, колола себя ножами, ножницами, рвалась выброситься в окно и все кричала:
— Я его найду, я убегу из дому, побегу на станцию! Ах, только бы узнать, где он! Уж тогда-то я его не выпущу, день и ночь буду караулить, спать буду у его двери!
Ее письмо к нему, которое привезла с собой Александра Львовна, было тоже совершенно ужасно по своему отчаянию. И вот, потрясенный и этим письмом, и всем тем, что было после его бегства в Ясной Поляне, охваченный ужасом, что, того гляди, Софья Андреевна узнает, где он, и бросится за ним в погоню, он побежал дальше.
— Я не могу вернуться, я не вернусь, — все повторял он в день приезда Александры Львовны.
— Я хотел здесь остаться, я даже избу ходил нанимать здесь на житье себе…
Но теперь остаться было невозможно. Он провел весь день 30 октября за тревожным писанием нового письма Софье Андреевне, писал, сидя в жарком номере под открытой форточкой, которую не позволил закрыть, лег спать в тревоге и тоске, разрываемый и жалостью к Софье Андреевне, и невозможностью вернуться домой, и опять вскочил еще в темноте, в 4 часа утра.
— В 4 часа он разбудил Душана Петровича, послал за ямщиками, — говорит Александра Львовна. — Помня обещание, данное мною тете Маше непременно повидаться с ней в случае отъезда дальше, я тотчас же послала за ней. Было еще совсем темно. При свете свечи я торопливо собирала вещи, завязывала чемоданы. Пришел Душан Петрович. Козельские ямщики подали лошадей… Отец очень волновался, наконец решил ехать, не дождавшись тети Маши и Оболенской, которым написал следующее письмо:
«Шамардинский монастырь. 31 октября 1910 года, 4 ч. утра. Милые друзья, Машенька и Лизанька. Не удивляйтесь и не осудите нас, меня за то, что мы уезжаем, не простившись хорошенько с вами. Не могу выразить вам обеим, особенно тебе, голубушка Машенька, моей благодарности за твою любовь и участие в моем испытании. Я не помню, чтобы, всегда любя тебя, испытывал бы к тебе такую нежность, какую я чувствовал эти дни и с которой уезжаю. Уезжаем мы так непредвиденно потому, что боюсь, что меня застанет здесь Софья Андреевна. А поезд только один, в восьмом часу. Целую вас, милые друзья, и так радостно люблю вас. Л. Т.».
Куда он бежал теперь? Решено было — пока в Новочеркасск. Но решали только его спутники — сам он, разбитый, шатающийся от усталости и пережитых волнений, только торопил бежать:
— Все равно куда… только ни в какую ни в толстовскую колонию, а просто в мужицкую избу…[5]
На станции Козельск едва успели попасть в поезд, шедший на юг, вскочили в вагон без билетов. На станции Волово взяли билеты до Ростова-на-Дону. Это было утром 31 октября, а 1 ноября Александра Львовна уже телеграфировала Черткову:
«Вчера слезли Астапово, сильный жар, забытье, утром температура нормальная, теперь снова озноб. Ехать немыслимо».
В это же утро, говорит она дальше, отец продиктовал мне следующие мысли в свою записную книжку:
«Бог есть неограниченное Все, человек есть только ограниченное проявление Бога».
Она записала это и ждала, что он будет диктовать дальше, но он сказал:
— Больше ничего.
Он полежал некоторое время молча, потом снова подозвал ее:
— Возьми записную книжку и перо и пиши:
«Или еще лучше так: бог есть то неограниченное Все, чего человек сознает себя ограниченной частью. Истинно существует только бог. Человек есть проявление его в веществе, времени и пространстве. Чем больше проявление бога в человеке (жизнь) соединяется с проявлением (жизнями) других существ, тем больше он существует. Соединение этой своей жизни с жизнями других существ совершается любовью.
Бог не есть любовь, но чем больше любви, тем больше человек проявляет бога, тем больше истинно существует.
Бога мы познаем только через сознание его проявления в нас. Все выводы из этого сознания и руководство жизни, основанное на нем, всегда вполне удовлетворяют человека и в познании самого бога и в руководстве в своей жизни, основанном на этом сознании».
Через некоторое время он снова позвал ее:
— Теперь я хочу написать Тане и Сереже.
Несколько раз он должен был прекращать диктовать из-за подступавших к горлу слез, и минутами она едва могла расслышать его тихий, тихий голос:
«Милые мои дети, Таня и Сережа!
Надеюсь и уверен, что вы не попрекнете меня за то, что я не призвал вас. Призвание вас одних без мама было бы великим огорчением для нее, а также и для других братьев. Вы оба поймете, что Чертков, которого я призвал, находится в исключительном положении по отношению ко мне. Он посвятил свою жизнь на служение тому делу, которому я служил последние сорок лет моей жизни. Дело это не столько мне дорого, сколько я признаю — ошибаюсь или нет — его важность для всех людей и для вас в том числе.
Благодарю вас за ваше хорошее отношение ко мне. Не знаю, прощаюсь ли или нет, но почувствовал необходимость высказать то, что высказал.
Еще хотел прибавить тебе, Сережа, совет о том, чтобы ты подумал о своей жизни, о том, кто ты, что ты, в чем смысл человеческой жизни и как должен проживать ее всякий разумный человек. Те усвоенные тобой взгляды дарвинизма, эволюции и борьбы за существование не объяснят тебе смысл твоей жизни и не дадут руководства в поступках; а жизнь без объяснения ее значения и смысла и без вытекающего из нее неизменного руководства есть жалкое существование. Подумай об этом. Любя тебя, вероятно, накануне смерти, говорю это.
Прощайте, старайтесь успокоить мать, к которой я испытываю самое искреннее чувство сострадания и любви. Любящий вас отец Лев Толстой».
— Ты им передай это после моей смерти, — сказал он Александре Львовне и опять заплакал.
Утром 2 ноября приехал Чертков, и, взволнованный этим, он опять плакал. Положение же его становилось все серьезнее. Несколько раз он отхаркивал кровяную мокроту, жар у него все повышался, сердце работало слабо, с перебоями, и ему давали шампанское. Днем он сам несколько раз ставил себе градусник и смотрел температуру. К вечеру состояние его еще ухудшилось. Он громко стонал, дыханье было частое и тяжелое… Он снова попросил градусник и, когда вынул его и увидал 39,2, громко сказал:
— Ну, мать, не обижайтесь!
В восемь часов вечера приехал Сергей Львович. Он опять очень взволновался, увидав его, когда же Сергей Львович вышел от него, позвал Александру Львовну:
— Сережа-то каков!
— А что, папаша?
— Как он меня нашел! Я очень рад, он мне приятен… Он мне руку поцеловал, — сквозь рыдания с трудом проговорил он.
Третьего ноября Чертков читал ему газеты и прочел четыре полученных на его имя письма. Он их внимательно выслушал и, как всегда это делал дома, просил пометить на конвертах, что с ними делать.
Ночь с 3 на 4 была одна из самых тяжелых. Вечером, когда оправляли его постель, он сказал:
— А мужики-то, мужики как умирают! — и опять заплакал.
Часов с одиннадцати начался бред. Он опять просил записывать за ним, но говорил отрывочные, непонятные слова. Когда он просил прочитать записанное, терялись и не знали, что читать. А он все просил:
— Да прочтите же, прочтите!
Утро 4 ноября было тоже очень тревожно. Появился еще новый зловещий признак: он, не переставая, перебирал пальцами, брал руками один край одеяла и перебирал его пальцами до другого края, потом обратно, и так без конца. Иногда он старался что-то доказать, выразить какую-то свою неотвязную мысль.
— Ты не думай, — сказала ему Александра
Львовна.
— Ах, как не думать, надо, надо думать!
Так весь день он старался сказать что-то, метался и страдал.
К вечеру снова начался бред, и он умолял понять его мысль, помочь ему.
— Саша, пойди, посмотри, чем это кончится, — говорил он.
Она старалась отвлечь его:
— Может быть, ты хочешь пить?
— Ах, нет, нет… Как не понять… Это так просто!
И снова бредил:
— Пойдите сюда, чего вы боитесь, не хотите мне помочь, я всех прошу…
— Искать, все время искать...
В комнату вошла Варвара Михайловна. Он привстал на кровати, протянул руки и громким, радостным голосом, глядя на нее в упор, крикнул (приняв ее за умершую дочь):
— Маша, Маша!
Всю ночь Александра Львовна не отходила от него. Он все время метался, охал. Снова просил записывать. Записывать было нечего, а он все просил:
— Прочти, что я написал! Что же вы молчите? Что я написал?
Все время старались дежурить возле него по двое, но тут случилось, что Александра Львовна осталась одна. Казалось, он задремал. Но вдруг сильным движением он привстал и стал спускать ноги с постели. Она быстро подошла:
— Что тебе, папаша?
— Пусти, пусти меня!
И из всех сил рвался вперед:
— Пусти, пусти, ты не смеешь держать, пусти!
В 10 часов утра 6 ноября приехали московские врачи.
Увидав их, он сказал:
— Я их помню…
В этот день он точно прощался со всеми. Ласково посмотрел на Душана Петровича и с глубокой нежностью сказал:
— Милый Душан, милый Душан!
Меняли простыни, я поддерживала ему спину, — говорит Александра Львовна. — И вот я почувствовала, что его рука ищет мою руку. Я подумала, что он хочет опереться на меня, но он крепко пожал мне руку один раз, потом другой. Я сжала его руку и припала к ней губами, стараясь сдержать рыдания. В этот день отец сказал нам слова, которые заставили нас вспомнить, что жизнь для чего-то послана нам и что мы обязаны, независимо от каких-либо обстоятельств, продолжать эту жизнь, по мере слабых сил своих стараясь служить Пославшему нас и людям. Кровать стояла среди комнаты. Мы сидели около. Вдруг отец сильным движением привстал и почти сел. Я подошла:
— Поправить подушки?
— Нет, — сказал он, твердо и ясно выговаривая каждое слово. — нет. Только одно советую помнить, что на свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите только на одного Льва.
Деятельность сердца у него очень ослабела, пульс едва прощупывался, губы, нос и руки посинели и лицо как-то сразу похудело, точно сжалось. Дыханье было едва слышно…
Вечером, когда все разошлись спать, я тоже заснула. Меня разбудили в десять часов. Отцу стало хуже. Он стал задыхаться. Его приподняли на подушки, и он, поддерживаемый нами, сидел, свесив ноги с кровати.
— Тяжело дышать, — хрипло, с трудом проговорил он.
Всех разбудили. Доктора давали ему дышать кислородом… После впрыскивания камфары ему как будто стало лучше. Он позвал брата Сережу:
— Сережа!
И когда Сережа подошел, сказал:
— Истина… Я люблю много… как они…
Это были его последние слова.
И вот еще что говорил он в бреду 6 ноября (по свидетельству Сергея Львовича), — то, на что я уже указывал:
— Все Я… все проявления… довольно проявлений… вот и все…
В этот день в Астапово приехал о. Варсонофий, старец из Оптиной Пустыни. Впоследствии говорили, будто этот приезд состоялся «по приказу из Петербурга». Говорили неправду. Приехав, о. Варсонофий просил допустить его к умирающему, получил отказ и написал Александре Львовне письмо: «Почтительно благодарю Ваше сиятельство за письмо Ваше, в котором пишете, что воля родителя Вашего для Вас и для всей семьи Вашей поставляется на первом плане. Но Вам, графиня, известно, что граф выражал сестре своей, а Вашей тетушке, монахине матери Марии, желание видеть нас и беседовать с нами». Приказ из Петербурга выходит, таким образом, выдумкой. Если бы он не выражал сестре желания видеть старцев, о. Варсонофий не мог бы ссылаться на нее. Но что было бы, если бы Александра Львовна допустила его к отцу? Можно предположить: примирение умирающего с церковью. Но разве это уничтожило бы смысл его бредовых слов, слышанных Сергеем Львовичем?
Смысл этот слишком велик, уничтожить его не могло ничто.
«Слова умирающего особенно значительны», — как однажды сказал он в своем дневнике.
IV
До сих пор помню тот день, тот час, когда ударил мне в глаза крупный шрифт газетной телеграммы:
«Астапово, 7 ноября. В 6 часов 5 минут утра Лев Николаевич Толстой тихо скончался».
Газетный лист был в траурной раме. Посреди его чернел всему миру известный портрет старого мужика в мешковатой блузе, с горестно-сумрачными глазами и большой косой бородой. Был одиннадцатый час мокрого и темного петербургского дня. Я смотрел на портрет, а видел светлый, жаркий кавказский день, лес над Тереком и шагающего в этом лесу худого загорелого юнкера «в белой папашке с опустившимся пожелтевшим курпеем, в белой, грязной, с широкими складками черкеске» и с винтовкой в руке:
— На другой день Оленин пошел один на то место, где он со стариком спугнул оленя… День был совершенно ясный, тихий, жаркий. Утренняя свежесть даже в лесу пересохла, и мириады комаров буквально облепляли лицо, спину и руки… Эти мириады насекомых так шли к этой дикой, до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих лес, к этой темной зелени, к этому пахучему, жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды, везде просасывающейся из Терека и бульбулькающей где-нибудь под нависшими листьями… Обойдя то место, где он вчера нашел зверя, и ничего не встретив, он захотел отдохнуть…
Он отыскал вчерашние следы оленя, подобрался под куст в чашу, в то самое место, где вчера лежал олень, и улегся у его логова… И вдруг на него нашло такое странное чувство беспричинного счастья и любви ко всему, что он, по старой детской привычке, стал креститься и благодарить кого-то. Ему вдруг с особенной ясностью пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное ото всех существо, лежу теперь один, бог знает где, в том месте, где жил олень, старый олень, красивый, никогда, может быть, не видавший человека… Около меня, пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары: один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров, и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам… И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар или такой олень, которые живут теперь вокруг него.
«Так же, как они, как дядя Ерошка, поживу и умру. И правду он говорит: только трава вырастет». — «Да что же, что трава вырастет? — думал он дальше. — Все-таки надо жить, надо быть счастливым… Все равно, что бы я ни был: такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет и больше ничего, или я рамка, в которой вставилась часть единого божества, все-таки надо жить наилучшим образом. Как же надо жить, чтобы быть счастливым, и отчего я не был счастлив прежде?»
И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя… И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастие, вот что, — сказал он себе, — счастие в том, чтобы жить для других… в человеке вложена потребность счастия; стало быть, оно законно. Удовлетворяя его эгоистически, то есть отыскивая для себя богатства, славы, удобства жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этому желанию. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастия незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение!» Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему казалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить…
Софья Андреевна говорила:
— Сорок восемь лет прожила я с Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он был за человек!
Многообразие этого человека всегда удивляло мир. Но вот тот образ, что вспомнился мне 7 ноября четверть века тому назад, — этот кавказский юнкер с его мыслями и чувствами среди «дикой, до безобразия богатой растительности» над Тереком, среди «бездны зверей и птиц», наполняющих эту растительность, и несметных комаров в воздухе, каждый из которых был будто бы «такой же особенный от всех», как и сам юнкер ото всего прочего: не основной ли это образ? Юнкер, думая о своей «особенности», с радостью терял чувство ее: «Ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар или такой же олень, которые живут теперь возле него. Так же, как они, как дядя Ерошка, поживу и умру. И правду он говорит: только трава вырастет…»
Это стремление к потере «особенности» и тайная радость потери ее — основная толстовская черта. «Слова умирающих особенно значительны». И, умирая, он, величайший из великих, говорил: «На свете много Львов, а вы думаете об одном Льве Толстом!» Разве это не то же, что чувствовал и говорил себе кавказский юнкер про свою «особенность»? Радовало его это и впоследствии — взять Наполеона, Пьера, князя Андрея и разоблачить мнимую высоту их положений и самооценок[6], лишить их «особенности», показать на них, что сущность жизни вне временных и пространственных форм, смешать их с комарами и оленями; сделать это и с самим собою. Ни один олень, ни один дядя Ерошка не защищал свою «особенность» так, как он, не утверждал ее с такой страстью и силой, — достаточно вспомнить хоть то, как зоологически ревнив он был в любви. И вместе с тем всю жизнь разрушал ее, и чем дальше, тем все страстнее, все сильнее. Как могло быть иначе? Как не разрушать, если все-таки не дано было кавказскому юнкеру в его дальнейшей долгой жизни идти к блаженному, звериному «поживу и умру, и только трава вырастет»? Как не разрушать, если то и дело становится «гадко на самого себя», если «счастие в том, чтобы жить для других»?
— Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему казалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой…
Сколько раз в жизни открывал он «эту, как ему казалось, новую истину»? Истина же эта роковая. С ней нельзя быть оленем или дядей Брошкой. «Все равно, что бы я ни был: такой же зверь, как и все, или же я рамка, в которой вставилась часть единого божества…» Но в том и беда, что совсем не все равно, если уже сознаешь себя такой «рамкой». И олень, и дядя Брошка тоже «рамки», но думают ли они об этом! Олени и дяди Брошки, каждый в своей «особенности», в своей «самости», ничуть не стремятся искать, «для кого бы поскорей пожертвовать собой»[7]. И поэтому сугубо роковой путь жизни был уготован тому, кто был рожден и оленем и дядей Ерошкой, а вместе с тем — Дмитрием Олениным, который никак не мог умереть так, чтобы только трава выросла. «Некоторые живут, не замечая своего существования». Не некоторые, — их столько же, сколько на земле комаров и оленей. А сколько замечающих? Он же был из тех, что слишком замечают. И нельзя было ему умереть, как оленю. Надлежало умереть или как Ивану Ильичу, как князю Серпуховскому из «Холстомера», в лучшем случае, как самому Холстомеру — или же с совершенно несомненным чувством то ли слов Христа: «Царство мое не от мира сего, верующий в меня не увидит смерти вовек», то ли слов индийской мудрости: «Отверзите уши ваши, освобождение от смерти найдено! Освобождение — в разоблачении духа от его материального одеяния, в воссоединении Я временного с вечным Я». Чувство же это приобретается страшной ценой.
И вот в 6 часов 5 минут утра 7 ноября 1910 года кончилась на станции Астапово не только жизнь одного из самых необыкновенных людей, когда-либо живших на свете, — кончился еще и некий необыкновенный человеческий подвиг, необыкновенная по своей силе, долготе и трудности борьба за то, что есть «освобождение», есть исход из «Бывания в Вечное», говоря буддийскими словами, есть путь «в жизнь», говоря словами Евангелия, по удивительному совпадению оказавшимися в сборнике «Мысли мудрых людей на каждый день», который он составлял в свои последние годы, как раз на странице, отведенной седьмому дню ноября:
— Входите тесными вратами: ибо широки врата и пространен путь, ведущие в погибель; и многие идут ими: ибо тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.
В этот сборник он включал наиболее трогавшие его, наиболее отвечавшие его уму и сердцу «мысли мудрых людей» разных стран, народов и времен, равно как и некоторые свои собственные. «Во все века лучшие, то есть настоящие люди думали об этом», — писал он в предисловии к нему. «Об этом», — это о том, о чем он и сам думал всю жизнь, даже и тогда, когда так страстно думал совсем о другом: о том, «чем все это кончится», что надо «искать, все время искать». Во всем и всегда удивительный, удивителен он был и той настойчивостью, с которой он начал говорить «об этом» с самых ранних лет, а впоследствии говорил с той одержимостью однообразия, которую можно видеть или в житиях святых, или в историях душевнобольных. Есть предание, что Иоанн, любимый ученик Христа, неустанно говорил в старости только одно: «Дети, любите друг друга». Однообразие, с которым говорил Толстой, одно и то же во всех своих последних писаниях и записях, подобно тому однообразию, которое свойственно древним священным книгам Индии, книгам иудейских пророков, поучениям Будды, сурам Корана:
— Материя для меня самое непонятное, — то и дело повторял он на все лады.
— Что я такое? Разум ничего не говорит на эти вопросы сердца. Отвечает на это только какое-то чувство в глубине сознания. С тех пор, как существуют люди, они отвечают на это не словами, то есть орудием разума, частью проявления жизни, а всей жизнью.
— Избави бог жить только для этого мира. Чтобы жизнь имела смысл, надо, чтобы, цель ее выходила за пределы постижимого умом человеческим.
— Дорого и радостно общение с людьми, которые в этой жизни смотрят за пределы ее.
— Бог для меня есть то, к чему я стремлюсь, — то, в стремлении к чему и состоит моя жизнь. Бог поэтому есть для меня непременно такой, что я его понять и назвать не могу.
— Ехал наверху на конке, глядел на дома, вывески, лавки, извозчиков, прохожих, проезжих и вдруг так ясно стало, что весь этот мир с моей жизнью в нем есть только одна из бесчисленных возможностей других миров и других жизней и для меня есть только одна из бесчисленных стадий, через которую я прохожу (как мне кажется, во времени).
— Наши постоянные стремления к будущему не есть ли признак того, что жизнь есть расширение сознания? Постепенно сознаешь, что нет ни материального, ни духовного, а есть только мое прохождение через пределы вечного, бесконечного, которое есть Все само в себе и вместе с тем Ничто (Нирвана).
— Мое Я стремится расшириться и в стремлении сталкивается со своими пределами в пространстве… Кроме сознания пределов в пространстве, есть еще сознание себя — того, что сознает пределы. Что есть это сознание? Если оно чувствует пределы, то это значит, что оно по существу своему беспредельно и стремится выйти из этих пределов.
— Жизнь, которую я сознаю, есть прохождение духовной и неограниченной (божественной) сущности через ограниченное пределами вещество.
— Жизнь человека выражается в отношении конечного к бесконечному.
— Бесконечное, которого человек сознает себя частью, и есть бог.
— Если иногда удается забыть о людях, испытываешь какой-то экстаз свободы.
— Если бы я был один, я был бы юродивым, то есть ничем бы не дорожил в жизни…
— Надо и в писании быть юродивым…
Он с радостью говорил своей старшей дочери Татьяне Львовне незадолго до бегства из Ясной Поляны, что он мечтает поселиться в ее деревне, где его никто не знает: «Я там могу ходить и просить под окнами милостыню». Бесконечно знаменательны эти слова, — эта мечта быть юродивым, ничем не дорожащим в жизни и всеми презираемым, стать никому не известным, нищим, смиренно просящим с сумой за плечами кусок хлеба под мужицкими окнами. Ужели и впрямь, как думают это еще и до сих пор, так долго стремился он убежать из Ясной Поляны только ради освобождения себя от ссор с детьми и женой? Ведь еще юнкером испытывал он этот «экстаз свободы», счастье думать, что нисколько он не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто «такой же комар или такой же олень». Юнкер Оленин восторженно терял свою «особенность». Восторженно мечтал и о том, чтобы прославить ее на весь мир. А чем кончил?
— Был человек в земле Уц, Иов имя его… И родилось у него семь сыновей и три дочери. И было скота у него семь тысяч мелкого скота, и три тысячи верблюдов, и пятьсот пар волов, и пятьсот ослиц, и прислуги весьма много; и был человек тот знатнее всех сынов Востока…
И вот, во всем был «разорен» тот человек; «и вот, ветер великий поднялся со стороны пустыни, и обхватил четыре угла дома, и тот упал на отроков, и они умерли…»
Толстой сам себя разорял целыми десятилетиями и наконец разорил полностью — и самого себя, и весь «дом» свой, в крушении которого было нечто тоже библейское: словно и впрямь «ветер великий поднялся со стороны пустыни, и обхватил четыре угла дома, и тот упал на отроков» — и где они теперь, эти рассеянные по всему миру «отроки», из которых один (недавно умерший в Америке Илья Львович) погиб не только от болезни, но и от полной нищеты! Толстой сам призывал и наконец призвал на свой «дом» и на самого себя этот «великий ветер» тоже по воле того, покорность которому стала в некий срок альфой и омегой всей его жизни.
— Простри руку твою на раба твоего Иова и коснись всего, что у него. И простер и коснулся, — «всего, кроме души».
— И встал Иов, и разодрал верхнюю одежду свою, и остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал: наг вышел я из чрева матери моей, наг и возвращусь туда.
Наг, как во чреве матери, был и тот, кто «тихо скончался» под чьим-то чужим кровом, на какой-то дотоле никому не ведомой железнодорожной станции.
Думая о его столь долгой и столь во всем удивительной жизни, высшую и все разъясняющую точку ее видишь как раз тут — в его бегстве из Ясной Поляны и в его кончине на этой станции. Думая об этом и о долгих годах великих страданий, этому предшествовавших, никак не избегнешь мысли о путях Иова, Будды, даже самого сына человеческого.
— Паки и паки берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему: все это отдам тебе, если, падши, поклонишься мне. Но Иисус говорит ему: отойди от меня, Сатана.
Кто был так искушаем, как Толстой, кто так любил «царства мира и славу их»?
— Боже мой, — думал князь Андрей в ночь перед Аустерлицким сражением, — что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую? Отец, сестра, жена, все самые дорогие мне люди — я всех их отдам за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю!
«Врата, ведущие в погибель», были открыты перед Толстым сугубо широко, «торжества над людьми» он достиг величайшего. «Ну, и что ж? Что потом?»[8] Достигнув, он «встал, и взял черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел вне селения…»
Так же, как Иов, — и как Екклезиаст, как Будда — Толстой был обречен на «разорение» с самого рождения своего. Вся жизнь таких людей идет в соответствии с их обреченностью: все «дела и труды» их, все богатства и вся слава их — «суета сует»; в соответствии и кончается: черепица, пепел, «вне селения», роща Уравеллы, Астапово… «Тот, кто все создает по замыслу своему», одаряет их тем щедрее, чем больше должно быть в некий срок их «разорение», заставляет трудиться и стяжать тем страстнее, чем отчаяннее будут их проклятия всем земным трудам и стяжаниям. Вот у одного семь сыновей, три дочери, сотни рабов и рабынь, тысячи скота и первенство среди всех сынов Востока; у другого — в жилах царская кровь, высшая родовитость, как телесная, так и духовная, высшая сила и ловкость и «четыре дворца по числу времен года»; третий — сын Давидов, царь над Израилем и великий «делатель»: «Я предпринял большие дела — построил домы себе, насадил виноградники, устроил рощи и сады, сделал водоемы, собрал золота, серебра и драгоценностей от царей и областей…» И у всех общий конец: «Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем?» — спрашивает один, столь много под солнцем потрудившийся. «Наг вышел я из чрева матери моей, наг и возвращусь туда», — говорит другой. «Царство мира сего и царство смерти — одно: это искуситель Мара, он же есть смерть», — говорит третий. И муки ада испытывает четвертый, вспоминая свою жизнь:
— Я испытываю муки ада: вспоминаю всю мерзость моей прежней жизни…
Какая «мерзость», какие смертные грехи числились за ним? Только те, что называются «грехами святых», всегда считавших себя самыми страшными грешниками. Но все равно: сколько лет и с какой ожесточенностью скоблил он черепицей проказу своих грехов («не было ни одного самого страшного преступления, которого бы я не совершал») и трепетал, как Иов.
— Ужасное, чего я ужасался, постигло меня; и чего я боялся, приходит ко мне.
Толстой говорил почти теми же словами:
— Я качусь, качусь под гору смерти. А я не хочу смерти, я хочу и люблю бессмертие. Я люблю мою жизнь — семью, хозяйство, искусство…
— Как мне спастись? Я чувствую, что погибаю, люблю жизнь и умираю — как мне спастись?
«И счастливый семьянин, здоровый человек, Левин был несколько раз так близок к самоубийству, что прятал шнурок, чтобы не повеситься, и боялся ходить с ружьем, чтобы не застрелиться».
Левин тоже погибал. «Но Левин не повесился, и не застрелился, и продолжал жить». Почему продолжал? Потому, что была на то воля Хозяина, которую он, невзирая ни на что, непрестанно чувствовал в себе так же сильно, как его работник Федор. Воля (стремление) к жизни (земной, временной) — в теле. И Левин уже и тогда остро ненавидел временами тело, — и свое и чужое, — отсюда и было ему искушение повеситься или застрелиться. Но уже и тогда чувствовал он, что не будет это спасением для него. Уже и тогда слышал в себе «голос Высшего Я». Зачем надо было продолжать жить? Затем, что этот голос говорил, что нужно «спастись» при жизни. А в чем спасение? Не в убийстве тела, не в выходе из него «не готовым», а в преодолении его и в потере «всего, кроме души».
V
После его похорон Ясная Поляна быстро пустела.
В доме еще оставались некоторые родные и близкие, но и они уже разъезжались один за другим; и Софья Андреевна сказала Ксюнину про этот пустеющий дом, куда она вошла когда-то почти девочкой и где провела потом целых сорок восемь лет:
— Через три дня дом совсем мертвый будет…
Все уедут…
Тот, с кем она когда-то вошла в этот дом, был в ту пору во всем расцвете всех своих беспримерных сил и любил ее так, что говорил: «Я счастлив, как один из миллиона». Он писал тогда в своем дневнике:
— Люблю я ее, когда ночью или утром я проснусь и вижу: она смотрит на меня и любит… Люблю я, когда она сидит близко ко мне, и мы знаем, что любим друг друга, как можем; и она скажет: «Левочка!» — и остановится: — «Отчего трубы в каминах проведены прямо?» или: «Почему лошади не умирают долго?» Люблю, когда мы долго одни — и «что нам делать?» — «Соня, что нам делать?» — Она смеется. Люблю, когда она рассердится на меня и вдруг, в мгновение ока у ней мысль и слово, иногда резкое: «Оставь! скучно!» Через минуту она уже робко улыбается мне. Люблю, когда она девочка в желтом платье и выставит нижнюю челюсть и язык; люблю, когда я вижу ее голову, закинутую назад, и серьезное, и испуганное, и детское, и страстное лицо…
Писал в письмах к друзьям:
— Пишу и слышу наверху голос жены, которую я люблю больше всего на свете. Я дожил до 34 лет и не знал, что можно так любить и быть так счастливым…
Вспоминая то время, когда он начал «Войну и мир», Софья Андреевна сказала:
— Приходит однажды ко мне в восторге, возбужденный, и говорит: «Какой великолепный тип дипломата я сейчас представляю себе!» А я спрашиваю его: «Левочка, а что такое дипломат?» Мне ведь было тогда всего двадцать лет…
— Я никогда никого, кроме тебя, не любил, говорил мне всю жизнь Лев Николаевич. Но ведь не так легко было сделать счастливым Толстого! Я помню, как однажды наш друг поэт Фет сказал про меня: «Софья Андреевна по ножу ходит». По ножу я и ходила всю жизнь…
Он был счастлив, «как один из миллиона». Что же, однако, начал он писать в своем дневнике вскоре после женитьбы и первого упоения хозяйством?
— Ужасно! Я игрок и пьяница. Я в запое хозяйства и погубил невозвратимые девять месяцев, которые я сделал чуть ли не худшими в своей жизни… Я за эти девять месяцев самый ничтожный, слабый, бессмысленный и пошлый человек…
Он заводит большой пчельник и просиживает там часами, наблюдая, изучая жизнь пчел, разводит племенных овец, уверяет себя, что «не может быть счастлив в жизни», если не достанет себе японских поросят, разбивает плодовый сад, сажает леса елок, сажает в огромном до смешного количестве капусту, строит винокуренный завод, с необыкновенной страстью предается полевому хозяйству, каждую свободную минуту урывает лишь для своей охотничьей страсти, ломает себе однажды на бешеной скачке за зайцем руку и пишет жене из Москвы, где лечится: «Ты говоришь — я забуду (тебя). Ни на минуту, особенно с людьми. На охоте я забываю, помню об одном дупеле: но с людьми, при всяком столкновении, слове, я вспоминаю о тебе… Я тебя так сильно всеми любвями люблю…»
Он пишет своему другу Александре Андреевне Толстой: «Я никогда (как теперь) не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе. И работа эта есть у меня. Работа эта — роман из времени 1810 и 20-х годов, которые занимают меня вполне… Я теперь писатель всеми силами своей души, и пишу и обдумываю, как еще никогда не писал и не обдумывал. Я счастливый и спокойный муж и отец, не имеющий ни перед кем тайны и никакого желания, кроме того, чтобы все шло по-прежнему…»
В этом романе, — это была «Война и мир», — тоже прославляется семейное счастье, семейные добродетели, здоровые, простые человеческие устои; но точно ли, что не имел он в ту пору «ни перед кем никакой тайны»? В своих дневниках он пишет в эту пору нечто очень тайное:
— Ужасно, страшно, бессмысленно связать свое счастье с материальными условиями — жена, дети, здоровье, хозяйство, богатство…
— Где я, тот я, прежний, которого я сам любил и знал, который выходит иногда наружу весь и меня самого радует и пугает? Я маленький и ничтожный. И я такой с тех пор, как женился на женщине, которую люблю…
Эта «тайна» прорывается иногда и в жизни. Сестра Софьи Андреевны рассказывает в своих воспоминаниях, что произошло однажды с этим счастливым мужем и хозяином:
«Соня сидела наверху у себя в комнате на полу у ящика комода и перебирала узлы с лоскутьями. (Она была в интересном положении.) Лев Николаевич, войдя к ней, сказал:
— Зачем ты сидишь на полу? Встань!
— Сейчас, только уберу все.
— Я тебе говорю, встань сейчас, — громко закричал он и вышел к себе в кабинет.
Соня не понимала, за что он так рассердился. Это обидело ее, и она пошла в кабинет. Я слышала из своей комнаты их раздраженные голоса, прислушивалась и ничего не понимала. И вдруг я услыхала падение чего-то, стук разбитого стекла и крик:
— Уйди, уйди!
Я отворила дверь. Сони уже не было. На полу лежали разбитая посуда и термометр, висевший всегда на стене. Лев Николаевич стоял посреди комнаты бледный, с трясущейся губой. Глаза его глядели в одну точку… Я побежала к Соне. Она была очень жалка. Прямо как безумная, все повторяла: „За что? Что с ним?“ Она рассказала мне уже немного погодя:
— Я пошла в кабинет и спросила его: „Левочка, что с тобой?“ — „Уйди, уйди!“ — злобно закричал он. — Я подошла к нему в страхе и недоумении, он рукой отвел меня, схватил поднос с кофе и чашкой и бросил на пол…
Так мы с Соней никогда и не могли понять, что вызвало в нем такое бешенство…»
«Соня, что нам делать?» Это значило: слишком хорошо нам с тобой, слишком счастливы мы! А через сорок восемь лет после того «Соня» жила в вагоне на запасных путях на станции Астапово, и ее не пускали к тому, у кого она когда-то спрашивала про камин, про лошадей, и она, опираясь на руку кого-нибудь из сыновей, ходила под те завешанные окна, за которыми он умирал, приникала к ним, стараясь хоть что-нибудь рассмотреть за занавеской, потом тихо брела назад в свой вагон, чтобы опять сидеть и плакать о себе и о «Левочке»… Впоследствии она рассказывала:
— Пустили меня к нему, когда он уже едва дышал, неподвижно лежа навзничь, с закрытыми глазами. Я тихонько на ухо говорила ему с нежностью, надеясь, что он еще слышит, что я все время была тут, в Астапове, что любила его до конца… Не помню, что я ему говорила, но два глубоких вздоха, как бы вызванные страшным усилием, отвечали мне на мои слова, а затем все стихло…
Теперь наступали уже самые последние дни всей долгой прежней жизни Ясной Поляны:
— Через три дня дом совсем мертвый будет… Все уедут…
Этот белый дом со стеклянной верандой и низким крыльцом уже начинал походить на музей, писал Ксюнин.
В опустевших комнатах смотрят со стен его проникающие в душу глаза.
В кабинете и в спальне все застыло с той ночи, когда он ушел, в полной неприкосновенности: подсвечник с догоревшей свечой и розеткой, окапанной стеарином, два яблока, подушка на диване, где он отдыхал, кресло, на котором около письменного стола любила сидеть Софья Андреевна, шахматы, три его карточки в разных возрастах и открытый на дне его смерти «Круг чтения».
— Седьмого ноября. «Смерть есть начало другой жизни». Монтень.
На постели в спальне его любимая подушечка, вышитая монахиней Марией. Рядом на столике звонок, круглые старинные часы, свеча, спички, несколько коробочек с лекарствами. Над постелью портрет Татьяны Львовны. В одном углу умывальник, в другом круглый столик с графином воды, на полу седло. По стенам портреты — его отца в военной форме, его умершей дочери Марии и два портрета Софьи Андреевны; на одном она, еще совсем юная, удивительно хороша. В простенке между окнами зеркало, из окон, по широкой аллее, открывается вид в сад, направо на поляне видна ель… Эта комната особенно мертва, и в ней, около постели, большой лавровый венок с красными лентами и надписью:
— Огласившему пустыню жизни криком «Не могу молчать».
А в маленькой гостиной рядом с кабинетом лежит еще одна открытая книга — «Мысли мудрых людей на каждый день»:
— Седьмого ноября. «Входите тесными вратами: ибо широки врата и пространен путь, ведущие в погибель; и многие идут ими: ибо тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их». Матфея, VII.
В последние годы своей жизни Софья Андреевна казалась высокой, стала худа и немного сгорбилась, была тиха, слаба. И все-таки каждый день за версту ходила туда — на могилу «Левочки», вечным сном покоившегося в парке на краю оврага, под старыми развесистыми деревьями: летом и осенью каждый день носила на могилу свежие цветы, подолгу сидела над ней на скамейке — и, может быть, вспоминала: «Соня, что нам делать!»
Она встретила меня, говорит один из посетивших ее в ту пору, устало и со спокойным достоинством, беседуя, не улыбалась, не возвышала голоса. И это тогда сказала она:
— Сорок восемь лет прожила я со Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он был за человек!
Теперь, когда со времени его смерти прошла уже целая четверть века, и ко всем прежним бесчисленным свидетельствам и суждениям о нем прибавилось еще великое множество новых, вопросы, «что он был за человек», почему Софья Андреевна «всю жизнь ходила по ножу» и что заставило его бежать, кажутся уже вполне разрешенными. Но это только так кажется.
— Странно и страшно подумать, что от рождения моего до трех лет, в то время, когда я кормился грудью, когда меня отняли от груди, когда я стал ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искал в своей памяти, я не могу найти ни одного впечатления… Когда же я начался? Когда начал жить? И почему мне радостно представлять себя тогда, а бывало страшно, как и теперь страшно многим, представлять себя тогда, когда я опять вступлю в то состояние смерти, от которого не будет воспоминаний, выразимых словами? Разве я не жил тогда, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, когда спал, сосал грудь и целовал грудь и смеялся и радовал мою мать? Я жил, и блаженно жил. Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь не приобрел и одной сотой того? От пятилетнего ребенка до меня — только шаг. От новорожденного до пятилетнего — страшное расстояние. От зародыша до новорожденного — пучина. А от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость. Мало того, что пространство, и время, и причина суть формы мышления, и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть (все) большее и большее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них…
Это строки из его «Первых воспоминаний».
Как никто и никогда, за все эти двадцать пять лет, прошедшие со времени его смерти, не обратил никакого внимания на такие изумительные во всех отношениях строки, невозможно понять.
Никакого внимания не обратил никто и на дальнейшие строки из тех же «Первых воспоминаний»:
— При переводе меня вниз к Федору Ивановичу и мальчикам, я испытал в первый раз и потому сильнее, чем когда-либо после, то чувство, которое называют чувством долга, называют чувством креста, который призван нести каждый человек. Мне было жалко покидать привычное (привычное от вечности), грустно было, поэтически грустно расставаться не столько с людьми, с сестрой, с няней, с теткой, сколько с кроваткой, с положком, с подушкой, и страшна была та новая жизнь, в которую я вступал. Я старался находить веселое в той новой жизни, которая предстояла мне: я старался верить ласковым речам, которыми заманивал меня к себе Федор Иванович, старался не видеть того презрения, с которым мальчики принимали меня, меньшого, к себе; старался думать, что стыдно было жить большому мальчику с девочками и что ничего хорошего не было в этой жизни наверху с няней; но на душе было страшно грустно, и я знал, что я безвозвратно терял невинность и счастье, и только чувство собственного достоинства, сознание того, что я исполняю свой долг, поддерживало меня. Много раз потом в жизни мне приходилось переживать такие минуты на распутьях жизни, вступая на новые дороги. Я испытывал тихое горе о безвозвратности утраченного. Я все не верил, что это будет… Но, помню, халат с подтяжкой, пришитой на спине, который на меня надели, как будто отрезал меня навсегда от верха, и я тут в первый раз заметил не всех тех, с кем я жил наверху, но главное лицо, с которым я жил и которое я не понимал прежде. Это была тетушка Татьяна Александровна. Помню невысокую, плотную, черноволосую, нежную, жалостливую. Она надевала на меня халат, обнимая, подпоясывала и целовала, и я видел, что она чувствовала то самое, что и я, что жалко, ужасно жалко, но должно. В первый раз я почувствовал, что жизнь не игрушка, а трудное дело, — не то ли я почувствую, когда буду умирать: я пойму, что смерть или будущая жизнь не игрушка, а трудное дело…
Во всей всемирной литературе нет ничего похожего на эти строки и нет ничего равного им.
— Подчинение и потом опять освобождение.
В чем главное отличие одной человеческой жизни от другой? Не в той ли или иной мере ее «подчинения» и «освобождения»? И вот рождается человек, который на всю жизнь запоминает боль, жалость, грусть, испытанную им на самом пороге «подчинения», при переходе «вниз», и вообще нечто такое, что недоступно обычной человеческой памяти:
— Вот первые мои воспоминания (которые я не умею поставить по порядку, не зная, что было прежде, что после, о некоторых даже не знаю, было ли то во сне или наяву). Вот они: я связан; мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать, и я кричу, плачу, и мне самому неприятен мой крик; но я не могу остановиться. Надо мной стоит, нагнувшись, кто-то. И все это в полутьме. Но я помню, что двое. Крик мой действует на них; они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (то есть чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого себя, но не неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы и жалость над самим собой. Я не знаю и никогда не узнаю, что это такое было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдирал руку, или это пеленали меня уже когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишаи; собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное впечатление жизни. И памятны мне не крик мой, не страдание, но сложность, противоречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и я, кому сила нужна, я слаб, а они сильны…
«Связывают». Впоследствии он будет неустанно все больше «развязываться», стремиться назад, к «привычному от вечности».
— Другое впечатление — радостное. Я сижу в корыте, и меня окружает новый, не неприятный запах какого-то вещества, которым трут мое маленькое тельце. Вероятно, это были отруби и, вероятно, в воде и в корыте, но новизна впечатления отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил свое тельце с видимыми мне ребрами на груди и гладкое темное корыто, засученные руки няни, и теплую, парную, стращенную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками…
Что это такое? Многие дивились: «Какал необыкновенная память была у этого человека!» Но эти почти страшные строки говорят вовсе не о памяти в обычном значении этого слова. Если говорить о памяти так, как о ней обычно говорят, то тут ее нет: такой памяти на свете ни у кого не было и не может быть. Что же это такое? Нечто такое, с чем рождаются только уже совсем «вырождающиеся» люди: «Я помню, что мириады лет тому назад я был козленком», — говорил Будда уже совсем страшными словами. И что означает наличие такой «памяти»?
Вскоре после смерти Толстого я был в индийских тропиках. Возвратясь в Россию, проводил лето на степных берегах Черного моря. И кое-что из того, что думал и чувствовал и в индийских тропиках, и в летние ночи на этих берегах, под немолчный звон ночных степных цикад, впоследствии написал:
— Некоторый род людей обладает способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, прошлое, не только свою страну, свое племя, но и другие, чужие, не только самого себя, но и ближнего своего, то есть, как принято говорить, «способностью перевоплощаться», и особенно живой и особенно образной (чувственной) «памятью». Для того же, чтобы быть в числе таких людей, надо быть особью, прошедшей в цепи своих предков долгий путь многих, многих существований[9] и вдруг явившей в себе особенно полный образ своего дикого пращура со всей свежестью его ощущений, со всей образностью его мышления и с его огромной подсознательностью, а вместе с тем особью, безмерно обогащенной за свой долгий путь и уже с огромной сознательностью.
— Великий мученик или великий счастливец такой человек? И то и другое. Проклятие и счастье такого человека есть его особенно сильное Я, жажда вящего утверждения этого Я и вместе с тем вящее (в силу огромного опыта за время пребывания в огромной цепи существований) чувство тщеты этой жажды, обостренное ощущение Всебытия.
— И вот — поэты, художники, святые, мудрецы, Будда, Соломон, Толстой…
— Гориллы в молодости, в зрелости страшны своей телесной силой, безмерно чувственны в своем мироощущении, беспощадны во всяческом насыщении своей похоти, отличаются крайней непосредственностью, к старости же становятся нерешительны, задумчивы, скорбны, жалостливы… Сколько можно насчитать в царственном племени святых и гениев таких, которые вызывают на сравнение их с гориллами даже по наружности! Всякий знает бровные дуги Толстого, гигантский рост и бугор на черепе Будды, падучую болезнь Магомета, те припадки ее, когда ангелы в молниях открывали ему «тайны и бездны неземные» и «в мановение ока» (то есть вне всяких законов времени и пространства) переносили из Медины в Иерусалим — на Камень Мориа, «непрестанно размахивающийся между небом и землей», как бы смешивающий землю с небом, преходящее с вечным.
— Все подобные им сперва с великой жадностью приемлют мир, затем с великой страстностью клянут его соблазны. Все они сперва великие грешники, потом великие враги греха, сперва великие стяжатели, потом великие расточители. Все они ненасытные рабы Майи — и все отличаются все возрастающим с годами чувством Всебытия и неминуемого в нем исчезновения…
— Есть два рода людей. В одном, огромном, — люди своего, определенного момента, житейского строительства, делания, люди как бы почти без прошлого, без предков, верные звенья той Цепи, о которой говорит мудрость Индии: что им до того, что так страшно ускользают в безграничность и начало и конец этой Цепи? А в другом, малом, не только не делатели, не строители, а сущие разорители, уже познавшие тщету делания и строения, люди мечты, созерцания, удивления себе и миру, люди того «умствования», о котором говорит Екклезиаст, — люди, уже втайне откликнувшиеся на древний зов: «Выйди из Цепи!» — уже жаждущие раствориться, исчезнуть во Всеедином и вместе с тем еще люто страждущие, тоскующие о всех тех ликах, воплощениях, в коих пребывали они, особенно же о каждом миге своего настоящего. Это люди, одаренные великим богатством восприятий, полученных ими от своих бесчисленных предшественников, чувствующие бесконечно далекие звенья Цепи, существа, дивно (и не в последний ли раз?) воскресившие в своем лице силу и свежесть своего райского праотца, его телесности. Отсюда и великое их раздвоение: мука и ужас ухода из Цепи, разлука с нею, сознание тщеты ее — и сугубого очарования ею. И каждый из этих людей с полным правом может повторить древнее стенание: «Вечный и Всеобъемлющий! Ты некогда не знал Желания, Жажды[10]. Ты пребывал в покое, но ты сам нарушил его: ты зачал и повел безмерную Цепь воплощений, из коих каждому надлежало быть все бесплотнее, все ближе к блаженному Началу. Ныне все громче звучит мне твой зов: „Выйди из Цепи! Выйди без следа, без наследства, без наследника! Возвратись ко мне!“»[11]
Будда был в миру царевичем и недаром «из рода тех, чья гордость вошла в поговорку»:[12] когда настала его брачная пора и со всего царства созваны были невесты достойнейшие и прекраснейшие, он пожелал избрать «наилучшую», а на состязании из-за нее с прочими юношами — оказаться «первейшим», как в силе, так и в ловкости; и все свои пожелания выполнил: превзошел всех и во всем, каковому превосходству есть пример хотя бы в том, что, пустив стрелу из лука, он так пустил ее, что она улетела за семь тысяч миль. И дано ему было и великое супружеское счастие и рождение сына, прекраснейшего в мире; а потом — три выезда в город и три встречи, затмившие все радости его, дотоле не подозревавшего, что есть в мире то, что показали ему встречи: болезнь, старость, смерть; и тогда пришло ему в сердце решение оставить и жену и сына, порвать мирские «шелковые сети» и бежать и из родного дома, и из мира: «Тесна жизнь в доме, — сказал он себе, — место нечистоты есть дом, свобода вне дома! Не вернусь я к миру, не знал я прежде мира!» В темную, бурную ночь, достигнув большой реки, — переправы в полное отчуждение от мира, — царевич сошел с коня, снял с себя богатую одежду, обрезал свои длинные волосы, — знак своего высокого достоинства, — и, отдав коня конюху, сопровождавшему его до реки, ушел на поиски «священного спасения»; и испытал многие учения, оказавшиеся ложными, и многие самоистязания, не ведущие к познанию, и, дойдя до предела их, просветлен был в рощах Уравеллы дивным и внезапным прозрением, в чем есть истинное освобождение, спасение от страданий мира и от смертной погибели в нем, и благовествовал «как серебряный колокол, подвешенный к небесному своду»:
— Отверзите уши ваши: освобождение (спасение, избавление) от смерти найдено!
Он благовествовал, во многом следуя древней священной мудрости, говорившей так:
Царство мира сего и царство смерти — одно; это Искуситель Мара, он же смерть.
Освобождение — в разоблачении духа от его материального одеяния.
Освобождение — в самоотречении. Освобождение — в углублении духа в единое истинное бытие, оно же есть Брама-Атман, основа всякого бытия и истинная сущность человеческого духа. Брама есть свойственное человеку истинное Я, сущий во мраке телесного Атман, Единое, Целое, Вечное.
Освобождение — в стремлении лишь к Атману, к тому состоянию, что подобно сну, в котором не видишь сновидений и не чувствуешь никаких желаний.
Человеческое Я есть земное воплощение Атмана, земное проявление его.
Освобожденный, спасенный — тот, кто познал Атмана до конца и возвращается к нему, не желая никакого потомства.
VI
Мечтать о счастье видеть его я начал очень рано.
Мальчиком я уже имел некоторое представление о нем, но не из чтений его книг, а по разговорам у нас в доме. Между прочим, помню, что отец нередко смеялся, рассказывая, как читают «Войну и мир» наши соседи помещики: один читает только «Войну», а другой только «Мир», — один, читая, пропускает все, что касается войны, а другой — наоборот. И чувства к Толстому были у меня тогда уже не простые. Отец (в молодости участвовавший, как и Толстой, в обороне Севастополя) говорил:
— Я его немного знал. Во время севастопольской кампании встречал…
И я смотрел на него во все глаза: живого Толстого видел!
В ранней молодости я был совершенно влюблен в него, в тот мной самим созданный образ, который томил меня мечтой увидеть его наяву. Мечта эта была неотступная, но как я мог тогда осуществить ее? Поехать в Ясную Поляну? Но с какой стати, с какими глазами? «Что вам угодно, молодой человек?» — спросят меня в Ясной Поляне. И что я отвечу тогда?
Раз я не выдержал: в один прекрасный летний день внезапно приказал оседлать своего верхового «киргиза» и поскакал в Ефремов, — уездный город Тульской губернии, — в сторону Ясной Поляны, до которой от нас было не более ста верст. Но, доскакав до Ефремова, испугался, решил обдумать дело серьезнее, переночевать в Ефремове — и всю ночь мучился от смены решений — ехать, не ехать, — скитался ночью по городу и так устал, что, зайдя на рассвете в городской сад, мертвым сном заснул на первой попавшейся скамейке, а проснувшись, и совсем протрезвился, подумал еще немного — и поскакал назад, домой.
Позднее, страстно мечтая о чистой, здоровой, «доброй» жизни среди природы, собственными трудами, в простой одежде, главное же, опять-таки от влюбленности в Толстого, как художника, я стал толстовцем, — конечно, не без тайной надежды, что это даст мне наконец уже как бы несколько законное право увидеть его и даже, может быть, войти в число людей, приближенных к нему. И вот, началось мое толстовское «послушание».
Я жил тогда в Полтаве, где почему-то оказалось немало толстовцев, с которыми я вскоре и сблизился. Тут я узнал, каково было большинство учеников Толстого, — полтавские были типичны за некоторыми исключениями, это был совершенно несносный народ.
Я видел «самого» Черткова. Это был высокий, крупный, породистый человек с небольшой, очень гордой головой, с холодным и надменным лицом, с ястребиным, совсем небольшим и прекрасно сформированным носом и с ястребиными глазами. Софья Андреевна была очень талантлива художественно, — то ли от природы, то ли от того, что прожила три четверти жизни с Толстым. Часто она говорила с необыкновенной меткостью. Однажды сказала про какого-то революционера, посетившего Ясную Поляну: «Пришел, сел и сидит. Упорно молчит, неподвижное лицо, очень черный брюнет, синие очки и кривой глаз». А Черткова она называла «идолом». Я видел его всего раз или два и не решаюсь судить точно, что он был за человек. Но впечатление от него у меня осталось такое, что лучше и не скажешь: «Идол». Очень идет к этому определенно и следующее воспоминание Александры Львовны:
— Какой задорный вид бывал у отца, когда он выходил из кабинета после удачной работы!
Поступь легкая, бодрая, лицо веселое, глаза смеются. Иногда вдруг повернется на одном каблуке или легко и быстро перекинет ногу через спинку стула. Я думаю, всякий уважающий себя толстовец пришел бы в ужас от такого поведения учителя. Да такая резвость и не прощалась отцу. Я помню такой случай. На «председательском» месте, как оно у нас называлось, сидела мама. По правую сторону отец, рядом с ним Чертков. Обедали на террасе, было жарко, комары не давали покоя. Они носились в воздухе, пронзительно и нудно жужжа, жалили лицо, руки, ноги. Отец разговаривал с Чертковым, остальные слушали. Настроение было веселое, оживленное, острили, смеялись. Вдруг отец, взглянув на голову Черткова, быстрым, ловким движением хлопнул его по лысине. От налившегося кровью, раздувшегося комара осталось кровавое пятнышко. Все расхохотались, засмеялся и отец. Но внезапно смех оборвался. Чертков, мрачно сдвинув красивые брови, с укоризной смотрел на отца:
— Что вы наделали? — проговорил он. — Что вы наделали, Лев Николаевич! Вы лишили жизни живое существо! Как вам не стыдно?
Отец смутился. Всем стало неловко…
Первый, кого я узнал в Полтаве, был некто Клопский, человек довольно известный в то время среди толстовцев и даже попавший в герои нашумевшей тогда повести Каронина «Учитель жизни». Это был высокий, худой человек в длинных сапогах и в блузе, с узким серым ликом и бирюзовыми глазами, хитрый нахал и плут, неутомимый болтун, вечно всех поучавший, наставлявший, любивший ошеломлять неожиданными выходками, дерзостями, словом, всей той манерой вести себя, при помощи которой он довольно сытно и весело шатался из города в город. К толстовцам принадлежал и полтавский доктор Александр Александрович Волкенштейн, по происхождению и по натуре большой барин, кое в чем походивший на Стиву Облонского из «Анны Карениной». И вот, явившись в Полтаву, Клопский первым делом отправляется к Волкенштейну и очень скоро попадает через него в полтавские салоны, куда Волкенштейн проводит его и с «идейной» целью, как проповедника, и просто для забавы, как курьезную фигуру, и где Клопский говорит, например, так:
— Да, да, вижу, как вы живете: лжете да конфетами закусываете, да идолам своим по церквам, которые уже давно пора на воздух взорвать, молебны служите! И когда только вообще кончатся все те нелепости и мерзости, в которых тонет мир? Вот, скажем, ехал я сюда из Харькова. Приходит человек, называемый почему-то кондуктором, и говорит: «Ваш билет». Я его спрашиваю: «А что это значит, какой, собственно, билет?» Отвечает: «Но билет, по которому вы едете?» А я ему опять свое: «Позвольте я не по билету, а по рельсам еду». — «Значит, говорит, у вас билета нет?» — «Конечно, говорю, нету». — «В таком случае мы вас на следующей станции высадим». — «Прекрасно, говорю, это ваше дело, а мое дело ехать». На следующей станции действительно являются: «Пожалуйте выходить». — «Но зачем же, говорю, выходить, мне и тут хорошо». — «Тогда мы вас выведем». — «Выведете? Но я не пойду». — «Тогда вытащим, вынесем». — «Что ж, выносите, это ваше дело». И вот, меня действительно тащат: несут на руках, на диво всей почтенной публике, два рослых бездельника, два мужика, которые с гораздо большей пользой могли бы землю пахать!
Таков был Клопский. Прочие были в другом роде, но тоже хороши. Это были братья Д., севшие на землю под Полтавой, люди необыкновенно скучные, тупые и самомнительные, хотя с виду весьма смиренные, затем некто Леонтьев, щуплый и маленький молодой человек, болезненной и редкой красоты, бывший паж, тоже мучивший себя мужицким трудом и тоже лгавший себе и другим, что он очень счастлив этим, затем громадный еврей, похожий на матерого русского мужика, ставший впоследствии известным под именем журналиста Тенеромо, державшийся всегда с необыкновенной важностью и снисходительностью к простым смертным, нестерпимый ритор, софист, занимавшийся бондарным ремеслом. К нему-то под начало и попал я. Он-то и был мой главный наставник, как в «учении», так и в жизни трудами рук своих: я был у него подмастерьем, учился набивать обручи. Для чего мне нужны были эти обручи? Для того опять-таки, что они как-то соединяли меня с Толстым, давали мне тайную надежду когда-нибудь увидать его, войти в близость с ним. И, к великому моему счастью, надежда эта вскоре совершенно неожиданно оправдалась. Вскоре вся «братия» смотрела на меня уже как на своего, и Волкенштейн — это было в самом конце девяносто третьего года — вдруг пригласил меня ехать с ним сперва к «братьям» в Харьковскую губернию, к мужикам села Хилково, — принадлежавшего известному толстовцу князю Хилкову, — а затем в Москву, к самому Толстому.
Трудное это было путешествие. Ехали мы в третьем классе, с пересадками, все норовя попадать в вагоны наиболее простонародные, ели «безубойное», то есть черт знает что, хотя Волкенштейн иногда и не выдерживал, вдруг бежал к буфету и с страшной жадностью глотал одну за другой две-три рюмки водки, закусывая и обжигаясь пирожками с мясом, а потом пресерьезно говорил мне:
— Я опять дал волю своей похоти и очень страдаю от этого, но все же борюсь с собой и все же знаю, что не пирожки владеют мной, а я ими, я не раб их, хочу — ем, хочу — не ем…
Трудно было ехать потому больше всего, что я сгорал от нетерпения поскорей попасть в Москву, нам же, видите ли, непременно надо было ехать с плохими поездами, а не со скорыми, не с курьерскими, затем пожить с хилковскими «братьями», войти в личное общение с ними и «укрепить» и себя и их этим общением на путях «доброй» жизни. Мы так и сделали — пожили у хилковских мужиков, кажется, дня три или четыре, и я возненавидел за эти дни этих богатых, благочестивых, благих на вид мужиков, ночевки в их избах, их пироги с начинкой из картофеля, их псалмопение, их рассказы про их непрестанную и лютую борьбу «с попами и начальниками» и буквоедские споры о Писании истинно всеми силами души. Наконец, первого января, мы тронулись дальше. Помню, я проснулся в тот день с такой радостью, что совсем забылся и брякнул: «С Новым годом, Александр Александрович!» — за что и получил от Александра Александровича жесточайший нагоняй: что это значит — Новый год, понимаю ли я, какую бессмыслицу повторяю я? Однако не до того мне было тогда. Я слушал и думал: прекрасно, прекрасно, все это сущий вздор, — завтра вечером мы будем в Москве, а послезавтра я увижу Толстого… И так оно и случилось.
Волкенштейн кровно обидел меня: поехал к Толстому сию же минуту после того, как мы добрались до московской гостиницы, а меня с собой не взял: «Нельзя, нельзя, надо предупредить Льва Николаевича, я предупрежу, предупрежу», — и убежал. Вернулся же домой очень поздно и даже ничего не рассказал о своем визите, только поспешно кинул мне: «Я точно живой воды напился!» — причем я совершенно безошибочно определил по запаху от него, что он, после живой воды, пил еще и шамбертен, затем, очевидно, чтобы доказать, что не он раб шамбертена, а шамбертен его раб. Хорошо было только то, что Толстого он все-таки предупредил, хотя я даже и на это мало надеялся: очень милый, но уж очень легкомысленный человек был этот слегка женоподобный, полнеющий, красивый брюнет. На другой день вечером я, вне себя, побежал наконец в Хамовники…
Как рассказать все последующее?
Лунный морозный вечер. Добежал, стою и едва перевожу дыхание. Кругом глушь и тишина, пустой лунный переулок. Передо мной ворота, раскрытая калитка, снежный двор. В глубине, налево, деревянный дом, некоторые окна которого красновато освещены. Еще левее, за домом, — сад, и над ним тихо играющие разноцветными лучами сказочно-прелестные зимние звезды. Да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственны и полны значения эти освещенные окна: ведь за ними — Он! И такая тишина, что слышно, как колотится сердце — и от радости, и от страшной мысли: а не лучше ли поглядеть на этот дом и бежать назад? Отчаянно кидаюсь наконец во двор, на крыльцо дома и звоню. Тотчас же отворяют — и я вижу лакея в плохоньком фраке и светлую прихожую, теплую, уютную, с шубками и шубами на вешалке, среди которых резко выделяется старый полушубок. Прямо передо мной крутая лестница, крытая красным сукном. Правее, под нею, запертая дверь, за которой слышны гитары и веселые молодые голоса, удивительно беззаботные к тому, что они раздаются в таком совершенно необыкновенном доме.
— Как прикажете доложить?
— Бунин.
— Как-с?
— Бунин.
— Слушаю-с.
И лакей убегает наверх и, к моему удивлению, тотчас же, вприпрыжку, бочком, перехватывая рукой по перилам, сбегает назад:
— Пожалуйте обождать наверх, в залу…
А в зале я удивляюсь еще больше: едва вхожу, как в глубине ее, налево, тотчас же, не заставляя меня ждать, открывается маленькая дверка, и из-за нее быстро, с неуклюжей ловкостью выдергивает ноги, выныривает, — ибо за этой дверкой было две-три ступеньки в коридор, — кто-то большой, седобородый, слегка как будто кривоногий, в широкой, мешковато сшитой блузе из серой бумазеи, в таких же штанах, больше похожих на шаровары, и в тупоносых башмаках. Быстрый, легкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями. И быстро идет прямо на меня, — меж тем как я все-таки успеваю заметить, что в его походке, вообще во всей посадке, есть какое-то сходство с моим отцом, — быстро (и немного приседая) подходит ко мне, протягивает, вернее, ладонью вверх бросает большую руку, забирает в нее всю мою, мягко жмет и неожиданно улыбается очаровательной улыбкой, ласковой и какой-то вместе с тем горестной, даже как бы слегка жалостной, и я вижу, что эти маленькие серо-голубые глаза вовсе не страшные и не острые, а только по-звериному зоркие. Легкие и жидкие остатки серых (на концах слегка завивающихся) волос по-крестьянски разделены на прямой пробор, очень большие уши сидят необычно высоко, бугры бровных дуг надвинуты на глаза, борода, сухая, легкая, неровная, сквозная, позволяет видеть слегка выступающую нижнюю челюсть…
— Бунин? Это с вашим батюшкой я встречался в Крыму? Вы что же, надолго в Москву? Зачем? Ко мне? Молодой писатель? Пишите, пишите, если очень хочется, только помните, что это никак не может быть целью жизни… Садитесь, пожалуйста, и расскажите о себе…
Он заговорил так же поспешно, как вошел, мгновенно сделав вид, будто не заметил моей потерянности, и торопясь вывести меня из нее, отвлечь от нее меня.
Что он еще говорил?
Все расспрашивал:
— Холосты? Женаты? С женщиной можно жить только как с женой и не оставлять ее никогда… Хотите жить простой, трудовой жизнью? Это хорошо, только не насилуйте себя, не делайте мундира из нее, во всякой жизни можно быть хорошим человеком…
Мы сидели возле маленького столика. Довольно высокая старинная фаянсовая лампа мягко горела под розовым абажуром. Лицо его было за лампой, в легкой тени, я видел только мягкую серую материю его блузы, да его крупную руку, к которой мне хотелось припасть с восторженной, истинно сыновней нежностью, да слышал его старческий, слегка альтовый голос, с характерным звуком несколько выдающейся челюсти… Вдруг зашуршал шелк, я взглянул, вздрогнул, поднялся: из гостиной плавно шла крупная и нарядная, сияющая черным шелковым платьем, черными волосами и живыми, сплошь темными глазами дама:
— Леон, — сказала она, — ты забыл, что тебя ждут…
И он тоже поднялся и с извиняющейся, даже как бы виноватой улыбкой, глядя мне прямо в лицо своими маленькими глазами, в которых все была какая-то темная грусть, опять забрал мою руку в свою:
— Ну, до свидания, до свидания, дай вам бог, приходите ко мне, когда опять будете в Москве… Не ждите многого от жизни, лучшего времени, чем теперь у вас, не будет… Счастья в жизни нет, есть только зарницы его — цените их, живите ими…
И я ушел, убежал и провел вполне сумасшедшую ночь, непрерывно видел его во сне с разительной яркостью, в какой-то дикой путанице…
Возвратясь в Полтаву, я писал ему и получил от него несколько ласковых ответных писем. В одном из них он опять дал мне понять, что не стоит мне так уж стараться быть толстовцем, но я все-таки не унимался: обручи набивать бросил, но стал торговать книжками «Посредника», — московского толстовского издательства, — завел полтавское отделение его. Да, как это ни странно, я когда-то торговал: когда-то в Полтаве была лавочка, внутри которой очень хорошо пахло новыми тесовыми полками и лежащими на них новыми книжками и брошюрками, а над входом висела вывеска: «Книжный магазин Бунина». Я служил тогда в полтавской земской управе, был ее библиотекарем, сидел в сводчатом полуподвальном зале, в глубокие окна которого глядел старый сад управы. Там я, один, в тиши, читал, писал стихи, порой работал над составлением очерков (о борьбе с вредными насекомыми, об урожае хлебов и трав), которые мне заказывало статистическое бюро, бывшее при управе, и составил, кстати сказать, столько, что, если бы собрать их теперь, к сочинениям моим прибавилось бы еще три-четыре порядочных тома. Так я проводил время до обеда. А после обеда шел в свой книжный магазин и ждал там покупателей, жаждущих толстовского просвещения. Покупателей, однако, не было, и вот я, чтобы хоть как-нибудь способствовать распространению этого просвещения, стал бесплатно раздавать некоторые брошюрки «Посредника» управским сторожам. Когда же и из этого не вышло ничего путного, — например, один сторож, которому я дал брошюрку о вреде курения, сказал мне вскоре после того, что вся брошюрка эта пошла у него на тютюн, на цигарки, — я решился на более смелое дело: стал иногда, пользуясь свободой своей службы, отправляться в странствия по губернии, торговать «Посредником» по ярмаркам, по базарам, где и был однажды задержан урядником «на предмет составления протокола за торговлю без законного на то разрешения», каковой протокол, конечно, повлек за собой через некоторое время судебное преследование. Преследование оказалось довольно сурово: меня приговорили к трем месяцам тюремного заключения, и я был, понятно, очень рад, что наконец-то и мне удастся «пострадать». Однако и тут преследовала меня неудача: сидеть в тюрьме мне не пришлось, — я попал под всемилостивейший манифест по случаю восшествия на престол нового императора и таким манером от страданий был насильственно избавлен.
Бросив торговлю (в которой я так запутал счеты, несмотря на их малые размеры, что порою подумывал повеситься от стыда, от беспомощности), я переехал на жительство в Москву, но и там все еще пытался уверить себя, что я брат и единомышленник руководителей «Посредника» и тех, что постоянно торчали в его помещении, наставляя друг друга насчет «доброй жизни».
Там-то я и видел его еще несколько раз. Он туда иногда заходил, вернее, забегал (ибо он ходил удивительно легко и быстро) и, не снимая полушубка, сидел час или два, со всех сторон окруженный «братией», делавшей ему порою такие вопросы:
— Лев Николаевич, но что же я должен был бы делать, неужели убивать, если бы на меня напал, например, тигр?
Он в таких случаях только смущенно улыбался:
— Да какой же тигр, откуда тигр? Я вот за всю жизнь не встретил ни одного тигра…
Сыновей его я в ту пору еще никого не знал и не видал. Дочерей видел. Однажды вечером застал в «Посреднике» и его, и их, всех трех: Таню, старшую, Машу, среднюю, и Сашу, младшую. Он сидел возле большого деревянного стола, занимавшего середину комнаты и освещенного сверху висячей лампой, зябко ежился, запустив руки в рукава своего старого нагольного полушубка и положив их на стол, и слегка хмурился, слушая стоявших вокруг и что-то говоривших сотрудников «Посредника», из которых резко выделялись двое: один небольшой, широкоплечий, широкоскулый, похожий на сельского учителя, в серой блузе и в валенках, с острым, сумасшедшим взглядом за очками, другой высокий, стройный, страстно-мрачный красавец с черно-синими волосами и совершенно безумным, экстатическим выражением смуглого, худого лица. А они все сидели на диване в углу и пристально смотрели оттуда блестящими молодыми глазами. Когда я присел к столу, они с любопытством стали глядеть на меня, начали что-то шептать друг другу и смеяться: живо и насмешливо взглянут на меня, что-то тихо скажут одна другой и покатятся со смеху. Я недоумевал: в чем дело, что смешного нашли они во мне? И стал краснеть, делать вид, что не замечаю их, как вдруг он быстро взглянул на меня, весело улыбнулся и, не оборачиваясь, строго и шутливо крикнул:
— Перестаньте смеяться!
Вспоминаю еще, как однажды я сказал ему, желая сказать приятное и даже слегка подольститься:
— Вот всюду возникают теперь эти общества трезвости…
Он сдвинул брови:
— Какие общества?
— Общества трезвости…
— То есть это когда собираются, чтобы водки не пить? Вздор. Чтобы не пить, незачем собираться. А уж если собираться, то надо пить. Все вздор, ложь, подмена действия видимостью его…
А на дому я был у него еще только один раз. Меня провели через залу, где я когда-то впервые сидел с ним возле милой розовой лампы, потом в эту маленькую дверку, по ступенькам за ней и по узкому коридору, и я робко стукнул в дверь направо.
— Войдите, — ответил старческий альтовый голос.
И я вошел и увидал низкую, небольшую комнату, тонувшую в сумраке от железного щитка над старинным подсвечником в две свечи, кожаный диван возле стола, на котором стоял этот подсвечник, а потом и его самого, с книгой в руках. При моем входе он быстро поднялся и неловко, даже, как показалось мне, смущенно бросил ее в угол дивана. Но глаза у меня были меткие, и я увидел, что читал он, то есть перечитывал (и, вероятно, уже не в первый раз, как делаем это и мы, грешные) свое собственное произведение, только что напечатанное тогда, — «Хозяин и работник». Я, от восхищения перед этой вещью, имел бестактность издать восторженное восклицание. А он покраснел, замахал руками:
— Ах, не говорите! Это ужас, это так ничтожно, что мне по улицам ходить стыдно!
Лицо у него было в этот вечер худое, темное, строгое: незадолго перед тем умер его семилетний Ваня. И после «Хозяина и работника» он тотчас заговорил о нем:
— Да, да, милый, прелестный мальчик был. Но что это значит — умер? Смерти нет, он не умер, раз мы любим его, живем им!
Вскоре мы вышли и пошли в «Посредник».
Была черная мартовская ночь, дул весенний ветер, раздувая огни фонарей. Мы бежали наискось по снежному Девичьему Полю, он прыгал через канавы, так что я едва поспевал за ним, и опять говорил — отрывисто, строго, резко:
— Смерти нету, смерти нету!
Через несколько лет после этого я видел его еще раз. Как-то в страшно морозный вечер, среди огней за сверкающими, обледенелыми окнами магазинов, шел в Москве по Арбату — и неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинной походкой прямо навстречу мне. Я остановился и сдернул шапку. Он сразу узнал меня:
— Ах, это вы! Здравствуйте, здравствуйте, надевай-те, пожалуйста, шапку… Ну, как, что, где вы и что с вами?
Старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Что-то вязаное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было похоже на старушечий шлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой перчатки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крепко и ласково пожал мою, опять глядя мне в глаза горестно, с поднятыми бровями:
— Ну, Христос с вами, Христос с вами, до свидания…
VII
Не помню, в каком именно году видел я его в зимний вечер в Москве на Арбате. О чем мы говорили, тоже не помню. Помню только, что во время этого короткого разговора он спросил меня, пишу ли я что-нибудь? Я ответил:
— Нет, Лев Николаевич, почти не пишу. И все, что прежде писал, кажется теперь таким, что лучше и не вспоминать.
Он оживился:
— Ах, да, да, прекрасно знаю это!
— Да и нечего писать, — прибавил я.
Он посмотрел на меня как-то нерешительно, потом точно вспомнил что-то.
— Как же так нечего? — спросил он. — Если нечего, напишите тогда, что вам нечего писать и почему нечего. Подумайте, почему именно нечего, и напишите. Да, да, попробуйте сделать так, — сказал он твердо.
Так видел я его последний раз. Часто потом говорил себе: непременно надо хоть однажды увидать еще, ведь, того гляди, это станет невозможно, — и все не решался искать новой встречи. Все думал: зачем я ему? Когда разнеслась весть, что его уже нет на свете, я был в Петербурге. Тотчас подумал: ехать, увидать его еще раз, хоть в гробу! — но удержало какое-то необъяснимое чувство: нет, этого не надо.
Я вскоре возвратился в Москву. Там только и было разговору, что о нем. Те, что были на его похоронах, рассказывали, «какое это было удивительно грандиозное зрелище, истинно народное, несмотря на все меры, предпринятые правительством, дабы помешать ему быть таким», как везли тело со станции Астапово на Козлову Засеку, как, в сопровождении огромной толпы, на руках несли гроб по полям к Ясной Поляне, и я рад был, что ничего этого не видел собственными глазами: хоронили его «благодарные крестьяне», хоронила «студенческая молодежь» и «вся русская передовая интеллигенция», — общественные деятели, адвокаты, доктора, журналисты, — люди, чуждые ему всячески, восхищавшиеся только его обличениями церкви и правительства и на похоронах испытывавшие в глубине душ даже счастье: тот экстаз театральности, что всегда охватывает «передовую» толпу на всяких «гражданских» похоронах, в которых всегда есть некоторый революционный вызов и это радостное сознание, что вот настал такой миг, когда никакая полиция не смеет ничего тебе сделать, когда чем больше этой полиции, принужденной терпеть «огромный общественный подъем», тем лучше…
В те дни нам уже стало известно с достаточной точностью, — от Сергея Львовича, старшего его сына, постоянно жившего в Москве и только что вернувшегося из Ясной Поляны, — что именно «переполнило чашу терпения Льва Николаевича» и как он бежал. Все это было то самое, что впоследствии столько раз описывали и что Сергей Львович узнал от Александры Львовны. И я помню, как я, слушая, минута за минутой переживал в воображении эту ночь с 27 на 28 октября: ведь эта ночь была еще так близка, ведь с этой ночи прошло тогда всего две недели…
Говорили общеизвестное теперь: бежал потому, что за последний год был особенно замучен женой и некоторыми сыновьями из-за слухов, что написал завещание, в котором отказался от авторских прав уже на все свои сочинения. Говорили, что Софья Андреевна с психопатической настойчивостью добивалась узнать, правда ли, что существует такое завещание, — она уже давно чувствовала, что вокруг нее происходит что-то тайное, что Лев Николаевич с Александрой Львовной ведут какие-то сокровенные дела: имеют какие-то письменные и устные переговоры с Чертковым и его помощниками, где-то видятся с ними, прячут от нее какие-то бумаги и новые дневники Льва Николаевича… Целью ее жизни стала с тех пор слежка за ним, искание по дому этих бумаг и дневников…
Александра Львовна проснулась в ночь с 27 на 28 октября от его легкого стука в дверь и услыхала его прерывающийся голос: «Саша, я сейчас уезжаю». Он стоял в своей серой блузе, со свечой в руке, и лицо у него («розовое») было «светло, прекрасно и полно решимости». Сергей Львович рассказывал: отец весь дрожал, как попало собираясь при помощи Александры Львовны в дорогу, — «только самое необходимое, Саша, да карандаши и перья, и никаких лекарств!» — руки его прыгали, затягивая ремни чемодана… Потом он побежал на конюшню будить работников, велел запрягать лошадей. Ночь была сырая, холодная и непроглядная, он в темноте заблудился, попал в какие-то кусты, чуть не выколол глаз, потерял шапку… Вернувшись в дом и надев другую, опять побежал, светя себе электрическим фонариком, в конюшню, стал помогать запрягать и, все больше дрожа от страха, что вот-вот проснется Софья Андреевна, едва мог надеть на лошадь уздечку, потом обессилел: бросил помогать, отошел в угол каретного сарая, слабо освещенного огарком свечки, и в полном изнеможении сел на что-то в полутьме… На нем была в эту ночь старая вязаная шапка, — может быть, все та же самая, в которой я видел его на Арбате, — старая синяя поддевка, старые вязаные перчатки, старые калоши… А 7 ноября, уже на смертном ложе, — серая фланелевая блуза, серенькие штаны, серые шерстяные чулки и ночные туфли…
Ужасно было в то время читать газеты с их пошлой торжественностью:
— С 10 часов 7 ноября разрешили входить в ту комнату, где лежало тело великого старца, всем желавшим поклониться ему. Железнодорожники убрали его ложе ветками можжевельника и возложили первый венок с трогательной надписью: «Апостолу любви». Потом стали приходить крестьяне из соседних деревень, деревенские школьники; многие родители приводили детей, чтобы они видели и всю жизнь вспоминали потом лицо великого защитника всех трудящихся и обремененных…
— В полдень организовали первую гражданскую панихиду. Толпа пела «вечную память»…
— На другой день гроб поставили в товарный вагон, убранный соломенными венками и хвойными ветками, и поезд, переполненный родными и близкими, друзьями и поклонниками, представителями печати и общественности, медленно тронулся…
«Приехав в день похорон в Ясную Поляну с журналистом Поповым, — писал в „Русских ведомостях“ поэт Брюсов, — мы пошли к усадьбе пешком… Вот фруктовый сад, насаженный Толстым, вот крытая аллея, где он любил сидеть отдыхать, а вот и рощица, где вырыта для него могила… Дальше — типичная усадьба деревенских дворян, простой двухэтажный дом… Во дворе усадьбы — толпы народу, студенты, курсистки, фотографы… В парке повсюду конные стражники и конные казаки… Откуда-то издали уже слышится хоровое пение приближающегося кортежа:
— Несут!
Кортеж приближается. Впереди идут крестьяне, несущие на древках полотнище, на котором начертано: „Лев Николаевич, память о том добре, которое ты делал нам, никогда ее умрет в нас, осиротевших крестьянах Ясной Поляны“. За ними — простой дубовый гроб, который несут на руках открытым. Еще дальше три телеги с венками…»
Тем же тоном рассказывается и дальнейшее:
«В сумерки опять растворяются двери дома. И тихо, медленно выносят гроб.
Несут сыновья.
Кто-то начинает „вечную память“. Пение подхватывается всей толпой, даже теми, кто никогда в жизни не пел.
В эту минуту этот хор — Россия.
— На колени!
И вся толпа, на всем пути гроба, опускается на колени…»
Попов, о котором упоминает Брюсов, был мне знаком. Возвратясь в Москву, он много рассказывал мне об этом «грандиозном зрелище». Рассказывал и некто Мертваго, тоже ездивший в Ясную Поляну. Он вечером после похорон сидел на деревне с яснополянскими мужиками, и мужики все спрашивали:
— Ну вот, мы несли эту самую вывеску. Что ж, будет нам за это какое-нибудь награждение от начальства или от графини? Ведь мы как старались! Целый день на ногах! Опять же на венок потратились.
Попов ужасно возмущался. Подумайте, как относился покойный к ним всю жизнь, сколько и впрямь добра сделал! А как было шестьдесят лет назад, когда он, еще юношей, еще до правительственного освобождения крестьян от крепостного права, сам предлагал им волю, и они не поверили бескорыстности его намерений, так и теперь осталось! Мертваго, старый помещик, хорошо знавший мужиков, только усмехался. Он рассказывал, как ядовито говорил один яснополянский мужик:
— Да, хороший был барин покойный граф! Все, говорит, бывало, теперь не мое, я давно все добро жене и детям отдал, мне это, мол, без надобности, я трудящий народ люблю… А выйдешь так-то на зорьке, еще солнце не показывалось, а уж он шмыг, шмыг по росе, по опушке своего леса, и так шныряет глазами по лесу: нет ли, значит, порубки где?
— Я его, — рассказывал Мертваго, — стыдить стал, уверять, что это он для здоровья гулял рано по утрам. Куда тебе! Мужик стоял на своем: «Знаем мы это здоровье! Нет, уж такие зоркие хозяйские глаза были!»
Это бегство из Ясной Поляны, эта смерть на захолустной железнодорожной станции и эти «гражданские» похороны примирили с ним уже все «передовое» русское общество и снова вызвали бесконечные толки о нем.
В пору моей ранней молодости о нем тоже очень много говорили, но совсем иначе. Тогда все еще поражались тем, что граф, аристократ, богач, знаменитый романист, вдруг надел мужицкую одежду, стал пахать, шить сапоги, класть печи, обслуживать самого себя. Поражались «Крейцеровой сонатой» и особенно «Послесловием» к ней, где человек, произведший на свет тринадцать человек детей, вдруг восстал не только против любви между мужчиной и женщиной, но даже и против продолжения человеческого рода. Чаще всего говорили, что «Крейцерова соната» объясняется очень просто — его старчеством и тем, что он «ненавидит жену». Еще тогда рассказывал мне Теноромо, будто Толстой сказал ему однажды:
— Ненавижу Софью Андреевну, да и всех женщин! Умру, положат в гроб, закроют крышкой, а я вдруг вскочу, скину ее и крикну Софье Андреевне: «Ненавижу!»
Тогда жил в толстовской семье в качестве учителя детей некто Лазурский, впоследствии профессор Новороссийского университета, который рассказывал мне, как однажды Софья Андреевна говорила с ним о «Крейцеровой сонате», когда вдруг вошел Толстой.
— О чем это вы? — сказал он. — О любви, о браке? Брак — погибель. Шел человек до поры, до времени один, свободно, легко, потом взял и связал свою ногу с ногой бабы.
Софья Андреевна спросила:
— Зачем же ты сам женился?
— Глуп был, думал тогда иначе.
— Ну, да, ты ведь постоянно так: нынче одно, завтра другое, все меняешь свои убеждения.
— Всякий должен их менять, стремиться к лучшим. В браке люди сходятся только затем, чтобы друг другу мешать. Сходятся два чужих человека и на весь век остаются друг другу чужими. Говорят: муж и жена — параллельные линии. Вздор, — это пересекающиеся линии; как только пересеклись, так и пошли в разные стороны…
Без конца шли тогда страстные и раздраженные разговоры о его проповеди «неделания» и «непротивления злу». Те, что находились в оппозиции всему государственному устройству России и всем действиям правительства, целью своей жизни ставившие всяческую действенную политическую и общественную борьбу «за благо народа» и за новое государственное устройство, считали его тогда своим очень опасным, благодаря его имени, врагом: хорошее время выбрал его сиятельство для проповеди неделания и непротивления, для призывов «удалиться в келью под елью» ради спасения грешных душ и тел от всяких мирских дел и соблазнов! Сидит в лаптях в своем роскошном доме, кушает из рук лакея в белых перчатках — и проповедует святую нищету и «неделание»! Эти только тогда были на его стороне, когда он «обличал». А другие ненавидели его за его обличения, за борьбу с церковью, за его «глумления» над тем пониманием христианства, которое она имела спокон веков. И все рассказывали одно и то же — о его «чудачествах», о резкости, нелепости или невежественности его мнений, суждений, о страстности его натуры, которую он должен бы был то и дело смирять, о тех противоречиях и слабостях, что были в нем:
— Кто так, как он, осуждал и все еще осуждает людей надменных, гордых, честолюбивых, чувственных, самонадеянных, самоуверенных? А сам во всех этих качествах всех превзошел. Вот уж кто истинно пресытился в удовлетворении всяких своих пороков и страстей и как дьявол обуян гордыней!
— Наслушалась и я в своей молодости о нем, — рассказывала мне Лопатина. — Хорошо помню этот серый деревянный дом с большим старым садом возле Девичьего Поля, дом графа Льва Николаевича Толстого в Хамовническом переулке или, как выражались короче, в Хамовниках, много говорили тогда об этом доме, о его хозяине и о «темных»: так называл и сам Лев Николаевич и все его домашние толстовцев, появлявшихся в хамовническом доме в своих блузах и туфлях, — сапогов, то есть «кожу убитых животных» они не носили, — молча сидевших по углам, смотревших с вызывающим осуждением, людей угрюмых, нелюдимых, страшных на вид, заросших лохматыми бородами и волосами, — их называли еще «дремучими». Не было тогда дома в Москве, где бы не обсуждали проповедей Толстого, не бранились по поводу него, не рассказывали о том, как он, в своей бекешке, с седой бородой, с жесткими и умными глазами под нависшими бровями, пробегает то там, то здесь по московским улицам и бульварам, как видят его иногда везущим бочку воды на обледенелых салазках… Мне тут вспоминаются отношения между ним и Владимиром Соловьевым.
— Было известно, что Лев Николаевич не любит Соловьева и что и Соловьев отзывается о нем без особого почтения. Когда по Москве читали в рукописи «В чем моя вера», Соловьев писал профессору Карееву: «Здесь Лев Толстой выпускает свою новую книгу под названием: „В чем моя вера“. Один мой приятель, прочитавши ее в корректуре, говорит, что ничего более наглого и глупого он никогда не читал. Сущность книги — в ожесточенной полемике против идеи бессмертия души, против церкви, государства и общественного порядка — все это во имя Евангелия. Апостол Павел называется там „полоумным кабалистом, совершенно исказившим христианство“. Конечно, эта книга будет запрещена, что не помешает ее распространению в публике, но сделает невозможным ее опровержение в печати».
Соловьев спорил с Н. Н. Страховым: «С тем, что вы пишете о Достоевском и о Толстом, я решительно не согласен. Некоторая непрямота и неискренность, — так сказать, сугубость, — была в Достоевском лишь той шелухой, о которой вы так прекрасно говорите, но Достоевский был способен отбрасывать эту шелуху, и тогда под ней оказывалось много настоящего и хорошего. А у Толстого непрямота и неискренность более глубокие, но я не желаю об этом распространяться: во-первых, ввиду ваших чувств к нему, во-вторых, ввиду Великого Поста, в-третьих, ввиду заповеди „не судите“, которую я продолжаю понимать в нравственном, а не в юридическом смысле… Сегодня я у Фета виделся с самим Толстым, который, ссылаясь на одного немца, а также и на основании собственных соображений, доказывал, что земля не вращается вокруг солнца, а стоит неподвижно и есть единственное нам известное „твердое“ тело, солнце же и прочие светила суть лишь куски света, летающие над землей по той причине, что свет не имеет веса…»
Тут я так и слышу обычный неудержимо разнузданный смех Соловьева…
— Соловьев бывал в Хамовниках, ходил и Лев Николаевич к нему. Соловьев однажды написал Страхову, что лично совсем помирился с Толстым: «Он пришел ко мне объяснить некоторые свои странные поступки, а затем я провел у него целый вечер с большим удовольствием, и если он всегда будет такой, то буду посещать его».
— Потом он изложил Толстому «главный пункт» своего разномыслия с ним. Пункт этот был воскресение Христа. Но сколько было между ними всяких других разномыслии и вообще различий! Эта прихожая, эта лестница и зал хамовнического дома, сад при этом доме, всегда шумный от говора и смеха молодых Толстых, эта блуза Толстого с ременным пояском, за который он засовывал руки, его хмурое лицо с незабываемыми глазами, бесконечные разговоры о том, можно ли есть мясо, жарить кофе и не безнравственно ли помогать людям деньгами, и большой чайный стол, над которым озабоченно хлопотал молодой лакей, всех называвший сиятельствами… И эти бездомные скитания Соловьева по номерам и по домам знакомых, его длинная фигура в длинном сюртуке и макферлане, его подчеркнуто интеллигентский вид с отросшими по плечам волосами, его постоянные болезни, постоянные причастия и полное бесстрашие смерти… Все было слишком различно! Толстой утверждал, что вся религиозная система Соловьева, вся его вера была чисто головной. А Соловьев, сравнивая его с Достоевским, говорил о его непрямоте, о его неискренности…
Впоследствии я часто встречался и подружился с Ильей Львовичем. Это был веселый, жизнерадостный, очень беспутный и очень талантливый по натуре человек. Он любил говорить об отце, много рассказывал мне о нем. Один его рассказ был замечателен. Он еще застал в живых чуть не столетнюю няньку отца, жившую потом при отце в его молодости и в годы семейной жизни, — это она написана под именем Агафьи Михайловны, няньки и друга Левина, — и наконец доживавшую свои последние дни в яснополянском доме в полном одиночестве в какой-то каморке.
— Что за старуха была, ты даже и представить себе не можешь, — рассказывал Илья Львович. — Лежу, говорит, в своем чуланчике, день и ночь одна-одинешенька, — только часы на перегородке постукивают. И все домогаются, все домогаются: «Кто Ты — что ты? Кто ты — что ты?» Лежишь, слушаешь и все думаешь, думаешь: кто ж ты, в самом деле, что ты такое есть на свете? Отец был в совершенном восторге: да, да, повторял он, вот в этом и вся штука: кто ты, что ты?
Но и Илья Львович часто говорил общеизвестное.
— Ты знаешь, — говорил он мне во время великой войны, — ты, верно, удивишься, что я тебе скажу, а я все-таки думаю, что отец, если бы он был жив теперь, был бы в глубине души горячим патриотом, желал бы нашей победы над немцами, раз уж начата эта война. Проклинал бы ее, а все-таки со страстью следил бы за ней. Ведь у него всегда было семь пятниц на неделе, его никогда нельзя было понять до конца.
— Ты, как все, тоже хочешь сказать, что он был так переменчив, неустойчив?
— Да нет, не то. Я хочу сказать, что его и до сих пор не понимают, как следует. Ведь он состоял из Наташи Ростовой и Ерошки, из князя Андрея и Пьера, из старика Волконского и Каратаева, из княжны Марьи и Холстомера… Ты знаешь, конечно, что сказал ему Тургенев, прочитав «Холстомера»? «Лев Николаевич, теперь я вполне убежден, что вы были лошадью!» — Одним словом, его всегда надо было понимать как-то очень сложно…
— Он любил меня, — говорил Илья Львович. — И многое прощал. Знаешь, уехали мы, молодежь, однажды на охоту в отъезжее поле и до того допились, охотясь, что выдумали водку зеленями мерзлыми закусывать, а ходить на четвереньках, — будто мы волки… Ты не можешь себе представить, как отец хохотал, когда я ему это потом рассказывал!
Вспоминаю еще, как говорил в том же роде некто Сулержицкий, бывший в толстовском доме совсем своим:
— Да, Лев Николаевич непостижимый человек! Уж он ли не враг всякой военщины! А вернулся однажды в морозный зимний день с прогулки по Москве и еще из прихожей закричал мне своим старческим голосом: «Слушайте, каких я сейчас двух юнкеров на Кузнецком Мосту видел! Боже, что за молодцы! Что за фигуры! Какие литые шинели до самых пят, с разрезом сзади, до самого пояса! Какой рост, свежесть, сила — редкий молодой жеребец так прекрасен! И вдруг, как нарочно, навстречу им генерал… Если бы вы видели, как они вдруг, топнув и звякнув шпорами, мгновенно окаменели, как ударили руку к околышу и выкатили глаза! Ах, какое великолепие, какая прелесть!»
VIII
Лопатина была женщина в некоторых отношениях замечательная, но очень пристрастная. Воспроизвожу, однако, в полной точности то, что еще рассказывала она мне о нем, о его родных и близких и о той московской среде, к которой он принадлежал и в которой она выросла.
И я, как вы, узнала о Толстом очень рано, еще маленькой девочкой, — рассказывала она. — В нашей зале с роялью, стульями по стенам и висячими грустными лампами, — она так и сказала: «грустными лампами», — отец мой читал его новый роман в «Русском вестнике» моей матери. Долетали отдельные фразы, и я чувствовала, как странно хороши они!
Об Анне Карениной все у нас говорили по целым дням. Наконец Миша Соловьев, брат Владимира, принес Леве известие: «А знаешь? Анна Каренина бросилась под поезд!» Об этом тоже говорили, говорили, спорили, — совсем как о знакомом человеке.
Потом однажды зимним солнечным днем нахожу в кабинете отца, на полу перед полками библиотеки, растрепанную книжку в синей обертке. Беру в руки и как будто не читаю, а совершенно вижу грязную, изрытую дорогу и солдата в серой шинели, бегущего с бастиона с двумя ружьями на плечах…
«Севастопольские рассказы»! Я не могла равнодушно слышать даже это название. И когда поехала в первый раз в Крым, как поэтичен казался Севастополь! Он еще весь был в развалинах. На площадях и улицах с остовами домов так и казалось, что солдат ведет под уздцы тройку лошадей, офицер Михайлов, натягивая белую перчатку, поднимается в гору и по розовому на закате морю разносятся звуки штраусовского вальса, который оркестр играет на бульваре… От звуков склянок на судах сжималось сердце, и было жаль, что были ночью крупные звезды, а не медленно летящие и светящиеся на темном небе гранаты…
Еще когда Толстые жили в Ясной Поляне, о них у нас много говорили. Особенно московские дамы.
Сидишь, бывало, и слушаешь разговоры родителей с какой-нибудь гостьей про страдания и трудность жизни Софьи Андреевны, «бедной Сони», про то, как, сообразно сменявшимся взглядам Льва Николаевича, изменялась вся жизнь ее детей: то иностранцы-гувернеры и строго-английское воспитание, то вдруг русские рубашки, даже будто бы лапти, общество крестьянских ребят и полная распущенность, а потом опять все сначала — англичанки, голые икры и банты…
В это время в Москве проживала весьма интересная и даже замечательная семья графа Олсуфьева. Принадлежавшая по своему происхождению и положению (граф был генерал свиты государя) к высшей петербургской аристократии и ко двору, семья эта, вследствие разных личных обстоятельств графини Анны Михайловны и перемены ее политических взглядов и умственных интересов, явилась в Москве одним из центров, объединявших ученую и профессорскую среду. Там всегда можно было встретить ученых позитивистического направления, художников, писателей. Там бывал и Толстой, которого графиня очень любила, — бывал не так, как прочие, а как друг, как человек, близкий по кругу и воспитанию.
В Мертвом переулке, в огромном особняке, снятом Олсуфьевыми для зимних приездов из подмосковной деревни, я и увидала его впервые.
В большой зале был накрыт длинный стол ослепительно белой скатертью, и два лакея, старый и молодой, во фраках, с хлопотливой озабоченностью расставляли на нем тарелочки с печеньями и тортами и раскладывали серебро. В гостиной играли маленькой компанией в карты. И вот он вдруг вошел своей легкой, молодой походкой, в мягких, беззвучных сапогах, в серой блузе с тонким ремешком-поясом, со своей большой бородой и непередаваемым, резко-неправильным, совершенно незабываемым лицом, с пронзительно-острыми, умными глазами. И глаза эти сразу (и уже на всю жизнь) показались мне жесткими, недобрыми, — такими, как определял их мой отец: «волчьи глаза». Потом уже всегда, когда он вдруг входил, мне делалось не по себе и жутко: будто в яркий солнечный день открыли дверь в темный погреб. Меня ему представили просто: «Дочка», — и назвали моего отца. Он сказал: «Знаю», — и пожал мне руку. А я не верила себе, что вижу его, — того, кто мог написать небо над Аустерлицем, и Бородино, и мать в «Детстве», и свидание Анны с сыном.
Поздоровавшись с графиней и со всеми прочими, он тотчас же обратился к профессору (естественнику) Усову:
— Я вот все хотел спросить вас, Сергей Алексеевич, правда ли, что если укусит бешеная собака, то человек наверное умрет через шесть недель?
Усов ответил:
— Бывает, что умирают через шесть недель, бывает, что через несколько месяцев и через год, а говорят, и через много лет. Но можно и совсем не умереть. Далеко не все укушенные умирают.
— Ах, как это жалко, — с упрямым оживлением сказал Толстой. — Мне ужасно нравилась мысль, что умирают, это удивительно хорошо. Укусит собака, и знаешь наверное, что через шесть недель непременно умрешь, и руби всем правду в глаза, делай, что хочешь… А вы наверное знаете, что это не так? — упрямо спрашивал он.
Сколько раз потом при разговорах и спорах Толстого я слышала этот упрямый тон, эту его манеру говорить быстрее собеседника и видела эти глаза!
У Олсуфьевых как раз в это лето был переполох: бегала бешеная собака. Собаку никак не могли поймать, — успокоились только тогда, когда, наконец, явился однажды урядник и, вытянувшись и взяв под козырек, отрапортовал: «Имею честь доложить вашему сиятельству, что собака проследовала к станции Подсолнечной». А до того олсуфьевские мужики оставались совершенно равнодушны к собаке и не думали о том, чтобы поймать и убить ее.
— И прекрасно делали! — сказал Толстой.
И вдруг стал просто, спокойно, ярко рассказывать, как в бытность его на Кавказе у него сбесился легавый щенок Булька, как он лизал и хватал зубами его сапог…
В нашем кругу постоянно говорили не только о Толстом, но и о всей толстовской семье. Например, первый выезд Тани Толстой, ее первый бал (кажется, у князей Щербатовых) был предметом разговора даже у нас, у моих братьев со мной, хоть я еще ее не знала. Рассказывали бывшие на этом балу о ее простом белом платье, восхитительной улыбке, своеобразных, немного резких манерах, не скрывавших милой застенчивости… Помнится, это был ее единственный бал. Скоро Лев Николаевич запретил ей выезды на балы. И когда потом был как-то бал у Беклемишевых, она забралась к ним в самом начале, в простом платье, — только посмотреть. Комнаты, еще холодные, ярко освещенные и полные запаха цветов, постепенно наполнялись огромным количеством московских барышень в воздушных платьях, в нарядных прическах и цветах, с меховыми накидками на обнаженных плечах… Таня с любопытством разглядывала всех.
— Какие вы все смешные! — наконец сказала она совсем по-толстовски. — Голые и в цветах!
Я познакомилась с нею тоже у Олсуфьевых — мы вместе отъезжали на масленичной тройке от их особняка в Мертвом переулке, ехали в Покровское-Глебово, где в оранжерее был приготовлен чай и музыка для танцев. Опять неожиданно, в бекеше, с палкой, появился Лев Николаевич, с своими пронзительно-жесткими глазами под нависшими бровями, — проводить ехавших, посмотреть, с кем села Таня и как она ведет себя. И это всех очень тронуло, — «точно совсем обыкновенный человек».
Весной того года, — до сих пор помню, на Николу, — выдался удивительный день. После пыли и сухой весенней жары вдруг пролилась первая сильная гроза. Под водосточные желоба подставляли кувшины, чтобы умываться, а потом ослепительно заиграло солнце в нашем маленьком саду с разрушающейся беседкой, в доме у нас открыли окна, мелкие почки на деревьях зазеленели, лужи засверкали, и старая наша няня с умилением сказала, вытирая подоконник: «Это Николай Угодник, для скотинки».
Я была тогда вся охвачена первым чувством любви, жизнь казалась мне необычайным, сделанным мною самой открытием, и я в этот день относилась с большим равнодушием к некоторому волнению в нашем доме: вечером у нас должен был быть Лев Николаевич.
Вечером он, в своей блузе, сидел в нашей чинной гостиной. Прочих гостей было немного. Говорили об искусстве, о том, что в то время писал он. Совестно сказать, но мне скоро сделалось скучно, я ушла в сад. Ночь была сырая и свежая, в саду резко пахло молодым тополем, небо было чистое и зеленое. Я никак не могла уйти из сада. То, что я чувствовала, казалось мне интереснее даже гениальных произведений Толстого.
Как он был скромен, серьезен, любезен в этот вечер! За ужином чувствовалось, что прерванный разговор был долгий, горячий, и все были сдержанно-грустны и будто даже немножко чем-то обижены. Должно быть, перед ужином все убеждали Льва Николаевича писать художественное. Когда я пришла, один гость негромко, волнуясь, говорил:
— Боже мой, да сами ваши образы… ведь они сама истина и красота! Они открывают истину больше всех рассуждений и доказательств…
Толстой ответил совсем скромно:
— Покорно вас благодарю… это очень приятно… Но ведь это все так рассуждают. Это ведь и Немирович-Данченко думает, что спасает мир своими романами…
Я была дружна с Верочкой Толстой, дочерью графа Сергея Николаевича. С ней, кажется, и пришла в первый раз в Хамовники, в московский дом Толстых.
Дом Толстых был столь интересен, что бывать там было очень соблазнительно. Но то тяжелое, что было там, не искупалось для меня в то время этим интересом. Все или почти все Толстые были талантливы, своеобразны, остроумны. Но они ни на одну минуту не забывали, что они Толстые. Я никогда не слыхала, чтобы молодые Толстые восхищались какими-нибудь литературными произведениями, кроме толстовских. Все и всех они осуждали, говорили, что Тургенева и Гоголя впоследствии никто и читать не будет: велик только Толстой. А меж тем, когда стали вспоминать «Севастопольские рассказы», Таня вдруг сказала: «Я, правду сказать, их не читала…»
Большой толстовский сад в Хамовниках весною звенел смехом, гитарами, цыганскими песнями. Толстые были все очень музыкальны. Главный интерес молодых и главный предмет их разговоров была любовь, и говорили они о ней очень вольно, а иногда и прямо грубо, с толстовской смелостью. Кроме того, попавший туда не всегда чувствовал себя на месте, — того и гляди, зададут какой-нибудь неприятный вопрос. Если, например, придет человек с кривым носом и забудет об этом своем недостатке, то молодые Толстые напомнят ему об этом как раз тогда, когда ему это будет особенно неприятно.
Более других хотелось простить все это Тане, которая очаровывала своей привлекательностью и талантливостью. Она отлично изображала, например, обезьян. Раз страшно испугала меня, неожиданно и судорожно вцепившись мне в волосы, но так смешно защелкала передними зубами и заморгала карими глазами, что нельзя было сердиться.
Софья Андреевна тоже говорила просто, живо и как бы искренне такие вещи, которых ни от кого другого услышать было нельзя. Говорили как-то о браке. Она сказала: «Брак, конечно, грех и падение, искупление его только дети». Однажды расспрашивала она меня об одной нашей общей знакомой. Я восхищалась ею. Софья Андреевна вдруг сказала: «Ну, да, да, я так и знала: восхитительная женщина! А меня вот прославили дурой по всей России. А кто ведет весь дом? Кто всех детей на ноги поставил?» Она не скрывала, что пишет роман, что-то вроде опровержения на «Крейцерову сонату». Таня, однако, без всякой почтительности заявила при ней: «Покуда мы живы, все, что пишет мама, напечатано не будет».
Один раз, когда два меньших Толстых ехали на переэкзаменовку, Лев Николаевич вышел к ним и сказал: «Пожалуйста, знайте, что вы мне доставите самое большое удовольствие, если оба провалитесь». Они не преминули доставить ему это удовольствие. А Софья Андреевна с раздражением говорила: «Господи, посмотришь, у самых обыкновенных людей дети и талантливые, и умные, и учатся. А мой-то гений каких народил!»
Софья Андреевна нравилась мне своей высокой, видной фигурой, черными, гладко зачесанными блестящими волосами, подвижным привлекательным лицом, выразительным крупным ртом, улыбкой и даже манерой присматриваться, щурить большие черные глаза. Настоящая женщина-мать, хлопотливая, задорная, постоянно защищающая свои семейные интересы, наседка! Дети нам рассказывали, как она ездила к императрице (хлопотать о снятии запрещения с «Крейцеровой сонаты») и как весь их разговор с императрицей сосредоточился на детях: каждая рассказывала о своих…
Кстати, еще о детях. Последний сын Софьи Андреевны, Ванечка, смерть которого она впоследствии так оплакивала, был прелестен. Живой, с умными толстовскими глазами, с типичной толстовской рожицей и милым смехом. Я увидела его в первый раз, когда одна наша общая с Толстыми приятельница забавлялась тем, что бросала его огромную куклу Тане на руки. Зрелище было странное, — точно летит человек, раскинув руки, и все со смехом смотрели на это. Ванечка улучил минуту, схватил куклу. «А я не дам! — вдруг решительно заявил он, упрямо и задорно улыбаясь. — Ни за что не дам!» И смотрел на всех глазами волчонка…
Старое поколение Толстых все было очень интересно. И граф Сергей Николаевич — брат Льва Николаевича, и графиня Мария Николаевна — их сестра, носили отпечаток необыкновенно выраженного толстовского типа. Нельзя было их забыть, раз увидевши, и после встречи лица их так и вставали перед глазами.
Сергей Николаевич, — Володя в «Детстве, отрочестве и юности», — семья которого была мне очень близка, был когда-то замечательно красив, судя по портрету-дагерротипу в круглой рамке, где он, стройный, обольстительный, был изображен в мундире-кафтане стрелка императорской фамилии. Да и в мое время он еще имел правильные черты, большие темные глаза, был худ и строен. У Марии Николаевны были те же резко толстовские черты, резкий рот с сильной челюстью, большие горячие глаза, умные и жесткие, в очках (и оттого даже страшные). Видна была в этих глазах и во всем ее живом лице и уме сильная духовность… и совершенно адовый характер.
Сергей Николаевич был женат на цыганке из хора, кажется, просто из табора: это была толстая, маленькая женщина, тихая, как бы забитая, привыкшая никогда не возражать мужу и тихо посмеиваться на его беспощадные шутки, религиозная и добрая, всегда с папироской.
У Сергея Николаевича было три дочери, все три последовательницы своего дяди, типа цыганского, настойчивые в своих поступках и взглядах, резвые и насмешливые. Со старшей, Верочкой, меня связывала долгая дружба.
В его усадьбе, в селе Пирогове, раскинувшемся на берегу реки, усыпанному избами на огромном пространстве, около старого дома и старого, совершенно темного липового парка с черными аллеями, в крошечной мазанке, выстроенной толстовцами для того, чтобы на одной десятине сеять вику и проводить в жизнь веру Льва Николаевича, я встречала прятавшихся от Сергея Николаевича странных людей, здоровых, неуклюжих, читавших книжки «Посредника», резонеров, говоривших скучно, сбивчиво и так упрямо и долго, что всегда хотелось поскорей уйти от них. В Пирогове была и усадьба Марии Николаевны. Мы ездили и к ней, пили чай с крыжовником на ее балконе и говорили. Я любила ее за ум, и вера у нас была общая: она потом стала монахиней. Часто рассказывала она о себе, о братьях. У нее была какая-то пустошь с неудобным названием — Порточки. Она жаловалась, что в молодости любимым занятием ее братьев было при гостях деловито спрашивать ее:
— Как это, Машенька, пустошь эта у тебя? Как она называется?
Сергей Николаевич, несмотря на то, что отлично знал мои убеждения, говорил иногда при мне:
— Это все прекрасно, что Левочка внушает мужикам, что «Иже Херувимы» — глупости и что слушать попов не надо, это все прекрасно. А вот, что он говорит им, что надо им всю землю отдать, и натравливает их на помещиков, это преступно, я ему всегда это говорю. Хозяйство и так вести невозможно, нынешний народ и без того развращен ужасно.
В своем отношении к Верочке он мне напоминал старика Болконского из «Войны и мира». Та же любовь к дочери, почти обожание ее и то же безжалостное мучительство. Говорили они между собой всегда по-английски.
Лев Николаевич нежно любил Марию Николаевну. Но у них постоянно бывали споры и ссоры. Когда она приходила к нему, тотчас подымался крик, шум, — воображаю, какие делались лица, какие страшные толстовские глаза! Кончалось тем, что Мария Николаевна вскакивала и убегала, а он бежал за ней, крича:
— Машенька, прости меня, Христа ради!
Зато бывало и другое: как просто, мягко, серьезно говорил и спорил он порой, всецело стараясь стать на точку зрения собеседника!
Как-то мы с Верочкой пустились рассуждать о любви и счастье, о жизни и морали. Он вошел в расстегнутом полушубке и валенках и стал расспрашивать, о чем мы говорим. Я, краснея, стала объяснять:
— Я говорю, что в жизни не имеет значения почти никакая проповедь. Только то, что человек сам переживет, перечувствует, перестрадает, может убедить его…
Он смотрел, присматривался, как бы примеряясь, стараясь что-то сообразить.
— Да, это главное, надо действовать примером, — сказал он наконец.
Раз в Хамовниках, среди множества гостей, он подошел ко мне.
— Вы исповедуетесь и причащаетесь? — вдруг спросил он.
Я знала, что все нас слушают, и вдвойне смутилась.
— Да, Лев Николаевич, исповедуюсь и причащаюсь.
Он пристально посмотрел на меня.
— А Михаил Николаевич, — спросил он про моего отца, — тоже верующий?
— Да, Лев Николаевич.
— И в церковь ходит?
— Да.
— И исповедуется и причащается?
— Каждый год.
Он вдруг задумался и ничего не сказал.
Однажды я имела смелость пуститься с ним в спор. Он возражал мне, вероятно, нарочно, но почему-то сердился. Я продолжала спорить, стала чувствовать, что путаюсь и делаю вообще глупость, побледнела и вдруг вижу знакомые гневные глаза и слышу его уже совсем запальчивый голос. Наконец я сказала, чтобы прекратить спор:
— Нет, я с вами не согласна.
Он вдруг замолчал и неприязненно посмотрел на меня.
— Вы ужасно похожи на великого князя
Владимира Александровича, — вдруг сказал он. — Да. Ему раз на заседании Академии художеств что-то доказали, как дважды два четыре, он все выслушал, потом взял звонок: «А я с вами все-таки не согласен. Закрываю заседание». И позвонил.
Кончив спор, я поспешила уйти. Когда я была уже на площадке лестницы, он вдруг появился передо мной.
— Простите меня, Христа ради, — сказал он, кланяясь…
Отлучение его от церкви вызвало взрыв негодования и у людей, окружавших его, и у всех тех, совершенно равнодушных к вопросам церкви, которые видели в Толстом поддержку своим революционным настроениям.
Мне рассказывали, что в те дни весь дом в Хамовниках был полон выражениями сочувствия и подношениями и что сам Толстой будто бы «сидит весь в цветах и кощунствует так, что волосы дыбом становятся». Точно ли, однако, что это событие ничуть не задело его душевно? Все, что я узнала потом, доказывает другое. Про кощунственные места «Воскресения» он сам говорил впоследствии с краской стыда и боли: «Да, нехорошо, нехорошо я это сделал… не надо было…» Когда Сергей Николаевич мучительно умирал от рака щеки, он первый спросил его, не утешило ли бы его причастие? И сам пошел к священнику, звать его к брату. За новую вещь он, говорят, никогда не садился, не перекрестившись…
Время его ухода и смерти совпало со временем смерти нашей матери, И все-таки мы все горячо следили за известиями из Астапова и за тяжкими страданиями несчастной и больной Софьи Андреевны.
Один врач-психиатр сказал мне, что этот уход был началом воспаления в легких, что у стариков при этой болезни очень часто является потребность движения, стремления куда-то. Когда я рассказывала об этом, слушавшие, — «либералы», конечно, — ужасно возмущались:
— Низводить величие гения, бросившего жизнь, которая противоречила его убеждениям, на степень старческого заболевания — это непростительно!
IX
— Простота и царственность, внутреннее изящество и утонченность манер сливались у Толстого воедино. В рукопожатии его, в полужесте, которым он просил собеседника сесть, в том, как он слушал, во всем было грансеньорство… Я имел случай видеть вблизи коронованного денди, внешне крайне изящного Эдуарда VII английского, чарующе вкрадчивого Абдул-Гамида II, железного Бисмарка, умевшего очаровывать… Все они, каждый по-своему, производили сильное впечатление. Но в их обращении, в их манерах чувствовалось что-то привитое. У Толстого его гран-сеньорство составляло органическую часть его самого, и если бы меня спросили, кто самый светский человек, встреченный мной в жизни, то я назвал бы Толстого. Таков он был в обыкновенной беседе. Но чуть дело касалось мало-мальски серьезного, как этот гран-сеньор давал чувствовать свою вулканическую душу. Глаза его, трудно определимого цвета, вдруг становились синими, черными, серыми, карими, переливались всеми цветами…
Так сказал о нем один весьма «светский» человек. А сам он всю жизнь говорил про себя (то прямо, то от лица своих героев), что он человек неловкий, бестактный, стыдливый и самолюбивый «до поту», «озлобленно-застенчивый, ленивый, бесхарактерный, раздражительный», поминутно что-нибудь или кого-нибудь остро ненавидящий:
— Левин с ненавистью вглядывался в руки Гриневича с белыми длинными пальцами, с длинными желтыми, загибавшимися в конце ногтями…
Тот круг, который он так жестоко изображал и к которому принадлежал по рожденью, житейски был для него все-таки самым близким кругом. Когда я видел его в первый раз, я заметил, как он вдруг изменился, вспомнив моего отца, — то, что он встречался с ним в осажденном Севастополе, в этом «своем» кругу, — как оживленно стал расспрашивать: «Ведь вы, кажется, в родстве с такими-то? Такие-то вам тоже родственники?» Его секретарь Булгаков говорит: «Даже в старости Лев Николаевич был доступен сословным предрассудкам… Когда у его дочерей случались „романы“ (невинные, конечно) с людьми „не нашего“ круга, он бывал очень огорчен и недоволен, боялся мезальянса для них». О Черткове, по словам Булгакова, он высказывался в последние годы «либо в ограниченном, либо в отрицательном смысле». Может быть, одной из причин его привязанности к Черткову было то, что среди толстовцев почти один Чертков принадлежал к настоящему «нашему» кругу? В этом кругу некоторые невавидели его (Толстого) с той же яростью, с которой крикнул однажды Андрей Львович: «Если бы я не был сыном его, я бы его повесил!» И все-таки этот круг считал его «своим». Впоследствии я встречался в Москве кое с кем из этого круга и видел, что там все-таки многие подчеркивали, что он «в сущности всегда был и остается барином», с гордостью говорили:
— Ах, все, кто знали его когда-то, иначе и не называют его, как бывший светский лев! Да он и теперь, несмотря на свои причуды, прежде всего светский человек и джентльмен с головы до ног, в обществе очарователен.
Лопатина без конца перечисляла эти «причуды».
— Вспоминая свою молодость, — говорила она, — то и дело вспоминаю его. Иду однажды по вашим переулкам, возле Староконюшенного, и встречаю его — идет с своей легавой собакой. Подходит, здоровается, идет со мной и тотчас начинает говорить о своем сыне Илюше: «Он поступает в Сумской полк вольноопределяющимся, а я ему говорю: иди в пехоту. Во-первых, если хочешь солдатского котла попробовать, это гораздо вернее будет; а потом — с его именем его там бы на руках носить». Подумайте, до чего было мне странно слышать от него такие речи! Все это казалось мне следствием его какой-то психической болезни. Хорошо сказал о нем ваш кучер. Я раз ехала зимой и встретила его везущим на салазках обледенелую бочку с водой, и ваш кучер, человек суровый и всегда пьяный, сказал мне: «Какой он черт граф! Он шальной». Да и правда. Как, например, проявлялось его безумие в его страсти к схватыванью всяких ужасных и гадких черт жизни! Помните эту светлую точку, которую видел где-то впереди Иван Ильич, когда его, умирающего, будто бы впихивали в какой-то черный мешок? Ведь это взято из действительности: у одного из наших общих с Толстым знакомых умер брат, и вот рассказывали, что он тоже все твердил перед смертью в бреду, что его совали в этот страшный мешок. Это прекрасно, разумеется, что Иван Ильич все-таки видел впереди эту светлую точку, которая «все ширилась», но верил ли сам Толстой в нее? По-моему, он верил только в черный мешок.
«Левочка несчастный человек, — говорил про него его брат Сергей Николаевич. — Ведь как хорошо писал когда-то! Думаю, что лучше всех писал. А потом свихнулся. Недаром с самого детства помню его каким-то странным…»
То же с великим сокрушением говорила и Марья Николаевна: «Ведь Левочка какой человек-то был? Совершенно замечательный! И как интересно писал! А вот теперь, как засел за свои толкования Евангелий, сил никаких нет! Верно, всегда был в нем бес». И это она совершенно убежденно говорила и, конечно, совершенно верно. Я-то в этом никогда не сомневалась.
Вспоминаю, например, такой случай. На какой-то свадьбе один известный в Москве приват-доцент, сын ученого богослова-священника, опять общий наш с Толстыми знакомый, был пьян, и в церкви, подписавшись под брачным документом как свидетель, вошел в алтарь и положил его на престол. Ему сказали, что этого делать нельзя, что это — престол, а он в ответ такое кощунство сказал, что у всех волосы на голове зашевелились. Толстой же, когда ему рассказали об этом, не только пришел в дикий восторг, но всех тащил разделить с ним этот восторг. «Нет, подите сюда! Вы слышали?» И покатывался со смеху, хлопая себя по ляжкам: «Вот великолепно ответил!» Для меня это было и есть совершенно несомненным присутствием в нем беса…
— Он очень любил моего покойного брата Володю, — продолжала она. — Помню, был однажды на Святках вечер у Толстых в их Хамовническом доме, наехало к ним множество ряженых, и на верхней площадке лестницы стоял сам Лев Николаевич, всех встречая улыбками, запустив руку за ременный пояс блузы, и все ему низко кланялись, а потом что же оказалось? Каково было изумление всех, когда вдруг появился другой Толстой, настоящий, а в Володе все узнали загримированного Толстого! Больше всех был восхищен сам Лев Николаевич. Все повторял: «Это удивительно! Правда, вы, Владимир Михайлович, похожи на меня, но ведь я чуть не втрое старше вас, так что надо быть просто огромным талантом, чтобы изобразить меня так, как вы!» Потом в Ясной Поляне любители играли «Плоды просвещения», Володя играл «третьего мужика», и Лев Николаевич опять осыпал его самыми неумеренными похвалами на репетициях: «Ах, какой талант! Ах, как вы мне объяснили этого мужика, я только теперь его понял как следует!» — и все дополнял рукопись «Плодов просвещения». Вы Володю знали, он был и впрямь очень талантлив, — недаром попал на старости лет в Художественный театр, — но он был еще и очень умный, проницательный человек. Так вот он всегда говорил мне: «Как это никто не видит, что Толстой переживает и всегда переживал ужасную трагедию, которая заключается прежде всего в том, что в нем сидит сто человек, совсем разных, и нет только одного: того, кто может верить в бога. В силу своего гения он хочет и должен верить, но органа, которым верят, ему не дано». Вы вот смеетесь над такими словами, а это сущая правда…
— Дети Толстые сначала ходили в церковь, а потом весело и легко (по крайней мере, с виду) оставляли и меняли свои верования. У Маши это было особенно заметно. Было у нее правило — ездить каждую субботу к одним знакомым, ночевать у них, чтобы утром идти вместе к обедне. Старшие уже смеялись над ней, но она упорно делала свое. Потом это вдруг пропало — с того времени, когда она вздумала было выйти замуж за одного из самых главных толстовцев. Что ж, все это было вполне понятно, все шло от отца. Смеяться над попами и называть Шекспира бездарностью стало как бы обязательным в толстовском доме, хотя тут надо оговориться. Однажды он сказал про Шекспира: «Мои дети его совсем не понимают, всего замечательного, что есть в Шекспире, они не могут, конечно, понять, схватывают только мои бранные слова о нем». То же надо сказать и насчет религии. Однажды мы гостили с Татьяной Львовной у Олсуфьевых, жили наверху, где был коридор с рядом комнат, как в гостинице. Как-то ночью я, уже засыпая, вдруг спросила ее: «Таня, а ты веришь в будущую жизнь?» Она отвечала бодро, не задумываясь: «Конечно, нет. Кто ж в такие глупости верит?» Но вот Лев Николаевич стал говорить совсем другое: будущая жизнь несомненно существует, но только ее нужно заслужить, ее дают «как Георгиевский крест». И все молодые Толстые стали повторять эти слова.
— И еще вспоминаю. Однажды Соня Самарина, которую называли самой привлекательной девушкой Москвы, с негодованием говорила мне про него: «Лучше всего то, что, написав „Крейцерову сонату“, он недавно во всеуслышание сокрушался, что Таня и Маша не выходят замуж! Так и говорил: „Чем же они хуже других, что их никто не берет?“ Вполне сумасшедший человек. Семь пятниц на неделе».
— А то раз мы с Верочкой (дочерью Сергея Николаевича) неожиданно приехали в Ясную Поляну. Там на балконе обедали, за столом, как всегда, сидело множество народа. Лев Николаевич через весь стол стал спрашивать Верочку: «Ну, что у вас? Что папа?» Верочка, застенчивая, милая, до глупости правдивая, смутилась и забормотала: «Да ничего… То есть папа очень волнуется… Священниковы свиньи пришли в сад и все яблони подрыли…» Весь стол захохотал, захохотали и все Толстые, все эти толстовские глаза, челюсти и зубы, один Лев Николаевич вдруг стал очень серьезен и сказал, грустно и раздраженно: «Да, да, вам всем это кажется, конечно, очень смешно, а на самом деле ничего нет в этом смешного, это — жизнь, а все, что мешает жизни, очень тяжело!» Вот и поймите его после этого… «Все эти толстовские глаза, челюсти и зубы». Совершенно замечательные слова.
X
«Волчьи глаза» — это неверно, но это выражает резкость впечатления от его глаз: их необычностью он действовал на всех и всегда, с молодости до старости (равно как и особенностью своей улыбки). Кроме того, что-то волчье в них могло казаться, — он иногда смотрел исподлобья, упорно.
Только на последних его портретах стали появляться кротость, покорность, благоволение, порой даже улыбка, ласковое веселье. Все прочие портреты, чуть не с отрочества до старости, поражают силой, серьезностью, строгостью, недоверчивостью, холодной или вызывающей презрительностью, недоброжелательностью, недовольством, печалью… Какие сумрачные, пристально-пытливые глаза, твердо сжатые зубы!
«Проницательность злобы», сказал он однажды по какому-то поводу, о чем-то или о ком-то. Это к нему не приложимо. Справедливо говорил он о себе: «Зол я никогда не был; на совести два, три поступка, которые тогда мучили; а жесток я не был». И все-таки, глядя на многие его портреты молодых и зрелых лет, невольно вспоминаешь эту «проницательность злобы». «Дух отрицанья, дух сомненья», как когда-то говорили о нем, цитируя Пушкина, «разрушитель общепризнанных истин»… Для таких определений он дал столько оснований, что их и не перечислить. Вот у меня на столе его швейцарский дневник 1857 г. Всюду он верен себе: «Странная вещь! из-за духа ли противоречия или вкусы мои противоположны вкусам большинства, но в жизни моей ни одна знаменито прекрасная вещь мне не нравилась».
В зависимости от настроений, от той или иной душевной полосы, в которой он находился, — причем эти полосы чередовались у него, как известно, очень часто и резко, — или в зависимости от среды, в которой он был в данную минуту, он был то одним, то другим, и это тотчас сказывалось на всей его внешности; он сам говорил: «Как много значат общество и книги. С хорошими и дурными я совсем другой человек». Все же в портретах его молодости, зрелости и первых лет старости всегда есть нечто преобладающее, такое, что, во всяком случае, не назовешь добротой.
Вот портрет его студенческого, казанского времени: довольно плотный юноша, стриженный ежом, серьезное и недовольное лицо, в котором есть что-то бульдожье. Затем — офицерский портрет: стрижен тоже ежом, только более острым и высоким, лицо несколько удлиненное, с полубачками, взгляд холодный и надменный; на мундир накинута на плечи щегольская николаевская шинель со стоячим бобровым воротом. Полная противоположность Этому портрету — другой офицерский портрет, по-моему, один из самых замечательных его портретов; тут очень мало общего с вышеназванными; это то время, когда он приехал в Петербург из Севастополя и вошел в литературную среду, ему под тридцать лет, он в артиллерийском мундире совсем простого вида, худ и жирок в кости, снят до пояса, но легко угадываешь, что он высок, крепок и ловок; и красивое лицо, — красивое в своей сформированности, в своей солдатской простоте, тоже худое, с несколько выдающимися скулами и только с усами, редкими, загибающимися над углами рта и с небольшими умными глазами, сумрачно и грустно глядящими снизу вверх (от наклона головы).
Выйдя в отставку и живя в Петербурге и в Москве, он много времени отдавал светской жизни, балам, театрам, ночным кутежам, был франтом; тут опять нашла на него полоса вроде той, которую он пережил при вступлении в юность, когда он решил, что главное достоинство человека — быть человеком «comme il faut». Портрета этой поры я не видел, думаю, что его и не существует. Но есть портрет следующей поры — времени его первой поездки за границу, пребывания в Париже и в Швейцарии. Это опять портрет человека красивого (как ни странно это слово в применении к нему): он все еще худ и молод лицом, хотя уже обложился небольшой бородкой; еще очень приятная своей молодостью нижняя губа чуть-чуть выдается, глаза глядят спокойно, несколько вопросительно, как бы выжидательно, заранее недоверчиво, и есть в них некоторая скорбность… Удивляет после этого портрета чтение его швейцарского дневника, одного из самых пленительных его произведений: столько в этом дневнике свежести, смелости, счастливой, поэтической прелести. На Женевском озере весной того года жила его родственница Александра Андреевна Толстая, с которой его связывала после того многолетняя дружба, было большое русское светское общество, в котором он «всех очаровывал своей детской веселостью и беспрестанными смешными выходками».
Расставшись с этим обществом, он совершил двухнедельное пешее путешествие через горы до Фрибурга.
— Удивительно спокойное, гармоническое и христианское влияние здешней природы, — писал он в день выхода в это путешествие. — Погода была ясная, голубой, ярко-синий Леман с белыми и черными точками парусов и лодок почти с трех сторон сиял перед глазами; около Женевы, в дали яркого озера, дрожал и темнел жаркий воздух, на противоположном берегу круто поднимались зеленые Савойские горы с белыми домиками у подошвы, с расселинами скалы, имеющей вид громадной белой женщины в старинном костюме. Налево отчетливо и близко над рыжими виноградниками, в темной зеленой гуще фруктовых садов, виднелись Монтре с своей прилепившейся на полускате грациозной церковью; Вильнев на самом берегу с ярко блестящим на полуденном солнце железом домов; таинственное ущелье Вале с нагроможденными друг на друга горами, белый холодный Шильон над самой водой и воспетый островок, выдуманно, но все-таки прекрасно торчащий против Вильнева. Озеро рябило, солнце прямо сверху ударяло на его голубую поверхность, и распушенные по озеру паруса, казалось, не двигались.
— Удивительное дело, я два месяца прожил в Clarens, но всякий раз, когда я утром или особенно перед вечером, после обеда, отворял ставни окна, на которое уже зашла тень, и взглядывал на озеро и на зеленые — и дальше синие — горы, отражавшиеся в нем, красота ослепляла меня и мгновенно с силой неожиданного действовала на меня. Тотчас же мне хотелось любить, я даже чувствовал в себе любовь к себе и жалел о прошедшем, надеялся на будущее, и жить мне становилось радостно, хотелось жить долго, долго, и мысль о смерти получала детский поэтический ужас… Физическое впечатление, как красота, через глаза вливалось мне в душу…
— Я не умею говорить перед прощанием с людьми, которых я люблю[13]. Сказать, что я их люблю, — совестно, и отчего я не сказал этого прежде; говорить о пустяках тоже совестно… Наш милый кружок был расстроен и, верно, навсегда… Я почувствовал себя вдруг одиноким, и мне показалось так грустно, как будто это случилось со мной первый раз…
В этом дневнике, — где тут «волчьи глаза»? и почему даже и тут «мысль о смерти»? — он первый употребляет совсем новые для литературы того времени слова: «Вдруг нас поразил необыкновенный, счастливый, белый весенний запах…» «Все уже было черно кругом. Месяц светил на просторную поляну, потоки равномерно гудели в глуби оврага, белый запах нарциссов одуревающе был разлит в воздухе…»
Далее идут портреты как бы другого человека. Став мужем, семьянином, мировым посредником, неутомимым и расчетливым хозяином, возведя в культ помещичье дворянство, он принял барский вид той поры жизни, когда человек уже определился в семейном и общественном положении, находится в расцвете сил, живет деловито и самодовольно, в соответствии со своим привилегированным происхождением, увеличивающимся достатком, наследственными традициями: на этих портретах он опять отлично одет, на одном даже с цилиндром, позы у него непринужденные, гордо-красивые, глаза барски-презрительные, в небрежно брошенной руке папироса… Дивишься, глядя и на эти портреты: ведь в эти годы писалась «Война и мир» — Наташа и Петя Ростовы, Пьер и смерть «маленькой княгини», последняя встреча Наташи с князем Андреем, их любовь, его умирание… Дивишься и другому: всегда легко плакавший, он даже и в эти годы мог в любую минуту вдруг горячо и умиленно заплакать. Умиленность, нежность — слова опять будто странные в применении к нему. Но вот он пишет Софье Андреевне: «Ужасно люблю! Переношусь в прошедшее — Покровское, лиловое платье, чувство умиленности — и сердце бьется».
Пытливость, недоверчивость, строгость — откуда это?
— Чтобы быть приняту в число моих избранных читателей, я требую очень немного: чтобы вы (читатель) были чувствительны… были человек религиозный, чтобы вы, читая мою повесть, искали таких мест, которые задевают вас за сердце… Можно петь двояко: горлом или грудью. Горловой голос гораздо гибче грудного, но зато он не действует на душу… Ежели я даже в самой пустой мелодии услышу ноту, взятую полной грудью, у меня слезы невольно навертываются на глаза. То же самое и в литературе: можно писать из головы и из сердца… Я всегда останавливал себя, когда начинал писать из головы, и старался писать только из сердца…
Гете говорил: «Природа не допускает шуток, она всегда серьезна и строга, она всегда правда».
Толстой был как природа, был неизменно «серьезен» и, безмерно «правдив».
«Герой моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».
Это было сказано им почти в самом начале его писательства, не раз было повторено и впоследствии, — «и в жизни и в искусстве нужно лишь одно — не лгать», — и совершенно приложимо ко всему творчеству и ко всей духовной жизни его. (Тут сказалось и наследство матери, от которой он вообще унаследовал очень многое. Он писал о ней: «Еще третья черта, выделявшая мою мать из ее среды, была правдивость и простота ее тона в письмах… В то время особенно были распространены в письмах выражения преувеличенных чувств».)
Гете говорил: «Людям нечего делать с мыслями и воззрениями. Они довольствуются тем, что есть слова. Это знал еще мой Мефистофель». И приводил слова Мефистофеля:
Коль скоро надобность в понятиях случится, Их можно словом заменить…Шопенгауэр говорил, что большинство людей выдает слова за мысли, большинство писателей мыслит только ради писания. Это можно применить ко многим даже очень большим писателям. Но вот уж к кому никак не применишь: к Толстому.
В смысле правдивости удивителен был даже язык его произведений, выделяющийся во всей русской литературе отсутствием всяких стилистических приемов, условностей, поражающий смелостью, нужностью, точной находчивостью каждого слова. В том же роде были и письма его, неизменно деловитые, прямые, естественные, и его простая, меткая устная речь. (Известный русский музыкант Гольденвейзер, целых пятнадцать лет бывавший в его доме и ведший записи о нем, дал, между прочим, целый список некоторых ее особенностей. Он отметил, например, что букву «г» Толстой произносил простонародно, с придыханием, почти как «х»; немало слов произносил на старинный лад — например, говорил: Штокгольм; употреблял много местных, тульских слов; любил выражаться народными поговорками; с мужиками говорил их языком, никогда, однако, не подлаживаясь под них, всегда говорил им «ты»… Гольденвейзер прав, только я, как земляк Толстого и принадлежавший к тому же деревенски-помещичьему быту, что и он, должен сделать тут оговорку: все эти особенности — наши общие, в нашем быту и в нашей местности так говорили почти все отцы и деды наши. Оговорю и утверждение Гольденвейзера, будто Толстой никогда не употреблял «грубых», «народных» слов; употреблял и даже очень свободно — так же, как все его сыновья и даже дочери, так же вообще, как все деревенские люди, употребляющие их чаще всего просто по привычке, не придавая им никакого значения и веса. Это подтверждают многие из близко знавших его. Один из них говорит: «В биографии Толстого, написанной его секретарем Гусевым, сказано, со слов доктора Маковицкого, что „ругаться Толстой вообще не мог“. Но из дневников самого Льва Николаевича мы знаем, что в молодости, под сердитую руку, ему случалось побить крепостного человека. Неужели он мог делать это молча или приговаривая любезные елова? Это была бы уж не горячность, а несвойственная Толстому жестокость. Вообще Толстого нельзя было причислить к таким людям, у которых язык не поворачивается сказать грубое слово. Он и глубоким стариком, рассказывая какой-нибудь анекдот при дамах, способен был свободно произносить такие слова, которые обычно говорят только обиняком. Горький при первом знакомстве с Толстым даже обиделся, полагая, что это для него, для пролетария, Толстой говорил таким языком. Горький обиделся напрасно. Толстой, передавая, например, мужицкую речь, не стеснялся иногда самых грубых выражений и при всяких собеседниках».)
Возвращаясь к его внешности, повторяю то, что я сказал о своей первой встрече с ним:
«Едва я вхожу в залу, как в глубине ее, налево, тотчас же открывается маленькая дверка и оттуда быстро, с неуклюжей ловкостью, выдергивает ноги, выныривает большой седобородый старик. Быстрый, легкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями… И быстро идет прямо на меня, быстро (и немного приседая) подходит ко мне, ладонью вверх бросает руку, забирает в нее всю мою…»
Про последнее хочется сказать: зоологический жест. И дальше: «Он мягко жмет мою руку и неожиданно улыбается очаровательной улыбкой, ласковой и какой-то вместе с тем горестной, даже как бы жалостной, и я вижу, что эти маленькие серо-голубые глаза вовсе не страшные и не острые, а только по-звериному зоркие… Легкие и жидкие остатки серых, на концах слегка завивающихся волос, по-крестьянски разделены на прямой пробор, большие уши сидят необычно высоко, бугры бровных дуг надвинуты на глаза, борода, сухая, неровная, сквозная, позволяет видеть слегка выступающую нижнюю челюсть».
Это тоже надо отметить: нечто горестное, нечто жалостное в глазах и слегка выступающая челюсть.
Гольденвейзер сделал и другой список — перечень его физических особенностей. Отметил, между прочим, некоторый недостаток в его произношении: «Лев Николаевич пришепетывал… Не знаю, было ли это следствием старческого отсутствия зубов или Лев Николаевич говорил так всегда».
Я спрашивал Илью Львовича:
— Может быть, некоторая особенность произношения Льва Николаевича происходила от его несколько выступающей нижней челюсти?
— Вероятно. Это есть и у меня, и особенно у нашего старшего брата Сергея; мы с ним, мне кажется, вообще больше всего похожи с отцом физически. У Сергея нижняя челюсть выступает очень заметно. А наша походка? Ты прав, когда говоришь, что в отце было немножко гориллы. В нас этих черт, пожалуй, еще больше и выражаются они еще явственней. Я, совсем как отец, хожу быстро, почти бегаю и точно на пружинах, а Сергей приседает, пружинит уж совсем по-обезьяньи.
Гольденвейзер говорит: «Лев Николаевич ступал мягко, он широко расставлял в разные стороны носки и наступал сначала на пятку». Так ходила и мать Толстого (княжна Марья в «Войне и мире»): «Она вошла в комнату своей тяжелою походкой, ступая на пятки». Эта поступь тоже совсем не случайная толстовская особенность.
Когда я видел его в последний раз, в Москве на Арбате, он уже стал старчески ссыхаться, уменьшаться. Но от природы он был выше среднего роста, — хорошо помню, что при первой нашей встрече я, пока он пожимал мне руку, глядел на него несколько снизу; а я среднего роста.
Он был широк в плечах и вообще в кости. Гольденвейзер говорит, что даже очень широк: «Когда мне однажды пришлось спать в его ночной рубашке, то плечи ее спускались мне почти до локтя». Но Гольденвейзер; был телом невелик и щупл.
Он был близорук, но до самой смерти читал и писал, без очков.
Говорил большею частью тихо, но, когда окликал кого-нибудь, всегда поражала звучность его голоса.
В молодости был очень силен. Силен и до старости. «Мы, — говорит Гольденвейзер, — раз пробовали, сидя за столом, опершись на стол локтями и взявшись рука в руку, пригибать к столу руку, — кто ниже пригнет чужую руку. Он одолел всех присутствующих». А это было всего за год до его смерти.
Руки у него были большие, деревенски-дворянские, «с крепкими, правильной формы ногтями», как правильно отметил Гольденвейзер.
Ел он поспешно, часто даже жадно. Ел обычно немного, но когда что нравилось, ел так неумеренно, что часто хворал после того. Не любил молока и рыбы, не ел ни того и другого и тогда, когда не был еще вегетарианцем.
Захворав, он всегда начинал беспрестанно и очень громко на весь дом зевать.
«Когда дядя Сережа вспоминал что-нибудь неприятное или чувствовал себя не совсем здоровым, он начинал громко кричать у себя в кабинете: Аааааа!»
Это рассказывает Александра Львовна о Сергее Николаевиче. И то же об отце:
— Ооох, ооох, оох! — вдруг слышались страшные крики из кабинета отца.
— Что это? Кто кричит? Лев Николаевич? Ему плохо? — со страхом спрашивали непривычные люди.
— Нет, — отвечали мы со смехом, — это Лев Николаевич зевает.
Известно, как любил он всякие физические упражнения. Очень любил купаться и купался до конца жизни. Помню, говорит Гольденвейзер, когда я в первый раз пошел с ним купаться, я обратил внимание на очень большую родинку у него на правом боку. Плавал он как-то по-лягушечьи. Купался, как мужики, серьезно, не торопясь, деловито.
Он был в высшей степени смел, мужествен. «Я не могу представить себе его испуганным, — говорит Гольденвейзер. — Однажды зимой мы ехали с ним вдвоем в маленьких санках. Он правил. Начиналась метель, становилась все сильнее, так что наконец мы сбились с пути и ехали без дороги. Заметив вдалеке лесную сторожку, мы направились к ней, чтобы расспросить у лесника, как выбраться на дорогу. Когда мы подъехали к сторожке, на нас выскочили три или четыре огромных овчарки и с бешеным лаем окружили лошадь и сани. Он решительным движением передал мне вожжи, а сам встал, вышел из саней, громко гикнул и с пустыми руками пошел прямо на собак. И вдруг страшные собаки сразу стихли, расступились и дали ему дорогу, как власть имущему. Он спокойно прошел между ними и вошел в сторожку со своей развевающейся седой бородой».
В кавказских «делах» и в осажденном Севастополе он всегда вел себя не только храбро, но порой даже отчаянно. Однако панически боялся крыс; сидя однажды в севастопольских ложементах, вдруг выскочил наружу и кинулся на бастион, под ураганный обстрел неприятеля: увидал крысу.
Известно, какой он был страстный охотник[14], как любил лошадей и собак. От охоты он отказался только в старости, страсть же к верховой езде сохранил дом самой смерти и ездил удивительно. Садясь на лошадь, он весь преображался, сразу делался моложе, бодрей и крепче; в лошадях знал толк, как истинный знаток, хвалил их без критики редко. Что до собак, то не выносил их лая. Когда вблизи лаяла собака, он испытывал настоящее страдание. Загадочная черта, бывшая и у Гете, который относился к лаю собак даже мистически.
— Лошади, верховая езда играли большую роль в нашей жизни, — говорит Александра Львовна.
«Если едешь с отцом верхом, так не растрепывайся! Ездил он оврагами, болотами, глухим лесом, по узеньким тропиночкам, не считаясь с препятствиями…
Если по дороге ручей, отец, не долго думая, посылает Делира, и он, как птица, перемахивает на другую сторону…
А то перемахнет ручей да в гору карьером. Тут деревья, кусты, того гляди, о ствол ударишься или веткой глаз выстегнешь.
— Ну? — кричит он, оглядываясь.
— Ничего, сижу.
— Держись крепче!
Один раз мы ехали с ним по Засеке. Подо мной была ленивая, тяжелая кобыла. Отец остановился в лесу и стал разговаривать с пильщиками. Лошадей кусали мухи, овода. Кобыла отбивалась ногами, махала хвостом, головой и вдруг, сразу поджав ноги, легла. Отец громко закричал. Каким-то чудом я выкатилась из-под лошади, и не успела еще подняться, как отец молодым, сильным движением ударил ее так, что она немедленно вскочила…
Мне было лет пятнадцать, когда он учил меня ездить.
— Ну-ка Саша, брось стремя! А ну-ка попробуй рысью!
Раз он упал вместе с лошадью. Лошадь, степная, горячая, испугалась, шарахнулась и упала. Отец, не выпуская поводьев, с страшной быстротой высвободил ногу из стремени и прежде лошади вскочил на ноги…»
И еще одна особенность, тоже значительная, — как он держал перо: не выставлял вперед ни одного пальца, держал их все горсточкой и быстро и кругло вертел пером, почти не отрывая его от бумаги и не делая нажимов. Опять нечто «зоологическое».
Как связать со всем этим его редкую склонность к слезам? Эту склонность отмечают многие, знавшие его, Он легко плакал всю жизнь, только всего чаще не от горя, а когда рассказывал, слышал или читал что-нибудь — трогавшее его; плакал, слушая музыку. «От природы музыкальный и в молодости увлекавшийся игрой на фортепьянах, Лев Николаевич ни в какой мере не был музыкантом, но чуткостью к музыке обладал выдающейся. Не нравилось ему и оставляло его равнодушным иногда то, что с моей точки зрения было прекрасно, например музыка Вагнера, но что ему нравилось, было всегда действительно хорошо. Когда ему в музыке что-нибудь не нравилось особенно, например музыка Мусоргского, он говорил: „Стыдно слушать!“ Чрезвычайно любил русские народные песни, больше веселое, чем протяжное. Смеялся он довольно редко, но когда смеялся, то чаще всего тоже до слез».
Перечень его примет можно еще и еще пополнять. Но и этого достаточно, чтобы видеть, насколько первобытен был по своей физической и духовной основе тот, кто, при всей этой первобытности[15], носил в себе столь удивительную полноту, сосредоточенность самого тонкого и самого богатого развития всего того, что приобрело человечество за всю свою историю на путях духа и мысли. Когда-то суть европейского мнения о нем очень недурно (в смысле европейской невежественности и самоуверенности) выразил Золя. Мнение это было, в общем, такое: да, крупный талант, но достаточно варварский, истое дитя своего крайне эмоционального народа, человек наивно мудрствующий, открывающий давно открытые Америки, путающийся в том, что уже давно распутано… «Наивности» в нем было в самом деле немало, давно открытые Америки он и правда открывал, — в чужие открытия плохо верил, — во многом, что людям, подобным Золя, казалось давно распутанным, он долго путался, эмоционален был чрезвычайно. Вот еще насчет музыки, — он про нее говорил так: «Если бы вся наша цивилизация полетела к чертовой матери, я не пожалел бы, а музыки мне было бы очень жаль… Я люблю Пушкина, Гоголя, но все-таки мне ни с одним искусством не было бы так жалко расстаться, умирая, как с музыкой…» От музыки он почти страдал, — «ощущения, вызываемые в нем музыкой, сопровождались бледностью лица и гримасой, выражавшей нечто похожее на ужас», — говорит в своих воспоминаниях Берс, брат Софьи Андреевны.
XI
«Чтобы быть приняту в число моих избранных читателей, я требую, чтобы вы были чувствительны, были человек религиозный…»
«Было время, когда я тщеславился моим умом, моим именем, но теперь я знаю, что если есть во мне что-нибудь хорошего, то это доброе сердце, чувствительное и способное любить…»
«Я Дорку (собаку) полюбил за то, что она не эгоистка. Как бы выучиться так жить, чтобы всегда радоваться счастью других?»
С годами его «чувствительность» возрастала все более и более, в конце жизни дошла до крайней степени.
— Подходя к Овсянникову, смотрел на прелестный солнечный закат. В нагроможденных облаках просвет, а там, как красный раскаленный уголь, солнце. И все это над лесом. Рожь. Радостно. И думал: нет, этот мир — не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее для живущих с нами и для тех, которые после нас будут жить в нем…
— Ехал через лес Тургенева, вечерней зарей: свежая зелень в лесу под ногами, звезды в небе, запахи цветущей ракиты, вянущего березового листа, звуки соловьев, шум жуков, кукушка, — кукушка и уединение, и приятное под тобой, бодрое движение лошади, и физическое и душевное здоровье. И я думал, как думаю беспрестанно, о смерти. И так мне ясно стало, что так же хорошо, хотя по-другому, будет на той стороне смерти… Мне ясно было, что там будет так же хорошо, нет, лучше. Я постарался вызвать в себе сомнение в той жизни, как бывало прежде, и не мог, как прежде, но мог вызвать в себе уверенность…
«Мне казалось, — вспоминает Александра Львовна, — что обычное свойство отца — радоваться жизни, цветам, деревьям, детям, всему, всему, что окружало его, — усилилось в нем после болезней в Крыму. Как сейчас вижу, идет из леса. Белая блуза мешком сидит на похудевшем теле, воротник отстал, торчат ключицы, он идет без шляпы, пушатся на голове мягкие волосы.
— Вот посмотри, что я принес, — говорит он, весело улыбаясь.
Я заглядываю в шляпу. Там аккуратно на лопушке положено несколько грибов.
— Ты понюхай, понюхай только, как пахнут!
Постепенно силы его прибывали… Помню, как в первый раз после болезни он поехал верхом на только что купленной мною лошади. Он с трудом поднял левую ногу в стремя, с усилием перекинул свое тело, лошадь загорячилась, и он скрылся по „пришпекту“. Я не находила себе места. Мне казалось, что отец не справится с молодой, горячей лошадью, я с нетерпением ждала его возвращения.
— А я на Козловке был! — весело крикнул он мне, подъезжая к дому.
И как только я увидела его, я поняла, что напрасно волновалась. Делир шел спокойным, ровным шагом…
Отец любил цветы, всегда собирал их без листьев, тесно прижимая один к другому. Когда я делала ему букеты по-своему, прибавляя в них зелени и свободно расставляя цветы, ему не нравилось:
— Это ни к чему, надо проще…
Он первый приносил едва распустившиеся фиалки, незабудки, ландыши, радовался на них, давал всем нюхать. Особенно любил он незабудки и повилику, огорчался, что повилику неудобно ставить в воду — стебельки слишком коротки.
— Понюхай, как тонко пахнет, горьким миндалем, чувствуешь? А оттенки-то какие, ты посмотри!»
Повторяю: теперь, когда прошла целая четверть века со времени его смерти и, под влиянием множества всяких новых свидетельств о нем, образ его подвергся большому пересмотру, теперь всем кажется, что этот образ установлен уже точно, беспристрастно и полно, что не только все главные его черты, но и самая сущность определены, угаданы. Но нет, — некоторые новые черты этого образа, наконец-то замеченные и усвоенные, еще не поколебали прежнего представления о нем. Все те же «волчьи глаза», все тот же «великий грешник». «Апостол любви» — это только красноречие в торжественные дни поминовений его. Да и то не всегда обязательное.
Вот, например, совсем недавняя статья Амфитеатрова, одного из старейших и образованнейших русских писателей. «Во всех странах и народах славен Толстой, — говорит он, — на всех языках, имеющих письменность, написано о нем видимо-невидимо…» Да, написано немало и все еще пишется, но что и как? Амфитеатров с восхищением излагает «огромный и превосходный труд», посвященный Толстому к двадцатипятилетию со времени его смерти известным итальянским беллетристом и поэтом Чинелли. Кто же такой, по мнению Чинелли, Толстой? Мнение это — типичный образец того, что и до сих пор думает о Толстом большинство просвещенных людей «во всех странах и народах».
— Толстой — не пророк, не святой, все в нем — человеческое, здоровое, нормальное…
— Когда продумываешь его пути, его Голгофу, все думаешь по контрасту о самом счастливом и самом святом из людей — Сан-Франческо д'Ассизи…
Если все в Толстом кажется Чинелли таким «человеческим, здоровым, нормальным», то почему он говорит о Голгофе? Проходят ли через Голгофу «здоровые, нормальные» люди? Если Толстой «не пророк, не святой», зачем Чинелли проводит параллели между Толстым и святым? Это тем более непонятно, что еще никто не канонизировал Толстого во святые. Да если бы и был он канонизирован, почему непременно надлежало бы ему быть похожим на Сан-Франческо д'Ассизи? Великое множество святых не похоже на святого Франческо. Понятно одно: святой Франческо понадобился Чинелли для хулы на Толстого. Начать с того, говорит он, что еще в юности и без всяких размышлений, колебаний бросил Франческо и родной дом, и семью, и все мирские блага, все прелести и соблазны земные, а Толстой «опростился» только в старости, ушел от той роскоши, в которой провел весь свой долгий век, только перед смертью… Да, начать хотя бы с этого. По всему свету еще держится убеждение, что, невзирая на все свои «опрощения», несмотря на все свои отказы от всякого барства и богатства, жил Толстой все-таки всегда в барстве, в богатстве. Но в легенде об этом барстве и богатстве, равно как и в легенде о великой греховности Толстого, повинен прежде всего он сам: чего только не наговаривал он на себя![16] Никто не помнит этих скромных слов: «Зол я никогда не был; на совести два, три поступка, которые тогда мучили; но жесток я не был». Но как не помнить того страшного, что говорил он о годах своей молодости и средней поре жизни?
— Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах… Я убивал людей на войне, вызывал на дуэль, чтобы убить; проигрывал в карты, проедал труды мужиков; казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяние всех родов, насилие, убийство… Не было преступления, которого бы я не совершал…
«Роскошь» и слабость к ней он приписывал себе тоже сам, собственной рукой: «Я покорился совершенно соблазнам судьбы и живу в роскоши…» Сколько раз писал он это? Без числа, без всякой меры. А меж тем есть ли и в этой фразе хоть одно точное слово? «Покорился» — неправда: мучился «роскошью» своей жизни ужасно, с мыслью бежать от нее не расставался целые десятилетия и осуществить ее не мог единственно потому, что на этот, по его словам, эгоистический, бесчеловечный по отношению к семье шаг не хватало безжалостности. «Соблазны судьбы» — тоже неправда: кто мало-мальски, знает его жизненный обиход, тому слово «соблазны» просто смешно. «Весь век прожил в богатстве…» Но Толстые никогда не были богаты. Бабка Толстого по отцу была, как говорит он в своих воспоминаниях, дочь «скопившего большое состояние слепого князя Горчакова». Но дед (Илья Андреевич Толстой) промотал и свое, и то, что он взял в приданое за ней. Он был «не только щедрый, но бестолково-мотоватый, а главное, доверчивый… В его имении шло непрестанное пиршество, театры, балы, обеды, которые, в особенности, при страсти деда играть по большой в ломбер и вист, не умея играть, и при готовности давать всем, кто просил, и взаймы и без отдачи, кончилось тем, что большое имение его жены все было так запутано в долгах, что жить было нечем, и он должен был выхлопотать себе место губернатора в Казани». Дед по матери (Николай Сергеевич Волконский) был весьма состоятелен, но большая часть того приданого, которое взял Николай Ильич за Марией Николаевны, ушла на покрытие долгов Ильи Андреевича. Из имений у Николая Ильича осталась только Ясная Поляна, но и Ясную Поляну унаследовал он не от отца, а взял в приданое за женой. Короче сказать, родился и вырос этот богач в бедности, молодым терпел настоящую нужду; в зрелые годы, когда уже считал себя довольно обеспеченным, в отчаяние приходил из-за какой-нибудь лишней грошовой траты, — как Левин, проевший и пропивший с Облонским в ресторане «целых» семь рублей, — а что за «роскошь» окружала его старость, видно, например из записей его друга Буланже, в 1901 году сопровождавшего его, больного, на поправку в Крым, где он был приглашен жить у графини Паниной: «Почти со страхом глядел на ее дом Лев Николаевич, привыкший к простой, скромной, чтобы не сказать бедной, обстановке Ясной Поляны, где полы были во многих комнатах некрашеные, рамы в окнах гнилые, с облезлой краской…» Те же чувства, что и отец, испытала в этом доме и Александра Львовна, тоже сопровождавшая его в Крым: «Поразила роскошь дворца. Я никогда в таком доме не жила. Было неловко и неуютно: мраморные подоконники, резные двери, тяжелая дорогая мебель, большие высокие комнаты…»
Тут, кстати, надо сделать еще одну поправку — насчет его опрощения в одежде. Этому опрощению почему-то придали и теперь еще придают совсем незаслуженное значение. Как все деревенские дворяне, он и до опрощения носил зимой (даже иногда и в городе) тот самый полушубок, который впоследствии сделали столь знаменитым; носил и длинные сапоги, и блузу, и валенки; порой и косил, пахал. Но вот стали всему этому дивиться. Почему? Анатоль Франс в полушубке, Марсель Пруст с косой в руках, Бодлер за сохой, разумеется, были бы удивительны. Но Толстой? Впрочем, я понимаю, например, Мережковского, который в своей книге («Толстой и Достоевский») посвятил этому полушубку (и косе и пиле, стоявшим в рабочей комнате Толстого) столько наивных страниц: трудно найти даже среди нынешних русских писателей более типичного городского человека, чем Мережковский, отроду никогда не видавший, вероятно, собственными глазами ни косы, ни пилы, — недаром он называет пилу напильником…
— Франческо, — говорит Чинелли дальше, — был человек веселый, он пел, учил радости. А Лев…
А что «Лев»? «Лев» записал о дважды, уже в старости: «Слушал политические рассуждения, споры и вышел в другую комвату, где с гитарой играли и пели, и ясно почувствовал святость веселья».
— Лев маялся смертной мукой в своей рассудочной борьбе с красотой и природой… Лев тоже имел от бога дар понимать природу. И он наслаждался ею. Но ему было мало того: в своей человеческой гордыне он не мог помириться на непосредственном восприятии наслаждения, хотел вникать и познавать… Оба, Франческо и Лев, любили животных. Но как разно! Лев, смолоду великий охотник, должен был наложить на себя зарок не убивать животных. А Франческо, — был «великий ловец» и тоже «должен был наложить на себя зарок не убивать животных». И не один Евстафий: еще, например, Юлиан Милостивый…
Слово за словом повторяет Чинелли те злые и упорные в искажении действительности мнения о Толстом, на которых основана вражда и даже ненависть к нему еще очень, очень большого числа людей. «Мое истинное „я“ презираемо окружающими», — горько говорил он в старости, записывая свои «дни и дела» в Ясной Поляне. Это «я» было «презираемо» не только некоторыми из окружавших его в Ясной Поляне, но и тысячами тысяч из тех, которыми окружала его и Россия, и Европа, и Америка. «Презираемо» и до сих пор. Я не выбирал Чинелли — я случайно узнал о его «громадном и превосходном труде» от Амфитеатрова и увидал, сколь Чинелли не случаен, сколь он типичен. Вот хотя бы то, как сошлись на вражде к Толстому молодой итальянский писатель и старый русский. Русский писатель должен был бы знать и понимать Толстого во сто раз лучше всякого иностранного. Но вот — полное единодушие, такое, что чем дальше читаешь статью Амфитеатрова, тем все меньше понимаешь, кто говорит: Амфитеатров или Чинелли?
Амфитеатров говорит:
— В любви к женщине и в бунте против этой любви — весь Толстой. Он так много любил, что перелюбил. И как он любил? Никто не любил более по-человечески, менее духовно, чем он. И как скоро ударил час его телесного упадка, он, в озлоблении, что теряет телесную силу, которая роднила его с матерью-землей, озлобился на целых тридцать лет, стал, грязно ругаясь, старчески бунтуя, — вспомните мрачную похоть о. Сергия, — проповедовать безусловное целомудрие.
То же говорит и Чинелли: «В устах Толстого проповедь чистоты, целомудрия есть только повелительное насилие, обличительная полемика, ругательное и самое непристойное издевательство над жизнью и природой…»
Никак не стоило бы цитировать эту клевету, будь она случайна, принадлежи она только какому-то Чинелли. Но разве один Чинелли забывает все те страстные, сердечные, с самой ранней молодости присущие Толстому стремления именно к чистоте, к целомудрию, то, с каким ужасом, — с ужасом даже как бы мистики грехопадения, — всегда писал он о потере юношеской невинности? Он писал об этом в юности («Как гибнет любовь»), писал в годы мужества, — например, о том, как Николай Ростов, еще не знавший женщин, поехал с Денисовым к какой-то гречанке: «Он ехал как будто на совершение одного из самых преступных и безвозвратных поступков… Он чувствовал, что наступает та решительная минута, о которой он думал, колеблясь, тысячу раз… Он дрожал от страха, сердился на себя и чувствовал, что он делает безвозвратный шаг в жизни, что что-то преступное, ужасное совершается в эту минуту…» О чувствах Ростова после падения он писал еще мучительнее: «Он проснулся и все плакал и плакал слезами стыда и раскаяния о своем падении, навеки отделившем его от Сони», — точнее, от той женщины, которая представлялась ему идеалом его любви и которую нельзя было определить: «Была ли то мечта первой любви или воспоминание нежности матери, не знаю, — не знаю, кто была: эта женщина, но в ней было все, что любят, и к ней сладко и больно тянула непреодолимая сила…» Все эти строки можно прочесть в набросках, не вошедших в «Войну и мир» по несоответствию их слишком лирического тона с общим тоном романа. Но эта лирика всегда жила в толстовской душе, — до глубокой старости:
— Еще думал нынче о прелести — именно прелести — зарождающейся любви. Это вроде того, как пахнет вдруг запах зацветающей липы или начинающая падать тень от луны…
И вот, после таких строк, читаешь: «В устах Толстого проповедь чистоты, целомудрия есть только повелительное насилие, обличительная полемика…» Однако можно ли строго судить всех этих Чинелли? Не сам ли человек вопиял так долго и отчаянно, что он почти всю свою жизнь совершал «любодеяние всех родов»! Да не отставали от него и его друзья, знакомые. Покойный Боборыкин рассказывал мне:
— Некрасов, которого, кстати сказать, Толстой считал одним из самых умных людей, каких он когда-либо встречал, Некрасов называл Толстого великий сладострастником, и я Толстому это не раз напоминал. Как только начнет он меня допекать, как мы все гадко живем, как мало о душе думаем, я ему сейчас: это вам, Лев Николаевич, надо спасаться по великим грехам вашим, а мне что? Меня и так с распростертыми объятиями в рай примут: Петр Дмитриевич, дорогой, пожалуйте, вы за всю жизнь лишнего стакана вина не выпили, не то что Толстой! Я, Лев Николаевич, подобно вам и Будде, не отрекался ни от жены, ни от царства, зато, надеюсь, и не умру, как Будда, который, достигнув всяческой святости, восьмидесяти лет от роду, вдруг объелся однажды в жаркий день свининой у знакомого кожевника, а после того не удержался еще и от другого искушения, — искупался в речке, за что и отдал в тот же вечер богу душу…
«Великий сладострастник», «по великим грехам вашим…». Да, откуда все это? Великая страстность натуры Толстого неоспорима, величайшая острота его чувствования всяческой плоти земной — тоже; но «сладострастие», если понимать это слово в обычном смысле? И где можно найти в жизни Толстого фактические доказательства проявления его «великой сладострастности»? Все в один голос твердят еще и до сих пор, что он провел «очень бурную молодость». Но что же в ней было особенного, какие такие бури? О начале ее он писал так: «Я усвоил себе восторженное обожание идеала добродетели и убеждение в назначении человека постоянно совершенствоваться… Я ставил себе за правило: читать каждый день целый час Евангелие, отдавать одну десятую из всех своих денег бедным, отыскивать их… самому убирать свою комнату и держать ее в удивительной чистоте, человека же ничего для себя не заставлять делать: ведь он такой же, как и я… в университет ходить пешком… Вообще жить разумной, нравственной, безупречной жизнью…» Исчезло ли это «восторженное обожание добродетели» в последующие годы? Да, иногда азартно играл в карты, иногда ездил к цыганкам… потом имел две связи до женитьбы… был влюблен в Молоствову, в Арсеньеву… Но ужели это «бури»!
Боборыкин, на вопрос о фактических доказательствах «великого сладострастия» Толстого, отвечал:
— Этих доказательств сколько угодно. И, прежде всего, — в его собственных исповедях о своей молодости, ну, хотя бы в тех ужасных дневниках, которые он имел какую-то извращенную жестокость дать прочитать Софье Андреевне, несчастной девочке, накануне своей свадьбы с ней.
Исповеди, дневники… Все-таки надо уметь читать их. «Ложь, воровство, любодеяние всех родов, пьянство, насилие, убийство… не было преступления, которого я бы не совершал…» Баснословный злодей!
XII
Булгаков, последний секретарь Толстого, подчеркивает в одном месте своих записей о нем чрезвычайность его страсти узнавать душевные тайны людей: страсть эта всем известна, говорит он, но едва ли кто знает, что Лев Николаевич доходил в этой страсти даже до подслушивания под дверями.
Подчеркивает он и чрезвычайность его внимания и «его строгости ко всем явлениям» любви между мужчиной и женщиной. Он, говорит Булгаков, был сторонником полного целомудрия мужчины и женщины, видел в их телесных отношениях, даже брачных, нечто нечистое, нечто унижающее человека. Один раз, говорит Булгаков, я прочел в только что написанном письме его к некоей Петровской такую фразу:
— Ни в одном грехе я не чувствую себя столь гадким и виноватым, как в этом, и потому, вероятно, ошибочно или нет, но считаю этот грех против целомудрия одним из самых губительных для жизни…
Запомнилось Булгакову и еще одно толстовское письмо:
— Вы говорите, что существо человеческое слагается из духовного и телесного начала. И это совершенно справедливо; но несправедливо то ваше предположение, что благо предназначено и духовному и телесному началу… Благо свойственно только духовному началу и состоит не в чем ином, как все в большем и большем освобождении от тела, обреченного на зло, единственно препятствующего достижению блага духовного начала…
Все убеждены, что так относился он к «телесному началу» только в старости. Повторяю, — от всякого можно услышать: «Все это следствие всем известных причин: той бурной чувственности, в которой прошла его молодость, той редкой мужской страсти, результатом которой было рождение им тринадцати человек детей, той силы, с которой говорил он всегда обо всем телесном…»
Что до детей, то их было даже не тринадцать, а четырнадцать. Летом 1909 года он сам записал об этом:
— Посмотрел на босые ноги (женские), вспомнил Аксинью, то, что она жива, и, говорят, Ермил мой сын (от нее)…
Эта Аксинья вообще может быть большим козырем в руках тех, что убеждены в большой «греховности» его. Это Аксинья побудила его писать в старости «Дьявола» и некоторые строки в других произведениях той же поры с беспримерной для таких лет остротой телесно-любовных чувств. В том же 1909 году Софья Андреевна переписывала его новый рассказ «Кто убийцы?» и записала:
— Тема — революционеры, казни и происхождение всего этого. Могло быть интересно. Но все те же приемы — описание мужицкой жизни. Смакование сильного женского стана с загорелыми ногами девки, то, что когда-то так сильно соблазнило его; та же Аксинья с блестящими глазами, почти бессознательно теперь, в 80 лет, снова поднявшаяся из глубины воспоминаний и ощущений прежних лет. Аксинья была баба яснополянская, последняя до женитьбы любовница Льва Николаевича…
Об этой Аксинье Софья Андреевна писала и в самом начале своей замужней жизни, через несколько месяцев после своей свадьбы. Аксинья вместе с другой яснополянской бабой мыла у Толстых полы, и вот Софья Андреевна писала: «Влюблен, как никогда! И просто баба, толстая, белая, — ужасно. Я с таким удовольствием смотрела на кинжал, ружья…» Аксинья была «последняя до женитьбы любовница Льва Николаевича». Значит, были и другие; он и сам об этом говорил: «В молодости я вел очень дурную жизнь, а два события этой жизни особенно и до сих пор мучают меня… Эти события были: связь с крестьянской женщиной из нашей деревни до моей женитьбы, — на это есть намек в моем рассказе „Дьявол“. Второе — это преступление, которое я совершил с горничной Гашей, жившей в доме моей тетки. Она была невинна, я ее соблазнил, ее прогнали, и она погибла», — как Катюша Маслова в «Воскресении». Тут всякий может мне сказать: каких вам нужно еще доказательств его чувственности, раз он сам писал про Аксинью в пору своей связи с ней, что у него к ней «чувство оленя»? Он писал Черткову и еще об одной женщине: это была его кухарка Домна, страстью к которой он «страдал ужасно, боролся и чувствовал свое бессилие». И заметьте, скажут мне, какая необыкновенная памятливость чувств, — на протяжении целых десятилетий, до самой глубокой старости, хранить в себе такую свежесть их, при которой только и возможно то «дьявольское» очарование, с которым написаны местами и «Дьявол», и начало любви Нехлюдова и Катюши. Вспомните и все его прежние изумительные изображения всего материального, плотского — и в природе и в человеке: например, эту «бездну» зверей, птиц, насекомых в жарких лесах над Тереком, дядю Ерошку, Марианку, Лукашку, убитого им абрека… «мертвое, ходившее по свету тело» князя Серпуховского из «Холстомера», то, как Стива Облонский, просыпаясь, поворачивал на диване свое холеное тело… тело жирного Васеньки Весловского… тело Анны, тело Вронского и их страшное телесное падение («как палач смотрит на тело своей жертвы», смотрел Вронский на Анну после этого падения)… А тело Элен? А «белая нога» раненого и вопящего при ампутации ее брата? А Трухачевский из «Крейцеровой сонаты», так плотоядно, жадно охватывающий своими красными губами баранью котлетку? Тело, тело, тело… Князя Андрея, смертельно раненного под Бородиным, приносят на перевязочный пункт, — и вот опять и опять оно: «Все, что он видел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление обнаженного, окровавленного человеческого тела, которое, казалось, наполняло всю низкую палатку, как несколько недель тому назад, в этот жаркий августовский день, это же тело наполняло грязный пруд на смоленской дороге. Да, это было то самое тело, та самая chair a canon[17], вид которой еще тогда, как бы предсказывая теперешнее, возбудил в нем ужас».
Что возразить на это?
Еще могут сказать: «Толстой, конечно, преувеличивал свою сладострастность, свою греховность в своих покаянных исповедях; но как же все-таки отрицать и как объяснить его редкое внимание ко всяческой земной плоти и, в частности, к человеческому телу, — к женскому, может быть, в особенности?» Я не отрицаю, я даже готов опять привести эту запись:
— Ехал мимо закут. Вспомнил ночи, которые проводил там, и молодость, и красоту Дуняши (я никогда не был в связи с ней), сильное женское тело ее. Где оно?
Тут еще раз оно, это «сильное женское тело». Но ведь какая глубокая грусть в этом: «Где оно»! Что может сравниться с поэтической прелестью и грустью этой записи? В том-то и дело, что никому, может быть, во всей всемирной литературе не дано было чувствовать с такой остротой всякую плоть мира прежде всего потому, что никому не дано было в такой мере и другое: такая острота чувства обреченности, тленности всей плоти мира, — острота, с которой он был рожден и прожил всю жизнь. Chair a canon, «мясо», обреченное в военное время пушкам, а во все времена и века — смерти!
Умирающему князю Андрею стало «уже близким, почти понятным и ощущаемым то грозное, вечное, неведомое, далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни». Всю свою жизнь ощущал и Толстой.
— Холодна ты, смерть, но я был твоим господином, — пел Хаджи-Мурат свою любимую песню… — Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо.
Толстой «господином» смерти не был, весь свой век ужасался ей, не принимал ее: «Она придет, она — вот она, а ее не должно быть!» — и завистливый восторг испытывал перед звериностью Хаджи-Мурата, Ерошки. У них была райски сильна, бездумна, слепа, бессознательна «осуществленная в теле воля к жизни», — почти как у того боровшегося за свою жизнь на пашне татарника, которому он уподобил Хаджи-Мурата. Скотскую человеческую плоть, рая уже лишенную, это «мясо», уготованное грязной смерти, он всегда ненавидел. Другое дело — плоть звериная, «оленья», «сильное женское тело». Но и от того «оленьего», что было в нем самом, содрогался он, оленем, Хаджи-Муратом, Брошкой все же не рожденный, отмеченный еще в утробе матери страшным знаком — всю жизнь ощущать это «грозное, вечное, неведомое», — содрогался с молодости, и чем дальше, тем все чаще и больше, чтобы в последние свои годы уже чуть не непрестанно молить бога: «Отец, избавь меня от этой жизни! Отец, покори, изгони, уничтожь мою поганую плоть! Помоги, отец!» — то есть: дай мне до конца победить смерть, властную над плотью, до конца изжить свою материальность — до конца «освободиться», слиться с тобой! Паки и паки искушает меня «дьявол» (Мара, Смерть) прелестью плотского мира и все новых и новых зачатий и рождений в нем, — помоги, отец, в борьбе с ним!
Когда-то он настойчиво приставал к профессору Усову:
— Я вот все хотел спросить вас, Сергей Алексеевич, правда ли, что если укусит бешеная собака, то человек наверное умрет через шесть недель? Мне ужасно нравится мысль, что умрет. Укусит собака, и знаешь, что через шесть недель непременно умрешь, и руби всем правду в глаза, делай, что хочешь…
Да, приставал он к Усову недаром, «рубить» он любил: все в мире видел с той ясностью, зоркостью, с которой видела все вокруг себя и в самой себе Анна на пороге смерти, прозревшая от ее близости, разбуженная ею от сна жизни, и, как Анна, был беспощаден в минуты, подобные тем, которые Анна переживала по пути на станцию и на станции:
«Опять я понимаю все», — сказала себе Анна, как только коляска тронулась… «Да, о чем последнем я так хорошо думала», — старалась вспомнить она. «Да, про то, что говорит Яшвин: борьба за существование и ненависть — одно, что связывает людей. Нет, вы напрасно едете, — мысленно обратилась она к компании в коляске четверней, которая, очевидно, ехала веселиться за город. — И собака, которую вы везете с собой, не поможет вам. От себя не уйдете». Кинув взгляд на ту сторону, куда оборачивался Петр, она увидала полумертво пьяного фабричного с качающейся головой, которого вез куда-то городовой… «Мы с графом Вронским также не нашли этого удовольствия, хотя и много ожидали от него». И Анна обратила теперь в первый раз тот яркий свет, при котором она видела все, на свои отношения с ним…
На станции, «сидя на звездообразном диване в ожидании поезда, она с отвращением глядела на входивших и выходивших… Раздался звонок, прошли какие-то молодые мужчины, уродливые, и наглые, и торопливые, и вместе с тем внимательные к тому впечатлению, которое они производили; прошел и Петр через залу в своей ливрее и штиблетах с тупым, животным лицом, чтобы проводить ее до вагона. Шумные мужчины затихли, когда она проходила мимо них по платформе, и один что-то шепнул о ней другому, разумеется, что-нибудь гадкое. Она поднялась на высокую ступеньку и села одна в купе на пружинный, испачканный, когда-то белый диван… Петр с дурацкой улыбкой приподнял у окна в знак прощания свою шляпу с галуном, наглый кондуктор захлопнул дверь и щеколду. Дама, уродливая, с турнюром (Анна мысленно раздела эту женщину и ужаснулась на ее безобразие), и девочки, ненатурально смеясь, пробежали внизу… Испачканный, уродливый мужик в фуражке, из-под которой торчали спутанные волосы, прошел мимо окна, нагибаясь к колесам вагона… Кондуктор отворял дверь, впуская мужа с женой… Чета села с противоположной стороны, внимательно, но скрыто оглядывая ее платье. И муж и жена казались отвратительны Анне… Анна ясно видела, как они надоели друг другу и как ненавидят друг друга. И нельзя было не ненавидеть таких жалких уродов…
„Да, на чем я остановилась? На том, что я не могу придумать положения, в котором жизнь не была бы мучением, что все мы созданы затем, чтобы мучиться, и что мы все знаем это, и все придумываем средства, как бы обмануть себя. А когда видишь правду, что же делать? Надо избавиться. Отчего же не потушить свечу, когда смотреть больше не на что, когда гадко смотреть на все это? Зачем они кричат, эти молодые люди в том вагоне? зачем они говорят? зачем они смеются? Все неправда, все ложь, все обман, все зло!“ — Когда поезд подошел к станции, Анна вышла в толпе других пассажиров, как от прокаженных, сторонясь от них…»
Потом «свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла».
XIII
Софья Андреевна утверждала:
— Левочку никто не знает, знаю только я — он больной и ненормальный человек.
Он умер на восемьдесят третьем году жизни. Значит, должен быть причислен к высшему в смысле телесной «крепости» сорту людей («лет наших всего до семидесяти лет, а при большей крепости до восьмидесяти», по слову Библии). Кроме того, смерть его была случайностью: не проживи он жизнь в таком страшном и телесном и духовном напряжении, в такой «ненормальной» восприимчивости, в таком непрестанном труде и не уйди из дому, он прожил бы, вероятно, лет сто. А сто лет есть знак уже редкой породы людей. И вот о нем утвердилось мнение как о человеке могучего здоровья. Но справедливо говорил он про себя: «Я всегда был слабого здоровья, только крепкого сложенья». С ранней молодости он был подвержен многим болезням, еще юношей писал: «Здоровье мое нехорошо, расположение духа самое черное, чрезвычайно слаб и при малейшей усталости чувствую лихорадочные припадки»; впоследствии у него бывали глубокие обмороки и притом с такими судорогами, что еще неизвестно, не прав ли один московский профессор, говоря о какой-то форме эпилепсии, будто бы таившейся в нем. Главней же всего то, что у него были зачатки туберкулеза (дающего, как известно, тем, кто им поражен, даже и духовный склад совсем особый).
Родные его тоже не отличались «нормальностью».
Мать его умерла тридцати девяти лет, отец сорока двух. Об отце известно только то, что и он был очень «чувствителен», что у него был тик (подергивание головы). Что до матери, то все знают, по «Войне и миру», экзальтированность княжны Марьи (иначе говоря, Марии Николаевны Волконской), ее религиозность, страсть к общению со всякими «божьими людьми», странниками и странницами, юродивыми и блаженными. Его родная тетка (по отцу) была религиозна особенно. «Любимым ее занятием были чтения житий святых, беседы с странниками, юродивыми, монахами, монашенками, из которых некоторые всегда жили в нашем доме, а некоторые посещали тетушку… Она не только соблюдала посты, много молилась, общалась с людьми святой жизни, но сама жила истинно христианской жизнью, стараясь избегать не только всякой роскоши и услуги, но стараясь, сколько возможно, служить другим. Денег у нее никогда не было, потому что она раздавала просящим все, что у нее было. В пище, в одежде, она была так проста и нетребовательна, как только можно себе представить. Как мне ни неприятно это сказать, я с детства помню кислый запах тетушки, вероятно, происходивший от ее неряшества. И это была та грациозная, с прекрасными голубыми глазами, поэтическая Aline, любившая читать и списывать французские стихи, игравшая на арфе и всегда имевшая большой успех на самых больших балах!» Умерла она в монастыре, в Оптиной Пустыни. Там же кончила жизнь и родная его сестра, Марья Николаевна. А его братья Дмитрий и Николай умерли еще молодыми от туберкулеза. Дмитрий был болен и душевно: бешеная раздражительность сочеталась у него с крайней добротой, крайней самолюбие, огромная гордость с болезненным смирением, самоуничижением, аскетические наклонности с порывами чувственности, пьянства, разгула.
Цитирую (с пропусками) «Первые воспоминания»:
«Митенька был годом старше меня. Большие черные, строгие глаза… В детстве был очень капризен., сердился и плакал за то, что няня не смотрит на него; потом злился и кричал, что няня смотрит на него… маменька очень мучилась с ним… В Казани я, подражавший всегда брату Сереже, начал развращаться… старался быть светским, comme il faut. Ничего этого не было и следа в Митеньке… Он всегда был серьезен, вдумчив, чист, решителен, вспыльчив и то, что делал, доводил до пределов своих сил… Митеньке дан был (в казачки) Ванюша. Митенька часто дурно обращался с ним, кажется, даже бил его… помню его покаяния за что-то перед Ванюшей и униженные просьбы о прощении… Рос он, мало общаясь с людьми, всегда, кроме как в минуты гнева, тихий, серьезный, с задумчивыми, строгими большими карими глазами. Он был велик ростом, худ довольно, с длинными и большими руками и с сутуловатой спиной… С первого же года университетской жизни он предался религиозности, как он все делал, до конца. Он стал есть постное, ходить на все церковные службы… Он не танцевал, не ездил в свет, носил один студенческий сюртук с узким галстуком, и смолоду уже у него появился тик: он подергивал головой, как бы освобождаясь от узости галстука… Из всех товарищей он выбрал жалкого, оборванного студента, дружил только с ним… К нашему семейству была как-то пристроена, взята из жалости самое странное и жалкое существо, некто Любовь Сергеевна, девушка… Она была не только жалка, но и отвратительна… Лицо ее было все распухшее… Глаза виднелись в узеньких щелках между двумя запухшими, глянцевитыми, без бровей подушками. Также распухшие, глянцевитые, желтые были щеки, нос, губы, рот. И говорила она с трудом, так как и во рту была опухоль. Летом на ее лицо садились мухи, и она не чувствовала их… Волосы у нее были еще черные, но редкие, не скрывавшие голый череп… От нее всегда дурно пахло… Вот эта-то Любовь Сергеевна сделалась другом Митеньки… После выхода из университета он жил той же строгою, воздержанной жизнью, не зная ни вина, ни табаку, ни женщин до 26 лет… Он сходился с монахами и странниками… Потом с Митенькой случился необыкновенный переворот. Он вдруг стал пить, курить, мотать деньги и ездить к женщинам… Ту женщину, проститутку Машу, которую он первую узнал, он выкупил и взял к себе… Думаю, что не столько дурная, нездоровая жизнь, сколько внутренняя борьба укоров совести сгубили сразу его могучий организм. Он заболел чахоткой… Он был ужасен: огромная кисть его руки была прикреплена к двум костям локтевой части, лицо было — одни глаза, те же прекрасные, серьезные, теперь выпытывающие… Он не хотел умирать, не хотел верить, что он умирал. Рябая, выкупленная им Маша, повязанная платочком, была при нем… По его желанию принесли чудотворную икону. Помню выражение его лица, когда он молился на нее…»
Род Толстых существует в России лет шестьсот. Род этот происходит от какого-то «мужа честна Индриса», выехавшего в Россию «из Цесарские земли, из немец» (каковым словом русские в старину называли всех иностранцев), и лет через триста после того становится известен в русской истории, занимает уже высокое служилое положение при русских царях, получает графское достоинство и все более вступает в родственные связи с знатными фамилиями: прадед Толстого женится на княжне Щетининой, дед (Илья Андреевич) на княжне Горчаковой, отец (Николай Ильич) на княжне Волконской, происходящей от самих Рюриковичей, потомков первой царской династии России: Трубецкая по матери, она происходила по отцу от тех Волконских, родоначальником которых был прямой Рюрикович, святой Михаил, владетельный князь Черниговский. Известно, как сильны бывают представители таких старых родов, духовной и телесной аристократии. Эта аристократия, этот отборный, крупный (и не только телесно) сорт людей есть и в народе, в простом народе любой национальности. Среди русских мужиков было и есть немало таких «породистых», резко выделяющихся из толпы и наружно и внутренне, и немало есть среди таких мужиков как раз очень долголетних, по большей части типа атавистического, пещерного, гориллоподобного, страстного, животолюбивого и отличающегося богатой и сильной образной речью. Того же типа и большинство наиболее знатных русских господ: крупные, простонародные черты лица, крупные руки и ноги, зачастую сильно развитые бровные дуги, высокий рост, широкая кость — и эта богатая речь, образная, чувственно-изобразительная. Тип этот, — к которому как раз и принадлежал Толстой, — очень «крепок» в своей телесной основе. Но всегда ли он «нормален»?
Лейбниц называл «вечную часть нашей нравственной природы» монадой, Гете — энтелехией и говорил, что гении переживают две молодости, меж тем как прочие бывают только раз молоды. «Если энтелехия принадлежит к низшему разбору, то она во время своего телесного затмения (в земной жизни) подчиняется господству тела и, когда тело начинает стареть, не в силах препятствовать его старости. Если же энтелехия могущественна, то она, в то время, когда проникает тело, не только укрепляет и облагораживает его, но и придает ему ту вечную юность, которой обладает сама. Вот почему у людей особенно одаренных мы наблюдаем эпохи особой продуктивности: у них вновь наступает пора молодения, вторая молодость…» Как могущественна была энтелехия Толстого!
Летом 1901 года отец опасно заболел, говорит Александра Львовна в своих воспоминаниях, у него начинались лихорадка и грудная жаба. Его увезли в Крым. Но там он опять заболел и очень тяжко, сперва плевритом и ползучим воспалением легких, потом брюшным тифом, провел в постели четыре месяца. И «то, что старик на восьмом десятке лет, с ослабленным грудной жабой и лихорадкой сердцем, мог выдержать это воспаление и сейчас же, почти без перерыва, брюшной тиф, было величайшим чудом». Таким же чудом было и дальнейшее: после этих болезней он прожил еще девять лет, и не как-нибудь, а в непрерывной работе и временами в такой большой телесной силе, что никто из молодых не мог с ним сравняться в неутомимости и живости (и в той радости душевной, что все больше и больше просветляла его). Так временами жил он даже в самый год своей смерти. Не раз в этот год записывали его близкие: «Папаша очень занят, здоров и бодр… Лев Николаевич очень бодр, молод и поразительно деятелен, мы все едва поспеваем за ним…» Эти две записи относятся к началу весны 1910 года — и не случайна была эта его предвесенняя «молодость»: он всегда жил с необыкновенно верным чувством прибывающих или убывающих сил природы, сам говорил: «Конец зимы и начало весны всегда самое мое рабочее время».
— И возвратится персть в землю, яко же бе, и дух возвратится к богу, иже даде его…
Кто чувствовал и любил эту землю, как он? Вот он говорит о Гомере, которого он, выучив — в два месяца! — греческий язык, стал читать в подлиннике: какой земной восторг, какая земная мощь!
— Это вода из ключа, ломящая зубы, с блеском и солнцем и даже с соринками, от которых она кажется еще чище и с лаже.
Вот он записывает почти в ту же пору (в июне 1878 года):
— Жаркий полдень, тихо, запах сладкий и душистый — зверобой, кашка — стоит и дурманит. К лесу в лощине еще выше трава и тот же дурман; на лесных дорожках запах теплицы… Пчела на срубленном лесе обирает по очереди с куртины желтых цветов… Жар на дороге, пыль горячая и деготь…
Запись совершенно необыкновенная по всяческой крепости, по упоению прелестью сил земных — и тем более необыкновенная, что эти годы были для него самым роковым временем всей его жизни: еще тем неизжитым до конца ужасом перед «перстью», обреченной возвратиться в землю, который он вскоре после того высказал в «Исповеди». Всего же необыкновеннее то, что за несколько лет перед этим уже с полной очевидностью обнаружилось, что он «сумасшедший».
XIV
Аксаков говорил о Гоголе:
— Нервы его, может быть, во сто раз тоньше наших: слышат то, чего мы не слышим, содрогаются от причин, нам неизвестных… Вероятно, весь организм его устроен как-нибудь иначе, чем у нас…
Организм Толстого был устроен тоже «иначе».
— Толстой! — насмешливо сказал когда-то один известный русский писатель. — Как это у Жюля Верна? «Восемьдесят тысяч километров под водой»? Так вот про Толстого можно сказать нечто подобное: восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя.
Эту фразу повторяли потом без конца. И ни сам писатель, ни повторявшие ее даже и не подозревали, над какой глубочайшей особенностью Толстого насмехаются они. «Кто ты — что ты?» Недаром так восхищался он этим, — тем, что именно этот вопрос, а не что-либо другое слышала его старая нянька в мерном стуке часов, отмеривавших утекающее время ее бедной земной жизни. Ведь можно было слышать обычное: «Тик-так, тик-так…» Но вот она слышала свое, другое: «Кто ты — что ты?» Сам он слышал в себе этот вопрос всю жизнь — с детства и до самой последней минуты своей.
— Склонности к умствованию, писал он еще в «Отрочестве», суждено наделать мне много вреда в жизни… Я любил эту минуту, когда, возносясь все выше и выше в область мысли, вдруг постигаешь всю необъятность ее…
В этом «умствовании» была еще одна замечательная черта: все стараться взглянуть на себя со стороны.
— В продолжении года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе, моральную жизнь, все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души уже представлялись мне…
— Почему симметрия приятна для глаз? Это врожденное чувство, отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь — и я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность; вот вечность — и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нет такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны! Мы, верно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание… Ни в одном из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния, близкого к сумасшествию. Я воображал, что, кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я обращаю на них внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают…
— Часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей… Спрашивая себя: о чем я думаю? я отвечал: я думаю, о чем я думаю. А теперь я о чем думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю, и так далее. Ум за разум заходил…
— Ты не думай! — сказала я ему. (Александра Львовна — ему, умирающему.)
— Ах, как не думать! Надо, надо думать! — отвечал он.
В нем все было «иначе» и все так удивительно, что, казалось бы, уже ничему нельзя больше удивляться. И вот все-таки удивляешься — опять, опять говоришь себе: в каком великом «делании» провел всю свою жизнь этот человек, проповедовавший «неделание», сколько «дал потомства господу», как неутомим был он (всякое «имение» впоследствии отвергнувший) в приобретении «имения»!.. А его неутолимая потребность «высказываться», исповедоваться? Целые томы дневников, исповедей! Вести дневники он начал еще юношей, продолжал чуть не каждый день почти всю жизнь и — что самое удивительное — не бросал не только до самого смертного одра, но даже и на нем, на этом смертном одре, пользуясь каждой минутой освобождения от бреда и даже в бреду.
«Надо, надо думать!» Нечто подобное не раз говорил он и раньше!
— Все хочется понять, чего нельзя понять, точно мне пятнадцать лет.
«Ненормально» было количество его ежедневных записей о своих мыслях, о чувствах и поступках, «ненормально» было и качество их (в смысле правдивости, откровенности).
Мережковский справедливо сказал:
— В литературе всех народов и веков едва ли найдется другой писатель, который обнажил бы свою жизнь с такой откровенностью, как Толстой.
Так говорила и Софья Андреевна:
— Он в дневниках такие вещи о себе писал, что я не понимаю, как можно о себе так писать!
Самообнажение атавистическое? Самообнажение, самобичевание святых?
«Ненормально» было и это: всю жизнь, с детства до самого смертного одра «исправляться, совершенствоваться». Недаром мать Дмитрия Нехлюдова сказала Коленьке Иртеньеву:
— C'est vous qui Ktes un petit monster de perfection[18].
Софья Андреевна и писала и говорила:
— Такие умственные силы пропадают в пиленье дров, в ставлении самоваров и в шитье сапог!
— Если счастливый человек вдруг увидит в жизни, как Левочка, только все ужасное, а на хорошее закрыл глаза, то это от нездоровья.
И прибавляла, обращаясь к нему самому:
— Тебе полечиться надо.
Да, «это от нездоровья». Бог дал беспримерный талант, необыкновенные умственные силы, и человек сам это прекрасно знает. Казалось бы, что еще нужно? Главный труд всей жизни, главная ее цель — использовать на великую радость ближнего своего только это — талант и ум. Но вот этот человек тратит себя на самовары, на рубку дров, на кладку печей, на целые годы прерывает иногда свой художественный труд для педагогики… на пороге старости вдруг садится за изучение древнегреческого, потом древнееврейского языка, изучает и тот и другой с быстротой непостижимой, но и с таким напряжением всего себя, что обнаруживается полная необходимость ехать в Башкирию, пить кумыс — спасать себя от смертельного переутомления, от зловещих проявлений своей прирожденной чахотки, от чахоточного кашля и пота; потом составляет «Азбуку», учебник арифметики, книжки для школьного и внешкольного чтения; изучает драму, — Шекспира, Гете, Мольера, Софокла, Еврипида, — изучает астрономию; потом опять: «Я только и думаю, что о воспитании, обучении, я опять весь в педагогике, как четырнадцать лет назад». Софья Андреевна была вполне права, если судить все это с точки зрения простого житейского рассудка: «Эти азбуки, арифметики, грамматики — я их презираю. Его дело — писание романов». Но вот он всю жизнь учится — и учит: простая ли эта страсть? Не страсть ли (или долг) библейских пророков, Будды, браманов? «Высшая каста, каста браманов, учителей народа, требовала от человека равнодушия к земным благам и победы высшей природы над низшей. Предполагалось, что человек, воплотившийся в касте браманов, прошел уже через все низшие ступени и приобрел нравственную силу и мудрость, благодаря послушанию, совершенному исполнению своего долга и усилениям в борьбе за правое дело, — прошел все это в прежних воплощениях, и это давало ему право и обязывало учить. Идеалом же и целью браманов являлась мудрость, внутренняя свобода, всепрощение, любовь ко всему живому, чистота и единение с Первоисточником жизни».
«Мировая совесть», говорят про него. Совесть у него была тоже «ненормальная», гипертрофированная. Вот он видит в зимний морозный день нищую деревенскую бабу: боже, какой приступ сердечной боли, стыда, омерзения к себе! Баба холодная, голодная, «а я в теплом полушубке, я сейчас приду домой и буду жрать яйца!» Ночью, на московской улице, городовые ведут пятнадцатилетнюю проститутку в участок — опять ужас, мука: «Ее увели в полицию, а я пошел в чистую покойную комнату спать и читать книжки и заедать воду смоквой! Что же это, такое?» Да, что же это такое? Но миллионы обыкновенных людей говорят «нормально»: «Все так, но можно ли все погосты оплакать! Это уже сумасшествие». И он сам, подтверждает это: «Я-то знаю, что я сумасшедший»!
В голодное лето 1865 года он пишет с той силой, которая только ему одному была присуща: «У нас за столом редиска розовая, желтое масло, подрумяненный мягкий хлеб на чистой скатерти, в саду зелень, наши молодые дамы в кисейных платьях, рады, что жарко и тень, а там голод покрывает поля лебедой, разводит трещины по высохшей земле и обдирает мозольные пятки у мужиков и баб и трескает копыты у скотины…» Да, это ужас. Но ведь живут же люди среди ужасов. Почему же не может он? Почему все погосты оплакивает? «Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя». Нет, и вокруг всего на свете. Можно ли иметь такую совесть, такое «чувствительное сердце», которое он имел и в ранней молодости, и в годы мужества, высшей телесной и душевной крепости и уже огромного жизненного опыта. Совершенно «ненормальные» противоречия! И в молодости, и в зрелости, и в старости сколько, повторяю, было в нем всяких земных и даже звериных сил и какая тяга к ним, какое чувствование и восхищение ими! Ведь это он написал в молодости, как собственную душу и кровь, Ерошку, Лукашку, людей достаточно «несовестливых», он видел тысячи страданий и смертей и на Кавказе и в Севастополе, а в зрелости прошел не только в действительности, но и за письменным столом, за многолетним трудом над «Войной и миром», такое познание человеческой жизни и всех жестоких непреложных законов ее, что уж, кажется, мог бы не плакать над нищей бабой и не проклинать себя за съеденное яйцо. Но вот — плачет.
«Он был весь воплощенное угрызение социальной совести», — говорил Мережковский в столетнюю годовщину его рождения. «Социальной»! Гораздо правильнее говорил Ал данов: «Он всю жизнь уклонялся от общественной повинности (хотя и не мог иногда уклоняться)… Про него можно скорее сказать, что он был противообщественный деятель…» В старости он уже всеми силами души отрекался от всякой деятельности, от всякого «делания». Иначе и быть не могло: ведь, как сказал Плотин, «деятель всегда ограничен, сущность деятельности — самоограничение: кому не под силу думать, тот действует». Ну, а кому под силу, тот «рвется из бытия к небытию», начинает спрашивать: «А может быть, жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь?» — относительно чего философ Шестов замечает: «Смешивать жизнь со смертью и смерть с жизнью может, с обычной точки зрения, лишь безумие», иначе говоря, ненормальность.
Страдания толстовской совести были так велики по многим причинам, — и потому, что, как он сам говорил, было у него воображения «несколько больше, чем у других», и потому, что был он родовит: это вообще надо помнить, говоря о его жизни; роды, наиболее близкие ему, была по своему характеру, как физическому, так и духовному, выражены резко; были они, кроме того, очень отличны друг от друга, противоположны друг другу; графы Толстые, князья Горчаковы, князья Трубецкие, князья Волконские — тут, как во всех старинных родах, да еще принимавших немалое участие в исторической жизни своей страны, все имеет черты крупные, четкие, своеобразные; отсюда все противоположности, все силы и все особенности и в его собственном характере; но, главное, отсюда один из тех бесчисленных грехов, которые он почти весь свой век чувствовал на себе и в огромном наличии которых он уверил весь мир: грех его принадлежности к «князьям мира сего»; в этом грехе он был неповинен, но все равно: «Отцы наши ели виноград, а у нас оскомина».
И все же чрезмерность страданий его совести зависела больше всего от его одержимости чувством «Единства Жизни», говоря опять-таки словами индийской мудрости. Будда не мог не знать, что существуют в мире болезни, страдания, старость и смерть. Почему же так потрясен он был видом их во время своих знаменитых выездов в город? Потому, что увидал их глазами человека как бы первозданного и вместе с тем уже такого, бесчисленные прежние существования которого вдруг сомкнулись в круг, соединились своим последним звеном с первым. Отсюда и было у него сугубое чувство «Единства Жизни», а значит, и сугубая совесть, которая всегда считалась в индийской мудрости выражением высшего развития человеческого сознания. Однажды, когда Толстой сидел и читал, костяной разрезной нож скользнул с его колен «совсем как что-то живое», и он «весь вздрогнул от ощущения настоящей жизни этого ножа». Что ж дивиться после этого его слезам, его стыду, его ужасу перед нищей бабой!
XV
Как философ, как моралист, как вероучитель, он для большинства все еще остается прежде всего бунтарем, анархистом, невером. Для этого большинства философия его туманна и невразумительна, моральная проповедь или возбуждает улыбку («прекрасные, но нежизненные бредни»), или возмущение («бунтарь, для которого нет ничего святого»), а вероучение, столь же невразумительное, как и философия, есть смесь кощунства и атеизма. Так все еще продолжается, хотя и в несколько, иной форме, то отношение к нему, которое было когда-то в России. Только одна «левая» часть этого большинства прославляет его — как защитника народа и обличителя богатых и властвующих, как просвещенного гуманиста, революционера: отсюда и утверждается за ним титул «мировой совести», «апостола правды и любви».
<…>
«Политика, говорил Гете, никогда не может быть делом поэзии».
Мог ли быть политиком великий поэт Толстой, душа, с детства жившая стремлениями к «важнейшему» («ничего нет в жизни верного, кроме ничтожества всего понятного мне и величия чего-то непонятного и важнейшего»), чувством тщеты и бренности всех земных дел и величий? — «Он обличал все и вся». Но и Христос обличал. Только он же и говорил: «Царство мое не от мира сего». И Будда обличал: «Горе вам, князья властвующие, богатые, пресыщенные!»
— Такие умственные силы пропадают в колонье дров, в ставлении самоваров и шитье сапог!
— Если счастливый человек вдруг увидит в жизни, как Левочка, только все ужасное, а на хорошее закрыл глаза, то это от нездоровья.
— Тебе полечиться надо.
Не пропадать этим умственным силам в шитье сапог никак нельзя было. Но разве в силу того, что нужны «общественные» улучшения жизни, устранения «классовых неравенств»?
Он, «счастливый», увидел в жизни только одно ужасное. В какой жизни? В русской, в общеевропейской, в своей собственной домашней? Но все эти жизни только капли в море. И эти жизни ужасны, и в них невыносимо существовать, но ужаснее всего главное: невыносима всякая человеческая жизнь — «пока не найден смысл ее, спасение от смерти». И даже больше: никуда не уйдешь от ее тяжести, покуда не уйдешь не из Ясной Поляны только, не из России, не из Европы, а вообще из жизни земной, человеческой.
«Это от нездоровья, тебе полечиться надо». Но что же говорить о «здоровье» и о лечении Будды, Толстого!
«Мировая совесть, совесть цивилизованного мира». Но были только совпадения в том, что говорил мир и что он.
Он говорил:
— Мы (христиане) часто обманываемся тем, что, встречаясь с революционерами, думаем, что мы стоим близко рядом. Кажется, все одно и то же. Но не только есть большая разница, но нет более далеких от нас людей, чем революционеры.
Он спрашивал:
— Машины, чтобы делать что? Телеграфы, чтобы передавать что? Школы, университеты, академии, чтобы обучать чему? Собрания, чтобы обсуждать что? Книги, газеты, чтобы распространять сведения о чем? Железные дороги, чтобы ездить кому и куда? Собранные вместе и подчиненные одной власти миллионы людей — чтобы делать что?
В биографии Полнера эта знаменитая цитата сопровождается наивным разъяснением: «В условиях социального неравенства Толстой не мог найти удовлетворительных ответов на эти вопросы». Ну, а если бы не социальное неравенство? Полнер не обращает никакого внимания на последний из толстовских вопросов:
— Больницы, врачи, аптеки для того, чтобы продолжать жизнь, а продолжать жизнь зачем!
Странно разъяснять все это. Но разъяснять еще необходимо. Вспоминаю речь одного из самых блестящих, русских людей, знаменитого адвоката и политического деятеля Маклакова, много лет бывшего в доме Толстых! одним из самых близких им людей, — речь, произнесенную в Праге. Маклаков тоже разъяснял, он говорил:
— Очень достойно внимания то, что вот в эти юбилейные дни мир поминает Толстого только как художника и как политика, — что религиозная и философская мысль хранят о нем молчание. Как художник Толстой, конечно, вне сомнений. А что еще вне сомнений? Его политическая деятельность. И вот политики, одни с огорчением, другие с похвалой, отмечают борьбу Толстого с правительством, с насилиями всякого рода, с привилегиями, с богатыми, сильными. Для одних это ужасно: он был идейный виновник русской революции; для других же это большая заслуга его; для них у Толстого нелепо одно — его проповедь о непротивлении злу, его «недомыслие», происходившее, по их мнению, от незнакомства с учением Маркса, от незнания даже начальных учебников государственного права. Правда ли, однако, что Толстой был политик, хотя и писал, например, «Стыдно», «Не могу молчать», затрагивал политические темы даже в «Воскресении», хлопотал перед властями и Государственной думой о проведении в жизнь законодательным порядком идей Генри Джоржа? Нет, все-таки не был, политическую деятельность все-таки считал злом; в своей книге «Христианское учение», задавая себе вопрос, почему мир не пошел за Христом, он находит ответ на него в том, что в мире существуют «соблазны», те гибельные подобия добра, в которые, как в ловушку, заманиваются люди, например, политическими статутами, — это даже самый опасный соблазн, говорит он, когда государство оправдывает совершаемые им грехи тем, что оно будто бы несет благо большинству людей, народу, человечеству. Да, Толстой немало говорил о недостатках человеческого общежития так же, как говорим и мы, люди мира, политики; но мы имеем только внешнее право зачислять его в свои ряды, для него эти недостатки не стояли на первом плане, он думал о том, о чем мы, люди бессознательного жизненного инстинкта, слишком мало думаем в нашей жизненной суете, — о смысле жизни, кончающейся смертью. Он сам рассказал в своей «Исповеди», что привело его к «перелому»: мысль о смерти; ему стало казаться, что если все то, ради чего мы живем, — все мирские блага, все наслаждения жизнью, богатством, славой, почестями, властью, — если все это будет у нас отнято смертью, то в этих благах нет ни малейшего смысла. Если жизнь не бесконечна, то она просто бессмысленна; а если она бессмысленна, то жить вовсе не стоит, следует как можно скорее избавиться от нее самоубийством. Вот то неожиданное и безотрадное заключение, к которому привела его мысль о смерти…
Почему Маклаков употребил слово «неожиданное», непонятно. Но дальше он говорит опять правильно: «Эта проблема о смысле жизни не связана ни с определенной эпохой, ни с народностью, ни с формами государственности… Толстого нужно сравнивать не с нами, не с политиками, не с теми, кто хлопочет об увеличении благ и о справедливом распределении их в обществе, а с учителями религий… Толстой — сын позитивного века и сам позитивист; но по запросам своего духа он был религиозная натура по преимуществу…» Это все правильно (за исключением, конечно, наименования Толстого позитивистом), и правильности своих разъяснений Маклаков мог бы привести множество и других доказательств. Толстой и сам говорил в этом роде:
— Люди, ненавидящие существующий строй и правительство, представляют себе какой-то другой порядок вещей и даже никакого себе не представляют и всеми безбожными, бесчеловечными средствами — пожарами, грабежами, убийствами — разрушают этот строй… Но дело не в перемене правительств. Разве жизнь станет лучше, если вместо Николая II будет царствовать Петрункевич?
Он ждал, говорит Александра Львовна, что после японской войны в России будет революция: настроение рабочих, солдат, крестьян он чувствовал не только из разговоров с ними, но и по бесконечным письмам, стекавшимся к нему со всех концов России. Но для него было совершенно ясно, что революция не улучшит положения народа; каждая власть основана на насилии, и каждая власть поэтому дурна, говорил он: «Новое правительство будет также основано на насилии, как и старое. Как Кромвель, как Марат давили своих противников, так и у нас новое правительство давило бы консерваторов…»
Он писал «Правительству, революционерам и народу»:
— Для того, чтобы положение людей стало лучше, надо, чтобы сами люди стали лучше. Это такой же труизм, как то, что для того, чтобы нагрелся сосуд воды, надо, чтобы все капли ее нагрелись. Для того же, чтобы люди становились лучше, надо, чтобы они все больше и больше обращали внимание на себя, на свою внутреннюю; жизнь. Внешняя же, общественная деятельность, в особенности общественная борьба, всегда отвлекает внимание людей от внутренней жизни и потому всегда, неизбежно развращая людей, понижает уровень общественной нравственности. Понижение же уровня общественной нравственности делает то, что самые безнравственные части общества все больше и больше выступают наверх и устанавливается безнравственное общественное мнение, разрешающее и даже одобряющее преступления. И устанавливается порочный круг: вызванные общественной борьбой худшие части общества с жаром отдаются соответствующей их низкому нравственному уровню общественной деятельности, деятельность же эта привлекает к себе еще худшие элементы общества…
Маклаков разъяснял в своей речи и другое — «самое важное в миросозерцании Толстого, именно его религиозные воззрения». Я не случайно остановился на этой речи: суждения таких людей, как Маклаков, не могут не обращать на себя особенного внимания уже хотя бы по тому редкому во всех отношениях знанию Толстого, которым обладает Маклаков. Что же говорил он о Толстом как о вероучителе?
Толстой, говорил он, утверждал не только печатно, но и во многих беседах со мной, что он своего собственного христианского учения не создавал, что он только восстановил подлинного Христа, затемненного учением мира и церкви. Преклоняясь перед Христом, Толстой в нем бога не видел: я не раз от него самого слышал, что, если бы он считал Христа богом, Христос потерял бы для него все свое обаяние. Обычное воззрение неверующих. Толстой был человеком современным, позитивистом. Он был слишком умен, чтобы не понимать, что разум наш ограничен; но, признавая ограниченность разума, он не допускал и того, чтобы разум мог узнать абсолютную истину в порядке веры и откровения. Он любил употреблять слова — религия, бог, бессмертие… Но бог был для него — непонятная, начальная сила; бессмертие духа — простое признание факта, что наша духовная жизнь откуда-то появилась и, следовательно, куда-то уйдет; а вера, по словам Ивана Киреевского, которые он любил повторять, есть не столько знание истины, сколько преданность ей. Все это очень далеко от учения церкви, и потому Толстой по своему мировоззрению истинный позитивист, сын нашего века. Однако вот что замечательно: он не говорил, подобно позитивистам, что проповедь Христа противоречит природе людей, что в его учении надо видеть только идеал, недостижимый на земле, — он думал, что это учение и должно и можно исполнять: при мирском мировоззрении он учил жить по-божьи.
— Зачем жить по-божьи? Затем, что иначе жизнь, кончающаяся смертью, есть бессмыслица.
Христос сказал в притче о богаче: он собрал богатства в житницы свои и хотел ими наслаждаться с друзьями своими; безумец, разве он стал бы это делать, если бы знал, что господь призовет его к себе в эту ночь? Люди, не думающие о смерти, ведут себя как этот безумец, говорил Толстой; при наличии смерти, нужно либо добровольно покинуть жизнь, либо переменить ее, найти в ней тот смысл, который не уничтожался бы смертью. Нелепость его проповеди о непротивлении злу доказывали еще и тем, что при этом непротивлении и наша жизнь, и культура, и государство погибнут, станут жертвою насильников; а для него нелепо было это доказательство: к чему же наша жизнь и все блага ее, если и то и другое поглотит смерть? Страх смерти тем резче, чем больше благ теряешь, умирая. Что же нужно? Нужна такая жизнь, которой смерть не страшна. Какая же это жизнь? На это отвечает только религия, религия христианская, религия «бедных, смиренных, немудрствующих». И это привело его к борьбе с церковью. Уже одному позитивизму его противоречила церковно-религиозная мистика; и все-таки не это оттолкнуло его от церкви: оттолкнуло ее отношение к земной жизни, то, что она не отвергла, как отвергал Христос, мирскую жаждут земных благ, не сказала, как он: раздай имущество, не противься злу насилием, подставь левую щеку ударившему тебя в правую, не суди, не казни… Церковь приняла, подтвердила и даже освятила все мирские понятия и учреждения со всеми их грехами и преступлениями, стала учить повиноваться этим учреждениям; мало того — показала в лице своих представителей, что и сама ценит все мирские блага. Зачем жить, если мы смертны? Мистика церкви отвечает: нет, мы бессмертны, за гробом мы обретем небесную, вечную жизнь и возмездие или награду за земную, временную. И мистика помирила человека с бессмысленностью и безумием его мирской жизни. Да, будут за грехи возмездия, говорит церковь; но все-таки она допустила привычную дурную жизнь человека на земле, учением о загробной жизни утвердила в людях вкус к земным благам, радостям, грехам, соблазнам и признала право человека ссылаться на свои человеческие слабости. Церковь божия забыла Христа, сказал Толстой — и стал проповедовать христианство без бога. Еще в молодости говорил он: человек должен сознавать в себе свою личность не как нечто противоположное миру, а как малую частицу мира, огромного и вечно живущего. Это-то и говорит Христос: «Люби ближнего, как самого себя». И счастье личности может быть лишь одно: жить для других. Жертвуя собой для других, человек становится сильнее смерти. И вот почему заповеди Христа открыли ему смысл земной жизни и уничтожили его прежний страх перед смертью. О, конечно, против такого учения многое может возразить и позитивизм и церковь. Позитивизм скажет: зачем нужен какой-то смысл жизни, когда есть инстинкт жизни и все ее радости? А церковь скажет так: объявить Христа человеком, отрицать его воскресение, не значит ли свести христианство к нежизненной, недоступной человеческим силам и неинтересной морали? Разве рассудочная теория об общей мировой жизни, которая будто бы уничтожает страх смерти, может заменить веру в любовь и милосердие божие, в заботы промысла о человеке и в радость конечного соединения с богом за гробом? Но Толстой пошел против церкви и против мира — и восстановил против себя и церковь и мир…
Так разъяснял Толстого Маклаков. И так удивительно чередовались у него суждения правильные с суждениями, порой просто непонятными.
— Толстой — сын позитивного века и сам позитивист…
Но весьма странно называть «сыном позитивного века» того, кто то и дело говорил и писал: «Нет более распространенного суеверия, что человек с его телом есть нечто реальное…
Вещество и пространство, время и движение отделяют меня и всякое живое существо от бога… Все меньше понимаю мир вещественных и, напротив, все больше и больше сознаю то, чего нельзя понимать, а можно только сознавать… Материя для меня самое непонятное… Что я такое? Разум ничего не говорит на эти вопросы сердца… С тех пор как существуют люди, они отвечают на это не словами, то есть орудием разума, а всей жизнью… Чтобы жизнь имела смысл, надо, чтобы цель ее выходила за пределы постижимого умом человеческим…» Церковь утверждает, что мы бессмертны? Но и Толстой непрестанно говорил о бессмертии: «Думал, как думаю беспрестанно, о смерти. И так мне ясно стало, что так же хорошо, хотя по-другому, будет на той стороне смерти… Мне ясно было, что там будет так же хорошо, — нет, лучше. Я постарался вызвать в себе сомнения в той жизни, как бывало прежде, и не мог, как прежде, но мог вызвать в себе уверенность…» «Все тверже и тверже знаю, что огонь, погаснувший здесь, появится в новом виде не здесь — он самый…» «Вчера очень интересный разговор с Коншиным, он просвещенный материалист. Его, разумеется, не убедил ни в существовании бога, ни в будущей жизни, но себя убедил еще больше…» Он не видел в Христе бога? Но есть ли это «обычное воззрение неверующих»? Есть ведь миллионы не-христиан, миллионы не признающих Христа богом и, однако, верующих.
XVI
Философ Шестов говорит, что в одной мудрой древней книге сказано: кто хочет знать, что было и что будет, что под землей и что над небом, тому бы лучше совсем на свет не родиться; и еще так сказано в этой книге: ангел смерти, слетающий к человеку, чтобы разлучить его душу с телом, весь покрыт глазами; и случается, что он слетает за душой человека слишком рано, когда еще не настал срок человеку покинуть землю, и тогда удаляется от человека, отметив его, однако, некоторым особым знаком: оставляет ему в придачу к его природным человеческим глазам еще два глаза, — из бесчисленных собственных глаз, — и становится тот человек непохожим на прочих: видит своими природными глазами все, что видят все прочие люди, но сверх того и нечто другое, недоступное простым смертным, — видит глазами, оставленными ему ангелом, и притом так, как видят не люди, а «существа иных миров»: столь противоположно своему природному зрению, что возникает великая борьба в человеке, борьба между его двумя зрениями.
Все это Шестов говорит в своей статье о Достоевском, — приписывает две пары глаз автору «Записок из подполья». Но, читая ее, думаешь о Толстом: если уж кто наделен был двойным зрением и именно от ангела смерти^ слетевшего еще к колыбели его, так это Толстой. В случае с ним ангел смерти ошибся сугубо насчет его действительного смертного срока, но глаза оставил ему такие, что все, что видел Толстой впоследствии, весь свой долгий век, переоценивалось им прежде всего под знаком смерти, величайшей переоценщице всех ценностей (то подобно Анне перед самоубийством, то подобно князю Андрею на Аустерлицком поле). Шестов напоминает в своей статье слова Платона: «Все, которые отдавались философии, ничего иного не делали, как готовились к умиранию и смерти». Напоминает и слова Эврипида, повторенные впоследствии столь многими: «Кто знает — может быть, жизнь есть смерть, а смерть есть жизнь». И опять думаешь тут о Толстом. Эврипид все-таки колеблется: «Кто знает… может быть…» Толстой не раз и все тверже говорил прямо: «Жизнь есть смерть».
— Ужасное, чего я ужасался, постигло меня…
Это «ужасное» постигало его всю жизнь, и чем дальше, тем все чаще и сильнее, чтобы наконец ужаснуть в некий день уже «до сумасшествия». В некий день он понял с особенной несомненностью, что он «сумасшедший». Давно думал от времени до времени: нет, происходит что-то странное, — как-то не так, как все, я живу на свете, не так, как они, вижу, чувствую, думаю… Только внешне подобна моя жизнь их жизни… Что-нибудь одно: или они сумасшедшие, или я сумасшедший. И так как их миллионы, а я один, то очевидно, что сумасшедший — я. И вот наступает день, когда озаряет уже совсем ясная мысль: да, я сумасшедший!
В письме к Софье Андреевне об этом дне он сказал сдержанно: «Со мной было что-то необыкновенное». Известно, что именно произошло с ним в действительности: в августе 1869 года, когда ему шел всего сорок второй год, он, движимый этой «любовью к семье, к хозяйству», поехал в Пензенскую губернию с самой простой целью — посмотреть и, быть может, купить имение, которое, по слухам, продавалось там очень выгодно, и по дороге ночевал в г. Арзамасе; а там и произошло то, что он сообщил в письме к Софье Андреевне:
«Что с тобой и с детьми? Не случилось ли что? Я второй день мучаюсь беспокойством. Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было два часа ночи, я устал страшно, хотелось спать, и ничего не болело. Но вдруг на меня напала тоска, страх, ужас, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии, но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай бог испытать. Я вскочил, велел закладывать. Пока закладывали, я заснул и проснулся здоровым. Вчера это чувство возвратилось во время езды, но я был приготовлен и не поддался ему, тем более, что оно и было слабее. Нынче чувствую себя здоровым и веселым, насколько могу быть без семьи… Я могу оставаться один в постоянных занятиях, но как только без дела, я решительно чувствую, что не могу быть один…»
Последняя фраза необыкновенно важна: один он может быть только в постоянных занятиях, в делах; без занятий, без дел, заглушающих то, что происходит в душе, в уме, — «тоска, страх, ужас такие, каких никому не дай бог испытывать!». Он не мог не замечать всего этого и прежде, — не оттого ли и одурманивал себя своей страстной деятельностью? В Арзамасе же понял это до ужаса ясно. И прошел ли этот ужас после Арзамаса, в новых занятиях, дома, в семье? То, что не прошел, доказывает рассказ «Записки сумасшедшего», написанный через целых пятнадцать лет после Арзамаса. Рассказ этот, по сути, есть точное воспроизведение того, что написано в письме к Софье Андреевне, есть только развитие этой сути и договоренность недоговоренного. Герой рассказа тоже едет осматривать намеченное к покупке имение, и тоже в Пензенскую губернию, и ночует тоже в Арзамасе. Едет со слугой Сергеем. В Арзамасе останавливается в номерах и ложится спать. Пробует заснуть — невозможно.
— Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал? Куда я везу себя? От чего, куда я убегаю? Я убегаю от чего-то страшного, и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я — вот он, я весь тут. Ни пензенское и никакое именье ничего не прибавит и не убавит мне. Я надоел себе, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться, и не могу. Не могу уйти от себя.
— Я вышел в коридор. Сергей спал на узенькой скамье, скинув руку, но спал сладко, и сторож с пятном — спал. Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачило все. Мне так же, еще больше страшно было. «Да что это за глупость, — сказал я себе, — чего я тоскую, чего боюсь?»
— Меня, — неслышно отвечает голос смерти. — Я тут. Мороз подрал мне по коже. Да, смерти. Она придет, она — вот она, а ее не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал. Тогда бы я боялся. А теперь я не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, а вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасное. Я попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный со свечой обгоревшей и зажег ее. Красный огонь свечи и размер ее, немного меньше подсвечника, — все говорило то же. Ничего нет в жизни, есть только смерть, а ее не должно быть. Я пробовал думать о том, что занимало меня: о покупке, о жене. Ничего не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лег было, но только улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска — такая же душевная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно. Кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разорвать. Еще раз прошел посмотреть на спящих, еще раз попытался заснуть; все тот же ужас, — красный, белый, квадратный. Рвется что-то и не разрывается. Мучительно, и мучительно сухо и злобно, ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную, спокойную злобу на себя и на то, что меня сделало...
В конце концов человек, увидевший это «красное, белое, квадратное», даже с каким-то ликованием утверждает свое «сумасшествие».
— Сегодня меня возили свидетельствоваться в губернское правление, и мнения разделились. Они спорили и решили, что я не сумасшедший… Они признали меня подверженным эффектам и еще что-то такое, но в здравом уме. Они признали, но я-то знаю, что я сумасшедший!
Так совершилось то, что и должно было совершиться, — то, что «на роду» было написано. Всеми силами стремился человек одолеть в себе того подлинного, главного, каким родился, — стремился прожить жизнь, «как все», «практически, положительно», семьянином, отцом, хозяином, заглушал «красное, белое, квадратное» беспримерным количеством «занятий», окружал себя, чтобы не быть «одному», семьей, потомством, многолюдным домом… Но нет, не удалось. В юности долго и беспорядочно искал, как бы получше устроить себя в общем, обычном мире, — где не должно быть того «необыкновенного», что было в Арзамасе, — толком не зная, где именно: не то в Ясной Поляне, не то на гражданской службе, не то на военной…
Писал брату в молодости:
— Сережа, я пишу тебе это письмо из Петербурга, а где я и намерен остаться навеки… Я вполне убежден теперь, что умозрением и философией жить нельзя, а надо жить положительно, то есть быть практическим человеком…
В годы мужества он как будто успокоился, жил так «положительно», что однажды писал:
— Есть в Москве некто барон Шенинг, у которого есть удивительные японские свиньи. Я видел таких у Шатилова и чувствую, что для меня не может быть счастья в жизни до тех пор, пока не буду иметь таких же свиней…
Всем известно, однако, что писал он в то же самое время и нечто совсем другое:
— Без знания того, что я такое и зачем я здесь, нельзя жить. А знать я этого не могу, следовательно, нельзя жить…
— На днях прочел то, что еще никогда не читал, и продолжаю читать и ахать от радости: это Притчи Соломона, Екклезиаст и Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова.
Легко догадаться, над чем больше всего «ахал» он:
— Решился я в сердце своем исследовать и испытать разумом все, что делается под солнцем: это тяжелое занятие дал бог сынам человеческим, чтобы они мучили себя…
В этих словах Екклезиаста весь Толстой. «Это тяжелое занятие» было главным занятием всей его жизни. Все, все, «что делается под солнцем», исследовал и испытал он, продумал и прочувствовал с беспримерной недоверчивостью и требовательностью.
— Я развивал и умножал в себе знание больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое постигло много мудрости и знания. Когда же я обратил сердце свое на то, чтобы познать мудрость и познать глупость и безумие, то узнал, что и это затеи праздные. Потому что при многой мудрости много раздражительности, и кто умножает познания, умножает скорбь.
— Сказал я в сердце своем: насладись добром; но и это суета.
Сколько лет «наслаждался» Толстой «добром», чтобы в конце концов («в третьем фазисе» своем) отречься и от него!
— Предпринял я великие дела; построил себе домы, насадил себе виноградники… Приобрел себе слуг, и домочадцы были у меня… Собрал себе серебра, и золота, и драгоценностей от царей и областей… И вот, все суета и затеи праздные, и нет от них выгоды под солнцем… И меня постигнет та же участь, что и невежду… Увы, умирает мудрый наравне с невеждой… И возненавидел я, жизнь; потому что противны мне дела, совершающиеся под солнцем… И возненавидел я, весь труд мой, что трудился я под солнцем…
— И видел я всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот, слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и от руки угнетающих их — насилие, а утешителя у них нет. И почел я мертвых, которые давно умерли, счастливее живых…
Только ли из-за угнетений почел он мертвых счастливее живых! И угнетенные и угнетатели — одинаковая суета сует; все — затеи праздные перед тем, что ждет и тех и других в тот час, «когда задрожат и стерегущие дом, и высоты станут страшны, и не на дороге будут ужасы… когда отходит человек в вечный дом свой и тянутся по улице плачущие…»
Из множества легенд о Толстом и до сих пор еще существует еще и та, будто он был чуть не невежда по своему образованию. Повторяю, почти все легенды о нем создавались прежде всего по его собственной вине — на основании его резких, крайних самооценок. Так было и тут: он сам пустил слух о своем невежестве: «Я почти невежда, то, что я знаю, тому я выучился кое-как, сам, урывками, без связи, без толку и то так мало». И кто из писавших о нем опровергал его мнимое невежество? Никого не могу вспомнить, кроме Алданова, который совершенно справедливо говорит (в своей книге «Загадка Толстого»):
— Толстой был одним из наиболее разносторонне ученых людей нашего времени… В своем главном «ремесле», в литературе, он знал все — древнее, новое, новейшее. Он владел множеством культурных языков, вплоть до греческого и еврейского. Он в разное время жизни интересовался со всей своей способностью страстного увлечения то философией, то естествознанием, то богословием, то теорией искусства, то педагогическими науками. То он, по его собственным словам, «с утра до ночи» занят изучением греческих классиков в подлиннике, то увлекается астрономией, то пристает ко всем своим посетителям с каким-нибудь доказательством Пифагоровой теоремы… Люди, видевшие в библиотеке в Ясной Поляне те четырнадцать тысяч томов, которые без конца испещрены пометками Толстого, знают его «невежество»! Только его универсально-анархический ум так же мало признавал суверенитет науки, как и суверенитет государства…
Алданов тут прибавляет: «Сам Чехов, наверно, не прочитавший одной десятой книг, известных Толстому, прохаживался насчет его невежества». Алданов прав, — «прохаживался». На Чехова Толстой имел огромное влияние и не только как художник. Чехов не раз говорил мне в ту зиму, которую больной Толстой проводил в Крыму:
— Вот умрет Толстой, все к черту пойдет!
— Литература?
— И литература.
Он говорил:
— Я его боюсь. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте!
— Серьезно, я его боюсь, — говорил он, смеясь и как бы радуясь своей боязни.
Говоря о нем, он как-то сказал:
— Чем я особенно восхищаюсь, так это его презрением ко всем нам, прочим писателям, или лучше сказать, не презрением, а тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно ни за что. Вот он иногда хвалит Мопассана, меня… Отчего хвалит? Оттого что он смотрит на нас, как на детей. Наши повести, рассказы, романы для него детские игры. Вот Шекспир другое дело. Это уже взрослый, и он уже раздражает его, что пишет не по-толстовски.
Но бывало, что он говорил и другое:
— Только зачем он говорит о том, в чем ничего не смыслит? Например, о медицине? Вообще он иногда возмущает меня. Вот он пишет совершенно удивительную вещь — «Много ли человеку земли нужно?» Написано так, как никто еще тысячу лет не сумеет написать. А что говорит? Человеку, видите ли, нужно всего три аршина земли. Это вздор: человеку нужно не три аршина, а нужен весь земной шар. Это мертвому нужно три аршина. И живые не должны думать о мертвых, о смертях.
Да, да:
— Ты не думай!
Напрасная просьба:
— Ах, как же не думать! Надо, надо думать!
С самого детства была у него, по его собственному свидетельству, «излишняя восприимчивость и склонность к анализу, главными удовольствиями были уединенные размышления и наблюдения». В отрочестве эти качества и склонности развились в нем уже настолько и приобрели такой характер, что он говорит в «Юности»:
— Едва ли мне поверят, какие были любимейшие и постоянные предметы моих размышлений, — так они были несообразны с моим возрастом и положением. Но, по моему мнению, несообразность между положением человека и его моральной деятельностью есть вернейший признак истины.
(Эти последние удивительные строки нужно очень помнить, думая вообще о всей его жизни.)
— В продолжение года, во время которого я вел уединенную, сосредоточенную в самом себе, моральную жизнь, все отвлеченные вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бессмертии души, уже представлялись мне; и детский слабый ум мой со всем жаром неопытности старался уяснить те вопросы, предложение которых составляет высшую ступень, до которой может достигнуть ум человека, но разрешение которых не дано ему…
— Мысли эти представлялись моему уму с такой ясностью и поразительностью, что я даже старался применять их к жизни, воображая, что я первый открываю такие великие, полезные истины.
— Раз мне пришла мысль, что счастие не зависит от внешних причин, а зависит от нашего отношения к ним, что человек, привыкший переносить страдания, не может быть несчастлив, — и, чтобы приучить себя к труду, я, несмотря на страшную боль, держал по пяти минут в вытянутых руках лексиконы Татищева или уходил в чулан и веревкой стегал себя по голой спине так больно, что слезы невольно выступали на глазах.
— Другой раз, вспомнив вдруг, что смерть ожидает меня каждый час, каждую минуту, я решил, не понимая, как не поняли того до сих пор люди, что человек не может быть иначе счастлив, как пользуясь настоящим и не помышляя о будущем, — и я дня три, под влиянием этой мысли, бросил уроки и занимался только тем, что, лежа на постели, наслаждался чтением какого-нибудь романа и едою пряников…
— То раз, стоя перед черною доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражен мыслию: почему симметрия приятна для глаз? что такое симметрия? Это — врожденное чувство, отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь — и я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность, вот вечность — и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нет такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны! Мы, вероятно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание…
(Тут, кстати, надо вспомнить, что он говорит про те чувства, которые возбуждала в нем игра его матери на фортепиано: «В моем воображении возникали какие-то легкие, светлые и прозрачные воспоминания. Она заиграла патетическую сонату Бетховена, и я вспомнил что-то грустное, тяжелое и мрачное… Чувство это было похоже на воспоминания; но воспоминания чего? казалось, что вспоминаешь то, чего никогда не было».)
В каком еще роде были его, как он выражается, «умствования»? Вспомним еще раз:
— Не одним из всех философских направлений я не увлекался так, как скептицизмом, который одно время довел меня до состояния, близкого к сумасшествию. Я воображал, что, кроме меня, никого и ничего не существует во всем мире, что предметы не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание, и что, как скоро я перестаю думать о них, образы эти тотчас же исчезают…
— Склонность моя к отвлеченным размышлениям до такой степени неестественно развила во мне сознание, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадал в безвыходный круг анализа своих мыслей… Спрашивая себя: о чем я думаю? я отвечал: я думаю, о чем я думаю. А теперь о чем я думаю? Я думаю, что я думаю, о чем я думаю… Ум за разум заходил…
«Живые не должны думать о мертвых, о смертях». Но напрасно проповедовать это «сумасшедшим», видящим мир так, как видят не люди, а «существа иных миров», людям, «отдавшимся философии». Что испытывал князь Андрей, слушая, как пела Наташа? А вот про одного своего героя, тоже слушавшего чье-то пение, Чехов писал:
— Пока она пела, ему казалось, что он ест спелую, душистую дыню…
В «Детстве» есть строки о том, как Володя, подрастая, стал «важничать», как он однажды, на прогулке детей в лес, дал всем им понять, что детские игры для него уже глупости, и на какое грустное соображение навело это Николеньку: «Я и сам знаю, что из палки не только что убить птицу, да и выстрелить никак нельзя. Это игра. Коли так рассуждать, то и на стульях ездить нельзя…Ежели судить по-настоящему, то игры никакой не будет. А игры не будет, что ж тогда останется?» Но вот подрос и Николенька — и все меньше и меньше стал верить, что можно ездить на стульях, и все чаще и чаще стал думать, глядя на все «игры» мира: «Что это такое? Они сумасшедшие?» Он еще продолжает участвовать в этих играх; он, может быть, уже восклицает словами апостола Павла: «Не понимаю, что делаю; ибо не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то и делаю!» — новее еще делает ненавистное. Как же не делать? «Боже мой, что же мне делать, ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую? Отец, сестра, жена, все самые дорогие мне люди — я всех их отдам за минуты славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей, которых я не знаю!» Так и Николенька-Левочка еще думает: «Все эти игры — сумасшествие, страшное по своей бессмысленности сумасшествие! Но что же мне делать? Если игры не будет, что ж тогда останется?» Он уже со страхом, уже растерянно записывает (тридцати пяти лет от роду): «Я качусь, качусь под гору смерти… А я не хочу смерти, я хочу и люблю бессмертие… Я люблю мою жизнь — семью, хозяйство, искусство…» И так и идут годы — и «качусь» и «не хочу» катиться, не хочу верить, что качусь, и потому буду себя дурманить достижениями славы, любви людской, мечтами «довести свое свиноводство до полного совершенства», прибрать к своим рукам как больше выгодно продающихся имений, купить за грош шесть тысяч десятин в Самарской губернии, завести триста голов лошадей… Но вот ночь в Арзамасе — и дурман, который он уже давно чувствовал дурманом, в котором и раньше нет-нет да и приходил в себя, вдруг совсем вылетает из головы: «Зачем я сюда заехал? Куда я везу себя? От чего, куда я убегаю?» Заснуть? Но заснуть нет никакой возможности! И ясное дело, что я сумасшедший — я, а не мир: весь мир вокруг меня не чувствует никакой тоски, никакого страха, ужаса, не видит этого «красного, белого, квадратного», мир продолжает и будет до скончания веков «играть», а я? Я сумасшедший. «Они признали, но я-то знаю, что я сумасшедший!»
XVII
Ему шел всего двадцать третий год, когда он начал писать «Детство». Тут он впервые написал смерть, свое ощущение ее, то, что он испытал когда-то при виде мертвеца. (Кстати: когда «когда-то»? Я говорю о той главе в «Детстве», которая называется «Горе»: это смерть матери Николеньки, то есть самого Левочки Толстого. Но мать Левочки умерла, когда ему было всего два года. Почему же уже в первом его произведении появляется тема смерти?)
— На другой день, поздно вечером, мне захотелось еще раз взглянуть на нее (на мать в гробу). Преодолев невольное чувство страха, я тихо отворил дверь и на цыпочках вошел в залу.
— Посредине комнаты на столе стоял гроб, вокруг него нагоревшие свечи в высоких серебряных подсвечниках; в дальнем углу сидел дьячок и тихим, однообразным голосом читал псалтирь.
— Я остановился у двери и стал смотреть, но глаза мои были так заплаканы и нервы так расстроены, что я ничего не мог разобрать; все как-то странно сливалось вместе: свет, парча, бархат, большие подсвечники, розовая обшитая кружевами подушка, венчик, чепчик с лентами и еще что-то прозрачное воскового цвета. Я стал на стул, чтобы рассмотреть ее лицо; но в том месте, где оно находилось, мне опять представился тот же бледно-желтоватый, прозрачный предмет. Я не мог верить, чтоб это было ее лицо. Я стал вглядываться в него пристальнее и мало-помалу стал узнавать в нем знакомые милые черты. Я вздрогнул от ужаса, когда убедился, что это была она; отчего закрытые глаза так впали? отчего эта страшная бледность и на одной щеке черноватое пятно под прозрачною кожей? отчего губы так бледны и склад их так прекрасен, так величествен и выражает такое неземное спокойствие, что холодная дрожь пробегает по моей спине и волосам, когда я вглядываюсь в него?
— Я смотрел и чувствовал, что какая-то непонятная, непреодолимая сила притягивает мои глаза к этому безжизненному лицу. Я не спускал с него глаз, а воображение рисовало мне картины, цветущие жизнью и счастием. Я забывал, что мертвое тело, которое лежало передо мной и на которое я бессмысленно смотрел, как на предмет, не имеющий ничего общего с моими воспоминаниями, была она. Я воображал ее то в том, то в другом положении: живою, веселою, улыбающейся; потом вдруг меня поражала какая-нибудь черта в бледном лице, на котором остановились мои глаза: я вспоминал ужасную действительность, содрогался, но не переставал смотреть. И снова мечты заменяли действительность, и снова сознание действительности разрушало мечты. Наконец, воображение устало, оно перестало обманывать меня: сознание действительности тоже исчезло, и я совершенно забылся… На время я потерял сознание своего существования и испытывал какое-то высокое, неизъяснимо-приятное и грустное наслаждение…
Глава эта есть нечто совершенно удивительное по изображению и внешнего и внутреннего. Сила изобразительности внешнего как будто преобладает. «Свет, парча, бархат… розовая обшитая кружевами подушка, венчик, чепчик с лентами и еще что-то прозрачное, воскового цвета…» Но из этого внешнего исходит истинный ужас внутреннего: чего стоит одно это «что-то»!
— Одна из последних подошла проститься с покойницей какая-то крестьянка, с хорошенькою пятилетней девочкой на руках, которую, бог знает зачем, она принесла сюда. В это время я нечаянно уронил свой мокрый платок и хотел поднять его; но только что я нагнулся, меня поразил страшный, пронзительный крик, исполненный такого ужаса, что, проживи я сто лет, я никогда его не забуду. Я поднял голову — подле гроба стояла та же крестьянка и с трудом удерживала на руках девочку, которая, отмахиваясь ручонками, откинув назад испуганное личико и уставив выпученные глаза на лицо покойной, кричала страшным, неистовым голосом…
Николенька-Левочка, глядя на это «что-то» прозрачное, воскового цвета, бледно-желтоватый прозрачный предмет, в конце концов «потерял сознание своего существования и испытывал какое-то высокое, неизъяснимо-приятное и грустное наслаждение». Это подлинные задатки разновидности тех чувств, которые впоследствии все больше и больше будут преображать толстовское восприятие смерти, вести к чему-то «высокому». Но пока это только задатки. Преобладает же ужас. «Холодная дрожь пробегает по моей спине и волосам, когда я вглядываюсь в него». А крестьянский ребенок даже и при одном мгновенном взгляде на это «что-то» разражается «страшным, неистовым криком».
За этими первыми страницами о смерти следует рассказ «Три смерти», написанный через семь лет после того. Тут, мучительно, отчаянно хватаясь за жизнь, то раздраженно негодуя на все и на всех, то жалко умиляясь тщетными надеждами, умирает богатая молодая барыня в чахотке; умирает тупо и покорно, как обессилевший зверь, нищий работник (ямщик) и в святой и прекрасной бессознательности умирает дерево. Барыня одна виновата перед лицом бога — в своей непокорности его неисповедимым для нас путям, его высокой и торжественной воле, в своем детском и строптивом непонимании его законов и замыслов: «Пути мои выше путей ваших и мысли мои выше мыслей ваших…»
И вот тут уже возвышенно, укоризненно-грозно звучат толстовские слова о смерти:
— В тот же вечер больная уже была тело, и тело в гробу стояло в зале большого дома… Яркий восковой свет с высоких серебряных подсвечников падал на бледный лоб усопшей, на тяжелые восковые руки и окаменелые складки покрова, странно поднимающегося на коленях и пальцах ног…
— Сокроешь лицо твое — смущаются, — гласил псалтирь, — возьмешь от них дух — умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой — созидаются и обновляют лицо земли. Да будет господу слава вовеки.
— Лицо усопшей было строго и величаво. Ни в чистом, холодном лбе, ни в твердо сложенных устах ничто не двигалось. Она вся была внимание. Но понимала ли сна хоть теперь великие слова эти?
Все же в ту пору он и сам еще «не понимал». Через год после написания им «Трех смертей», — в 1860 году, — умирает от чахотки его брат Николай — и на весь мир падает для него пепел смерти: «К чему все, — пишет он, — к чему все, когда завтра начнутся муки смерти со всей мерзостью лжи, самообмана и кончатся ничтожеством, нулем!»
Еще через год он начал «Холстомера», «историю лошади», которую можно было бы озаглавить и так: «Две жизни и две смерти», — жизнь пегого рысистого мерина, по родословному имени Мужика I, прозванного по-уличному Холстомером «за длинный и размашистый ход, равного которому не было в России», и жизнь одного из его хозяев, большого барина, гусара князя Серпуховского. Если уж говорить о беспощадности Толстого в писании земных «историй», то, несомненно, он тут беспощаднее всего. Мерин, бывшая знаменитость, доживает свой век в табуне на барском дворе в ничтожестве и одиночестве. «Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкая и величественная вместе. Старость пегого мерина была именно такого рода… Было что-то величественное в фигуре этой лошади, и было что-то страшное — в соединении с этой величественностью отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротою шерсти, и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия, сознательной красоты и силы». Это была «живая развалина», которую молодые лошади мучали колкими своими злыми забавами, шутками: «Он был стар, они были молоды; он был худ, они были сыты; он был скучен, они были веселы. Стало быть, он был совсем чужой, посторонний, совсем другое существо, и нельзя было жалеть его. Лошади жалеют только самих себя и изредка только тех, в шкуре кого они себя легко могут представить…» И вот он все-таки рассказывает по ночам этим молодым лошадям историю своей прежней жизни, своей долгой службы людям, — которые говорили про него «моя лошадь», что сначала казалось ему так же странно, как слова: «моя земля, мой воздух, моя вода», — службы, кончившейся тем, что гусар загнал его. Он «ничего и никого никогда не любил», но в нем мерину «нравилось именно то, что он был красив, счастлив, богат и потому никого не любил». Мерин говорит про него: «Его холодность, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. Убей, загони меня, думал я, бывало, в наши счастливые времена, — я тем буду счастливее». И гусар загнал его. «Любовница у него была красавица, и он был красавец, и кучер у него был красавец». И когда любовница сбежала от него, он в погоне за ней загнал мерина. Но своей жизнью загнал он и себя. Когда, лет через пятнадцать, приехал он однажды в гости как раз к тому барину, который был последним хозяином Холстомера, уже был он тоже развалиной:
— Приезжий, Никита Серпуховской, был человек лет за сорок, высокий, толстый, плешивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив. Теперь он опустился, видимо, физически, и морально, и денежно…
— Он был одет в военный китель и синие штаны. Китель и штаны были такие, каких бы никто себе не сделал, кроме богача; белье тоже; часы тоже были английские. Сапоги были на каких-то чудных, в палец толщины, подошвах.
— Никита Серпуховской промотал в жизни состояние в два миллиона и остался еще должен 120 тысяч. От такого куска всегда остается размах жизни, дающий кредит и возможность почти роскошно прожить еще лет десять.
— Лет десять уже проходили, и размах кончался, и Никите становилось грустно жить…
А хозяин был молод, крепок, богат, «один из тех, которые никогда не переводятся, ездят в собольих шубах, бросают дорогие букеты актрисам, пьют вино самое дорогое с самой новой маркой, в самой дорогой гостинице, содержат самую дорогую любовницу…». Хозяин хвастался Серпуховскому своим счастьем, богатством, навязывал ему взять в запас побольше дорогих сигар, ставя его тем в неловкое и оскорбительное положение; они говорили весь вечер, как будто равные, про лошадей, про женщин, «у кого какая: цыганка, танцовщица, француженка», но им было скучно слушать друг друга, — каждый хотел говорить только про себя. Поздно ночью они наконец разошлись.
— Хозяин лежал с любовницей.
— Нет, он невозможен. Напился и врет, не переставая…
— И за мной ухаживает.
— Я боюсь — будет просить денег.
Серпуховской лежал нераздетый на постели и отдувался.
— Кажется, я много врал, — подумал он. — Ну, все равно! Вино хорошо, но свинья он большая. Купеческое что-то. И я свинья большая, — сказал он сам себе и захохотал…
— Он сел, снял китель, жилет и штаны стоптал с себя кое-как; но сапог долго не мог стащить, — брюхо мягкое мешало. Кое-как стащил один, другой, бился, бился, запыхался и устал. И так, с ногой в голенище, повалился и захрапел, наполняя всю комнату запахом табаку, вина и грязной старости…
Старого Холстомера, опаршивевшего от коросты, зарезали за усадьбой в лощине за кирпичным сараем, и драч снял с него его старую шкуру.
— Табун проходил вечером горой, и тем, которые шли с левого края, видно было что-то красное внизу, около чего возились хлопотливо собаки и перелетали вороны и коршуны…
И ритмически, торжественно кончается эта страшная «история лошади»:
— На заре в овраге старого леса, в заросшем низу на полянке, радостно выли головастые волченята. Их было пять: четыре почти равные, а один маленький, с головой больше туловища. Худая линявшая волчица, волоча полное брюхо с отвисшими сосками по земле, вышла из кустов и села против волченят. Волченята полукругом стали против нее. Она подошла к самому маленькому и, опустив колено и перегнув морду книзу, сделала несколько судорожных движений и, открыв зубастый зев, натужилась и выхаркнула большой кусок конины. Волченята побольше сунулись к ней, но она угрожающе двинулась к ним и предоставила все маленькому. Маленький, как бы гневаясь, рыча, ухватил конину под себя и стал жрать. Так же выхаркнула волчица и другому, и третьему, и всем пятерым и тогда легла против них, отдыхая.
— Через неделю валялись у кирпичного сарая только большой череп и два мослака: остальное все было растаскано. На лето мужик, собиравший кости, унес и эти мослаки и череп и пустил их в дело.
— Ходившее по свету, евшее и пившее мертвое тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились.
— А как уже двадцать лет всем в великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело, так и уборка этого тела в землю была только лишним затруднением для людей. Никому уж он давно был не нужен, всем уж давно он был в тягость, но все-таки мертвые, хоронящие мертвых, нашли нужным одеть это тотчас же загнившее пухлое тело в хороший мундир, в хорошие сапоги, уложить в новый хороший гроб с новыми кисточками на четырех углах, потом положить этот новый гроб в другой, свинцовый, и свезти его в Москву, и там раскопать давнишние людские кости, и именно туда спрятать это гниющее, кишащее червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах и засыпать все землей…
Эта «история лошади» есть, так сказать, история смерти мертвых.
Алданов в своей книге «Загадка Толстого» перечисляет количество смертей в его произведениях и недоуменно спрашивает: зачем собрал Толстой за свою долгую художественную жизнь такой огромный художественный материал на тему смерти? «Если мыслимо создать философию смерти, ее должен был создать Толстой. Но он не воспользовался для этических обобщений богатствами своей сокровищницы. Толстой не обмолвился ни словом о разорванном бомбой Курагине, ни о зарезанной мужем Позднышевой, ни о барыне, которую изъела чахотка в „Трех смертях“… Естествоиспытатель сделал свое дело. Философ прошел мимо». Читаешь — и глазам не веришь. Выходит как будто так, что Толстой должен был чуть не каждую смерть, написанную им, сопровождать этическими обобщениями, философией, а он меж тем будто бы даже никогда этого не делал. Слишком по-разному читаем мы с Алдановым «Три смерти», «Холстомера»…
Картины смертей в «Войне и мире» открываются язычески величавой картиной смерти старого графа Безухова, наивысшей разновидности «Холстомеров». Потом идет смерть «маленькой княгини». Это — предел человеческой печали и нежности к безвинным жертвам смерти. Смерти этой предшествуют роды: вот они начались и длятся — зимний, бурный, темный вечер в снежных глухих полях; в старом, полутемном доме усадьбы старого князя Болконского зажжены перед киотом, в помощь страждущей роженице, обвитые золотом венчальные свечи, всюду тишина, ожидание — все «наготове чего-то», у всех «какая-то общая забота, смягченность сердца и сознание чего-то великого, непостижимого, совершающегося в эту минуту…
Прошел вечер, наступила ночь. Таинство, торжественнейшее в мире, продолжало совершаться. И чувство ожидания и смягчения сердечного перед непостижимым не падало, а возвышалось. Никто не спал…» Говорят ли так «естествоиспытатели»? Если для Толстого рождение человека есть «таинство, торжественнейшее в мире», как может быть для него не таинством смерть человека, если только человек не умер еще при жизни, если только он не «ходячее тело», подобно Курагиным и Серпуховским? Дав земному миру новую человеческую жизнь, маленькая княгиня умерла.
— Князь Андрей вошел в комнату жены. Она мертвая лежала в том же положении, в котором он видел ее пять минут тому назад, и то же выражение, несмотря на остановившиеся глаза и на бледность щек, было на этом прелестном детском личике с губкой, покрытой черными волосиками.
«Я вас всех люблю и никому дурного не делала, и что вы со мной сделали?» — говорило ее прелестное, жалкое, мертвое лицо.
— Через три дня отпевали маленькую княгиню, и, прощаясь с нею, князь Андрей взошел на ступени гроба. И в гробу было то же лицо, хотя и с закрытыми глазами. «Ах, что вы со мной сделали?» — все говорило оно…
Дальше — знаменитое «небо над Аустерлицким полем», первый порог «исхода» из земного мира князя Андрея, его «освобождения».
— Князь Андрей не видал, чем это кончилось (рукопашная схватка русского артиллериста с двумя французами)… «Что это? я падаю? у меня ноги подкашиваются», — подумал он и упал на спину… Над ним не было ничего уже, кроме неба — высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. «Как тихо! спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал», — подумал князь Андрей, — «не так, как мы бежали, кричали и дрались… совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как и счастлив, что я узнал его наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме него. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава богу…»
— На Праценской горе, на том самом месте, где он упал с древком знамени в руках, лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью и, сам не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном.
К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, как долго продолжалось его забытье. Вдруг он опять почувствовал себя живым и страдающим от жгучей и разрывающей что-то боли в голове.
«Где оно, это высокое небо, которое я не знал до сих пор и увидал нынче?» — было первою его мыслью. «И страдания этого я не знал также», — подумал он. «Да, я ничего, ничего не знал до сих пор. Но где я?»
Он стал прислушиваться и услыхал звуки приближающегося топота лошадей и звуки голосов, говоривших по-французски…
Подъехавшие верховые были Наполеон, сопутствуемый двумя адъютантами…
— Voila une belle mort[19], - сказал Наполеон, глядя на Болконского.
Князь Андрей понял, что это было сказано о нем и что говорит это Наполеон… Но он слышал эти слова как бы он слышал жужжание мухи… Ему жгло голову, он чувствовал, что он исходит кровью, и он видел над собою далекое, высокое и вечное небо. Он знал, что это был Наполеон — его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нем облаками… он рад был только тому, что остановились над ним люди, и желал только, чтоб эти люди помогли ему и возвратили бы его к жизни, которая казалась ему столь прекрасной, потому что он так иначе понимал ее теперь…
Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожестве величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих.
XVIII
И вот наконец второе и последнее «освобождение» князя Андрея.
— Князь Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину. Он испытал сознание отчужденности от всего земного и радостной и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему. То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжении всей своей жизни, теперь для него было близкое и — по той странной легкости бытия, которую он испытал — почти понятное и ощущаемое…
Прежде он боялся конца. Он два раза испытал это страшно-мучительное чувство страха смерти, конца, и теперь уже не понимал его.
Первый раз он испытал это чувство тогда, когда граната волчком вертелась перед ним (на Аустерлицком поле), и он смотрел на жнивье, на кусты, на небо, и знал, что перед ним была смерть. Когда он очнулся после раны и в душе его, мгновенно, как бы освобожденный от удерживавшего его гнета жизни, распустился этот цветок любви вечной, свободной, не зависящей от этой жизни, он уже не боялся смерти и не думал о ней.
Чем больше он в те часы страдальческого уединения и полубреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более он, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви значило — никого не любить, значило — не жить этой земной жизнью. И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни, и тем совершеннее уничтожал ту страшную преграду, которая (без любви) стоит между жизнью и смертью.
Но после той ночи в Мытищах, когда в полубреду перед ним явилась та, которую он желал, и когда он, прижав к своим губам ее руку, заплакал тихими, радостными слезами, любовь к одной женщине незаметно закралась в его сердце и опять привязала его к жизни. И радостные, и тревожные мысли стали приходить ему.
Болезнь его шла своим физическим порядком, но то, что Наташа называла: это сделалось с ним[20], случилось с ним за два дня перед приездом княжны Марьи. Это была последняя нравственная борьба между жизнью и смертью, в которой смерть одержала победу. Это было неожиданное сознание того, что он еще дорожил жизнью, представлявшеюся ему в любви к Наташе, и последний, покоренный припадок ужаса перед неведомым.
Это было вечером. Он был, как обыкновенно после обеда, в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны. Соня сидела у стола. Он задремал. Вдруг ощущение счастья охватило его.
«А, это она вошла!» — подумал он.
Действительно, на месте Сони сидела только что неслышными шагами вошедшая Наташа.
С тех пор, как она стала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости. Она сидела на кресле боком к нему, заслоняя собой от него свет свечи, и вязала чулок.
«Могло или не могло быть?» — думал он теперь, глядя на нее и прислушиваясь к легкому стальному звуку спиц. «Неужели только затем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть? Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи? Я люблю ее больше всего в мире. Но что же делать мне, ежели я люблю ее?» — сказал он, и он вдруг невольно застонал по привычке, которую он приобрел во время своих страданий.
Услыхав этот звук, Наташа положила чулок, перегнулась ближе к нему и вдруг, заметив его светящиеся глаза, подошла к нему легким шагом и нагнулась.
— Вы не спите?
— Нет, я давно смотрю на вас; я почувствовал, когда вы вошли… Никто, как вы, не дает мне той мягкой тишины… того света. Мне так и хочется плакать от радости.
Наташа ближе придвинулась к нему. Лицо ее сияло восторженною радостью.
— Наташа, я слишком люблю вас. Больше всего на свете.
— А я? — Она отвернулась на мгновение. — Отчего же слишком? — сказала она.
— Отчего слишком? Ну, как вы думаете, как вы чувствуете по душе, буду я жив? Как вам кажется?
— Я уверена, я уверена! — почти вскрикнула Наташа, страстным движением взяв его за обе руки.
Он помолчал.
— Как бы хорошо! — И, взяв ее руку, он поцеловал ее.
…Скоро после этого он закрыл глаза и заснул. Он спал недолго и вдруг в холодном поту тревожно проснулся.
Засыпая, он думал все о том же, о чем он думал все это время, — о жизни и смерти. И больше о смерти. Он чувствовал себя ближе к ней.
«Любовь? Что такое любовь?» — думал он.
«Любовь не понимает смерти. Любовь есть жизнь. Все, все, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Все есть, все существует только потому, что я люблю. Все связано одною ею. Любовь есть бог, и умереть — значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику». Но это были только мысли. Чего-то недоставало в них, что-то было односторонне-личное, умственное — не было очевидности. И было то же беспокойство и неясность. Он заснул.
Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в которой лежал в действительности, но что он не ранен, а здоров. Много разных лиц, ничтожных, равнодушных, являются перед князем Андреем. Он говорит с ними, спорит о чем-то ненужном. Они собираются ехать куда-то. Князь Андрей смутно припоминает, что все это ничтожно и что у него есть другие важнейшие заботы, но продолжает говорить, удивляя их, какие-то пустые, остроумные слова. Понемногу, незаметно все эти лица начинают исчезать, и все заменяется одним вопросом о затворенной двери. Он встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку и запереть ее. От того, что он успеет или не успеет запереть ее, зависит все. Он идет, спешит, ноги его не двигаются, и он знает, что не успеет запереть дверь, но все-таки болезненно напрягает все свои силы. И мучительный страх охватывает его. И этот страх есть страх смерти: за дверью стоит оно[21]. Но в то же время, как он бессильно-неловко подползает к двери, это что-то ужасное, с другой стороны уже, надавливая, ломится в нее. Что-то нечеловеческое — смерть — ломится в дверь, и надо удержать ее. Он ухватывается за дверь, напрягает последние усилия — запереть уже нельзя — хоть удержать ее: но силы его слабы, неловки, и надавливаемая ужасным усилием дверь отворяется и опять затворяется.
Еще раз оно надавило оттуда. Последние сверхъестественные усилия тщетны, и обе половинки отворились беззвучно. Оно вошло, и оно есть смерть. И князь Андрей умер.
Но в то же мгновение, как он умер, князь Андрей вспомнил, что он спит, и в то же мгновение, как он умер, он, сделав над собой усилие, проснулся.
«Да, это была смерть. Я умер — я проснулся. Да, смерть — пробуждение», вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нем силы и ту странную легкость, которая с тех пор не оставляла его.
Когда он, очнувшись в холодном поту, зашевелился на диване, Наташа подошла к нему и спросила, что с ним.
Он не ответил ей и, не понимая ее, посмотрел на нее странным взглядом.
Это и было то, что случилось с ним за два дня до приезда княжны Марьи…
С этого началось для князя Андрея вместе с пробуждением от сна пробуждение от жизни…
Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто. И княжна Марья и Наташа, не отходившие от него, чувствовали это. Они не плакали, не содрогались и последнее время, сами чувствуя это, ходили уже не за ним (его уже не было, он ушел от них), а за самым близким воспоминанием о нем — за его телом…
Они обе видели, как он глубже и глубже, медленно и спокойно опускался от них куда-то туда, и обе знали, что это так должно быть и что это хорошо…
XIX
Он записал однажды:
— На меня смерть близких никогда не действует очень больно.
Это было записано уже в старости, после многих смертей близких. Не поэтому ли и записано так, — не от притупления ли чувств, не от привычки ли к боли всяких жизненных потерь? Но он выражался всегда очень обдуманно, очень точно, он не написал бы даром слово «никогда». Как же объяснить, что смерть близких никогда не действовала на него очень больно? Известно, какой душевный хлад и ужас испытывал он, теряя сперва одного брата, потом другого, что чувствовал Левин, когда умирал его брат Николай: его в эти дни спасала только Кити, только ощущение близости с ее молодой жизнью и любовью и его собственная любовь к ней. И вот все-таки он говорит, что терять близких было ему «не очень больно». И это «не очень больно» кажется на первый взгляд странно. «Я всегда как-то физически чувствую людей», — говорил он про себя (давая этим прекрасный повод к сугубой убежденности тупых людей в их мнении, что ему доступна была только «плоть» мира). Но и все чувствовал он «физически», то есть всем своим существом, с необыкновенной остротой. А чувствование смерти, всего ее телесного и духовного процесса было в нем обострено особенно, — это закон: «степень чувства жизни пропорционально степени чувства смерти», — и никогда не оставляло его. Как же в таком случае «не очень больно» было ему возле умиравших близких? А меж тем так именно и было, — вернее, почти так. «Не очень больно» перенес он смерть своего любимого сына, маленького Ванечки, потом самой любимой дочери, Маши.
В воспоминаниях Александры Львовны сказано:
— Маша угасала. Я вспомнила Ванечку, на которого она теперь была похожа… Тихо, беззвучно входил отец, брал ее руку, целовал в лоб… Когда она кончалась, все вошли в комнату. Отец сел у кровати и взял Машу за руку… При выносе тела из дома, он проводил гроб только до ворот — и пошел назад, в дом…
Об этом удивительно рассказал Илья Львович:
— Когда понесли гроб в церковь, он оделся и пошел провожать. У каменных столбов он остановил нас, простился с покойницей и пошел по пришпекту домой. Он шел по тающему мокрому снегу частой старческой походкой, как всегда резко выворачивая носки ног, и ни разу не оглянулся…
В 1903 году он записал:
— Страдания, — всегда неизбежные, как смерть, — разрушают границы, стесняющие наш дух, и возвращают нас, — уничтожая обольщения материальности, — к свойственному человеку пониманию своей жизни как существа духовного, а не материального…
Писал и говорил то же самое не один раз и раньше и позже.
— Думают, что болезнь — пропащее время.
Говорят: «Вот выздоровлю — и тогда…» А болезнь самое важное время…
Вспоминая самые трудные часы своих собственных тяжелых болезней, умилялся:
— Эти дорогие мне минуты умирания!
И про дочь писал так:
— 26 ноября 1906 года. Сейчас час ночи. Скончалась Маша. Странное дело, я не испытывал ни ужаса, ни страха, ни сознания совершавшегося чего-то исключительного, ни даже жалости, горя. Я как будто считал нужным вызвать в себе особенное чувство умиления, горя и вызвал его, но в глубине души я был покоен… Да, это событие в области телесной, и потому безразличное. Смотрел я все время на нее, когда она умирала, удивительно спокойно. Для меня она была раскрывающееся перед моим раскрыванием существом. Я следил за его раскрыванием, и оно радостно было мне. Но вот раскрывание это в доступной мне области прекратилось, то есть мне перестало быть видно это раскрывание; но то, что раскрывалось, то есть. Где? Когда? Это вопросы, относящиеся к процессу раскрывания здесь и не могущие быть отнесены к истинной — внепространственной и вневременной — жизни.
И впоследствии, вспоминая ее:
— Живу и часто вспоминаю последние минуты Маши (не хочется называть ее Машей, так не идет это простое имя к тому существу, которое ушло от меня). Она сидит обложенная подушками, я держу ее худую и милую руку и чувствую, как уходит жизнь, как она уходит. Эти четверть часа одно из самых важных, значительных времен моей жизни…
XX
«Чего я тоскую, чего боюсь? — Меня, неслышно отвечает голос смерти. Я тут. — Мороз подрал мне по коже. Да, смерти. Она придет, она — вот она, а ее не должно быть».
И вот вся жизнь отдается на приобретение наиболее полного чувства, что не только «ее не должно быть», но что и нет ее.
Как так нет? На этот вопрос был ответ даже и тогда, — ночью в Арзамасе.
«Кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно».
В ту ночь он чувствовал: «Я надоел себе, несносен, мучителен себе». Но какой «я»? Такой, какой жил жизнью «умирающей», а не вечно живущей, внепространственной, вневременной. Он был в отчаянии: «Не могу уйти от себя!» От какого «себя»? От временного и телесного. А уйти, «освободиться» было необходимо: иначе «ужас — красный, белый, квадратный», иначе «злоба на себя и на то, что меня сделало», то есть «злоба» на самого творца, давшего это временное и телесное существование, которое без преодоления «подчинения», коему в той или иной мере подвержены все земные существа, без стремления к «освобождению», без все растущего чувства возврата к творцу, близости и единства с ним и без радости ощущения его благой воли, коей во всем надо подчиняться без всякого мудрствования и прекословия, есть непременно злоба, ужас, смерть, «умирающая жизнь».
И вот начинается уже непрестанная борьба с этой «умирающей жизнью».
— Учение церкви о бессмертности личной жизни навеки закрепляет личность… А Христос звал жить не для своей личности…
Это писалось в пору «Исповеди» и «В чем моя вера». И, отмечая эту пору, Маклаков говорит:
— В этих двух книгах — вся сущность толстовского учения… Церковь отрицает конечность человеческой жизни, верит в загробную, то есть бесконечную жизнь. А Толстой искал смысла той жизни, которая кончается смертью, ибо, как человек неверующий, он в смерти видел полный конец. Искал и нашел: вся беда в том, что я жил дурно, сказал он себе; жизнь, кончающаяся смертью, обретает смысл только при исполнении двух заповедей: не противиться злому и живи для ближнего, а не для своей личности…
И Маклаков утверждает:
— «В чем моя вера» есть завершение мировоззрения Толстого…
«Завершение»! Маклаков точно и в глаза никогда не видал последующих толстовских записей.
«Толстой, как человек неверующий, видел в смерти полный конец». На чем основано это утверждение? И на том, что «сам Толстой говорил мне не раз», и на том, думаю, что Толстой писал, например, так:
— Будущая жизнь — бессмыслица…
Это как будто совершенно подкрепляет утверждение Маклакова. Но чем кончена эта фраза о будущей жизни, — как читается она полностью?
— Будущая жизнь — бессмыслица: жизнь вневременна.
И что еще писал Толстой в эту же пору?
— Мы истинно живем ни в прошлом и ни в будущем, которых нет, а только в настоящем: пространство и время — условность.
— Встретился на дороге с сумасшедшим. Прощаясь с ним, говорю: ну, прощай, на том свете увидимся. А он мне: какой такой тот свет? Свет один. — Это мне очень понравилось! Он «не верил в бессмертие»? Но в какое? — Как ни желательно бессмертие души, его нет и не может быть, потому что нет души, есть только сознание Вечного (бога).
— Смерть есть прекращение, изменение той формы сознания, которая выражалась в моем человеческом существе. Прекращается сознание, но то, что сознавало, неизменно, потому что вне времени и пространства… Если есть бессмертие, то только в безличности… Божеское начало опять проявится в личности, но это будет уже не та личность. Какая? Где? Как? Это дело божье.
— Чтобы верить в бессмертие, надо жить бессмертной жизнью здесь.
— Смерть есть перенесение себя из жизни мирской (то есть временной) в жизнь вечную здесь, теперь, которое я (уже) испытываю.
Что значит «смерть» в этой фразе? Есть ли это то, что обычно называется смертью и что он и сам разумел когда-то под этим словом? Уже совсем не то. Это живой и радостный возврат из земного, временного, пространственного в неземное, вечное, беспредельное, в лоно Хозяина и Отца, бытие которого совершенно несомненно.
Алданов начинает свою книгу о Толстом известной цитатой из Канта: «Две вещи наполняют мой дух вечно новым и все большим благоговением — звездное небо надо мной, нравственный закон во мне». Алданов говорит, что если разделить эту формулу, выражающую идею совершенного гармонического человека, на две части, то нужно будет отнести первую часть к язычнику Гете, а вторую к христианину Толстому. Для Толстого, говорит Алданов, существует только нравственный закон: das ewig Eine[22], которому всю жизнь «удивлялся» Гете, это «звездное небо» Канта, в толстовстве не имеет места.
Чем же доказывает Алданов свою мысль? «Толстой говорит о науке не как философ, а как полемист… Для Толстого „туманные пятна“, „спектральный анализ звезд“, „химический состав Млечного Пути“ — никому не нужный профессорский вздор, равно как вздор и вся „научная наука“, как он выражался, противопоставляя такой науке науку, „только действительно нужную людям“, то есть практическую и улучшающую жизнь людей». Но ведь «звездное небо» могло возбуждать в Толстом и другие мысли и чувства, ничуть не связанные с его презрением к профессорам, занятым изучением химического состава Млечного Пути. И Алданов сам подтверждает это — тем, что говорит далее. Он приводит одну из причин вражды Толстого к «научной науке»: «выдумали, говорит Толстой, приборы для акциза, для нужников, а прялка, ткацкий бабий станок, соха все такие же, как были при Рюрике»; но сам же спрашивает далее: «тут ли, однако, надо искать настоящую причину антипатии Толстого к науке?» — и отвечает: Толстой приписывал себе невежество, а меж тем «был одним из наиболее разносторонне ученых людей нашего времени, только его универсально-анархический ум так же мало признавал суверенитет науки, как суверенитет государственной власти». Почему же так мало признавал? Тут Алданов сам же говорит, что потому, что для преодоления науки Толстой решился привлечь себе на помощь «точку зрения вечности». «Вы изобрели противодифтеритную сыворотку, вылечили ребенка? — говорит он. — Ну, а дальше что?» Он обращался когда-то к Мопассану с вопросом: «Зачем все это?» — разумея под «всем этим» красоту и любовь в понимании французского писателя, и отвечал: «Ведь это хорошо было бы, если бы можно было остановить жизнь. А она идет. А что такое значит: идет жизнь? Идет жизнь — значит: волосы падают, седеют, зубы портятся, запах изо рта, морщины… Где же то, чему я служил? Где же красота? А она — все. А нет ее — ничего нет», — говорил Толстой, становясь на точку зрения мопассанов. — «Нет жизни. Но мало того, что нет жизни в том, в чем казалась жизнь, — сам начинаешь уходить из нее, сам стареешь, дуреешь, разлагаешься, другие на твоих глазах выхватывают у тебя те наслаждения, в которых было все благо жизни». Как же связать с этой выпиской Алдановым такой цитаты из Толстого с его, Алданова, замечанием, что «Толстой говорит о науке не как философ, а как полемист»? И что же такое «точка зрения вечности», как не «звездное небо надо мною»? Выписав слова Толстого, обращенные к Мопассану, Алданов замечает: «О том, в чем видел Мопассан наслаждения, Толстой говорил со скорбным презрением состарившегося эллина». И дальше: «С точки зрения вечности отнюдь не более прочно все, что противопоставлено науке. Где дует ветер вечности, там любое человеческое построение рассыпается, как карточный дом, и само толстовство в первую очередь. Le silence eternel de ces espaces infins m'effraye[23], - как сказал Паскаль». Но, возражу я Алданову, «ces espaces» ведь и есть «звездное небо». Правильно, что перед ними «рассыпается всякое человеческое построение». Только почему и само «толстовство»? Все дело в том, как понимать Толстого. Толстой от ужаса перед «ces espaces» все-таки спасся. Чем? Тем, чем «состарившийся эллин» не спасся бы. В том-то и дело, что Толстой никогда не был «эллином».
Алданов вспоминает слова Байрона, что «мысль есть ржавчина жизни», что «рассуждение противно природе человека», что «рассуждение — демон», говорит, что в Эпоху создания «Войны и мира» Толстой был недалек от байроновского воззрения, бессознательно, может быть, следовал инстинкту самосохранения, смутно предвидел, куда, к каким жертвам приведет его «демон» Байрона, и отмечает противоположность двух семей — семьи Болконских и семьи Ростовых (иначе говоря, семьи Волконских и семьи Толстых): в первой всегда у всех идет напряженная духовная работа, мысль, «рассуждение», а во второй никогда и никто не мыслит; и что же? все Болконские несчастны, а все Ростовы блаженствуют. По мнению Алданова, Толстой и сам прекрасно знал это, Алданов видит одно из значений «Войны и мира» в том, что в ней есть борьба Толстого против байроновского демона, борьба и за себя, как наследника Волконских, и вообще за всех, этому демону преданных: «Ах, душа моя, — говорит Пьеру князь Андрей накануне рокового для него дня Бородинской битвы, — последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла». Тут Алданов прав. Но ведь не «вкушать» ни князь Андрей, ни сам Толстой не могли. А это и вело и привело их обоих к «звездному небу».
XXI
«Восемьдесят тысяч верст вокруг самого себя». Нет, не только вокруг самого себя, но и вокруг всего на свете. И что же оказалось на свете? Кроме одного того, «чем люди живы», все оказалось «не то» и «не так», и настало одиночество, которого не бывает ни под землей, ни на дне морском, говоря его собственными страшными словами.
Молчи, скрывайся и таи И чувства и мечты свои, —не раз повторял он в последний год своей жизни.
Какие чувства и какие мечты? От всех чувств и от всех мечтаний осталось теперь, на исходе поганую плоть, ненавижу себя (телесного)… Всю ночь не спал. Сердце болит, не переставая. Молился, чтобы Он избавил меня от этой жизни… Отец, покори, изгони, уничтожь поганую плоть. Помоги, Отец!
Молитва — не просьба, любил он говорить. Но что же это, как не просьба? И сколько их, этих просьб, в его дневниках, особенно в дневнике 1910 года? И к кому они, эти просьбы? К какой-то «абстракции», каковой, по общему мнению, будто бы был для него бог? Но кто же молится абстракции? И можно ли иметь к абстракции живую, нежную, сыновнюю, радостно утешающую любовь, которая то и дело переполняла его душу в самые сокровенные и жуткие минуты ее?
— Лежал, засыпая; вдруг точно что-то оборвалось в сердце. Подумал: так приходит смерть от разрыва сердца, и остался спокоен, — ни огорченья, ни радости, но блаженно спокоен; здесь ли, там ли, — я знаю, что мне хорошо, — то, что должно, — как ребенок на руках матери, подкинувшей его, не перестает радостно улыбаться, зная, что он в ее любящих руках.
Князь Андрей спрашивает: «Чего ждать там, за гробом?»
Алданов, вспоминая этот вопрос, говорит, что Толстой отвечает на него так:
— Возвращения к Любви.
И это наводит Алданова на такие мысли:
— Одна из самых страшных фантазий Гойа изображает судорожно искривленную руку, протянутую из-под камня пустынной могилы, отчаянно цепляющуюся за что-то — за пустоту; подпись гласит одно слово: Nada. Ничто… Подпись, сделанная Толстым, — возвращение к Любви, — много ли она лучше, чем «Nada»? Может быть, «через двести — триста лет», как говорит Вершинин у Чехова, наступит черед «толстовства». А дальше? А дальше все равно все пожрет смерть…
Но, повторяю, как понимает Алданов толстовство? По Маклакову, «бог был для Толстого только непонятная начальная сила; бессмертие духа — простое признание факта, что наша духовная жизнь откуда-то появилась и, следовательно, куда-то уйдет; а ведь вера есть не столько знание истины, сколько преданность ей, и Толстой сам любил повторять эти слова Ивана Киреевского… Толстой пошел против церкви, отвергнув религиозное мировоззрение, и пошел против мира, отвергнув взгляды мира на жизнь…» Так, очевидно, думает и Алданов, хотя что же тогда оставляет он с Маклаковым Толстому? Толстой отверг мировоззрения и мира и религии? Но зачем же отвергать мировоззрения мира, если отвергнуто мировоззрение религиозное? «Толстой повторял слова Киреевского». Пусть повторял: духовно жил он все-таки в полной противоположности этим словам — именно «преданностью», а не «знанием», о чем сказал еще в «Исповеди», отвергнув «знание» в деле веры. Nada! Для ума, разумеется, Nada. Но люди находят спасение от смерти не умом, а чувством.
— Никто же да убоится смерти: свободи бо нас Спасова смерть…
— Смерти празднуем умерщвление… инаго жития вечнаго начала…
Так поет церковь, отвергнутая Толстым. Но песнопений веры (веры вообще) он не отвергал. Что освободило его? Пусть не «Спасова смерть». Все же «праздновал» он «Смерти умерщвление», чувство «инаго жития вечнаго» обрел. А ведь все в чувстве. Не чувствую этого «Ничто» — и спасен.
«В будущую жизнь он верил плохо», — говорит Алданов. И приводит его собственные слова: «Как-то спросил себя: верю ли я? И невольно ответил, что не верю в определенной форме…» Но ведь так говорил он только в те минуты, когда «спрашивал себя». Не эти минуты спасали его: спасали те, когда он не спрашивал.
Мой старый друг доктор И. Н. Альтшуллер пишет мне:
«Когда читал Ваши статьи о Толстом, вспомнил ночь в Крыму, на Гаспре, когда я один сидел около тяжко больного Льва Николаевича. Мы, врачи, тогда почти потеряли всякую надежду, и сам он, по-моему, убежден был в неизбежности конца. Он лежал, и, казалось, был в полузабытьи с очень высокой температурой, дышал очень поверхностно, и вдруг слабым голосом, но отчетливо произнес: „От тебя пришел, к тебе вернусь, прими меня, господи, — произнес так, как всякий просто верующий человек“».
Париж, 7.VII. 37
О Чехове
I
Мы сидели, как обычно, в кабинете Антона Павловича и почему-то заговорили о наших крестных отцах:
— Вас крестил генерал Сипягин, а вот меня купеческий брат Спиридон Титов. Слыхали такое звание?
— Нет.
И Антон Павлович протянул мне метрическое свидетельство. Я прочел и спросил:
— Можно переписать его?
— Пожалуйста.
«Запись в метрической книге Таганрогской соборной церкви:
„1860 года месяца Генваря 17-го дня рожден, а 27-го крещен Антоний; родители его: таганрогский купец третьей гильдии, Павел Георгиевич Чехов и законная жена его Евгения Яковлевна; восприемники: таганрогский купеческий брат Спиридон Титов и таганрогского третьей гильдии купца Дмитрия Сафьянополу жена“».
— Купеческий брат! Удивительное звание! — никогда не слыхал!
В метрическом свидетельстве указано, что Чехов родился 17 Генваря.
Между тем Антон Павлович в письме к сестре пишет (16 января 1899 г.):
«Сегодня день моего рождения, тридцать девять лет. Завтра именины, здешние барышни и барыни (которых зовут антоновками), пришлют и принесут подарки».
Разница в датах? Вероятно, ошибся дьякон.
Я спрашивал Евгению Яковлевну (мать Чехова) и Марью Павловну:
— Скажите, Антон Павлович плакал когда-нибудь?
— Никогда в жизни, — твердо отвечали обе.
Замечательно.
Чехов родился на берегу мелкого Азовского моря, в уездном городе, глухом в ту пору, и характер этой скучной страны немало, должно быть, способствовал развитию его прирожденной меланхолии. Печальная, безнадежная основа его характера происходила еще и от того, что в нем, как мне всегда казалось, было довольно много какой-то восточной наследственности, — сужу по лицам его простонародных родных, по их несколько косым и узким глазам и выдающимся скулам. И сам он делался с годами похож на них все больше и состарился душевно и телесно очень рано, как и подобает восточным людям. Чахотка чахоткой, но все же не одна она была причиной того, что, будучи всего сорока лет, он уже стал похож на очень пожилого монгола своим желтоватым, морщинистым лицом. А детство? Мещанская уездная бедность семьи, молчаливая, со сжатым ртом, с прямой удлиненной губой мать, «истовый и строгий» отец, заставлявший старших сыновей по ночам петь в церковном хоре, мучивший их спевками поздними вечерами, как какой-нибудь зверь; требовавший с самого нежного возраста, чтобы они сидели по очереди в качестве «хозяйского ока» в лавке. И чаще всего страдал Антоша, — наблюдательный отец сразу отметил его исполнительность и чаще других засаживал его за прилавок, когда нужно было куда-нибудь ему отлучиться. Единственное оправдание — если бы не было церковного хора, спевок, то и не было бы рассказов ни «Святой ночью», ни «Студента», ни «Святых гор», ни «Архиерея», не было бы, может быть, и «Убийства» без такого его тонкого знания церковных служб и простых верующих душ. Сидение же в лавке дало ему раннее знание людей, сделало его взрослей, так как лавка его отца была клубом таганрогских обывателей, окрестных мужиков и афонских монахов. Конечно, кроме лавки, помогло еще узнать людей и то, что он с шестнадцати лет жил среди чужих, зарабатывая себе на хлеб, а затем в Москве еще студентом много толкался в «мелкой прессе», где человеческие недостатки и даже пороки не очень скрываются. Он назвал рту среду «кичеевшиной», по фамилии Петра Кичеева, «типичного представителя продажной мелкой прессы». Помогла и профессия врача. Он чуть ли не с первых курсов стал летом работать в земских больницах в Новом Иерусалиме, в Воскресенске. Его брат, Иван Павлович, получил место учителя в церковно-приходской школе, квартира была из четырех комнат, и семья Чеховых на лето приезжала к нему.
Потом они снимали флигель на летние месяцы в Бабкине, имении Киселевых, с которыми они очень сдружились. Это — была уже подмосковная. Отец М. В. Киселевой, Бегичев, был директором Малого театра, а потому у Киселевых вечно бывали актеры, музыканты, певцы, художники. У них Чехов вошел вместе с Марьей Павловной, которая очень подружилась с М. В. Киселевой, в артистическую среду, часто много слушал там у них серьезную музыку.
При его восприимчивости и наблюдательности, семь лет в этих местах дали ему как писателю очень много. Ведь и «Унтер Пришибеев» оттуда, и «Дочь Альбиона», и «Егерь», и «Злоумышленник», и «Хирургия», и «Налим»…
И странно, как много дали его произведений подмосковные места, так ничего не дал Псел, где он прожил два лета восемьдесят восьмого, восемьдесят девятого, хотя восторгался этими местами выше меры, но в литературе его они не отразились.
Меня поражает, как он моложе тридцати лет мог написать «Скучную историю», «Княгиню», «На пути», «Холодную кровь», «Тину», «Хористку», «Тиф»… Кроме художественного таланта, изумляет во всех этих рассказах знание жизни, глубокое проникновение в человеческую душу в такие еще молодые годы. Конечно, работа врача ему очень много дала в этом отношении. Он всегда говорил мне и профессору Россолимо, что благодаря ей область его наблюдений расширилась и обогатила его знаниями, настоящую цену которых для него как писателя может понять только врач. «Знание медицины меня избавило от многих ошибок, которых не избег и сам Толстой, например, в „Крейцеровой сонате“».
И, конечно, если бы не туберкулез, он никогда бы медицины не бросил. Лечить он очень любил, звание врача ставил высоко, — недаром в паспорте Ольги Леонардовны он написал: «жена лекаря»…
Писание же в «Будильниках», «Зрителях», «Осколках», — научило его маленькому рассказу: извольте не переступить ста строк!
Меня научили краткости стихи.
У Чехова в характере все было от матери (азиатки). Одно наставительство от отца, взять хотя его некоторые письма к братьям.
Еще гимназистом он пишет младшему брату Мише по поводу того, что тот назвал себя «ничтожным и незаметным братишкой», когда Антоше было всего семнадцать лет, а Мише — двенадцать:
«Ничтожество свое сознаешь? Не всем, брат, Мишам надо быть одинаковыми. Ничтожество свое сознавай знаешь где? Перед богом, пожалуй, перед умом, красотой, природой, но не перед людьми, среди людей нужно сознавать свое достоинство. Ведь ты не мошенник, честный человек? Ну, и уважай в себе честного малого и знай, что честный малый не ничтожество. Не смешивай „смиряться“ с „сознанием своего ничтожества“».
Моим друзьям Елпатьевским Чехов не раз говорил:
— Я не грешен против четвертой заповеди…
И действительно, еще гимназистом в письме от 29 июля 1877 года Антоша писал своему двоюродному брату М. М. Чехову, которого называли Чохов, прототип Печаткина в повести «Три года». (Это он, ударяя по воздуху рукой, говорил «кроме» и заказывал в трактире так: «Принеси мне главного мастера клеветы и злословия с пюре». Оторопелый половой, подумав, догадался и принес порцию языка с пюре. И в этом есть что-то чеховское).
«Отец и мать единственные для меня люди на всем земном шаре, для которых я ничего никогда не пожалею. Если я буду высоко стоять, то это дело их рук, славные они люди, и одно безграничное их детолюбие ставит их выше всяких похвал, закрывает собой все их недостатки, которые могут появиться от плохой жизни, готовит им мягкий и короткий путь, в который они веруют и надеются так, как немногие».
С самых первых лет студенчества А. П. взял на свои плечи всю семью.
Со второго семестра первого курса он начал работать в юмористических журналах, куда его провел брат Александр, который еще в пору таганрогской жизни Антоши помещал его остроты в «Будильнике».
Чехов — редкий писатель, который начинал, не думая, что он будет не только большим писателем, а даже просто писателем. А ведь 6 августа 1883 года он послал в «Осколки» «Дочь Альбиона», рассказ совсем не юмористический…
Писать же приходилось вот при каких условиях: «хлопающая немилосердно по совести, а в соседней комнате отец читает матери вслух „Запечатленного ангела“… Кто-то завел шкатулку, и я слышу „Елену Прекрасную“… Хочется удрать на дачу, но уже час ночи… Для пишущего гнусней обстановки придумать трудно…»
И только с 1885 года, когда Чеховы переселились на Якиманку и А. П. стал врачом, у него оказалась отдельная комната, кабинет с камином.
Живость, работоспособность его поразительна, — ведь среди всех писаний он окончил самый трудный факультет.
Затем его замечательное письмо к старшему брату Александру от 20 февраля восемьдесят третьего года, где он пишет ему относительно его незаконного брака с его женой, которой тульская консистория после развода запретила вступать в брак. Отец к их незаконному сожительству относился отрицательно, Александр Павлович страдал.
«…Не знаю, что ты хочешь от отца? Враг он куренья табаку и незаконного сожительства — ты хочешь сделать его другим? С матерью и теткой можно проделать эту штуку, а с отцом нет. Он такой же кремень, как раскольники, ничем не хуже, и не сдвинешь его с места. Это его, пожалуй, и сила. Он, как бы сладко ты ни писал, вечно будет вздыхать, писать тебе одно и то же и, что хуже всего, страдать».
В конце письма прибавляет:
«…Я, каюсь, слишком нервен с семьей. Я вообще нервен. Груб, часто несправедлив…»
А каким он стал: он прежде всего воспитывал себя, а потом уже своих. И как многие, кто вспоминал и характеризовал его, неправильно понимали его характер. От природы он был вспыльчив, как он пишет в одном письме к Книппер.
Замечательно, как А.П., будучи двадцатишестилетним врачом, объясняет в письме брату Николаю, что такое воспитание. (Письмо помечено мартом 1886.)
«Воспитанные люди должны удовлетворять следующим условиям:
1. Они уважают человеческую личность, всегда снисходительны, мягки, вежливы, уступчивы…
2. Они уважают чужую собственность, а потому платят долги.
3. …Не лгут даже в пустяках… Они не лезут с откровенностями, когда их не спрашивают…
4. Они не уничижают себя с тою целью, чтобы вызвать в другом сочувствие…
5. Они не суетны. Их не занимает рукопожатие пьяного Плевако.
6. Если имеют в себе талант, то уважают его… Они жертвуют для него всем. Они брезгливы.
7. Они воспитывают в себе эстетику… Им нужна от женщины не постель… Им, особенно художникам, нужны свежесть, изящество, человечность, способность быть не …, а матерью…
…Тут нужны беспрерывные дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля… Тут дорог каждый час.
Брось я сейчас семью на произвол судьбы, я старался бы найти себе извинение в характере матери, в кровохарканье и проч.».
Да, это письмо интересно не только как назидательное, но из него можно понять, как А. П. сам себя воспитывал, как он был строг к себе.
В ноябре 1884 года он с помощью Лейкина устроился корреспондентом «Из зала суда» от «Петербургской газеты» по «Скопинскому делу». Отчеты его были блестящи, с художественными характеристиками. Мнения независимы, например, Плевако ему не понравился. Кончилось все печально — длительным кровохарканьем, к которому он отнесся легкомысленно, и в голову не пришло, что оно чахоточное.
В 1885 году поездка в Петербург. До этого времени из настоящих писателей он был знаком только с Лесковым, которого любил и который в Москве в 1883 году, когда они возвращались вместе откуда-то, где много пили, его «помазал, как Самуил Давида»…
Познакомился Чехов в Петербурге в этот приезд с Сувориным, Григоровичем и Бурениным.
Вернувшись в Москву, он переменил квартиру, — она оказалась сырой, и он побоялся, что опять будет кровохарканье, снял напротив прежней на той же Якиманке, квартира находилась под помещением, которое кухмистер сдавал под свадьбы и поминки. А. П. писал:
«В обед — поминки, ночью — свадьбы… смерть и зачатие».
Тысяча восемьсот восемьдесят шестого года 15 февраля под подписью А. Чехов появился впервые рассказ «Панихида» в «Новом времени».
Двадцать первого февраля — письмо от Суворина. Лейкин решил издать книгу его произведений под заглавием «Пестрые рассказы» (я эту книгу прочел в поезде, не отрываясь, купив ее в Ельце, на вокзале, в шестнадцать лет, и пришел в восторг. Виньетку для нее нарисовал Шехтель, друг Николая Чехова, в будущем известный архитектор. Я был знаком с ним, встречался у Марьи Павловны в Москве. Милый, талантливый толстяк).
В конце марта Чехов получил письмо от Григоровича, заставившее его задуматься о себе как о писателе.
Двадцатого марта восемьдесят шестого года Антон Павлович ответил ему:
«…Если у меня есть дар, который следует уважать, то, каюсь, перед чистотой Вашего сердца, я доселе не уважал его. Я чувствовал, что он у меня есть, но привык считать его ничтожным… Все мои близкие всегда относились снисходительно к моему авторству и не переставали дружески советовать мне не менять настоящее дело на бумагомарание… Не помню я ни одного рассказа, над которым я работал бы более суток, а „Егерь“, который вам понравился, я писал в купальне! Как репортеры пишут заметки о пожарах… машинально, полубессознательно, нимало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом». Кстати сказать, мне «Егерь» не нравится, — нахожу его слабым рассказом.
Далее Чехов признается, что «писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги и которые я, бог знает почему, берег и тщательно прятал».
«Первое, что толкнуло меня на самокритику, было очень любезное и, насколько я понимаю, искреннее письмо Суворина. Я начал собираться написать что-нибудь путевое, но все-таки веры в собственную литературную путевость у меня не было».
Удивительный был человек! Удивительный писатель! — прибавлю я.
В том же восемьдесят шестом году 26 октября в «Новом времени» была напечатана его повесть «Тина». Чехов послал ее своей близкой знакомой М. В. Киселевой, владетельнице Бабкина, где Чеховы проводили лето в восемьдесят пятом, восемьдесят шестом, восемьдесят седьмом годах.
Ответ он получил в конце года, возмущенный. Письмо полно негодования:
«…Присланный Вами фельетон мне совсем не нравится, хотя я убеждена, что к моему мнению присоединятся весьма и весьма немногие. Написан он хорошо, читающие мужчины пожалеют, что судьба не натолкнула их на подобную Сусанну, которая сумела бы распотешить их разнузданность, женщины втайне позавидуют ей, но большая часть публики прочтет с интересом и скажет: „Бойко пишет этот Чехов, молодец!“ Может быть, вас удовлетворяют 115 рублей и эти отзывы, но мне лично досадно, что писатель Вашего сорта[24], то есть не обделенный от бога, — показывает мне только одну „навозную кучу“. Грязью, негодяями, негодяйками кишит мир, и впечатления, производимые ими, не новы, но зато с какой благодарностью относишься к тому писателю, который, проведя Вас через всю вонь навозной кучи, вдруг вытащит оттуда жемчужное зерно, — зачем же тогда одна куча? Дайте мне зерно, чтобы в моей памяти стушевалась вся грязь обстановки, от Вас я вправе требовать этого, а других, не умеющих отстоять и найти человека между четвероногими животными, — я и читать не стану… Может быть, было бы лучше промолчать, но мне нестерпимо хотелось ругнуть Вас и Ваших мерзких редакторов, которые так равнодушно портят Ваш талант. Будь я редактором, — я, для Вашей же пользы, вырезала бы Ваш этот фельетон… фельетон Ваш все-таки препротивный. Предоставьте писать подобные (по содержанию!) разным нищим духом и обездоленным судьбою писакам: Окрейц, Альбову и тутти кванти бездарностям».
Только через три недели Чехов написал ответ:
«…У меня, и у Вас, и у критиков всего мира нет никаких прочных данных, чтобы иметь право отрицать эту литературу. Я не знаю, кто прав: Гомер, Шекспир, Лопе де Вега, вообще древние, не боявшиеся рыться в „навозной куче“, но бывшие гораздо устойчивее нас в нравственном отношении, или же современные писатели, чопорные на бумаге, но холодно-циничные в душе и в жизни? Я не знаю, у кого плохой вкус: у греков ли, которые не стыдились воспевать любовь такой, какова она есть на самом деле в прекрасной природе, или же у читателей Габорио, Марлитта, Пьера Бобо (П. Д. Боборыкина. — И. Б.)?.. Ссылка на Тургенева и Толстого, избегавших „навозную кучу“, не проясняет этого вопроса. Их брезгливость ничего не доказывает: ведь было же раньше их поколение писателей, считавших грязью не только „негодяев с негодяйками“, но даже описание мужиков и чиновников ниже титулярного… Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такою, какова она есть на самом деле. Ее назначение — правда безусловная и честная. Суживать ее функции такою специальностью, как добывание зерен, так же для нее смертельно, как если бы Вы заставили Левитана рисовать дерево, приказав ему не трогать грязной коры и пожелтевшей листвы… Для химиков нет ничего на земле нечистого. Литератор должен быть так же объективен, как химик; он должен отрешиться от житейской субъективности и знать, что навозные кучи в пейзаже играют очень почтенную роль, а злые страсти так же присущи жизни, как и добрые».
А М. В. Киселева была писательницей, дом их был культурный, у них бывали и художники, и музыканты, и актеры. Чехов любил эту семью, и они были дружны.
Через пятьдесят лет, после выхода в свет моих «Темных аллей», я получал подобные письма от подобных же Киселевых и приблизительно некоторым из них отвечал так же. Действительно, все повторяется.
II
Я познакомился с ним в Москве, в конце девяносто пятого года. Видались мы тогда мельком, и я не упомянул бы об этом, если бы мне не запомнилось несколько очень характерных фраз его.
— Вы много пишете? — спросил он меня однажды.
Я ответил, что мало.
— Напрасно, — почти угрюмо сказал он своим низким грудным баритоном.
— Нужно, знаете, работать… Не покладая рук… всю жизнь.
И, помолчав, без видимой связи прибавил:
— По-моему, написав рассказ, следует вычеркивать его начало и конец. Тут мы, беллетристы, больше всего врем…
После таких мимолетных встреч и случайных разговоров, в которых были затронуты любимые темы Чехова — о том, что надо работать, «не покладая рук» и быть в работе до аскетизма правдивым и простым, — мы не виделись до весны девяносто девятого года. Приехав на несколько дней в Ялту, я однажды вечером встретил Чехова на набережной.
— Почему не заходите ко мне? — сказал он. — Непременно приходите завтра.
— Когда? — спросил я.
— Утром, часу в восьмом.
И, вероятно, заметив на моем лице удивление, он пояснил:
— Мы встаем рано. А вы?
— Я тоже, — сказал я.
— Ну, так вот и приходите, как встанете. Будем пить кофе. Вы пьете кофе?
— Изредка пью.
— Пейте каждый день. Чудесная вещь. Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульоном. Утром — кофе, в полдень — бульон. А то плохо работается.
Я поблагодарил за приглашение, и мы молча прошли всю набережную и сели в сквере на скамью.
— Любите вы море? — сказал я.
— Да, — ответил он. — Только уж очень оно пустынно.
— Это-то и хорошо, — сказал я.
— Не знаю, — ответил он, глядя куда-то вдаль сквозь стекла пенсне и, очевидно, думая о чем-то своем. — По-моему, хорошо быть офицером, молодым студентом… Сидеть где-нибудь в людном месте, слушать веселую музыку…
И, по своей манере, помолчал и без видимой связи прибавил:
— Очень трудно описывать море. Знаете, какое описание моря читал я недавно в одной ученической тетрадке? «Море было большое». И только. По-моему, чудесно.
Может быть, это покажется кому-нибудь манерностью? Но — Чехов и манерность! Поставить рядом эти два слова могут только те, которые не имеют никакого понятия о Чехове. «Скажу прямо, — говорит один из хорошо знавших Чехова, — я встречал людей не менее искренних, чем Чехов, но людей до такой степени простых, чуждых всякой фразы и аффектировки, я не помню». Да, он любил только искреннее, органическое, — если только оно не было грубо и косно, — и положительно не выносил фразеров, книжников и фарисеев, особенно тех из них, которые настолько вошли в свои роли, что роли стали их вторыми натурами. В своих работах он почти никогда не говорил о себе, о своих вкусах, о своих взглядах, что и повело, кстати сказать, к тому, что его долго считали человеком беспринципным, необщественным. В жизни он также никогда не носился со своим «я», очень редко говорил о своих симпатиях и антипатиях: «Я люблю то-то…», «Я не выношу того-то…», это не чеховские фразы. Но симпатии и антипатии его были чрезвычайно устойчивы и определенны, и среди его симпатий одно из первых мест занимала именно естественность. «Море было большое…» Ему, с его постоянной жаждой наивысшей простоты, с его отвращением ко всему вычурному, напряженному, казалось это «чудесным». А в его словах об офицере и музыке сказалась другая его особенность: сдержанность. Неожиданный переход от моря к офицеру, несомненно, вызван был его затаенной грустью о молодости, о здоровье. Море пустынно… А он любил жизнь, радость, и за последние годы эта жажда радости, хотя бы самой простой, самой обыденной, особенно часто сказывалась в его разговоре. Но именно только сказывалась.
Слова за последнее время стали очень дешевы. И хорошие и дурные слова произносятся теперь с удивительной легкостью и лживостью. Но, кажется, чаще всего так говорят об умерших. Очень много легкости, лжи, неточностей, а порой — просто скудоумия можно встретить и в воспоминаниях о Чехове. Пишут, например, что Чехов поехал на Сахалин затем, чтобы поддержать репутацию «серьезного» человека, и в дороге так простудился, что нажил чахотку… Пишут, что смерть Чехова была ускорена постановкой «Вишневого сада»; накануне спектакля Чехов будто бы так волновался, так боялся, что его пьеса не понравится, что всю ночь бредил… Все это сущий вздор. На Сахалин Чехов поехал потому, что его интересовал Сахалин, и еще потому, что в путешествии он хотел встряхнуться после смерти брата Николая, талантливого художника. И чахотку он нажил не в Сибири, — а уже в 1884 году у него было кровохарканье в декабре после «Скопинского дела» — хотя, несомненно, что ездить ему не следовало: взять хотя бы этот страшно тяжелый двухмесячный путь на перекладных, ранней весной, в дождь и в холод, почти без сна и положительно на пище св. Антония, из-за дикости сибирских трактов! А что до волнений о «Вишневом саде»… Пишущие, конечно, очень чувствительны к тому, что говорят о них, и много, много в пишущих чувствительности жалкой, мелкой, неврастенической. Но как все это далеко от такого большого и сильного человека, как Чехов! Ибо кто с таким мужеством следовал велениям своего сердца, а не велениям толпы, как он? Кто умел так, как он, скрывать ту острую боль, которую причиняет человеческому уму человеческая глупость? Известен только один вечер, когда Чехов был явно потрясен неуспехом, — вечер постановки «Чайки» в Петербурге. Но с тех пор много воды утекло… Да и кто мог знать, волнуется он или нет? Того, что совершалось в глубине его души, никогда не знали во всей полноте даже самые близкие ему люди. А что же сказать о посторонних и особенно о тех нечутких и неумных, к откровенности с которыми Чехов был органически не способен?
Мальчиком Чехов был, по словам его школьного товарища Сергеенко, «вялым увальнем с лунообразным лицом». Я, судя по портретам и по рассказам родных Чехова, представляю его себе иначе. И лицо у него было не «лунообразное», а просто — большое, очень умное и очень спокойное. Вот это-то спокойствие и дало, вероятно, повод считать мальчика Чехова «увальнем», — спокойствие, а отнюдь не вялость, которой у Чехова никогда не было — даже в последние годы. Но и спокойствие это было, мне кажется, особенное — спокойствие мальчика, в котором зрели большие силы, редкая наблюдательность и редкий юмор. Да и как, в противном случае, согласовать слова Сергеенко с рассказами матери и братьев Чехова о том, что в детстве «Антоша» был неистощим на выдумки, которые заставляли хохотать до слез даже сурового в ту пору Павла Егоровича! В юности, — в те счастливые дни, когда ему доставляло наслаждение проектировать такие произведения, как «Искусственное разведение ежей, — руководство для сельских хозяев», — это спокойствие как бы потонуло в пышном расцвете прирожденной Чехову жизнерадостности, — все, кто звали его в эту пору, говорят о неотразимом очаровании его веселости, красоты его открытого, простого лица и его лучистых глаз. Но годы шли, дух и мысль становились глубже и прозорливее — и Чехов снова овладел собою. Это было время, когда он, смело отдав дань молодости, первым непосредственным проявлениям своей богатой натуры, уже приступил к суровому в своей художественной неподкупности изображению действительности. И мои первые встречи с ним относятся именно к этому времени.
В Москве, в девяносто пятом году, я увидел человека средних лет, в пенсне, одетого просто и приятно, довольно высокого, очень стройного и очень легкого в движениях. Встретил он меня приветливо, но так просто, что я, — тогда еще юноша, не привыкший к такому тону при первых встречах, — принял эту простоту за холодность. В Ялте я нашел его сильно изменившимся: он похудел, потемнел в лице; во всем его облике по-прежнему сквозило присущее ему изящество, — однако это было изящество уже не молодого, а много пережившего и еще более облагороженного пережитым человека. И голос его звучал уже мягче… Но в общем он был почти тот же, что в Москве: приветлив, но сдержан, говорил довольно оживленно, но еще более просто и кратко, и во время разговора все думал о чем-то своем, предоставляя собеседнику самому улавливать переходы в скрытом течении своих мыслей, я все глядел на море сквозь стекла пенсне, слегка приподняв лицо… На другое утро, после встречи на набережной, я поехал к нему на дачу. Ясно помню это веселое солнечное утро, которое мы провели с Чеховым в его садике. Он был очень оживлен, много шутил и, между прочим, прочитал мне единственное, как он говорил, стихотворение, написанное им, «Зайцы и китайцы, басня для детей». И с тех пор я начал бывать у него все чаще и чаще, а потом стал и совсем своим человеком в его доме. Сообразно с этим, конечно, изменилось и отношение ко мне Чехова. Оно стало оживленнее, сердечнее… Но сдержанность осталась; и проявлялась она не только в обращении со мной, но и с людьми, самыми близкими ему, и означала она, как я убедился потом, не равнодушие, а нечто гораздо большее…
Белая каменная дача в Аутке, под южным солнцем и синим небом; ее маленький садик, который с такой заботливостью разводил Чехов, всегда любивший цветы, деревья и животных; его кабинет, украшением которого служили только две-три картины Левитана да огромное полукруглое окно, открывавшее вид на утонувшую в садах долину реки Учан-Су и синий треугольник моря; те часы, дни, иногда даже месяцы, которые я проводил в этой даче, и то сознание близости к человеку, который пленял меня не только своим умом и талантом, но даже своим суровым голосом и своей детской улыбкой, — останутся навсегда одним из самых лучших воспоминаний моей жизни. Был и он настроен ко мне дружески, иногда почти нежно. Но та сдержанность, о которой я упомянул, не покидала его даже в самые задушевные минуты наших разговоров. И она была во всем.
Он любил смех, но смеялся своим милым, заразительным смехом только тогда, когда кто-нибудь другой рассказывал что-нибудь смешное: сам он говорил самые смешные вещи без малейшей улыбки. Он очень любил шутки, нелепые прозвища, мистификации; в последние годы, как только ему хоть ненадолго становилось лучше, он был неистощим на них; но каким тонким комизмом вызывал он неудержимый смех! Бросит два-три слова, лукаво блеснет глазом поверх пенсне… А его письма! Сколько милых шуток было в них всегда, при их совершенно спокойной форме! «Милый Иван Алексеевич, стало быть, позвольте на Страстной ждать Вас. Непременно обязательно приезжайте, у нас будет очень много закусок, к тому же в Ялте такая теплынь теперь, столько цветов! Приезжайте, сделайте милость! Жениться я раздумал, не желаю, но все же, если Вам покажется скучно, то я, так и быть уж, пожалуй, женюсь…» (25 марта 1901 г.). «Дорогой Иван Алексеевич, завтра я уезжаю в Ялту, куда и прошу написать мне поздравление с законным браком… Желаю Вам всего хорошего-с, будьте здоровы-с. Ваш А. Чехов, аутский мещанин» (30 июня 1901 г.).
Но сдержанность Чехова сказывалась и во многом другом, более важном, свидетельствуя о редкой силе его натуры. Кто, например, слышал от него жалобы? А причин для жалоб было много. Он начал работать в большой семье, терпевшей в ту пору его молодости нужду, и работал мало того, что за гроши, но еще и в обстановке, способной угасить самое пылкое вдохновение: в маленькой квартирке, среди говора и шума, часто на краешке стола, вокруг которого сидела не только вся семья, но еще несколько человек гостей-студентов. Он долго нуждался и потом… Но никто и никогда не слыхал от него сетований на судьбу, и это вытекало не из скрытности его характера и не из ограниченности его потребностей: будучи на редкость благородно-скромным в своем образе жизни, он в то же время прямо-таки ненавидел серую, скудную жизнь… Он пятнадцать лет был болен изнурительной болезнью, которая неуклонно вела его к смерти; но знал ли это читатель, — русский читатель, который слышал столько горьких писательских воплей? Больные любят свое привилегированное положение: часто самые сильные из них почти с наслаждением терзают окружающих злыми, горькими, непрестанными разговорами о своей болезни; но поистине было изумительно то мужество, с которым болен и умер Чехов! Даже в дни его самых тяжелых страданий часто никто не подозревал о них.
— Тебе нездоровится, Антоша? — спросит его мать или сестра, видя, что он сидит в кресле с закрытыми глазами.
— Мне? — спокойно ответит он, открывая глаза, такие ясные и кроткие без пенсне. — Нет, ничего. Голова болит немного.
Он горячо любил литературу, и говорить о писателях, восхищаться Мопассаном, Флобером или Толстым, — было для него наслаждением. Особенно часто он с восторгом говорил именно о них да еще о «Тамани» Лермонтова.
— Не могу понять, — говорил он, — как мог он, будучи мальчиком, сделать это! Вот бы написать такую вещь да еще водевиль хороший, тогда бы и умереть можно!
Но его разговоры о литературе были совсем непохожи на те обычные профессиональные разговоры, которые так неприятны своей кружковой узостью, мелочностью своих чисто практических и чаще всего — личных интересов. Будучи прежде всего литератором, Чехов, однако, настолько резко отличался от большинства пишущих, что к нему даже не шло слово «литератор», как не идет оно, например, к Толстому. И поэтому разговоры о литературе Чехов заводил только тогда, когда знал, что его собеседник любит в литературе прежде всего искусство, бескорыстное и свободное.
— Никому не следует читать своих вещей до напечатания, — говорил он нередко. — А главное, никогда не следует слушать ничьих советов. Ошибся, соврал — пусть и ошибка будет принадлежать только тебе. После тех высоких требований, которые поставил своим мастерством Мопассан, трудно работать, но работать все же надо, особенно нам, русским, и в работе надо быть смелым. Есть большие собаки и есть маленькие собаки, но маленькие не должны смущаться существованием больших: все обязаны лаять — и лаять тем голосом, какой господь бог дал.
Все, что совершалось в литературном мире, было очень близко его сердцу, и много волнений пережил он среди той глупости, лжи, манерности и фокусничества, которые столь пышно цветут теперь в литературе. Но никогда я не замечал в его волнениях мелочной раздражительности, и никогда не примешивал он к ним личных чувств. Почти про всех умерших писателей говорят, что они радовались чужому успеху, что они были чужды самолюбия, и поэтому, если бы у меня была хоть тень сомнения относительно писательского самолюбия Чехова, я совсем не затронул бы вопроса о самолюбиях. Но он действительно радовался от всего сердца всякому таланту, и не мог не радоваться: слово «бездарность» было, кажется, наивысшей бранью в его устах. К своим же успехам и неуспехам он относился так, как мог относиться только он один.
Он работал почти двадцать пять лет, и сколько плоских и грубых упреков выслушал он за это время! Один из самых величайших и деликатнейших русских поэтов, он никогда не говорил языком проповедника. А можно ли при этом рассчитывать на понимание и благосклонность критики в России? Ведь требовали же от Левитана, чтобы он «оживил» пейзаж… подрисовал коровку, гусей или женскую фигуру! И, конечно, не сладко было Чехову иметь таких критиков, и много горечи они влили в его душу, и без того отравленную русской жизнью. И горечь эта сказывалась, но опять-таки только сказывалась.
— Да, Антон Павлович, вот скоро и юбилей ваш будем праздновать!
— Знаю-с я эти юбилеи. Бранят человека двадцать пять лет на все корки, а потом дарят гусиное перо из алюминия и целый день несут над ним, со слезами и поцелуями, восторженную ахинею!
И чаще всего на разговоры о его славе и о том, что о нем пишут, он отвечал именно так — двумя-тремя словами или шуткой.
— Читали, Антон Павлович? — скажешь ему, увидав где-нибудь статью о нем.
А он только покосится поверх пенсне и, вытянув лицо, ответит своим грудным басом:
— Покорно вас благодарю! Напишут о ком-нибудь тысячу строк, а внизу прибавят: «…а то вот еще есть писатель Чехов: нытик…» А какой я нытик? Какой я «хмурый человек», какая я «холодная кровь», как называют меня критики? Какой я «пессимист»? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ — «Студент»… И слово-то противное: «пессимист»… Нет, критики еще хуже, чем актеры. А ведь, знаете, актеры на целых семьдесят пять лет отстали в развитии от русского общества.
И порою прибавит:
— Когда вас, милостивый государь, где-нибудь бранят, вы почаще вспоминайте нас, грешных: нас, как в бурсе, критики драли за малейшую провинность. Мне один критик пророчил, что я умру под забором: я представлялся ему молодым человеком, выгнанным из гимназии за пьянство.
Злым Чехова я никогда не видал; раздражался он редко, а если и раздражался, то изумительно умел владеть собой. Но и холодным я его не видал. Холоден он бывал, по его словам, только за работой, к которой он приступал всегда уже после того, как мысль и образы его будущего произведения становились ему совершенно ясны, и которую он исполнял почти всегда без перерывов, неукоснительно доводя до конца.
— Садиться писать нужно тогда, когда чувствуешь себя холодным, как лед, — сказал он однажды.
Но, конечно, это была совсем особая холодность. Ибо много ли среди русских писателей найдется таких, у которых душевная чуткость и сила восприимчивости были бы сложнее, больше чеховских?
Чтобы эта сложная и глубокая душа стала ясна, нужно, чтобы какой-нибудь очень большой и очень разносторонний человек написал книгу жизни и творчества этого «несравненного», по выражению Толстого, художника. Я же всей душой свидетельствую пока одно: это был человек редкого душевного благородства, воспитанности и изящества в самом лучшем значении этих слов, мягкости и деликатности при необыкновенной искренности и простоте, чуткости и нежности при редкой правдивости.
Быть правдивым и естественным, оставаясь в то же время пленительным, — это значит быть необыкновенной по красоте, цельности и силе натурой. И так часто говорил я здесь о спокойствии Чехова именно потому, что его спокойствие кажется мне свидетельствующим о редкой силе его натуры. Оно, я думаю, не покидало его даже в дни самого яркого расцвета его жизнерадостности, и, может быть, именно оно дало ему в молодости возможность не склониться ни перед чьим влиянием и начать работать так беспритязательно и в то же время так смело, «без всяких контрактов с своей совестью» и с таким неподражаемым мастерством.
Помните слова старого профессора в «Скучной истории»?
«Я не скажу, чтобы французские книжки были и умны, и талантливы, и благородны: но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества — чувство личной свободы…»
И вот этим-то чувством личной свободы и отличался Чехов, не терпевший, чтобы и других лишали ее, и становившийся даже резким и прямолинейным, когда видел, что на нее посягали.
Как известно, эта «свобода» не прошла ему даром, но Чехов был не из тех, у которых две души: одна для себя, другая — для публики. Успех, который он имел, очень долго, до смешного, не соответствовал его заслугам. Но сделал ли он за всю жизнь хоть малейшее усилие для того, чтобы увеличить свою популярность? Он буквально с болью и отвращением смотрел на все те приемы, какие нередко пускаются теперь в ход для приобретения успеха.
— А вы думаете, что они — писатели! Они — извозчики! — говорил он с горечью.
И его нежелание выставлять себя на вид доходило порой до крайностей.
«Публикует „Скорпион“ о своей книге неряшливо, — писал он мне после выхода первой книги „Северных цветов“. — Выставляет меня первым, и я, прочитав это объявление в „Русских ведомостях“, дал себе клятву больше уже никогда не ведаться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами».
Это было зимой 1900 года, когда Чехов, заинтересовавшись кое-какими черточками в деятельности только что организованного тогда издательства «Скорпион», дал, по моему настоянию, в альманах этого книгоиздательства один из своих юношеских рассказов: «В море». Впоследствии он не раз раскаивался в этом.
— Нет, все это новое московское искусство — вздор, — говорил он. — Помню, в Таганроге я видел вывеску: «Заведение искусственных минеральных вод». Вот и это то же самое. Ново только то, что талантливо. Что талантливо, то ново.
А его сдержанность проистекала из великого аристократизма его духа и из его неустанного стремления быть точным в каждом своем слове. Придет время, когда поймут как следует и то, что это был не только «несравненный» художник, не только изумительный мастер слова, но и несравненный поэт… Только когда придет оно? Еще не скоро разгадают во всей полноте его тонкую и целомудренную поэзию, его силу и нежность.
«Здравствуйте, милый Иван Алексеевич! — писал он мне в Ниццу. — С Новым годом, с новым счастьем! Письмо Ваше получил, спасибо. У нас в Москве все благополучно, нового (кроме Нового года) ничего нет и не предвидится, пьеса моя еще не шла, и когда пойдет — неизвестно… Очень возможно, что в феврале я приеду в Ниццу… Поклонитесь от меня милому теплому солнцу, тихому морю. Живите в свое полное удовольствие, утешайтесь, не думайте о болезнях и пишите почаще Вашим друзьям… Будьте здоровы, веселы, счастливы и не забывайте бурных северных компатриотов, страдающих несварением и дурным расположением духа. Целую Вас и обнимаю. Ваш А. Чехов» (8 января 1904 г.).
«Поклонитесь от меня милому теплому солнцу, тихому морю…» Такие слова я слышал от него редко. Очень часто я скорее чувствовал, что он должен произнести их, и это были минуты, в которые мне было очень больно.
Помню одну ночь ранней весной. Было уже поздно; вдруг меня зовут к телефону. Подхожу и слышу бас Чехова:
— Милсдарь, возьмите хорошего извозчика и заезжайте за мной. Поедемте кататься.
— Кататься? Ночью? — удивился я. — Что с вами, Антон Павлович?
— Влюблен.
— Это хорошо, но уже десятый час… И потом — вы можете простудиться…
— Молодой человек, не рассуждать-с!
Через десять минут я был уже в Аутке. В доме, где зимой Чехов жил только с матерью, была, как всегда, мертвая тишина и темнота, только из комнаты Евгении Яковлевны пробивался сквозь дверную щель свет, да тускло горели две свечечки в кабинете, теряясь в полумраке. И как всегда, у меня сжалось сердце при виде этого тихого кабинета, где для Чехова протекло столько одиноких зимних вечеров, полных, может быть, горьких Дум о судьбе, так одарившей его и так посмеявшейся над ним.
— Какая ночь! — сказал он мне с необычной даже для него мягкостью и какой-то грустной радостью, встречая меня на пороге кабинета. — А дома — такая скука! Только и радости, что затрещит телефон, да Софья Павловна спросит, что я делаю, а я отвечу: мышей ловлю. Поедемте в Орианду. Простужусь — наплевать!
Ночь была теплая, тихая, с ясным месяцем, с легкими белыми облаками, с редкими лучистыми звездами в голубом глубоком небе. Экипаж мягко катился по белому шоссе, мы молчали, глядя на блестевшую тусклым золотом равнину моря. А потом пошел лес с легкими узорами теней, похожими на паутину, но уже по-весеннему нежный, красивый и задумчивый. Потом зачернели толпы кипарисов, возносившихся к лучистым звездам. И когда мы оставили экипаж и тихо пошли под ними, мимо голубовато-бледных в лунном свете развалин дворца, Чехов внезапно сказал мне:
— Знаете, сколько лет еще будут читать меня? Семь.
— Почему семь? — спросил я.
— Ну, семь с половиной.
— Нет, — сказал я. — Поэзия живет долго, и чем дальше, тем сильнее.
Он ничего не ответил, но, когда мы сели где-то на скамью, с которой снова открылся вид на блестящее в месячном свете море, он скинул пенсне и, поглядев на меня добрыми и усталыми глазами, сказал:
— Поэтами, милостивый государь, считаются только те, которые употребляют такие слова, как «серебристая даль», «аккорд» или «на бой, на бой, в борьбу со тьмой!».
— Вы грустны сегодня, Антон Павлович, — сказал я, глядя на его простое, доброе и прекрасное лицо, слегка бледное от лунного света.
Опустив глаза, он задумчиво копал концом палки мелкие камешки, но когда я сказал, что он грустен, он шутливо покосился на меня.
— Это вы грустны, — ответил он. — И грустны оттого, что потратились на извозчика.
А потом серьезно прибавил:
— Читать же меня будут все-таки только семь лет, а жить мне осталось и того меньше: шесть. Не говорите только об этом одесским репортерам.
На этот раз он ошибся: он прожил меньше.
Умер он спокойно, без страданий, среди тишины и красоты летнего рассвета, который так любил всегда. И когда умер, «выражение счастья появилось на его сразу помолодевшем лице…».
III
Весною 1900 года, когда в Крыму играл Художественный театр, я тоже приехал в Ялту. Встретился тут с Маминым-Сибиряком, Станюковичем, Горьким, Телешовым, Куприным. Привезены были четыре пьесы: «Чайка», «Дядя Ваня», «Одинокие» Гауптмана и «Гедда Габлер» Ибсена. Спектакли шли сначала в Севастополе, потом в Ялте.
Все были оживлены, возбуждены, Чехов чувствовал себя сравнительно хорошо. Мы с утра отправлялись в городской театр, ходили по сцене, где шли усиленные приготовления к спектаклю, а затем всей компанией направлялись к Чехову, где проводили почти все свободное время.
Чехов в те дни увлекался «Одинокими», много об этом говорил, считал, что Художественный театр должен держаться подобных пьес.
Станиславский вспоминает об этих днях: «Приезжали и уезжали. Кончался один завтрак, подавался другой, Марья Павловна разрывалась на части, а Ольга Леонардовна, как верная подруга или как будущая хозяйка дома, с засученными рукавами деятельно помогала по хозяйству.
В одном углу литературный спор, в саду, как школьники, занимались тем, кто дальше бросит камень, в третьей кучке И. А. Бунин с необыкновенным талантом представляет что-то, а там, где Бунин, непременно стоит и Антон Павлович и хохочет, помирая от смеха. Никто так не умел смешить Антона Павловича, как И. А. Бунин, когда он был в хорошем настроении.
Горький со своими рассказами о его скитальческой жизни, Мамин-Сибиряк с необыкновенно смелым юмором, доходящим временами до буффонады, Бунин с изящной шуткой, Антон Павлович со своими неожиданными репликами, Москвин с меткими остротами — все это делало одну атмосферу, соединяло всех в одну семью художников. У всех рождалась мысль, что все должны собираться в Ялте, говорили даже об устройстве квартир для этого. Словом — весна, море, веселье, молодость, поэзия, искусство — вот атмосфера, в которой мы в то время находились».
— Мало ли о чем мечтают русские люди, когда им хорошо, — прибавлю я.
И вот среди всего этого оживления подошел ко мне известный в Москве адвокат, Иван Николаевич Сахаров, один из тех, кто всегда вертится около актеров, писателей, художников, и сказал:
— Иван Алексеевич, уезжайте отсюда…
— Почему? — удивился я.
— Вам, конечно, очень тяжело здесь среди таких знаменитостей, как Горький, например…
— Нисколько, — сказал я сухо, — у меня иной путь, чем у Горького, буду академиком… и неизвестно, кто кого переживет…
Он с глупой улыбкой, пожав плечами, отошел. Я же продолжал бывать и в театре, и у Чеховых.
Прощальный завтрак давала на широкой крыше дома Фанни Карловна Татаринова, пригласившая на него всех артистов, писателей и друзей театра. Было шумно, оживленно, многолюдно. Вот тут-то и поднялся разговор об устройстве квартир для таких приездов.
Начался разъезд. Уехал и я.
После избрания меня почетным академиком в 1909 году Сахаров, встретившись со мной в Литературном кружке, напомнил мне с нескрываемым удивлением наш разговор в Крыму…
В конце 1900 года я вернулся из заграничной поездки с Куровским в Одессу и вскоре отправился в Ялту. Антона Павловича не было, он проводил зиму в Ницце, Марья Павловна пригласила меня жить у них «до возвращения Антоши». Я согласился, некоторое время мы жили втроем, а потом я остался вдвоем с Евгенией Яковлевной. Теперь я из письма Чехова к матери узнал, что Антон Павлович был доволен, что я гощу у них.
Жить в аутской даче мне было приятно. Пробовал писать, делал заметки о нашем с Куровским путешествии. Много читал. Подолгу вел разговоры с матерью Чехова.
С Марьей Павловной мы иногда откровенно беседовали. Она, добродушно хохоча, много рассказывала о Левитане, который называл ее Ma-Па, хорошо его изображала: он как-то пришепетывал. Рассказывала и о Бабкине, где Левитан тоже проводил свое летнее время, о его психических недомоганиях. Вот в эти-то дни она и сообщила мне об увлечении Антона Павловича Ликой. Теперь, когда для меня многое выяснилось, я понимаю, что никакого увлечения Ликой (Лидией Стахиевной Мизиновой) у Антона Павловича не было. Она была влюблена в него. Он это видел. Ему же не нравился ее характер, о чем он писал сестре, писал, что у нее нет вкуса. При взаимной любви этого не бывает. А о том, что она была задета Чеховым, можно понять из ее письма, где она объясняет Чехову свое увлечение Потапенкой: «А причина этому Вы…»
Ездили мы с Марьей Павловной на водопад Учан-Су, в Гурзуф.
Она мне рассказала, что из-за брата не вышла замуж.
— Когда мне было сделано предложение, — добавила Марья Павловна, — я сказала об этом Антоше. Он сдержанно поздравил меня, но по лицу я поняла, что ему тяжело… и отказала.
Да, в январе 1901 года я все еще жил у Чеховых. Сохранилась у меня даже запись тех времен:
Крым, зима 1901 года на даче Чехова.
Чайки как картонные, как яичная скорлупа, как поплавки, возле клонящейся лодки. Пена как шампанское.
Провалы в облаках — там какая-то дивная неземная страна. Скалы известково-серые, как птичий помет. Бакланы. Су-ук-Су. Кучукой. Шум внизу, солнечное поле в море, собака пустынно лает. Море серо-лиловое, зеркальное, очень высоко поднимающееся. Крупа, находят облака.
Красавица Березина (!).
Тридцать первого января было первое представление «Трех сестер», конечно, Марья Павловна и «мамаша», как мы все звали Евгению Яковлевну, очень волнуются. К Синани должна была прийти телеграмма из театра. Их слуга Арсений посылается к Синани. Марья Павловна просит из города позвонить по телефону.
Минут через двадцать Арсений взволнованным голосом сообщает:
— Успех аграмадный…
Собрались гости: местная начальница гимназии В. К. Харкевич, С. П. Бонье, Средины; конечно, выпили по этому случаю.
В начале февраля Марья Павловна уехала в Москву, а я остался до приезда Антона Павловича с мамашей, с которой у меня была большая дружба и которая мне много рассказывала об Антоше.
В каждом ее слове чувствовалось обожание.
В середине февраля, — как я теперь вижу по письмам, — Антон Павлович вернулся домой. Я переехал в гостиницу «Ялта», пережил очень неприятную ночь, — рядом в номере лежала покойница… Чехов, поняв, что я перечувствовал за эту ночь, слегка надо мной подшучивал…
Он настаивал, чтобы я бывал у него ежедневно с самого утра. И в эти дни мы особенно сблизились, хотя и не переходили какой-то черты, — оба были сдержанны, но уже крепко любили друг друга. У меня ни с кем из писателей не было таких отношений, как с Чеховым. За все время ни разу ни малейшей неприязни. Он был неизменно со мной сдержанно нежен, приветлив, заботился как старший, — я почти на одиннадцать лет моложе его, — но в то же время никогда не давал чувствовать свое превосходство и всегда любил мое общество, — теперь я могу это сказать, так как это подтверждается его письмами к близким: «Бунин уехал, и я — один…»
По утрам пили чудный кофе. Потом сидели в садике, где он всегда что-нибудь делал в цветнике, или около плодовых деревьев. Шли разговоры о деревне, я представлял в лицах мужиков, помещиков, рассказывал о жизни своей в Полтаве, об увлечении толстовством, а он о жизни на Луге в имении Линтваревых; оба мы восхищались Малороссией (тогда так называлась Украина). Мы оба бывали в Святогорском монастыре, в гоголевских местах.
Наедине со мной он часто смеялся своим заразительным смехом, любил шутить, выдумывать разные разности, нелепые прозвища; как только ему становилось лучше, он был неистощим на все это.
Иногда мы выдумывали вместе рассказы: то о захудалом чиновнике-деспоте, а то чувствительную повесть с героинями по имени Ирландия, Австралия, Невралгия, Истерия — все в таком роде, — блеска у него было много. Иногда я представлял пьяного. На карточке любительской, — не помню, кем снятой, — в его кабинете мы сидим — он в кресле, а я на ручке кресла, — у него смеющееся лицо, у меня злое, осовелое, — я изображаю пьяного.
Иногда я читал ему его старые рассказы. Он как раз готовил их к изданию, и я часто видел, как он, перемарывая рассказ, чуть не заново его писал.
Как-то я выбрал и начал вслух читать его давнишний рассказ, написанный в 1886 году, «Ворона».
Сначала Антон Павлович хмурился, но, по мере того как развивалось действие, делался все благодушнее, понемногу стал улыбаться, смеяться. Правда, пьяных я умел изображать.
Иногда мы сидели и молчали, просматривая газеты и журналы. Смеялись и над некоторыми рецензиями о его рассказах, а особенно о моих. Критики еще боялись высказывать обо мне мнение, старались найти, кому я подражаю. Случалось, что во мне находили «чеховское настроение». Оживляясь, даже волнуясь, он восклицал с мягкой горячностью:
— Ах, как это глупо! Ах, как глупо! И меня допекали «тургеневскими нотами». Мы похожи с вами, как борзая на гончую. Вы, например, гораздо резче меня. Вы вон пишете: «Море пахнет арбузом…» Это чудесно, но я бы так не сказал. Вот про курсистку — другое дело…
— Про какую курсистку?
— А помните, мы с вами выдумывали рассказ: жара, степь за Харьковом, идет длиннейший поезд… А вы прибавили: курсистка в кожаном поясе стоит у окна вагона третьего класса и вытряхивает из чайника мокрый чай. Чай летит по ветру в лицо толстому господину, высунувшемуся из окна…
В другой раз в сумерках я читал ему «Гусева», дико хвалил его, считая, что «Гусев» первоклассно хорош, он был взволнован, молчал. Я еще раз про себя прочел последний абзац этого рассказа:
«А наверху в это время, где заходит солнце, скучиваются облака; одно облако похоже на триумфальную арку, другое на льва, третье на ножницы»… — как он любит облака сравнивать с предметами, — мелькнуло у меня в уме. — «Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой середины неба; немного погодя рядом с этим ложится золотой, потом розовый… Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке назвать трудно».
«Увижу ли я когда-нибудь его? — подумал я. — Индийский океан привлекал меня с детства…» — И неожиданно глухой тихий голос:
— Знаете, я женюсь…
И сразу стал шутить, что лучше жениться на немке, чем на русской, она аккуратнее, и ребенок не будет по дому ползать и бить в медный таз ложкой…
Я, конечно, уже знал о его романе с Ольгой Леонардовной Книппер, но не был уверен, что он окончится браком. Я был уже в приятельских отношениях с Ольгой Леонардовной и понимал, что она совершенно из другой среды, чем Чеховы. Понимал, что Марье Павловне нелегко будет, когда хозяйкой станет она. Правда, Ольга Леонардовна — актриса, едва ли оставит сцену, но все же многое должно измениться. Возникнут тяжелые отношения между сестрой и женой, и все это будет отзываться на здоровье Антона Павловича, который, конечно, как в таких случаях бывает, будет остро страдать то за ту, то за другую, а то и за обеих вместе. И я подумал: «Да это самоубийство! хуже Сахалина», — но промолчал, конечно.
За обедом и ужином он ел мало, почти всегда вставал из-за стола и ходил взад и вперед по столовой, останавливаясь около гостя и усиленно его угощая, и все с шуткой, с метким словом. Останавливался и около матери, и, взяв вилку и ножик, начинал мелко-мелко резать мясо, всегда с улыбкой и молча.
Постепенно я все более и более узнавал его жизнь, начал отдавать отчет, какой у него был разнообразный жизненный опыт, сравнивал его со своим и стал понимать, что я перед ним мальчишка, щенок… Ведь до тридцати лет написаны «Скучная история», «Тиф» и другие, поражающие житейским опытом его произведения.
Я вижу Чехова чаше бодрым и улыбающимся, чем хмурым, раздраженным, несмотря на то, что я знавал его в течение четырех лет наших близких отношений в плохие периоды его болезни. Там, где находился больной Чехов, царили шутка, смех и даже шалость.
Никогда не видал его в халате, всегда он был одет аккуратно и чисто. У него была педантическая любовь к порядку, — наследственная, как настойчивость, такая же наследственная, как и наставительность.
По берегам Черного моря работало много турок, кавказцев. Зная то недоброжелательство, смешанное с презрением, какое есть у нас к инородцам, он не упускал случая с восхищением сказать, какой это трудолюбивый, честный народ.
Он мало ел, мало спал, очень любил порядок. В комнатах его была удивительная чистота, спальня была похожа на девичью. Как ни слаб бывал он порой, ни малейшей поблажки не давал он себе в одежде.
Руки у него были большие, сухие, приятные.
Точен и скуп на слова был он даже в обыденной жизни. Словом он чрезвычайно дорожил, слово высокопарное, фальшивое, книжное действовало на него резко: сам он говорил прекрасно — всегда по-своему, ясно, правильно. Писателя в его речи не чувствовалось, сравнения, эпитеты он употреблял редко, а если и употреблял, то чаще всего обыденные, и никогда не щеголял ими, никогда не наслаждался своим удачно сказанным словом.
Случалось, что собирались у него люди самых различных рангов: со всеми он был одинаков, никому не оказывал предпочтения, никого не заставлял страдать от самолюбия, чувствовать себя забытым, лишним.
Помню его молчание, покашливание, прикрывание глаз, думу на лице, спокойную и печальную, почти важную. Только не «грусть», не «теплоту».
Крымский зимний день, серый, прохладный, сонные густые облака на Яйле. В чеховском доме тихо, мерный стук будильника из комнаты Евгении Яковлевны. Он, без пенсне, сидит в кабинете за письменным столом, не спеша, аккуратно записывает что-то. Потом встает, надевает пальто, шляпу, кожаные мелкие калоши, уходит куда-то, где стоит мышеловка. Возвращается, держа за кончик хвоста живую мышь, выходит на крыльцо, медленно проходит сад вплоть до ограды, за которой татарское кладбище на каменистом бугре. Осторожно бросает туда мышь и, внимательно оглядывая молодые деревца, идет к скамеечке среди сада. За ним бежит журавль, две собачонки. Сев, он осторожно играет тросточкой с одной из них, упавшей у его ног на спину, усмехается: блохи ползут по розовому брюшку… Потом, прислонясь к скамье, смотрит вдаль, на Яйлу, подняв лицо, что-то думая. Сидит так час, полтора.
В письме к О. Л. Книппер от 20 февраля он пишет: «Здесь Бунин, который, к счастью, бывает у меня каждый день». А 23 февраля ей же: «Был Бунин здесь теперь он уехал, и я — один».
После моего отъезда мы изредка переписывались, В письме от 14 марта он возмущается «Скорпионом»: «От „Скорпиона“ получил корректуру, в крайне неряшливом виде; с одной копеечной маркой, так что пришлось штраф платить; публикует „Скорпион“ о своей книге тоже неряшливо, выставляя меня первым — и я, прочитав это объявление в „Русских ведомостях“, дал себе клятву больше уже никогда не ведаться ни со скорпионами, ни с крокодилами, ни с ужами. А когда мы увидимся? После Пасхи, вероятно, приеду в Москву ненадолго, остановлюсь в „Дрездене“».
Я получил от 25 марта 1901 года письмо от Антона Павловича, где он просит, чтобы скульптор Эдварс, мой приятель, который хотел его лепить, отложил сеансы до сентября.
«Идет дождь. Чудесный дождь. Бабушка и Арсений благодарят за поклон и за память о них, а мать была растрогана».
Неожиданно для него приехала на Страстной Ольга Леонардовна. Приехал и я. Чехов в эти дни был особенно оживлен, чувствовал он себя хорошо. Был в Ялте и Куприн.
Чехов и при Ольге Леонардовне настаивал, чтобы я проводил все дни у него.
Часто я уезжал поздно вечером, и он говорил:
— Приезжайте завтра пораньше.
Он на некоторых буквах шепелявил, голос у него был глуховатый, и часто говорил он без оттенков, как бы бормоча: трудно было иногда понять, серьезно ли говорит он. И я порой отказывался. Он сбрасывал пенсне, прикладывал руки к сердцу, с едва уловимой улыбкой на бледных губах, раздельно повторял:
— Ну, убедительно вас прошу, господин маркиз Букишон! Если вам будет скучно со старым забытым писателем, посидите с Машей, с мамашей, которая влюблена в вас, с венгеркой Книпшиц… Будем говорить о литературе…
После отъезда Ольги Леонардовны мы втроем, Марья Павловна, Антон Павлович и я, поехали в Су-ук-Су, где очень весело завтракали, я тоже хотел платить, но Чехов сказал, что мы рассчитаемся дома, — он подаст счет; и подал шуточный:
«Счет господину Букишону (французскому депутату и маркизу).
Израсходовано на вас:
1. переднее место у извозчика 5 р.
5 бычков а-ла фам о натюрель 1 р. 50 к.
1 бутылка вина экстра сек 2 р. 75 к.
4 рюмки водки 1 р. 20 к.
1 филей 2 р.
2 шашлыка из барашка 2 р.
2 барашка 2 р.
Салад тирбушон 1 р.
Кофей 2 р.
Прочее 11 р.
Итого 27 р. 75 к.
С почтением Антон и Марья Чеховы, домовладельцы».
Букишоном он стал называть меня потому, что в какой-то газете он увидал портрет какого-то маркиза, который был на меня похож.
Двадцатого апреля я получил от него укоризненное письмо:
«Новый рассказ
А. П. Чехова
Северные цветы
Альманах к-ва „Скорпион“. Ц. 1 р. 50 к.» Во-первых, я никогда не писал рассказа «Северные цветы», а во-вторых, зачем Вы ввели меня в эту компанию, милый Иван Алексеевич? Зачем?
Ваш А. Чехов. 20 апр.
В письме от 22 апреля он пишет Книппер уже о венчании, а в конце: «Минутами на меня находит сильнейшее желание написать для Художественного театра 4-актный водевиль или комедию. И я напишу, если ничто не помешает, только отдам не раньше конца 1903 года» («Вишневый сад» — никогда он не думал о нем, как о драме…).
В письме к Книппер от 26 апреля 1901 года он пишет:
«Если ты дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, — то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему-то боюсь венчания и поздравлений и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться. Из церкви укатил бы не домой, а прямо в Звенигород. Или повенчаться в Звенигороде…»
Как я его понимаю!
В Москве обратился к доктору Щуровскому. Его диагноз:
«Притупление и слева и справа, справа большой кусок под лопаткой. Немедленно ехать на кумыс в Уфимскую губ., если же кумыс не будет переносить, то — в Швейцарию».
Двадцать пятого мая Антон Павлович послал извещение матери: «Милая мама, благословите, женюсь. Уезжаю на кумыс. Адрес: Аксеново, Самаро-Златоустовской. Здоровье лучше. Антон».
Венчание произошло тайно от всех; кто были свидетелями, я не знаю.
Тридцатого июня я получил письмо от Антона Павловича, в котором он просит написать поздравление с законным браком уже в Ялту. «Вы уезжаете в Одессу? Не забывайте, что от Одессы до Ялты рукой подать, приехать нетрудно». В этом письме он подписался: «Аутский мещанин».
В Аксенове чувствовал он себя сносно, прибавил двенадцать фунтов, а в Ялте начал кашлять. Как сократил жизнь себе Антон Павлович, живя у моря!.. Если проследить по письмам его здоровье, то увидишь, что ему почти всегда было в Ялте хуже, чем где-либо. И ни один врач не посылал его в снег, в Швейцарию! Только Щуровский условно, если «не поможет кумыс»…
Получил я письмо от Антона Павловича в Одессе, в августе: ответы на мои вопросы. Узнал, что Книппер уезжает в Москву 20 августа, Марья Павловна — первого сентября.
Сообщает, что много пишет, по целым дням, и просит, чтобы художник Нилус отложил писать с него портрет до будущего года.
Далее шутит: «…буду ожидать вас с нетерпением. Буду с первого сентября день и ночь сидеть на пристани и ожидать парохода с Вами.
Очень возможно, что в Ялту приедет Горький.
…Не обманите же, приезжайте. Поживем в Ялте, а потом вместе в Москву поедем, буде пожелаете».
Я уже 5 сентября обедал у Чехова с каким-то прокурором. Антона Павловича нашел в плохом состоянии.
Девятого сентября Антон Павлович пишет жене: «Теперь я здоров. Ходит ко мне каждый день Бунин».
И опять начались бесконечные разговоры. Когда я приехал, он чувствовал себя весьма нехорошо.
Много рассказывал Антон Павлович о кумысе, где он поправился, а вернувшись в Ялту, «опять захирел, стал кашлять и в июле даже поплевывал кровью», восторгался степью, лошадьми, туземцами; только уж очень была серая публика и никаких удобств! Вкус кумыса похож на; квас и не противный, но, конечно, надоедает.
Через несколько дней ему стало лучше. Он в сентябре решил ехать в Москву, вероятно, уже скучал без жены.
Читал он в эти дни свои старые рассказы, некоторые почти писал заново, так, по его мнению, они были слабы.
До моего приезда в Ялте жили Дорошевич, умом которого восхищался Чехов, и артист Орленев, которого он считал талантливым, но беспутным; последнего я застал.
Жаловался на газету «Курьер»: «Чуть не в каждом номере пишет про меня всякое вранье и пошлости…»
Ему хотелось поехать в Москву до репетиций «Трех сестер», чтобы сделать некоторые указания и, может быть, изменения.
Как я теперь узнал из письма к Книппер, Чехов обо мне ей на другой день моего приезда писал: «Бунин жизнерадостен…» На меня почти всегда Антон Павлович действовал возбуждающе.
Собрались тогда мы было поехать в Гурзуф, да пришлось отменить: Чехов должен был ехать к Льву Николаевичу Толстому.
Конечно, по его возвращении я уже был у него в Аутке и с жадностью слушал рассказы о Толстом. Как всегда, он восхищался ясностью его головы и тут сказал: «Знаете, что меня особенно восхищает в нем, это его презрение к нам как писателям. Иногда он хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня… Почему? Потому что он смотрит на нас, как на детей. Наши рассказы, повести и романы для него детская игра, поэтому-то он в один мешок укладывает Мопассана с Семеновым. Другое дело Шекспир: это уже взрослый, его раздражающий, ибо он пишет не по-толстовски…»
А мне Илья Львович Толстой говорил в 1912 году, что у них в доме на писателей смотрели «вот как», и он нагибался и держал руку на высоте низа дивана, и когда он мне это рассказывал, я вспомнил эти слова Чехова.
Мне все же кажется, что, несмотря на то, что Чехов стоял в литературе уже высоко, занимая свое особое место, он все же не отдавал себе отчета в своей ценности.
Пятнадцатого сентября он уехал в Москву. Чеховы поселились на Спиридоновке в доме Бойцова, во флигеле. Я у них бывал.
В Москве он прожил с 17 сентября до 26 октября.
Он бывал на репетициях своей пьесы «Три сестры». Остался доволен.
В этот сезон шли разговоры о постройке нового театра, в Каретном ряду Художественному театру было уже неудобно и тесно. Но еще ни к чему определенному не пришли.
В октябре здоровье его стало хуже. Почему его не отправили в швейцарскую санаторию?
Вернувшись в Ялту, он жил с матерью, по целым дням питал корректуру.
Пятого декабря Чехов пишет А. Н. Веселовскому: «Имею честь предложить на имеющиеся вакансии почетных академиков следующих кандидатов:
Михайловский Николай Константинович,
Мережковский Дмитрий Сергеевич,
Спасович Владимир Данилович,
Вейнберг Петр Исаевич».
В это же время Горький получил разрешение жить в Крыму. Чехов жене сообщает: «Дача у него на хорошем месте, но в доме суета сует, дети, старухи, обстановка не писательская».
Пишет, что читал конец повести Горького «Трое»: «Что-то удивительно дикое. Если бы написал это не Горький, то никто бы читать не стал…»
Ольга Леонардовна пообещала, что приедет на Рождество в Ялту, Чехов очень обрадовался, но это ей не удалось, и он стал нервничать; «Одни доктора говорят, что мне можно в Москву, а другие, что совсем нельзя, а оставаться здесь я не могу!»
Десятого декабря началось опять кровохарканье и продолжалось несколько дней. Антона Павловича уложили в постель. Конечно, Евгении Яковлевне трудно было вести дом и ухаживать за больным, да он и не допускал мать до ухода за собой. Отчасти это кровохарканье произошло из-за волнений за Толстого, который прибыл к дочери в Ялту и заболел.
Слава богу, на Рождество приехала к брату Марья Павловна, и уход за ним стал настоящий, как и еда, — она была прекрасная хозяйка.
Пятнадцатого января 1902 года я получил от Антона Павловича письмо. Поздравление с Новым годом и пожелания: «Прославиться на весь мир, сойтись с самой хорошенькой женщиной и выиграть 200 тысяч рублей по всем трем займам», а у меня и одного не было… Сообщает, что он хворал месяца полтора. Затем:
«…Писал ли я Вам насчет „Сосен“? — это очень ново, очень свежо и очень хорошо, только слишком компактно, вроде сгущенного бульона.
Итак, будем ждать, приезжайте поскорее; буду рад очень».
В январе во время болезни Толстого Антон Павлович за жизнь Льва Николаевича очень боялся. Лечил Толстого Альтшуллер и держал Чехова в курсе его болезни.
Седьмого февраля Толстому было особенно тяжело, плохо работало сердце. Чехов волнуется: «не выживет».
В это время на короткий срок, чуть ли на два-три дня, Ольга Леонардовна приезжала в Ялту на первой неделе поста, на второй неделе Художественный театр уже должен был играть в Петербурге — «Три сестры», «В мечтах», «Мещане»…
Волновался в эти дни Антон Павлович еще потому, что Горького не утвердили академиком. Он запрашивал Кондакова, Короленко, хотя как можно было возмущаться тем, что не утвердили выбранного в почетные академики Горького, который находился под судом! Чехов, вероятно, не знал регламента, не знал, например, что всякий почетный академик мог, приехав в какой угодно город, потребовать в какое угодно время — для пользы просвещения — зал для лекции — и без всякой цензуры. Можно себе представить, как бы стал пользоваться этим правом Горький?.. Ведь Куприна не избрали в почетные академики, несмотря на то, что несколько раз поднимался этот вопрос, только потому, что он под влиянием вина мог злоупотреблять где-нибудь в провинции этим правом.
<…>
Нужно отметить, что Чехов, когда посылал А. Н. Веселовскому список своих кандидатов, Горького не выставил, будучи человеком умным и трезвым. Но, когда его не утвердили, заволновался… Такое уже было время! А мотивировка отказа Антона Павловича от звания почетного академика слабая:
«В газетах было напечатано, что, ввиду привлечения Пешкова к дознанию по статье 1035, выборы признаются недействительными. При этом было точно указано, что извещение исходит от Академии наук, а так как я почетный академик, то это извещение исходило и от меня. Я поздравил сердечно, и я же признал выборы недействительными, — такое противоречие не укладывается в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог».
Эту просьбу о снятии с него звания почетного академика Чехов послал А. Н. Веселовскому 25 августа 1902 года. Он волновался несколько месяцев, переписывался и с Кондаковым, и с Короленко, который тоже «просил снять с него звание почетного академика».
Весною я приехал в Ялту. Толстому стало лучше, и как-то при мне Чехов собирался его навестить. Волновался сильно: менял брюки, и хотя все время шутил, но все же с трудом подавлял свое волнение.
— Боюсь Толстого. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте. Серьезно, я его боюсь, — говорил он, смеясь и как бы радуясь этой боязни.
И чуть не час решал, в каких штанах поехать к Толстому. Сбросил пенсне, помолодел и, мешая, по своему обыкновению, шутку с серьезным, все выходил из спальни то в одних, то в других штанах:
— Нет, эти неприлично узки! Подумает: щелкопер!
И шел надевать другие и опять выходил, смеясь:
— А эти шириною с Черное море! Подумает: нахал!
Вернувшись он сказал:
— Знаете, это какое-то чудо, нечто невероятное! Лежит в постели старик, телесно вполне едва живой, краше в гроб кладут, а умственно не только гениальный, сверхгениальный!
Говорить о литературе было нашим любимым делом: без конца Антон Павлович: восхищался Мопассаном, Флобером, Толстым, «Таманью» Лермонтова.
— Вот умрет Толстой, все пойдет к черту! — повторял он не раз.
— Литература?
— И литература.
Но тут он ошибался, литература уже начала идти «прахом» и при жизни Толстого.
К концу марта приехал из Москвы Телешов, а из Одессы прибыл Нилус, который начал писать портрет Антона Павловича. Чехов был в хорошем настроении, ожидая приезда из Петербурга Ольги Леонардовны.
Я привез «Дети Ванюшина».
— Единственный настоящий драматург, — говорил Чехов.
Он часто говорил:
— Какие мы драматурги! Единственный настоящий драматург — Найденов; прирожденный драматург, с самой что ни на есть драматической пружиной внутри. Он должен теперь еще десять пьес написать и девять раз провалиться, а на десятый опять такой успех, что только ахнешь!
И, помолчав, вдруг заливался радостным смехом:
— Знаете, я недавно у Толстого в Гаспре был. Он еще в постели лежал, но много говорил обо всем и обо мне, между прочим. Наконец, я встаю, прощаюсь. Он задерживает мою руку, говорит: «Поцелуйте меня», — и, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и этакой энергичной старческой скороговоркой: «А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще хуже!»
По вечерам иногда собирались к ужину гости: Телешов, Горький, Нилус, после ужина заходил Елпатьевский, и меня упрашивали иногда прочесть тот или другой рассказ Чехова. Об этом вспоминает Телешов: «Антон Павлович сначала хмурился, неловко ему казалось слушать свое же сочинение, потом стал невольно улыбаться, а потом, по мере развития рассказа, буквально трясся от хохота в своем кресле, но молча, стараясь сдерживаться».
Прослушав как-то свой «осколочный» рассказ, Антон Павлович сказал:
— Вам хорошо теперь писать рассказы, все к этому привыкли, а это я пробил дорогу к маленькому рассказу, меня еще как за это ругали…
— Требовали, чтобы я писал роман, иначе и писателем нельзя называться…
Всех нас радовало, что Толстой выздоравливал. Словом, настроение было самое хорошее. И вдруг пришла телеграмма, что в Петербурге заболела Ольга Леонардовна.
Ежедневные телеграммы. Пять дней ожидания ее прибытия, и наконец в первый день Пасхи, 10 апреля, ее на руках перенесли с парохода на дачу с температурой 39 градусов под мышкой.
Конечно, Нилусу пришлось бросить портрет, и скоро мы все разъехались.
В письме от 4 мая Антон Павлович сообщает мне, что жена поправляется и что после 20 мая они приедут в Москву.
В Москве же под Троицу — новая болезнь Ольги Леонардовны, осложнившаяся перитонитом, которая чуть не кончилась операцией. Чехов измучился и душевно, и физически. Чтобы отдохнуть, 17 июня он с С. Т. Морозовым отправляется в его имение на Урал до 5 июля, а Ольга Леонардовна осталась с матерью.
<…>
По возвращении они с Ольгой Леонардовной поселились в Любимовке по Ярославской железной дороге, в усадьбе матери Станиславского, Е. И. Алексеевой. (Она предоставила им флигель.) Любимовка лежала на Клязьме, где Чехов удил рыбу. Прожили они вместе до середины июля, затем он один уехал в Ялту. Вероятно, за время болезни у Ольги Леонардовны расстроились нервы, она скучала и в письмах к мужу стала его упрекать, что он не взял ее с собой, упрекала и его родных.
Он отвечает: «…Ты сердита на меня, а за что — никак не пойму. За то, что я уехал от тебя? Но ведь я с тобой прожил с самой Пасхи… и не уехал бы, если бы не дела и кровохарканье».
От 11 сентября я получил от него коротенькое письмецо: упрек, что я не послал ему своих «Новых стихотворений», которые были изданы А. А. Карзинкиным — большим любителем поэзии и моим другом — в старинном стиле.
В середине октября 1902 года Чехов приехал в Москву и чуть ли не в первый день написал записочку Найденову, прося его известить меня, что он здесь.
Конечно, на следующий день я был у него. В письме от 18 октября он пишет Куприну, что виделся «с Буниным и что тот в меланхолическом настроении, собирается за границу».
А 26 октября я получил от него открытку: «Милый Жан! Укрой свои бледные ноги!» без подписи.
Из Москвы Антон Павлович уехал в конце ноября. В Ялте в это время выпал снег…
В письме от 20 декабря он пишет жене: «Думал о том, что тебе нужен сынишка, который занимал бы тебя, наполнял бы твою жизнь. Сынишка или дочка будет у тебя, родная, поверь мне, нужно только подождать, прийти после болезни в норму. Я не лгу тебе, не скрываю ни одной капли из того, что говорят доктора, честное слово».
Я же в это время жил еще в Москве, бывал запросто у Ольги Леонардовны и иногда заставал ее в слезах, — ей было тяжело, хотя она и не жаловалась.
В письме от 27 декабря Чехов сообщает ей из Ялты: «Ждем Бунина и Найденова, которые, по газетным известиям, уехали в Константинополь…» Последнее было вранье.
В письме от 1 января 1903 года Антон Павлович извещает жену, что «Бунин и Найденов теперь в Одессе. Их там на руках носят». (Мы жили в это время с Найденовым в «Крымской гостинице».)
Гославскому же пишет: «На днях в Ялте будет Бунин» (из Одессы я собирался поехать в Крым). «Я поговорю с ним, и если он посвятит меня в тайны „Знания“, то я тотчас же напишу Горькому или Пятницкому, не медля…»
Тринадцатого января в день отъезда Марьи Павловны он почувствовал себя плохо…А в Ялте был туман, погода как раз для туберкулезного.
Пятого февраля Шаповалов привез Чехову от Станиславского «орден» «Чайки» (такой же самый я получил от Художественного театра вместе с адресом на свой двадцатипятилетний юбилей. Его у меня украли вместе со всеми ценными вещами во время нашего пребывания в Софии в 1920 году, после бегства из Одессы).
Шестнадцатого февраля он в письме к жене удивляется: «Бунин почему-то в Новочеркасске?» А я там был у матери, жившей тогда у моей сестры Марьи Алексеевны Ласкаржевской.
Из Новочеркасска я отправился в Ялту.
Вот в этот-то приезд Чехов шутя приставал ко мне, что именно напишу я о нем в своих воспоминаниях. Я иногда отбрехивался, что это он будет писать обо мне, но он уверял, что я проживу до ста лет, что я «здоровенный» мужчина и все в таком роде. Наконец я сказал:
— Я напишу прежде всего, как и почему я познакомился с вами в Москве. Это было в девяносто пятом году в декабре. Я не знал, что вы приехали в Москву. И вот, сидим мы однажды с одним поэтом в Большом Московском, пьем красное вино, слушаем машину, а порт все читает свои стихи, все больше и больше собой восторгаясь. Вышли мы очень поздно, и поэт был уже так возбужден, что и на лестнице продолжал читать. Так, читая, он стал свое пальто на вешалке искать. Швейцар ему нежно: «Позвольте, господин, я сам найду…» — «Как, негодяй? Значит, я чужое пальто беру?» — «Так точно, чужое-с». — «Молчать, негодяй, это мое пальто!» — «Да нет же, господин, это не ваше пальто!» — «Тогда говори сию же минуту, чье?» — «Антона Павловича Чехова». — «Врешь, я убью тебя за эту ложь на месте!» — «Есть на то воля ваша, только это пальто Антона Павловича Чехова». — «Так, значит, он здесь?» — «Всегда у нас останавливаются…» И вот мы чуть не кинулись к вам знакомиться в три часа ночи. Но, к счастью, удержались и пришли на другой день, и на первый раз не застали — видели только ваш номер, который убирала горничная, и вашу рукопись на столе. Это было начало «Бабьего царства».
— Кто этот поэт, догадываюсь, Бальмонт, конечно. А откуда вы узнали, какая именно рукопись лежала у меня на столе? Значит, подсмотрели?
— Простите, дорогой, не удержались.
— А жалко, что вы не зашли ночью. Это очень хорошо — закатиться куда-нибудь ночью, внезапно. Я люблю рестораны.
Да, это правда, рестораны он любил. Всех друзей звал всегда или пообедать, или поужинать. И ему доставляло удовольствие их угощать. Нравилось ему мое понимание в винах, любовь к закускам и к тонким блюдам, это ценила во мне и Евгенья Яковлевна, которая была большая мастерица в кулинарном искусстве и тоже очень любила угощать.
Ни с одним писателем я не был в таких отношениях: мог часами, сидя вместе в кабинете, молчать, а с Чеховым мы иногда проводили так целые утра.
Иногда мне казалось, что все-таки я мешаю ему, и вечером при прощанье выдумывал, что мне утром нужно куда-то, в этом случае он трогательно настойчиво начинал приглашать и, шутя, говорил: если вам не скучно со старым писателем…
В этот приезд я уже останавливался в лучшей гостинице в Ялте, в «России». И он туда как-то вечером позвонил и сказал, чтобы я нанял извозчика и приехал за ним, чтобы ехать кататься. Я стал отговаривать, но он настоял. Правда, ночь была теплая, лунная. И мы поехали в Орианду. Вот тут-то он и сказал, что его будут читать еще только семь лет, а жить ему осталось еще меньше — всего шесть. В обоих случаях ошибся: жить ему осталось меньше — всего год и три месяца, а читают его уже больше пятидесяти лет, и, вероятно, будут читать еще долго.
Из Крыма я поехал в Москву, заглянув ненадолго к брату, в деревню, а в мае бывал у Чеховых на Петровке и удивлялся, как они могли так высоко снять квартиру, на третьем, то есть по-заграничному на четвертом этаже, у него уже была одышка, ему очень тяжело было подыматься.
В этот приезд он показался профессору Остроумову, который увидел, что его левое легкое в исключительно плохом состоянии, и, сказав, что он «калека», запретил ему жить зимою в Ялте, запретил и поездку в Швейцарию, где он с Ольгой Леонардовной хотели провести лето. А на лето они поселились в имении Якунчиковой в Наро-Фоминском.
Недель шесть они прожили там. Антон Павлович удил рыбу, купался, — это Остроумов ему разрешил, но Чехов томился окружающей бездельной жизнью, высокопоставленными гостями, и, не выдержав, в десятых числах июля вернулся в Ялту, нарушив приказание Остроумова.
Он работал над своей последней пьесой — «Вишневым садом».
В письме к жене от 29 сентября он пишет между прочим: «…скажи Бунину, чтобы он у меня полечился, если нездоров; я его вылечу».
Здоровье Чехова, как всегда в Ялте, особенно с наступлением холодных дней, ухудшилось.
В начале декабря Антон Павлович приехал в Москву. Я тоже был там, — мы с Найденовым готовились к поездке за границу. Ежедневно по вечерам я заходил к Чехову, оставался иногда у него до трех-четырех часов утра, то есть до возвращения Ольги Леонардовны домой.
Чаще всего она уезжала в театр, но иногда отправлялась на какой-нибудь благотворительный концерт. За ней заезжал Немирович во фраке, пахнущий сигарами и дорогим одеколоном, а она, в вечернем туалете, надушенная, красивая, молодая, подходила к мужу со словами:
— Не скучай без меня, дусик, впрочем, с Букишончиком тебе всегда хорошо… До свиданья, милый, — обращалась она ко мне. Я целовал ее руку, и они уходили. Чехов меня не отпускал до ее возвращения. И эти бдения мне особенно дороги.
Он иногда мыл себе голову. Я старался развлекать его, рассказывал о себе, расспрашивал о семье. Он много говорил о своих братьях, Николае, Александре, которого он ставил очень высоко и бесконечно жалел, так как он иногда запивал, — этим он объяснял, что из него ничего не вышло, а одарен он был щедро.
Александр Павлович был человек редко образованный: окончил два факультета — естественный и математический, много знал и по медицине. Хорошо разбирался в философских системах. Знал много языков. Но ни на чем не мог остановиться. А как он писал письма! Прямо на удивление. Был способен и на ручные работы, сам сделал стенные часы. Одно время был редактором пожарного журнала. Над его кроватью висел пожарный звонок, чтобы он мог всегда знать, где горит. Он был из чудаков, писал только куриными перьями. Любил разводить птицу и сооружал удивительные курятники, словом, человек на редкость умный, оригинальный. Хорошо понимал шутку, но последнее время стал тяжел: когда был трезв, то мучился тем, каким он был во хмелю, а под хмелем действительно был тяжел. Я спросил Антона Павловича:
— А не мучается ли он, что вы заслонили его как писателя?
Он улыбнулся своей милой улыбкой и ответил:
— Нисколько, ведь и пишет он между делом, так, чтобы лишнее заработать. Да я и не знаю, что его больше интересует: литература, философия, наука или куроводство? Он слишком одарен во многих отношениях, чтобы отдаться чему-нибудь одному… Вот и брат Михаил служил в финансовом ведомстве, бросил, работает по книжному делу у Суворина. Пишет рассказы, но никаких усилий не делает, чтобы стать настоящим писателем. У нас ведь нет такого честолюбия, как у многих писателей нынешних… У нас у всех есть любовь к тому делу, над каким мы трудимся.
Расспрашивал Антон Павлович меня и о первом представлении пьесы Горького «На дне», и об ужине, который стоил восемьсот рублей, и что за такую цену подавали?
Я, изображая Горького, говорил:
— Рыбы первым делом и какой-нибудь этакой, черт ее дери совсем, чтобы не рыба была, а лошадь.
Чехов очень смеялся, а особенно замечанию профессора Ключевского, который был беспечно-спокоен, мирно-весел, чистенький, аккуратный, в застегнутом сюртучке, слегка склонив голову набок и искоса, поблескивая очками и своим лукавым оком, мы стояли рядом, и он тихо сказал:
— Лошадь! — Это, конечно, по величине приятно. Но немножко и обидно. Почему же непременно лошадь? Разве мы все ломовые?
Что думал он о смерти?
Много раз старательно-твердо говорил, что бессмертие, жизнь после смерти в какой бы то ни было форме — сущий вздор:
— Это суеверие. А всякое суеверие ужасно. Надо мыслить ясно и смело. Мы как-нибудь потолкуем с вами об этом основательно. Я, как дважды два четыре, докажу вам, что бессмертие — вздор.
Но потом несколько раз еще тверже говорил противоположное:
— Ни в коем случае не можем мы исчезнуть после смерти. Бессмертие — факт. Вот погодите, я докажу вам это…
Последнее время часто мечтал вслух: — Стать бы бродягой, странником, ходить по святым местам, поселиться в монастыре среди леса, у озера, сидеть летним вечером на лавочке возле монастырских ворот…
Его «Архиерей» прошел незамеченным — не то что «Вишневый сад» с большими бумажными цветами, невероятно густо белевшими за театральными окнами. И кто знает, что было бы с его славой, не будь «Мужиков», Художественного театра!
Мы с Найденовым уже были в конце декабря на отлете. Чехов рассказывал мне о своем пребывании в Ницце, о М. М. Ковалевском, о консуле Юрасове, давал советы относительно здоровья и, как всегда, уверял, что я проживу до глубокой старости, так как я «здоровенный мужчина», и опять в который раз уговаривал писать ежедневно, бросить «дилетантство», а нужно относиться к писанию «профессионально»…
И не думал я в те дни, что они — наше последнее свидание.
Часа в четыре, а иногда и совсем под утро возвращалась Ольга Леонардовна, пахнущая вином и духами…
— Что же ты не спишь, дуся?.. Тебе вредно. А вы тут еще, Букишончик, ну конечно, он с вами не скучал!
Я быстро вставал и прощался.
Перед Рождеством мы с Найденовым уехали за границу.
В Ниццу Чехов прислал мне поздравление с Новым годом, но тон письма был невеселый, он сообщал, что его пьеса еще не шла и неизвестно, когда пойдет, а письмо помечено 8 января. В письме чувствуется нежность, забота, спрашивает, что я ем? рекомендует есть цыплят и голубей, сокрушается, что судака Кольбер там нет. Кончает: «Целую вас и обнимаю», а после подписи: «А у нас сегодня солонина и индейка!»
В день его ангела была премьера «Вишневого сада», театр устроил ему чествование, которое его, конечно, очень утомило. Он не переносил никаких чествований, ненавидел быть центром внимания. Воображаю, сколько пошлостей ему пришлось тогда выслушать.
Началась Японская война. В письмах она у него не отразилась.
Пятнадцатого февраля он уехал опять в Ялту, нарушая запрет Остроумова.
Перед отъездом был с женой в Царицыне, смотрел дачу, чтобы в будущем году там поселиться на всю зиму.
В Ялте он застал брата Александра с семьей. Его племянник, будущий артист, вспоминает это время. Антон Павлович был с ним нежен, подарил «Каштанку» и «Белолобого», дарил мелкие вещицы со своего стола, когда он тихо сидел в его кабинете.
Александр Павлович все время был «трезв, добр, интересен, вообще утешает меня своим поведением», — пишет он своей жене.
Весной Ольга Леонардовна переменила в Москве квартиру, сняла в Леонтьевском переулке, в доме был лифт.
В эту весну 13 апреля он и написал Амфитеатрову из Ялты о моем рассказе «Чернозем», опубликованном в сборнике «Знания».
Третьего мая он в Москве.
Сообщает матери: «Всю дорогу нездоровилось», но в Москве «полегчало».
Рассказывают, что он по приезде в Москву, на другой день, поехал в Сандуновские бани и простудился. В письме к Куприну он сообщает от 5 мая:
«Я приехал в Москву, нездоров!» А 10 мая Гольцеву: «…нездоров, лежу в постели, каждый день ходит доктор…»
В письме к сестре от 21 мая сообщает, что «третьего дня ни с того ни с сего меня хватил плеврит… Как бы то ни было, на 2 июня заказаны билеты в Шварцвальд…»
Меня всегда мучает вопрос, почему его повезли за границу в таком состоянии. Сам он Телешову сказал: «Еду умирать». Значит, понимал свое положение. У меня иногда мелькает мысль, что, может быть, он не хотел, чтобы его семья присутствовала при его смерти, хотел избавить всех своих от тяжелых впечатлений, а потому не возражал. Конечно, порой он надеялся, как большинство чахоточных, что поправится. Замечательно, что сестре он стал из Москвы писать нежнее.
Он и мне в последнем письме, которое не попало в собрание его писем, писал в середине июня, что «чувствую себя недурно, заказал себе белый костюм…».
Четвертого июля 1904 года я поехал верхом в село на почту, взял там газеты и письма и завернул к кузнецу перековать лошади ногу. Был жаркий и сонный степной день, с тусклым блеском неба, с горячим южным ветром. Я развернул газету, сидя на пороге кузнецовой избы, — и вдруг точно ледяная бритва полоснула по сердцу.
Смерть его ускорила простуда. После приезда в Москву из Ялты он пошел в баню и, вымывшись, оделся и вышел слишком рано: встретился в предбаннике с Сергеенко и бежал от него, от его навязчивости, болтливости…
Это тот самый Сергеенко, который много лет надоедал Толстому («Как живет и работает Толстой») и которого Чехов, за его худобу и длинный рост, неизменный черный костюм и черные волосы, называл так:
— Погребальные дроги стоймя.
IV
Художественный театр отметил пятидесятилетие со дня рождения Антона Павловича литературным утренником, на котором выступал я со своими воспоминаниями. Это было 17 января 1910 года.
Театр был переполнен. В литерной ложе с правой стороны сидели родные Чехова: мать, сестра, Иван Павлович с семьей, вероятно, и другие братья, — не помню.
Мое выступление вызвало настоящий восторг, потому что я, читая наши разговоры с Антоном Павловичем, его слова передавал его голосом, его интонациями, что произвело потрясающее впечатление на семью: мать и сестра плакали.
Через несколько дней ко мне приезжали Станиславский с Немировичем и предлагали поступить в их труппу.
Вскоре после этого утренника мы были приглашены к Марье Павловне, где были и Чеховы, живущие в Москве, а среди них и сын Александра Павловича, Михаил, молодой ученик школы Художественного театра, поразивший нас талантливостью жестов: они с сыном Ивана Павловича, студентом Володей, прощаясь в прихожей; что-то манипулировали со шляпами так забавно, что мы из столовой, глядя на них, очень смеялись. Кто-то сказал:
— Это совершенно по-чеховски! Новое поколение.
А через несколько лет я видел Мишу в Первой студии Художественного театра в пьесе, переделанной из рассказа Диккенса «Сверчок на печи», и его игра меня взволновала до слез.
В 1915 году, 14 декабря видел его второй раз в «Потопе»; играл тоже с большим талантом.
Евгения Яковлевна за пять лет очень состарилась. Мы обрадовались друг другу, как родные. Она всегда меня любила. Стала бранить Ялту, с восторгом вспоминать Московскую губернию:
— Здесь лучше, леса, можно по грибы ходить, их тут много, а там что… одно море…
И до чего она была очаровательна в своей наивности.
Ездил я и на открытие «Комнаты имени Антона Павловича Чехова» для туберкулезного литератора в санатории по Николаевской дороге, кажется, вблизи станции Крюково, забыл какого доктора.
Ехал я туда в вагоне с Иваном Павловичем, его женой, милой женщиной, и сыном.
Иван Павлович напоминал покойного брата одним жестом. Он был очень хозяйственный человек, сейчас раскрыл погребец, угостил водочкой и какой-то закуской, и мы незаметно доехали до санатории, где был «пир горой».
«Литературное ханжество — самое скверное ханжество», — сказал мне Чехов (писал он об этом и Суворину).
Отлично писал Горькому: «У вас слишком много определений… понятно, когда я пишу: „Человек сел на траву…“ Наоборот, неудобопонятно, если я пишу: „Высокий, узкогрудый, среднего роста человек с рыжеватой бородкой сел на зеленую, еще не измятую пешеходами траву, сел бесшумно, робко и пугливо оглядываясь…“»
Чехов говорил:
«Писателю надо непременно в себе выработать зоркого, неугомонного наблюдателя… Настолько, понимаете, выработать, чтоб это вошло прямо в привычку… сделалось как бы второй натурой».
У Чехова каждый год менялось лицо.
Благородство Чехова — цветы, животные, благородство людских поступков.
Со всеми он был одинаков, какого бы ранга человек ни был.
Всеволод Гаршин, которого, несмотря на краткое знакомство, он успел полюбить всей душой, весной 1888 года кончает самоубийством.
Монгольское у матери, и у Николая, и у самого Чехова.
Портреты деда, бабки, отца, дяди — мужики. Женщины широкоскулы, рты без губ, — монголки. Дед, бабка, мать, отец, дядя Чехова — все мужики, и все широкоскулые. Просто страшно смотреть — особенно проживши больше тридцати лет в Европе. Нижняя челюсть дяди. Грубость поразительная. Отец приличнее, но нижняя челюсть почти как у дяди.
Ехал из Ельца. Купил на станции «Пестрые рассказы» Чехова в 1887 году, читал не отрываясь.
Однажды он сказал (по своему обыкновению, внезапно):
— Знаете, какая раз была история со мной?
И, посмотрев некоторое время в лицо мне через плечо, принялся хохотать:
— Понимаете, поднимаюсь я как-то по главной лестнице московского Благородного собрания, а у зеркала, спиной ко мне, стоит Южин-Сумбатов, держит за пуговицу Потапенко и настойчиво, даже сквозь зубы, говорит ему: «Да пойми же ты, что ты теперь первый писатель в России!..» И вдруг видит в зеркале меня, краснеет и скороговоркой прибавляет, указывая на меня через плечо: «И он…»
В его записной книжке есть кое-что, что я слышал от него самого. Он, например, не раз спрашивал меня, (каждый раз забывая, что уже говорил это, и каждый раз смеясь от всей души):
— Послушайте, а вы знаете тип такой дамы, глядя на которую всегда думаешь, что у нее под корсажем жабры?
Не раз говорил:
— В природе из мерзкой гусеницы выходит прелестная бабочка, а вот у людей наоборот: из прелестной бабочки выходит мерзкая гусеница…
— Ужасно обедать каждый день с человеком, который заикается и говорит глупости…
— Когда бездарная актриса ест куропатку, мне жаль куропатку, которая была во сто раз умнее и талантливее этой актрисы…
Иногда говорил:
— Писатель должен быть нищим, должен быть в таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если не будет писать, будет потакать своей лени. Писателей надо отдавать в арестантские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями… Ах, как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден!
Как он восхищался Давыдовой!
— Придет, бывало, к ней Мамин-Сибиряк:
«Александра Аркадьевна, у меня ни копейки, дайте хоть пятьдесят рублей авансу». — «Хоть умрите, милый, не дам. Дам только в том случае, если согласитесь, что я запру вас сейчас у себя в кабинете на замок, пришлю вам чернил, перо, бумаги и три бутылки пива и выпущу тогда, когда вы постучите и скажете мне, что у вас готов рассказ».
А иногда говорил совсем другое:
— Писатель должен быть баснословно богат, так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, Южному полюсу, в Тибет и Аравию, купить себе весь Кавказ или Гималаи… Толстой говорит, что человеку нужно всего три аршина земли. Вздор — три аршина земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар. И особенно — писателю…
Замечательная есть строка в его записной книжке:
— Как я буду лежать в могиле один, так, в сущности, я и живу один.
Про московских «декадентов», как тогда называли их, он однажды сказал:
— Какие они декаденты, они здоровеннейшие мужики! Их бы в арестантские роты отдать…
Однажды, он, в небольшой компании близких людей, поехал в Алупку и завтракал там в ресторане, был весел, много шутил. Вдруг из сидевших за соседним столом поднялся какой-то господин с бокалом в руке:
— Господа! Я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антона Павловича, гордость нашей литературы, певца сумеречных настроений…
Побледнев, он встал и вышел.
Я приезжал, и случалось, что мы, сидя у него в кабинете, молчали все утро, просматривая газеты, которых он получал множество. Он говорил: «Давайте газеты читать и выуживать из провинциальной хроники темы для драм и водевилей».
Иногда он вдруг опускал газету, сбрасывал пенсне и принимался тихо и сладко хохотать.
— Что такое вы прочли?
— Самарский купец Бабкин, — хохоча, отвечал он тонким голосом, — завещал все свое состояние на памятник Гегелю.
— Вы шутите?
— Ей-богу, нет, Гегелю.
А то, опуская газету, внезапно спрашивал:
— Что вы обо мне будете писать в своих воспоминаниях?
— Это вы будете обо мне писать. Вы переживете меня.
— Да вы мне в дети годитесь.
— Все равно. В вас народная кровь.
— А в вас дворянская. Мужики и купцы страшно быстро вырождаются. Прочтите-ка мою повесть «Три года». А потом вы же здоровеннейший мужчина, только худы очень, как хорошая борзая. Принимайте аппетитные капли и будете жить сто лет. Я пропишу вам нынче же, я ведь доктор. Ко мне сам Никодим Палыч Кондаков обращался, и я его вылечил. А в воспоминаниях обо мне не пишите, что я был «симпатичный талант и кристальной чистоты человек».
— Это про меня писали, — говорил я, — писали, будто я симпатичное дарование.
Он принимался хохотать с тем мучительным удовольствием, с которым он хохотал тогда, когда ему что-нибудь особенно нравилось.
— Постойте, а как про вас Короленко написал?
— Это не Короленко, а Златовратский. Про один из моих первых рассказов. Он написал, что этот рассказ «сделал бы честь и более крупному таланту».
Он со смехом падал головой на колени, потом надевал пенсне и, глядя на меня зорко и весело, говорил:
— Все-таки это лучше, чем про меня писали. Только вот вам мой совет, — вдруг прибавлял он, — перестаньте быть дилетантом, сделайтесь хоть немного мастеровым. Это очень скверно, как я должен был писать, — из-за куска хлеба, но в некоторой мере обязательно надо быть мастеровым, а не ждать все время вдохновенья. Потом, помолчав:
— А Короленке надо жене изменить, обязательно, чтобы начать лучше писать. А то он чересчур благороден. Помните, как вы мне рассказывали, что он до слез восхищался однажды стихами в «Русском богатстве» какого-то Вербова или Веткова, где описывались «волки реакции», обступившие певца, народного поэта, в поле, в страшную метель, и то, как он звучно ударил по струнам лиры, что волки в страхе разбежались? Это вы правду рассказывали?
— Честное слово, правду.
— А кстати, вы знаете, что в Перми все извозчики похожи на Добролюбова?
— Вы не любите Добролюбова?
— Нет, люблю. Это же порядочные были люди. Не то что Скабичевский, который писал, что я умру под забором от пьянства, так как у меня «искры божьей нет».
— Вы знаете, — говорил я, — мне Скабичевский сказал однажды, что он за всю свою жизнь не видал, как растет рожь, и ни с одним мужиком не разговаривал.
— Ну, вот, вот, а всю жизнь про народ и про рассказы из народного быта писал!
Необыкновенно радовался он однажды, когда я рассказал ему, что наш сельский дьякон до крупинки съел как-то на именинах моего отца фунта два икры. Этой историей он начал свою повесть «В овраге».
Он любил повторять, что если человек не работает, не живет постоянно в художественной атмосфере, то, будь он хоть Соломон премудрый, все будет чувствовать себя пустым, бездарным.
Иногда вынимал из стола свою записную книжку и, подняв лицо и блестя стеклами пенсне, мотал ею в воздухе:
— Ровно сто сюжетов! Да-а, милсдарь! Не вам, молодым, чета! Работники! Хотите, парочку продам!
Иногда он разрешал себе вечерние прогулки. Раз возвращаемся с такой прогулки уже поздно. Он очень устал, идет через силу, — за последние дни много смочил платков кровью, — молчит, прикрывает глаза. Проходим мимо балкона, за парусиной которого свет и силуэты женщин. И вдруг он открывает глаза и очень громко говорит:
— А слыхали? Какой ужас! Бунина убили! В Аутке, у одной татарки!
Я останавливаюсь от изумления, а он быстро шепчет:
— Молчите! Завтра вся Ялта будет говорить об убийстве Бунина!
Один писатель жаловался: «До слез стыдно, как слабо, плохо начал я писать!»
— Ах, что вы, что вы! — воскликнул он. — Это же чудесно — плохо начать! Поймите же, что, если у начинающего писателя сразу выходит все честь честью, ему крышка, пиши пропало!
И горячо стал доказывать, что рано и быстро созревают только люди способные, то есть неоригинальные, таланта, в сущности, лишенные, потому что способность равняется умению приспособляться и «живет она легко», а талант мучится, ища проявления себя.
V
Однажды, читая газеты, он поднял лицо и, не спеша, без интонации сказал:
— Все время так: Короленко и Чехов, Потапенко и Чехов, Горький и Чехов.
Теперь он выделился. Но, думается, и до сих пор не понят как следует: слишком своеобразный, сложный был человек.
— На одного умного полагается тысяча глупых, на одно умное слово приходится тысяча глупых, и эта тысяча заглушает. (Из записной книжки Чехова).
Его заглушали долго. До «Мужиков», далеко не лучшей его вещи, большая публика охотно читала его; но для нее он был только занятный рассказчик, автор «Винта», «Жалобной книги»… Люди «идейные» интересовались им, в общем, мало: признавали его талантливость, но серьезно на него не смотрели, — помню, как некоторые из них искренне хохотали надо мной, юнцом, когда я осмеливался сравнивать его с Гаршиным, Короленко, а были и такие, которые говорили, что и читать никогда не станут человека, начавшего писать под именем Чехонте: «Нельзя представить себе, — говорили они, — чтобы Толстой или Тургенев решились заменить свое имя такой пошлой кличкой».
Настоящая слава пришла к нему только с постановкой его пьес в Художественном театре. И, должно быть, это было для него не менее обидно, чем то, что только после «Мужиков» заговорили о нем: ведь и пьесы его далеко не лучшее из написанного им, а кроме того, Это ведь значило, что внимание к нему привлек театр, то, что тысячу раз повторялось его имя на афишах, что запомнились: «двадцать два несчастья», «глубокоуважаемый шкап», «человека забыли»…
Долго иначе не называли его, как «хмурым» писателем, «певцом сумеречных настроений», «больным талантом», человеком, смотрящим на все безнадежно и равнодушно.
Теперь гнут палку в другую сторону. «Чеховская нежность, грусть, теплота», «чеховская любовь к человеку»… Воображаю, что чувствовал бы он сам, читая про свою «нежность»! Еще более были бы противны ему «теплота», «грусть».
Говоря о нем, даже талантливые люди берут неверный тон. Например, Елпатьевский: «…встречал у Чехова людей добрых и мягких, нетребовательных и неповелительных, и его влекло к таким людям… Его всегда влекли к себе тихие долины с их мглой, туманными мечтами и тихими слезами…»
Что за вздор! Чехова влекли сильные и умные люди, возьмем хотя бы Суворина, ни с кем он не был так откровенен, как с ним, очень любил его общество, никому он так много и откровенно не писал!
Короленко характеризует его талант такими жалкими словами, как «простота» и «задушевность», приписывает ему «печаль о призраках».
<…>
Курдюмов характеризует Чехова как очень скромного человека, я с этим не согласен. Он знал себе цену, но этого не показывал. Не согласен, что он очень скрытен. А его письма к Суворину? В них он очень откровенен. Скрытный человек со всеми скрытен. Чехов не болтлив, и он должен был очень любить человека, чтобы говорить ему о своем.
<…>
«В овраге» — одно из самых замечательных произведений не только Чехова, но во всей всемирной литературе — говорю я.
Курдюмов считает «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишневый сад» лучшими пьесами Чехова. Я не согласен: лучшая «Чайка», единственная. Но все же я неправильно писал о его пьесах. Прав Курдюмов, когда говорит, что «главное невидимо действующее лицо в чеховских пьесах, как и во многих других его произведениях, — беспощадно уходящее время».
<…>
Гиппиус… уверяет, что С. Андреевский сказал про Чехова:
«Нормальный человек и нормальный прекрасный писатель своего момента».
И Гиппиус с радостью подхватила: «Да, именно — момента». Времени у Чехова нет, а «момент» очень есть.
Боже, до чего некоторые люди лишены непосредственного чувства жизни!
Это Чехов родился сорокалетним! Это у Чехова не было возраста?
Чехов гимназист, Чехов студент и сотрудник юмористических журналов, Чехов врач во второй половине восьмидесятых годов, Чехов в первой половине девяностых годов, в год Сахалина, и затем во второй и, наконец, в начале двадцатого века, да это шесть разных Чеховых!!
Взять хотя бы его портреты.
И каким он был тонким поэтом![25] <…>
И как Гиппиус ошиблась: у Чехова не только был «момент», но есть и «время». До сих пор его читают и перечитывают, как настоящего поэта.
Далее она пишет: «слово „нормальный“ — точно для Чехова придумано. У него и наружность „нормальная“. <…> Нормальный провинциальный доктор.<…> Имел тонкую наблюдательность в своем пределе — и грубоватые манеры, что тоже было нормально».
Грубоватых манер я у Чехова никогда не наблюдал, впрочем, я в ту пору с ним не был знаком, значит, и в этом отношении он изменился.
«Даже болезнь его была какая-то „нормальная“, — пишет Гиппиус, — и никто себе не представит, чтобы Чехов, как Достоевский или князь Мышкин, повалился перед невестой в припадке „священной“ эпилепсии, опрокинув дорогую вазу». «Или — как Гоголь, постился бы десять дней, сжег „Чайку“, „Вишневый сад“, „Трех сестер“ и лишь потом умер».
Но ведь не один Чехов не сжигал своих произведений, Пушкин тоже не сжигал, да и другие писатели вплоть до Гиппиус не сжигали, и винить Чехова за то, что у него не было эпилепсии, психической болезни, более чем странно, говоря мягко.
Разве при его состоянии здоровья нормально было предпринимать путешествие на Сахалин? Разве нормально было так легкомысленно относиться к своему кровохарканью, как он относился с 1884 года, а в 1897 году, несмотря на болезнь, поехал в Москву, чтобы повидаться с Л. А. Авиловой?..
Гиппиус уверяет, что Чехов «нормально» ухаживал за женщиной, если она ему нравится.
Гиппиус находит, что и женитьба его была нормальна. А я нахожу, что это было медленным самоубийством: жизнь с женой при его болезни — частые разлуки, вечное волнение уже за двоих — Ольга Леонардовна была два раза при смерти в течение трех лет брачной жизни, — а его вечное стремление куда-то ехать при его болезни. Даже во время Японской войны на Дальний Восток — и не корреспондентом, а врачом!
Далее:
«Чехов, уже по одной цельности своей, — человек замечательный. Он, конечно, близок и нужен душам, тяготеющим к „норме“, и к статике, но бессловесным».
<…>
Я уже отмечал, что, несмотря на то, что, по мнению Гиппиус, Чехов был человек «момента», его читают не только «души, тяготеющие к норме», его читают всякие души, положительно весь мир. Она совершенно не поняла Чехова не только как писателя, а и как человека, ей казалось, что Чехову Италия совсем не понравилась, — не буду на этом останавливаться, так как об этом он очень много писал своим родным и друзьям. Видимо, он нарочно при Мережковских был сдержан, говорил пустяки, его раздражали восторги их, особенно «мадам Мережковской», которая ему, видимо, не нравилась, и она не простила ему его равнодушия не к Италии, а к себе.
И гораздо меньше изменялись на своем пути литературном и жизненном Мережковские, чем Чехов, это у них не было «возраста», это они родились почти такими же, как и умерли!
<…>
Такого, как Чехов, писателя еще никогда не было!
Поездка на Сахалин, книга о нем, работа во время голода и во время холеры, врачебная практика, постройка школ, устройство таганрогской библиотеки, заботы о постановке памятника Петру в родном городе — и все это в течение семи лет при развивающейся смертельной болезни!
А его упрекали в беспринципности! Ибо он не принадлежал ни к какой партии и превыше всего ставил творческую свободу, что ему не прощалось, не прощалось долго.
VI
— Была ли в его жизни хоть одна большая любовь? — Думаю, что нет.
«Любовь, — писал он в своей записной книжке, — это или остаток чего-то вырождающегося, бывшего когда-то громадным, или же это часть того, что в будущем разовьется в нечто громадное, в настоящем же оно не удовлетворяет, дает гораздо меньше, чем ждешь».
Нет, была. К Авиловой.
Воспоминания Авиловой, написанные с большим блеском, волнением, редкой талантливостью и необыкновенным тактом, были для меня открытием.
Я хорошо знал Лидию Алексеевну, отличительными чертами которой были правдивость, ум, талантливость, застенчивость и редкое чувство юмора даже над самой собой.
Прочтя ее воспоминания, я и на Чехова взглянул иначе, кое-что по-новому мне в нем приоткрылось.
Я и не подозревал о тех отношениях, какие существовали между ними.
А ведь до сих пор многие думают, что Чехов никогда не испытал большого чувства.
Так думал когда-то и я.
Теперь же я твердо скажу: испытал! Испытал к Лидии Алексеевне Авиловой.
Чувствую, что некоторые спросят: а можно ли всецело доверять ее воспоминаниям?
Лидия Алексеевна была необыкновенно правдива. Она не скрыла даже тех отрицательных замечаний, которые делал Чехов по поводу ее писаний, как и замечаний о ней самой. Редкая женщина!
А сколько лет она молчала. Ни одним словом не намекнула при жизни (ведь я с ней встречался) о своей любви.
Ее воспоминания напечатаны через десять лет после ее смерти.
<…>
В ней все было очаровательно: голос, некоторая застенчивость, взгляд чудесных серо-голубых глаз…
И как хороша была она в трауре, по ее рано умершему развязному мужу, всегда с противной насмешливостью относившемуся к ее литературным писаниям.
— Ну, мать, пора в постель, довольно твоего «творчества»!
И она очень смущалась этим «творчеством», — как, например, чудесно рассказывала о своем первом посещении «Вестника Европы»…
Для меня целовать ее нежную благородную руку было всегда истинным счастьем.
А вся жизнь ее поистине глубокой любви к Чехову, трагической даже и по…
Авилова (в девичестве Страхова, родная сестра толстовца), была как раз одна из тех, что так любил Чехов, употреблявший для них слово, мне всегда неприятное: «Роскошная женщина». Таких обычно называют «русскими красавицами», «кровь с молоком» (выражение для меня несносное, ибо что может быть хуже этой смеси — «кровь и молоко»?). И когда говорят так: «русская красавица» — чаще всего относят таких женщин к купеческой красоте. Но у Авиловой не было ничего купеческого: был высокий рост, прекрасная женственность, сложение, прекрасная русая коса, но все прочее никак не купеческое, а породистое, барское. Я знал ее еще в молодости (хотя уже и тогда было у нее трое детей) и всегда восхищался ею (при всей моей склонности к другому типу: смуглому, худому, азиатскому).
Я любил с ней разговаривать, как с редкой женщиной, в ней было много юмора даже над самой собой, суждения ее были умны, в людях она разбиралась хорошо. И при всем этом она была очень застенчива, легко растеривалась, краснела…
Например, с непередаваемым юмором необыкновенно весело рассказывала она о своем первом посещении редакции толстого журнала «Вестник Европы».
«Наконец после долгих колебаний я собралась с духом и понесла свой рассказ редактору Стасюлевичу. И, как на грех, дверь открывает мне он сам. Я так оробела, что начала, не поздоровавшись, бормотать: „Вот… я… я Матвей… Стасюлей Матвееви… Михаил Стясюлевич… Я потому… хочу предложить вам себя…“ Тут я уже так запуталась, что, не отдав рукописи, выскочила, как угорелая на улицу… Он, вероятно, принял меня за сумасшедшую…»
<…>
Да, с воспоминаниями Авиловой биографам Чехова придется серьезно считаться.
<…>
И до чего все было сложно. Разве можно после опубликования воспоминаний Авиловой серьезно говорить о Мизиновой.
<…>
Да, одиночество его было велико. Он знал все о своей болезни, любил Авилову, боялся за нее; любя, оберегал ее, не хотел разрушать семью, зная, какая она мать.
<…>
VII
После нашего отъезда из Москвы мы не имели сведений о судьбе Лидии Алексеевны Авиловой. В 1922 году, когда мы жили в Париже, в середине ноября, пришло письмо из Чехословакии. Взглянув на последнюю страницу, я увидел подпись: Л. Авилова. Странно было то, что письмо было отправлено по адресу, по которому обычно нам писали из России родные. В те годы мы жили почти исключительно тем, что происходило в России, в вечном волнении за судьбу родных и близких. Ее письмо мы читали, волнуясь.
<…>
В Чехословакию Лидия Алексеевна приехала к своей больной дочери, вот к той Ниночке, которая очаровала меня в Москве, которая когда-то, будучи ребенком, сидела на коленях у Антона Павловича во время последнего свидания на вокзале.
Мне ничего не известно о судьбе Авиловой после возвращения ее в Россию. Переписка наша прекратилась.
В примечаниях, приложенных к сборнику воспоминаний современников о Чехове, кратко сказано:
Авилова Лидия Алексеевна (1865–1942).
<…>
Из части второй
I
В 1905 году, с конца сентября и до 18 октября, я в последний раз гостил в опустевшем, бесконечно грустном ялтинском доме Чехова, жил с Марьей Павловной и «мамашей», Евгенией Яковлевной. Дни стояли серенькие, сонные, жизнь наша шла ровно, однообразно — и очень нелегко для меня: все вокруг — и в саду, и в доме, и в его кабинете, — было, как при нем, а его уже не было! Но нелегко было и решиться уехать, прервать эту жизнь. Слишком жаль было оставлять в полном одиночестве этих двух женщин, несчастных сугубо в силу чеховской выдержки, душевной скрытности; часто я видел их слезы, но безмолвно, тотчас преодолеваемые; единственное, что они позволяли себе, были просьбы ко мне побыть с ними подольше: «Помните, как Антоша любил, когда вы бывали или гостили у нас!» Да и мне самому было трудно покинуть этот уже ставший чуть ли не родным для меня дом, — а я уже чувствовал, что больше никогда не вернусь в него, — этот кабинет, где особенно все осталось, как было при нем: его письменный стол со множеством всяких безделушек купленных им по пути с Сахалина, в Коломбо, безделушек милых, изящных, но всегда дививших меня, — я бы строки не мог написать среди них, — его узенькая, белая, опрятная, как у девушки, спальня, в которую всегда отворена была дверь из кабинета. А в кабинете, в нише с диваном (сзади кресла перед письменным столом), в которой он любил сидеть, когда что-нибудь читал, лежало «Воскресение» Толстого, и я все вспоминал, как он ездил к Толстому, когда Толстой лежал больной в Крыму, на даче Паниной.
Всегда было много крикливых людей, теперь их особенно много. А он был из тех, о ком сказал Саади: «Тот, у кого в кармане склянка с мускусом, не кричит о том на всех перекрестках: за него говорит аромат мускуса…» Я писал, что никогда ни с кем не был он дружен, близок по-настоящему. Теперь это подтверждается.
Если случалось, что бездарный человек пускался при нем кого-нибудь характеризовать или копировать, он не знал, куда глаза спрятать от стыда за этого человека. Что же чувствовал бы он, читая про свою «нежность»! Очень редко и очень осторожно следует употреблять это слово, говоря о нем. Еще более были бы противны ему эти «теплота и грусть». А ведь идут еще дальше: его, воплощенную сдержанность, твердость и ясность, сравнивают иногда с Коммиссаржевской!
Может быть, в силу этой ненависти к «высоким» словам, к так называемым поэтическим красотам, к неосторожному обращению со словом, свойственному многим стихотворцам, а теперешним в особенности, так редко удовлетворялся он стихами. Как восторженно говорил о лермонтовском «Парусе»!
— Это стоит всего Брюсова и Урениуса со всеми их потрохами, — сказал он однажды.
— Какого Урениуса? — спросил я.
— А разве нет такого поэта?
— Нет.
— Ну, Упрудиуса, — сказал он серьезно. — Вот им бы в Одессе жить. Там думают, что самое поэтическое место в мире — Николаевский бульвар: и море, и кафе, и музыка, и все удобства, — каждую минуту сапоги можно почистить.
Вспоминаю с великим удовольствием еще то, что он терпеть не мог таких слов, как «красиво», «сочно», «красочно».
— Хорошо у Полонского сказано, — говорил я, — «красиво — уж не красота».
— Чудесно! — соглашался он. — А «красочно» — ведь они же не знают, что у художников это бранное слово!
И порою, смеясь, утверждал, что одно из лучших стихотворений начала двадцатого века написано на стене его ялтинского дома Гиляровским:
Край, друзья, у вас премилый, Наслаждайся и гуляй: Шарик, Тузик косорылый И какой-то Бакакай.Представители того «нового» искусства, которое так хорошо назвал «пересоленной карикатурой на глупость» Толстой, смешны и противны были ему. Да и мог ли он, воплощенное чувство меры, благородства, человек высшей простоты, высшего художественного целомудрия, не возмущаться этими пересоленными карикатурами на глупость, и на величайшую вычурность, и на величайшее бесстыдство, и на неизменную лживость!
Он умер не вовремя. Будь жив он, может быть, все-таки не дошла бы русская литература до такой пошлости, до такого падения, до изломавшихся прозаиков, до косноязычных стихотворцев, кричавших на весь кабак о собственной гениальности…
Выдумывание художественных подробностей и сближало нас, может быть, больше всего. Он был жаден до них необыкновенно, он мог два-три дня подряд повторять с восхищением удачную художественную черту, и уже по одному этому не забуду я его никогда, всегда буду чувствовать боль, что его нет.
Раз он купил книжечку, составленную из некоторых произведений моих и Андреева, с пышным заглавием «Восходящие звезды» и с нашими портретами на обложке, — ездил на набережную и возвратился усталый, с зелено-серым лицом с пепельными губами, но с улыбкой на них и с затаенным блеском в глазах, в том внутреннем возбуждении, которое вспыхивало в нем порою по самому ничтожному поводу и держалось долго, означая, что этот ничтожный повод был толчком для творческой игры его мысли, пробудил того Чехова, который когда-то сказал в молодом задоре Короленке: «Хотите, напишу рассказ вот про эту пепельницу?» И как молодо хохотал он в этот день, фантазируя, с каким благоговением могут читать эту книжечку где-нибудь в Мариуполе, Бердянске, и глядя то на мой портрет, — я вышел щеголеватым брюнетом, — то на портрет Андреева в поддевке:
— Это французский депутат Букишон, а это казак Ашинов.
— Ах, с какой чепухи я начал. Боже мой, с какой чепухи! — говорил он.
Если бы он даже ничего не написал, кроме «Скоропостижной конской смерти» или «Романа с контрабасом», то и тогда можно было бы сказать, что в русской литературе блеснул и исчез удивительный ум, потому что ведь выдумывать и уметь сказать хорошую нелепость, хорошую шутку могут только очень умные люди, те, у которых ум «по всем жилушкам переливается». И сам он чрезвычайно ценил этот талант, талант шутки, и тех, кто быстро улавливают шутку.
— Да-с, это уж вернейший признак: не понимает человек шутки, пиши пропало!
— А чаще всего, — сказал я однажды, — страдают этим женщины. Кажись, и умна, а не понимает!
— Ах, да, да. И знаете: это уже не настоящий ум, будь человек хоть семи пядей во лбу.
«В жизни все просто», — обыкновенно говорил он, бракуя в литературе все нарочитое, искусно скомпанованное, рассчитанное на то, чтобы удивить читателя.
<…>
Чехову не нравился его успех. Он боялся своей славы, боялся стать «модным писателем».
<…>
Во всем, что относилось к труду, он был суров, непримирим: как беспощадно отчитал он Лику Мизинову, когда она, взявшись за перевод, не выполнила работы.
<…>
…Удивительно знал он женское сердце, тонко и сильно чувствовал женственность, среди образов, рождавшихся в его мечте, есть образы пленительные, много было любивших его, и редко кто умел так, как он, говорить с женщинами, трогать их, входить с ними в душевную близость…
Очень зоркие глаза дал ему бог!
Из Воронежа родители увезли меня в свое орловское имение. Вот с этой поры я и начинаю помнить себя. Там прошло мое детство, отрочество.
В те годы уже завершалось пресловутое дворянское «оскудение», — под таким заглавием написал когда-то свою известную книгу ныне забытый Терпигорев-Атава. После него называли последним из тех, которые «воспевали» погибающие дворянские гнезда, меня, а затем «воспел» погибшую красоту «вишневых садов» Чехов, имевший весьма малое представление о дворянах, помещиках, о дворянских усадьбах, о их садах, но еще и теперь чуть не всех поголовно пленяющий мнимой красотой своего «Вишневого сада». Я Чехова за то очень многое, истинно прекрасное, что дал он, причисляю к самым замечательным русским писателям, но пьес его не люблю, мне тут даже неловко за него, неприятно вспоминать этого знаменитого дядю Ваню, доктора Астрова, который все долбит ни к селу ни к городу что-то о необходимости насаждения лесов, какого-то Гаева, будто бы ужасного аристократа, для изображения аристократизма которого Станиславский все время с противной изысканностью чистил ногти носовым батистовым платочком, — уж не говорю про помещика с фамилией прямо из Гоголя: Симеонов-Пищик. Я рос именно в «оскудевшем» дворянском гнезде. Это было глухое степное поместье, но с большим садом, только не вишневым, конечно, ибо, вопреки Чехову, нигде не было в России садов сплошь вишневых: в помещичьих садах бывали только части садов, иногда даже очень пространные, где росли вишни, и нигде эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову, как раз возле господского дома, и ничего чудесного не было и нет в вишневых деревьях, совсем некрасивых, как известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору цветения (вовсе не похожими на то, что так крупно, роскошно цветет как раз под самыми окнами господского дома в Художественном театре); совсем невероятно к тому же, что Лопахин приказал рубить эти доходные деревья с таким глупым нетерпением, не давши их бывшей владелице даже выехать из дому: рубить так поспешно понадобилось Лопахину, очевидно, лишь затем, что Чехов хотел дать возможность зрителям Художественного театра услыхать стук топоров, воочию увидеть гибель дворянской жизни, а Фирсу сказать под занавес: «Человека забыли…» Этот Фирс довольно правдоподобен, но единственно потому, что тип старого барского слуги уже сто раз был написан до Чехова. Остальное, повторяю, просто несносно. Гаев, подобно тому как это делают некоторые персонажи и в других пьесах Чехова, постоянно бормочет среди разговора с кем-нибудь чепуху, будто бы играя на бильярде: «Желтого в середину… Дуплет в угол…» Раневская, будто бы помещица и будто бы парижанка, то и дело истерически плачет и смеется: «Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо! Детская! Милая моя, прекрасная комната! (плачет). Шкапик мой родной! (целует шкап). Столик мой! О, мое детство, чистота моя! (смеется от радости). Белый, весь белый сад мой!» Дальше, — точно совсем из «Дяди Вани», — истерика Ани: «Мама, мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя… я благословляю тебя! Вишневый сад продан, но не плачь, мама! Мы насадим новый сад, роскошнее этого, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама!» А рядом со всем этим студент Трофимов, в некотором роде «Буревестник»: «Вперед! — восклицает он. — Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там, вдали! Вперед! Не отставай, друзья!»
Раневская, Нина Заречная… Даже и это: подобные фамилии придумывают себе провинциальные актрисы.
<…>
Печататься я начал в конце восьмидесятых годов. Так называемые декаденты и символисты, появившиеся через несколько лет после того, утверждали, что в те годы русская литература «зашла в тупик», стала чахнуть и сереть, ничего не знала, кроме реализма, протокольного описания действительности… Но давно ли перед тем появились, например, «Братья Карамазовы», «Клара Милич», «Песнь торжествующей любви»? Так ли уж реалистичны были печатавшиеся тогда «Вечерние огни» Фета, стихи В. Соловьева? Можно ли назвать серыми появлявшиеся в ту пору лучшие вещи Лескова, не говоря уже о Толстом, о его изумительных, несравненных «народных» сказках, о «Смерти Ивана Ильича», «Крейцеровой сонате»? И так ли уж были не новы — и по духу и по форме — как раз в то время выступившие Гаршин, Чехов?
«Тайный рыцарь, Кормщик, Зеленая звезда»… Тогда и заглавия книг всех этих рыцарей и кормщиков были не менее удивительны: «Снежная маска», «Кубок метелей», «Змеиные цветы»… Тогда, кроме того, ставили их, эти заглавия, непременно на самом верху обложки в углу слева. И помню, как однажды Чехов, посмотрев на такую обложку, вдруг радостно захохотал и сказал:
— Это для косых!
Мне Чехов говорил о «декадентах» не только как о жуликах.
— Какие они декаденты! — говорил он. — Они здоровеннейшие мужики, их бы в арестантские роты отдать…
Правда — почти все были «жулики» и «здоровеннейшие мужики», но нельзя сказать, что здоровые, нормальные. Силы (да и литературные способности) у «декадентов» времени Чехова и у тех, что увеличили их число и славились впоследствии, называясь уже не декадентами и не символистами, а футуристами, мистическими анархистами, аргонавтами, равно как и у прочих, — у Горького, Андреева, позднее, например, у тщедушного, дохлого от болезней Арцыбашева или у Кузьмина с его полуголым черепом и гробовым лицом, раскрашенным, как труп проститутки, — были и впрямь велики, но таковы, какими обладают истерики, юроды, помешанные: ибо кто же из них мог назваться здоровым в обычном смысле этого слова? Все они были хитры, отлично знали, что потребно для привлечения к себе внимания, но ведь обладает всеми этими качествами и большинство истериков, юродов, помешанных. И вот: какое удивительное скопление нездоровых, ненормальных в той или иной форме, в той или иной степени было еще при Чехове и как все росло оно в последующие годы! Чахоточная и совсем недаром писавшая от мужского имени Гиппиус, одержимый манией величия Брюсов, автор «Тихих мальчиков», потом «Мелкого беса», иначе говоря патологического Передонова, певец смерти и «отца» своего дьявола, каменно-неподвижный и молчаливый Сологуб, — «кирпич в сюртуке», по определению Розанова, буйный «мистический анархист» Чулков, исступленный Волынский, малорослый и страшный своей огромной головой и стоячими черными глазами Минский.
Многим это покажется очень странным, но это так: он не любил актрис и актеров, говорил о них так:
— На семьдесят пять лет отстали в развитии от русского общества. Пошлые, насквозь прожженные самолюбием люди. Вот, например, вспоминаю Соловцова…
— Позвольте, — говорю я, — а помните телеграмму, которую вы отправили Соловцовскому театру после его смерти?
— Мало ли что приходится писать в письмах, телеграммах. Мало ли что и про что говоришь иногда, чтобы не обижать…
И, помолчав, с новым смехом:
— И про Художественный театр…
В девяносто девятом году весной иду как-то в Ялте по набережной и вижу: навстречу идет с кем-то Чехов, закрывается газетой, не то от солнца, не то от этого кого-то, идущего рядом с ним, что-то басом гудящего и все время высоко взмахивающего руками из своей крылатки. Здороваюсь с Чеховым, он говорит: «Познакомьтесь, Горький». Знакомлюсь, гляжу и убеждаюсь, что в Полтаве описывали его правильно: и крылатка, и вот этакая шляпа, и дубинка. Под крылаткой желтая шелковая рубаха, подпоясанная длинным и толстым шелковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражий, а просто высокий и несколько сутулый, рыжий парень с зеленоватыми глазками, с утиным носом в веснушках, с широкими ноздрями и желтыми усиками, которые он, покашливая, все поглаживает большими пальцами: немножко поплюет на них и погладит. Пошли дальше, он закурил, крепко затянулся и тотчас же опять загудел и стал взмахивать руками. Быстро выкурив папиросу, пустил в ее мундштук слюны, чтобы загасить окурок, бросил его и продолжал говорить, изредка быстро взглядывая на Чехова, стараясь уловить его впечатление. Говорил он громко, якобы от всей души, с жаром, и все образами, и все с героическими восклицаниями, нарочито грубоватыми, первобытными. Это был бесконечно длинный и бесконечно скучный рассказ о каких-то волжских богачах из купцов и мужиков, — скучный прежде всего по своему однообразию гиперболичности, — все эти богачи были совершенно былинные исполины, — а кроме того, и по неумеренности образности и пафоса. Чехов почти не слушал. Но Горький все говорил и говорил…
Чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружеского сближения, с его стороны несколько сентиментального, с каким-то застенчивым восхищением мною:
— Вы же последний писатель от дворянства, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого!
В тот же день, как только Чехов взял извозчика и поехал к себе в Аутку, Горький позвал меня зайти к нему на Виноградскую улицу, где он снимал у кого-то комнату, показал мне, морща нос, неловко улыбаясь счастливой, комически-глупой улыбкой, карточку своей жены с толстым, живоглазым ребенком на руках, потом кусок шелка голубенького цвета и сказал с этими гримасами:
— Это, понимаете, я на кофточку ей купил… этой самой женщине… Подарок везу…
Теперь это был совсем другой человек, чем на набережной, при Чехове: милый, шутливо-ломающийся, скромный до самоунижения, говорящий уже не басом, не с героической грубостью, каким-то все время как бы извиняющимся, наигранно-задушевным волжским говорком с оканьем. Он играл и в том и в другом случае, — с одинаковым удовольствием, одинаково неустанно, — впоследствии я узнал, что он мог вести монологи хоть с утра до ночи и все одинаково ловко, вполне входя то в ту, то в другую роль, в чувствительных местах, когда старался быть особенно убедительным, с легкостью вызывая даже слезы на свои зеленоватые глаза.
Маленькая Ялта, розы, кипарисы… Кофейня и купальня Берне на сваях возле набережной. Мои утра там. Купальщицы — не в костюмах, а в рубашках, вздувающихся в воде.
Весной 1901 года мы с Куприным были в Ялте (Куприн жил возле Чехова в Аутке). Ходили в гости к начальнице Ялтинской женской гимназии Варваре Константиновне Харкевич, восторженной даме, обожательнице писателей. На Пасхе мы пришли к ней и не застали дома.
Пошли в столовую, к пасхальному столу, и, веселясь, стали пить и закусывать.
Куприн сказал: «Давай напишем и оставим ей на столе стихи». И стали, хохоча, сочинять, и я написал на скатерти (она потом вышила):
В столовой у Варвары Константиновны Накрыт был стол отменно-длинный, Была тут ветчина, индейка, сыр, сардинки — И вдруг ото всего ни крошки, ни соринки: Все думали, что это крокодил, А это Бунин в гости приходил.Чехов несколько дней смеялся и даже выучил наизусть.
Москва.
У Лубянской стены, где букинисты, их лавки, ларьки. Толстомордый малый, торгующий «с рук» бульварными и прочими потрепанными книгами, покупает у серьезного старика-букиниста сочинения Чехова. Букинист назначил двенадцать копеек за том, малый дает восемь. Букинист молчит, малый настаивает. Он лезет, пристает — букинист делает вид, что не слушает, нервно поправляет на ларьке книги. И вдруг с неожиданной и необыкновенной энергией:
— Вот встал бы Чехов из гроба, обложил бы он тебя по….! Писал, писал человек, двадцать три тома написал, а ты, мордастый…, за трынку хочешь взять!
16. Х 30. Грасс, А. М.
II
Вот надпись, сделанная Антоном Павловичем на подаренной мне книге. Она осталась в Москве. Опубликована в 20 томе его писем:
«Ивану Алексеевичу Бунину с восторгом и благоговением. Антон Чехов».
Удивительная у него родословная. Крестьянский род, талантливый, явившийся с севера.
Зуров мне говорил, что в старину среди мастеров лисиного, пушечного и колокольного дела были знаменитые в свое время Чоховы. Может быть, вот почему в семье Чеховых называли их двоюродного брата Михаила Михайловича Чехова — Чоховым. Возможно, что так и произносилась когда-то их фамилия.
На протяжении XVII столетия родиной предков А. П. Чехова было село Ольховатка, Острогожского уезда, Воронежской губернии.
…Первый Чехов, поселившийся здесь, был пришельцем из других мест и, вероятно, с севера, а не из украинских земель, так как речь Чеховых и в XIX веке и раньше была русская. (Называя себя неоднократно в письмах «хохлом», А. П. Чехов, вероятно, имел в виду, что его бабушка со стороны отца была украинкой.)
Иван, Артем и Семен и все их потомки в пяти поколениях числом более ста шестидесяти были землепашцами.
Младший сын Михаила Емельяновича Чехова — Василий сельским хозяйством не занимался. Он был иконописцем.
Со стороны матери:
Из метрических книг Никольской церкви села Хотимль, раскинувшегося неподалеку на левом берегу реки Тезы, удалось установить, что в середине XVIII века в деревне Фофаново жил крепостной крестьянин Никита Морозов, прапрадед А. П. Чехова со стороны матери.
Второй сын Никиты Морозова, Герасим, родной прадед А. П. Чехова, по данным тех же церковных книг, родился в деревне Фофаново в 1764 году.
Герасим Никитич имел свои баржи, в которых сплавлял хлеб и лес. Кроме того, он торговал другими товарами, в том числе поповскими бобровыми шапками и собольими мехами.
Сплав хлеба производился вниз по реке Цне от Моршанска — Тамбовской губернии, затем по Оке и, наконец, вверх по Клязьме и Тезе. В обратную сторону шел лес.
Отрабатывая офенский оброк, Герасим Никитич сумел в пятидесятитрехлетнем возрасте выкупиться у своего помещика, поручика А. И. Татаринцева, на волю, выкупив вместе с собой и своего младшего сына Якова будущего родного деда А. П. Чехова.
…Известно, что многие из внуков Герасима Никитича поумирали в раннем возрасте от чахотки.
Через три года после выкупа младший сын Герасима Никитича в восемнадцатилетнем возрасте женился на купеческой дочери Александре Ивановне Кохмаковой.
Деревня Сергеево, родина Кохмаковых, расположена в четырех километрах от знаменитого села Палеха, крупного иконописного центра, оказавшего влияние на жизнь и деятельность жителей населенных мест.
Отец Александры Ивановны, бабушки А. П. Чехова, Иван Матвеевич Кохмаков был торговцем-офеней. Он торговал владимирскими льняными изделиями.
Ольховатка, село Воронежской губернии, Острогожского уезда, принадлежала помещику Черткову, крепостным которого был дед Чехова, Егор Михайлович, родом из Ольховатки. Там же родились и дядя Чехова Митрофан Егорович и отец его Павел Егорович.
<…>
Есть намек на намерение Антона Павловича по окончании гимназии (через 2 года) поступить в Цюрихский университет, что видно из письма Александра Павловича к нему от 23 июня 1877 года (Письма Ал. Чехова, стр. 42).
Он, по-видимому, учил только немецкий язык, хотел отправиться в немецкую Швейцарию.
Был стипендиатом таганрогской городской Управы. Стипендия (25 рублей в месяц) высылалась неаккуратно.
…с юности заботился о других.
Селиванов, к которому не совсем чистыми путями перешел во владение таганрогский дом Чехова, получил его за пятьсот рублей.
У Чехова каждый год менялось лицо:
В 79 году по окончании гимназии: волосы на прямой ряд, длинная верхняя губа с сосочком.
В 84 году: мордастый, независимый; снят с братом Николаем, настоящим монголом.
В ту же приблизительно пору портрет, писанный братом: губастый, башкирский малый.
В 90 году: красивость, смелость умного живого взгляда, но усы в стрелку.
В 92 году: типичный земский доктор.
В 97 году: в каскетке, в пенсне. Смотрит холодно в упор.
А потом: какое стало тонкое лицо!
Самый лучший портрет его приложен к книге «Чехов в воспоминаниях современников».
<…>
Жизнь его, с детства и до последних лет, была перегружена страданиями, лишениями, тяжелыми трудностями.
Чехов жил небывало напряженной внутренней жизнью.
По мнению М. П. Чехова, годы 1888–1889 были какими-то необыкновенными по душевному подъему Антона Павловича: «Он всегда был весел, шутил много и без устали работал, не мог обходиться без людей».
<…>
Среди видений, посещавших его, была темная, грязная лестница, в пролет которой бросился Гаршин, которого он любил.
<…>
Мелиховские наблюдения послужили основой для рассказов Чехова о русской деревне.
Толстой, отношение которого к Чехову было отношением нежной влюбленности, сказал: «Вот вы — русский! да, очень, очень русский», — ласково улыбаясь, обнял Чехова за плечо.
<…>
Перед тем как засесть за книгу «Остров Сахалин», Чехов совершил с Сувориным первое свое заграничное путешествие на Запад.
<…>
Чехов любил с приятелями обедать, ужинать, инициатива была его.
Двадцатого октября 1888, Шехтелю: «…Надо бы нам с Вами поужинать…»
Прежний характер матери (а отец!).
<…>
…описание воскресного торга у Чехова (в Москве на Трубной площади: «Копошатся, как раки в решете, сотни тулупов, бекеш, меховых картузов, цилиндров. Слышно разноголосое пение птиц, напоминающее весну»).
Хорошо.
А «Убийство» все-таки необыкновенно замечательный рассказ.
Двадцатого марта 1897 поехал в СПБ, но в Москве — кровь — и клиника! А тут еще Авилова…
Лучшие, по моему мнению, произведения Чехова.
1883 — Дочь Альбиона.
1884 — Жалобная книга. Устрицы.
1885 — Ворона.
1886 — Святой ночью. Тина. На пути. Хористка.
1887 — Беглец. Холодная кровь. Тиф. Каштанка. Враги.
1888 — Степь. Припадок. Пари (?). Красавицы (первая). Именины (?). Скучная история.
1889 — Княгиня.
1890 — Гусев.
1891 — Дуэль.
1892 — Попрыгунья (рассказ хорош, но ужасное заглавие). Жена. Палата № 6. В ссылке (напечатано во «Всемирной иллюстрации»).
1893 — Рассказ неизвестного человека. Володя большой и Володя маленький.
1894 — Учитель словесности. Черный монах. Бабье царство. Студент. Рассказ старшего садовника.
1895 — Три года. Убийство. Белолобый. Супруга. Ариадна (хороша женщина).
1896 — Чайка. Дом с мезонином.
1897 — Печенег.
1898 — Ионыч. О любви. Душечка.
1899 — Дама с собачкой. На святках.
1900 — В овраге.
1902 — Архиерей.
III
Чехова до сих пор по-настоящему не знают.
IV
Был у него период жизни необыкновенный. Прав М. П. Чехов, — в эти годы он переживал (судя по письмам) высокий душевный подъем. (Да, но болезнь уже сказывалась.)
<…>
Левитан Исаак Ильич (1861–1900) был психически нездоров. А. П. любил его. В 1885 году летом они жили поблизости от Воскресенска: Чеховы в Бабкине, а Левитан — в Максимовке. Рыбная ловля, охота. Левитан почти поправился.
Чехов носил летом рубашку красного цвета.
Чехов был связан с Чайковским и Рахманиновым.
«Хмурые люди» посвящены Петру Ильичу Чайковскому.
Музыка Чайковского — надо просмотреть письма, рассказы «После театра», «Рассказ неизвестного человека», «Три года», гл. X.
Чайковский Модест Ильич, брат композитора, был большим поклонником Чехова. Но обратил его внимание на Чехова Петр Ильич.
Я был знаком, с Модестом Ильичом. Встречался с ним на Капри. Познакомился у Горького. Очень был приятный человек, хорошо воспитанный и привлекательный.
В библиотеке Чехова хранится «Фантазия для оркестра» Рахманинова. Надпись такова: «…автору рассказа „На пути“, содержание которого с тем же эпиграфом, служило программой этому музыкальному произведению, 9 ноября 1898 г.»
«На пути» впервые напечатано 25 декабря 1888 года. Писал три недели.
<…>
VI
Жаль, что у меня на руках нет писем Антона Павловича. Единственно, что уцелело, это его фотография. На ней надпись:
Милому Ивану Алексеевичу
Бунину
от коллеги
Антон Чехов. 1901.11.19
Автобиографические заметки, дневники, записные книжки
Автобиографическая заметка
Просьбу дать для «Русской литературы XX века» сведения о моей жизни и литературной деятельности могу в настоящее время исполнить только частично — кратко сообщить только кое-что.
Я родился 10 октября 1870 года. Отца моего звали Алексеем Николаевичем, мать — Людмилой Александровной 9 в девичестве Чубаровой).
О роде Буниных я кое-что знаю. Род этот дал замечательную женщину прошлого века, поэтессу А. П. Бунину, и поэта В. А. Жуковского (незаконного сына А. И. Бунина); в некотором родстве мы с бр<атьями> Киреевскими, Гротами, Юшковыми, Воейковыми, Булгаковыми, Соймоновыми; о начале нашем в «Гербовнике дворянских родов» сказано, между прочим, следующее: «Род Буниных происходит от Симеона Бунковского, мужа знатного, выехавшего в XV в. из Польши в великому князю Василию Васильевичу. Правнук его Алекснадр Лаврентьев сын Бунин служил по Владимиру и убит под Казанью. Стольник Козьма Леонтьев Бунин жалован за службу и храбрость на поместья грамотой. Равным образом и другие многие Бунины служили воеводами и в иных чинах и владели деревнями. Все сие доказывается бумагами Воронежского дворянского депутатского собрания о внесении рода Буниных в родословную книгу в VI часть, в число древнего дворянства…»
Род (тоже древнедворянский) Чубаровых мне почти неведом. Знаю только, что Чубаровы — дворяне Костромской, Московской, Орловской и Тамбовской губерний и что были у деда и у отца матери имения в Орловском и Трубчевском уездах. Да и сами Чубаровы знали о себе, вероятно, не больше: с полным пренебрежением к сохранению свидетельств о родовых связях жили наши дворяне. Я же чуть не с отрочества был «вольнодумец», вполне равнодушный не только к своей голубой крови, но и к полной утрате всего того, что было связано с нею: исключительно поэтическими были мои юношеские, да и позднейшие «дворянские элегии», которых, кстати сказать, у меня гораздо меньше, чем видели некоторые мои критики, часто находившие черты личной жизни и личных чувств даже в тех моих писаниях, где почти и следа нет их, и вообще многое навязавшие мне.
Прадед мой по отцу был богат. У деда была земля в Орловской губернии (в Елецком уезде), в Тамбовской и Воронежской, но, кажется, понемногу. Деда братья его обделили. Он был не совсем нормальный, «тронувшийся» человек. Наследство осталось от него не бог весть какое, отец же и того не пощадил. Беспечен и расточителен он был необыкновенно. А Крымская кампания, в которой он участвовал «охотником», как тогда выражались, и переезд в семидесятом году в Воронеж для воспитания детей, моих старших братьев Юлия и Евгения, способствовали нашему разорению особенно. В Воронеже-то и родился я. Там прошли первые три года моей жизни. (Очень слабо, но все-таки помню кое-что из того времени.) Но расти в городе мне не пришлось. Страсть к клубу, к вину и картам заставила отца через три с половиной года возвратиться в Елецкий уезд, где он поселился на своем хуторе Бутырки. Тут, в глубочайшей поле тишине, летом среди хлебов, подступавших к самым нашим порогам, а зимой среди сугробов, и прошло все детство, полное поэзии печальной и своеобразной.
Отец, человек необыкновенно сильный и здоровый физически, был до самого конца своей долгой жизни и духом почти столь же здоров и бодр. Уныние овладело им в самых тяжелых положениях на минуту, гнев — был очень вспыльчив — и того меньше. До тридцати лет, до похода в Крым, он не знал вкуса вина. Затем стал пить и пил временами ужасно, хотя не имел, кажется, ни одной типической черты алкоголика, совсем не пил иногда по нескольку лет (я рожден как раз в один из таких светлых промежутков) и не соединял с этой страстью никаких других дурных страстей. Учился он недолго (в Орловской гимназии), ученья терпеть не мог, но читал все, что попадало под руку, с большой охотой. Ум его, живой и образный, — он и говорил всегда удивительно энергическим и картинным языком, — не переносил логики, характер — порывистый, решительный, открытый и великодушный — преград. Все его существо было столь естественно и наивно пропитано ощущением своего барского происхождения, что я не представляю себе круга, в котором он смутился бы. Но даже его крепостные говорили, что «во всем свете нет проще и добрей» его. То, что было у матери, он тоже прожил, частью даже раздарил, ибо у него была какая-то неутолимая жажда раздавать.
Постоянная охота, постоянная жизнь на воздухе много помогли тому, что этот хороший, интересный и по натуре даровитый человек умер восьмидесяти лет легко и спокойно.
Мать ни в чем не походила на него, кроме разве доброты и здоровья, в силу которого она прожила тоже долго, несмотря на все горести своей жизни, на астму, изнурявшую ее в течение последних двадцати лет, и на тяжкий пост, который она, по своей горячей религиозности, возложила на себя и с редкой стойкостью переносила лет двадцать пять, вплоть до самой кончины. Отец ее тоже пил, но по-иному, культурнее, если можно так выразиться; послужив в военной службе, побывав за границей, пожив в Варшаве, он вообще выделялся среди помещиков, и воспитана была Людмила Александровна тоньше, чем Алексей Николаевич. Характер у нее был нежный, — что не исключало большой твердости при некоторых обстоятельствах, — самоотверженный, склонный к грустным предчувствиям, к слезам и печали. Преданность ее семье, детям, которых у нее было девять человек и из которых она пятерых потеряла, была изумительна, разлука с ними — невыносима. В пору же моего детства старшие мои братья были вдали от нее, отец все отлучался в тамбовское имение, пропадал на охоте, жил не по средствам, и, значит, немало было и существенных поводов для ее слез.
Неизменная бодрость отца и вообще некоторые его черты стали действовать на меня, в противовес ее влиянию, и сказываться во мне наследственно лишь позднее. Редко, повторяю, и бывал он с нами. А «дворня» наша невелика была, с соседями и родственниками мы в ту пору виделись мало, сверстников я не имел, — сестра Маша была еще совсем ребенок, — игрушек, развлечений и склонности к ним — тоже, впечатлителен был чрезвычайно. Все, помню, действовало на меня — новое лицо, какое-нибудь событие, песня в поле, рассказ странника, таинственные лощины за хутором, легенда о каком-то беглом солдате, едва живом от страха и голода и скрывавшемся в наших хлебах, ворон, все прилетавший к нам на ограду и поразивший мое воображение особенно тем, что жил он, как сказала мне мать, еще, может, при Иване Грозном, предвечернее солнце в тех комнатах, что глядели за вишневый сад на запад… Мать и дворовые любили рассказывать, — от них я много наслушался и песен, и рассказов, слышал, между прочим, «Аленький цветочек», «О трех старцах», — то, что потом читал. Им же я обязан и первыми познаниями в языке, — нашем богатейшем языке, в котором, благодаря географическим и историческим условиям, слилось и претворилось столько наречий и говоров чуть не со всех концов Руси.
Лет с семи началась для меня жизнь, тесно связанная в моих воспоминаниях с полем, с мужицкими избами, а потом и с ними и с моим воспитателем. Чуть не все свободное от учения время я, вплоть до поступления в гимназию, да и приезжая из гимназии на каникулы, провел в ближайших от Бутырок деревушках, у наших бывших крепостных и у однодворцев. Явились друзья, и порой я по целым дням стерег с ними в поле скотину… А воспитателем моим был престранный человек — сын предводителя дворянства, учившийся в Лазаревском институте восточных языков, одно время бывший преподавателем в Осташкове, Тамбове и Кирсанове, но затем спившийся, порвавший все связи родственные и общественные и превратившийся в скитальца по деревням и усадьбам. Он неожиданно привязался ко всем нам, а ко мне особенно, и этой привязанностью и своими бесконечными рассказами, — он немало нагляделся, бродя по свету, и был довольно начитан, владея тремя языками, — вызвал и во мне горячую любовь к себе. Он мгновенно выучил меня читать (по «Одиссее» Гомера), распалял мое воображение, рассказывая то о медвежьих осташковских лесах, то о Дон-Кихоте, — и я положительно бредил рыцарством! — поминутно будил мою мысль своими оригинальными, порой даже не совсем понятными мне разговорами о жизни, о людях. Он играл на скрипке, рисовал акварелью, а с ним вместе иногда по целым дням не разгибался и я, до тошноты насасываясь с кисточки водой, смешанной с красками, и на всю жизнь запомнил то несказанное счастье, которое принес мне первый коробок этих красок: на мечте стать художником, на разглядывании неба, земли, освещения у меня было довольно долгое помешательство. Он писал стихи, — сатирические вирши на злобы дня, — и вот написал стихотворение и я, но совсем не злободневное, а о каких-то духах в горной долине, в лунную полночь. Мне было тогда лет восемь, но я до сих пор так ясно помню рту долину, точно вчера видел ее наяву. Вообще я много представлял себе тогда чрезвычайно живо и точно.
Учил меня мой воспитатель, однако, очень плохо, чему попало и как попало. Из языков он больше всего налегал почему-то на латынь, и немало тяжких дней провел я в зубрежке латинской грамматики.
Года за два до поступления в гимназию (поступил я туда на одиннадцатом году) я испытал еще одну страсть — к житиям святых, и начал поститься, молиться… Страсть эта, вначале сладостная, превратилась затем, благодаря смерти моей маленькой сестры Нади, в мучительную, в тоску, длившуюся целую зиму, в постоянную мысль о том, что за гробом. Излечила меня, помню, весна. Отзвуком этого осталось то упоение, с каким отдавался я иногда печали всенощных бдений в елецких церквах, куда водило нас, гимназистов, наше начальство, хотя вообще церковных служб я не любил. (Теперь люблю — в древних русских церквах и иноверческие, то есть католические, мусульманские, буддийские, — хотя никакой ортодоксальной веры не держусь.)
Гимназия и жизнь в Ельце оставили мне впечатления далеко не радостные, — известно, что такое русская, да еще уездная гимназия, и что такое уездный русский город! Резок был и переход от совершенно свободной жизни, от забот матери к жизни в городе, к нелепым строгостям в гимназии и к тяжкому быту тех мещанских и купеческих домов, где мне пришлось жить нахлебником. Учился я сперва хорошо, воспринимал почти все легко, потом хуже: новая жизнь сделала то, что я стал хворать, таять, стал чрезмерно нервен, да еще на беду влюбился, а влюбленность моя в ту пору, как, впрочем, и позднее, в молодости, была хотя и чужда нечистых помыслов, но восторженна. Дело кончилось тем, что я вышел из гимназии.
Читал я в детстве мало и не скажу, чтобы уж так жаждал книг, но, вероятно, прочитал почти все, что было у нас в доме и что еще не пошло на цигарки тем приживальщикам, прежним слугам-друзьям отца, что иногда гостили у нас, и до сих пор еще помню, как читал я «Английских поэтов» Гербеля, «Робинзона», затасканный том «Живописного обозрения», кажется, за 1878 год, чью-то книгу с картинками под заглавием «Земля и люди»… Суть того чувства, что вызывали во мне эти книги, и до сих пор жива во мне, но ее трудно выразить. Главное заключалось в том, что я видел то, что читал, — впоследствии даже слишком остро, — и это давало какое-то особое наслаждение.
В гимназии много из того, что обычно читается в такие годы, мне совсем не нравилось. (Из того, что произвело на меня в первые гимназические годы особенно поэтическое и восторженное впечатление, вспоминается сейчас «Колокол» Андерсена). И стихов в гимназии я почти не писал, хотя до чужих был жаден и отличался способностью запоминать наизусть чуть не целую страницу даже гекзаметра, только раз пробежав ее. (Память у меня вообще хорошая, — то, что интересует, запоминаю крепко, — но насилия не терпит: убедился в этом еще в ранней молодости, когда, по гоголевской манере, пытался упражняться в наблюдательности.)
Зато необыкновенно много исписал я бумаги и прочел за те четыре года, что прожил после гимназии в елецкой деревне Озерках, в имении, перешедшем к нам от умершей бабки Чубаровой. Дома я снова быстро окреп, сразу возмужал, развился, исполнился радостного ощущения все растущей молодости и сил. Тут как раз на целых три года выслали к нам брата Юлия, уже кончившего университет и пробывшего год в тюрьме по политическим делам, и он прошел со мной весь гимназический курс, занимался со мной языками, читал мне начатки психологии, философии, общественных и естественных наук; кроме того, мы без конца вели с ним разговоры о литературе. И помню, что в ту пору мне все казалось очаровательно: и люди, и природа, и старинный с цветными окнами дом бабки, и соседние усадьбы, и охота, и книги, один вид которых давал мне почти физическое наслаждение, и каждый цвет, каждый запах…
Писал я в отрочестве сперва легко, так как подражал то одному, то другому, — больше всего Лермонтову, отчасти Пушкину, которому подражал даже в почерке, потом, в силу потребности высказать уже кое-что свое, — чаще всего любовное, — труднее. Читал я тогда что попало: и старые и новые журналы, и Лермонтова, и Жуковского, и Шиллера, и Веневитинова, и Тургенева, и Маколея, и Шекспира, и Белинского… Потом пришла настоящая любовь к Пушкину, но наряду с этим увлечение, хотя и недолгое, Надсоном, чему, впрочем, много способствовала его смерть. Вообще о писателях я с детства, да и впоследствии довольно долго, мыслил как о существах высшего порядка. (Помню, как поразил меня рассказ моего воспитателя о Гоголе, — он однажды видел его, — вскоре после того, как я впервые прочел «Страшную месть», самый ритм которой всегда волновал меня необыкновенно.) Самому мне, кажется, и в голову не приходило быть меньше Пушкина, Лермонтова, — благо лермонтовское Кропотово было в двадцати пяти верстах от нас, да и вообще чуть не все большие писатели родились поблизости, — и не от самомнения, а просто в силу какого-то ощущения, что иначе и быть не может. Но это не исключало страстного интереса вообще к писателям, даже к таким, каким был, например, некто Назаров. Озерский кабатчик как-то сказал мне, что в Ельце появился «автор». И я тотчас же поехал в Елец и с восторгом познакомился в базарном трактире с этим Назаровым, самоучкой-стихотворцем из мещан. Из новых писателей мне очень нравился тогда Гаршин (самоубийство которого ужасно поразило меня). Нравился и Эртель, хотя я и тогда чувствовал его литературность, непростоту, копировку Тургенева, даже эту неприятную изысканность знаков препинания, обилие многоточий. В Чехове (его юмористических рассказов я тогда не знал) тоже кое-что задевало меня — то, что он писал бегло, жидко…
В апреле 1887 года я отправил в петербургский еженедельный журнал «Родина» стихотворение, которое и появилось в одном из майских номеров. Утра, когда я шел с этим номером с почты в Озерки, рвал по лесам росистые ландыши и поминутно перечитывал свое произведение, никогда не забуду. Писал и читал я в то лето особенно много, а чтобы ничто не мешало мне в этом и с целью «наблюдения таинственной ночной жизни», месяца на два прекратил ночной сон, спал только днем.
В сентябре 1888 года мои стихи появились в «Книжках Недели» (издаваемой П. А. Гайдебуровым), где часто печатались вещи Щедрина, Глеба Успенского, Л. Толстого, Полонского. Гайдебуров отнесся ко мне крайне внимательно и запретил сотрудничать в других изданиях, — взял меня под свое исключительное руководство.
Между тем благосостояние наше, по милости отца, снова ухудшилось. Брат Юлий переселился в Харьков. Весной 1889 года отправился и я туда и попал в кружки самых завзятых «радикалов», как выражались тогда, а пожив в Харькове, побывал в Крыму, о котором у меня еще в детстве составилось самое поэтическое представление, благодаря рассказам отца, и нашел, что ходить верст по сорок в сутки, загорать от солнца и от морского ветра и быть очень легким от голода и молодости — превосходно. С осени стал работать при «Орловском вестнике», то бросая работу и уезжая в Озерки или Харьков, то опять возвращаясь к ней, и был всем, чем придется, — и корректором, и передовиком, и театральным критиком, что, к счастью, совсем не приставало ко мне. Тут опять сразила меня, к великому моему несчастью, долгая любовь.
К более нормальной жизни, к более правильной работе литературной и образовательной я возвратился только через два года, переселившись в Полтаву, где брат Юлий заведовал статистическим бюро губернского земства. В Полтаве я был библиотекарем земской управы, затем тоже статистиком, много корреспондировал в газеты о земских делах; усердно учился, писал, ездил и ходил по Малороссии, — служба у меня была легкая и свободная, — затем, увлеченный толстовской проповедью, стал навещать «братьев», живших под Полтавой и в Сумском уезде, прилаживаться к бондарному ремеслу, торговать изданиями «Посредника». Но сам же Толстой, к которому я ездил с А. А. Волкенштейном, и созерцание которого произвело на меня истинно потрясающее впечатление, и отклонил меня опрощаться до конца. (Как к художнику я относился к нему и тогда уже с не меньшим восторгом. Но к этому же времени относится и мое увлечение Флобером, а наряду с этим — «Словом о полку Игореве», малорусскими «думами», — теми, что наиболее величавы и торжественны, — некоторыми вещами Мицкевича, особенно его крымскими сонетами, балладами, страницами из «Пана Тадеуша»: ради Мицкевича я даже учился по-польски.)
За работой при «Орловском вестнике» я писал урывками, печатаясь в «Северном вестнике», «Наблюдателе» и иллюстрированных журналах, и издал первую книжку стихов, чисто юношеских, не в меру интимных. Первая рецензия на нее появилась в «Артисте» и заключала в себе странный упрек в подражании Фету и совет заняться лучше прозой. Остальные отзывы были весьма сочувственны. В Полтаве я впервые приступил более или менее серьезно к беллетристике, и первый же рассказ (без заглавия) послал в «Русское богатство», руководимое тогда Кривенко и Михайловским. Михайловский написал, что из меня выйдет «большой писатель», и рассказ, под чьим-то заглавием — «Деревенский эскиз», — был напечатан в апреле 1894 года. В то же время редкое участие принял во мне А. М. Жемчужников, вступивший со мной в переписку и проводивший меня в «Вестник Европы»: сам Стасюлевич был чересчур строг и порой несправедлив. (Вот пустяк, но характерный. Было у меня в стихотворении: «Ржи наливают и цветут». Стасюлевич изумился: «Кого наливают?» — и написал «наливаются». Жемчужников горячо вступился за меня.)
В январе 1895 года, бросив службу, я впервые попал в Петербург, видел некоторых писателей, Михайловского, Кривенко, который отнесся ко мне с истинно-отеческой нежностью. В этом же году я познакомился в Москве с Чеховым, с Бальмонтом, с Эртелем, с Брюсовым, тогда еще студентом. Позднее я мельком видал Коневского и Добролюбова. Они произвели на меня впечатление больных мальчиков с полным сумбуром в голове и в душе, благодаря и болезненности своей, и кое-чему прочитанному. Видал я и некоего поэта, славившегося тогда по Москве своей книжкой, посвященной «самому себе и египетской царице Клеопатре», и тем, что он ходил, как говорили, в папахе, в бурке, в нижнем белье, привязывал себе к пальцам когти и производил перевороты в стихотворной форме. Он, впрочем, раньше других бросил все эти «дерзания» и «переоценки ценностей» и, увы, не попал в историю «новой русской литературы», хотя именно ему долго приписывали многие все эти «закрой свои бледные ноги» и т. п.
В октябре 1895 года в «Новом слове», которое редактировал Кривенко, разошедшийся с «Русским богатством», а издавала О. Н. Попова, появился мой рассказ «На край света», встреченный очень хорошо (особенно Скабичевским, слову которого придавали тогда большой вес). Следующей осенью я с удовольствием согласился на предложение Поповой издать свои рассказы. Вышли они в свет (в январе 1897 г.) среди почти единодушных похвал. Но тут я внезапно надолго исчез из Петербурга, да не только исчез, а и замолчал на несколько лет. Два года затем я жил особенно скитальчески и разнообразно, — то в Орловской губернии, то в Малороссии, снова был в Крыму, бывал в Москве, все чаще встречался и со старыми и с молодыми писателями, посещал «Посредник», куда захаживал Толстой… Сам чувствуя свой рост и в силу многих душевных переломов, уничтожал я тогда то немногое, что писал прозой, беспощадно; из стихов кое-что (то, что было менее интимно, преимущественно картины природы) печатал; довольно много переводил — чужое было легче передавать.
С этой поры собственно и начинается моя более или менее зрелая жизнь, сложная и внутренне и внешне и столь еще близкая мне, что говорить о ней подробно — задача долгая и трудная. Поэтому кончу эти беглые заметки еще более бегло.
В 1898 году я женился на А. Н. Цакни, гречанке, дочери известного революционера и эмигранта Н. П. Цакни. Женившись, года полтора прожил в Одессе (где сблизился с кружком южно-русских художников). Затем разошелся с женой и установил в своих скитаниях, уже не мешавших мне работать в известной мере правильно, некоторый порядок: зимой столицы и деревня, иногда поездка за границу, весной юг России, летом преимущественно деревня. За это время я был, между прочим, ближайшим участником известного литературного кружка «Среда», душой которого был Н. Д. Телешов, а постоянными посетителями — Горький, Андреев, Куприн и т. д. Революция, прокатившаяся над всеми нами, надолго рассеяла этот кружок. С 1907 года жизнь со мной делит В. Н. Муромцева. С этих пор жажда странствовать и работать овладела мною с особенной силой. За последние восемь лет я написал две трети всего изданного мною. Видел же за эти годы особенно много. Неизменно проводя лето в деревне, мы почти все остальное время отдали чужим краям. Я не раз бывал в Турции, по берегам Малой Азии, в Греции, в Египте вплоть до Нубии, странствовал по Сирии, Палестине, был в Оране, Алжире, Константине, Тунисе и на окраинах Сахары, плавал на Цейлон, изъездил почти всю Европу, особенно Сицилию и Италию (где три последних зимы мы провели на Капри), был в некоторых городах Румынии, Сербии — и, говоря словами Боратынского, отовсюду — «к вам приходил, родные степи, моя начальная любовь» — и снова «по свету бродил и наблюдал людское племя…».
Что же до литературной моей деятельности за эти годы, то ход и развитие ее известны. В конце 1898 года вышел мой перевод «Песни о Гайавате», давший повод некоторым моим критикам, при их обычной поспешности суждений и любви (или необходимости), повторять друг друга, записать меня в число идилликов и каких-то «созерцателей». В 1900 году издал первую книгу моих стихов «Скорпион», с которым я, однако, очень скоро разошелся, не возымев никакой охоты играть с моими новыми сотоварищами в аргонавтов, в демонов, в магов и нести высокопарный вздор, хотя некоторые критики уже заговорили было о моем «увлечении декадентами» и усердно цитировали мой сонет «В Альпах», мысль которого, в сущности, была совсем не нова, — подобна мысли того самого сонета Пушкина, где сказано: «услышишь суд глупца», — меж тем как другие одобряли меня за то, что я держусь каких-то «заветов», «традиций», хотя любить талант, самостоятельность, ум, вкус вовсе не значит держаться каких-то традиций. В 1902 году «Знание», ближайшим сотрудником которого я был после этого почти все время его деятельного существования, издало первый том моих сочинений. Какие книги следовали за этими тремя, говорить нет нужды. Известно также, что от Академии наук я получал Пушкинские премии, что в 1909 году я был избран ею в число почетных академиков, в 1912 году — почетным членом Общества любителей российской словесности, коего я состою теперь временным председателем, и т. д. Добавлю еще, что в текущем году книгоиздательство Маркса выпускает приложением к «Ниве» редактированное мною собрание моих сочинений, куда входит все, что я считаю более или менее достойным печати.
В общем, жизненный путь мой был довольно необычен, и о нем и вообще обо мне долго существовало довольно превратное представление. Взять хотя бы первое десятилетие моей литературной деятельности: большинство тех, что писали о моих первых книгах, не только спешили уложить меня на какую-нибудь полочку, не только старались раз навсегда установить размеры моего дарования, не замечая, что им же самим уже приходилось менять свои приговоры, но характеризовали и мою натуру. И выходило так, что нет писателя более тишайшего («певец осени, грусти, дворянских гнезд» и т. п.) и человека, более определившегося и умиротворенного, чем я.
А между тем человек-то был я как раз не тишайший и очень далекий от какой бы то ни было определенности: напротив, во мне было самое резкое смешение и печали, и радости, и личных чувств, и страстного интереса к жизни, и вообще стократ сложнее и острее жил я, чем это выразилось в том немногом, что я печатал тогда. Бросив через некоторое время прежние клички, некоторые из писавших обо мне обратились, как я уже говорил, к диаметрально противоположным — сперва «декадент», потом «парнасец», «холодный мастер», — в то время как прочие вес еще твердили: «певец осени, изящное дарование, прекрасный русский язык, любовь к природе, любовь к человеку… есть что-то тургеневское, есть что-то чеховское» (хотя решительно ничего чеховского у меня никогда не было). Впрочем, в литературе стоял тогда невероятный шум.
А второе десятилетие моей литературной деятельности еще у всех в памяти. Тут отношение ко мне, как известно, изменилось, во внимании ко мне за это время недостатка не было. Отмечу только один факт, уже не раз, к сожалению, повторявшийся в русской литературе, — то, как некоторые отнеслись к моей «Деревне», к «Ночному разговору», к «Суходолу». На первых порах чего только, наряду с похвалами моему художеству, не наслушался я! Иные унижались даже до того, что говорили, что я был просто испуган революцией, как помещик (каковым на самом деле я отроду не был), корили меня моим происхождением, — точно я был первый и единственный «дворянин» в русской литературе, — уверяли, что я для деревни только «пришлый интеллигент», приплетали некстати мои «поездки в Индию», хотя поездки эти могли принести мне, конечно, только пользу, ибо справедливо сказал Шекспир, что «недалеко ушла от глупости домоседная мудрость». По шаблону, в угоду традициям и благодаря круглому незнанию жизни, некоторые неизменно прибавляли, говоря о моих произведениях, касавшихся русского народа: «А все-таки это не так», — и, никогда не приводя никаких доказательств, отделывались фразами о «искрах божьих», «отрадными» частностями, ссылками на Достоевского, Тютчева или Глеба Успенского и Чехова, хотя этих «искр» я никогда не отрицал, хотя не о частностях, а об общем, типическом говорил я, хотя Достоевский и Тютчев для меня ничуть не обязательны, хотя Успенского тоже упрекали в «хмуром и желчном пессимизме» и «полном незнании народа», хотя, укоряя меня Чеховым, почти слово в слово повторяли то самое, что говорили Чехову, укоряя его предшественниками его. Все это, конечно, в порядке вещей. Судьба «Горя от ума» всем известна. О «Мертвых душах» и о «Ревизоре» в один голос кричали: «Это клевета, это невозможность». Гончарову, по свидетельству А. Ф. Кони, «пришлось выслушать, что он совершенно не понимает и не знает русского народа». «Преступление и наказание» Достоевского называли (и не где-нибудь, а в «Современнике») «клеветой на молодое поколение», «дребеденью», «позорным измышлением», «произведением самым жалким»… А ведь теперь дела стали еще хуже: литература наша изовралась невероятно, критика пала донельзя, провал между народом и городом образовался огромный, о дворянах теперешний городской интеллигент знает уже только по книжкам, о мужиках — по извозчикам и дворникам, о солдатах — только одно: «так что, ваше благородие», говорить с народом он не умеет, изобразители сусальной Руси, сидя за старыми книжками и сочиняя какой-то никогда не бывалый, утрированно-русский и потому необыкновенно противный и неудобочитаемый язык, врут ему не судом, вкусы его все понижаются… Но все же не раз думал я: доколе же так вот и будет писаться история? Не ужасно ли, что, покричав: «Это клевета, это невозможность», — мы всегда тем скорее успокаивались, что не проходило и нескольких лет, как то, что называлось «невозможностью», признавалось «классическим» и поступало уже в полное ведение учителей словесности?
За всем тем на критику серьезную жаловаться я и тогда не мог.
Москва, 10.IV.15
Из предисловия к французскому изданию «Господина из Сан-Франциско»
Я происхожу из старого дворянского рода, давшего России немало видных деятелей, как на поприще государственном, так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина и Василий Жуковский, один из корифеев русской литературы, сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальмы.
Все предки мои всегда были связаны с народом и с землей, были помещиками. Помещиками были и деды и отцы мои, владевшие имениями в средней России, в том плодородном подстепье, где древние московские цари, с целях защиты государства от набегов южных татар, создавали заслоны из поселенцев различных русских областей, где, благодаря этому, образовался богатейший русский язык и откуда вышли чуть не все величайшие русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым.
Я родился 10 октября 1870 года, в городе Воронеже. Детство и юность почти целиком провел в деревне. Писать начал рано. Рано появился и в печати.
Критика обратила на меня внимание довольно скоро. Затем мои книги не раз были отмечены высшей наградой Российской Академии наук — премией имени Пушкина. В 1909 году эта Академия избрала меня в число двенадцати почетных Академиков.
Однако известности более или менее широкой я не имел долго: я несколько лет, после появления в печати моих первых рассказов, не писал и не печатал ничего, кроме стихов; я не касался в своих произведениях политической и общественной злободневности; я не принадлежал ни к одной литературной школе, не называл себя ни декадентом, ни символистом, ни романтиком, ни реалистом; а меж тем судьба русского писателя за последние десятилетия часто зависела от того, находится ли он в борьбе с существующим государственным строем, вышел ли он из «народа», был ли он в тюрьме, в ссылке, или же от его участия в той «литературной революции», которая, — в большой мере из-за подражания Западной Европе, — столь шумно проделывалась в эти годы среди быстро развивавшейся в России городской жизни, ее новых критиков и новых читателей из молодой буржуазии и молодого пролетариата. Кроме того, я мало вращался в литературной среде. Я много жил в деревне, много путешествовал по России и за границей: в Италии, в Турции, на Балканах, в Греции, в Палестине, в Египте, в Алжирии, в Тунизии, в тропиках. Я, как сказал Саади, «стремился обозреть лицо мира и оставить в нем чекан души своей», меня занимали вопросы психологические, религиозные, исторические.
Двенадцать лет тому назад я напечатал «Деревню». Это было начало целого ряда произведений, резко рисовавших русскую душу, ее своеобразные сплетения, ее светлые и темные, но почти всегда трагические основы. В русской критике и в среде русской интеллигенции, где, в силу многих своеобразных условий, а за последнее время и просто в силу незнания народа или политических соображений, народ почти всегда идеализировался, эти «беспощадные» произведения вызвали очень страстные отклики и в конечном итоге принесли мне то, что называется успехом, который еще более укрепили мои последующие работы.
В эти годы, я чувствовал, как с каждым днем все более крепнет моя рука, как горячо и уверенно требуют исхода накопившиеся во мне силы. Но тут разразилась война, а затем русская революция.
Я покинул Москву в мае 1918 года, жил на юге России, переходившем из рук в руки «белых» и «красных», а в феврале 1920 года, испив чашу несказанных душевных страданий, эмигрировал за границу, — сперва на Балканы, потом во Францию.
Париж, 1921
P.S. Во Франции я жил первое время в Париже, с лета 1923 года переселился в Приморские Альпы, возвращаясь в Париж только на некоторые зимние месяцы.
В эмиграции мною написано шесть новых книг.
Париж, 1934
Из записей
Рассказ моего гувернера о Гоголе:
— Я его однажды видел. Это было в одном московском литературном доме. Когда мне его показали, я был так поражен, точно увидел что-то сверхъестественное. Подумать только: Гоголь! Я смотрел на него с неописуемой жадностью, но запомнил только то, что он стоял в толпе, тесно окружавшей его, что голова у него была как-то театрально закинута назад и что панталоны на нем были необыкновенно широки, а фрак очень узок. Он что-то говорил, и все его почтительно и внимательно слушали. Я же слышал только одну его фразу — очень закругленное изречение о законах фантастического в искусстве. Точно этой фразы не помню. Но смысл ее был таков, что, мол, можно писать о яблоне с золотыми яблоками, но не о грушах на вербе.
Помню жуткие, необыкновенные чувства, которые испытал однажды (в молодости), стоя в церкви Страстного монастыря возле сына Пушкина, не сводя глаз с его небольшой и очень сухой, легкой старческой фигуры в нарядной гусарской генеральской форме, с его белой курчавой головы, резко-белых, чрезвычайно худых рук с костлявыми, тонкими пальцами и длинными, острыми ногтями.
Чьи-то замечательные слова:
— В литературе существует тот же обычай, что у жителей Огненной Земли: молодые, подрастая, убивают и съедают стариков. То же и в языке. Поглощается один другим. Многое уже исчезло на моей памяти.
Мой отец обычно говорил прекрасным русским языком, простым и правильным. Но иногда вдруг начинал говорить в таком роде:
— Я не червонец, чтобы быть любезну всем.
— Я в тот вечер был монтирован, играл отчаянно.
— Мы с ним встретились на охоте. Он сам рекомендовал себя в мое знакомство.
В этом же роде пели наши бывшие дворовые:
— Вздыхаешь о другой: должна ли я то зреть? Досады таковой должна ли я стерпеть?
— Я часто наслаждаюсь
Любовных слов твоих…
— Уж сколько дён все мышлю о тебе…
— Любовь сердцам угодна,
Страсть нежная природна,
Нельзя спастись любви…
Старые дворовые употребляли много церковнославянских слов. Они говорили:
— Ливан (ладан), Краниево Место (Голгофа), дщица (малая дощечка), орлий (орлиный), седатый (седой), пядница (маленькая иконка, в пядь), кампан (колокол), село (в смысле: поле)…
Они употребляли вообще много странных и старинных слов: не надобе (так писалось еще в Русской Правде: «не надобе делать того»), Египет-град, младшие (меньшие) колокола, стоячие образа (писанные во весь рост), оплечные образа, многоградный край; средидневный вар (зной), водовод (водопровод), паучина (паутина), безлетно (вечно), дивий (дикий, лесной), лжа (ложь), присельник пришлец, иноземец)…
Было это и в крестьянском языке. Мужика-лентяя и нищего называли:
— Пустой малый! Изгой, неудельный!
Изгоем же, как известно, назывался безместный удельный князь.
А не то кто-нибудь, бывало, говорит:
— Хочу в Кыев сходить, богу помолиться…
И невольно вспоминаешь: «Бяше возле града Кыева лес и бор велик…»
— Ведь что ж, она мне не чужая, а жена водимая…
Или (когда нанимались в работники):
— Ну, когда такое дело, давайте, барин, рядиться…
Опять как в Удельной Руси:
«Зачали рядиться, кому пригоже на большом княжении быти…»
Потом — рядиться в смысле наряжаться:
— Тебе теперь нечего рядиться, ты вдова божья, носить тебе надо одни смирные (темные) цвета…
И еще вспоминаю:
— К нам так-то однова странный (странствующий) старичок приходил. Смотреть любо! В ручке костылик, за плечиком — дерюжное влагалище (сума, кошель)…
А какая нелепая и чудесная образность была в языке деревни!
Идет босая девка — подтянуто-стройно, виляя только кострецами: на правом плече тяжелое коромысло, по концам которого лежит мокрое белье.
— Куда-й-то ты?
— На речку, белье полоскать.
— Да ведь нынче праздник, грех работать.
— Конечно, грех, кабы я дома была. А то какой же грех, когда я тут у родных гощу?
— Тебя, говорят, просватали. Что ж, хорош твой жених?
— Какой там черт хорош! Рот толстый, в нос гудит…
То, что я стал писателем, вышло как-то само собой, определилось так рано и незаметно, как это бывает только у тех, кому что-нибудь «на роду написано». «Человек делается тем, о чем он думает». Но все-таки: почему один думает об одном, а другой о другом? От некоторых писателей я не раз слышал, что они стали писателями случайно. Не думаю, что это совсем так, но все-таки могу представить себе их и не писателями, а вот самого себя не представляю. Были во мне с детства большие склонности к музыке, к живописи, к ваянию. Мой гувернер играл на скрипке, рисовал акварелью — и я и до сих пор помню то особенное волнение, с которым я брал в руки его скрипку или пачкал бумагу красками. В Ельце, гимназистом, я одно время жил у ваятеля всего того, что требуется для кладбищенских памятников, — и целую зиму, каждую свободную минуту мял глину, лепил из нее то лик Христа, то череп Адама и достиг таких успехов, что хозяин иногда пользовался моими черепами, и они попадали на чугунные кресты в изножья распятий, где, верно, и теперь еще пребывают, — где-то там, на монастырском кладбище в Ельце! Почему же все-таки не стал я ни музыкантом, ни ваятелем, ни живописцем?
Кстати: в старину из нашего рода вышло два знаменитых гравера.
Из писателей — «народников» во времена моей ранней молодости еще были живы Николай Успенский, Глеб Успенский, Златовратский, Засодимский, Наумов, Нефедов. Все они еще пользовались большой известностью и очень читались, — особенно Глеб Успенский и Златовратский; питались и некоторые из более ранних, уже умерших — Омулевский, Левитов… Большого различия между ними их почитатели не делали. А меж тем различие было огромное: Левитов и оба Успенских были столь талантливы, что можно и теперь перечитывать их. Прочие «народники» были бездарны и забыты вполне справедливо.
Некоторые из рассказов Левитова поразили меня в ту пору, — особенно «Горбун», — поразили тем более, что связывались с его несчастным образом. Теперь о Левитове никто не знает, не помнит, а он был когда-то в первых рядах русской литературы и был не случайно, а с полным основанием, хотя талант его не развился даже и в десятой доле должной меры, душа с детства была надломлена всяческим убожеством той среды, в которой он родился и рос, — он был сын сельского дьячка, — потом бродяжничеством, пьянством. Участь его была участью многих его современников из числа писателей — «разночинцев»: в ранней молодости пешком ушел из своей Тамбовской губернии в Петербург, чтобы учиться и писать, «жить в центре умственных интересов», а в Петербурге жил только жизнью нищей и пьяной богемы, писал наспех, как попало, впал в пьянство уже беспробудное, в бродяжничество и босячество постоянное, полное душевного ожесточения, едкой сердечной горечи, и погиб в конце концов от белой горячки. Как многих, подобных ему, не раз пытались добрые люди спасти его, устроить — и, конечно, напрасно. Я знал одного из этих людей, и он мне рассказывал:
— Я однажды подобрал Левитова в такой грязи, в такой нищете, которой вы и представить себе не можете. Он у меня отдышался, отъелся, я его одел, обул, предоставил ему прекрасную комнату, снабдил карманными деньгами, — мол, живи, сколько хочешь, поправляйся, работай. И чем же он отплатил мне за все это? Выхожу раз утром, а он ходит по гостиной, куда только что поставили новую шелковую мебель, и мочится на кресла, на диваны: «Вот вам, говорит, полюбуйтесь, благодетель, на свою мещанскую роскошь!» А затем вышел в прихожую, взял картуз и палку — и исчез… Настоящий русский человек был!
Увлекался я в молодости и Николаем Успенским, и опять не только в силу его дарования, но в силу и личной судьбы его, во многом схожей с судьбой Левитова: страшные загадки русской души уже волновали, возбуждали мое внимание.
Он тоже когда-то занимал в литературе одно из самых видных мест. Однако он тоже сделал, кажется, все возможное, чтобы погубить и свою известность, и талант. Он бросил работать, стал пьяницей и бродягой и кончил свое существование еще хуже, чем Левитов: умер в Москве на улице, перерезал себе горло бритвой. Существование его было ужасное и позорное. Я, еще будучи почти мальчиком, много о нем наслышался в Ефремове, а потом кое-что узнал от его тестя и тещи. Эти последние (духовного звания) жили от нас верстах в тридцати. Узнав о смерти Успенского, я, с мальчишеской горячностью, тотчас же поскакал к ним. Батюшка принял меня ласково, но от разговоров о зяте уклонился, поспешил уйти на пасеку. Зато матушка, — очень необычная матушка, — проявила полную откровенность, даже призналась, что была несколько лет в связи с Успенским.
— Да, сказала она, это все правда, что говорят и говорили о Николае Васильевиче. Несколько лет тому назад он явился к нам босяком, поселился у нас, жил как член семьи, а затем увлек и обесчестил мою дочь, — назло мне, как сам он выразился. Назло за что? Затем он на ней женился, быстро свел ее в гроб, а девочку, прижитую с ней, увел с собой, уходя от нас. Жил он тем, что потешал купцов, мещан и мужиков всяким шутовством, игрой на гармонике, тем, что заставлял своего несчастного ребенка плясать и приговаривать похабщину. Он иногда даже брал ее, как щенка, за шиворот и, на забаву мужикам, бросал в реку, в пруд. Вот, говорил он, вы сейчас увидите, православные, образец рационального воспитания, — и трах ребенка в воду! Бог ему судья, замечательный, но ужасный был человек. Тургенев, желая его спасти, целое имение ему подарил. Так нет — он и именье бросил. Оскорбил ни за что ни про что, изругал самыми последними словами Тургенева и опять ушел шататься. А чем кончилось все это — вы знаете: зарезался в Москве на Кузнецком Мосту. А какой ум, какой талант был! Знаете ли вы, что некоторые страницы Глеба Успенского написаны не самим Глебом, а им? Ведь Глеб (его двоюродный брат) очень высоко ценил его и не раз просил: «Помоги-ка мне вот такой-то или такой-то мужицкий или мещанский разговор написать — ты это гораздо лучше сделаешь, чем я…»
Первое литературное разочарование — первое литературное знакомство: с писательницей Шабельской.
Мне было семнадцать лет, когда я впервые приехал в Харьков. Там я бывал у жены писателя Нефедова. Я уже читал тогда этого писателя и хорошо понимал, сколь он скучен и бездарен. Но все равно — он был все-таки «настоящий» и очень известный в то время писатель, и вот я даже на жену его смотрел чуть не с восторгом. Легко представить себе после этого, что я почувствовал, узнав однажды, что в Харькове живет писательница Шабельская, та самая, которая когда-то сотрудничала в «Отечественных записках»! Я из всех ее произведений читал только одно: «Наброски углем и карандашом». Произведение это было скучнее даже Нефедова и, казалось бы, уж никак не могло воспламенить желанием знакомиться с его автором. Но я воспламенился: тотчас решил бежать хоть на дом к Шабельской взглянуть, и так и сделал: в тот же день пробежал несколько раз взад и вперед мимо этого замечательного дома на Сумской улице. Дом был как дом — каких сколько угодно в каждом русском губернском городе.
Брат смеялся, узнав о моем намерении нанести визит в этот дом:
— Не советую, — она совершенно неинтересна. И притом необыкновенно бестолкова. Познакомившись со мной, стала хвалить твои стихи в «Неделе», приписывая их мне. Я говорю: «Покорно благодарю, но только это не мои стихи, а моего младшего брата». Не понимает: «Да, да, а все-таки вы не скромничайте, — стихи ваши мне очень понравились…» Я еще раз говорю, что это не мои стихи, а твои, — опять не понимает!
Я, конечно, все-таки пошел. Пришел, робко позвонил, попросил горничную доложить, стою и с трепетом жду в прихожей, примут ли? Прихожая большая, сумрачная, тихая. Вышел рыжий господин в толстых золотых очках, — профессор, муж писательницы, — строго и недоуменно взглянул на меня, надел пальто, шляпу, взял трость с серебряным набалдашником и молча вышел. А затем появилась горничная и почему-то очень поспешно и даже как будто радостно пригласила меня войти в гостиную, а из гостиной раздался еще более поспешный и радостный, слегка шепелявый голос какой-то маленькой старушки:
— Милости прошу, милости прошу!
Точно ли она была старушка? Ничуть — ей было, я думаю, лет сорок пять, не более. Помню, однако, именно старушку, очень милую, с испуганным взором, видимо, чрезвычайно польщенную, что к ней явился поклонник. Уж на что я был смущен, а все-таки не мог не заметить, что она смущена еще более. Она даже не могла удержать счастливой и растерянной улыбки.
— Так, так, — бормотала она. — Так вы, значит, читали меня? Как это приятно, как мило с вашей стороны! А я вот читала стихи вашего брата…
Я мягко, но очень настойчиво повторил то самое, что уже говорил ей брат: это не его стихи. Но бестолковость ее, видимо, не имела предела. Она нежно улыбнулась и опять закивала головой:
— Да, да, ваш брат прекрасно пишет! И какая удача: уже попал в «Неделю»!
Мы в молодости были вообще очень скромны.
Лет двадцати я в первый раз попал в Москву и решил воспользоваться случаем хоть на минуту заглянуть в литературный мир. Заглянуть было трудно, — пойти к кому-нибудь из известных писателей я стеснялся; спросят: что вам угодно, молодой человек? — и что я тогда отвечу? Подумав, я решил ограничиться посещением редакции «Русской мысли». Но и тут мне не повезло. Шел я, конечно, не очень спокойно, однако вошел в прихожую довольно смело и даже излишне громко предложил слуге передать мою визитную карточку «господину редактору», как вдруг из приемной почти выбежал прямо на меня какой-то бородатый, плотный господин: в поднятой руке у него торчало перо, поднятые ноздри зияли, очки блестели грозно и в то же время испуганно.
— Стихи? — крикнул он, не давши мне даже слова вымолвить, — и замотал на меня своими обеими короткими руками, точно ластами: — Нет, нет, у нас запас стихов на целых девять лет!
Почему запаслась тогда «Русская мысль» стихами на девять лет, а не на десять, например, до сих пор не понимаю.
В Москве была лавка горбатого старика-букиниста. Помню: зима, лавка ледяная, пар от дыхания. Сидя на корточках в углу, перед грудой сваленных на полу книг, неловко роюсь в них, чувствуя на своей спине острый взгляд хозяина, сидящего в старом кресле и отрывисто отхлебывающего из стакана кипяток, жидкий чай.
— А вы что ж, тоже, значит, пишете, молодой человек?
— Пишу…
— И что ж, уж печатались?
— Да, немного…
— А где именно, позвольте спросить?
— В «Книжках Недели»… в «Вестнике Европы»…
— Стихи, разумеется?
— Да, стихи…
— Что ж, и стихи неплохо. Но только и тут надо порядочно головой поработать. Надо, собственно говоря, в жертву себя принести. Читали ли вы «Тюлистан» Саади? Я вам эту книжечку подарю на память. В ней есть истинно золотые слова. Вы же должны особенно запомнить следующие: «У всякого клада лежит стерегущий оный клад стоглавый змей». Это надо хорошенько понять. И пусть это и будет вам моим напутствием на литературном поприще. Писатель пошел теперь ничтожный. А почему? Он думает, что клады берутся голыми руками и с превеликой легкостью. Ан нет. Тут борьба не на живот, а на смерть. Вечная и бесконечная, до гробовой доски. И знаете, кто высказал эту мысль и именно в связи с вышеприведенными словами Саади? Сам Александр Сергеич Пушкин. Слышал же я это все от букиниста Богомолова, его современника и приятеля. Торговал с ларька у Лубянской стены…
В первый свой приезд в Москву я познакомился только с московскими поэтами-«самоучками».
Это был жалкий трогательный народ. Бедность и редкая одержимость в смысле любви к литературе. Воспевали они, конечно, больше всего эту бедность, горько оплакивали свою долю, несправедливость, царящую в мире… Один с горечью восклицал:
Дурак катается в карете, А ты летишь на ломовом!Таких поэтов было несметное количество, и о других, кажется, и слуху не было. Потом сразу разразилась революция: Брюсов, Коневской, Александр Добролюбов…
Справедливость требует упомянуть еще Емельянова-Коханского. Это он первый поразил Москву: выпустил в один прекрасный день книгу своих стихов, посвященных самому себе и Клеопатре, — так на ней и было напечатано: «Посвящается Мне и египетской царице Клеопатре» — а затем самолично появился на Тверском бульваре: в подштанниках, в бурке и папахе, в черных очках и с длинными собачьими когтями, привязанными к пальцам правой руки. Конечно, его сейчас же убрали с бульвара, увели в полицию, но все равно: дело было сделано, слава первого русского символиста прогремела по всей Москве. Все прочие пришли уже позднее — так сказать, на готовое. <…>
До девяносто четвертого года я не видел ни одного настоящего писателя. Зато начались мои встречи с ними не более, не менее, как с Толстого. Я увидел его впервые в январе девяносто четвертого года. И с того времени литературные знакомства мои стали быстро увеличиваться. Через год после того я поехал в Петербург и познакомился там с Михайловским, Кривенко, то есть с редакцией «Русского богатства», уже печатавшего тогда мои первые рассказы, побывал у поэта Жемчужникова и даже видел живого Григоровича, а приехав из Петербурга в Москву, сделал еще много знакомств: с Златовратским, Эртелем, Чеховым, Бальмонтом, Брюсовым, Емельяновым-Коханским, Коневским, Добролюбовым, Лохвицкой… Смесь вышла удивительная. Я увидел сразу целых четыре литературных эпохи: с одной стороны — Григорович, Жемчужников, Толстой; с другой — редакция «Русского богатства», Златовратский; с третьей — Эртель, Чехов; а с четвертой — те, которые, по слову Мережковского, уже «преступали все законы, нарушали все черты».
Все это повело к тому, что как-то сразу связалась с тех пор моя жизнь с жизнью литературной среды, а вскоре — во второй приезд в Петербург — эта связь еще более упрочилась, круг моих литературных знакомств и впечатлений еще более расширился. Тут я узнал еще много новых лип: познакомился с некоторыми молодыми поэтами из плеяды Фофанова, с Сологубом, с редакцией «Современного мира», иначе говоря, с домом А. А. Давыдовой, издательницы этого журнала, у которой когда-то говеем своими людьми были и многие знаменитые писатели, — в числе их сам Гончаров, — и некоторые либеральные великие князья, и Крамской, и Рубинштейн, потом с ее зятем Туган-Барановским, входившим тогда в большую славу, с Маминым-Сибиряком, с Немировичем-Данченко, со столпом народничества Воронцовым, ведшим тогда ожесточенную борьбу со Струве, и с Туган-Барановским, которого Воронцов в своих статьях неизменно называл с самой язвительной вежливостью: «Господин Туган», с тощим и удивительно страстным Волынским, ярым врагом Михайловского, как раз в эту пору возвестившим нарождение в мире «новых мозговых линий», над которыми Михайловский всячески и жестоко издевался… Среди всех этих лиц, кажется, один неутомимо-жизнерадостный Немирович-Данченко не принадлежал ни к какой партии, на всех и на все поглядывал любезно и благодушно. Уж на что был спокоен, не склонен к спорам вечно сосавший свою трубочку Мамин, а и тот не чужд был некоторых пристрастий и довольно ядовито пускал иногда про Волынского:
— Что с него взять, — это, мне кажется, именно про него говорит одна купчиха у Лейкина: миазма млекопитающая…
Или про всю редакцию «Северного вестника»:
Там на неведомых дорожках Следы невиданных зверей…Один Немирович не язвил, не беспокоился.
— Все вздор, — сказал он мне однажды. — Одно не вздор: надо писать и еще писать. Вот вы, молодые писатели, — на вас просто смотреть жалко: прикасаетесь к бумаге с такой робостью, точно кошка перебегает дорогу после дождя. А надо так: купил четыреста восемьдесят листов, то есть полную десть этой самой бумаги, сел — и ни с места, пока не исписал до единого.
Первое мое выступление на литературных вечерах было в начале зимы девяносто пятого года, в Петербурге, в знаменитом зале «Кредитного общества».
Незадолго перед этим, в первой книжке народнического журнала «Новое слово» под редакцией С. Н. Кривенко, одного из бывших столпов «Отечественных записок», я напечатал рассказ «На край света», — о переселенцах. Рассказ этот критики так единодушно расхвалили, что прочие журналы стали приглашать меня сотрудничать, а петербургское «Общество попечения о переселенцах» даже обратилось ко мне с просьбой приехать в Петербург и выступить на литературном вечере в пользу какого-то переселенческого фонда. И вот я в Петербурге, — в первый раз в жизни, — и отправляюсь на этот вечер. Беру почему-то лихача и несусь среди огней и блеска великолепного морозного Невского. Возле огромного дома «Кредитного общества» блеск еще пуще: ослепительный электрический свет подъезда, конные городовые с седыми от мороза усами, кареты и несметная толпа студентов и курсисток. Пробираюсь какими-то особыми лестницами куда-то наверх, где-то раздеваюсь — и сразу попадаю в общество знаменитостей, прочих участников вечера, уже собравшихся в артистической: «сам» Михайловский, «сам» Потапенко. — он тогда гремел на всю Россию, — затем Засодимский, Мамин, Минский, Баранцевич, — он славился как отличный чтец, — и «сам» Петр Исаевич Вейнберг, душа всех литературных вечеров Петербурга, в старомодном фраке, в белом галстуке, с острым и голым сияющим черепом, с юношескими глазами и душистой серебряной бородой, столь длинной и узкой, что его звали Черномором. Когда я вошел, он держал к присутствующим какую-то торжественно-комическую речь, воздев руки над большим столом, загроможденным цветами, фруктами и винами, — и вдруг повернулся и с воздетыми руками с размаху упал на одно колено: в артистическую, мерно и томно прихрамывая, шурша серым шелковым платьем, в сопровождении двух франтов-студентов из числа распорядителей вечера вплыла М. Г. Савина, а за нею, не в меру щурясь, медленно вошло как бы некое райское видение, удивительной худобы ангел в белоснежном одеянии и с золотистыми распущенными волосами, вдоль обнаженных рук которого падало до самого полу что-то вроде не то рукавов, не то крыльев: 3. Н. Гиппиус, сопровождаемая сзади Мережковским.
— Божественная! — воскликнул все с тем же торжественно-комическим жаром Вейнберг, возводя глаза к потолку и целуя руку Савиной. — А мы уж тут с ног до головы трепетали: а вдруг вы не пожалуете!
И тотчас же вслед за тем начался вечер, и тут я впервые увидел всю бездну человеческого честолюбия и самолюбия. В тишине, сразу наступившей после третьего звонка, и в артистической и в зале, почти все участники вечера, при всей своей славе и привычке к публичным выступлениям, вдруг побледнели от волнения, от близости своего выхода на эстраду, — даже Михайловский стал как-то не в меру строг и серьезен, — и многие тотчас же стали, шепотом и вполголоса, наизусть и по книжкам, твердить то, что надо было читать, — особенно большеголовый Минский: тот побледнел как смерть и затвердил со страстностью полоумного. Не проявили никакого видимого волнения только Вейнберг да Баранцевич, бодро пошедший на эстраду первым.
Я, конечно, читал «На край света» и опять, благодаря этим несчастным переселенцам (да и новизне своего имени), имел большой успех. Баранцевич, как человек многоопытный, этот успех заранее предвидел и потому «по-товарищески» предупредил меня:
— Не читайте, дорогой Иван Васильевич, громко. Эта зала странная: громкий голос гудит в ней, как в бочке. Читайте ровно и ничуть не поднимая голоса.
Но я, к счастью, тотчас же понял, выйдя на эстраду, цену этой товарищеской заботливости: в зале было тысячи три человек, она была набита сверху донизу, читать в ней «ровно и ничуть не поднимая голоса» значило осрамить себя до девятой пуговицы, — никто бы и звука не слыхал.
Про успех прочих и говорить нечего — они хорошо знали свое дело.
Вейнберг потрясал залу своим громовым, театрально-вдохновенным голосом, читая то, что читал, как я узнал впоследствии, неизменно на каждом таком вечере, — свои стихи «К морю», которое, конечно, втайне означало всякие конституционные свободы:
Бесконечной пеленою Развернулось предо мною Старый друг мой, — море! Сколько мощи необъятной, Сколько воли благодатной В царственном просторе!Засодимский, страшный заика, отрывисто выпаливал тоже свое неизменное — из Некрасова:
Жизни вольным впечатлениям Душу вольную отдай! Человеческим стремлениям В ней проснуться не мешай!Что читал Потапенко, не помню. Да и не важно было, что именно он читает, — для публики было вполне достаточно того, что это Потапенко, автор знаменитой повести «На действительной службе». Кроме того, был он тогда кумиром еще и потому, что был красив — красотой немного дурного тона, но весьма яркой и лихой какой-то.
А Гиппиус вызвала целую бурю и негодующих криков и рукоплесканий: она читала стихи о том, что она любит себя «как бога».
Я видел однажды Григоровича: был как-то в магазине Суворина, разглядывал новые книжки — и вдруг услыхал возле себя свежий и крепкий запах чудесного одеколона, поднял голову — и обомлел: Григорович!
Это было незадолго до его смерти, он был уже очень стар. Но свеж и бодр, как этот запах. Глаза веселые, живые и ласковые. Очень высок и довольно худощав. Маленькая, породистая, несколько гордо откинутая назад серебряная голова. Белоснежные бакенбарды. Белоснежное кашне и превосходная енотовая шуба до пят… Не было предела моему страху, радости и удивлению: «Антон Горемыка»!
Жемчужников был не менее Григоровича изящен, душист, свеж и бодр, несмотря на всю слабость здоровья. Я бывал у него довольно часто, и меня поражала его неизменная ласковость ко мне, чисто отеческая заботливость к каждому стихотворению, которое я печатал при его содействии в «Вестнике Европы».
Он подарил мне «Кузьму Пруткова» и рассказал происхождение этой книги:
— Мы — я и Алексей Константинович Толстой — были тогда молоды и непристойно проказливы. Жили вместе и каждый день сочиняли по какой-нибудь глупости в стихах. Потом решили собрать и издать эти глупости, приписав их нашему камердинеру Кузьме Пруткову, и так и сделали, и что же вышло? Обидели старика так, что он не мог простить нам этой шутки до самой смерти! Хотели мило пошутить, а обидели кровно.
Однажды он сказал:
— Я поэт не бог весть какой, а все-таки, думаю, не хуже, например, Надсона или Минского. Кроме того, могу смел сказать, я достаточно своеобразен, — даже более: совершенно оригинален, что ведь что-нибудь да значит и само по себе, силен в стихе… А вот подите же, почти никто и знать меня не хочет, а если и хочет, то только как Кузьму Пруткова. В чем тут причина, мой молодой друг? Думаю, что уж очень я разных кровей со многими теперешними. Ведь это совсем недаром говорят мужики о том, что даже у людей существуют разные «кровя», и ведь что такое кровь, как не душа?
Я вспомнил это недавно, прочтя о том, что теперь научные работы насчет переливания с точностью установили, что многочисленные неудачи смертельные случаи, сплошь и рядом происходящие при этом переливании, чаще всего зависят от «индивидуальной несовместимости кровей кроводателя и получателя»: оказывается, далеко не у всех людей одинаковая кровь, что «человечество разделяется по крови на целых четыре группы и что каждой из этих групп можно безнаказанно переливать лишь кровь группы соответствующей».
Так что Жемчужников был прав. В самом деле, как пенять на равнодушного читателя, на враждебного критика! Что с него взять, когда у него даже кровь, может быть, совсем другая, чем у тебя?
Жемчужников был светски очарователен в обращении, говорлив, как говорливы многие красивые старики высшего круга, привыкшие блистать в гостиных и неизменно бодрящиеся на людях.
— Вот все теперь говорят о новой поэзии, — сказал он однажды с заигравшими вдруг глазами.
— Теперь все стараются писать как-то по-новому. Вас, по вашей молодости, это, вероятно, тревожит, искушает. Что ж, тревога полезная. Я ничего не имею против нового, избавь бог переписывать сто раз написанное. Но вот все-таки позвольте Рассказать вам один старинный немецкий анекдот, — может быть, вы его не знаете.
Студент приходит к своему профессору и говорит:
«Господин профессор, я хочу создать новое солнце».
«Что же может быть лучше, мой дорогой друг? — отвечает профессор. — От души радуюсь за вас и желаю успеха».
«Да, но мне, господин профессор, необходимо знать, что именно нужно знать для этого?» — говорит студент.
«О, пустяки! — отвечает профессор. — Прежде всего необходимо изучить солнечные пятна».
«Пятна? Зачем?»
«А затем, мой друг, чтобы обойтись без них».
Мои впечатления от петербургских встреч были разнообразны, резки. Какие крайности! От Григоровича и Жемчужникова до Сологуба, например! И то же было и в Москве, где я встречал то Гольцева и прочих членов редакции «Русской мысли», то Златовратского, то декадентов и символистов. Когда я заходил к Златовратскому, он, по-толстовски хмуря свои косматые брови, — он вообще играл немного под Толстого, благодаря своему некоторому сходству с ним, — с шутливой ворчливостью говорил порой: «Мир-то, друзья мои, все-таки спасается только лаптем, что бы там ни говорили господа марксисты!» Златовратский из года в год жил в Гиршах в маленькой квартирке с неизменными портретами Белинского, Чернышевского; он ходил, по-медвежьи покачиваясь, по своему прокуренному кабинету, в стоптанных войлочных туфлях, в ситцевой косоворотке, в низко спустившихся толстых штанах, на ходу делал машинкой папиросы, втыкая ее в грудь себе, и бормотал:
— Да, вот мечтаю нынешним летом опять поехать в Апрелевку, — знаете, это по Брянской дороге, всего час езды от Москвы, а благодать… Бог даст, опять рыбки половлю, по душам поговорю со старыми приятелями, — там у меня есть чудеснейшие мужики-соседи… Все эти марксисты, декаденты какие-то, все это, милый, эфемериды, накипь!
А «декаденты» бредили альбатросами, Явой, Шотландией, гордо скандировали:
Мы — путники ночи беззвездной, Искатели смутного рая!В Москве они появились особенно внезапно и скандализировали публику гораздо резче, чем в Петербурге. Москву поразил первый Емельянов-Коханский. После него Брюсов, — «О, закрой свои бледные ноги!» Емельянов-Коханский вскоре добровольно сошел со сцены: женился на купеческой дочери и сказал: «Довольно дурака валять!» Это был рослый, плотный малый, рыжий, в веснушках, с очень неглупым и наглым лицом. Дурака валял он совсем не так уж плохо, как это имел на начинающего Брюсова значительное влияние. А впоследствии ближайшими соратниками Брюсова были Коневской и Добролюбов. Коневской так и остался никому не известен, Брюсов иначе не называл его, как гением. А на деле это был просто больной и несчастный юноша. Вытертая студенческая тужурка, худые и совершенно деревянные плечи, испитое лицо, стоячие белесые глаза, рыжеватые слабые волосы. Говорил он мало и крайне невразумительно. Писал что-то очень напряженное, но еще более невразумительное. Не знаю, что из него вышло бы, — он внезапно умер от разрыва сердца, купаясь.
Так же внезапно погиб для литературы и Добролюбов. Но о нем некоторые помнят и до сих пор. Блок писал о нем:
Из неживого тумана Вышло больное дитя…Но что за «туман неживой» был в Москве в ту пору? Да и на дитя Добролюбов был непохож. Это был сутулый и широкоплечий молодой человек с большим лицом, имевшим совершенное сходство с белой маской, которой жутко чернели какие-то сказочно-восточные глаза. Один из друзей его учились в Варшаве. По матери был полу-поляк, полу-француз. В детстве был помешан играх в индейцев, был необыкновенно жив, страстен. Юношей страшно изменился: стал какой-то мертвый, худой. Злоупотреблял наркотиками — курил опиум, жевал гашиш, прыскался каким-то острым индийским бальзамом. Основал «кружок декадентов», издал книгу своих стихов: «Из книги Невидимой, или Натура Натуранс» с совершенно нечеловеческими строками какого-то четвертого измерения… На меня Добролюбов сразу произвел вполне определенное впечатление: помешанный. Достаточно было взглянуть на него, когда он шел по улице: опасливо пробирается возле самой стены, глядит вкось, вся фигура тоже перекошенная, руки в черных перчатках, выставлены вперед… Как известно, он куда-то скрылся, — ушел странствовать по России, в армяке, в лаптях, — и навсегда где-то пропал. Брюсов и его называл гениальным. Блок тоже. Почему? Брюсов, со свойственной ему жаждой архива, описей, сделал опись всех его изданных и неизданных сочинений. Опись вышла очень невелика. Но в числе этих сочинений есть, например, такое: «Опровержение Шопенгауэра и всех философов».
Брюсова я узнал еще в студенческой тужурке. Поехал к нему в первый раз с Бальмонтом. Он жил на Цветном бульваре, в доме своего отца, торговца пробками. Дом был небольшой, двухэтажный, толстостенный, — настоящий уездный, третьей гильдии купеческий, с высокими и всегда запертыми на замок воротами, с калиткой, с собакой на цепи во дворе. Мы Брюсова в тот день не застали. Но на другой день Бальмонт получил от него записку: «Очень буду рад видеть Вас и Бунина, — он настоящий поэт, хотя и не символист». Поехали скова — и я увидел молодого человека с довольно толстой и тугой гостинодворческой (и широкоскуло-азиатской) физиономией. Говорил этот гостинодворец, однако, очень изысканно, высокопарно, с отрывистой и гнусавой четкостью, точно лаял в свой дудкообразный нос, и все время сентенциями, тоном поучительным, не допускающим возражений. Все было в его словах крайне революционно (в смысле искусства), — да здравствует только новое и долой все старое! Он даже предлагал все старые книги дотла сжечь на кострах, «вот как Омар сжег Александрийскую библиотеку!» — воскликнул он. Но вместе с тем для всего нового у него уже были жесточайшие, непоколебимые правила, уставы, узаконения, малейшие отступления от которых он, видимо, готов был тоже жечь на кострах. И аккуратность у него, в его низкой комнате на антресолях, была удивительная. Я попросил у него на несколько дней какую-то книгу. Он странно сверкнул на меня из своих твердых скул своими раскосыми, бессмысленно блестящими, как у птицы, черными глазами и с чрезвычайной галантностью, но и весьма резко отчеканил:
— Никогда и никому не даю ни одной из своих книг даже на час!
Первая встреча моя с Тетерниковым (Сологубом) была в декабре девяносто шестого года (в Петербурге). Зашел однажды утром к одному молодому писателю и увидал за чайным столом хозяина и какого-то незнакомого господина в учительском фраке. Хозяин, человек от природы очень живой, что-то громко и весело говорил. Господин сидел молча, с мертвой важностью подняв ничего не выражающее лицо, тупо глядя сквозь пенсне и полуоткрыв рот. Хозяин познакомил нас — он молча подал мне большую и очень бледную руку, довольно продолжительно и бесцеремонно поглядел на меня с тем же тупым вниманием. Лет он был неопределенных, хотя уже почти лыс. Фрак, панталоны, сапоги — все было у него провинциальное, бедно-чиновничье. Общий вид тоже довольно захолустный, свидетельствующий о скудных достатках простом происхождении: песочно-рыжеватые усы и такая же бородка, нечистый цвет желто-серого, слегка одутловатого и удлиненного лица, удлиненная картофелина носа и большая бородавка возле него, выражение лишено осмысленности. Это и был Сологуб. И вот что произошло при этой первой нашей встрече: уходя, он вдруг задержал мою руку в своей и неожиданно ухмыльнулся, на мой же вопрос о причине этого смеха глухо ответил:
— Я тому смеюсь, что все гадаю: любите ли вы мальчиков?
Последний раз я видел его в шестнадцатом году, у него на дому, на большом званом вечере. Он уже давно был славен, жил в достатке и, кажется, нередко устраивал такие вечера — собирал у себя литературных знаменитостей. В этот вечер знаменитостей собралось много, были Горький, Андреев. Но хозяин почему-то долго не выходил, предоставив принимать гостей Чеботаревской. Когда же вышел, то я глазам своим не поверил: на нем был смокинг, смятые и вытянутые в коленках панталоны, зеленые шерстяные носки и лакированные туфли со сбитыми каблуками.
Одно из самых приятных литературных воспоминаний — о Мирре Александровне Лохвицкой.
Она умерла еще молодой и вскоре после смерти была забыта. Но при жизни пользовалась известностью, слыла «русской Сафо» (как, впрочем, многие русские поэтессы). Воспевала она любовь, страсть, и все поэтому воображали ее себе чуть не вакханкой, совсем не подозревая, что она, при всей своей молодости, уже давно замужем, — муж ее был один из московских французов, по фамилии Жибер, — что она мать нескольких детей, большая домоседка, по-восточному ленива: часто даже гостей принимает, лежа на софе в капоте, и никогда не говорит с ними с поэтической томностью, а напротив, болтает очень здраво, просто, с большим остроумием, наблюдательностью и чудесной насмешливостью, — все, очевидно, родовые черты, столь блестяще развившиеся у ее сестры, Н. А. Тэффи. Такой, по крайней мере, знал ее я, а я знал ее довольно долго, посещал ее дом нередко, был с ней в приятельстве, — мы даже называли друг друга уменьшительными именами, хотя всегда как будто иронически, с шутками друг над другом.
— Миррочка, дорогая, опять лежите?
— Опять.
— А где ваша лира, тирс, тимпан?
Она заливалась смехом:
— Лира где-то там, не знаю, а тирс и тимпан куда-то затащили дети…
С особенным удовольствием вспоминаю нашу первую встречу. Мы случайно сошлись в редакции «Русской мысли» — оба принесли туда стихи, — познакомились и вместе и вышли. Все было очень бело, валил крупный снег, впереди ничего не было видно, — только очаровательная белизна. Она тотчас же весело начала;
— Послушайте, а про мужиков это тоже вы пишете?
— Я не про одних мужиков пишу.
— Но все-таки — вы?
— Я.
— Зачем?
— А почему же не писать и про мужиков?
— Ну вот! Пусть себе живут и пашут, нам-то что до них? Удивительнее всего то, что за них тоже, говорят, платят. Вам сколько платят?
— Рублей семьдесят пять, восемьдесят за лист.
— Боже мой! А за стихи сколько?
— Полтинник за строчку.
Она даже приостановилась:
— Как? А почему же мне всего четвертак?
— Не знаю.
— Значит, я хуже вас?
— Помилуй бог, что вы!
— Но в чем же тогда дело? Вам сколько лет?
— Двадцать четыре.
— Ну тогда, очевидно, только потому, что я по сравнению с вами еще ребенок…
И все в ней было прелестно — звук голоса, живость речи, блеск глаз, эта милая, легкая шутливость… Она и правда, была тогда совсем молоденькая и очень хорошенькая. Особенно прекрасен был цвет ее лица, — матовый, ровный, подобный цвету крымского яблока. На ней было что-то нарядное, из серого меха, шляпка тоже меховая. И все это было в снегу, в крупных белых хлопьях, которые валили, свежо тая на ее щеках, на губах, на ресницах…
Первую книгу рассказов я издал в конце 1896 года у Поповой (известной в то время петербургской издательницы).
Первый сборник стихов — в «Скорпионе», в девяносто девятом году. «Скорпион» существовал (под редакцией Брюсова) на деньги некоего Полякова, богатого московского купчика, из тех, что уже кончали университеты и тянулись ко всяким искусствам, человека еще молодого, но истрепанного, лысеющего, с желтыми и почему-то всегда мокрыми усами. Кутил этот Поляков чуть не каждую ночь напропалую и весьма сытно кормил-поил по ресторанам и Брюсова, и всю прочую братию московских декадентов, символистов, «магов», «аргонавтов», искателей «золотого руна». Однако со мной он оказался скупее Плюшкина: пришел ко мне с Брюсовым для переговоров чуть не утром, а ушел только вечером — все торговался, все сбивал цену и таки добился того, что я махнул рукой и отдал ему книгу всего за триста рублей. А потом вынул из кармана и стал показывать жемчужное ожерелье, которое только что купил в подарок своей невесте:
— Правда, хорошо? По случаю купил и совсем за грош — за двадцать пять тысяч…
«Скорпион» вообще не баловал своих сотрудников гонорарами. Помню, как однажды горестно пел Вячеслав Иванов:
— Знаете, сколько получил я от Полякова за свою последнюю книгу? Увы, всего пятьдесят рублей!
Зато издавал Поляков великолепно. И, конечно, поступал умно. Издания «Скорпиона» расходились весьма скромно — «Весы», например, достигли (на четвертый год своего существования) тиража всего-навсего в триста экземпляров — но внешностью весьма много способствовали своей славе. А потом — названия поляковских изданий: «Скорпион», «Весы» или, например, название первого альманаха, выпущенного «Скорпионом»: «Северные цветы, альманах первый, ассирийский». Все недоумевали: почему «Скорпион»? И что за «Скорпион» — гад или созвездие? И отчего эти «Северные цветы» вдруг оказались ассирийскими? Однако это недоумение вскоре сменилось у многих почтением, восхищением. Так что, когда вскоре после того Брюсов даже и самого себя объявил ассирийским магом, все уже свято верили, что он маг. Это ведь не шутка — ярлык. «Чем себя наречешь, тем и прослывешь».
А как обмеривали, как обвешивали эти «Весы»! Вес «своих» всегда оказывался огромный, вес чужих — смехотворный. Например, все участники «Знания» назывались в «Весах» неизменно «всероссийскими бездарностями». Про меня — я вскоре почел за благо удалиться из этого литературного лабаза — было однажды сказано так: «Произведения Бунина подобны солдатским сапогам, поставляемым интендантствами, — сапогам с бумажными подошвами». Это написал молодой поэт Сергей Соловьев, который, впрочем, вскоре после того вдруг прислал мне письмо: «Простите мне, ради бога, мою низость — я написал о Вас по приказу, то, что буквально продиктовали мне…»
О Горьком, как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет точного представления. Сказочна вообще судьба этого человека. Вот уже целых сорок лет мировой славы, основанной на беспримерно счастливом для ее носителя стечении не только политических, но и весьма многих других обстоятельств. Конечно, талант, но вот до сих пор не нашлось никого, кто сказал бы наконец о том, какого рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как «Песня о соколе» — песня о том, как «высоко в горы вполз уж и лег там», а затем, ничуть не будучи от природы смертоносным гадом, все-таки ухитрился насмерть ужалить за что-то сокола, тоже почему-то очутившегося в горах. Молва твердит: «Босяк, поднялся со дна моря народного…» А в словаре Брокгауза другое: «Горький-Пешков, Алексей Максимович. Родился в шестьдесят девятом году, в среде вполне буржуазной: отец — управляющий большой пароходной конторы, мать — дочь богатого купца-красильщика…» Дальнейшее основано, только на автобиографии Горького. «Грамоте учился я у деда, по псалтырю, потом, будучи поваренком на пароходе, у повара Смурого, человека сказочной силы и грубости и — нежности… Смурый привил мне, дотоле люто ненавидевшему всякую печатную бумагу, свирепую страсть к чтению, и я до безумия стал зачитываться Некрасовым, журналом „Искра“, Успенским, Дюма… Из поварят попал я в садовники, поглощал классиков и литературу лубочную. В пятнадцать лет возымел свирепое желание учиться, поехал в Казань, простодушно полагая, что науки желающим даром преподаются. Но оказалось, что оное не принято, вследствие чего и поступил в крендельное заведение. Работая там, свел знакомство со студентами… А в девятнадцать лет пустил в себя пулю и, похворав, сколько полагается, ожил, дабы приняться за коммерцию яблоками… В свое время был призван к отбыванию воинской повинности, но, когда обнаружилось, что дырявых не берут, поступил в письмоводители к адвокату Ланину, однако же вскоре почувствовал себя среди интеллигенции совсем не на своем месте и ушел бродить по югу России…»
В девяносто втором году Горький напечатал в газете «Кавказ» свой первый рассказ «Макар Чудра», который начинается так: «Ветер разносил по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны… Мгла осенней ночи пугливо вздрагивала и пугливо отодвигалась от нас при вспышках костра, над которым возвышалась массивная фигура Макара Чудры, старого цыгана. Полулежа в красивой, свободной и сильной позе, методически потягивал он из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и говорил: — Ведома ли рабу воля широкая? Ширь степная понятна ли? Говор морской волны веселит ли ему сердце? Эге! Он, парень, раб!» А через три года после того появился знаменитый «Челкаш». Уже давно шла о Горьком молва, уже многие зачитывались и «Макаром», и последующими созданиями: «Емельян Пиляй», «Дед Архип и Ленька»… Уже славился, кроме того, Горький сатирами — например, «О чиже, любителе истины, и о дятле, который лгал», — был известен как фельетонист, ибо писал и фельетоны (в «Самарской газете»), подписываясь: Иегудиил Хламида. По вот появился «Челкаш»…
Как раз к этой поре и относятся мои первые сведения о нем. В Полтаве прошел вдруг слух: «Под Кобеляками поселился молодой писатель Горький. Фигура удивительно красочная. Ражий детина в широчайшей крылатке, в шляпе вот с этакими полями и с суковатой дубинкой в руке…» А познакомились мы весной девяносто девятого года. <…>
У него был тогда брат. Я видел его в Ялте той же весной. Он работал при каком-то винном складе, мыл бутылки. У него была чахотка, ему нужен был южный климат. И вот он добрался откуда-то с Волги в Ялту. Он был очень худой, высокий, темноликий — типичный пожилой мастеровой и по виду, и по одежде, из тех, что страдают запоями, как это и было на самом деле, очень молчаливый, как бы всегда стыдящийся своих разбитых сапог и своей слабости насчет спиртного искушения. <…>
Заглавие пьесы «На дне» принадлежит Андрееву. Авторское заглавие было хуже: «На дне жизни». Однажды, выпивши, Андреев говорил мне, усмехаясь, как всегда в подобных случаях, гордо, весело и мрачно, ставя точки между короткими фразами твердо и настойчиво:
— Заглавие — все. Понимаешь? Публику надо бить в лоб и без промаху. Вот написал человек пьесу. Показывает мне. Вижу: «На дне жизни». Глупо, говорю. Плоско. Пиши просто: «На дне». И все. Понимаешь? Спас человека. Заглавие штука тонкая. Что было бы, например, если бы я вместо «Жизнь человека» брякнул: «Человеческая жизнь»? Ерунда была бы. Пошлость. А я написал: «Жизнь человека». Что, неправду я говорю? Я люблю, когда ты мне говоришь, что я «хитрый на голову». Конечно, хитрый. А вот что ты похвалил мою самую элементарную вещь «Дни нашей жизни», никогда тебе не прошу. Почему похвалил? Хотел унизить мои прочие вещи. Но и тут: плохо разве придумано заглавие? На пять с плюсом. <…>
Одно время, особенно на Капри, где я прожил три зимы, мы с Горьким дружили. Лично ко мне он всегда выказывал большое расположение, внимание, даже нежность. Я не мог на это не отзываться. Кроме того, был в нем и другой человек, иногда чрезвычайно милый. И расстались мы с ним дружески — в Петербурге семнадцатого года — расцеловались на прощанье — навсегда, как оказалось…
Чехов говорил про Найденова:
— Какие мы драматурги! Единственный настоящий драматург — Найденов: прирожденный драматург, с самой что ни на есть драматической пружиной внутри! Он должен теперь, после «Детей Ванюшина», еще десять пьес написать и девять раз с треском провалиться, а на десятый опять такой успех сорвать, что только ахнешь!
Предсказание его не сбылось. После «Детей Ванюшина» Найденов написал еще несколько пьес, которые шли и в Малом театре, и в Художественном, но успеха не имел и через некоторое время как-то затерялся: новых пьес больше не ставил, — да, может быть, и не писал их, — из литературных кругов исчез, жить стал где-то под Москвой, потом переселился в Крым, безвыездно сидел там несколько лет, дождался революции, большевиков — и умер, пережив все, что полагается, сокрушенный пережитым, в нищете, в забвении и, насколько мне известно, в высоком религиозном подъеме… Странная судьба и странный был человек, истинно российское порождение!
Мы познакомились с ним вскоре после того, как на него свалилась слава — именно свалилась, — быстро стали приятелями, часто виделись, часто вместе ездили — то в Петербург, то на юг, то за границу… В нем была смесь чрезвычайной скрытности и чисто детской откровенности, простоты и даже наивности, и вот что слышал я от него в такие откровенные минуты.
— Кто я? — мрачно, басом начинал он, зверски двигая челюстью, неловко запуская тонкие пальцы в черные волосы, закидывая их назад, поправляя криво висящее на тонком восточном носу пенсне, набирая в грудь воздуху, надуваясь, высоко и с усилием поднимая правое плечо, и, надувшись, приняв эту нелепую, напряженную позу, став похожим на злого ворона, медленно выпускал воздух и понемногу менял зверское выражение на удивленное, отклонял голову назад и долго глядел через пенсне пристально и бессмысленно своими карими рачьими глазами. — Кто я? — спрашивал он с удивлением, и вдруг лицо его начинало все больше и больше озаряться радостью, милой и наивной улыбкой. — Да сам черт не разберет, кто я! — говорил он уже тонким голосом, уже смеясь и детски-вопросительно глядя на меня. — Я ведь сам из «Детей Ванюшина»! Татарская кровь? Да, конечно, она во мне есть, мы ведь казанские, хотя и была наша семья ух какая русская, старозаветная! Учиться я, конечно, не доучился, торговал образами… Тут мне выделили некоторую часть, я поехал по делам на Кавказ — и вдруг встретил на пароходе одну особу… Встретил — и, конечно, все полетело к черту. Связались мы с ней, и через недолгое время не осталось у меня в кармане буквально ни гроша. А что было потом — долго рассказывать. Было, между прочим, то, что достукался я до приказчика в паршивой московской лавчонке готового платья. Жил в мерзком номеришке на Тверской, вставал в седьмом часу, пил чай, просматривал «Московский листок», шел на службу. По вечерам иногда писал и, написав этих самых «Детей Ванюшина», вдруг взял да и послал их в Петербург, на конкурс, объявленный Суворинским театром, послал, конечно, совершенно так, ни с того ни с сего, без всяких надежд, как какой-нибудь пьяный, вдруг вздумавший позвонить в богатый подъезд. Послал — и забыл. А в один прекрасный день развернул «Московский листок» и вдруг вижу: премия в тысячу рублей присуждена в Суворинском театре автору «Детей Ванюшина»! Что ж мне оставалось после этого делать? Покидал в чемодан свой убогий скарб — и в Петербург. Даже и не зашел в магазин, не сказал, что, мол, место бросаю. А через некоторое время — слава и куча денег. Недурно? — спрашивал он, заливаясь радостным смехом и удивленно и вопросительно выпучивая свои рачьи глаза.
За Горьким пришел Скиталец, Андреев. А там, в другом лагере, появился Блок, Белый, расцвел Бальмонт… Скиталец — некое подобие соборного певчего «выпивахом» — притворялся гусляром, ушкуйником, рычал на интеллигенцию: «Вы жабы в гнилом болоте!» — упивался своей нежданной, негаданной славой и все позировал перед фотографами: то с гуслями, — «ой ты гой, еси, ты детинушка, вор-разбойничек!» — то обнявшись с Горьким, то сидя на одном стуле с Шаляпиным; однажды, после литературного вечера в Благородном собрании, где он имел совершенно бешеный успех именно за этих «жаб», он спросил себе в Большом Московском щей и тарелку зернистой икры, зачерпнул по ложке того и другого и бросил салфетку в щи: «Нет, и есть не хочу! Больно велик аплодисмент сорвал!» Андреев все крепче и все мрачнее бледнел во хмелю, стискивал зубы и от своих тоже головокружительных успехов, и тех идейных бездн и высот, пребывание среди которых он счел своей специальностью. И все ходили в поддевках, в шелковых рубахах навыпуск, в ременных поясах с серебряным набором, в длинных сапогах — я однажды встретил их всех сразу и фойе Художественного театра во время антракта и не удержался, спросил дурацким тоном Коко из «Плодов просвещения», увидавшего на кухне мужиков:
— Э-э-э… Вы охотники?
А там, в другом лагере, рисовался образ кудрявого Блока, его классическое мертвое лицо, тяжелый подбородок, мутно-сонный взор. Там Белый «запускал в небеса ананасом», вопил о наставшем преображении мира, весь дергался, приседал, подбегал, отбегал, бессмысленно-весело озирался по сторонам с какими-то странно вкрадчивыми ужимками, ярко, блаженно-радостно блестел главами и все сыпал новыми и новыми мыслями… Недавно он выпустил в Москве книгу: «Ритм как диалектика», в которой говорит о Пушкине так: «„Медный всадник“ написан как бы октябрем 1917 года. Перед смертью Пушкин слетал в люмпен-пролетариат…»
В одном лагере рвали издания «Знания»; были книги «Знания», в месяц, в два расходившиеся в ста тысячах экземпляров, как говорил Горький. А там тоже одна ударная книга сменяла другую, — Гамсун, Пшибышевский, Верхарн, «Urbi et Orbi». «Будем как Солнце», «Кормчие звезды», один журнал следовал за другим: за «Весами» — «Перевал», за «Миром искусства» — «Аполлон», «Золотое руно», — следовал триумф за триумфом Художественного театра, на сцене которого были то древние кремлевские палаты, то кабинет «дяди Вани», то Норвегия, то «Дно», то метерлинковский остров, на котором грудами лежали какие-то тела, глухо стонавшие: «Нам стра-ашно!» — то тульская изба из «Власти тьмы», вся загроможденная телегами, дугами, колесами, хомутами, вожжами, корытами и мисками, то самые настоящие римские улицы с настоящим голоногим плебсом.
Потом начались триумфы «Шиповника». Ему и Художественному театру суждено было много способствовать объединению этих двух лагерей. «Шиповник» стал печатать Серафимовича, «Знание» — Бальмонта, Верхарна.
Художественный театр соединил Ибсена с Гамсуном, царя Федора с «Дном», «Чайку» с «Детьми солнца». Много способствовал этому объединению и конец девятьсот пятого года, когда в газете «Борьба» появился рядом с Горьким Брюсов, рядом с Лениным Бальмонт… Потом запел Игорь Северянин.
В сирень, шофер, в сирень…Дальше возникли мистический анархизм, мистический реализм, адамизм, акмеизм, футуризм:
О засмейтесь усмехательно Смехом смейным, смехачи…И пир всех искусств шел и по домам, и по редакциям, и у «Яра» в Москве, и в петербургской «Башне» Вячеслава Иванова, и в ресторане «Вена», и в подвале «Бродячей собаки»:
Все мы бражники здесь, блудницы…Об этом времени писал Блок (вполне серьезно):
«Мятеж лиловых миров стихает. Скрипки, хвалившие призрак, обнаруживают свою истинную природу. Лиловый сумрак рассеивается… И в разреженном воздухе горький запах миндаля… В лиловом сумраке необъятного мира качается огромный катафалк, а на нем лежит мертвая кукла с лицом, смутно напоминающим то, которое сквозило среди небесных роз…»
Париж, 1927.
Автобиографические заметки
Некоторые автобиографические заметки, касающиеся главным образом моей писательской жизни, были напечатаны мною лет пятнадцать тому назад в собрании моих сочинений, изданном в Берлине «Петрополисом».
Дополняю их некоторыми новыми.
<…>
Моя писательская жизнь началась довольно странно. Она началась, должно быть, в тот бесконечно давний день в нашей деревенской усадьбе в Орловской губернии, когда я, мальчик лет восьми, вдруг почувствовал горячее, беспокойное желание немедленно сочинить что-то вроде стихов или сказки, будучи внезапно поражен тем, на что случайно наткнулся в какой-то книжке с картинками: я увидал в ней картинку, изображавшую какие-то дикие горы, белый холст водопада и какого-то приземистого, толстого мужика, карлика с бабьим лицом, с раздутым горлом, то есть с зобом, стоявшего под водопадом с длинной палкой в руке, в небольшой шляпке, похожей на женскую, с торчащим сбоку птичьим пером, а под картинкой прочел подпись, поразившую меня своим последним словом, тогда еще, к счастью, неизвестным мне: «Встреча в горах с кретином». Кретин! Не будь этого необыкновенного слова, карлик с зобом, с бабьим лицом и в шляпке вроде женской показался бы мне, вероятно, только очень противным, и больше ничего. Но кретин? В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическим волнением. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства?
Во всяком случае, можно подумать, будто некий пророческий знак был для меня в том, что наткнулся я в тот день на эту картинку, ибо во всей моей дальнейшей жизни пришлось мне иметь немало и своих собственных встреч с кретинами, на вид тоже довольно противными, хотя и без зоба, из коих некоторые, вовсе не будучи волшебными, были, однако, и впрямь страшны, и особенно тогда, когда та или иная мера кретинизма сочеталась в них с какой-нибудь большой способностью, одержимостью, с какими-нибудь историческими силами, — ведь, как известно, и это бывает, было и будет во всех областях человеческой жизни. Да что! Мне вообще суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких кретинов, имена которых навеки останутся во всемирной истории.
<…>
Я родился в Воронеже, прожил в нем целых три года, а кроме того, провел однажды целую ночь, но Воронеж мне совсем неизвестен, ибо в ту ночь, что провел я в нем, я его не мог видеть: приглашен был воронежским студенческим землячеством читать на благотворительном вечере в пользу этого землячества, приехал в темные зимние сумерки, в метель, на вокзале был встречен с шампанским, немало угощался и на вечере и перед рассветом был снова отвезен на вокзал к московскому поезду уже совсем хмельной. А те три года, что я прожил в Воронеже, были моим младенчеством.
<…>
…В моей молодости новые писатели уже почти сплошь состояли из людей городских, говоривших много несуразного: один известный поэт, — он еще жив, и мне не хочется называть его, — рассказывал в своих стихах, что он шел, «колосья пшена разбирая», тогда как такого растения в природе никак не существует: существует, как известно, просо, зерно которого и есть пшено, а колосья (точнее, метелки) растут так низко, что разбирать их руками на ходу невозможно; другой (Бальмонт) сравнивал лунь, вечернюю птицу из породы сов, оперением седую, таинственно-тихую, медлительную и совершенно бесшумную при перелетах, — со страстью («и страсть ушла, как отлетевший лунь»), восторгался цветением подорожника («подорожник весь в цвету!»), хотя подорожник, растущий на полевых дорогах небольшими зелеными листьями, никогда не цветет; а что до дворянских поместий и владельцев их, то Гумилев изображал их уж совсем плохо: у него в этих поместьях -
Дома косые двухэтажные И тут же рига, скотный двор, —а сами помещики и того удивительнее, они, оказывается, «гордятся новыми поддевками» и по тиранству, по Домострою не уступают любому старозаветному Титу Титычу: дочери их будто бы пикнуть при них не смеют и, принуждаемые ими подумывают «стать русалками», то есть утопиться где-нибудь в речке или в пруду. А совсем недавно один из видных советских поэтов описал какого-то охотника, который идет в лесу «по дерну» и несет в ягташе золотую лису: это так же правдоподобно, как если бы он нес в кармане собаку.
<…>
В литературную среду я вошел в середине девяностых годов. Тут я уже не застал, к несчастью, ни Фета, ни Полонского, не застал Гаршина, — его прекрасный человеческий образ сочетался с талантом, который, если бы не погиб в самоубийстве, развился бы, несомненно, так, что поставил бы его в ряд с самыми большими русскими писателями. Но я застал еще не только самого Толстого, но и Чехова; застал Эртеля, тоже замечательного человека и автора «Гардениных», романа, который навсегда останется в русской литературе; застал Короленко, написавшего свой чудесный «Сон Макара», застал Григоровича, — видел его однажды в книжном магазине Суворина: тут передо мной был уже легендарный человек; застал порта Жемчужникова, одного из авторов «Кузьмы Пруткова», часто бывал у него, и он называл меня своим юным другом… Но в те годы была в России уже в полном разгаре ожесточенная война народников с марксистами. <…> А в другом стане уже славились Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Брюсов, Сологуб… Всероссийская слава Надсона в те годы уже кончилась, Минский, его близкий друг, еще недавно призывавший грозу революции:
Пусть же гром ударит и в мое жилище, Пусть я даже буду первый грома пищей! —Минский, все-таки не ставший пищей грома, теперь перестраивал свою лиру тоже на их лад. Вот незадолго до этого я и познакомился с Бальмонтом, Брюсовым, Сологубом, когда они были горячими поклонниками французских декадентов, равно как Верхарна, Пшибышевского, Ибсена, Гамсуна, Метерлинка, но совсем не интересовались еще пролетариатом.
<…>
Вскоре после нашего знакомства Брюсов читал мне, лая в нос, ужасную чепуху:
О, плачьте, О, плачьте До радостных слез! Высоко на мачте Мелькает матрос!Лаял и другое, нечто уже совершенно удивительное, — про восход месяца, который, как известно, называется еще и луною:
Всходит месяц обнаженный При лазоревой луне!Впоследствии он стал писать гораздо вразумительнее, несколько лет подряд развивал свой стихотворный талант неуклонно, достиг в версификации большого мастерства и разнообразия, хотя нередко срывался и тогда в дикую словесную неуклюжесть и полное свинство изображаемого:
Альков задвинутый, Дрожанье тьмы, Ты запрокинута, И двое мы…Был он, кроме того, неизменно напыщен не меньше Кузьмы Пруткова, корчил из себя демона, мага, беспощадного «мэтра», «кормщика»… Потом неуклонно стал слабеть, превращаться в совершенно смехотворного стихоплета, помешанного на придумывании необыкновенных рифм:
Бригам ребра ты дробил, Чтоб тебя узнать, их главный — и Неповторный опыт был…Что до Бальмонта, то он своими выкрутасами однажды возмутил даже Гиппиус. Это было при мне на одной из литературных «пятниц» у поэта Случевского. Собралось много народу, Бальмонт был в особенном ударе, читал свое первое стихотворение с такой самоупоенностью, что даже облизывался:
Лютики, ландыши, ласки любовные…Потом читал второе, с отрывистой чеканностью:
Берег, буря, в берег бьется Чуждый чарам черный челн…Гиппиус все время как-то сонно смотрела на него в лорнет и, когда он кончил и все еще молчали, медленно сказала:
— Первое стихотворение очень пошло, второе — непонятно.
Бальмонт налился кровью:
— Пренебрегаю вашей дерзостью, но желаю знать, на что именно не хватает вашего понимания?
— Я не понимаю, что это за челн и почему и каким таким чарам он чужд, — раздельно ответила Гиппиус.
Бальмонт стал подобен очковой змее:
— Поэт не изумился бы мещанке, обратившейся к нему за разъяснением его поэтического образа. Но когда поэту докучает мещанскими вопросами тоже поэт, он не в силах сдержать своего гнева. Вы не понимаете? Но не могу же я приставить вам свою голову, дабы вы стали понятливей!
— Но я ужасно рада, что вы не можете, — ответила Гиппиус. — Для меня было бы истинным несчастием иметь вашу голову…
Бальмонт был вообще удивительный человек. Человек, иногда многих восхищавший своей «детскостью», неожиданным наивным смехом, который, однако, всегда был с некоторой бесовской хитрецой, человек, в натуре которого было немало притворной нежности, «сладостности», выражаясь его языком, но немало и совсем другого — дикого буянства, зверской драчливости, площадной дерзости. Это был человек, который всю свою жизнь поистине изнемогал от самовлюбленности, был упоен собой, уверен в себе до такой степени, что однажды вполне простодушно напечатал свой рассказ о том, как он был у Толстого, как читал ему свои стихи и как Толстой помирал со смеху, качаясь в качалке: ничуть не смущенный этим смехом, Бальмонт закончил свой рассказ так:
— Старик ловко притворился, что ему мои стихи не нравятся!
С необыкновенной наивностью рассказывал он немало и другого. Например, о том, как посетил он Метерлинка:
— Художественный театр готовился ставить «Синюю птицу» и просил меня, ехавшего как раз тогда за границу, заехать к Метерлинку, спросить его, как он сам мыслит постановку своего создания. Я с удовольствием согласился, но у Метерлинка ожидало меня нечто весьма странное. Во-первых, звонил я в его жилище чуть не целый час, во-вторых, когда, наконец, дозвонился, мне отворила какая-то мегера, загородившая мне порог своей особой. И в-третьих, когда я все-таки эту преграду преступил, то предо мной оказалась такая картина: пустая комната, посреди — всего один стул, возле стула стоит Метерлинк, а на стуле сидит толстая собака. Я кланяюсь, называю себя, в полной уверенности, что мое имя небезызвестно хозяину. Но Метерлинк молчит, молча глядит на меня, а подлая собака начинает рычать. Во мне закипает страстное желание сбросить это чудовище со стула на пол и отчитать хозяина за его неучтивость. Но, сдержав свой гнев, я излагаю причину своего визита. Метерлинк молчит по-прежнему, а собака начинает уже захлебываться от рычания. «Будьте же добры, — говорю я тогда достаточно резко, — соблаговолите мне сказать, что вы думаете о постановке вашего создания?» И он наконец отверзает уста: «Ровно ничего не думаю. До свиданья». Я выскочил от него со стремительностью пули и с бешенством разъяренного демона…
Рассказывал свое приключение на мысе Доброй Надежды:
— Когда наш корабль, — Бальмонт никогда не мог сказать «пароход», — бросил якорь в гавани, я сошел на сушу и углубился в страну, — тут Бальмонт опять-таки не мог сказать, что он просто вышел за город, — я увидал род вигвама, заглянул в него и увидал в нем старуху, но все же прельстительную своей старостью и безобразием, тотчас пожелал осуществить свою близость с ней, но, вероятно, потому что я, владеющий многими языками мира, не владею языком «зулю», эта ведьма кинулась на меня с толстой палкой, и я принужден был спастись бегством…
«Я, владеющий многими языками мира…» Не один Бальмонт так бессовестно лгал о своем знании языков. Лгал, например, и Брюсов. <…> Не отставал от него и его соратник по издательству «Скорпион» С. А. Поляков: его сотрудник М. Н. Семенов рассказал недавно в газете «Русская мысль», что этот Поляков «знал все европейские языки и около дюжины восточных…». Вы только подумайте: все европейские языки и около дюжины восточных! Что до Бальмонта, то он «владел многими языками мира» очень плохо, даже самый простой разговор по-французски был ему труден. Однажды в Париже, в годы эмиграции, он встретился у меня с моим литературным агентом, американцем Брадлеем, и когда Брадлей заговорил с ним по-английски, покраснел, смешался, перешел на французский язык, но и по-французски путался, делал грубые ошибки… Как же все-таки сделал он столько переводов с разных языков, даже с грузинского, с армянского? Вероятно, не раз с подстрочников. А до чего на свой лад, о том и говорить нечего. Вот, например, сонет Шелли, вот его первая строчка, — очень несложная: в пустыне, в песках, лежит великая статуя, — только и всего сказал о ней Шелли; а Бальмонт? «В нагих песках, где вечность сторожит пустыни тишину…»
Что же до незнания «языка зулю», проще говоря, зулусского, и печальных последствий этого незнания, то бывало множество столь же печальных последствий и в других случаях, когда Бальмонт говорил на языках, ему более или менее известных, только тут уже в силу пристрастия Бальмонта к восклицаниям: знаю, как нещадно били его — и не раз — лондонские полицейские в силу этого пристрастия, как однажды били его ночью полицейские в Париже, потому что шел он с какой-то дамой позади двух полицейских и так бешено кричал на даму, ударяя на слово «ваш» («ваш хитрый взор, ваш лукавый ум!»), что полицейские решили, что это он кричит на них на парижском жаргоне воров и апашей, где слово «vache» (корова) употребляется как чрезвычайно оскорбительная кличка полицейских, еще более глупая, чем та, которой оскорбляли их в России: «фараон». А при мне было однажды с Бальмонтом такое: мы гостили с ним летом под Одессой, в немецком поселке на берегу моря, пошли как-то втроем — он, писатель Федоров и я — купаться, разделись и уже хотели идти в воду, но тут, на беду, вылез из воды на берег брат Федорова, огромный мужик, босяк из одесского порта, вечный острожник, и, увидав его, Бальмонт почему-то впал в трагическую ярость, кинулся к нему, театрально заорал: «Дикарь, я вызываю тебя на бой!» — а «дикарь»; лениво смерил его тусклым взглядом, сгреб в охапку своими страшными лапами и запустил в колючие прибрежные заросли, из которых Бальмонт вылез весь окровавленный…
Удивительный он был вообще человек, — человек, за всю свою долгую жизнь не сказавший ни единого словечка в простоте, называвший в стихах даже тайные прелести своих возлюбленных на редкость скверно: «Зачарованный Грот».
И еще: при всем этом был он довольно расчетливый человек. Когда-то в журнале Брюсова, в «Весах», называл меня, в угоду Брюсову, «малым ручейком, способным лишь журчать». Позднее, когда времена изменились, стал вдруг милостив ко мне, — сказал, прочитав мой рассказ «Господин из Сан-Франциско»:
— Бунин, у вас есть чувство корабля!
А еще позднее, в мои нобелевские дни, сравнил меня на одном собрании в Париже уже не с ручейком, а со львом: прочел сонет в мою честь, в котором, конечно, и себя не забыл, — начал сонет так:
Я тигр, ты — лев!Расчетлив он был и политически.
В Москве в 1930 году издавалась «Литературная энциклопедия», и вот что сказано о нем в первом томе этой энциклопедии:
«Бальмонт — один из вождей русского символизма… По окончании гимназии поступил в Московский университет, откуда был исключен за участие в студенческом движении. Но общественные интересы его очень скоро уступили место эстетизму и индивидуализму. Короткий рецидив революционных настроений в 1905 году и затем издание в Париже сборника революционных стихотворений „Песни мстителя“ превратили Бальмонта в политического эмигранта. В Россию вернулся в 1913 году после царского манифеста. На империалистическую войну откликнулся шовинистически. Но в 1920 году опубликовал в журнале Наркомпроса стихотворение „Предвозвещенное“, восторженно приветствуя Октябрьскую революцию. Выехав по командировке Советского правительства за границу, перешел в лагерь белогвардейской эмиграции. Сменив свое преклонение перед гармоническим пантеизмом Шелли на преклонение перед извращенно-демоническим Бодлером, „пожелал стать певцом страстей и преступления“, как сказал о нем Брюсов. В сонете „Уроды“ прославил „кривые кактусы, побеги белены и змей и ящериц отверженные роды, чуму, проказу, тьму, убийство и беду, Гоморру и Содом“, восторженно приветствовал, как „брата“, Нерона…»
Не знаю, что такое «Предвозвещенное», которым, без сомнения, столь же «восторженно», как «чуму, проказу, тьму, убийство и беду», встретил Бальмонт большевиков, но знаю кое-что из того, чем встретил он 1905 год, что напечатал осенью того года в большевистской газете «Новая жизнь», — например, такие строки:
Кто не верит в победу сознательных, смелых рабочих, Тот бесчестный, тот шулер, ведет он двойную игру!Это так глупо и грубо в смысле подхалимства, что, кажется, дальше идти некуда: почему «бесчестный», почему «шулер» и какую такую «ведет он двойную игру»? Но это еще цветочки; а вот в «Песнях мстителя» уже ягодки, такое, чему просто имени нет: тут в стихах под Заглавием «Русскому офицеру», написанных по поводу разгрома московского восстания в конце 1905 года, можно прочесть следующее:
Грубый солдат! Ты еще не постиг, Кому же ты служишь лакеем? Ты сопричислялся, — о, не на миг! — К подлым, к бесчестным, к злодеям! Я тебя видел в расцвете души, Встречал тебя вольно красивым. Низкий. Как пал ты! В трясине! в глуши! Труп ты — во гробе червивом! Кровью ты залил свой жалкий мундир, Душою ты в пропасти темной. Проклят ты. Проклят тобою весь мир. Нечисть! Убийца наемный!Но и этого мало: дальше идут «песни» о царе:
Наш царь — убожество слепое, Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел, Царь — висельник… Он трус, он чувствует с запинкой, Но будет, час расплаты ждет! Ты был ничтожный человек, Теперь ты грязный зверь! Царь губошлепствует… О мерзость мерзостей! Распад, зловонье гноя, Нарыв уже набух и, пухлый, ждет ножа. Тесней, товарищи, сплотимтесь все для боя, Ухватим этого колючего ежа! Царь наш весь мерзостный, с лисьим хвостом, С пастью, приличною волку, К миру людей привыкает — притом Грабит весь мир втихомолку, Грабит, кощунствует, ежится, лжет, Жалко скулит, как щенята! Ты карлик, ты Кощей, ты грязью, кровью пьяный, Ты должен быть убит!Все это было напечатано в 1907 году в Париже, куда Бальмонт бежал после разгрома московского восстания и ничуть не помешало ему вполне безопасно вернуться в Россию. А Гржебин, начавший еще до восстания издавать в Петербурге иллюстрированный сатирический журнал, первый выпуск его украсив обложкой с нарисованным на ней во всю страницу голым человеческим задом под императорской короной, даже и не бежал никуда, и никто его и пальцем не тронул…
<…>
В конце девяностых годов еще не пришел, но уже чувствовался «большой ветер из пустыни». И был он уже тлетворен в России для той «новой» литературы, что как-то вдруг пришла на смену прежней. Новые люди этой новой литературы уже выходили тогда в первые ряды ее и были удивительно не схожи ни в чем с прежними, еще столь недавними «властителями дум и чувств», как тогда выражались. Некоторые прежние еще властвовали, но число их приверженцев все уменьшалось, а слава новых все росла. Аким Волынский, видно, недаром объявил тогда: «Народилась в мире новая мозговая линия!» И чуть не все из тех новых, что были во главе нового, от Горького до Сологуба, были люди от природы одаренные, наделенные редкой энергией, большими силами и большими способностями. Но вот что чрезвычайно знаменательно для тех дней, когда уже близится «ветер из пустыни»: силы и способности почти всех новаторов были довольно низкого качества, порочны от природы, смешаны с пошлым, лживым, спекулятивным, с угодничеством улице, с бесстыдной жаждой успехов, скандалов…
<…>
<Одесский дневник>
«Ксения», 18 октября 1905 года.
Жил в Ялте, в Аутке, в чеховском опустевшем доме, теперь всегда тихом и грустном, гостил у Марьи Павловны. Дни все время стояли серенькие, осенние, жизнь наша с М<арьей> П<авловной> и мамашей (Евгенией Яковлевной) текла так ровно, однообразно, что это много способствовало тому неожиданному резкому впечатлению, которое поразило нас всех вчера перед вечером, вдруг зазвонил из кабинета Антона Павловича телефон, и, когда я вошел туда и взял трубку, Софья Павловна стала кричать мне в нее, что в России революция, всеобщая забастовка, остановились железные дороги, не действуют телеграф и почта, государь уже в Германии — Вильгельм прислал за ним броненосец. Тотчас пошел в город — какие-то жуткие сумерки и везде волнения, кучки народа, быстрые и таинственные разговоры — все говорят почти то же самое, что Софья Павловна. Вчера стало известно, уже точно, что действительно в России всеобщая забастовка, поезда не ходят… Не получили ни газет, ни писем, почта и телеграф закрыты. Меня охватил просто ужас застрять в Ялте, быть ото всего отрезанным. Ходил на пристань — слава богу, завтра идет пароход в Одессу, решил ехать туда.
Нынче от волнения проснулся в пять часов, в восемь уехал на пристань. Идет «Ксения». На душе тяжесть, тревога. Погода серая, неприятная. Возле Ай-Тодора выглянуло солнце, озарило всю гряду гор от Ай-Петри до Байдарских Ворот. Цвет изумительный, серый с розово-сизым оттенком. После завтрака задремал, на душе стало легче и веселее. В Севастополе сейчас сбежал с парохода и побежал в город. Купил «Крымский вестник», с жадностью стад просматривать возле памятника Нахимову. И вдруг слышу голос стоящего рядом со мной бородатого жандарма, который говорит кому-то в штатском, что выпущен манифест свободы слова, союзов и вообще всех «свобод». Взволновался до дрожи рук, пошел повсюду искать телеграммы, нигде не нашел и поехал в «Крымский вестник». Возле редакции несколько человек чего-то ждут. В кабинете редактора (Шапиро) прочел, наконец, манифест! Какой-то жуткий восторг, чувство великого события.
Сейчас ночью (в пути в Одессу) долгий разговор с вахтенным на носу. Совсем интеллигентный человек, только с сильным малороссийским акцентом. Настроен крайне революционно, речь все время тихая, твердая, угрожающая. Говорит, не оборачиваясь, глядя в темную равнину бегущего навстречу моря.
Одесса 19 октября.
Возле Тарханкута, как всегда, стало покачивать. Разделся и лег, волны уже дерут по стене, опускаются все ниже. Качка мне всегда приятна, тут было особенно — как-то это сливалось с моей внутренней взволнованностью. Почти не спал, все возбужденно думал, в шестом часу отдернул занавеску на иллюминаторе: неприязненно светает, под иллюминатором горами ходит зеленая холодная вода, из-за этих гор — рубин маяка Большого Фонтана. Краски серо-фиолетовые; рассвет и эти зеленые горы воды и рубин маяка. Качает так, что порой совсем кладет.
Пристали около восьми, утро сырое, дождливое, с противным ветром. В тесноте, в толпе, в ожидании сходен, узнаю от носильщиков, кавказца и хохла, что на Дальницкой убили несколько человек евреев, — убили будто бы переодетые полицейские, за то, что евреи будто бы топтали царский портрет. Очень скверное чувство, но не придал особого значения этому слуху, может, и ложному. Приехал в Петербургскую гостиницу, увидал во дворе солдат. Спросил швейцара: «Почему солдаты?» Он только смутно усмехнулся. Поспешно напился кофию и вышел. Небольшой дождь, сквозь туман сияние солнца — и все везде пусто: лавки заперты, нет извозчиков. Прошел, ища телеграммы, по Дерибасовской. Нашел только «Ведомости градоначальства». Воззвание градоначальника, — призывает к спокойствию. Там и сям толпится народ. Очень волнуясь, пошел в редакцию «Южного обозрения». Тесное помещение редакции набито евреями с грустными серьезными лицами. К стене прислонен большой венок с красными лентами, на которых надпись: «Павшим за свободу». Зак, Ланде (Изгоев). Он говорит: «Последние дни наши пришли». — «Почему?» — «Подымается из порта патриотическая манифестация. Вы на похороны пойдете?» — «Да ведь могут голову проломить?» — «Могут. Понесут по Преображенской».
Пока пошел к Нилусу. Вдоль решетки городского сада висят черные флаги. С Нилусом пошел к Куровским. Куровский (который служит в городской управе) говорит, что было собрание гласных думы вместе с публикой и единогласно решили поднять на думе красный флаг. Флаг подняли, затем потребовали похоронить «павших за свободу» на Соборной площади, на что дума опять согласилась.
Когда вышел с Куровским и Нилусом, нас тотчас встретил один знакомый, который предупредил, что в конце Преображенской национальная манифестация уже идет, и босяки, приставшие к ней, бьют кого попало. В самом деле, навстречу в панике бежит народ.
В три часа после завтрака у Буковецкого узнали, грабят Новый базар. Уже образована милиция, всюду санитары, пальба… Как в осаде, просидели до вечера у Буковецкого. Пальба шла до ночи и всю ночь. Всюду грабят еврейские магазины и дома, евреи будто бы стреляют из окон, а солдаты залпами стреляют в их окна. Перед вечером мимо нас бежали по улице какие-то люди, за ними бежали и стреляли в них «милиционеры». Некоторые вели арестованных. На извозчике везли раненых. Особенно страшен был сидевший на дне пролетки, завалившийся боком на сиденье, голый студент — оборванный совсем догола, в студенческой фуражке, набекрень надетой на замотанную окровавленными тряпками голову.
20 октября.
Ушел от Буковецкого рано утром. Сыро, туманно. Идут кухарки, несут провизию, говорят, что теперь все везде спокойно. Но к полудню, когда мы с Куровским хотели пойти в город, улицы опять опустели. С моря повсюду плывет густой туман. Возле дома Городского музея, где живет Куровский, — он хранитель этого музея, — в конце Софийской улицы поставили пулемет и весь день стучали из него вниз по скату, то отрывисто, то без перерыва. Страшно было выходить. Вечером ружейная пальба и стучащая работа пулеметов усилилась так, что казалось, что в городе настоящая битва. К ночи наступила гробовая тишина, пустота. Дом музея — большой трехэтажный — стоит на обрыве над портом. Мы поднимались днем на чердак и видели оттуда, как громили в порту какой-то дом. Вечером нам пришло в голову, что, может быть, придется спасаться, и мы ходили в огромное подземелье, которое находится под музеем. Потом опять ходили на чердак, смотрели в слуховое окно, слушали: туман, влажные силуэты темных крыш, влажный ветер с моря и где-то вдали, то в одной, то в другой стороне, то поднимающаяся, то затихающая пальба.
21 октября.
Отвратительный номер «Ведомостей одесского градоначальства».
В городе пусто, только санитары и извозчики с ранеными. Везде висят национальные флаги.
В сумерки глядели из окон на зарево — в городе начальство приказало зажечь иллюминацию. Зарево и выстрелы.
22 октября.
От Буковецкого поехал утром в Петербургскую гостиницу. Извозчик говорил, что на Молдаванке евреев «аж на куски режут». Качал головой, жалел, что режут многих безвинно-напрасно, негодовал на казаков, матерно ругался. Так все эти дни: все время у народа негодование на «зверей казаков» и злоба на евреев.
Солнце, влажно пахнет морем и каменным углем, прохладно.
В полдень пошел к Куровскому, — город ожил, принял совсем обычный вид: идут конки, едут извозчики…
Часа в три забежала к кухарке Куровских какая-то знакомая ей баба, сообщила, что видела собственными глазами: идут на Одессу парубки и дядьки с дрючками, с косами; будто бы приходили к ним нынче утром, — ходили по деревням и по Молдаванке — «политики» и сзывали делать революцию. Идут будто и с хуторов, все с той же целью — громить город, но не евреев только, а всех.
Куровский говорит, что видел, как ехал по Преображенской целый фургон солдат с ружьями, — возле гостиницы «Империаль» они увидали кого-то в окне, остановили фургон и дали залп, по всему фасаду.
— Я спросил: «По ком это вы?» — «На всякий случай».
Говорят, что нынче будет какая-то особенная служба в церквах — «о смягчении сердец».
Был художник Заузе и скульптор Эдварс. Говорили:
— Да, с хуторов идут…
— На Молдаванке прошлой ночью били евреев нещадно, зверски…
По Троицкой только что прошла толпа с портретом царя и национальными флагами. Остановились на углу, «ура», затем стали громить магазины. Вскоре приехали казаки — и проехали мимо, с улыбками. Потом прошел отряд солдат — и тоже мимо, улыбаясь.
«Южное обозрение» разнесено вдребезги, — оттуда стреляли…
Заузе рассказывал: ехал вчера на конке по Ришельевской. Навстречу толпа громил, кричат: «Встать, ура государю императору!» И все в конке подымаются и отвечают: «Ура!» — сзади спокойно идет взвод солдат.
Много убито милиционеров. Санитары стреляют в казаков, и казаки убивают их.
Куровский говорит, что восемнадцатого полиция снята во всем городе «по требованию населения», то есть думой по требованию ворвавшейся в управу тысячной толпы.
В городе говорят, что на Слободке Романовке «почти не осталось жидов!».
Эдварс говорил, что убито тысяч десять.
Поезда все еще не ходят. Уеду с первым отходящим.
Сумерки. Была сестра милосердия, рассказывала, что на Слободке Романовке детей убивали головами об стелу; солдаты и казаки бездействовали, только изредка стреляли в воздух. В городе говорят, что градоначальник запретил принимать депешу думы в Петербург о том, что происходит. Это подтверждает и Андреевский (городской голова).
Уточкин, — знаменитый спортсмен, — при смерти; увидал на Николаевском бульваре, как босяки били какого-то старика-еврея, кинулся вырывать его у них из рук… «Вдруг точно ветерком пахнуло в живот». Это его собственное выражение. Подкололи его «под самое сердце».
Вечер. Кухарка Куровских ахает, жалеет евреев, говорит: «Теперь уже все их жалеют. Я сама видела — привезли их целые две платформы, положили в степу — от несчастные, господи! Трусятся, позамерзли. Их сами казаки провожали, везли у приют, кормили хлебом, очень жалели…»
Русь, Русь!
Записная книжка
«Ходит ветер и возвращается на круги свои…» …Итак, снова торжественные заседания, высокие речи, декларации, резолюции — и все именем России, «именем народа»… «А там, во глубине России…» Снова пробегаю отрывки воспоминаний о лете и осени 1917 года, проведенных мною в деревне, среди подлинной, а не выдуманной нами народной жизни…
…Летние сумерки, на деревенской улице сидит возле избы кучка мужиков и ведет, в связи с слухами об Учредительном собрании, речь о «бабушке русской революции», о Брешко-Брешковской. Хозяин избы размеренно; рассказывает:
— Я про эту бабку давно слышу. Прозорливица, это правильно. За пятнадцать лет, говорят, все эти дела предсказала. Ну только, избавь бог, до чего страшна: толстая, сердитая, глазки маленькие, пронзительные, — я ее портрет в фельетоне видел. Сорок два года в остроге на чепи держали, а уморить не могли, ни днем ни ночью не отходили, а не устерегли: в остроге и то ухитрилась миллион нажить. Теперь народ под свою власть скупает, землю сулит, на войну обешшает не брать. А мне какая корысть под нее идти? Земля эта мне без надобности, я ее лучше в аренду сниму, потому что навозить мне ее все равно не чем, а в солдаты-то меня и так не возьмут, года вышли…
Кто-то, белеющий в сумраке рубашкой, «краса и гордость русской революции», как оказывается потом, дерзко вмешивается:
— У нас такого провокатора в пять минут арестовали бы и расстреляли!
Но тот, кто говорит о «бабушке», возражает спокойно и твердо:
— А ты хоть и матрос, а дурак. Я тебе в отцы гожусь, ты возле моей избы без порток бегал. Какой же ты комиссар, когда от тебя девкам проходу нету, среди белого дня лезешь? Погоди, погоди, брат, — вот протрешь казенные портки, пропьешь наворованные деньжонки, опять в пастухи запросишься! Опять, брат, будешь мою свинью арестовывать! Это тебе не над господами измываться. Я-то тебя с твоим Жучковым (Гучковым) не боюсь!
А третий прибавляет совершенно, как говорится, ни к селу ни к городу, но, несомненно, не весьма патриотически:
— Да его, Петроград-то, и так давно бы надо отдать. Там одна разнообразие…
И я прохожу мимо и думаю, вздергивая плечами: «Там одно разнообразие! Бог мой, что за чепуха такая!»
Девки (социалистки) визжат на выгоне:
Люби белых, кудреватых, При серебряных часах.Из-под горы, слышно, идет толпа ребят с гармониями и балалайкой:
Мы, ребята, ежики, В голенищах ножики, Любим выпить, закусить, В пьяном виде пофорсить…В голове у меня туман от прочитанных за день газет, от речей, призывов и восклицаний всех этих смехотворных и жутких Керенских. И я думаю: «Нет, большевики-то поумнее будут! Они недаром все наглеют и наглеют. Они знают свою публику»…
…Мрачный сентябрьский вечер, тучи на западе с желтоватыми щелями, от которых тучи кажутся еще темнее. Остатки листьев на деревьях у церковной ограды как-то странно и зловеще рдеют, хотя под ногами уже сумрак. Вхожу в церковную караулку. В ней совсем почти темно. Караульщик, он же и сапожник, курносый, с медоточивый, сидит на лавке, в рубахе навыпуск и в жилетке, из карманчика которой торчит пузырек с нюхательным табаком. Увидав меня, он встает и низко кланяется, встряхивает волосами, которые упали на лоб, потом протягивает мне руку.
— Как поживаешь, Алексей?
Вздыхает:
— Скушно.
— Что такое?
— Да так. Нехорошо. Ах, милый барин. Нехорошо. Скушно.
— Да почему?
— Да так. Был я вчера в городе. Прежде, бывало, едешь на свободе, а теперь хлеб с собой берешь, в городе голод пошел. Голод, голод. Товару не дали. Товару нету. Ни почем нету. Приказчик говорит: «Хлеба дадите, тогда и товару дадим». А я ему так: «Нет, уж вы ешьте кожу, а мы свой хлеб будем есть». Только сказать — до чего дошло. Подметка четырнадцать рублей! Нет, покуда буржуазию не перережут, будет весь люд голодный, холодный. Ах, милый барин, по истинной совести вам скажу — будут буржуазию резать, ах, будут!
Когда я выхожу из караулки, караульщик тоже выходит и зажигает фонарь возле церковных ворот. Из-под горы идет мужик, порывисто падая вперед, — очень пьяный, — и на всю деревню кричит, ругает самыми отборными ругательствами дьякона. Увидав меня, с размаху откидывается назад и останавливается:
— А вы его не можете ругать. Вам за это, за духовное лицо, язык на паяло надо вытянуть.
— Но позволь: я, во-первых, молчу, а во-вторых, почему тебе можно, а мне нельзя?
— А кто ж вас хоронить будет, когда вы помрете? Не диакон разве?
— А тебя?
Уронив голову и подумав, мрачно:
— Он мне, собака, керосину в лавке коперативной не дал. Ты, говорит, свою долю уж взял. А если я еще хочу? «Нет такого закону». Хорош ай нет? Его за арестовать, собаку, надо. Теперь никакого закону нет. — Погоди, погоди, — обращается он к караульщику, — и тебе попадет! Я тебе припомню эти подметки! Как петуха зарежу, — дай срок!
…Октябрь. Пошли плакаты, митинги, призывы.
— Граждане! Товарищи! Осуществляйте свой великий долг перед Учредительным собранием, заветной мечтой вашей, державным хозяином земли русской! Все голосуйте за список № 3!
Мужики, слышавшие эти призывы в городе, говорили дома:
— Ну и пес! Долги, кричит, за вами есть великие! Голосить, говорит, все будете, все, значит, ваше имущество опишут перед Учредительным собранием! А кому мы должны? Ему, что ли, глаза его накройся? Нет, это новое начальство совсем никуда! В товарищи заманивает, горы золотые обещает, а сам орет, грозит, крест норовит с шеи сорвать. Ну, да постой, дай срок: кабы не пришлось голосить-то тебе самому в три голоса!
Сидим, толкуем по этому поводу с бывшим старостой, не богатым, середняком, но справным хозяином. Он говорит:
— Да, известно, орут, долгами, недоимками пугают. Все это… как его? Теперь царя нету. Теперь вот будем учредительную думу собирать, будем, говорят, кандидата выбирать. Мы, есть слух, будем кандрак составлять, мы будем осуждать, а он будет подписываться. Когда где дорогу провесть, когда войну открыть, он, будто, у нас должен теперь успроситься. А разве мы знаем, где какая дорога нужна? Я вот богатый человек, а я отроду за Ельцом никогда не был. Мы вон свою дорогу под городой двадцать лет дерьмом завалить не можем, как сойдемся — драка на три дня, потом три ведра водки слопаем и разойдемся, а буерак так и останется. Опять же и войну открыть против какого другого царя я не могу, я не знаю: а может, он хороший человек? А без нас, говорят, нельзя. Только за што ж за это кинжал в бок вставлять? Это бог с ним, и с жалованьем, в этой думе!
— Да то-то и дело, — говорю я, — что жалованье-то хорошее.
— Ну? Хорошее?
— Конечно, хорошее. Самый раз тебе туда.
Думает. Потом, вздохнув:
— Меня туда не допустят, я большевик: у меня три десятины земли купленные, две лошади хорошие…
— Ну вот, кому же, как не тебе, и быть там? Ты хозяин.
— Конечно. Я хозяин настоящий.
Подумав и оживляясь все более:
— Да! Это было бы дело! Я бы там свой голос за людей хорошего звания подавал. Я бы там поддержал благородных лиц. Я бы там и ваше потомство воспомнил. Я бы не дал у своих господ землю отбирать. А то он, депутат-то этот, себе нажить ничего не мог, а у людей черт его несет отымать самохватом. Вон у нас выбрали на село, в волость, а какой он депутат? Ругается матерком, ничего у него нету, глаза пьяные, так и дышит огнем вонючим. Что он там может сказать? Орет, а у самого и именья-то одна курица! Ему дай хоть сто десятин, опять через два дни «моряком» будет. Разве его можно со мной сменить? Копал, копал в бумагах, а ничего не нашел, стерва поганая, и читать ничего не может, не умеет, — какие такие мы читатели? Всякая овца лучше накричит, чем я прочитаю…
Беседует со мной об Учредительном собрании и Пантюшка, самый страстный во всей нашей деревне революционер. Этот — ярый защитник Учредительного собрания. Но и он говорит очень странные вещи. Он говорит мне:
— Я, товарищ, сам социал-демократ, три года в Ростове-на-Дону всеми газетами и журналами торговал, одного «Сатирикону» небось тысячу номеров через мои руки прошло, а все-таки прямо скажу: какой он, черт, — министр, хоть Гвоздев-то этот самый? Я сер, а он-то много белее меня? Воротится, не хуже меня, в деревню — и опять мы с ним одного сукна с онучей. Я вот лезу к вам нахрапом: «товарищ, товарищ», а, по совести сказать, меня за это по шее надо. Вы вон в календарь зачислены, писатель знаменитый, с вами самый первый князь за сто может сесть, по вашему дворянству… Я и то мужикам говорю: ой, ребята, не промахнитесь! Уж кого, говорю, выбирать в это Учредительное собрание, так уж понятно товарища Бунина. У него там и знакомые хорошие найдутся, и пролезть он там может куда угодно…
Серый ненастный день, конец октября. Пробираюсь по грязной деревенской улице, вхожу в сенцы, в избу. Старуха лежит на печи, солдатка, ее невестка, спит на нарах. Старик на конике плетет лапоть. Сумрак, вонь, на полу под ногами чмокает мокрая и гниющая солома. Такие будни, такая глушь и тишина, точно я в шестнадцатом столетии, а не в бурную эпоху «великой российской революции», перед выборами в «великое Учредительное собрание». Сев на лавку, закурив, говорю, шутя:
— Что ж, старуха, к выборам-то готовишься? Ведь предвыборная кампания, собственно, уже началась.
Отвечает довольно злобно:
— К каким это выборам? Какая я тебе кампания?
— Да ведь я тебе уж десять раз рассказывал. Вот к таким-то и к таким-то.
Помолчав, старуха отвечает твердо, непреклонно, с той свободой грубости, которая позволительна в силу вашей старой дружбы, и приблизительно в таких выражениях:
— Понимаю, что шутишь. Только чтоб тебе подеялось за эти шутки. Никакая баба, кроме любопытных дур девок, которым лишь бы придирка была нарядиться для сборища, да кроме самых непутящих баб, не пойдет на этот срам. Громом их сожги, эти выборы. Спихнули такие-то, как ты, забубённые господа да беглые солдаты царя, — вот увидишь, что теперь будет! И теперь хорошо, а то ли еще будет! То ли еще будет! Увидишь!
— А ты, старик?
Но и старик отвечает очень твердо:
— Меня, батюшка, на аркане туда не притащишь, там мне старую голову проломят, если я не туда, куда хочется им, этот квиток пожелаю просунуть. Пропала, батюшка, Россия, помяни мое слово, пропала. Мы не можем.
— Что не можем?
— Не можем себе волю давать. Взять хоть меня такого-то. Ты не смотри, что я такой смирный. Я хорош, добёр, когда мне воли не дано. А то я первым разбойником, первым разорителем, первым вором окажусь. Недаром пословица говорится: «Своя воля хуже неволи». Нет, батюшка, умру, а не пойду. Главная вещь — голову проломят ребята.
Солдатка проснулась, раскрыла ясные глаза, сыта сном, чуть улыбается, тянется, чувствуя, что я смотрю на нее.
— А ты пойдешь?
— Вона! Обязательно! Я Кабелька не боюсь… Какого Кабелька, что за Кабелек? А это бушевал на нашей деревне все лето и всю осень семнадцатого года один из этих беглых солдат, о которых говорила старуха. Целый день пьян и целый день бегает по деревне. Увидит меня — и ко мне: «Табаку!» — «Да ведь у тебя есть». — «Турецкого давай, турецкий слаже!» Увидал, что в церковной ограде народ собрался возле двух приехавших из города девиц, производящих, во исполнение приказания какого-то нового министра из нашего брата, «забубённых господ», какую-то перепись, — сейчас туда: подбежал, стол ногой к черту, вверх тормашками, на девиц с кулаками, на мужиков — тоже, орет неистовым голосом: «Долой, так-то и так вас! Расходись! Не дозволю! Подо что подписываетесь? Под крепостное право подписываетесь? Перебью всех — скройся все с глаз моих!» И так все лето, всю осень. Все разгоняет. Разогнал даже выборы от мирян и духовенства на церковный собор: «Долой, расходись! Вот мой брат с фронта придет — он вам всю эту новую службу по церквам сам установит!» Пять раз за лето сельский сход собирали, хотели «окоротить немножко» — и пять раз напрасно: боятся «окоротить» — сожжет всю деревню…
Нобелевские дни
Девятого ноября 1933 года, старый добрый Прованс, старый добрый Грасс, где я почти безвыездно провел целых десять лет жизни, тихий, теплый, серенький день поздней осени…
Такие дни никогда не располагают меня к работе. Все же, как всегда, я с утра за письменным столом. Сажусь за него и после завтрака. Но, поглядев в окно и видя, что собирается дождь, чувствую: нет, не могу. Нынче в синема дневное представление — пойду в синема.
Спускаясь с горы, на которой стоит «Бельведер», в город, гляжу на далекие Канны, на чуть видное в такие дни море, на туманные хребты Эстереля и ловлю себя на мысли:
— Может быть, как раз сейчас, где-то там, на другом краю Европы, решается и моя судьба…
В синема я, однако, опять забываю о Стокгольме.
Когда, после антракта, начинается какая-то веселая глупость под названием «Бэби», смотрю на экран с особенным интересом: играет хорошенькая Киса Куприна, дочь Александра Ивановича. Но вот в темноте возле меня какой-то осторожный шум, потом свет ручного фонарика, и кто-то трогает меня за плечо и торжественно и взволнованно говорит вполголоса:
— Телефон из Стокгольма…
И сразу обрывается вся моя прежняя жизнь.
Домой я иду довольно быстро, но не испытывая ничего, кроме сожаления, что не удалось досмотреть, как будет играть Киса дальше, и какого-то безразличного недоверия к тому, что мне сообщили. Но нет, не верить нельзя: издали видно, что мой всегда тихий и полутемный в эту пору дом, затерянный среди пустынных оливковых садов, покрывающих горные скаты над Грассом, ярко освещен сверху донизу. И сердце у меня сжимается какою-то грустью… Какой-то перелом в моей жизни…
Весь вечер «Бельведер» полон звоном телефона, из которого что-то отдаленно кричат мне какие-то разноязычные люди чуть не из всех столиц Европы, оглашается звонками почтальонов, приносящих все новые и новые приветственные телеграммы чуть не из всех стран мира, — отовсюду, кроме России! — и выдерживает первые натиски посетителей всякого рода, фотографов и журналистов… Посетители, число которых все возрастает, так что лица их все больше сливаются передо мною, со всех сторон жмут мне руки, волнуясь и поспешно говоря одно и то же, фотографы ослепляют меня магнием, чтобы потом разнести по всему свету изображение какого-то бледного безумца, журналисты наперебой засыпают меня допросами…
— Как давно вы из России?
— Эмигрант с начала двадцатого года.
— Думаете ли вы теперь туда возвратиться?
— Бог мой, почему же я теперь могу туда возвратиться?
— Правда ли, что вы первый русский писатель, которому присуждена Нобелевская премия за все время ее существования?
— Правда.
— Правда ли, что ее когда-то предлагали Льву Толстому и что он от нее отказался?
— Неправда. Премия никогда никому не предлагается, все дело присуждения ее проходит всегда в глубочайшей тайне.
— Имели ли вы связи и знакомства в Шведской академии?
— Никогда и никаких.
— За какое именно ваше произведение присуждена вам премия?
— Думаю, что за совокупность всех моих произведений.
— Вы ожидали, что вам ее присудят?
— Я знал, что я давно в числе кандидатов, что моя кандидатура не раз выставлялась, читал многие лестные отзывы о моих произведениях таких известных скандинавских критиков, как Book, Osterling; Agrell, и, слыша об их причастности к Шведской академии, полагал, что они тоже расположены в мою пользу. Но, конечно, ни в чем не был уверен.
— Когда обычно происходит раздача Нобелевских премий?
— Ежегодно в одно и то же время: десятого декабря.
— Так что вы поедете в Стокгольм именно к этому сроку?
— Даже, может быть, раньше: хочется поскорее испытать удовольствие дальней дороги. Ведь по своей эмигрантской бесправности, по той трудности, с которой нам, эмигрантам, приходится добывать визы, я уже тринадцать лет никуда не выезжал за границу, лишь один раз ездил в Англию. Это для меня, без конца ездившего когда-то по всему миру, было одно из самых больших лишений.
— Вы уже бывали в скандинавских странах?
— Нет, никогда. Совершал, повторяю, многие и далекие путешествия, но все к востоку и к югу, север же оставлял на будущее время…
Так неожиданно понесло меня тем стремительным потоком, который превратился вскоре даже в некоторое подобие сумасшедшего существования: ни единой свободной и спокойной минуты с утра до вечера. Наряду со всем тем обычным, что ежегодно происходит вокруг каждого нобелевского лауреата, со мной, в силу необычности моего положения, то есть моей принадлежности к той странной России, которая сейчас рассеяна по всему свету, происходило нечто такое, чего никогда не испытывал ни один лауреат в мире: решение Стокгольма стало для всей этой России, столь униженной и оскорбленной во всех своих чувствах, событием истинно национальным…
В ночь с третьего на четвертое декабря я уже далеко от Парижа. Норд-экспресс, отдельное купе первого класса — сколько уже лет не испытывал я чувств, связанных со всем этим! Далеко за полночь, мы уже в Германии. Все стою на площадке вагона, который идет в поезде последним. И, вырываясь из-под вагона, несется назад в бледном лунном свете нечто напоминающее Россию: плоские равнины, траурно-пестрые от снега, какие-то оснеженные деревья…
Утром Ганновер. Открываю глаза, поднимаю штору — окно во льду, замерзло. Лед и на рельсах. На людях, проходящих по платформе, меховые шапки, шубы — как давно не видал я всего этого и как, оказывается, живо хранил в сердце!
Вечером наш поезд ставят на пароход «Густав V» и медленно направляют к берегам Швеции. Снова интервью, снова вспышки магния… В Швеции мой вагон буквальной осаждается толпой фотографов и журналистов… И только поздней ночью остаюсь я наконец опять один. За окнами чернота и белизна — сплошные черные леса в белых глубоких снегах. И все это, вместе с жарким теплом купе, совсем как ночи когда-то на Николаевской дороге…
Раздача премий лауреатам ежегодно происходит всегда десятого декабря и начинается ровно в пять часов вечера.
В этот день стук в дверь моей спальни раздается ране с вечера было приказано разбудить меня не позднее восьми с половиной. Вскакиваю и тотчас же вспоминаю, что за день нынче: день самый главный. На часах всего семь, северное утро едва брезжит, еще горят фонари набережной канала, видной из моих окон, и та часть Стокгольма, что над нею, передо мною, со всеми своими башнями, церквами и дворцами, тоже имеющая что-то очень схожее с Петербургом, еще так сказочно-красива, как бывает она только на закате и на рассвете. Но я должен начать день нынче рано: десятое декабря — дата смерти Альфреда Нобеля, и потому я с утра должен быть в цилиндре и ехать за город, на кладбище, где надо возложить венки и на его могилу, и на могилу недавно умершего племянника его, Эммануила Нобеля. Я опять вчера лег в три часа ночи и теперь, одеваясь, чувствую себя очень зыбко. Но кофе горячо и крепко, день наступает ясный, морозный, мысль о необычайной церемонии, которая ждет меня нынче вечером, возбуждает…
Официальное приглашение на торжество рассылается лауреатам за несколько дней до него. Оно составлено (на французском языке) в полном соответствии с той точностью, которой отличаются все шведские ритуалы:
«Господа лауреаты приглашаются прибыть в Концертный Зал для получения Нобелевских премий 10 декабря 1933 г., не позднее 4 ч. 50 м. дня. Его величество, в сопровождении королевского дома и всего двора, пожалует в Зал, дабы присутствовать на торжестве и лично вручить каждому из них надлежащую премию, ровно в 5 ч., после чего двери Зала будут закрыты и начнется само торжество».
Ни опоздать хотя бы на одну минуту, ни прибыть хотя бы на две минуты раньше назначенного срока на какое-нибудь шведское приглашение совершенно недопустимо. Поэтому одеваться я начинаю чуть ли не с трех часов дня — из страха, как бы чего не случилось: а вдруг куда-нибудь исчезнет запонка фрачной рубашки, как любят это делать в подобных случаях все запонки в мире?
В половине пятого мы едем.
Город в этот вечер особенно блещет огнями, — и в честь лауреатов, и в ознаменование близости Рождества и Нового года. К громадному «Музыкальному Дому», где всегда происходит торжество раздачи премий, течет столь густой и бесконечный поток автомобилей, что наш шофер, молодой гигант в мохнатой меховой шапке, с великим трудом пробирается в нем: нас спасает только то, что полиция, при виде кортежа лауреатов, которые всегда едут в таких случаях друг за другом, задерживает все прочие автомобили.
Мы, лауреаты, входим в «Музыкальный Дом», со всей прочей толпою, но в вестибюле нас тотчас от толпы отделяют и ведут куда-то по особым ходам, так что то, что происходит в парадном зале до нашего появления на эстраде, я знаю только с чужих слов.
Зал этот удивителен своей высотой, простором. Теперь он весь декорирован цветами и переполнен народом: сотни вечерних дамских нарядов в жемчугах и бриллиантах, сотни фраков, звезд, орденов, разноцветных лент и всех прочих торжественных отличий. В пять без десяти минут весь кабинет шведских министров, дипломатический корпус, Шведская академия, члены Нобелевского комитета и вся эта толпа приглашенных уже на местах и хранят глубокое молчание. Ровно в пять герольды с эстрады возвещают фанфарами появление монарха. Фанфары уступают место прекрасным звукам национального гимна, льющимся откуда-то сверху, и монарх входит в сопровождении наследного принца и всех прочих членов королевского дома. За ним следуют свита и двор. Мы, четыре лауреата, находимся в это время все еще в той маленькой зале, что примыкает к заднему входу на эстраду.
Но вот и наш выход. С эстрады снова раздаются фанфары, и мы следуем за теми из шведских академиков, которые будут представлять нас и читать о нас рефераты. Я, которому назначено говорить свою речь на банкете после раздачи премий первым, теперь выхожу, по ритуалу, на эстраду последним. Меня выводит Пер Гальстрем, непременный секретарь Академии. Выйдя, я поражаюсь нарядностью, многолюдством, зала и тем, что при появлении с поклоном входящих лауреатов, встает не только весь зал, но и сам монарх со всем своим двором и домом.
Эстрада тоже громадна. Она украшена какими-то мелкими розовыми живыми цветами. Правую сторону ее занимают кресла академиков. Четыре кресла первого ряда налево предназначены для лауреатов. Надо всем этим торжественно-неподвижно свисают со стен полотнища шведского национального флага: обычно украшают эстраду флаги всех тех стран, к которым принадлежат лауреаты; но какой флаг имею я лично, эмигрант? Невозможность вывесить для меня флаг советский заставила устроителей торжества ограничиться ради меня одним, — шведским. Благородная мысль!
Открывает торжество председатель
Нобелевского фонда. Он приветствует короля и лауреатов и предоставляет слово докладчику. Тот целиком посвящает это первое слово памяти Альфреда Нобеля, — в этом году столетие со дня его рождения. Затем идут доклады, посвященные характеристике каждого из лауреатов, и после каждого доклада лауреат приглашается докладчиком спуститься с эстрады и принять из рук короля папку с нобелевским дипломом и футляр с большой золотой медалью, на одной стороне которой выбито изображение Альфреда Нобеля, а с другой имя лауреата. В антрактах играют Бетховена и Грига.
Григ один из наиболее любимых мною композиторов, я с особым наслаждением услыхал его звуки перед докладом обо мне Пера Гальстрема.
Последняя минута меня взволновала. Речь Гальстрема была не только прекрасна, но и истинно сердечна. Кончив, он с милой церемонностью обратился ко мне по-французски:
— Иван Алексеевич Бунин, благоволите сойти в Зал и принять из рук его величества литературную Нобелевскую премию 1933 года, присужденную вам Шведской академией.
В наступившем вслед за тем глубоком молчании я медленно прошел по эстраде и медленно сошел по ее ступеням к королю, вставшему мне навстречу. Поднялся в это время и весь зал, затаив дыхание, чтобы слышать, что он мне скажет и что я ему отвечу. Он приветствовал меня и в моем лице всю русскую литературу с особенно милостивым и крепким рукопожатием. Низко склонясь перед ним, я ответил по-французски:
— Государь, я прошу ваше величество соблаговолить принять выражение моей глубокой и почтительной благодарности.
Слова мои потонули в рукоплесканиях.
Король чествует лауреатов обедом в своем дворце на другой день после торжества раздачи премий. Вечером же десятого декабря, почти тотчас по окончании этого торжества, их везут на банкет, который им дает Нобелевский комитет.
На банкете председательствует кронпринц.
Когда мы приезжаем, там уже опять в сборе все члены Академии, весь королевский дом и двор, дипломатический корпус, художественный мир Стокгольма и прочие приглашенные.
К столу идут в первой паре кронпринц и моя жена, которая сидит потом рядом с ним в центре стола.
Мое место рядом с принцессой Ингрид, — ныне она датская королева, — напротив брата короля, принца Евгения (кстати сказать, известного шведского художника).
Кронпринц открывает застольные речи. Он говорит блестяще, посвящая слово памяти Альфреда Нобеля.
Затем наступает черед говорить лауреатам.
Принц говорит со своего места. Мы же с особой трибуны, которая устроена в глубине банкетной залы, тоже необыкновенно огромной, построенной в старинном шведском стиле.
Радиоприемник разносит наши слова с этой эстрады по всей Европе.
Вот точный текст той речи, которую произнес я по-французски:
— Ваше высочество, милостивые государыни, милостивые государи.
Девятого ноября, в далекой дали, в старинном провансальском городе, в бедном деревенском доме, телефон известил меня о решении Шведской академии. Я был бы неискренен, ежели бы сказал, как говорят в подобных случаях, что это было наиболее сильное впечатление во всей моей жизни. Справедливо сказал великий философ, что чувства радости, даже самые резкие, почти ничего не значат по сравнению с таковыми же чувствами печали. Ничуть не желая омрачать этот праздник, о коем я навсегда сохраню неизгладимое воспоминание, я все-таки позволю себе сказать, что скорби, испытанные мною за последние пятнадцать лет, далеко превышали мои радости. И не личными были эти скорби, — совсем нет! Однако твердо могу сказать я и то, что из всех радостей моей писательской жизни это маленькое чудо современной техники, этот звонок телефона из Стокгольма в Грасс, дал мне, как писателю, наиболее полное удовлетворение. Литературная премия, учрежденная вашим великим соотечественником Альфредом Нобелем, есть высшее увенчание писательского труда! Честолюбие свойственно почти каждому человеку и каждому автору, и я был крайне горд получить эту награду со стороны судей столь компетентных и беспристрастных. Но думал ли я девятого ноября только о себе самом? Нет, это было бы слишком эгоистично. Горячо пережив волнение от потока первых поздравлений и телеграмм, я в тишине и одиночестве ночи думал о глубоком значении поступка Шведской академии. Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы присудили ее изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, пользующийся гостеприимством Франции, по отношению к которой я тоже навсегда сохраню признательность. Господа члены Академии, позвольте мне, оставив в стороне меня лично и мои произведения, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В мире должны существовать области полнейшей независимости. Вне сомнения, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима особенно, — она для него догмат, аксиома. Ваш же жест, господа члены Академии, еще раз доказал, что любовь к свободе есть настоящий национальный культ Швеции.
И еще несколько слов — для окончания этой небольшой речи. Я не с нынешнего дня высоко ценю ваш королевский дом, вашу страну, ваш народ, вашу литературу. Любовь к искусствам и к литературе всегда была традицией для шведского королевского дома, равно как и для всей благородной нации вашей. Основанная славным воином, шведская династия есть одна из самых славных в мире. Его величество король, король-рыцарь народа-рыцаря, да соизволит разрешить чужеземному, свободному писателю, удостоенному вниманием Шведской академии, выразить ему свои почтительнейшие и сердечнейшие чувства.
<Письмо в редакцию газеты «Последние новости»>
Господин редактор!
Во избежание неверных слухов, уже распространяющихся в Париже о том, что случилось со мной в немецком пограничном со Швейцарией городе Линдау, и о моей болезни, явившейся последствием этого случая, позвольте изложить на столбцах Вашей газеты, что именно со мной было.
Три недели тому назад я выехал из Парижа с туристическими целями и для свиданий с моими немецкими, чешскими и итальянскими издателями и переводчиками по маршруту Париж — Лейпциг — Берлин — Прага — Мюнхен — Женева — Рим — Париж, купив в парижском агентстве Кука круговой билет первого класса и два аккредитива — на Германию и на Италию. Я пробыл неделю в Германии, затем 5 дней в Праге, где 23 октября публично читал свои художественные произведения, и снова поехал в Германию, направляясь в Швейцарию, ночевал по пути в Мюнхене и Нюрнберге, и вечером 26 октября прибыл в Линдау, где снова должен был ночевать, так как пароход, перевозящий путешественников по Боденскому озеру из Линдау в Романсгорн, в Швейцарию, отходил только на другой день в полдень. Переночевав в отеле Seegarten, я явился в одиннадцать часов утра в немецкую таможню, находящуюся у самой пристани. Там я предъявил надлежащим властям все, что полагается: свой эмигрантский паспорт, аккредитивы (из которых в немецком остался только один чек на 50 марок), те бумажные доллары, которые были со мной и любое количество которых я имел законное право ввозить и вывозить в Германии, и оставшиеся в моем кошельке 20 бумажных немецких марок с медной мелочью. Посмотрев все это, власти дали мне вместо бумажки в 20 марок соответствующую сумму серебром, а паспорт куда-то унесли и не возвращали с полчаса, когда же наконец возвратили, то скомандовали:
— Следуйте за этим господином!
Этот «господин» был довольно молодой человек преступного типа, в потертой штатской одежде, он быстро схватил меня за рукав и повел куда-то по каменному сараю таможни, где всюду дул в раскрытые двери ледяной ветер дождливого дня, привел в какую-то каменную камеру и молча стал срывать с меня пальто, пиджак, жилет… От потрясающего изумления — что такое? за что? почему? — от чувства такого оскорбления, которого я не переживал еще никогда в жизни, от негодования и гнева я был близок не только к обмороку, но и к смерти от разрыва сердца, протестовал, не зная немецкого языка, только вопросительными восклицаниями — «что это значит? на основании чего?» — а «господин» молча, злобно, с крайней грубостью продолжал раздевать, разувать и обшаривать меня. Я стоял перед ним раздетый, разутый, — он сорвал с меня даже носки, — весь дрожал и стучал зубами от холода и дувшего в дверь сырого сквозняка, а он залезал пальцами в подкладку моей шляпы, местами отрывая ее, пытался отрывать даже подошвы моих ботинок… Через четверть часа, не найдя на мне, разумеется, ровно ничего преступного, он вывел меня назад. Пароход в эту минуту уже отходил, но мне очень насмешливо сказали: «Ничего, есть еще вечерний пароход!» — и отправили меня с конвоем и с тележкой, на которой вез мои вещи таможенный служащий, в какое-то огромное здание, — вероятно, арестный дом, ибо я видел в его коридорах множество дверей с номерами на них. Как рассказать дальнейшее? Мне казалось, что я в сумасшедшем доме, что это какой-то кошмар. Меня вели долго, через весь город, под проливным дождем. Когда же привели, ровно три часа осматривали каждую малейшую вещицу в моих чемоданах и в моем портфеле с такой жадностью, точно я был пойманный убийца, и все время осыпали меня кричащими вопросами, хотя я уже сто раз заявил, что не говорю и почти ничего не понимаю по-немецки. Каждый мой носовой платок, каждый носок был исследован и на ощупь и даже на свет; каждая бумажка, каждое письмо, каждая визитная карточка, каждая страница моих рукописей и книг, находившихся в моем портфеле, — все вызывало крик:
— Что это такое? Что здесь написано? Кем? И кто тот, кто это писал? Большевик? Большевик?
Некоторые письма и моя записная книжка с адресами были отложены в сторону, куда-то унесены и возвращены мне только в последнюю минуту. Пачка чешских газет, в которых были статьи обо мне и отчеты о моем вечере, вызвала особенную жадность: «А, чешские газеты! Почему они у вас?» Хотя в них были мои портреты с подписями «I. A. Bunin v Praze», «Vortrag Ivan Bunins in Prag» и т. д. Я пишу книгу о Толстом, в моем портфеле было несколько книг о нем; при виде его портретов в этих книгах плевали и топали ногами: «А, Толстой! Толстой!»
К четырем часам явилась какая-то довольно красивая дама с прозрачными, сверлящими и переливающимися глазами, сказала, что она говорит по-французски и потому «случайно» приглашена немцами помочь им в допросе меня, быстро потребовала, чтобы я, не думая ни секунды, написал «вот на этой бумажке» названия моих произведений в доказательство того, что я действительно писатель, быстро сказала, что кому-то известно, что я провел ночь в Линдау с одной женщиной и что я должен назвать имя этой женщины, задала мне еще два-три бесстыдных и нелепых вопроса и вдруг, после моего негодующего восклицания в ответ на все это, заявила, что я свободен.
Приехав ночью в Цюрих, я не спал до утра — меня так простудил раздевавший меня «господин», что у меня уже был кашель и жар: 38,5. Приехав в Женеву, я почувствовал себя совсем больным и, махнув рукой на продолжение своего путешествия, решил возвратиться в Париж.
То, что таможенные и полицейские власти в Линдау не придали никакого значения ни моему возрасту, ни моему званию писателя, почетного академика и нобелевского лауреата, я в какой-то мере понимаю: они не обязаны ни с чем считаться, поймав преступника. Но какие были у них хоть малейшие основания заподозрить, что я преступник, и чуть не целый день так жестоко, грубо и бессмысленно издеваться надо мной?
Примите, господин редактор, уверение в моем совершенном почтении.
Ив. Бунин
<Из записей>
23 октября 1870 (10 по старому стилю), 11 1/2 ч. вечера.
…70 лет тому назад на рассвете этого дня (по словам покойной матери) я родился в Воронеже, на Дворянской улице.
Тогда мне казалось, да и теперь иногда кажется, что я что-то помню из жизни в Воронеже, где я родился и существовал три года. Но все это вольные выдумки, желание хоть что-нибудь найти в пустоте памяти о том времени. Довольно живо вижу одно, нечто красивое: я прячусь за портьеру в дверях гостиной и тайком смотрю на нашу мать на диване, а в кресле перед ней на военного: мать очень красива, в шелковом с приподнятым расходящимся в стороны воротником платье с небольшим декольте на груди, а военный в кресле одет сложно и блестяще, с густыми эполетами, с орденами, — мой крестный отец, генерал Сипягин.
Еще вспоминается, а может быть, это мне и рассказывала мать, что я иногда, когда она сидела с гостями, вызывал ее, маня пальчиком, чтобы она дала мне грудь, — она очень долго кормила меня, не в пример другим детям.
Из моих детских воспоминаний: в снежные глухие сумерки под Рождество горят в деревне, на снегу, возле изб, костры. Спросил бабу на пороге: зачем это?
— А затем, барчук, чтоб покойники погрелись.
— Да ведь они на кладбище.
— Мало ли что! все ночью, каждый к своей избе, придут погреться. Им под Рождество это всегда дозволяется.
Мой отец рассказывал, что у его брата Николая Николаевича был жеребец какой-то «страшной бунинской породы» — огромный, рыжий, с белой «проточиной» на лбу.
— А у меня, — говорил отец, — все менялись верховые жеребцы: был вороной с белой звездой на лбу, был стальной, был соловый, был караковый, иначе сказать, темно-гнедой…
В тот февральский вечер, когда умерла Саша, и я (мне было тогда лет 7–8) бежал по снежному двору в людскую сказать об этом, я на бегу все глядел в темное облачное небо, думая, что ее маленькая душа летит теперь туда. Во всем моем существе был какой-то остановившийся ужас, чувство внезапно совершившегося великого, непостижимого события.
Вскоре вечер какого-то царского праздника (конечно, 30 августа, тезоименитство Александра III). Иллюминация, плошки, их чад и керосиновая вонь. Бякин, гимназист (15 лет) показал нам в гуляющей толпе хорошенькую мещаночку, свою любовь, потом дома дал карточку какой-то молодой девицы. Совсем голой. Не сразу заснул после этого. Ночь, лампадка, что-то вроде влюбленности в мещаночку Бякина и какого-то возбуждения при мысли о карточке. Эта нагота, красота голого женского тела, — что-то совсем особое, — чувствовал уже эту особенность, нечто эстетическое и половое.
Как-то зимой приехали в Елец, остановились в «Ливенских номерах», и, по обыкновению, взяли меня туда отец и мать, потом из Харькова приехал Юлий и почти тотчас вслед за этим произошло нечто таинственное и страшное: вечером явился его товарищ Иордан, вывел его в коридор, что-то сказал ему, и они тотчас уехали куда-то, бежали.
В начале осени мой товарищ по гимназии, сын друга моего отца, Цветков, познакомил меня в городском саду с гимназисткой Юшковой. Я испытал что-то вроде влюбленности в нее и, кажется, из-за нее так запустил занятия, что остался на второй год в третьем классе. Цветков был малый уже опытный в любовных делах, бодрый нахал.
Переписано с истлевших и неполных клочков моих заметок того времени.
Конец декабря 1885 года.
…серых тучек, ветер северный, сухой забирается под пальто и взметает по временам снег… Но я мало обращал на это внимание: я спешил скорей на квартиру и уже представлял себе веселие на празднике, а нонешним вечером — покачивание вагонов, потом поле, седо, огонек в знакомом домике… и много еще хорошего.
Просидевши на вокзале в томительном ожидании поезда часа три, я наконец имел удовольствие войти в вагон и поудобнее усесться… Сначала я сидел и не мог заснуть, так как кондукторы ходили и, по обыкновению, страшно хлопали дверьми; в голове носились образы и мечты, но не отдельные, а смешанные в одно… Что меня ждет? — задавал я себе вопрос. Еще осенью я словно ждал чего-то, кровь бродила во мне, сердце ныло так сладко и даже по временам я плакал, сам не зная отчего; но и сквозь слезы и грусть, навеянную красотою природы или стихами, во мне закипало радостное светлое чувство молодости, как молодая травка весенней порой. Непременно я полюблю, думал я. В деревне есть, говорят, какая-то гувернантка! Удивительно, отчего меня к ней влечет? Может, оттого, что мне про нее много рассказывала сестра…
Наконец я задремал и не слыхал, как приехал в Измалково. Лошадей за нами прислали, но ехать сейчас же было невозможно по причине метели, и нам пришлось ночевать на вокзале.
Еще с большим веселым и сладким настроением духа въехал я утром в знакомое село, но встретил его не совсем таким, каким я его оставил: избушки, дома, река — все было в белых покровах. Передо мной промелькнули картины лета. Вспомнил я, как приезжал в последний раз сюда осенью.
…потребность любви!.. Но кого? В Озерках никого, а в Васильевском?.. Тоже никого! Впрочем, там есть гувернантка — но молоденькая и недурненькая, как я слышал от сестры. В самом деле меня что-то влечет к ней? Она гувернантка и, верно, тихое существо, а это идеал всех юношей. Им нравятся по большей части существа не такие, как светские резкие женщины… Может быть!..
Наконец сегодня я уже с нетерпением поехал в Васильевское. Сердце у меня билось, когда я подъезжал к крыльцу знакомого родного дома. Увижу ли я ее нынче, думал я; 23-го она была в Ельце!.. На крыльце я увидал Дуню и ее, как я предполагал; это была барышня маленького роста с светлыми волосами и голубыми глазками. Красивой ее нельзя было назвать, но она симпатична и мила. С трепетом я подал ей руку и откланялся. «Эмилия Фасильевна Фехнер!» — проговорила она. Познакомились, значит. Мне сразу сделалось неловко, и в душе зашевелилась мысль. «Неужели, — думал я, — я буду цаловать эти милые ручки и губки!» Но это уже было дерзко. Весь день нонче я держал себя (…?) и натянуто и почти что не разговаривал с ней. Но она, напротив, была развязна и проста. Наконец вечером мы отправились к Пушешникову, помещику, живущему на другой стороне реки. Он нам родня. Там я стал несколько свободней с Эм. Вас. Уже сердце мое билось страстью… Я полюбил и чувствовал, что влюбляюсь все более и более. Приглашал танцевать только ее одну, гулял, и наконец перед ужином она сказала мне: «Давайте играть в карты! Хотите?» Я покраснел и неловко поклонился. Мы пошли в гостиную. Там никого не было. Мы играли и шутили, наконец ее пришел приглашать танцевать некто молодой малый Федоров, мой приятель. Я вышел также и пошел в кабинет, думая, что я уже не мог надеяться. Но через несколько минут она вошла. «Что ж вы забрались сюда, — сказала она, — я вас искала, искала!» Что это значит, подумал я!..
За ужином я сидел рядом с ней, пошли домой мы с ней под руку. Уж я влюбился окончательно. Я весь дрожал, ведя ее под руку. Расстались мы только сейчас уже друзьями, а я, кроме того, влюбленным. И теперь я вот сижу и пишу эти строки. Все спит… но мне и в ум сон нейдет. «Люблю, люблю», — шепчут мои губы. Исполнились мои ожиданья.
29 декабря 1885 г.
Сегодня вечер у тетки. На нем, наверно, будут из Васильевского и в том числе гуверн<антка>, в которую я влюблен не на шутку.
…в тот же! Сердце у меня чуть не выскочило из груди! Она моя! Она меня любит! О! с каким сладостным чувством я взял ее ручку и прижал к своим губам! Она положила мне головку на плечо, обвила мою шею своими ручками, и я запечатлел на ее губках первый, горячий поцалуй!..
Да! Пиша эти строки, я дрожу от упоенья! от горячей первой любви!.. Может быть, некоторым, случайно заглянувшим в мое сердце, смешным покажется такое излияние нежных чувств! «Еще молокосос, а ведь влюбляется», — скажут они! Так! Человеку, занятому всеми дрязгами этой жизни и не признающему всего святого, что есть на земле, правда, свойства первобытного состояния души, то есть когда душа менее загрязнилась и эти свойства более подходят к тому состоянию, когда она была чиста и, так сказать, даже божественна, правда слишком (следующее слово нельзя разобрать. — И.Б.). Но, может быть, именно более всего святое свойство души. Любовь тесно связана с поэзией, а поэзия есть бог в святых мечтах земли, как сказал Жуковский (Бунин, я сын А. И. Бунина и пленной турчанки). Мне скажут, что я подражаю всем поэтам, которые восхваляют святые чувства и, презирая грязь жизни, часто говорят, что у них душа больная; я слыхал, как говорят некоторые: поэты все плачут! Да! и на самом деле так должно быть: поэт плачет о первобытном чистом состоянии души, и смеяться над этим даже грешно! Что же касается до того, что я «молокосос», то из этого только следует то, что эти чувства более доступны «молокососу», так как моя душа еще молода и, следовательно, более чиста. Да и к тому же я пишу совсем не для суда других, совсем не хочу открывать эти чувства другим, а для того, чтобы удержать в душе напевы:
Пронесутся года. Заблестит
Седина на моих волосах,
Но об этих блаженных часах
Память сердце мое сохранит…
· · · · · · · · · · · · · · · · ·
(Строчка точек в подлиннике. — К.Б.)
Остальное время вечера я был как в тумане. Сладкое, пылкое чувство было в душе моей. Ее милые глазки смотрели на меня теперь нежно, открыто. В этих очах можно было читать любовь. Я гулял с ней по коридору и прижимал ее ручки к своим губам и сливался с нею в горячих поцалуях. Наконец пришло время расставаться. Я увидал, как она с намерением пошла в кабинет Пети. Я вошел туда же, и она упала ко мне на грудь. «Милый, — шептала она, — милый, прощай! Ты ведь приедешь на Новый год?» Крепко поцаловал я ее, и мы расстались… … … … …
(Точки строчек в подлиннике — И. Б.)
Домой я приехал полный радужных мечтаний. Но при этом в сердце всасывалось другое гадкое чувство, а именно ревность. «Она завтра поедет домой с Федоровым — да еще вдвоем только… Впрочем, ведь она меня любит, а все-таки я бы не хотел, чтобы она с кем-нибудь даже разговаривала… Да, глупость, глупость это», — разуверял я себя…
Наконец я лег спать, но долго не мог заснуть. В голове носились образы, звуки… пробовал стихи писать, — Звуки путались, и ничего не выходило… передать все я не мог, сил не хватало, да и вообще всегда, когда сердце переполнено, стихи не клеятся. Кажется, что написал бы бог знает что, а возьмешь перо — и становишься в тупик… Согласившись наконец с Лермонтовым, что всех чувств значенья «стихом размерным и словом ледяным не передашь», я погасил свечу и лег. Полная луна светила в окно, ночь была морозная, судя по узорам окна. Мягкий бледный свет луны заглядывал в окно и ложился бледной полосой на полу. Тишина была немая… Я все еще не спал… Порой на луну, должно быть, набегали облачка, и в комнате становилось темней. В памяти у меня пробегало прошлое. Почему-то мне вдруг вспомнилась давно, давно, когда я еще был лет пяти, ночь летняя, свежая и лунная… Я был тогда в саду… И снова все перемешалось… Я глядел в угол. Луна по-прежнему бросала свой мягкий свет… Вдруг все изменилось; я встал и огляделся: я лежу на траве в саду у нас в Озерках. Вечер. Пруд дымится… Солнце сквозит меж листвою последними лучами. Прохладно. Тихо. На деревне только где-то, слышно, плачет ребенок, и далеко несется по заре, словно колокольчик, голос его.
Вдруг из-за кустов идут мои прежние знакомые. Лиза остановилась, смотрит на меня и смеется, играя своим передничком. Варя, Дуня… вдруг они нагнулись все и подняли… гроб. В руках очутились факелы. Я вскочил и бросился к дому. На балконе стоит Эмилия Вас, но только не такая, какая была у тетки, а божественная какая-то, обвитая тонким покрывалом, вся в розах, свежая, цветущая. Стоит и манит меня к себе. Я взбежал и упал к ней в объятья и жаркими поцалуями покрывал ее свежее личико… Но из-за кустов вышли опять с гробом Лиза, Дуня, Варя; она вскрикнула и прижалась ко мне… Вдруг все потемнело… Кругом поле, насколько можно разглядеть, на руках у меня Мила… она шепчет и цалует меня: «милый, милый…» Далеко где-то звенит колокольчик… и… я проснулся: в комнате так же темно, луна не светит. Эк! что мне снится, подумал я, постарался поскорей заснуть опять…
27 января 1886 г.
Вечер. Сижу один в зало и хочу записать то, что неимением… да нет, впрочем, даже по небрежности, внес в свой журнальчик. Особенного ничего не случилось. Но все-таки надо припомнить. Как я провел остальное время Святок.
Тридцатого декабря я встал уже с сладким мучение влюбленного и опять с ревностью в груди, но не только! Федорову, но и даже (глупо) ко всем. Когда нонче утром заговорили о ней, я не мог слышать и, что всего удивительней, даже хотя говорили о ней что-то хорошее и притом мать с Настей. Я уже не знаю отчего, только я ревную и не могу выносить. А тут еще поедет с Федоровым, и хотя я уверен, что она не изменит, но мне бы не хотелось, чтобы подобные Федоровы были близко около нее. Это малый, не кончивший курс учения, хромой и притом пошляк, это один из…
Продолжение дневника 27 января 1886 года.
Юлий живет в Озерках — под надзором полиции, обязан три года не выезжать никуда.
Зимой пишу стихи. В памяти морозные солнечные дин, лунные ночи, прогулки и разговоры с Юлием.
Мой отец пел под гитару старинную, милую в своей романтической наивности песню, то протяжно, укоризненно, то с печальной удалью, меняя лицо соответственно тем двум, что участвовали в песне, один спрашивал, другой отвечал:
— Что ты замолк и сидишь одиноко, Дума лежит на угрюмом челе? Иль ты не видишь бокал на столе? Иль ты не видишь бокал на столе?
— Долго на свете не знал я приюту, Долго носила земля сироту!
Раз, в незабвенную жизни минуту, Раз я увидел созданье одно, В коем все сердце мое вмещено! В коем все сердце мое вмещено!
Средины песни не помню, — помню только ту печальную, но бодрую, даже дикую удаль, с которой вопрошавший друг обращался к своему печальному другу:
— Стукнем бокал о бокал и запьем Грустную думу веселым вином! Поезд, метель, линия сугробов и щитов. Изба полна баб и овец — их стригут.На веретье на полу лежит на боку со связанными тонкими ногами большая седая овца. Черноглазая баба стрижет ее левой рукой (левша) огромными ножницами, правой складывая возле себя клоки сальной шерсти, и без умолку говорит с другими бабами, тоже сидящими возле связанных лежащих бокастых овец и стригущими их.
Овцы лежат смирно, только изредка пытаются освободиться, дергаются и бьются ногами и головой.
Все пели старинные песни:
— Матушка, с горы мёды текут, Сударыня моя, мёды сладкие… — Один-один мил — сердечный друг, Да и тот со мной не в любви живет! — Что запил, загулял, друг Ванюшечка, Что забыл да забыл про меня! — Воротися, веселье мое, Я тебе ли да радость скажу! — Уснул, уснул, мой желанный, У девушки на руке, На кисейном рукаве.В ранней юности многим пленял меня Полонский, мучил теми любовными мечтами, образами, которые вызывал он во мне, с которыми так разно счастлив я был! в моей воображаемой любви. Что я тогда знал! А как верно и сильно видел и чувствовал!
Выйду за оградой Подышать прохладой, Слышу, милый едет По степи широкой…Степь, синие сумерки, хутор — и она за белой каменной оградой, небольшая, крепкая, смуглая, в белой сорочке, в черной плахте, босая с маленькими загорелыми ступнями…
Лес да волны, берег дикий, А у моря домик бедный, Лес шумит, в сырые окна Светит солнце, призрак бледный… Пришли и стали тени ночи На страже у моих дверей. Смелей глядит мне прямо в очи Глубокий мрак ее очей…И я видел и любил желтоволосую северо-цветисто одетую финку…
О какой грозный час, какое дивное и страшное таинство любви!
Я рос одиноко. Всякий в юности к чему-нибудь готовится и в известный срок вступает в ту или иную житейскую деятельность, в соучастии с общей людской деятельностью. А к чему готовился я и во что вступал? Я рос без сверстников, в юности их тоже не имел, да и не мог иметь: прохождения обычных путей юности — гимназии, университета — мне было не дано. Все в эту пору чему-нибудь, где-нибудь учатся, и там, каждый в своей среде, встречаются, сходятся, а я нигде не учился, никакой среды не знал.
Говорили почему-то о Коринфском. Я очень живо вспомнил его, нашел много метких выражений для определений не только его лично, но и того типа, к которому он принадлежит. Очень хорошая фигура для рассказа (беря, опять-таки, не его лично, но исходя из него и, сделав, например, живописца, самоучку из дворовых). Щуплая фигурка, большая (сравнительно с ней) голова в пошло картинном буйстве волос, в котором вьется каждый волосок, чистый, прозрачный, чуть розовый цвет бледного лица, взгляд как будто слегка изумленный, вопрошающий, настороженный, как часто бывает у заик или пьяниц, со стыдом всегда чувствующих свою слабость, свой порок. Истинная страсть к своему искусству, многописание, вечная и уже искренняя, ставшая второй натурой, жизнь в каком-то ложнорусском древнем стиле. Дома всегда в красной косоворотке, подпоясанный зеленым жгутом с низко висящими кистями. Очень религиозен, в квартирке бедной и всегда тепло-сырой, всегда горит лампадка, и это опять как-то хорошо, пошло связывается с его иконописностью, с его лицом христосика, с его бородкой (которая светлее, русее, чем волосы на голове). И жена, бывшая проститутка, настоящая, кажется, прямо с улицы. Он ее, вероятно, страстно любит, при всей ее вульгарности (которой он, впрочем, не замечает). Она его тоже любит, хотя втайне порочна (чем сама мучается) и поминутно готова изменить ему хоть с дворником, на ходу, на черной лестнице. Потом я вспомнил и рассказывал о Лебедеве, о Михееве, о Случевском (вот страшная истинно петербургская фигура).
Церковь Спаса-на-бору. Как хорошо: Спас-на-бору!
Вот это и подобное русское меня волнует, восхищает древностью, моим кровным родством с ним.
3 июня 1893 года, Огнёвка.
Приехал верхом с поля, весь пронизанный сыростью прекрасного вечера после дождя, свежестью зеленых мокрых ржей.
Дороги густо чернели грязью между ржами.
Ржи уже высокие, заколосились. В колеях блестела вода. Впереди предо мной на западе — синие-синие тучи горами. Солнце зашло в продольную тучку под ними — и золотые столпы уперлись в них, и края их зажглись ярким кованым золотом. На юге глубина неба безмятежно ясна. Жаворонки. И все так привольно, зелено кругом. Деревня Басова в хлебах.
Писателей из народа и прежде было немало. В молодости многих из них я знал в Москве, встречался с ними, получал от них письма, всегда очень многословные и лирические, — этим особенно отличался отец известного теперь писателя Леонова, служивший приказчиком в какой-то галантерейной лавочке. Один из этих писателей видел однажды Толстого, и вот как рассказывал он об этом:
— Мне довелось однажды воочию видеть патриарха русской литературы Льва Николаевича Толстого. Дело было так, что я разметал возле своей калитки, когда показалась передо мной фигура маститого старца, совершавшего свою обычную прогулку. Я отставил в сторону лопату и, сняв шапку, приветствовал его поклоном, причем он вступил со мной в беседу:
«Надеюсь, что вы не пьете много вина?» — спросил меня великий писатель земли русской.
Я сказал: «Наоборот», добавив при этом, что «очень страдаю от своей слабости». И тогда он тотчас посоветовал мне совсем бросить эту пагубную привычку и доставить себе нравственное удовлетворение. Потом он спросил меня: «Чем вы занимаетесь?» Тут я не удержался, сказав, что я писатель из народа, на что он ответил:
«Ну что ж, пишите только всегда правду, а не какие-нибудь выдумки».
Встреча эта глубоко врезалась мне в память. Дальнейшие годы уже туманятся, сливаются в памяти — многие годы моих дальнейших скитаний, — постепенно ставших для меня обычным существованием, определявшиеся неопределенностью его. И всего смутнее начало этих годов — самая темная душевная пора всей моей жизни. Внешне эта пора была одна, внутренне другая: тогдашние портреты мои, выражение их глаз неопровержимо свидетельствуют, что был я одержим тайным безумием.
Летом я уехал в Крым. Ни одной знакомой души там не было. Помню, поздним вечером прибыл я в Гурзуф, долго сидел на балконе гостиницы: темнело, воздух был непривычно тепел и нежен, пряно пахло дымом татарских очагов, тлеющего кизяка; горы мягкими стенами, просверленными у подножий красноватыми огнями, как будто ближе обступили тесную долину Гурзуфа с его садами и дачами. На другой день я ушел на Аю-Даг. Без конца шел по его лесистым склонам все вверх, достиг почти до его вершины и среди колючих кустов лег в корявом низкорослом лесу на обрыве над морем. Было предвечернее время; спокойное, задумчивое море сиреневой равниной лежало внизу, с трех сторон обнимая горизонт, муаром струясь в отвесной бездне подо мною, возле бирюзовых скал Аю-Дага. Кругом, в тишине, в вечном молчании горной лесной пустыни беззаботными переливами, мирно грустными, сладкими, чуждыми всему нашему, человеческому миру, пели черные дрозды, — в божественном молчании южного предвечернего часа, среди медового запаха цветущего желтого дрока и девственной свежести морского воздуха. Я лежал, опершись на локоть, слушая дроздов, и цепенел в неразрешающемся чувстве той несказанной загадочности прелести мира и жизни, о которой немолчно говорило в тишине пение дроздов. Потом…
Вторая ночь в Гурзуфе — Пушкин, Раевский…
Еду из Огневки в Полтаву. Около 11 часов утра. Только что выехал с Бабарыкиной. Даль ясная, далекие на горизонте облака, как осенью — перламутро-лиловатые, лесочки чернеют.
Грустно и люблю всех своих.
В Крыму на татарских домах крупная грубая черепица.
Перелет птиц вызывается действием внутренней секреции: осенью недостатком гормона, весной избытком его… Возбуждение в птицах можно сравнить с периодами половой зрелости и «сезонными толчками крови» у людей…
Совсем как птица был я всю жизнь!
Овчарки Кочубея. Рожь качается, ястреба, зной. Яновщина, корчма. Шишаки. Яковенко не застал, поехал за ним к нему на хутор. Вечер, гроза. Его тетка, набеленная и нарумяненная, старая, хрипит и кокетничает. Докторша «хочет невозможного».
Миргород, там ночевал.
Кременчуг, мост, солнце, желто-мутный Днепр.
За Кременчугом среди пустых гор, покрытых хлебами, думал о Святополке Окаянном.
Ночью равнины, мокрые после дождя пшеницы, черная грязь дороги.
Николаев, Буг. Ветрено и прохладно. Низкие глиняные берега, Буг пустынен. Устье, синяя туча, громадой поднявшаяся над синей сталью моря. Из-под боков парохода развалы воды… бегут сквозь решетку палубы…
Впереди море, строй парусов.
Выход из устья реки в море: речная мутная, жидкая вода сменяется чистой, зеленой, тяжелой и упругой морской… Другой ветер, другой воздух, радость этого ветра, простора, воздуха, счастье жизни, молодости… Яркая зелень волн, белизна чаек, запахи пароходной кухни… Уже слегка подымает и опускает, — это было тоже всегда радостью, — и от этого особенно крепко и ловко шагаешь по выпуклой, недавно вымытой гладкой палубе и глядишь с мужской жадностью, как на баке кто-то стоит, придерживает одной рукой шляпку с развевающейся от ветра дымчатой вуалью, а другой обвивающие ее по ногам полы легкого пальто.
Пароходный лакей, похожий на Ницше, густо усатый, рыжий.
Штиль. Пароход мерно гонит раскаты волн и шипящую пену.
Там внизу, где работают стальные пароходные машины, все шипит, все в горячем масле, на котором свертываются крупные капли пара. Пахнет им и горячим металлом.
Неподвижные, крупные, металлические, белые, электрические, высоко висящие огни поздней ночью, в пустом и тихом порту. Тени пакгаузов. Крысы.
Мачты барок в порту качались мерно, дремотно, будто сожалея о чем-то!
29 мая.
Люстдорф. Рассвет, прохладный ветер, волнуется сиреневое море. Блеск взошедшего солнца начался от берега.
Днем проводил Федорова в Одессу, сидел на скалах возле прибоя. Море кажется выше берега, на котором сидишь. Шел берегом — в прибое лежала женщина.
Вечером ходил в степь, в хлеба. Оттуда смотрел на синюю пустынность моря.
Русский грек Николай Петрович Цакни, революционер, женатый на красавице еврейке (в девичестве Львовой), был сослан на крайний север и бежал оттуда на каком-то иностранном пароходе и жил нищим эмигрантом в Париже, занимаясь черным трудом, а его жена, родив ему дочь Аню, умерла от чахотки, Аня только 12-ти лет вернулась в Россию, в Одессу, с отцом, женившимся на богатой гречанке Ираклиди, учившейся пению и недоучившейся оперному искусству у знаменитой Виардо, а я, приехав в Одессу в августе 1898 года, случайно познакомился с Цакни и вскоре сделал Ане предложение. От этого брака и родился наш с нею сын Коля, лет пяти умерший после скарлатины.
С начала нынешнего века началась беспримерная в русской жизни вакханалия гомерических успехов в области литературной, театральной, оперной… Близился большой ветер из пустыни… И все-таки — почему же так захлебывались от восторга не только та вся новая толпа что появилась на русской улице, но и вся так называемая передовая интеллигенция — перед Горьким, Андреевым и даже Скитальцем, сходила с ума от каждой премьеры Художественного театра, от каждой новой книг «Знания», от Бальмонта, Брюсова, Андрея Белого, который вопил о «наставшем преображении мира», на эстрадах весь дергался, приседал, подбегал, озирался бессмысленно-блаженно, с ужимками очень опасного сумасшедшего, ярко и дико сверкал восторженными глазами?.. «Солнце всходит и заходит» — почему эту острожную песню пела чуть не вся Россия, так же, как и пошлую разгульную «Из-за острова на стрежень»? Скиталец, некое подобие певчего с толстой шеей, притворявшийся гусляром, ушкуйником, рычал на литературных вечерах на публику: «Вы — жабы в гнилом болоте!» — и публика на руках сносила его с эстрады; Скиталец все позировал перед фотографами то с гуслями, то в обнимку с Горьким или Шаляпиным! Андреев все крепче и мрачнее стискивал зубы, бледнел от своих головокружительных успехов; щеголял поддевкой тонкого сукна, сапогами с лакированными голенищами, шелковой рубахой навыпуск; Горький, сутулясь, ходил в черной суконной блузе, в таких же штанах и каких-то коротких мягких сапожках.
Проснувшись, открыл окно в сад, щурясь от утреннего низкого солнца. В свежем воздухе пахло горькой сладостью осеннего утра. На поляне перед окнами слепило таким ярким и теплым светом, что похоже было на лето. Только солнечное тепло было смешано с этой пахучей горькой свежестью, с запахом покрытых крупной росой опавших листьев и солнечный свет был слегка розовый, а вдали, в тени старых деревьев, уже багряных, желтых и оранжевых, стоял тончайший лазурный дым легкого ночного тумана.
Поздними вечерами лежали на ометах новой соломы. Очень свежо, но тонешь в теплоте этой новой соломы. Темно, но вверху огненная жизнь бездны звездного неба и в разные стороны летящие зеленые полосы падающих звезд.
Осень, осень! Уже летают паутины на жнивьях, ярки кустящиеся зеленя.
Вечера золотистые, потом ярко-красные. Небо над закатом темно-синее, ниже вогнутое, прозрачно-сиреневое. Бледность жнивья.
Черные липы сада, загораживающие всходящую за садом зеленую луну.
Неяркие звезды на смутном южном небосклоне.
<Записи>
Так всю жизнь не понимал я никогда, как можно находить смысл жизни в службе, в хозяйстве, в политике, в наживе, в семье… Я с истинным страхом смотрел всегда на всякое благополучие, приобретение которого и обладание которым поглощало человека, а излишество и обычная низость этого благополучия вызывали во мне ненависть — даже всякая средняя гостиная с неизбежной лампой на высокой подставке под громадным рогатым абажуром из красного шелка выводили меня из себя.
<…>
Так же внутренне одиноко, обособленно и невзросло, вне всякого общества, жил я и в пору моей жизни с ней. Я по-прежнему чувствовал, что я чужой всем званиям и состояниям (равно как и всем женщинам: ведь это даже как бы и не люди, а какие-то совсем особые существа, живущие рядом с людьми, еще никогда никем точно не определенные, непонятные, хотя от начала веков люди только и делают, что думают о них). Я жил, на всех и на все смотря со стороны, до конца ни с кем не соединяясь, — даже с нею и с братом. И по-прежнему дома не сиделось…
<Заметки>
Чудовищная нежная полнота, лицо бритое, белое, точно кормилица. Купец. Очень умен. Насмешливый, с густыми усами.
Рыжий, огромный. Похоже, что ему всегда жарко.
Большой, в крылатке, седая борода во всю грудь, губастый, губы всегда мокрые.
Всегда веселый, гордый — от презрения ко всему и ко всем.
Грузный, хохочет лестницей.
Сидит, как огромный истукан, с длинным животом, расставив ноги, — колени как два полена. Невозмутимо поводит глазами.
Высокий, красивый. Очень глупый старик, левый барин.
Всегда цитирующий Щедрина.
Уездный или губернский доктор. Старый сюртук, пахнущий медью. Галстучек (черный, готовый) высоко влез сзади на пожелтевший стоячий воротничок, под ним медная, покрасневшая от времени запонка. Очень весь запущенный.
Тоже весь запущенный, запакощенный, давно не стриженный, весь в лохмах бороды и головы. Называет себя семидесятником. В голове всегда мутная дурь. Раздеваясь в прихожей, разматывая (как попало) шарф, махнул им и взъерошил сзади волосы еще больше — так и вошел в столовую (жалкий журфикс у его старого приятеля, писателя-народника). От очков кажется еще глупее. Уходя, не умолкая, говорит в прихожей, сует ноги в чужие калоши — ушел в чужих и разных.
Всю жизнь имел один престольный праздник — Татьянин день.
Надо выйти (одному из распорядителей) на эстраду только затем, чтобы сказать, что такой-то участник этого литературно-музыкального вечера по болезни не мог приехать: выйдя, облился горячим потом от волнения, страха, спутался…
Банкет. Все тесно столпились у стола с закусками и водками, поднимая и просовывая руки между плечами друг друга за рюмками, и один за другим стали откидывать головы, глотая водку, попадая затылками в лицо или в руку с рюмкою заднего.
Банкет. Нарочито не спеша поднялся, постучал с печальным и скромным видом в край тарелки вилкой и решительно, вкось дернул левым плечом:
— Господа!
Все сразу смолкло, зашикали на лакеев и замерли в неумеренном (притворном) ожидании. Он склонил голову, глядя в стол, будто что-то крепко думая, не спеша переставил бокал с вином слева направо, потом вдруг взял его и с дерзкой торжественностью вскинул лицо:
— Господа!
Речь оказалась совершенно ничтожной.
После банкета, поздней зимней ночью.
Страшно пьян, несется на разогнанной извозчичьей кляче, на раскатывающихся санках с ледяной собачьей полостью, поминутно чувствует, как сама собой падает голова на грудь и стремительно обрывается сердце и сознание. И, справляясь, кричит:
— Пошел! В Стрельну! И выпьем там на «ты»! Ты замечательный извозчик!
Ну-с, господа, благословимся еще по единой! Presente medico nihil nocet![26]
Московский букинист. Держится все время с напряженным спокойствием. Страшная точность скупой неприязненной речи, изнурительная логика.
Старик, читает одним глазом, прищурив другой.
Вечный протестант, «борец», неряха, грязный, лохматый, выродок умственно, душевно и телесно, всегда возбужденный дурак.
Страстно и бестолково, косноязычно говорит с эстрады, путается, оговаривается: «Что же кашается…» (касается).
Журфикс в Москве (интеллигенция). Гости с морозу вытирают усы, бороды, близоруко протирают очки свежими носовыми платками.
Некоторые в сюртуках, душно пахнущих выхухолью (от пальто на выхухоли).
У старого, морщинистого знаменитого профессора в складках старых ботинок красноватая пыль (от старых калош).
Старик, все ищущий, к кому бы прицепиться, поговорить.
«Маститый» писатель, «передовой». Нечто совершенно противоположное искусству.
Самоуверенный, наставительный, наиграл себе суровый вид.
Клише: Сын бедняка… Отдали в ученье к сапожнику… И отец драл, и сапожник драл… На последние гроши тайком покупал и с жадностью поглощал по ночам при свете огарка лубочные книжечки… Бежал от сапожника… Перепробовал все профессии… К революции примкнул с юности…
Серо-железные волосы, того же цвета большие брови над серыми впалыми глазами и усы (подбородок бритый). Лицо очень худое, кости скул — как ключицы. Впалая грудь, впалый живот. Сух, серьезен, голос однообразный.
Можно сделать метранпажем.
В косоворотке (на даче), полный, сытый, розово-матовое моложавое лицо. Самоуверен, самодоволен, во всем очень определенных мнений.
Спор, который нет сил слушать: оба страшно логичны.
Очень чистый, худой высокий старик. Когда ест, надевает золотое пенсне.
Священник в черной соломенной шляпе.
Небольшой, гнутый, скромно и чисто одетый старичок, посещающий все публичные лекции, литературные вечера, собрания и т. д. Садится в первом ряду, — плохо слышит, — все слушает удивительно внимательно, подняв к уху ковшик ладони. Все слушают, делая вид, что слушают, думают о другом, о своем. Один он действительно слушает.
Писатель прочитал (на литературном вечере), антракт, хочет повидать в зале знакомых — ловит и не пускает какая-нибудь старуха («ваша страстная поклонница»), или морда-психопатка, или полоумный старик, говорящий чепуху, ненужное, длинное…
Москва, зима, очень людно, прохожие, проезжие (напр., на Арбате). Всем известный и всеми почитаемый «передовой» общественный деятель, крупный, большой мужчина в шубе, в каракулевой шапке, в золотых очках, с палкой с серебряным набалдашником, как у протопопа, и сам похожий на протопопа, сидит в низких санках на извозчике так, как точно его тащат по снегу в этих санках: как неживого.
С холеной, красивой, молодой еще бородкой, в полном расцвете сил, с блестящими глазами, очень живыми я всегда готовыми к веселой, дружелюбной улыбке, в камергерском мундире, который своими нашивками на груди и ниже похож на ребра скелета.
Старик-князь с коричневым лицом, с прокуренными усами, всегда и всех ругает — все негодяи, с. д. и т. д.
Облезлый желтый мех старого пальто, его воротника, такая же шапка. Вернулся от обедни в морозный солнечный день, глаза полны от мороза светлыми слезами, огненные потолстевшие (тоже от мороза) уши, желтая борода и желтые прокуренные усы облеплены ледяными сосульками.
Весь металлически пахнет зимой, Москвой.
Не видались лет пять. Поразило, как у нее расширились, огрубели кости лица.
<Записи>
Весной в Харькове Арсеньеву шел 19-й год.
Зимой в Орле — 20-й. Уехал с ней в апреле.
Зимой в Полтаве шел 21-й год.
Жили в Полтаве и второе лето. Осенью сравнялось 21 год — значит, когда она бежала, должны были брать в солдаты.
Не забыть о солдатах.
Я все же немало читал тогда — то, что попадалось под руку. Иногда пытался читать то, что в то время полагалось читать «для самообразования», записал, что «надо прочесть» и так и не прочел: Блос — Французская революция, Шильдер — Александр Первый, Трачевский — Русская история, Мейер — Мироздание и жизнь природы, Ранке — Человек, Кареев — Беседыо выработке миросозерцания, что было уж глупее всего… В старых журналах нахождение любимых стихов, давно знакомых по сборникам, но тут напечатанных впервые, давали великую радость: тут эти строки имели особенную прелесть, казались гораздо пленительнее, поэтичнее по их большей близости к жизни их писавшего, по представлениям о том времени, когда он только что передал в них только что пережитое, по мнимому очарованию тех годов, когда жили, были молоды или в расцвете сил Герцен, Боткин Тургенев, Тютчев, Полонский… и вот это время воскресало, — я вдруг встречал как бы в самую пору создания это знакомое, любимое…
Ее хватило только на меня одного. В каждой молодости есть некоторое особенное время расцвета ее, когда кажется, что это время есть лишь начало чего-то бесконечного, что будет еще множество времен, событий, встреч, и все замечательных. Тогда кажется, что запас твоих душевных сил неисчерпаем. И только немногие не обманываются в таких чувствах, надеждах. А ей был дан лишь один расцвет. Та встреча со мной, что сперва, до нашей обшей жизни, казалась ей случайностью, ничуть не исключающей многих дальнейших случайностей, о которых она, конечно, думала как о более достойных ее, оказалась для нее и действительно единственной по своей значительности, самым важным событием не только всей ее молодости, но и всей ее краткой жизни. И тем более велика оказалась моя вина перед ней — все-таки невольная, не сознательная.
Я тогда жил, несмотря на свою внешнюю общительность, вне всякого общества. Я по-прежнему чувствовал, что я чужой всем званиям и состояниям, равно как и всем женщинам…
…по берегу в верболазах, где пахло теплой тиной и лягушками, потом на железнодорожную станцию… На реке я купался, с наслаждением часами сидел голый на прибрежной мелкой, всегда снизу парной траве, в этом пресном речном припеке, среди прибрежных бледно-зеленых зарослей и дрожащего блеска воды. На станцию…
Я шел завтракать, шел по горячим рельсам, по путям, заглядывал в стоявшие на них после ремонта вагоны, до того накаленные внутри, до того жаркие, что жгло легкие их печной духотой и подпеченным красильным маслом тонких стен и деревянных скамеек с высокими спинками; потом сидел в вокзальном буфете: раки, ботвинья со льдом, белое удельное вино; и везде тихо, пусто, — поездов в эти часы не было — с одной стороны запыленные, но все-таки веселые солнечные окна, с другой — открытые на платформу двери, навес на столбах, увитый диким виноградом…
Начало моей новой жизни совпало с началом нового царствования. Плохие писатели писали тогда романы и повести, пошлые заглавия которых верно выражали сущность происходившего: «На переломе», «На повороте», «На распутье», «Смены»… Все и впрямь было на ломе, все сменялось: Толстой, Щедрин, Глеб Успенский, Златовратский — Чеховым, Горьким, Скабичевский — Уклонским, Майков, Фет — Бальмонтом, Брюсовым, Репин, Суриков — Левитаном, Нестеровым, Малый театр — Художественным… Михайловский и В. В. — Туган-Барановским и Струве, «Власть земли» — «Котлом капитализма», «Устои» Златовратского — «Мужиками» Чехова и «Челкашем» Горького.
Первое время, в том разнообразном, но все же довольно однородном обществе, в котором я бывал и черты которого мне были известны еще с Харькова, над всеми чувствами и мыслями преобладало одно — сознание того перелома, который совершился со смертью Александра III: все сходились на том, что совершилось нечто огромное — отошла в прошлое долгая пора тяжкого гнета, которого не было в русском обществе и политической жизни России со времен Николая I, и настала какая-то новая…
«Россия-сфинкс». Религия Герцена — религия земли. «Община, артель — только на них, на этих великих началах, на этих святых устоях может развиваться Россия. И это — свет во тьме мещанского запада».
«И вот почему, среди скорби и негодования, мы далеки от отчаяния и протягиваем вам, друзья, нашу руку на общий труд. Перед нами светло и дорога пряма» (Герцен).
Вера в народную жизнь. Народничество влияло на все — на литературу, науку, жизнь. Народничество жило верой, что Россия войдет в светлое царство социализма. Народничество было проникнуто истинным религиозным пафосом.
Россия — страна особая, у России свой особенный путь развития. России предстоит великое слово — она скажет миру свое новое слово: вот положения, выражающие душу общественного и духовного движения за последние сто лет истории русского самопознания в XIX веке, вот история русского освободительного движения. Чаять будущего века — чаять светлого будущего.
Герцена спасала вера в социализм, в идеал.
Да, назначение русского человека — это, бесспорно, всеевропейское и всемирное. Достоевский.
Пропагандисты, герои, борцы, мученики.
«Да, веры в будущее у нас было много! Мы чувствовали силы необычайные — нам давала их вера в народ». Мокриевич.
«О, если бы я мог утонуть, распасться в этой серой грубой массе народа, утонуть… но сохранить тот же светоч истины и идеала, какой мне удалось добыть на счет того же народа!» Михайловский.
«Старая, огромная, людная Москва» и т. д. Так встретила меня Москва когда-то впервые и осталась в моей памяти сложной, пестрой, громоздкой картиной — как нечто похожее на сновидение. Через два года после того я опять приехал в Москву — тоже ранней весной и тоже в блеске солнца и оттепели, — но уже не на один день, а на многие, которые были началом новой моей жизни, целых десятилетий ее, связанных с Москвой. И отсюда идут уже совсем другие воспоминания мои о Москве, в очень короткий срок ставшей для меня, после моего второго приезда в нее, привычной, будничной, той вообще, которую я знал потом около четверти века.
Это начало моей новой жизни было самой темной душевной порой, внутренне самым мертвым временем всей моей молодости, хотя внешне я жил тогда очень разнообразно, общительно, на людях, чтобы не оставаться наедине с самим собой. Пространно говорить о последующей моей жизни нет возможности. Нет и необходимости: многое уже сказано, и прямо и косвенно, в моих прежних писаниях.
<Записи>
И идут дни за днями, сменяется день ночью, ночь днем — и не оставляет тайная боль неуклонной потери их — неуклонной и бесплодной, ибо идут в бездействии, все только в ожидании действия и — чего-то еще… И идут дни и ночи, и эта боль, и все неопределенные чувства и мысли, и неопределенное сознание себя и всего окружающего и есть моя жизнь, не понимаемая мной.
Вторая часть моей жизни, начавшаяся с моего возвращения под отчий кров, длилась ровно четверть века. Последним днем ее мне представляется тот летний день, когда мы с братом Георгием сидели в ожидании отплытия на палубе волжского парохода у пристани в Самаре и вдруг услыхали радостные крики бежавших к нам с берега мальчишек-газетчиков:
— Екстренный выпуск! Убийство наследного принца австрийского престола!
…и этих постыдных слов:
Je ne vis que pour ftcrire[27], я жил лишь затем, чтобы писать.
Две трети всех сил своей жизни я убил на этот будто бы необходимый для меня труд. Но жил все-таки не затем, чтобы только писать. Хотел славы, похвал, даже посмертной памяти (что уже бессмысленнее всего). Но всегда содрогался от мысли о том, что вот будут после моей смерти (без меня) сохнуть на полках библиотек мои книжки, от представления о моем бюсте на могиле под кладбищенской сенью или в каком-нибудь городском сквере, где в летнее предвечернее время с идиотским визгом будут носиться друг за другом вокруг него, вечно немого, неподвижного, тонконогие мещанские дети. Но постаменте: «такому-то», а к чему все это? Кто об этом «таком-то» думает? Ниже две даты: год рождения, год смерти, с чертой между ними, и вот эта-то черта, ровно ничего не говорящая, и есть вся никому не ведомая жизнь «такого-то»… просто в земле, как тысячелетнюю древность, как тот или иной лик или след легендарных времен, какой-то незапамятной жизни со всеми ее первобытными (на взгляд нашедшего) людьми, одеждами, обычаями, жилищами, утварью — и вечной, вовеки одинаковой любовью мужчины и женщины, ребенка и матери, вечными печалями и радостями человека, тайной его рождения, существования, смерти.
Тот, кто умер за две, три тысячи лет до нас, и подобия не имеет того, кто умер и погребен полвека тому назад в нашем мерзком гробу, в сюртуке или мундире и в покойницких туфлях. Две, три тысячи лет — это уже простор, освобождение от времени, от земного тления, печальное и высокое сознание тщеты всяких слав и величий. Все мои самые заветные странствия — там, в этих погибших царствах Востока и Юга, в области мертвых, забытых стран, их руин и некрополей…
Жизнь внешне выражалась чаще всего в ничтожном и случайном («Жизнь Аре»). Вневременная, внепространственная, она была связана с известным временем и местом, с известными временными событиями и с людьми, игравшими в свой срок ту или иную роль, казавшуюся очень значительной, — со всем, что в других местах даже и в ту пору было неизвестно, со всем, что теперь уже никому не нужно или не интересно, — что ж говорить обо всем этом, только мне памятном? И еще: что вообще остается в человеке от целой прожитой жизни? Только мысль, только знание, что вот было тогда-то то-то и то-то, да некоторые разрозненные видения, некоторые чувства.
Мы живем всем тем, чем живем, лишь в той мере, в какой постигаем цену того, чем живем. Обычно эта цена очень мала: возвышается она лишь в минуты восторга — восторга счастия или несчастия, яркого сознания приобретения или потери; еще — в минуты поэтического преображения прошлого в памяти.
Принято приписывать слабости известного возраста то, что люди этого возраста помнят далекое и почти не помнят недавнего. Но это не слабость, это значит только то, что недавнее еще недостойно памяти — еще не преображено, не облечено в некую легендарную поэзию. Потому-то и для творчества потребно только отжившее, прошлое. Restitutio in integrum[28] нечто ненужное (помимо того, что невозможное). «Сеется в тлении — восстает в нетлении». И далеко не все: лишь достойное того.
Дальнейшие дни и годы моей жизни образуют, при всей их разности, нечто все-таки более однородное, более простое, обыденное, более близкое мне теперешнему, нежели переменчивость, давность, легендарность детства отрочества, юности, первой молодости. Присказка всегда поэтичнее сказки.
И вот дни и годы уже туманятся и сливаются в памяти, — многие дни и годы моих дальнейших скитаний, постепенно ставших для меня обычным существованием, определившимся неопределенностью его, узаконение бездомностью, длящейся даже и доныне, когда надлежало бы мне иметь хоть какое-нибудь свое собственное и постоянное пристанище, на смену чужих стен, — теперь, уже почти два десятилетия, французских, — мертвым языком говорящих о чьих-то неизвестных, инобытных жизнях, прожитых в них. Да, зачем мне нужны и кем и когда прибиты эти разветвленные, подобные окаменевшему морскому растению, оленьи рога цвета пемзы над дверью прихожей с кирпичными голыми полами? Кому служила до меня эта холодная столовая с широко зияющим камином, внутри почерневшим от дыма каких-то неведомых мне зимних вечеров? Какие гости сидели на диване в шелковой вишневой обивке, кое-где уже продольно треснувшей, в этом безмолвном салоне с неподвижными портретами каких-то старомодно наряженных женщин и мужчин французской провинции? В кабинете какого-то бывшего хозяина стоит стопудовый секретер со множеством ящиков и ящичков, закапанных чернилами в прошлом или позапрошлом столетии. В спальнях — альковы, в которых под костяными распятиями умирали какие-то французские деды и отцы, бабушки и матери. Глядя на эти распятия…
Происхождение моих рассказов
«Господин из Сан-Франциско»
Летом пятнадцатого года, проходя однажды по Кузнецкому Мосту в Москве, я увидал в витрине книжного магазина Готье издание на русском языке повести Томаса Манна «Смерть в Венеции», но не зашел в магазин, не купил ее, а в начале сентября 1915 года, живя в имении моей двоюродной сестры, в селе Васильевском, Елецкого уезда, Орловской губернии, почему-то вспомнил эту книгу и внезапную смерть какого-то американца, приехавшего на Капри, в гостиницу «Квисисана», где мы жили в тот год, и тотчас решил написать «Смерть на Капри», что и сделал в четыре дня — не спеша, спокойно, в лад осеннему спокойствию сереньких и уже довольно коротких и свежих дней и тишине в усадьбе и в доме: попишу немного, оденусь, возьму заряженную двустволку, пройду по саду на гумно, куда всегда слеталось множество голубей, возвращусь с пятью, шестью штуками, убитыми дуплетом, и опять сяду писать; взволновался я и писал даже сквозь восторженные слезы только то место, где идут и славословят мадонну запоньяры. Заглавие «Смерть на Капри» я, конечно, зачеркнул тотчас же, как только написал первую строку: «Господин из Сан-Франциско…» И Сан-Франциско, и все прочее (кроме того, что какой-то американец действительно умер после обеда в «Квисисане») я выдумал.
…Обычно я пишу быстро и спокойно, вполне владея своими мыслями и чувствами, но на этот раз писал, повторяю, не спеша и порою весьма волнуясь.
«Смерть в Венеции» я прочел в Москве лишь в конце осени. Это очень неприятная книга: немецкий писатель, купавшийся на Лидо, влюбился в мальчика, очень красивого полячка, и умер в жаркой Венеции от холеры.
«Грамматика любви»
Мой племянник Коля Пушешников, большой любитель книг, редких особенно, приятель многих московских букинистов, добыл где-то и подарил мне маленькую старинную книжечку под заглавием «Грамматика любви». Прочитав ее, я вспомнил что-то смутное, что слышал еще в ранней юности от моего отца о каком-то бедном помещике из числа наших соседей, помешавшемся на любви к одной из своих крепостных, и вскоре выдумал и написал рассказ с заглавием этой книжечки (от лица какого-то Ивлева, фамилию которого я произвел от начальных букв своего имени в моей обычной литературной подписи).
«Легкое дыхание»
Рассказ «Легкое дыхание» я написал в деревне, в Васильевском, в марте 1916 года: «Русское слово» Сытина просило дать что-нибудь для пасхального номера. Как было не дать? «Русское слово» платило мне в те годы два рубля за строку. Но что дать? Что выдумать? И вот вдруг вспомнилось, что забрел я однажды зимой совсем случайно на одно маленькое кладбище на Капри и наткнулся на могильный крест с фотографическим портретом на выпуклом фарфоровом медальоне какой-то молоденькой девушки с необыкновенно живыми, радостными глазами. Девушку эту я тотчас же сделал мысленно русской, Олей Мещерской, и, обмакнув перо в чернильницу, стал выдумывать рассказ о ней с той восхитительной быстротой, которая бывала в некоторые счастливейшие минуты моего писательства.
С Васильевское, 23 июля 1916 года.
Все последние дни — неотступная жажда написать пушкинский рассказ. Приходило в голову заглавие: «Игроки». Что дальше? Преднамеренно что-нибудь простое, обычное для тех дней, не новое. Он, она, их общая первая любовь — и не судьба «быть счастливым». У него на всех путях его — удачливый соперник. Они как бы всю жизнь ведут борьбу, игру, в которой Стоцкий неизменно проигрывает — и в любви, и в свете, и по службе. И вот соперник Стоцкого уже давно генерал и женат, — на ней, на той, чье сердце втайне навеки отдано ему, Стоцкому, — и уже давно Стоцкий постепенно и неуклонно разоряется, от времени до времени встречаясь с генералом и проигрывая в карты состояние ему, втайне прекрасно знающему чувства и своей жены к Стоцкому, и его к ней, и наслаждающемуся его гибелью спокойно, с жестокой усмешкой, даже как бы с сожалением и с ядовитыми намеками при разговорах с женой о Стоцком: «Нет Стоцкому удачи ниоткуда!» — Сложилось пока только начало этой «пушкинской» повести и не в прозе, а в стихах:
Овальный стол, огромный. Вдоль по залу…<…>
«Косцы»
Когда мы с моим покойным братом Юлием возвращались из Саратова на волжском пароходе в Москву и стояли в Казани, грузчики, чем-то нагружавшие наш пароход, так восхитительно сильно и дружно пели, что мы с братом были в полном восторге… и все говорили: «Так… могут петь свободно, легко, всем существом только русские люди». Потом мы слышали, едучи на беговых дрожках с племянником и братом Юлием по большой дороге… как в березовом лесу рядом с большой дорогой пели косцы — с такой же свободой, легкостью и всем существом.
Написал я этот рассказ уже в Париже, в 1921 году, вспоминая Казань и этот березовый лес.
«Про обезьяну»
Слышал рассказ о сотворении человека от проводника в Константинополе в 1913 году. Нужно было дать что-нибудь в «Иллюстрированную Россию» (в Париже, в 1936 году) — стал думать, что бы такое написать, вспомнил этот рассказ… Остальное присочинил к нему, вспомнив наше с бпатом Юлием плавание из Батуми в Константинополь вдоль Анатолийских берегов летом 1913 года и то, как в Трапезонде взошел на палубу нашего парохода какой-то важный старик-курд.
«Темные аллеи»
Перечитывал стихи Огарева и остановился на известном стихотворении:
Была чудесная весна, Они на берегу сидели, Во цвете лет была она, Его усы едва чернели… Кругом шиповник алый цвел, Стояла темных лип аллея…Потом почему-то представилось то, чем начинается мой рассказ, — осень, ненастье, большая дорога, тарантас, в нем старый военный… Остальное все как-то само собой сложилось, выдумалось очень легко, неожиданно, — как большинство моих рассказов.
«Баллада»
Жить мне осталось, во всяком случае, недолго. И приводя в порядок по мере моих уже очень слабых сил мои писания, в надежде, — тоже довольно слабой, — что они будут когда-нибудь изданы, я перечитал их почти уже все и вижу, что я не ценил их прежде так, как они того заслуживают, что они во многих отношениях замечательны по своей оригинальности, по разнообразию, сжатости, силе, по внутренней и внешней красоте, — говорю это не стыдясь, ибо уже без всякого честолюбия, только как художник. Некоторые из них мне особенно дороги, кажутся особенно восхитительны — и вот «Баллада» в числе таких. А меж тем написать его, как и многие другие рассказы, в разные прежние годы, — побудила меня нужда в деньгах. Как-то… в Париже, я увидал однажды утром, что кошелек мой совсем пуст, и тотчас решил написать что-нибудь для «Последних новостей», выдумать что-нибудь. И стал вспоминать Россию, ту усадьбу, где нередко жил почти каждый год в разные времена года, мысленно увидал зимний вечер в ее старом доме под какой-то большой праздник… И бог дал быстро выдумать нечто совершенно прекрасное (с вымышленной странницей Машенькой, главной прелестью рассказа, с ее дивным ночным бдением, дивной речью)…
«Муза»
Верстах в трех от нашей усадьбы, в сельце Озерки, в Елецком уезде, при большой дороге в Елец, было имение, принадлежавшее когда-то моей матери, потом помещику Логофету, а в моей юности его нищему сыну, пьянице, рыжему, тощему. Я изредка бывал у него, был однажды лунным зимним вечером, в доме, освещенном только луною, почему-то, — это всегда бывает неизвестно почему, — вспомнил какой-то момент этого вечера и все хотел что-то присочинить к нему, вставить его в какой-то рассказ, который все не выдумывался. Все это вспомнилось мне однажды, в канун октября 1938 года в Beausoleil (над Монте-Карло), и вдруг пришел в голову и сюжет «Музы» — как и почему, совершенно не понимаю: тут тоже все сплошь выдумано, — кроме того, что я когда-то часто и подолгу жил в Москве на Арбате в номерах «Столица»…
Вспомнилась гостиница… неожиданно заметил в ней себя каким-то человеком, вздумавшим стать художником, и никак не могу вспомнить, почему, откуда взялась эта странная Муза Граф, — никогда подобной не встречал. Жизнь художника на даче, подмосковные дни и ночи там — некоторое подобие (гораздо более поэтическое действительности) того недолгого времени, когда я гостил на даче писателя Телешова.
А Завистовский тоже выдуман, — не выдумана только его усадьба, на самом деле принадлежавшая когда-то нашей матери…
«Степа»
Написано в 1938 году, на вилле в Beausoleil, над Монте-Карло.
Представилось однажды, что еду на беговых дрожках от имения моего брата Евгения (на границе Тульской и Орловской губерний) по направлению к станции Боборыкино. Проливной дождь. Затем — сумерки, постоялый двор возле шоссе и какой-то человек, остановившийся возле этого постоялого двора и на его крыльце счищающий кнутовищем грязь с высоких сапог. Все остальное сложилось как-то само собой, неожиданно; когда начал: рассказ, еще не знал, чем кончу.
…Это у меня постоянное — то и дело ни с того ни с сего частично мелькает в воображении какое-нибудь лицо, какой-нибудь пейзаж, какая-нибудь погода, — мелькает и пропадает, а иногда вдруг задерживается, останавливает внимание на себе, смутно требует развития, уточнения, волнует…
Отсюда и происхождение большинства моих рассказов.
Очень часто возникновение рассказа происходит у меня от какой-нибудь вообразившейся картины природы.
«Натали»
Мне как-то пришло в голову: вот Гоголь выдумал Чичикова, который ездит и скупает «мертвые души», и так не выдумать ли мне молодого человека, который поехал на поиски любовных приключений? И сперва я думал, что это будет ряд довольно забавных историй. А вышло совсем, совсем другое.
Молодой герой моего рассказа сперва заезжает, — ненадолго, — в имение своего родного дяди, улана Черкасского, для которого я взял старика-улана Муромцева, который слыл под кличкой «раздраженный улан», между тем как улан Черкасский был добрый человек, только такой же большой ростом и всем складом, как улан Муромцев. Я поместил его имение в речной долине, подобной той, в которой было расположено имение брата улана.
<Как я пишу>
Как я пишу? В молодости очень разбрасывался. Писать — всегда хотел, но всегда в то же время хотел и жить, и потому писать не всегда удавалось так, как того хотелось бы. В молодости я писал почти всегда слишком торопливо, случайно. Я был такой же и тогда, когда обо мне писалось, что будто бы я чудесно отделываю каждую фразу.
…Чеканка фраз! Но я никогда не занимался этим. Да и что значит «чеканить»? Ведь у писателя форма неразрывно связана с содержанием и рождается сама собой из содержания.
Позднее работа пошла правильнее, спокойнее. Я привык работать только в покое — для этого замыкался в уединении, в деревне или, как позднее, приезжал в Италию, на Капри. Но писал всегда как-то запоем. Садился за писание, и это означало, что надолго, пока не выпишусь до конца. И никогда, кстати сказать, не писал и не пишу по ночам. Вообще на нервах не работаю…
Как возникает во мне решение писать?.. Чаще всего совершенно неожиданно. Эта тяга писать появляется у меня всегда из чувства какого-то волнения, грустного или радостного чувства, чаще всего оно связано с какой-нибудь развернувшейся передо мной картиной, с каким-то отдельным человеческим образом, с человеческим чувством… Это — самый начальный момент. Иногда я подолгу таю в себе это начало, иногда сажусь писать тотчас же, если это бывает в деревне, в тишине, в уединении, в рабочей колее. Но это вовсе не означает того, что, беря перо, я наперед уже знаю все в целом, что мне предстоит написать. Это редко бывает. Я часто приступаю к своей работе, не только не имея в голове готовой фабулы, но и как-то еще не обладая вполне пониманием ее окончательной цели. Только какой-то самый общий смысл брезжит мне, когда я приступаю к ней. Не готовая идея, а только самый общий смысл произведения владеет мною в этот начальный момент — лишь звук его, если можно так выразиться. И я часто не знаю, как я кончу: случается, что оканчиваешь свою вещь совсем не так, как предполагал вначале и даже в процессе работы. Только, повторяю, самое главное, какое-то общее звучание всего произведения дается в самой начальной фазе работы…
Да, первая фраза имеет решающее значение. Она определяет, прежде всего, размер произведения, звучание всего произведения в целом. И вот еще что. Если этот изначальный звук не удается взять правильно, то неизбежно или запутаешься и отложишь начатое, или просто отбросишь начатое, как негодное…
…Я никогда не писал под воздействием привходящего чего-нибудь извне, но всегда писал «из самого себя». Нужно, чтобы что-то родилось во мне самом, а если этого нет, я писать не могу. Я никогда не умел и не могу стилизовать. Писать «в духе» чего-либо я не мог и не буду. Я вообще никогда не ставил себе в своем писании внешних заданий… Когда я писал стихи, я никогда не ставил себе задачи нарочито изломать стих, внести «новшество» в него. Свои стихи, кстати сказать, я не отграничиваю от своей прозы. И здесь, и там одна и та же ритмика… — дело только в той или иной силе напряжения ее.
«Извне» не оказывает на меня воздействия и с другой стороны. Во мне никогда не рождалось желания писать под воздействием чужого писания. Но, конечно, чужое хорошее всегда возбуждает желание писать. В этом отношении я вполне противоположен одному писателю, который говорил, что когда ему не хочется писать, то он берет с полки Круглова или Златовратского. «Это так скверно, что хочется писать самому!..» Повторяю — тайна возникновения начального чувства, побуждающая писателя к творчеству, очень трудно уловима. Это чувство приходило ко мне и в поле, и на улице, и в море, и дома, в соответствии с тем или иным освещением, или с встреченным человеческим лицом, иногда за чтением. Но как? Какое-нибудь отдельное слово, часто самое обыкновенное, какое-нибудь имя пробуждает чувство, из которого и рождается воля к писанию. И тут как-то сразу слышишь тот призывный звук, из которого и рождается все произведение…
Из книги «Воспоминания»
Рахманинов
При моей первой встрече с ним в Ялте произошло между нами нечто подобное тому, что бывало только в романтические годы молодости Герцена, Тургенева, когда люди могли проводить целые ночи в разговорах о прекрасном, вечном, о высоком искусстве. Впоследствии, до его последнего отъезда в Америку, встречались мы с ним от времени до времени очень дружески, но все же не так, как в ту встречу, когда, проговорив чуть не всю ночь на берегу моря, он обнял меня и сказал: «Будем друзьями навсегда!» Уж очень различны были наши жизненные пути, судьба все разъединяла нас, встречи наши были всегда случайны, чаще всего недолги, и была, мне кажется, вообще большая сдержанность в характере моего высокого друга. А в ту ночь мы были еще молоды, были далеки от сдержанности, как-то внезапно сблизились чуть не с первых слов, которыми обменялись в большом обществе, собравшемся, уже не помню почему, на веселый ужин в лучшей ялтинской гостинице «Россия». Мы за ужином сидели рядом, пили шампанское Абрау-Дюрсо, потом вышли на террасу, продолжая разговор о том падении прозы и поэзии, что совершалось в то время в русской литературе, незаметно спустились во двор гостиницы, потом на набережную, ушли на мол, — было уже поздно, нигде не было ни души, — сели на какие-то канаты, дыша их дегтярным запахом и этой какой-то совсем особой свежестью, что присуща только черноморской воде, и говорили, говорили все горячей и радостней уже о том чудесном, что вспоминалось нам из Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Майкова… Тут он взволнованно, медленно стал читать то стихотворение Майкова, на которое он, может быть, уже написал тогда иди только мечтал написать музыку:
Я в гроте ждал тебя в урочный час. Но день померк; главой качая сонной, Заснули тополи, умолкли гальционы: Напрасно! Месяц встал, сребрился и угас; Редела ночь; любовница Кефала, Облокотись на рдяные врата Младого дня, из кос своих роняла Златые зерна перлов и опала На синие долины и леса…
Репин
Из художников я встречался с братьями Васнецовыми, с Нестеровым, с Репиным… Нестеров хотел написать меня за мою худобу святым, в том роде, как он их писал; я был польщен, но уклонился, — увидать себя в образе святого не всякий согласится. Репин тоже удостоил меня — он однажды, когда я был в Петербурге с моим другом художником Нилусом, пригласил меня ездить к нему на дачу в Финляндии, позировать ему для портрета. «Слышу от товарищей по кисти, — писал он мне, — слышу милую весть, что приехал Нилус, наш художник прекрасный, — ах, если бы мне его краски! — а с ним и вы, прекрасный писатель, портрет которого мечтаю написать: приезжайте, милый, сговоримся и засядем за работу». Я с радостью поспешил к нему: ведь какая это была честь — быть написанным Репиным! И вот приезжаю, дивное утро, солнце и жестокий мороз, двор дачи Репина, помешавшегося в ту пору на вегетарианстве и на чистом воздухе, в глубоких снегах, а в доме — все окна настежь; Репин встречает меня в валенках, в шубе, в меховой шапке, целует, обнимает, ведет в свою мастерскую, где тоже мороз, как на дворе, и говорит: «Вот тут я и буду вас писать по утрам, а потом будем завтракать как господь бог велел: травкой, дорогой мой, травкой! Вы увидите, как это очищает и тело и душу, и даже проклятый табак скоро бросите». Я стал низко кланяться, горячо благодарить, забормотал, что завтра же приеду, но что сейчас должен немедля спешить назад, на вокзал — страшно срочные дела в Петербурге. И сейчас же вновь расцеловался с хозяином и пустился со всех ног на вокзал, а там кинулся к буфету, к водке, жадно закурил, вскочил в вагон, а из Петербурга на другой день послал телеграмму: дорогой Илья Ефимович, я, мол, в полном отчаянии, срочно вызван в Москву, уезжаю нынче же с первым поездом…
Джером Джером
Кто из русских не знает его имени, не читал его? Но не думаю, чтобы многие русские могли похвалиться знакомством с ним. Два, три человека разве — и в том числе я.
Я в Англии до 1926 года не бывал. Но в этом году лондонский Р.Е.N. Club вздумал пригласить меня на несколько дней в Лондон, устроить по этому поводу литературный банкет, показать меня английским писателям и некоторым представителям английского общества. Хлопоты насчет визы и расходы по поездке клуб взял на себя — и вот я в Лондоне.
Возили меня в очень разнообразные дома, но в каждом из них я непременно претерпевал что-нибудь достойное Джерома. Чего стоят одни обеды, во время которых тебя жжет с одной стороны пылающий, как геенна огненная, камин, а с другой — полярный холод!
Перед самым отъездом из Лондона я был в одном доме, куда собралось особенно много народа. Было очень оживленно и очень приятно, только так тесно, что стало даже жарко, и милые хозяева вдруг распахнули все окна настежь, невзирая на то, что за ними валил снег. Я шутя закричал от страха и кинулся по лестнице спасаться в верхний этаж, где тоже было много гостей, и на бегу услыхал за собой какие-то радостные восклицания: неожиданно явился Джером Джером.
Он медленно поднялся по лестнице, медленно вошел: в комнату среди почтительно расступившейся публики! и, здороваясь со знакомыми, вопросительно обвел комнату глазами. Так как оказалось, что он пришел только затем, чтобы познакомиться со мной, то его подвели ко мне. Он старомодно и как-то простонародно подал мне большую, толстую руку и маленькими голубыми глазами, в которых играл живой, веселый огонек, пристально поглядел мне в лицо.
— Очень рад, очень рад, — сказал он. — Я теперь, как младенец, по вечерам никуда не выхожу, в десять часов уже в постельку! Но вот разрешил себе маленькое отступление от правил, пришел на минутку — посмотреть, какой вы, пожать вашу руку…
Это был плотный, очень крепкий и приземистый старик с красным и широким бритым лицом, в просторном и длиннополом черном сюртуке, в крахмальной рубашке с отложным воротничком, под которым скромно лежала завязанная бантиком узкая черная ленточка галстука, — настоящий старозаветный коммерсант или пастор.
Через несколько минут он действительно ушел и навсегда оставил во мне впечатление чего-то очень добротного и очень приятного, но уж никак не юмориста, писателя со всемирной славой.
Шаляпин
В Москве когда-то говорили, что Шаляпин дружит с писателями в пику Собинову, который соперничал с ним в славе: говорили, что тяга Шаляпина к писателям объясняется вовсе не его любовью к литературе, а желанием слыть не только знаменитым певцом, но и «передовым, идейным человеком», — пусть, мол, сходит с ума от Собинова только та публика, которая во все времена и всюду сходила и будет сходить с ума от теноров. Но мне кажется, что Шаляпина тянуло к нам не всегда корыстно. Помню, например, как горячо хотел он познакомиться с Чеховым, сколько раз говорил мне об этом. Я наконец спросил:
— Да за чем же дело стало?
— За тем, — отвечал он, — что Чехов нигде не показывается, все нет случая представиться ему.
— Помилуй, какой для этого нужен случай! Возьми извозчика и поезжай.
— Но я вовсе не желаю показаться ему нахалом! А кроме того, я знаю, что я так оробею перед ним, что покажусь еще и совершенным дураком. Вот если бы ты свез меня как-нибудь к нему…
Я не замедлил сделать это и убедился, что все была правда: войдя к Чехову, он покраснел до ушей, стал что-то бормотать… А вышел от него в полном восторге:
— Ты не поверишь, как я счастлив, что наконец узнал его, и как очарован им! Вот это человек! Вот это писатель! Теперь на всех прочих буду смотреть как на верблюдов.
— Спасибо, — сказал я, смеясь.
Он захохотал на всю улицу.
Есть знаменитая фотографическая карточка, — знаменитая потому, что она, в виде открытки, разошлась в свое время в сотнях тысячах экземпляров, — та, на которой сняты Андреев, Горький, Шаляпин, Скиталец, Чириков, Телешов и я. Мы сошлись однажды на завтрак в московский немецкий ресторан «Альпийская роза», завтракали долго и весело и вдруг решили ехать сниматься. Тут мы со Скитальцем сперва немножко поругались. Я сказал:
— Опять сниматься! Все сниматься! Сплошная собачья свадьба.
Скиталец обиделся.
— Почему же это свадьба да еще собачья? — ответил он своим грубо-наигранным басом. — Я, например, собакой себя никак не считаю, не знаю, как другие считают себя.
— А как же это назвать иначе? — сказал я. — Идет у нас сплошной пир, праздник. По вашим же собственным словам, «народ пухнет с голоду», Россия гибнет, в ней «всякие напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти», над ней «реет буревестник, черной молнии подобен», а что в Москве, в Петербурге? День и ночь праздник, всероссийское событие за событием: новый сборник «Знания», новая пьеса Гамсуна, премьера в Художественном театре, премьера в Большом театре, курсистки падают в обморок при виде Станиславского и Качалова, лихачи мчатся к Яру и в Стрельну…
Дело могло перейти в ссору, но тут поднялся общий смех. Шаляпин закричал:
— Браво, правильно! А все-таки айда, братцы, увековечивать собачью свадьбу! Снимаемся мы, правда, частенько, да надо же что-нибудь потомству оставить после себя. А то пел, пел человек, а помер — и крышка ему.
— Да, — подхватил Горький, — писал, писал — и околел.
— Как, например, я, — сумрачно сказал Андреев. — Околею в первую голову…
Он это постоянно говорил, и над ним посмеивались. Но так оно и вышло.
Все считали Шаляпина очень левым, ревели от восторга, когда он пел «Марсельезу» или «Блоху», в которой тоже усматривали нечто революционное, сатанинское, издевательство над королями:
Жил-был король когда-то, При нем блоха жила…И что же вдруг случилось? Сатана стал на колени перед королем, — по всей России прокатился слух: Шаляпин стал на колени перед царем! Толкам об этом, возмущению Шаляпиным, не было конца-краю. И сколько раз потом оправдывался Шаляпин в этом своем прегрешении!
— А как же мне было не стать на колени? — говорил он. — Был бенефис императорского оперного хора, вот хор и решил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавке жалованья, воспользоваться присутствием царя на спектакле и стать перед ним на колени. И среди хора, было делать? Я никак не ожидал этого коленопреклонения, как вдруг вижу: весь хор точно косой скосило на сцене, все оказались на коленях, протягивая руки к царской ложе! Что же мне было делать? Одному торчать над всем хором телеграфным столбом? Ведь это же был бы форменный скандал!
В России я его видел в последний раз в начале апреля 1917 года, в дни, когда уже приехал в Петербург Ленин. Я в эти дни тоже был в Петербурге и вместе с Шаляпиным получил приглашение от Горького присутствовать на торжественном сборище в Михайловском театре, где Горький должен был держать речь по поводу учреждения им какой-то «Академии свободных наук». Не понимаю, не помню, почему мы с Шаляпиным получили приглашение на это во всех смыслах нелепое сборище. Горький держал свою речь весьма долго, высокопарно и затем объявил:
— Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин! Предлагаю их приветствовать!
Зал стал бешено аплодировать, стучать ногами, вызывать нас. Мы скрылись за кулисы, как вдруг кто то прибежал вслед за нами, говоря, что зал требует, чтобы Шаляпин пел. Выходило так, что Шаляпину опять надо было «становиться на колени». Но он решительно сказал прибежавшему:
— Я не пожарный, чтобы лезть на крышу по первому требованию. Так и объявите в зале.
Прибежавший скрылся, а Шаляпин сказал мне, разводя руками:
— Вот, брат, какое дело: и петь нельзя, и не петь нельзя. — ведь в свое время вспомнят, на фонаре повесят, черти. А все-таки петь я не стану.
И так и не стал. При большевиках уже не был столь храбр. Зато в конце концов ухитрился сбежать от них.
В июне тридцать седьмого года я слушал его в последний раз в Париже. Он давал концерт, пел то один, то с хором Афонского. Думаю, что уже и тогда он был тяжело болен. Волновался необыкновенно. Он, конечно, всегда волновался, при всех своих выступлениях, — это дело обычное: я видел, как вся тряслась и крестилась перед выходом на сцену Ермолова, видел за кулисами после сыгранной роли Ленского и даже самого Росси, — войдя в свою уборную, они падали просто замертво. То же самое в некоторой мере бывало, вероятно, и с Шаляпиным, только прежде публика этого никогда не видала. Но на этом последнем концерте она видела, и Шаляпина спасал только его талант жестов, интонаций. Из-за кулис он прислал мне записку, чтобы я зашел к нему. Я пошел. Он стоял бледный, в поту, держа папиросу в дрожащей руке, тотчас спросил (чего прежде, конечно, не сделал бы):
— Ну что, как я пел?
— Конечно, превосходно, — ответил я. И пошутил: — Так хорошо, что я все время подпевал тебе и очень возмущал этим публику.
— Спасибо, милый, пожалуйста, подпевай, — ответил он со смутной улыбкой. — Мне, знаешь, очень нездоровится, на днях уезжаю отдыхать в горы, в Австрию. Горы, — это, брат, первое дело. А ты на лето куда?
Я опять пошутил:
— Только не в горы. Я и так все в горах: то Монмартр, то Монпарнас.
Он опять улыбнулся, но очень рассеянно.
Ради чего дал он этот последний концерт? Ради того, вероятно, что чувствовал себя на исходе и хотел проститься со сценой, а не ради денег, хотя деньги любил, почти никогда не пел с благотворительными целями, любил говорить:
— Бесплатно только птички поют.
В последний раз я видел его месяца за полтора до его кончины, — навестил его, больного, вместе с М. А. Алдановым. Болен он был уже тяжело, но сил, жизненного и актерского блеска было в нем еще много. Он сидел в кресле в углу столовой, возле горевшей под желтым абажуром лампы, в широком черном шелковом халате, в красных туфлях, с высоко поднятым надо лбом коком, огромный и великолепный, как стареющий лев. Такого породистого величия я в нем прежде никогда не видал. Какая была в нем кровь? Та особая севернорусская, что была в Ломоносове, в братьях Васнецовых? В молодости он был крайне простонароден с виду, но с годами все менялся и менялся.
Толстой, в первый раз послушав его пение, сказал:
— Нет, он поет слишком громко.
Есть еще и до сих пор множество умников, искренне убежденных, что Толстой ровно ничего не понимал в искусстве, «бранил Шекспира, Бетховена». Оставим их в стороне; но как же все-таки объяснить такой отзыв о Шаляпине? Он остался совершенно равнодушен ко всем достоинствам шаляпинского голоса, шаляпинского таланта? Этого, конечно, быть не могло. Просто Толстой умолчал об этих достоинствах, — высказался только о том, что показалось ему недостатком, указал на ту черту, которая действительно была у Шаляпина всегда, а в те годы, — ему было тогда лет двадцать пять, — особенно: на избыток, на некоторую неумеренность, подчеркнутость его всяческих сил. В Шаляпине было слишком много «богатырского размаха», данного ему и от природы и благоприобретенного на подмостках, которыми с ранней молодости стала вся его жизнь, каждую минуту раздражаемая непрестанными восторгами толпы везде и всюду, по всему миру, где бы она его ни видала: на оперной сцене, на концертной эстраде, на знаменитом пляже, в дорогом ресторане или в салоне миллионера. Трудно вкусившему славы быть умеренным!
— Слава подобна морской воде, — чем больше пьешь, тем больше жаждешь, — шутил Чехов.
Шаляпин пил эту воду без конца, без конца и жаждал. И как его судить за то, что любил он подчеркивать свои силы, свою удаль, свою русскость, равно как и то, «из какой грязи попал он в князи»? Раз он показал мне карточку своего отца:
— Вот посмотри, какой был у меня родитель.
Драл меня нещадно!
Но на карточке был весьма благопристойный человек лет пятидесяти, в крахмальной рубашке с отложным воротничком и с черным галстучком, в енотовой шубе, и я усумнился: точно ли драл? Почему это все так называемые «самородки» непременно были «нещадно драны» в детстве, в отрочестве? «Горький, Шаляпин поднялись со дна моря народного»… Точно ли «со дна»? Родитель, служивший в уездной земской управе, ходивший в енотовой шубе и в крахмальной рубашке, не бог весть какое дно. Думаю, что несколько прикрашено вообще все детство, все отрочество Шаляпина в его воспоминаниях, прикрашены друзья и товарищи той поры его жизни, — например, какой-то кузнец, что-то уж слишком красиво говоривший ему о пении:
— Пой, Федя, — на душе веселей будет! Песня — как птица, выпусти ее, она и летит!
И все-таки судьба этого человека была действительно сказочна, — от приятельства с кузнецом до приятельских обедов с великими князьями и наследными принцами дистанция немалая. Была его жизнь и счастлива без меры, во всех отношениях: поистине дал ему бог «в пределе земном все земное». Дал и великую телесную крепость, пошатнувшуюся только после целых сорока лет странствий по всему миру и всяческих земных соблазнов.
Я однажды жил рядом с Баттистини в гостинице в Одессе: он тогда в Одессе гастролировал и всех поражал не только молодой свежестью своего голоса, но и вообще молодостью, хотя ему было уже семьдесят четыре года. В чем была тайна этой молодости? Отчасти в том, как берег он себя: после каждого спектакля тотчас же возвращался домой, пил горячее молоко с зельтерской водой и ложился спать. А Шаляпин? Я его знал много лет и вот вспоминаю: большинство наших встреч с ним все в ресторанах. Когда и где мы познакомились, не помню. Но помню, что перешли на «ты» однажды ночью в Большом Московском трактире, в огромном доме против Иверской часовни. В этом доме, кроме трактира, была и гостиница, в которой я, приезжая в Москву, иногда живал подолгу. Слово трактир уже давно не подходило к тому дорогому и обширному ресторану, в который постепенно превратился трактир с годами, и тем более в ту пору, когда я жил над ним в гостинице: в эту пору его еще расширили, открыли при нем новые залы, очень богато обставленные и предназначенные для особенно богатых обедов, для ночных кутежей наиболее знатных московских купцов из числа наиболее европеизированных. Помню, что в тот вечер главным среди пирующих был московский француз Сиу со своими дамами и знакомыми, среди которых сидел и я. Шампанское за столом Сиу, как говорится, лилось рекой, он то и дело посылал на чай сторублевки неаполитанскому оркестру, игравшему и певшему в своих красных куртках на эстраде, затопленной блеском люстр. И вот на пороге зала вдруг выросла огромная фигура желтоволосого Шаляпина. Он, что называется, «орлиным» взглядом окинул оркестр — и вдруг взмахнул рукой и подхватил то, что он играл и пел. Нужно ли говорить, какой исступленный восторг охватил неаполитанцев и всех пирующих при этой неожиданной «королевской» милости!
Пили мы в ту ночь чуть не до утра, потом, выйдя из ресторана, остановились, прощаясь на лестнице в гостиницу, и он вдруг мне сказал этаким волжским тенорком:
— Думаю, Ванюша, что ты очень выпимши, и поэтому решил поднять тебя на твой номер на своих собственных плечах, ибо лифт не действует уже.
— Не забывай, — сказал я, — что живу я на пятом этаже и не так мал.
— Ничего, милый, — ответил он, — как-нибудь донесу!
И, действительно, донес, как я ни отбивался. А донеся, доиграл «богатырскую» роль до конца — потребовал в номер бутылку «столетнего» бургонского за целых сто рублей (которое оказалось похоже на малиновую воду).
Не надо преувеличивать, но не надо и преуменьшать: тратил он себя все-таки порядочно. Без умолку говорить, не давая рта раскрыть своему собеседнику, неустанно рассказывать то то, то другое, все изображая в лицах, сыпать прибаутками, словечками, — и чаще всего самыми крепкими, — жечь папиросу за папиросой и все время «богатырствовать» было его истинной страстью. Как-то неслись мы с ним на лихаче по зимней ночной Москве из «Праги» в «Стрельну»: мороз жестокий, лихач мчит во весь опор, а он сидит во весь свой рост, распахнувши шубу, говорит и хохочет во все горло, курит так, что искры летят по ветру. Я не выдержал и крикнул:
— Что ты над собой делаешь! Замолчи, запахнись и брось папиросу!
— Ты умный, Ваня, — ответил он сладким говорком, — только напрасно тревожишься: жила у меня, брат, особенная, русская, все выдержит.
— Надоел ты мне со своей Русью! — сказал я…
— Ну, вот, вот. Опять меня бранишь. А я этого боюсь, бранью человека можно в гроб вогнать. Все называешь меня «ой ты, гой еси, добрый молодец»: за что, Ваня?
— За то, что не щеголяй в поддевках, в лаковых голенищах, в шелковых жаровых косоворотках с малиновыми поясками, не наряжайся под народника вместе с Горьким, Андреевым, Скитальцем, не снимайся с ними в обнимку в разудало-задумчивых позах, — помни, кто ты и кто они.
— Чем же я от них отличаюсь?
— Тем, что, например, Горький и Андреев очень способные люди, а все их писания все-таки только «литература» и часто даже лубочная, твой же голос, во всяком случае, не «литература».
— Пьяные, Ваня, склонны льстить.
— И то правда, — сказал я, смеясь. — А ты все-таки замолчи и запахнись.
— Ну, ин будь по-твоему…
И, запахнувшись, вдруг так рявкнул «У Карла есть враги!», что лошадь рванула и понесла еще пуще.
В Москве существовал тогда литературный кружок «Среда», собиравшийся каждую неделю в доме писателя Телешова, богатого и радушного человека. Там мы читали друг другу свои писания, критиковали их, ужинали. Шаляпин был у нас нередким гостем, слушал чтения, — хотя терпеть не мог слушать, — иногда садился за рояль и, сам себе аккомпанируя, пел — то народные русские песни, то французские шансонетки, то «Блоху», то «Марсельезу», то «Дубинушку» — и все так, что у иных «дух захватывало».
Раз, приехав на «Среду», он тотчас же сказал:
— Братцы, петь хочу!
Вызвал по телефону Рахманинова и ему сказал то же:
— Петь до смерти хочется! Возьми лихача и немедля приезжай. Будем петь всю ночь.
Было во всем этом, конечно, актерство. И все-таки легко представить себе, что это за вечер был — соединение Шаляпина и Рахманинова. Шаляпин в тот вечер довольно справедливо сказал:
— Это вам не Большой театр. Меня не там надо слушать, а вот на таких вечерах, рядом с Сережей.
Так пел он однажды и у меня в гостях на Капри, в гостинице «Квисисана», где мы с женой жили три зимы подряд. Мы дали обед в честь его приезда, пригласили Горького и еще кое-кого из каприйской русской колонии. После обеда Шаляпин вызвался петь. И опять вышел совершенно удивительный вечер. В столовой и во всех салонах гостиницы столпились все жившие в ней и множество каприйцев, слушали с горящими глазами, затаив дыхание… Когда я как-то завтракал у него в Париже, он сам вспомнил этот вечер:
— Помнишь, как я пел у тебя на Капри?
Потом завел граммофон, стал ставить напетые им в прежние годы пластинки и слушал самого себя со слезами на глазах, бормоча:
— Неплохо пел! Дай бог так-то всякому!
1938
Куприн
Это было давно — когда я только что узнал о его существовании, впервые увидал в «Русском богатстве» его имя, которое все тогда произносили с ударением на первом слоге, и этим ударением, как я видел это впоследствии, почему-то так оскорбляли его, что он, как всегда в минуты гнева, по-звериному щурил глаза, и без того небольшие, и вдруг запальчиво бормотал своей обычной армейской скороговоркой, ударяя на последний слог:
— Я — Куприн и всякого прошу это помнить. На ежа садиться без штанов не советую.
Сколько в нем было когда-то этого звериного — чего стоит одно обоняние, которым он отличался в необыкновенной степени! И сколько татарского! Насчет многого, что касалось его личной жизни, он был очень скрытен, так что, несмотря на всю нашу большую и такую долгую близость, я плохо знаю его прошлое. Знаю, что он учился в Москве, сперва в кадетском корпусе, потом в Александровском военном училище, недолгое время был офицером на русско-австрийской границе, а затем чем только не был! Изучал зубоврачебное дело, служил в каких-то конторах, потом на каком-то заводе, был землемером, актером, мелким журналистом… Кто был его отец? Кажется, военный врач, благодаря чему Александр Иванович и попал в кадетский корпус. Знаю еще, что он рано умер и что вдова его оказалась в такой бедности, что принуждена была жить в московском «Вдовьем доме». Про нее знаю, что, по происхождению, она была княжна с татарской фамилией, и всегда видел, что Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью. Одну пору (во время своей наибольшей славы) он даже носил цветную тюбетейку, бывал в ней в гостях и в ресторанах, где садился так широко и важно, как пристало бы настоящему хану, и особенно узко щурил глаза. Это была пора, когда издатели газет, журналов и сборников на лихачах гонялись за ним по этим ресторанам, в которых он проводил дни и ночи со своими случайными и постоянными собутыльниками, и униженно умоляли его взять тысячу, две тысячи рублей авансом за одно только обещание не забыть их при случае своей милостью, а он, грузный, болыпелицый, только щурился, молчал и вдруг отрывисто кидал таким зловещим шепотом: «Геть сию же минуту к чертовой матери!» — что робкие люди сразу словно сквозь землю проваливались. Но даже и тогда, в эту самую плохую его пору, много было в нем и совсем другого, столь же характерного для него: наряду с большой гордостью много неожиданной скромности, наряду с дерзкой запальчивостью много доброты, отходчивости, застенчивости, часто принимавшей какую-то даже жалостную форму, много наивности, простодушия, хотя порой и наигранного, много мальчишеской веселости и того милого однообразия, с которым он все изъяснялся в своей постоянной любви к собакам, к рыбакам, к цирку, к Дурову, к Поддубному — и к Пушкину, к Толстому, — тут он, впрочем, неизменно говорил только о лошади Вронского, о «прелестной, божественной Фру-Фру», — и еще к Киплингу. За последние годы критики не раз сравнивали его самого с Киплингом. Сравнивали, разумеется, неудачно, — Киплинг возвышался в некоторых своих вещах до подлинной гениальности, Киплинг был настолько велик, как поэт, и настолько своеобразен, един в своем роде, что кого же можно с ним сравнить? Но что Куприн мог любить его, вполне естественно.
Я поставил на него ставку тотчас после его первого появления в «Русском богатстве» и потому с радостью услыхал однажды, гостя у писателя Федорова в Люстдорфе, под Одессой, что к нашим сожителям по даче Карышевым приехал писатель Куприн, и немедля пошел с Федоровым знакомиться с ним. Лил дождь, но все-таки дома мы его ее застали, — «он, верно, купается», — сказали нам. Мы сбежали к морю и увидали неловко вылезающего из воды невысокого, слегка полного и розового телом человека лет тридцати, стриженного каштановым ежиком, близоруко разглядывающего нас узкими глазами. — «Куприн?» — «Да, а вы?» — Мы назвали себя, и он сразу просиял дружеской улыбкой, энергично пожал наши руки своей небольшой рукой (про которую Чехов сказал мне однажды: «Талантливая рука!»). После знакомства мы сошлись с ним удивительно быстро, — в нем тогда веселости и добродушия было так много, что на всякий вопрос о нем, — кроме того, что касалось его семьи, его детства, — он отвечал с редкой поспешностью и готовностью своей отрывистой скороговоркой: «Откуда я сейчас? Из Киева… Служил в полку возле австрийской границы, потом полк бросил, хотя звание офицера считаю самым высоким… Жил и охотился в Полесье, — никто даже себе и представить не может, что такое охота на глухарей перед рассветом! Потом за гроши писал всякие гнусности для одной киевской газетки, ютился в трущобах среди самой последней сволочи… Что я пишу сейчас? Ровно ничего, — ничего не могу придумать, а положение ужасное — посмотрите, например: так разбились штиблеты, что в Одессу не в чем поехать… Слава богу, что милые Карышевы приютили, а то бы хоть красть…»
В это чудесное лето, в южные теплые звездные ночи мы с ним без конца скитались и сидели на обрывах над бледным летаргическим морем, и я все приставал к нему, чтобы он что-нибудь написал, хотя бы просто для заработка. «Да меня же никуда не примут», — жалостливо скулил он в ответ. «Но ведь вы уже печатались!» — «Да, а теперь, чувствую, напишу такую ерунду, что не примут». — «Я хорошо знаком с Давыдовой, издательницей „Мира божьего“, — ручаюсь, что там примут». — «Очень благодарю, но что ж я напишу? Ничего не могу придумать!» — «Вы знаете, например, солдат, — напишите что-нибудь о них. Например, как какой-нибудь молодой солдат ходит ночью на часах и томится, скучает, вспоминает деревню…» — «Но я же не знаю деревни!» — «Пустяки, я знаю, давайте придумывать вместе…» Так и написал он свою «Ночную смену», которую мы послали в «Мир божий», потом еще какой-то рассказик, который я немедленно отвез в Одессу, в «Одесские новости», — сам он почему-то «ужасно боялся», — и за который мне удалось тут же схватить для него двадцать пять рублей авансом. Он ждал меня на улице и, когда я выскочил к нему из редакции с двадцатипятирублевкой, глазам своим не поверил от счастья, потом побежал покупать себе «штиблеты», потом на лихаче помчал меня в приморский ресторан «Аркадию» угощать жареной скумбрией и белым бессарабским вином… Сколько раз, сколько лет и какой бешеной скороговоркой кричал он мне во хмелю впоследствии:
— Никогда не прошу тебе, как ты смел мне благодетельствовать, обувать меня, нищего, босого!
Странно вообще шла наша дружба в течение целых десятилетий: то бывал он со мной нежен, любовно называл Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся, даже трезвый: «Ненавижу, как ты пишешь, у меня от твоей изобразительности в глазах рябит. Одно ценю, ты пишешь отличным языком, а кроме того, отлично верхом ездишь. Помнишь, как мы закатывались в Крыму в горы?» Про хмельного я уж и не говорю: во хмелю, в который он впадал, несмотря на все свое удивительное здоровье, от одной рюмки водки, он лез на ссоры чуть не со всяким, кто попадался ему под руку. Дикая горячность его натуры была вообще совершенно поразительна, равно как и переменчивость настроений. Чем больше я узнавал его, тем все больше думал, что нет никакой надежды на его мало-мальски правильную, обыденную жизнь, на планомерную литературную работу: мотал он свое здоровье, свои силы и способности с расточительностью невероятной, жил где попало и как попало с бесшабашностью человека, которому все трын-трава…
Первые годы нашего знакомства чаще всего мы встречались в Одессе, и тут я видел, как он опускается все больше и больше, дни проводит то в порту, то в самых низких кабачках и пивных, ночует в самых страшных номерах, ничего не читает и никем не интересуется, кроме портовых рыбаков, цирковых борцов и клоунов… В эту пору он особенно часто говорил, что писателем он стал совершенно случайно, хотя с великой страстью, даже сладострастием предавался при встречах со мной смакованию всяких острых художественных наблюдений и очень часто проявлял какие-то едкие душевные склонности — охоту, например, к издевательству над людьми. «Взять какого-нибудь болвана, — часто говорил он с упоением, — взять какую-нибудь самолюбивую бездарность и одурачить ее самыми бесстыдными похвалами, вообще всячески „развертеть“ ее, — да что же может быть слаще этого?»
Потом в жизни его вдруг выступил резкий перелом: он попал в Петербург, вошел в близость с литературной средой, неожиданно женился на дочери Давыдовой, в дом которой я ввел его, стал хозяином «Мира божьего», потому что Давыдова умерла через несколько дней после того, как он совершенно внезапно сделал предложение ее дочери, жить стал в достатке, с замашками барина, все больше делаясь своим человеком и в высших литературных кругах, главное же, стал много писать и каждой своей новой вещью завоевывал себе все больший успех. В эту пору, он написал свои лучшие вещи: «Конокрад», «Болото», «Трус», «Река жизни», «Гамбринус»… Когда появился его «Поединок», слава его стала особенно велика…
Восемнадцать лет тому назад, когда мы жили с ним и его второй женой уже в Париже, — самыми близкими соседями, в одном и том же доме, — и он пил особенно много, доктор, осмотревший его, однажды твердо сказал нам: «Если он пить не бросит, жить ему осталось не больше шести месяцев». Но он и не подумал бросить пить и держался после того еще лет пятнадцать, «молодцом во всех отношениях», как говорили некоторые. Но всему есть предел, настал конец и редким силам моего друга: года три тому назад, приехав с юга, я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул: и следа не осталось от прежнего Куприна! Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся такой худенький, слабенький, что, казалось, первый порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, с такой грустной кротостью, что у меня слезы навернулись на глаза. Как-то я получил от него открытку в две-три строчки, — такие крупные, дрожащие каракули и с такими нелепыми пропусками букв, точно их выводил ребенок… Все это и было причиной того, что за последние два года я не видел его ни разу, ни разу не навестил его: да простит мне бог — не в силах был видеть его в таком состоянии.
Прошлым летом, проснувшись утром под Парижем в поезде, на возвратном пути из Италии, и развернув газету, поданную мне вагонным проводником, я был поражен совершенно неожиданным для меня известием: «Александр Иванович Куприн возвратился в СССР…»
Никаких политических чувств по отношению к его «возвращению» я, конечно, не испытал. Он не уехал в Россию, — его туда увезли, уже совсем больного, впавшего в младенчество. Я испытал только большую грусть при мысли, что уже никогда не увижу его больше.
Перечитывая Куприна, думая, между прочим, о времени его славы, вспоминаю его отношение к ней. Другие — Горький, Андреев, Шаляпин — жили в непрестанном упоении своими славами, в непрерывном чувствовании их не только на людях, на всяких публичных собраниях, но и в гостях, друг у друга, в отдельных кабинетах ресторанов, — сидели, говорили, курили с ужасной неестественностью, каждую минуту подчеркивали избранность своей компании и свою фальшивую дружбу этими к каждому слову прибавляемыми «ты, Алексей, ты, Леонид, ты, Федор…». А Куприн, даже в те годы, когда мало уступал в российской славе Горькому, Андрееву, нес ее так, как будто ничего нового не случилось в его жизни. Казалось, что он не придает ей ни малейшего значения, дружит, не расстается только с прежними и новыми друзьями и собутыльниками вроде пьяницы и босяка Маныча. Слава и деньги дали ему, казалось, одно — уже полную свободу делать в своей жизни то, чего моя нога хочет, жечь с двух концов свою свечу, посылать к черту все и вся.
— Я не честолюбив, я самолюбив, — как-то сказал я ему по какому-то поводу.
— А я? — быстро спросил он. И на минуту задумался, сощурив, по своему обыкновению, глаза и пристально вглядываясь во что-то вдали. Потом зачастил своей армейской скороговоркой: — Да, я тоже. Я самолюбив до бешенства и от этого застенчив иногда до низости. А на честолюбие не имею даже права. Я писателем стал случайно, долго кормился чем попало, потом стал кормиться рассказишками, — вот и вся моя писательская история.
Он это часто повторял — «я стал писателем случайно». Это, конечно, неправда, опровергается его же собственными автобиографическими признаниями в «Юнкерах». Но вот что правда — это то, что, выйдя из полка и кормясь потом действительно чем попало, он кормился, между прочим, при какой-то киевской газетке не только журнальной работой, но и «рассказишками». Он мне говорил, что эти «рассказишки» он сбывал «за сущие гроши, но очень легко», а писал «на бегу, на лету, посвистывая» и ловко попадая, по своей талантливости, во вкус редактору и читателям. И с той же ловкостью он продолжал писать — уже не для киевской газетки, а для толстых журналов.
Я сказал: «по своей талантливости». Нужно сказать сильней — большой талантливости. Всем известно, в какой среде он рос, где и как провел свою молодость и с какими людьми общался всю свою последующую жизнь. А что он читал? И где и когда? В своем автобиографическом письме к критику Измайлову он говорит:
— Когда я вышел из полка, самое тяжелое было то, что у меня не было никаких знаний, ни научных, ни житейских. С ненасытимой и до сей поры жадностью я накинулся на жизнь и на книги…
Но надолго ли накинулся он на книги (если только правда, что «накинулся»)? Во всяком случае, слова «и до сей поры» — весьма сомнительны. Все его развитие, все образование совершалось тоже «на лету», давалось ему и усваивалось им по его способностям легко, следствием чего и вышло то, что в смысле — как бы это сказать? — интеллигентности, что ли, — уровень его произведений был вполне обычный. Нужно помнить еще и то, что он всю жизнь пил, так что даже удивительно, как он мог при этом писать, да еще нередко так ярко, крепко, здраво, вообще в полную противоположность с тем, как он жил, каким был в жизни, а не в писательстве.
Как он жил, каким он был в жизни, известно. И вот что замечательно: та разница, которая была между тем, как он жил и как писал. Критики без конца говорили о необыкновенной «стихийности», «непосредственности» его произведений, о той «первичности переживаний, которыми они пленяют». Читаешь о нем и сейчас то же самое: «Помешали Куприну стать великим писателем только стихийность его дарований и истинно русская небережливость, слишком большое доверие к „нутру“, в ущерб законченности и отделанности во всех смыслах… то, что он „не кончил консерватории“, как говорили символисты о бытовиках… в своем творчестве Куприн, по самой природе своей, не-книжный человек, не вдохновлялся литературными сюжетами… Ни в нем, ни в его героях не было двойственности…» Все это требует больших оговорок. Точно ли не было двойственности в нем? Жил он действительно «стихийно», «непосредственно», «по нутру» — тут ему и впрямь всякое море было по колено, тут он так не ценил ни своего тела, ни ума, ни сердца, ни своей репутации, что был и еще долго будет притчей во языцех. А каким был как писатель? Нет, «консерваторию» он проходил (это уже другое дело, какую именно). И в силу его талантливости, той быстроты, с которой он набивал руку в писательстве, далеко не все шло ему на пользу тут.
Это еще мелочи, — то, что немало было в его рассказах даже и средней поры его писательства таких пошлых выражений, как «шикарная женщина», «шикарный ресторан», «железный закон борьбы за существование», «его нежная, почти женственная натура содрогалась от грубых прикосновений действительности с ее бурными, но суровыми нуждами», «стройная, грациозная фигура Нины, личико которой обрамляли пряди пепельных волос, неотступно носилась перед его умственным взором…» Это еще полбеды, — беда в том, что в талантливость Куприна входил большой дар заражаться и пользоваться не только мелкими шаблонами, но и крупными, не только внешними, но и внутренними. И выходило так: требуется что-нибудь подходящее для киевской газетки? пожалуйста, — в пять минут сделаю и, если нужно, не побрезгаю писать вроде того, что «заходящее солнце косыми лучами освещало вершины дерев…»; надо писать рассказ для «Русского богатства»? И за этим дело не постоит, — вот вам «Молох»: «Заводской гудок протяжно ревел, возвещая начало рабочего дня. Густой, хриплый звук, казалось, выходит из-под земли и расстилается по ее поверхности…»
Разве плохо для вступления в смысле литературности? Все честь честью — вплоть до пошлого ритма этих двух предложений, который едва ли уступит ритму фразы о заходящем солнце с его косыми лучами. Все как надо и дальше, есть все, что требуется по образцам данного времени, и все, что полагается для рассказа о «Молохе»: «Нежная, почти женственная натура» болезненно-нервного интеллигента, инженера Боброва, который доходит на своей «страдальческой» службе капитализму до морфинизма, «акула» капитализма Квашнин, выдающий замуж за своего служащего, подлого карьериста, эту «стройную, грациозную» Нину, дочь другого заводского служащего и возлюбленную Боброва, с целью сделать ее своей любовницей, бунт доведенных до отчаяния голодом и холодом рабочих, пожар завода…
Я всегда помнил те многие большие достоинства, с которыми написаны его «Конокрады», «Болото», «На покое», «Лесная глушь», «Река жизни», «Трус», «Штабс-капитан Рыбников», «Гамбринус», чудесные рассказы о балаклавских рыбаках и даже «Поединок» или начало «Ямы», но всегда многое задевало меня даже и в этих рассказах. Вот, например, в «Реке жизни», предсмертное письмо застрелившегося в номерах «Сербия» студента: «Не я один погиб от моральной заразы… Все прошлое поколение выросло в духе набожной тишины, насильственного почтения к старшим, безличности и безгласности. Будь же проклято это подлое время, время молчания и нищенства, это благоденственное и мирное житие под безмолвной сенью благочестивой реакции!» Это ли не «литература»? Потом я долго не перечитывал его и, когда теперь решил перечесть, тотчас огорчился: я сперва стал только перелистывать его книги и увидал на них множество моих давнишних карандашных отметок. Вот кое-что из того, что я отмечал:
— Это была страшная и захватывающая картина (картина завода). Человеческий труд кипел здесь, как огромный и прочный механизм. Тысяча людей собрались сюда с разных концов земли, чтобы, повинуясь железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперед промышленного прогресса… («Молох».)
— Весь противоположный угол избы занимала большая печь, и с нее глядели, свесившись вниз, две детские головки с выгоревшими на солнце волосами… В углу, перед образом, стоял пустой стол, и на металлическом пруте спускалась с потолка висячая убогая лампа с черным от копоти стеклом. Студент присел около стола, и тотчас ему стало скучно и тяжело, как будто он пробыл здесь много, много часов в томительном и вынужденном бездействии…
— Окончив чай, он (мужик) перекрестился, перевернул чашку вверх дном, а оставшийся крошечный кусочек сахару бережливо положил обратно в коробочку…
— В оконное стекло билась и настойчиво жужжала муха, точно повторяя все одну и ту же докучную, бесконечную жалобу…
— К чему эта жизнь? — говорил он (студент) со страстными слезами на глазах. — Кому нужно это жалкое, нечеловеческое прозябание? Какой смысл в болезнях и смертях милых, ни в чем не повинных детей, у которых высасывает кровь уродливый болотный кошмар… («Болото».)
— Странный звук внезапно нарушил глубокое ночное молчание… Он пронесся по лесу низко, над самой землею, и стих… («Лесная глушь».)
— Он открывал глаза, и фантастические звуки превращались в простой скрип полозьев, в звон колокольчиков на дышле; и по-прежнему расстилались и налево и направо спящие белые поля, по-прежнему торчала перед ним черная, согнутая спина очередного ямщика, по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы и мотались завязанные в узел хвосты…
— Позвольте представиться: местный пристав и, так сказать, громовержец, Ирисов, Павел Афиногенович… («Жидовка».)
Право, трудно было не отмечать все эти тысячу раз петые и перепетые, обязательно «свешивающиеся с печки» детские головки, этот вечный огрызок сахару, муху, которая «точно повторяла докучную жалобу», чеховского студента из «Болота», тургеневский «странный звук, внезапно пронесшийся по лесу», толстовскую дремоту в санях («по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы…»), этого громовержца пристава, фамилия которого уж непременно Ирисов или Гиацинтов, а отчество Афиногенович или Ардалионович — и опять это самое что ни на есть чеховское в «Мелюзге»: разговоры затерянных где-то в северных снегах учителя и фельдшера:
— Иногда учителю начинало казаться, что он, с тех пор, как помнит себя, никуда не выезжал из Курши… что он только в забытой сказке или во сне слышал про другую жизнь, где есть цветы, сердечные, вежливые люди, умные книги, женские нежные голоса и улыбки…
— Я всегда, Сергей Фирсыч, думал, что это хорошо — приносить свою хоть самую малюсенькую пользу, — говорил учитель фельдшеру. — Я гляжу, например, на какое-нибудь прекраснейшее здание, на дворец или собор, и думаю: пусть имя архитектора останется бессмертным на веки вечные, я радуюсь его славе, и я совсем ему не завидую. Но ведь и незаметный каменщик, который тоже с любовью клал свой кирпич и обмазывал его известкой, разве он также не может чувствовать счастья и гордости? И я часто думаю, что мы с тобой — крошечные люди, мелюзга, но если человечество станет когда-нибудь свободным в прекрасным…
В рассказе «Нарцисс» я отметил описание светского салона, какую-то баронессу и ее приятельницу Бетси, — да, это уж неизбежно: Бетси! — и грозовый вечер, — «в густом, раскаленном воздухе чувствовалась надвигающаяся гроза», — и тот первый поцелуй влюбленных, который уже тысячу раз соединяли писатели с «надвигающейся грозой»… В «Яме» отметил то место, где «огоньки зажглись в зеленых длинных египетских глазах артистки», пение которой так потрясло девиц публичного дома, что даже сам автор воскликнул совершенно серьезно: «Такова власть гения!»
Потом я стал читать дальше, взял первую попавшуюся под руку книгу, прочел первый рассказ и огорчился еще больше. Книга эта начинается рассказом «На разъезде». Содержание его таково: едут по железной дороге в одном и том же купе случайно встретившиеся в пути какой-то молодой человек, молодая женщина, у которой была «тоненькая, изящная фигурка и развевающиеся пепельные волосы», и ее муж, гнусный старик-чиновник, изображенный крайне ядовито: «Господин Яворский не умел и не мог ни о чем говорить, кроме своей персоны, собственных ревматизмов и геморроев, и на жену смотрел, как на благоприобретенную собственность…» Этот старик день и ночь наставляет, пилит свою несчастную «собственность», ревнует ее к молодому человеку, говорит и ему грубости и тем самым еще более раздувает загоревшуюся между молодыми людьми любовь, в которой они в конце концов и признаются друг другу на остановке на каком-то разъезде, где их поезд оказывается рядом с другим, встречным поездом, а признавшись, перебегают в этот поезд, решив бросить старика и соединиться навеки. Тут молодой человек страстно воскликнул: «Навсегда? На всю жизнь?» И молодая женщина «вместо ответа спрятала свое лицо у него на груди»…
Потом я перечитал то, что больше всего забыл: «Одиночество», «Святую любовь», «Ночлег» и военные рассказы: «Ночная смена», «Поход», «Дознание», «Свадьба»… Первые три рассказа опять оказались слабы: и по неубедительности фабул, и по исполнению, — написаны под Мопассана и Чехова и опять уж так ладно, так гладко, так умело… «У Веры Львовны вдруг явилось непреодолимое желание прильнуть как можно ближе к своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкого человека, согреться его теплотой… То и дело легкие тучки набегали на светлый и круглый месяц и вдруг окрашивались причудливым золотым сиянием… Вера Львовна впервые в своей жизни натолкнулась на ужасное сознание, приходящее рано или поздно в голову каждого чуткого, вдумчивого человека, — на сознание той неумолимой, непроницаемой преграды, которая вечно стоит между двумя близкими людьми…» И в этом рассказе, как и в предыдущих, что ни слово, то пошлость. Но в военных рассказах дело пошло уже иначе, я все чаще стал внутренне восклицать: отлично! Тут опять все немножко не в меру ладно, гладко, опытно, но все это переходит в подлинное мастерство, все другой пробы, особенно «Свадьба», рассказ, не заставляющий, не в пример прочим названным, думать: «Ох, сколько тут Толстого и Чехова!» — рассказ очень жестокий, отдающий злым шаржем, но и блестящий. А когда я дошел до того, что принадлежит к поре высшего развития купринского таланта, к тому, что я выделил выше, — «Конокрады», «Болото» и так далее, — я, читая, уже не мог думать о недостатках этих рассказов, хотя в числе их есть и крупные: то дешевая идейность, желание не отстать от духа своего времени в смысле обличительности и гражданского благородства, то заранее обдуманное намерение поразить драматической фабулой и почти свирепым реализмом… Я уже не думал о недостатках, я только восхищался разнообразными достоинствами рассказов, тем, что преобладает в них: свободой, силой, яркостью повествований, его метким и без излишества щедрым языком…
Вот еще статья о нем — строки человека, долго и близко его знавшего, известного критика Нильского:
— Куприн был откровенен, прям, быстр на ответы, в нем была радостная и открытая пылкость и бесхитростность, теплая доброта ко всему окружающему… Временами его серо-синие глаза освещались чудесным светом, в них сияли и трепетали крылья таланта… Он до самых последних лет мечтал о совершенной независимости, о героической смелости, его восхищали времена «железных времен, орлов и великанов»…
В этом дурном роде будут еще немало писать, будут опять и опять говорить, сколько было в Куприне «первобытного, звериного», сколько любви к природе, к лошадям, собакам, кошкам, птицам… В последнем есть, конечно, много правды, и я вовсе не хотел сказать, говоря о разнице между Куприным-писателем и Куприным-человеком, — таким, каким его характеризуют почти все, — будто никак не проявлялся человек в писателе: конечно, все-таки проявлялся, и чем дальше, тем все больше. «Теплая доброта Куприна ко всему живущему» или, как говорит другой критик, «купринское благословение всему миру», это тоже было.
Однако надо помнить, что было только в последней поре жизни и творчества Куприна.
1938
Семеновы и Бунины
«Государство не может быть инако, яко к пользе и славе, ежели будут такие в нем люди, которые знают течение сил небесных и времени, мореплавание, географию всего света…»
(Регламент императорской Российской Академии наук 1747 года).К «таким» людям принадлежал и принадлежит Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, прославивший род Семеновых.
Я многое семейное узнал о нем от В. П. Семенова-Тянь-Шанского, его сына, живущего эмигрантом в Финляндии и порой родственно переписывающегося со мной (Семеновы родственники Буниным). От него же стало мне известно о печальной участи обширных мемуаров, оставленных его отцом. Их вышел всего первый том (во всем зарубежье существующий только в одном экземпляре). В. П. прислал мне этот том на прочтение и рассказал историю второго, печатание которого совпало с революцией и к октябрьскому перевороту доведено было всего до одиннадцатого листа, на чем и остановилось. <…> Так, повторяю, книга и застряла на одиннадцатом листе, и что с ней сталось, не знает, кажется, и сам В. П. (вскоре после того покинувший Россию). Он мне писал о ней только то, что сказано выше, и прибавлял: «В этом втором томе описывается экспедиция отца в Среднюю Азию. В нем много ценного научного материала, но есть страницы, интересные и для широкой публики, — например, рассказ о том, как отец встретился в Сибири с Достоевским, которого он знал в ранней молодости, — как есть таковые же и в третьем и в четвертом томах, ярко рисующие настроения разных слоев русского общества в конце пятидесятых годов, затем эпоху великих реформ Александра II и его сподвижников…»
О Достоевском: говорится и в первом томе, который некоторое время был у меня в руках. Этим страницам предшествует рассказ о кружке Петрашевского и о самом Петрашевском.
— Мы собирались у Петрашевского регулярно, по пятницам, — рассказывает П. П. — Мы охотно посещали его больше всего потому, что он имел собственный дом и возможность устраивать для нас приятные вечера — сам он всем нам казался слишком эксцентричным, если не сказать, сумасбродным. Он занимал должность переводчика в министерстве иностранных дел. Единственная его обязанность состояла в том, что его посылали в этом качестве на процессы иностранцев или на описи вымороченных имуществ, особливо библиотек. Тут он выбирал для себя все запрещенные иностранные книги, подменяя их разрешенными, и составлял из них свою собственную библиотеку, которую и предлагал к услугам всех своих знакомых. Будучи крайним либералом, атеистом, республиканцем и социалистом, он являл собой замечательный тип прирожденного агитатора. Всюду, где было можно, он проповедовал смесь своих идей с необыкновенной страстностью, хотя и без всякой связности и толковости. Для целей своей пропаганды он, например, стремился стать учителем в военно-учебных заведениях, заявляя, что может преподавать целых одиннадцать предметов; когда же был допущен к испытанию по одному из них, начал свою пробную лекцию так: «На этот предмет можно смотреть с двадцати точек зрения…» — и действительно изложил их все, хотя в учителя так и не был принят. В костюме своем он отличался тоже крайней оригинальностью: носил все то, что так строго преследовалось тогда, то есть длинные волосы, усы, бороду, ходил в какой-то испанской альмавиве и в цилиндре с четырьмя углами… Один раз он пришел в Казанский собор в женском платье, стал между дамами и притворился чинно молящимся; тут его несколько разбойничья физиономия и черная борода, которую он не особенно тщательно скрыл, обратили на себя изумленное внимание соседей; к нему подошел наконец квартальный надзиратель со словами: «Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина»; но он дерзко ответил: «Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина», — и так смутил квартального, что мог, воспользовавшись этим, благополучно исчезнуть из собора…
— Вообще наш кружок, — говорит мемуарист далее, — не принимал Петрашевского всерьез; но вечера его все же процветали, и на них появлялись все новые и новые лица. На этих вечерах шли оживленные разговоры, в которых писатели облегчали свою душу, жалуясь на жестокие цензурные притеснения, бывали литературные чтения, делались рефераты по самым разнообразным научным и литературным предметам, разумеется, с тем освещением, которое недоступно было тогда печатному слову, лились пылкие речи об освобождении крестьян, которое казалось нам столь несбыточным идеалом, Н. Я. Данилевский выступал с целым рядом докладов о социализме, о фурьеризме, которым он в ту пору особенно увлекался, Достоевский читал отрывки из своих повестей «Бедные люди» и «Неточка Незванова» и страстно обличал злоупотребления помещиков крепостным правом…
Переходя к Достоевскому, автор говорит, что первое знакомство его с ним произошло как раз в то время, когда Достоевский вошел в славу своим романом «Бедные люди», рассорился с Белинским и Тургеневым, совершенно оставил их литературный кружок и стал посещать кружки Петрашевского и Дурасова.
— Вообще я знал его довольно долго и близко, — говорит он. — И вот что, между прочим, мне хочется сказать. Никак не могу, например, согласиться с утверждением многих, будто Достоевский был очень начитанный, но необразованный человек. Я утверждаю, что он был не только начитан, но и образован. В детские годы он получил прекрасную подготовку в отцовском доме, вполне овладел французским и немецким языками, так что свободно читал на них; в Инженерном училище систематически и усердно изучал, кроме общеобразовательных предметов, высшую математику, физику, механику; а широким дополнением к его специальному образованию послужила ему его большая начитанность. Во всяком случае, можно смело сказать, что он был гораздо образованней многих тогдашних русских литераторов. Лучше многих из них знал он и русский народ, деревню, где жил в годы своего детства и отрочества, и вообще был ближе к крестьянам, к их быту, чем многие из зажиточных писателей-дворян, что, кстати сказать, не мешало ему очень чувствовать себя дворянином, каковым он и был на самом деле, а кое в чем проявлять даже излишние барские замашки. Немало говорили и писали о той нужде, в которой Достоевский будто бы находился в молодости. Но нужда эта была весьма относительна. По-моему, не с действительной нуждой боролся он тогда, а с несоответствием своих средств и своих желаний. Помню, например, нашу с ним лагерную жизнь и те денежные требования, которые он предъявлял своему отцу на лагерные расходы. Я жил почти рядом с ним, в такой же полотняной палатке, как и он, обходился без своего чаю, без своих собственных сапог, без сундука для книг, получал на лагерь всего-навсего десять рублей — и был спокоен, хотя учился в богатом, аристократическом заведении; а для Достоевского все это составляло несчастие, он никак не хотел отставать от тех наших товарищей, у которых был и свой чай, и свои сапоги, и свой сундук, траты которых на лагерь колебались от сотен до тысяч рублей…
В этом первом томе мемуаров Семенова много говорится о нашем, бунинском, роде, к которому Семеновы принадлежат по женской линии, и, в частности, об Анне Петровне Буниной. Совсем недавно была и ее годовщина — столетие со времени ее смерти. Годовщина эта тоже никому не вспомнилась, а меж тем заслуживала бы и она того. Если принять во внимание время, в которое жила Бунина, нельзя не согласиться с теми, которые называли ее одной из замечательных русских женщин. Помимо мемуаров Семенова, сведения о ней можно найти в одной давней статье, принадлежавшей Александру Павловичу Чехову. Теперь, говорит он, имя Буниной встречается только в истории литературы, да и то потому, может быть, что портрет ее еще доныне висит в стенах Академии наук. Но в свою пору оно было очень известно, стихи Буниной читались образованной публикой с большой охотой, расходились быстро и вызывали восторженные отзывы критики. Их хвалил сам Державин, публично читал Крылов, ими восторгался Дмитриев, бывший ближайшим другом Буниной. Греч говорил, что Бунина «занимает отличное место в числе современных писателей и первое между писательницами России», а Карамзин прибавлял: «Ни одна женщина не писала у нас так сильно, как Бунина». Императрица Елизавета Алексеевна пожаловала ей золотую лиру, осыпанную брильянтами, «для ношения в торжественных случаях», Александр Благословенный назначил ей крупную пожизненную пенсию, Российская Академия наук издала собрание ее сочинений. Слава ее кончилась с ее смертью, и все-таки даже сам Белинский лестно вспоминал ее в своих литературных обзорах.
Отец Анны Петровны был владельцем известного села Урусова, в Рязанской губернии. Там и родилась она — в 1774 году. П. П. Семенов говорит, что отец дал трем ее братьям чрезвычайно хорошее по тому времени воспитание. Старший принадлежал к образованнейшим людям своего века, прекрасно знал многие иностранные языки, состоял в масонской ложе; младшие служили во флоте, причем один из них, во время войны Екатерины II со шведами, попал в плен и был определен шведским королем в Упсальский университет, где и окончил свое образование. На долю А. П. выпала впоследствии большая честь — она стала членом Российской Академии наук. А меж тем первоначальное ее образование было более чем скудно, ибо образование девиц считалось тогда ненужной роскошью. Образования она достигла в силу своей собственной воли и желания, после того как ее старший брат стал возить ее в Москву и ввел в круг своих друзей из литературного и вообще просвещенного общества. Тут она встретилась и сблизилась, между прочим, с Мерзляковым, Капнистом, князем А. А. Шаховским, Воейковым, В. А. Жуковским, В. Л. Пушкиным. В последующее время на ее развитие имели большое влияние Н. П. Новиков и Карамзин, «которому больше всего и обязана она была в своем правильном и изящном литературном языке». Она зачитывалась «Московским журналом», выходившим под его издательством, потом встречалась с ним в обществе, носившем название «Беседы любителей русского слова». Общество это организовалось в Петербурге в 1811 году. В нем было двадцать четыре действительных и тридцать два почетных члена, в число которых была избрана и Анна Петровна. Основателем «Беседы» был Шишков, и состояли в ней Крылов, Державин, Шаховской, Капнист, Озеров и даже сам Сперанский. Цель ее была — «противодействие тем нововведениям, которые вносил в русский язык Карамзин, проведение в жизни подражания образцам славянского языка, преследование карамзинского направления», — и весьма курьезно было то, что и сам Карамзин был ее членом.
Дальнейшую судьбу А. П. очень изменила смерть ее отца. После этой смерти она переехала жить к своей сестре, Марье Петровне Семеновой, получив наследство, дававшее ей шестьсот руб. годового дохода. Она была теперь свободна и самостоятельна. И, пользуясь этим, прожила очень недолго у Семеновой. В 1802 году зять ее, Семенов, отправился в Петербург. А. П. упросила его взять ее с собою и, попав в столицу, отказалась возвращаться назад в деревню. Зять ее был «весьма фраппирован» этим, уговаривал ее отказаться от своего намерения — она все же от него не отказалась. В Петербург она приехала будто бы только для того, чтобы повидаться с своим братом — моряком. Когда же решила поселиться в столице, стал и брат уговаривать ее вернуться в деревню, но тоже напрасно. Затем Семенов уехал в деревню, брат вскоре отправился в поход, и она оказалась в столице совсем одна. Это было по тем временам совсем необычно. Но ее ничуть не смутило. Более того: она наняла себе на Васильевском острове совсем отдельную квартиру, «взяв к себе для услуг некую степенную женщину».
Добившись своего, она деятельно и с изумительной энергией принялась за самообразование, несмотря на то, что в это время ей шел уже двадцать восьмой год. Она стала учиться французскому, немецкому и английскому языкам, физике, математике и главным образом российской словесности. Успехи были очень быстрые. Возвратившийся из похода брат был поражен количеством и основательностью приобретенных ею познаний. Но эти же приобретения, обогатив ее ум, вместе с тем и разорили ее материально: живя в Петербурге, она истратила весь свой наследственный капитал. Положение ее становилось ужасно, она принуждена была войти в долги. Но тут брат поспешил познакомить ее с петербургскими литераторами, которым она и показала свои первые произведения. Ее одобрили, ей помогли печататься. Первое стихотворение ее, «С приморского берега», появилось в печати в 1806 году; за этим последовал целый ряд нового и дал ей такой успех в публике, что она собрала свои стихи и рискнула выпустить отдельным изданием, которое и вышло в свет под заглавием «Неопытная Муза». Издание это было поднесено императрице Елизавете Алексеевне и было награждено сперва вышеупомянутой «лирой, осыпанной бриллиантами», а затем ежегодной пенсией в четыреста рублей в год.
С этого времени начинается уже слава Буниной. В 1811 году она выпустила новый том своих стихотворений, «Сельские вечера», который тоже разошелся очень быстро. Затем она напечатала свою «Неопытную Музу» вторым изданием, в двух томах. Это издание тоже имело большой успех. А двенадцатый год принес ей «высшие лавры»: тут она выступила с патриотическими гимнами, «снискав себе вящее монаршее благоволение и ряд новых милостей». Но это были уже последние ее радости: вскоре после того у нее открылся рак в груди, который всю остальную жизнь ее превратил в непрерывную цепь страданий и наконец свел ее в могилу. Было сделано все, чтобы спасти ее или хоть облегчить ее участь. И двор и общество, почитавшее ее не только, за ее поэтические заслуги, но и за высокие умственные и нравственные качества, проявили к ней большое участие. Государь пожелал, чтобы к ней были приглашены; светила медицины, лично заботился о том, чтобы лечение ее было обставлено как можно лучше; для нее, за счет двора, нанимались на лето дачи, бесплатно отпускались лекарства «из главной аптеки»; бесплатно же посещали ее и придворные медики. Затем решено было прибегнуть к последнему средству, в которое тогда весьма верили: к поездке в Англию, особенно славившуюся в то врем своими врачами. Путевые издержки ее принял на себя опять сам государь, «провожал ее Петербург с большим триумфом». Но и Англия не помогла. А. П. пробыла за границей два года и возвратилась оттуда такою же больной, как уехала. Прожила она после того еще двенадцать лет, но почти уже не писала, — только выпустила в 1821 году полное собрание своих сочинений в трех книгах, снова награжденное от двора, на этот раз пожизненной пенсией в две тысячи рублей. Жила она эти последние годы то у родных, в деревне, то в Липецке, то на Кавказских водах, всюду ища облегчения от своих страданий. «Рак в груди довел свое разрушительное дело уже до того, что она не могла лежать и проводила большую часть времени в единственно возможной для нее позе — на коленях». Так, на коленях, и писала она:
Любить меня иль нет, жалеть иль не жалеть Теперь, о ближние! вы можете по воле…Последние дни свои она провела за переводом проповедей Блэра и за непрестанным чтением книг Священного писания. Скончалась 4 декабря у своего племянника Д. М. Бунина. Тело ее погребено в ее родном селе Урусове. На могиле ее, может быть, и до сих пор стоит скромный памятник, в свое время возобновленный П. П. Семеновым-Тянь-Шанским. В его мемуарах приводится милая надпись, сделанная ему А. П. на переводе проповедей Блэра, на книжечке в красном сафьяновом переплете:
«Дорогому Петеньке Семенову в чаянии его достославной возмужалости».
1932
Эртель
Он теперь почти забыт, а для большинства и совсем неизвестен. Удивительна была его жизнь, удивительно и это забвение. Кто забыл его друзей и современников — Гаршина, Успенского, Короленко, Чехова? А ведь, в общем, он был не меньше их, за исключением, конечно, Чехова, — в некоторых отношениях даже больше.
Двадцать лег тому назад, в Москве, в чудесный морозный день, я сидел в его кабинете, в залитой солнцем квартире на Воздвиженке, и, как всегда при встречах с ним, думал:
«Какая умница, какой талант в каждом слове, в каждой усмешке! Какая смесь мужественности и мягкости, твердости и деликатности, породистого англичанина и воронежского прасола! Как все мило в нем и вокруг него: и его сухощавая, высокая фигура в прекрасном английском костюме, на котором нет ни единой пушинки, и белоснежное белье, и крупные с рыжеватыми волосами руки, и висячие русые усы, и голубые меланхолические глаза, и янтарный мундштук, в котором душисто дымится дорогая папироса, и весь этот кабинет, сверкающий солнцем, чистотой, комфортом! Как поверить, что этот самый человек в юности двух слов не умел связать в самом невзыскательном уездном обществе, плохо знал, как обращаться с салфеткой, писал с нелепейшими орфографическими ошибками?»
В этой же самой квартире он вскоре и умер — от разрыва сердца.
Через год после того вышли в свет семь томов собрания его сочинений (рассказов, повестей и романов) и один том писем. К роману «Тарденины» было приложено предисловие Толстого. К письмам — его автобиография и статья Гершензона: «Мировоззрение Эртеля».
Толстой писал о «Гардениных», что, «начав читать эту книгу, не мог оторваться, пока не прочел ее всю и не перечел некоторых мест по несколько раз». Он писал:
«Главное достоинство, кроме серьезного отношения к делу, кроме такого знания народного быта, какого я не знаю ни у одного писателя, — неподражаемое, не встречаемое нигде достоинство этого романа есть удивительный по верности, красоте, разнообразию и силе народный язык. Такого языка не найдешь ни у старых, ни у новых писателей. Мало того, что народный язык его верен, силен, красив, он бесконечно разнообразен. Старик-дворовый говорит одним языком, мастеровой другим, молодой парень третьим, бабы четвертым, девки опять иным. У какого-то писателя высчитали количество употребляемых им слов. Я думаю, что у Эртеля количество это, особенно народных слов, было бы самое большое из всех русских писателей, да еще каких верных, хороших, сильных, нигде, кроме как в народе, не употребляемых слов. И нигде эти слова не подчеркнуты, не преувеличена их исключительность, не чувствуется того, что так часто бывает, что автор хочет щегольнуть, удивить подслушанным им словечком…»
Это знание народа станет вполне попятно, когда просмотришь автобиографию Эртеля.
— Я родился, — говорит он, — 7 июля 1855 года. Дед мой был из берлинской бюргерской семьи, юношей попал в армию Наполеона и под Смоленском был взят в плен, а затем увезен одним из русских офицеров в воронежскую деревню. Там он вскоре перешел в православие, женился на крепостной девушке, приписался в воронежские мещане и всю последующую жизнь прожил управляющим в господских имениях. Эту же должность наследовал и отец мой, тоже женившийся на крепостной. Человек он был весьма мало образованный, но любил читать, — преимущественно исторические книги, — и не чужд был так называемым вопросам политики и даже своего рода философии; к прекрасным чертам его характера нужно отнести большую доброту при наружной суровости, довольно чуткое чувство справедливости и чрезвычайную трезвость ума, почти совершенно совпадавшую со взглядами великорусского крестьянина. Что до моей матери, незаконной дочери одного задонского помещика, то, в противоположность отцу, она была не прочь и от чувствительности, и даже мечтательного романтизма…
— Выучила читать меня она, писать же я выучился сам, сначала копируя с книг печатные буквы. Затем мой крестный, тот помещик Савельев, у которого отец долго был управляющим, предложил отцу взять меня к себе в дом. Жена Савельева была француженка, актриса из какого-то бульварного театра в Париже, почти совсем не говорила по-русски, очень скучала и привязалась ко мне, как к игрушке, рядила меня, кормила лакомствами… Впрочем, все это длилось недолго. Отец поссорился с Савельевым, потерял место — и я был обращен в «первобытное состояние». Тогда мы почти год бедствовали на квартире у одного знакомого мужика, пока отец не снял в аренду хутор…
— Я пользовался совершенной свободой делать, что мне угодно: играть с деревенскими ребятами, читать когда и что захочу… Когда отец взялся «приучать меня к хозяйству», мне было тринадцать лет. Я в то время знал четыре правила арифметики, «Историю Наполеона». «Кощея Бессмертного», «Путешествие Пифагора», «Стеньку Разина» Костомарова, второй том «Музея иностранной литературы», «Песни Кольцова», «Сочинения Пушкина», старинный конский лечебник, Священную историю с картинками, комедию Чадаева «Дон Педро Прокодурнате». Затем я самоучкой выучился читать по-церковному и несколько раз перечитал «Киевский Патерик» и несколько книг Четьи-Минеи… Лет шестнадцати я познакомился с усманским купцом Богомоловым, и он снабдил меня сочинениями Дарвина «О происхождении человека» и книжками «Русского слова», в которых я с огромным увлечением прочитал статьи Писарева…
— Отец сделал меня своим помощником по хозяйству, но я настолько держался запанибрата с простым народом, что иногда отец грозился меня бить за это и действительно раза три бил… Я был свой человек в застольной, в конюшнях, в деревне «на улице», на посиделках, на свадьбах, везде, где собирался молодой деревенский народ… Отец решил, наконец, что мои дружественные и фамильярные отношения с деревней положительно мешают мне обладать авторитетом, нужным для приказчика, и согласился на то, чтобы я искал себе должность где-нибудь в другом месте; и вскоре после того я занял должность конторщика в одном соседнем имении… Железную дорогу я увидал в первый раз, когда мне стало шестнадцать лет; Москву и Петербург — двадцати трех…
Дальнейшее довольно типично для того времени, для самоучки, «рвущегося к свету, к прогрессу»: новое знакомство с новым чудаком-купцом, который «посреди грязи и пошлости торгового люда» был одержим истинной страстью к этому «прогрессу» и к чтению; знакомство с его дочерью, которая взялась руководить развитием молодого «дикаря» и с которой вскоре завязался «книжный роман», кончившийся свадьбой; затем попытка завести свое хозяйство в арендованном на грошовое приданое жены именьице и крушение этой попытки, — «я, считавшийся дельным хозяином в чужом богатом имении, оказался никуда не годным в своем маленьком», — и наконец переезд в Петербург (благодаря случайному знакомству с писателем Засодимским, как-то заехавшим в Усмань) и начало типичной писательской жизни в среде наиболее «передовых» представителей тогдашней литературы, жизни в такой бедности, что у молодого писателя вскоре обнаружились задатки чахотки, и с таким увлечением «передовыми» идеями, что пришлось даже посидеть в Петропавловской крепости, а потом пожить в ссылке в Твери. Однако типичность эта тут и кончается. Совсем не типичной оказалась быстрота развития этого «дикаря», быстрота превращения его в настоящего культурного человека, его необычайный духовный и художественный рост и, главное, самостоятельность вкусов, взглядов и стремлений, уже и тогда далеко не во всем совпадавших с тем, что полагалось иметь всем этим Засодимским, Златовратским. «Даже и в пору увлечения Засодимским, — говорит Эртель, — меня не покидала отцовская струйка: здравый смысл. Я, например, чувствовал, что знаю жизнь лучше и глубже его и особенно жизнь народную, бытописателем которой он считал себя. Умел я и людей узнавать лучше его — этому помогали мои занятия хозяйством, деловые отношения с купцами, крестьянами, кулаками, кабатчиками, барышниками, словом, все то, что шло у меня рядом с любовью к народу, с сетованьями о его нужде, печалях, с увлечением туманными идеалами образованности, прогресса, свободы, равенства и братства…»
Этот-то «здравый смысл» (если уж употреблять столь чрезмерно скромное выражение) и сделал Эртеля такой крупной и своеобразной фигурой, как в жизни, так и в литературе. Гершензон совершенно справедливо говорит, что «нельзя вообразить себе более резкого контраста, нежели тот, который представляет фигура Эртеля среди худосочной и вялой русской интеллигенции восьмидесятых годов». Да и жизнь его, повторяю, была лишь очень короткое время более или менее типичной жизнью интеллигента из разночинцев. Вскоре она опять стала (даже и внешне) чрезвычайно непохожа на таковую: после Твери Эртель только временами живал в столицах или за границей, — он опять вернулся в деревню, к сельскому хозяйству и почти до самого своего конца отдавал ему половину всех своих сил, сперва арендуя лично для себя клочок земли на родине, а затем управляя огромнейшими и богатейшими барскими имениями (одно время даже сразу несколькими, разбросанными в целых девяти губерниях, то есть «целым царством», как писал он мне однажды).
Гершензон считает, что Эртель даже и как мыслитель был явлением «замечательным», что мировоззрение его «представляет собой чрезвычайно оригинальную и ценную систему идей». Сила мышления Эртеля, говорит он, была в той области, которую Кант отводит «практическому разуму». Эртель был прежде всего человеком дела. Ему дана была от природы огромная жизнеспособность, он был ярким представителем делателей жизни, обладал страстной жаждой быть в непрерывной смене явлений и действий. И вот этим-то и определялся характер его мировоззрения.
Все это мировоззрение есть ответ на двойственный вопрос: что позволяет сделать жизнь и чего она требует? Вопрос об изначальной силе, движущей мир, и о конечной цели этого движения Эртель оставлял без рассмотрения.
Он, однако, не был рационалистом. Напротив, как раз живое чутье действительности научило его тому, что в основе всего видимого есть элемент невидимый, но не менее реальный, и что не учитывать его в практических расчетах значит рисковать ошибочностью всех расчетов. Оттого позитивизм казался ему нестерпимой бессмысленностью.
Он думал, что жизнь резко распадается на явления двух родов: на зависящие исключительно от воли «Великого Неизвестного, которого мы называем богом», то есть на такие, к которым мы должны относиться с безусловной покорностью, и на зависящие от нашей воли и устранимые, по отношению к которым борьба уместна и необходима.
Он верил, что существует абсолютная истина, но стоял лишь за условное осуществление ее, любил говорить: «В меру, друг, в меру!» — то есть: не ускоряй насильственно этот поступательный ход истории. Безусловное понимание добра и зла и условное действие в осуществлении первого и в борьбе с последним — вот что нужно для всякой деятельности, в том числе для всякой протестующей, говорил он. Значит ли это, однако, что он проповедовал «умеренность и аккуратность»? Редко кто был менее умерен и аккуратен, чем он, вся жизнь которого была страстной неумеренностью, «вечным горением в делах душевных, общественных и житейских, страдальческими поисками внешней и внутренней гармонии». Он сам нередко жаловался: «Все не удается восстановить в своей жизни равновесия… То, что видишь вокруг и что читаешь, до такой степени надрывает сердце жалостью к одним и гневом к другим, что просто беда…» И дальше (говоря о своем участии в помощи голодающим, которой он в начале девяностых годов отдавался целых два года с такой страстью, что совершенно забросил свои собственные дела и оказался в настоящей нищете): «Еще раз узнал, что могу, до самозабвения, до полнейшего упадка сил, увлекаться так называемой общественной деятельностью…»
Он сурово осуждал русскую интеллигенцию, и прежде всего с практической точки зрения. Он говорил, что ее вечный протест, обусловленный только «нервическим раздражением» или «лирическим отношением к вещам», бессилен, не ведет к цели, ибо пафос сам по себе не есть какая-либо сущность, а только форма проявления, сущностью же всякой борьбы является личное религиозно-философское убеждение протестующего и затем — понимание исторической действительности. Первое, что нужно русскому интеллигенту, говорил он, это проникнуться учением Христа, «который костью стал в горле господ Михайловских», без чего невозможна религиозная культура личности, а второе — глубокая и серьезная культура и исторический такт. Он говорил: «Всякие „Забытые слова“ оттого ведь и забываются столь быстро и часто, что мы их воспринимаем лишь нервами… Несчастье нашего поколения заключается в том, что у него совершенно отсутствовал интерес к религии, к философии, к искусству и до сих пор отсутствует свободно развитое чувство, свободная мысль… Людям, кроме политических форм и учреждений, нужен „дух“, вера, истина, бог… Ты скажешь: а все же умели умирать за идею! Ах, легче умереть, нежели осуществить! Односторонне протестующее общество даже в случае победы может принести более зла, нежели добра… О, горек, тысячу раз горек деспотизм, но он отнюдь не менее горек, если проистекает от „Феденьки“, а не от Победоносцевых. Воображаю, что натворили бы „Феденьки“ на месте Победоносцевых! Что до нашего отношения к народу, то и тут не нужно никакой нормы, кроме той нравственной нормы, которою вообще должны определяться отношения между людьми, то есть закона любви, установленного Христом…»
«Мне думается, — писал он в своей записной книжке, возражая Толстому, последователем которого он был во многом, — я думаю, что раздать имение нищим — не вся правда. Нужно, чтобы во мне и в детях моих сохранилось то, что есть добро: знание, образованность, целый ряд истинно хороших привычек, а это все большей частью требует не одной головной передачи, а наследственной. Отдавши имение, отдам ли я действительно все, чем я обязан людям? Нет, благодаря чужому труду, я, кроме имения, обладаю еще многим другим и этим многим должен делиться с ближним, а не зарывать его в землю…»
Вообще безусловное понимание истины и условное осуществление ее — один из заветных тезисов Эртеля. Всем существом он чувствовал, что прямолинейная принципиальность холодна, мертвенна, что теплота жизни только в компромиссе, что полное самоотречение такая же нелепость, как и всякое безусловное осуществление истины. «Любить одинаково своего ребенка и чужого — противоестественно. Достаточно, если твое личное чувство не погашает в тебе справедливости, которая не позволяет зарезать чужого ребенка ради удобства своего. Норма в той середине, где росток личной жизни цветет и зреет в полной силе, не заглушая вместе с тем любви ко всему живущему…»
Умер этот удивительный по своей кипучей внутренней и внешней деятельности, по свободе и ясности ума и широте сердца человек слишком рано — всего 52 лет от роду. И перед смертью уже глубоко верил, что «смысл всех земных страданий открывается там». В отрочестве он пережил пору страстного религиозного чувства. Затем эти чувства сменились «сомнениями, попытками утвердить, на месте все растущего неверия, веру в добро, в революционные и народнические учения, в учение Толстого… Но неизменно все перемешалось в моей натуре». Он во многом и навсегда остался «другом всяческих свобод» и вообще интеллигентом своего времени. И все-таки жизнь являлась ему «все в новом и новом освещении». Добро? Но оказалось, что слово это «звучало слишком пусто» и что нужно было «хорошенько подумать над ним». Народничество? Но оказалось, что «народнические грезы суть грезы, и больше ничего… Вот организовать (вне всякой политики) какой-нибудь огромный союз образованных людей с целью помощи всяческим крестьянским нуждам — это другое дело… Русскому народу и его интеллигенции, прежде всяких попыток осуществления „царства божия“, предстоит еще создать почву для такого царства, словом и делом водворять сознательный и твердо поставленный культурный быт… Социализм? Но не думаешь ли ты, что он может быть только у того народа, где проселочные дороги обсажены вишнями и вишни бывают целы? <…> Революция? Но к революции в смысле насилия я чувствую органическое отвращение… <…> Ведь еще Герцен сказал, что иные вещи несравненно более жалко терять, нежели иных людей… Толстой? Но всех загнать в Фиваиду — значит оскопить и обесцветить жизнь… Нельзя всем предписать земледельческий труд, жестокое непротивление злу, самоотречение до уничтожения личности… Сводить всю свою жизнь до роли „самаритянской“ я не хочу… Не было бы тени — не было бы борьбы, а что же прекраснее борьбы! Народ? Я долго писал о нем, обливаясь слезами…» Но идут годы — и что же говорит этот народолюбец? «Нет, никогда еще я так не понимал некрасовского выражения „любя ненавидеть“, как теперь, купаясь в аду подлинной, а не абстрагированной народной действительности, в прелестях русского неправдоподобно жестокого быта… <…> Безверие? Но человек без религии существо жалкое и несчастное… Золотые купола и благовест — форма великой сущности, живущей в каждой человеческой душе…» И вот — последние признания, незадолго до смерти:
«Страшные тайны бога недоступны моему рассудочному пониманию…»
«Верую, что смысл жизненных страданий и смерти откроется там…»
«Горячо верую, что жизнь наша не кончается здесь и что в той жизни будет разрешение всех мучительных загадок и тайн человеческого существования…»
1929
Волошин
Максимилиан Волошин был одним из наиболее видных поэтов предреволюционных и революционных лет России и сочетал в своих стихах многие весьма типичные черты большинства этих поэтов: их эстетизм, снобизм, символизм, их увлечение европейской поэзией конца прошлого изначала нынешнего века, их политическую «смену вех» (в зависимости от того, что было выгоднее в ту или иную пору); был у него и другой грех: слишком литературное воспевание самых страшных, самых зверских злодеяний русской революции.
После его смерти появилось немало статей о нем, но сказали они, в общем, мало нового, мало дали живых черт его писательского и человеческого облика, некоторые же просто ограничились хвалами ему да тем, что пишется теперь чуть не поголовно обо всех, которые в стихах и прозе касались русской революции: возвели и его в пророки, в провидцы «грядущего русского катаклизма», хотя для многих из таких пророков достаточно было в этом случае только некоторого знания начальных учебников русской истории. Наиболее интересные замечания о нем я прочел в статье А. Н. Бенуа, в «Последних новостях»:
«Его стихи не внушали того к себе доверия, без которого не может быть подлинного восторга. Я „не совсем верил“ ему, когда по выступам красивых и звучных слов он взбирался на самые вершины человеческой мысли… Но влекло его к этим восхождениям совершенно естественно, и именно слова его влекли… Некоторую иронию я сохранил в отношении к нему навсегда, что ведь не возбраняется и при самой близкой и нежной дружбе… Близорукий взор, прикрытый пенсне, странно нарушал все его „зевсоподобие“, сообщая ему что-то растерянное и беспомощное… что-то необычайно милое, подкупающее…»
<…>
Я лично знал Волошина со времен довольно давних, но до наших последних встреч в Одессе, зимой и весной девятнадцатого года, не близко.
Помню его первые стихи, — судя по ним, трудно было предположить, что с годами так окрепнет его стихотворный талант, так разовьется внешне и внутренне. Тогда были они особенно характерны для его «влечения к словам»:
Мысли с рыданьями ветра сплетаются, Поезд гремит, перегнать их старается, Так вот в ушах и долбит и стучит это: Титата, тотата, татата, титата… Из страны, где солнца свет Льется с неба, жгуч и ярок, Я привез себе в подарок Пару звонких кастаньет… Склоняясь ниц, овеян ночи синью, Доверчиво ищу губами я Сосцы твои, натертые полынью, О мать-земля!Помню наши первые встречи, в Москве. Он уже был тогда заметным сотрудником «Весов», «Золотого руна». Уже и тогда очень тщательно «сделана» была его наружность, манера держаться, разговаривать, читать. Он был невысок ростом, очень плотен, с широкими и прямыми плечами, с маленькими руками и ногами, с короткой шеей, с большой головой, темно-рус, кудряв и бородат: из всего этого он, невзирая на пенсне, ловко сделал нечто довольно живописное на манер русского мужика и античного грека, что-то бычье и вместе с тем круторого-баранье. Пожив в Париже, среди мансардных поэтов и художников, он носил широкополую черную шляпу, бархатную куртку и накидку, усвоил себе в обращении с людьми старинную французскую оживленность, общительность, любезность, какую-то смешную грациозность, вообще что-то очень изысканное, жеманное и «очаровательное», хотя задатки всего этого действительно были присущи его натуре. Как почти все его современники-стихотворцы, стихи свои он читал всегда с величайшей охотой, всюду где угодно и в любом количестве, при малейшем желании окружающих. Начиная читать, тотчас поднимал свои толстые плечи, свою и без того высоко поднятую грудную клетку, на которой обозначались под блузой почти женские груди, делал лицо олимпийца, громовержца и начинал мощно и томно завывать. Кончив, сразу сбрасывал с себя эту грозную и важную маску: тотчас же опять очаровательная и вкрадчивая улыбка, мягко, салонно переливающийся голос, какая-то радостная готовность ковром лечь под ноги собеседнику — и осторожное, но неутомимое сладострастие аппетита, если дело было в гостях, за чаем или ужином… Помню встречу с ним в конце 1905 года, тоже в Москве. Тогда чуть не все видные московские и петербургские поэты вдруг оказались страстными революционерами, — при большом, кстати сказать, содействии Горького и его газеты «Борьба», в которой участвовал сам Ленин. Это было во время первого большевистского восстания, Горький крепко сидел в своей квартире на Воздвиженке, никогда не выходя из нее ни на шаг, день и ночь держал вокруг себя стражу из вооруженных с ног до головы студентов-грузин, всех уверяя, будто на него готовится покушение со стороны крайних правых, но вместе с тем день и ночь принимал у себя огромное количество гостей, — приятелей, поклонников, «товарищей» и сотрудников этой «Борьбы», которую он издавал на средства некоего Скирмунта и которая сразу же пленила поэта Брюсова, еще летом того года требовавшего водружения креста на св. Софии и произносившего монархические речи, затем Минского с его гимном: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — и немало прочих. Волошин в «Борьбе» не печатался, но именно где-то тут, — не то у Горького, не то у Скирмунта, — услышал я от него тоже совсем новые для него песни:
Народу русскому: я скорбный Ангел Мщенья! Я в раны черные, в распахнутую новь Кидаю семена. Прошли века терпенья, И голос мой — набат! Хоругвь моя, как кровь!Помню еще встречу с его матерью, — это было у одного писателя, я сидел за чаем как раз рядом с Волошиным, как вдруг в комнату быстро вошла женщина лет пятидесяти, с седыми стрижеными волосами, в русской рубахе, в бархатных шароварах и сапожках с лакированными голенищами, и я чуть не спросил именно у Волошина, кто эта смехотворная личность? Помню всякие слухи о нем: что он, съезжаясь за границей с своей невестой, назначает ей первые свидания непременно где-нибудь на колокольне готического собора; что, живя у себя в Крыму, он ходит в одной «тунике», проще говоря, в одной длинной рубахе без рукавов, <что> очень, конечно, смешно при его толстой фигуре и коротких волосатых ногах… К этой поре относится та автобиографическая заметка его, автограф которой был воспроизведен в «Книге о русских поэтах» и которая случайно сохранилась у меня до сих пор, — строки местами тоже довольно смешные:
«Не знаю, что интересно в моей жизни для других. Поэтому перечислю лишь то, что было важно для меня самого.
Я родился в Киеве 16 мая 1877 года, в день Святого Духа.
События жизни исчерпываются для меня странами, книгами и людьми.
Страны: первое впечатление — Таганрог и Севастополь сознательное бытие — окраины Москвы, Ваганьково кладбище, машины и мастерские железной дороги; отрочество — леса под Звенигородом; пятнадцати лет — Коктебель в Крыму, — самое ценное и важное на всю, жизнь; двадцати трех — Среднеазиатская пустыня — пробуждение самопознания; затем Греция и все побережья и острова Средиземного моря — в них обретенная родина духа; последняя ступень — Париж — сознание ритма и формы.
Книги-спутники: Пушкин и Лермонтов с пяти лет; с семи Достоевский и Эдгар По; с тринадцати Гюго и Диккенс; с шестнадцати Шиллер, Гейне, Байрон; с двадцати четырех французские поэты и Анатоль Франс; книги последних лет: Багават-Гита, Малларме, Поль Клодель, Анри де Ренье, Вилье де Лилль Адан, — Индия и Франция.
Люди: лишь за последние годы они стали занимать в жизни больше места, чем страны и книги. Имена их не назову…
Стихи я начал писать тринадцати лет, рисовать двадцати четырех…»
В ту пору всюду читал он и другое свое прославленное стихотворение из времен французской революции, где тоже немало ударно-эстрадных слов:
Это гибкое, страстное тело Растоптала ногами толпа мне…Потом было слышно, что он участвует в антропософского храма…
Зимой девятнадцатого года он приехал в Одессу из Крыма, по приглашению своих друзей Цетлиных, у которых и остановился. По приезде тотчас же проявил свою обычную деятельность, — выступал с чтением своих стихов в Литературно-художественном кружке, затем в одном частном клубе, где почти все проживавшие тогда в Одессе столичные писатели читали за некоторую плату свои произведения среди пивших и евших в зале перед ними «недорезанных буржуев»… Читал он тут много новых стихов о всяких страшных делах и людях как древней России, так и современной, большевистской. Я даже дивился на него — так далеко шагнул он вперед и в писании стихов, и в чтении их, так силен и ловок стал и в том и в другом, но слушал его даже с некоторым негодованием; какое, что называется, «великолепное», самоупоенное и, по обстоятельствам места и времени, кощунственное словоизвержение! — и, как всегда, все спрашивал себя: на кого же в конце концов похож он? Вид как будто грозный, пенсне строго блестит, в теле все как-то поднято, надуто, концы густых волос, разделенных на прямой пробор, завиваются кольцами, борода чудесно круглится, маленький ротик открывается в ней так изысканно, а гремит и завывает так гулко и мощно… Кряжистый мужик русских крепостных времен? Приап? Кашалот? — Потом мы встретились на вечере у Цетлиных, и опять это был «милейший и добрейший Максимилиан Александрович». Присмотревшись к нему, увидал, что наружность его с годами уже несколько огрубела, отяжелела, но движения по-прежнему легки, живы; когда перебегает через комнату, то перебегает каким-то быстрым и мелким аллюром, говорит с величайшей охотой и много, весь так и сияет общительностью, благорасположением ко всему и ко всем, удовольствием от всех и от всего — не только от того, что окружает его в этой светлой, теплой и людной столовой, но даже как бы ото всего того огромного и страшного, что совершается в мире вообще и в темной, жуткой Одессе в частности, уже близкой к приходу большевиков. Одет при этом очень бедно — так уж истерта его коричневая бархатная блуза, так блестят черные штаны и разбиты башмаки… Нужду он терпел в ту пору очень большую. Дальше беру (в сжатом виде) кое-что из моих тогдашних заметок:
— Французы бегут из Одессы, к ней подходят большевики. Цетлины садятся на пароход в Константинополь. Волошин остается в Одессе, в их квартире. Очень возбужден, как-то особенно бодр, легок. Вечером встретил его на улице: «Чтобы не быть выгнанным, устраиваю в квартире Цетлиных общежитие поэтов и поэтесс. Надо действовать, не надо предаваться унынию!»
— Волошин часто сидит у нас по вечерам. По-прежнему мил, оживлен, весел. «Бог с ней, с политикой, давайте читать друг другу стихи!» Читает, между прочим, свои «Портреты». В портрете Савинкова отличная черта — сравнение его профиля с профилем лося.
Как всегда, говорит без умолку, затрагивая множество самых разных тем, только делая вид, что интересуется собеседником. Конечно, восхищается Блоком, Белым и тут же Анри де Ренье, которого переводит.
Он антропософ, уверяет, будто «люди суть ангелы десятого круга», которые приняли на себя облик людей вместе со всеми их грехами, так что всегда надо помнить, что в каждом самом худшем человеке сокрыт ангел…
— Спасаем от реквизиции особняк нашего друга, тот, в котором живем, — Одесса уже занята большевиками. Волошин принимает в этом самое горячее участие. Выдумал, что у нас будет «Художественная неореалистическая школа». Бегает за разрешением на открытие этой школы, в пять минут написал для нее замысловатую вывеску. Сыплет сентенциями: «В архитектуре признаю только готику и греческий стиль. Только в них нет ничего, что украшает».
— Одесские художники, тоже всячески стараясь спастись, организуются в профессиональный союз вместе с малярами. Мысль о малярах подал, конечно, Волошин. Говорит с восторгом: «Надо возвратиться к средневековым цехам!»
— Заседание (в Художественном кружке) журналистов, писателей, поэтов и поэтесс, тоже «по организации профессионального союза». Очень людно, много публики и всяких пишущих, «старых» и молодых. Волошин бегает, сияет, хочет говорить о том, что нужно и пишущим объединиться в цех. Потом, в своей накидке и с висящей за плечом шляпой, — ее шнур прицеплен к крючку накидки, — быстро и грациозно, мелкими шажками выходит на эстраду: «Товарищи!» Но тут тотчас же поднимается дикий крик и свист: буйно начинает скандалить орава молодых поэтов, занявших всю заднюю часть эстрады: «Долой! К черту старых, обветшалых писак! Клянемся умереть за Советскую власть!» Особенно бесчинствуют Катаев, Багрицкий, Олеша. Затем вся орава «в знак протеста» покидает зал. Волошин бежит за ними — «они нас не понимают, надо объясниться!» <…>
— Помогают Волошину пробраться в Крым еще и через «морского комиссара и командующего черноморским флотом» Немица, который, по словам Волошина, тоже порт, «особенно хорошо пишет рондо и триолеты». Выдумывают какую-то тайную большевистскую миссию в Севастополь. Беда только в том, что ее не на чем послать: весь флот Немица состоит, кажется, из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлешь…
Если считать по новому стилю, он уехал из Одессы (на этом самом дубке) в начале мая. Уехал со спутницей, которую называл Татидой. Вместе с нею провел у нас последний вечер, ночевал тоже у нас. Провожать его было все-таки грустно. Да и все было грустно: сидели мы в полутьме, при самодельном ночнике, — электричества не позволяли зажигать, — угощали отъезжающих чем-то очень жалким. Одет он был уже по-дорожному — матроска, берет. В карманах держал немало разных спасительных бумажек, на все случаи: на случай большевистского обыска при выходе из одесского порта, на случай встречи в море с французами или добровольцами, — до большевиков у него были в Одессе знакомства и во французских командных кругах, и в добровольческих. Все же все мы, в том числе и он сам, были в этот вечер далеко не спокойны: бог знает, как-то сойдет это плавание на дубке до Крыма… Беседовали долго и на этот раз почти во всем согласно, мирно. В первом часу разошлись наконец: на рассвете наши путешественники должны были быть уже на дубке. Прощаясь, взволновались, обнялись. Но тут Волошин почему-то неожиданно вспомнил, как он однажды зимой сидел с Алексеем Толстым в кофейне Робина, как им вдруг пришло в голову начать медленно, но все больше и больше — и притом, с самыми серьезными, почти зверскими лицами, — надуваться, затем так же медленно выпускать дыхание и как вокруг них начала собираться удивленная, не понимающая, в чем дело, публика. Потом очень хорошо стал изображать медвежонка…
С пути он прислал нам открытку, писанную 16 мая в Евпатории:
«Пока мы благополучно добрались до Евпатории и второй день ждем поезда. Мы пробыли день на Кинбурнской Косе, день в Очакове, ожидая ветра, были дважды останавливаемы французским миноносцем, болтались ночь без ветра, во время мертвой зыби, были обстреляны пулеметным огнем под Ак-Мечетью, скакали на перекладных целую ночь по степям и гниющим озерам, а теперь застряли в грязнейшей гостинице, ожидая поезда. Все идет не скоро, но благополучно. Масса любопытнейших человеческих документов… Очень приятно вспоминать последний вечер, у вас проведенный, который так хорошо закончил весь нехороший одесский период».
В ноябре того же года пришло еще одно письмо от него, из Коктебеля. Привожу его начало:
«Большое спасибо за ваше письмо: как раз эти дни все почему-то возвращался мысленно к вам, и оно пришло как бы ответом на мои мысли.
Мои приключения только и начались с выездом из Одессы. Мои большевистские знакомства и встречи развивались по дороге от матросов-разведчиков до „командарма“, который меня привез в Симферополь в собственном вагоне, оказавшись моим старым знакомым.
Потом я сидел у себя в мастерской под артиллерийским огнем: первый десант добровольцев был произведен в Коктебеле, и делал его „Кагул“, со всею командой которого я был дружен по Севастополю: так что их первый визит был на мою террасу.
Через три дня после освобождения Крыма я помчался в Екатеринодар спасать моего друга генерала Маркса, несправедливо обвиненного в большевизме, которому грозил расстрел, и один, без всяких знакомств и связей, добился-таки его освобождения. Этого мне не могут простить теперь феодосийцы, и я сейчас здесь живу с репутацией большевика, и на мои стихи смотрят как на большевистские.
Кстати: первое издание „Демонов глухонемых“ распространялось в Харькове большевистским „Центрагом“, а теперь ростовский (добровольческий) „Осваг“ взял у меня несколько стихотворений из той же книги для распространения на летучках. Только в июле месяце я наконец вернулся домой и сел за мирную работу…
Работаю исключительно над стихами. Все написанные летом я переслал Гроссману для одесских изданий. Поэтому относительно моих стихотворений на общественные темы спросите его, а я посылаю вам пока для „Южного слова“ два прошлогодних, лирических, еще нигде не появлявшихся, и две небольшие статьи: „Пути России“ и „Самогон крови“. Сейчас уже два месяца работаю над большой поэмой о св. Серафиме, весь в этом напряжении и неуверенности, одолею ли эту грандиозную тему.
Он должен составить диптих с „Аввакумом“.
Зимовать буду в Коктебеле: этого требует и работа личная, и сумасшедшие цены, за которыми никакие гонорары угнаться не могут. Кстати, о гонораре: теперь я получаю за стихи десять рублей за строку, а статьи по три за строку. Это минимум, поэтому, если „Южное слово“ за стихи заплатит больше, я не откажусь.
Мне бы очень хотелось, И. А., чтобы вы прочли все мои новые стихи, что у Гроссмана: я в них сделал попытку подойти более реалистически к современности (в цикле „Личины“, стих. „Матрос“, „Красногвардеец“, „Спекулянт“ и т. д.), и мне бы очень хотелось знать ваше мнение.
Я еще до сих пор переполнен впечатлениями этой зимы, весны и лета: мне действительно удалось пересмотреть всю Россию во всех ее партиях, и с верхов и до низов. Монархисты, церковники, эсеры, большевики, добровольцы, разбойники… Со всеми мне удалось провести несколько интимных часов в их собственной обстановке…»
Это письмо было для меня последней вестью о нем.
<…>
1930
«Третий Толстой»
«Третий Толстой» — так нередко называют в Москве недавно умершего там автора романов «Петр Первый», «Хождения по мукам», многих комедий, повестей и рассказов, известного под именем графа Алексея Николаевича Толстого: называют так потому, что были в русской литературе еще два Толстых — граф Алексей Константинович Толстой, поэт и автор романа из времен царя Ивана Грозного «Князь Серебряный», и граф Лев Николаевич Толстой. Я довольно близко знал этого Третьего Толстого в России и в эмиграции.
<…>
В эмиграции, говоря о нем, часто называли его то пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и ласково, Алешей, и почти все забавлялись им: он был веселый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений, восхитительный в своей откровенности циник; был наделен немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дураковатым и беспечным шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, все русское знал и чувствовал, как очень немногие… Вел он себя в эмиграции нередко и впрямь «Алешкой», хулиганом, был частым гостем у богатых людей, которых за глаза называл сволочью, и все знали это и все-таки прощали ему: что ж, мол, взять с Алешки! По наружности он был породист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенсне при слегка откинутой голове весьма помогало ему иметь в случаях надобности высокомерное выражение; одет и обут он был всегда дорого и добротно, ходил носками внутрь, — признак натуры упорной, настойчивой, — постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, все меняя выражение лица, то бормотал, то кричал тонким бабьим голосом, иногда, в каком-нибудь «салоне», сюсюкал, как великосветский фат, хохотал чаще всего как-то неожиданно, удивленно, выпучивая глаза и давясь, крякая, ел и пил много и жадно, в гостях напивался и объедался, по его собственному выражению, до безобразия, но, проснувшись, на другой день, тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу: работник был он первоклассный.
<…>
Я познакомился с Толстым как раз в те годы, о которых (скорбя по случаю провала «первой революции») так трагически декламировал Блок: «Мы — дети страшных лет России — забыть не можем ничего!» — в годы между этой первой революцией и первой мировой войной. Я редактировал тогда беллетристику в журнале «Северное сияние», который затеяла некая общественная деятельница, графиня Варвара Бобринская. И вот в редакцию этого журнала явился однажды рослый и довольно красивый молодой человек, церемонно представился мне («граф Алексей Толстой») и предложил для напечатания свою рукопись под заглавием «Сорочьи сказки», ряд коротеньких и очень ловко сделанных «в русском стиле», бывшем тогда в моде, пустяков. Я, конечно, их принял, они были написаны не только ловко, но и с какой-то особой свободой, непринужденностью (которой всегда отличались все писания Толстого). Я с тех пор заинтересовался им, прочел его «декадентскую книжку стихов», будто бы уже давно сожженную, потом стал читать все прочие его писания. Тут-то мне и открылось впервые, как разнообразны были они, — как с самого начала своего писательства проявил он великое умение поставлять на литературный рынок только то, что шло на нем ходко, в зависимости от тех или иных меняющихся вкусов и обстоятельств. Революционных стихов его я никогда не читал, ничего не слыхал о них и от самого Толстого: может быть, он пробовал писать и в этом роде, в честь «первой революции», да скоро бросил — то ли потому, что уже слишком скучен показался ему этот род, то ли по той простой причине, что эта революция довольно скоро провалилась, хотя и успели русские мужички-«богоносцы» сжечь и разграбить множество дворянских поместий. Что до «декадентской» его книжки, то я ее читал и, насколько помню, ничего декадентского в ней не нашел; сочиняя ее, он тоже следовал тому, чем тоже увлекались тогда: стилизацией всего старинного и сказочного русского. За этой книжкой последовали его рассказы из дворянского быта, тоже написанные во вкусе тех дней: шарж, нарочитая карикатурность, нарочитые (да и не нарочитые) нелепости. Кажется, в те годы написал он и несколько комедий, приспособленных к провинциальным вкусам и потому очень выигрышных. Он, повторяю, приспособлялся очень находчиво.
<…>
После нашего знакомства в «Северном сиянии» я не встречался с Толстым года два или три: то путешествовал с моей второй женой по разным странам вплоть до тропических, то жил в деревне, а в Москве и в Петербурге бывал мало и редко. Но вот однажды Толстой неожиданно нанес нам визит в той московской гостинице, где мы останавливались, вместе с молодой черноглазой женщиной типа восточных красавиц, Соней Дымшиц, как называли ее все, а сам Толстой неизменно так: «Моя жена, графиня Толстая». Дымшиц была одета изящно и просто, а Толстой каким-то странным важным барином из провинции: в цилиндре и в огромной медвежьей шубе. Я встретил их с любезностью, подобающей случаю, раскланялся с графиней и, не удержавшись от улыбки, обратился к графу:
— Очень рад возобновлению нашего знакомства, входите, пожалуйста, снимайте свою великолепную шубу…
И он небрежно пробормотал в ответ:
— Да, наследственная, остатки прежней роскоши, как говорится…
И вот эта-то шуба, может быть, и была причиной довольно скорого нашего приятельства; граф был человек ума насмешливого, юмористического, наделенный чрезвычайно живой наблюдательностью, поймал, вероятно, мою невольную улыбку и сразу сообразил, что я не из тех, кого можно дурачить. К тому же он быстро дружился с подходящими ему людьми и потому после двух, трех следующих встреч со мной уже смеялся, крякал над своей шубой, признавался мне:
— Я эту наследственность за грош купил по случаю, ее мех весь в гнусных лысинах от моли. А ведь какое барское впечатление производит на всех!
Говоря вообще о важности одежды, он морщился, поглядывая на меня:
— Никогда ничего путного не выйдет из вас в смысле житейском, не умеете вы себя подавать людям! Вот как, например, невыгодно одеваетесь вы. Вы худы, хорошего роста, есть в вас что-то старинное, портретное. Вот и следовало бы вам отпустить длинную узкую бородку, длинные усы, носить длинный сюртук в талию, рубашки голландского полотна с этаким артистически раскинутым воротом, подвязанным большим бантом черного шелка, длинные до плеч волосы на прямой ряд, отрастить чудесные ногти, украсить указательный палец правой руки каким-нибудь загадочным перстнем, курить маленькие гаванские сигаретки, а не пошлые папиросы… Это мошенничество, по-вашему? Да кто ж теперь не мошенничает так или иначе, между прочим и наружностью! Ведь вы сами об этом постоянно говорите! И правда — один, видите ли, символист, другой — марксист, третий — футурист, четвертый — будто бы бывший босяк… И все наряжены: Маяковский носит женскую желтую кофту, Андреев и Шаляпин — поддевки, русские рубахи навыпуск, сапоги с лаковыми голенищами, Блок бархатную блузу и кудри… Все мошенничают, дорогой мой!
Переселившись в Москву и снявши квартиру на Новинском бульваре, в доме князя Щербатова, он в этой квартире повесил несколько старых, черных портретов каких-то важных стариков и с притворной небрежностью бормотал гостям: «Да, все фамильный хлам», — а мне опять со смехом: «Купил на толкучке у Сухаревой башни!»
<…>
Осень, а затем зиму, очень тревожную, со сменой властей, а иногда и с уличными боями, мы и Толстые прожили в Одессе все-таки более или менее сносно, кое-что продавали разным то и дело возникавшим по югу России книгоиздательствам, — Толстой, кроме того, получал неплохое жалованье в одном игорном клубе, будучи там старшиной, — но в начале апреля большевики взяли наконец и Одессу, обративши в паническое бегство французские и греческие воинские части, присланные защищать ее, и Толстые тоже стремительно бежали морем (в Константинополь и дальше), мы же не успели бежать вместе с ними: бежали в Турцию, потом в Болгарию, в Сербию и, наконец, во Францию чуть не через год после того, прожив почти пять несказанно мучительных месяцев под большевиками, освобождены были добровольцами Деникина, — его главная армия чуть не дошла в ту, вторую, осень до Москвы, — но в конце января 1920 года опять чуть не попали под власть большевиков и тут уже навеки простились с Россией.
Почему мы не погибли в Черном море на пути в Константинополь, одному богу ведомо. Мы ушли из города в порт пешком, темным, грязным вечером, когда большевики уже входили в город, и едва втиснулись в несметную толпу прочих беженцев, набившихся в маленький, ветхий греческий пароход «Патрас», а нас было четверо: с нами был знаменитый русский ученый Никодим Павлович Кондаков, грузный старик лет семидесяти пяти, и молодая женщина, бывшая секретарем его и почти нянькой. Шли мы затем до Константинополя двое суток в снежную бурю, капитан «Патраса» был пьяница-албанец, не знавший Черного моря, и, если бы случайно не оказался на «Патрасе» русский моряк, заменивший его, потонул бы «Патрас» со всеми своими несчастными пассажирами непременно. А в Константинополь мы пришли в ледяные сумерки с пронзительным ветром и снегом, пристали под Стамбулом и тут должны были идти под душ в каменный сарай — «для дезинфекции».
Константинополь был тогда оккупирован союзниками, и мы должны были идти в этот сарай по приказу французского доктора, но я так закричал, что мы с Кондаковым «Immortels», «Бессмертные» (ибо мы с Кондаковым были членами Российской императорской Академии), что доктор, вместо того, чтобы сказать нам: «Но тем лучше, вы, значит, не умрете от этого душа», — сдался и освободил нас от него. Зато нас вместе с нашим жалким беженским имуществом покидали по чьему-то приказанию на громадный, грохочущий камион и помчали за Стамбул, туда, где начинаются так называемые Поля Мертвых, и оставили ночевать в какой-то совершенно пустой руине тоже огромного турецкого дома, и мы спали там на полу в полной тьме, при разбитых окнах, а утром узнали, что руина эта еще недавно была убежищем прокаженных, охраняемая теперь великаном-негром, и только к вечеру перебрались в Галету, в помещение уже упраздненного русского консульства, где до отъезда в Софию спали тоже на полу.
Толстой осенью 1919 года, когда в Одессе была власть Деникина, послал мне из Парижа два письма. Он писал очень сердечно:
«Мне было очень тяжело тогда (в апреле) расставаться с Вами. Час был тяжелый. Но тогда точно ветер подхватил нас, и опомнились мы не скоро, уже на пароходе. Что было перетерплено — не рассказать. Спали мы с детьми в сыром трюме рядом с тифозными, и по нас ползали вши. Два месяца сидели на собачьем острову в Мраморном море. Место было красивое, но денег не было. Три неделя ехали мы (потом) в каюте, которая каждый день затоплялась водой из солдатской портомойни, но зато все это искупилось пребыванием здесь (во Франции). Здесь так хорошо, что было бы совсем хорошо, если бы не сознание, что родные наши и друзья в это время там мучаются».
В другом письме он сообщал:
«Милый Иван Алексеевич, князь Георгий Евгеньевич Львов (бывший глава Временного правительства, он сейчас в Париже) говорил со мной о Вас, спрашивал, где Вы и нельзя ли Вам предложить эвакуироваться в Париж. Я сказал, что Вы, по всей вероятности, согласились бы, если бы Вам был гарантирован минимум для жизни вдвоем. Я думаю, милый Иван Алексеевич, что Вам было бы сейчас благоразумно решиться на эту эвакуацию. Минимум Вам будет гарантирован, кроме того, к Вашим услугам журнал „Грядущая Россия“ (начавший выходить в Париже), затем одно огромное издание, куда я приглашен редактором, кроме того, издания Ваших книг по-русски, немецки и английски. Самое же главное, что Вы будете в благодатной и мирной стране, где чудесное красное вино и все, все в изобилии. Если Вы приедете или известите заранее о Вашем приезде, то я сниму виллу под Парижем в Сен-Клу или в Севре с тем расчетом, чтобы Вы с Верой Николаевной поселились у нас. Будет очень, очень хорошо…»
В первом письме были еще такие строки:
«Пришлите, Иван Алексеевич, мне Ваши книги и разрешение для перевода рассказов на французский язык. Ваши интересы я буду блюсти и деньги высылать честно, то есть не зажиливать. В Париже Вас очень хотят переводить, а книг нет… Все это время работаю над романом, листов в 18–20. Написано — одна треть. Кроме того, подрабатываю на стороне и честно и похабно — сценарий… Франция — удивительная, прекрасная страна, с устоями, с доброй стариной, обжилой дом… Большевиков здесь быть не может, что бы ни говорили… Крепко и горячо обнимаю Вас, дорогой Иван Алексеевич…»
Константинополь, Болгария, Сербия, Чехия — всюду в ту пору было полно русскими беженцами. То же было и в Париже. Париж, куда мы приехали в самом конце марта, встретил нас не только радостной красотой своей весны, но и особенным многолюдством русских, многие имена которых были известны не только всей России, но и Европе, — тут были некоторые уцелевшие великие князья, миллионеры из дельцов, знаменитые политические и общественные деятели, депутаты Государственной думы, писатели, художники, журналисты, музыканты, и все были, невзирая ни на что, преисполнены надежд на возрождение России и возбуждены своей новой жизнью и той разнообразной деятельностью, которая развивалась все более и более на всех поприщах. И с кем только не встречались мы чуть не каждый день в первые годы эмиграции на всяких заседаниях, собраниях и в частных домах! Деникин, Керенский, князь Львов, Маклаков, Стахович, Милюков, Струве, Гучков, Набоков, Савинков, Бурцев, композитор Прокофьев, из художников — Яковлев, Малявин, Судейкин, Бакст, Шухаев; из писателей — Мережковские, Куприн, Алданов, Тэффи, Бальмонт. Толстой был прав в письмах ко мне в Одессу — в бездействии и в нужде тут нельзя было тогда погибнуть. Вскоре и мы неплохо устроились материально, а Толстые и того лучше, да и как могло быть иначе? Толстой однажды явился ко мне утром и сказал: «Едем по буржуям собирать деньги; нам, писакам, надо затеять свое собственное книгоиздательство, русских журналов и газет в Париже достаточно, печататься нам есть где, но это мало, мы должны еще и издаваться!» И мы взяли такси, навестили нескольких «буржуев», каждому из них излагая цель нашего визита в нескольких словах, каждым были приняты о отменным радушием, и в три-четыре часа собрали сто шестьдесят тысяч франков, а что это было тридцать лет тому назад! И книгоиздательство мы вскоре основали, и оно было тоже немалым материальным подспорьем не только нам с Толстыми. Но у Толстых была постоянная беда: денег им никогда не хватало. Не раз говорил он мне в Париже:
— Господи, до чего хорошо живем мы во всех отношениях, за весь свой век не жил я так, только вот деньги черт их знает куда страшно быстро исчезают в суматохе…
— В какой суматохе?
— Ну я уж не знаю в какой; главное то, что пустые карманы я совершенно ненавижу, поехать куда-нибудь в город, смотреть на витрины без возможности купить что-нибудь — истинное мучение для меня; покупать я люблю даже всякую совсем ненужную ерунду до страсти! Кроме того, ведь нас пять человек, считая эту эстонку при детях. Вот и надо постоянно ловчиться…
Раз он сказал совсем другое: «А, будь я очень богат, было бы чертовски скучно…» Но пока ловчиться все же было надо, и он ловчился: приехав в Париж, встретил там старого московского друга Крандиевских, состоятельного человека, и при его помощи не только жил первое время, но даже и оделся и обулся с порядочным запасом.
— Я не дурак, — говорил он мне, смеясь, — тотчас накупил себе белья, ботинок, у меня их целых шесть пар и все лучшей марки и на великолепных колодках, заказал три пиджачных костюма, смокинг, два пальто… Шляпы у меня тоже превосходные, на все сезоны…
В надежде на падение большевиков некоторые парижские русские богатые люди и банки покупали в первые годы эмиграции разные имущества эмигрантов, оставшиеся в России, и Толстой продал за восемнадцать тысяч франков свое несуществующее в России имение, и выпучивал глаза, рассказывая мне об этом:
— Понимаете, какая дурацкая история вышла: я все им изложил честь честью, и сколько десятин, и сколько пахотной земли и всяких угодий, как вдруг спрашивают: а где же находится это имение? Я было заметался, как сукин сын, не зная, как соврать, да, к счастью, вспомнил комедию «Каширская старина» и быстро говорю: в Каширском уезде, при деревне Порточки… И, слава богу, продал!
Жили мы с Толстыми в Париже особенно дружно, встречались с ними часто, то бывали они в гостях у наших общих друзей и знакомых, то Толстой приходил к нам с Наташей, то присылал нам записочки в таком, например, роде:
«У нас нынче буйабез от Прьюнье и такое пуи (древнее), какого никто и никогда не пивал, четыре сорта сыру, котлеты от Потэн, и мы с Наташей боимся, что никто не придет. Умоляю — быть в семь с половиной!»
«Может быть, вы и Цетлины зайдете к нам вечерком — выпить стакан доброго вина и полюбоваться огнями этого чудного города, который так далеко виден с нашего шестого этажа. Мы с Наташей к вашему приходу оклеим прихожую новыми обоями…»
Но прошел год, прошел другой, денег не хватало все чаще, и Толстой стал бормотать:
— Совершенно не понимаю, как быть дальше! Сорвал со всех, с кого было можно, уже тридцать семь тысяч франков, — в долг, разумеется, как это принято говорить между порядочными людьми, — теперь бледнеют, когда я вхожу в какой-нибудь дом на обед или на вечер, зная, что я тотчас подойду к кому-нибудь, притворно задыхаясь: тысячу франков до пятницы, иначе мне пуля в лоб!
Наташу Толстую я узнал еще в декабре 1903 года в Москве. Она пришла ко мне однажды в морозные сумерки, вся в инее, — иней опушил всю ее беличью шапочку, беличий воротник шубки, ресницы, уголки губ, — и я просто поражен был ее юной прелестью, ее девичьей красотой и восхищен талантливостью ее стихов, которые она принесла мне на просмотр, которые она продолжала писать и впоследствии, будучи замужем за своим первым мужем, а потом за Толстым, но все-таки почему-то совсем бросила еще в Париже. Она тоже не любила скудной жизни, говорила:
— Что ж, в эмиграции, конечно, не дадут умереть с голоду, а вот ходить оборванной и в разбитых башмаках дадут…
Думаю, что она немало способствовала Толстому в его конечном решении возвратиться в Россию.
Как бы то ни было, летом 1921 года Толстой еще не думал, кажется, не только о России, но и о Берлине. То лето Толстые проводили под Бордо, в небольшом имении, купленном «Земгором» из остатков его общественных средств, и Толстой писал мне оттуда:
«Милые друзья, Иван и Вера Николаевна, было бы напрасно при Вашей недоверчивости уверять Вас, что я очень давно собирался вам писать, но откладывал исключительно по причине того, что напишу завтра… Как вы живете? Живем мы в этой дыре неплохо, питаемся лучше, чем в Париже, и дешевле больше чем вдвое. Если бы были хоть „тительные“ денежки — рай, хотя скучно. Но денег нет совсем, и если ничего не случится хорошего осенью, то и с нами ничего хорошего не случится. Напиши мне, Иван, милый, как наши общие дела? Бог смерти не дает — надо кряхтеть! Пишу довольно много. Окончил роман и переделываю конец. Хорошо было бы, если бы вы оба приехали сюда зимовать, мы бы перезимовали вместе. Дом комфортабельный, и жили бы мы чудесно и дешево, в Париж можно бы наезжать. Подумай, напиши…»
Но к осени ничего хорошего не случилось, не случилось ничего хорошего и с Толстыми. И однажды осенним вечером мы, вернувшись домой, нашли его карточку, на которой были написаны в некотором роде роковые слова:
«Приходил читать роман и проститься».
Следующие письма были уже из Берлина (всюду привожу лишь выдержки):
«16 ноября 1921 г. Милый Иван, приехали мы в Берлин, — боже, здесь все иное. Очень похоже на Россию, во всяком случае очень близко от России. Жизнь здесь приблизительно как в Харькове при гетмане: марка падает, цены растут, товары прячутся. Но есть, конечно, и существенное отличие: там вся жизнь построена была на песке, на политике, на авантюре, — революция была только заказана сверху. Здесь чувствуется покой в массе народа, воля к работе, немцы работают, как никто. Большевизма здесь не будет, это уже ясно. На улице снег, совсем как в Москве в конце ноября, — все черное. Живем мы в пансионе, недурно, но тебе бы не понравилось. Вина здесь совсем нет, это очень большое лишение, а от здешнего пива гонит в сон и в мочу… Здесь мы пробудем недолго и затем едем — Наташа с детьми в Фрейбург, я — в Мюнхен… Здесь вовсю идет издательская деятельность. На марки все это грош, но, живя в Германии, зарабатывать можно неплохо. По всему видно, что у здешних издателей определенные планы торговать книгами с Россией. Вопрос со старым правописанием, очевидно, будет решен в положительном смысле. Скоро, скоро наступят времена полегче наших…»
«Суббота, 21 января 1922 г. Милый Иван, прости, что долго не отвечал тебе, недавно вернулся из Мюнстера и, закружившись, как это ты сам понимаешь, в вихре великосветской жизни, откладывал ответы на письма. Я удивляюсь — почему ты так упорно не хочешь ехать в Германию, на те, например, деньги, которые ты получил с вечера, ты мог бы жить в Берлине вдвоем в лучшем пансионе, в лучшей части города девять месяцев: жил бы барином, ни о чем не заботясь. Мы с семьей, живя сейчас на два дома, проживаем тринадцать-четырнадцать тысяч марок в месяц, то есть меньше тысячи франков. Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето, то есть на самое тяжелое время. В Париже мы бы умерли с голоду. Заработки здесь таковы, что, разумеется, работой в журналах мне с семьей прокормиться трудно, — меня поддерживают книги, но ты одной бы построчной платой мог бы существовать безбедно… Книжный рынок здесь очень велик и развивается с каждым месяцем, покупается все, даже такие книги, которые в довоенное время в России сели бы. И есть у всех надежда, что рынок увеличится продвижением книг в Россию: часть книг уже проникает туда, — не говоря уже о книгах с соглашательским оттенком, проникает обычная литература… Словом, в Берлине сейчас уже около тридцати издательств, и все они, так или иначе, работают… Обнимаю тебя. Твой. А. Толстой».
Очень значительна в этом письме строка: «Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето…» Значит, он тогда еще и не думал о возвращении в Россию. Однако это письмо было уже последним его письмом ко мне.
В последний раз я случайно встретился с ним в ноябре 1936 года, в Париже. Я сидел однажды вечером в большом людном кафе, он тоже оказался в нем, — зачем-то приехал в Париж, где не был со времени отъезда своего сперва в Берлин, потом в Москву, — издалека увидал меня и прислал мне с гарсоном клочок бумажки: «Иван, я здесь, хочешь видеть меня? А. Толстой». Я встал и прошел в ту сторону, которую указал мне гарсон. Он тоже уже шел навстречу мне и, как только мы сошлись, тотчас закрякал своим столь знакомым мне смешком и забормотал. «Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?» — спросил он <…> и с такой же откровенностью, той же скороговоркой и продолжал разговор еще на ходу:
— Страшно рад видеть тебя и спешу тебе сказать, до каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили, ты представить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России…
Я перебил, шутя:
— Как же это с колоколами, ведь они у вас запрещены.
Он забормотал сердито, но с горячей сердечностью:
— Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля… У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету… Ты что ж, воображаешь, что тебе на сто лет хватит твоей Нобелевской премии?
Я поспешил переменить разговор, посидел с ним недолго, — меня ждали те, с кем я пришел в кафе, — он сказал, что завтра летит в Лондон, но позвонит мне утром, чтобы условиться о новой встрече; и не позвонил, — «в суматохе!» — и вышла эта встреча нашей последней. Во многом он был уже не тот, что прежде: вся его крупная фигура похудела, волосы поредели, большие роговые очки заменили пенсне, пить ему было уже нельзя, запрещено докторами, выпили мы с ним, сидя за его столиком, только по одному фужеру шампанского…
1949
Статьи и рецензии
На поучение молодым писателям
Опять и опять прочел недавно, — на этот раз в статье Адамовича, — о разнице между французской и русской душой, о французском умении писать, и о русской в этом смысле отсталости, о ненужности изобразительности (или, как любят теперь говорить, «описательства»), и о том, что многие молодые наши писатели «тратят свои силы попусту, бьются в кругу, в котором после Толстого, собственно, делать нечего»…
«Французские писатели, — говорит Адамович, — уже не прельщаются ни натурализмом, ни „бытовизмом“, которые многим из наших писателей представляются сейчас не только средством, но и целью…»
Правда ли, что так-таки уж все французские писатели не прельщаются «бытовизмом»? Думаю, что неправда, советую хорошенько вспомнить кое-что из появившегося даже за самое последнее время. Правда ли, что многим русским натурализм и «бытовизм» представляются не только средством, но и целью? Опять неправда: большинство зарубежных произведений даже о годах гражданской войны, о беженстве, об эмиграции не «бытовизмом», конечно, продиктованы. Произведения эти могут быть для Адамовича скучны, могут быть отчасти однообразны, — как всюду и всегда однообразны произведения известного времени, будь то время романтическое, символическое, «декадентское» или какое другое, — но ведь это уж другой вопрос; во всяком случае, «бытовизм» даже для советских писателей не представляется целью.
«Французы поняли, что нельзя без конца ставить ставку на внешнюю изобразительность…» Когда именно поняли? «В конце прошлого столетия, когда уже был достигнут в ней некоторый максимум…» Странно, как поздно поняли! Это можно было понять не только после Мопассана, Флобера, Бальзака, но и после Гомера, Данте, изобразительностью, как известно, весьма не брезговавших. Но все равно, — пусть поняли и пусть именно в конце прошлого столетия, когда будто бы вообще «мир преобразился» и пришла всяческая и уже последняя мудрость, без всякого, будто бы, «возврата к прошлому». Дело не в этом. Дело в том, что цитированную фразу надо понимать, очевидно, как самое главное поучение статьи: «Поймите же, наконец, и вы, русские!» Но ах, как старо это поучение! Лет тридцать, по крайней мере, на все и всяческие лады твердят его. Все начало нынешнего столетия твердили — и не без пользы: вспомните-ка тип поэта и прозаика, преобладавший за эти тридцать лет в России. Адамович может сказать: что ж делать, теперь, видно, опять надо начинать сначала! Но, повторяю, я все-таки особой надобности в этом не усматриваю.
Адамович прибавил к слову «изобразительность» слово — «внешняя». Но зачем? Хотел, думаю, только смягчить свою нелюбовь к изобразительности, к «описательству». Но люби, не люби, как все-таки обойтись без этой изобразительности? Нелюбовь эта в моде теперь (в некоторых, разумеется, кружках, особенно среди тех, которые знают свою собственную слабую изобразительность и стараются отделаться «мудростью»). Но как же все-таки обойтись в музыке без звуков, в живописи без красок и без изображения (хотя бы и самого новейшего, нелепейшего) предметов, а в словесности без слова, вещи, как известно, не совсем бесплотной? Это очень старо, но, право, не так уж глупо: «Писатель мыслит образами». Да, и всегда изображает. Разве не изображает даже Достоевский? «Князь весь трясся, он был весь как в лихорадке… Настасья Филипповна вся дрожала, она вся была как в горячке…» Не велика, конечно, изобразительность, а все-таки что же это? Блок писал, что в какой-то «голубой далекой спаленке» какой-то «карлик маленький часы остановил», Белый — что кто-то «хохотал хриплым басом, в небеса запустил ананасом». Уж чего, кажись, новей и независимей от Толстого! А все-таки опять изобразительность.
Адамович в горестном недоумении. «Ну, еще раз будет описана лунная ночь, а дальше что?» Я бы тоже мог недоумевать: ну, еще раз будет сказано про то, что Петербург «призрачный город», или про Медного всадника, или про усталость от бессонных ночей в «Бродячей собаке», а дальше что? Да что толку в нашем недоумении? Ах, ах, еще раз весна и еще один молодой человек на свете, а дальше что? А дальше то, что этому молодому человеку будут в высокой степени безразличны и наши вздохи, и то, что «еще раз» пришла в мир весна и его молодость. Если лунная ночь описана скверно или банально, не будет, конечно, ровно ничего «дальше». А если хорошо, то есть настоящим художником, который, конечно, не фотографией лунной ночи занимается и всегда говорит прежде всего о своей душе, эту ночь так и или иначе воспринимающей, то уж «дальше» непременно что-нибудь будет. Адамовичу, кажется, хочется, чтобы души наши вращались в какой-то чудесной пустоте, где нет ни дня, ни ночи, ни улиц, ни полей, а так только — одни изысканные души.
«Рядом с внешним миром, — говорит Адамович, — есть еще мир внутренний, вполне и безоговорочно бесконечный, вечно меняющийся и вечно новый». Это очень приятно слышать, но кто же это когда отрицал? А потом — что же делать и с этим внутренним миром, без изобразительности, если хочешь его как-то показать, рассказать? Как его описать без описательства? Одними восклицаниями? Нечленораздельными звуками?
Пора бросить идти по следам Толстого? А по чьим же следам надо идти? Например, Достоевского? Но ведь тоже немало шли и идут. Кроме того: неужто уж так беден Толстой и насчет этого самого мира внутреннего? «На Толстом, — говорит Адамович, — не кончается литература — есть и другие выходы…» Это как нельзя более верно, но откуда взял Адамович, будто существует теперь уж такое ужасное засилье Толстого?
Дальше речь идет почему-то обо мне. «Крайне интересно в этом отношении творчество даровитейшего и убежденнейшего из толстовцев, Бунина, особенно поздние его вещи, после „Господина из Сан-Франциско“, все-таки куда-то дальше рвущиеся, как бы изнывающие под тяжестью собственного совершенства…»
Странная речь. Я весьма люблю Толстого, но при чем тут «убежденнейший толстовец»? Что это значит? Я употребляю только его «выходы»? Не больше, чем «выходы» прочих создателей не только русской, но и мировой литературы, имея, впрочем, н некоторые свои собственные, к счастью. Я подражаю ему? Нет, конечно. Похож на него? Ни в малейшей степени. Я «рвусь» куда-то после «Господина из Сан-Франциско»? Конечно, «рвусь», но «рвался» не только после, но и прежде него.
«Внутренний мир, — говорит в конце концов Адамович, — через видимое постигается, но лишь в том случае, когда это видимое не поглощает внимания…» Вот это наконец уже совсем бесспорно. И не лучше ли было бы лишь одно это и сказать, вместо всего прочего? Только даже и это давно всем ведомо. Не ведомо молодым писателям, которых все-таки не мешает поучить?
Но их, по-моему, уж чересчур много учат. Просто задергали. Над ними денно и нощно стонут, подобно чеховской няньке: «Пропали ваши головушки!» И Адамович их за одно журит, а, например, Осоргин за другое, — один за «бытовизм», другой за отсутствие оного:
— Русский язык вы вот-вот забудете…
— Русского быта не знаете…
— «Сюжетная теснота» у вас ужасная…
— Прошли вы все по одной и той же дороге…
— Бедные жертвы безвременья!
— То ли дело было прежде!
А что, собственно, такое было прежде, если говорить о писателях новейшей формации?
По Волге иногда плавали? С извозчиками порой разговаривали? Но неужели все «ледяные походы», все Балканы и вся Европа ничего не значат перед Волгой и извозчиком? Неужели Шекспир неправ был, сказавши, что «домоседная мудрость не далеко ушла от глупости»?
Какой такой особый быт, какую такую особенную Русь познавали прежние молодые писатели в ресторанах «Вена» или «Большой Московский», в «Бродячей Собаке» или в редакции «Русского богатства»?
«Сюжетная теснота»! А вспомните, какая теснота была в «Русских богатствах» — в одном роде, а в «Скорпионах» и «Аполлонах» — в другом!
<1928>
Думая о Пушкине
«Просьба ответить: 1) Каково ваше отношение к Пушкину, 2) прошли ли вы через подражание ему и 3) каково было вообще его воздействие на вас?»
<…>
Вообще давно дивлюсь: откуда такой интерес к Пушкину в последние десятилетия, что общего с Пушкиным у «новой» русской литературы, — можно ли представить себе что-нибудь более противоположное, чем она — и Пушкин, то есть воплощение простоты, благородства, свободы, здоровья, ума, такта, меры, вкуса? Дивлюсь и сейчас, глядя на этот анкетный листок. А потом — какой характерный вопрос: «Каково ваше отношение к Пушкину?»
В одном моем рассказе семинарист спрашивает мужика:
— Ну, а скажи, пожалуйста, как относятся твои односельчане к тебе?
И мужик отвечает:
— Никак они не смеют относиться ко мне.
Вот вроде этого и я мог бы ответить:
— Никак я не смею относиться к нему…
<…>
И все-таки долго сидел, вспоминал, думал. И о Пушкине, и о былой, пушкинской России, и о себе, о своем прошлом…
Подражал ли я ему? Но кто же из нас не подражал? Конечно, подражал и я, — в самой ранней молодости подражал даже в почерке. Потом явно, сознательно согрешил, кажется, только раз. Помню, однажды ночью перечитывал (в который раз?) «Песни западных славян» и пришел в какой-то особенный восторг. Потушив огонь, вспомнил, как год тому назад был в Белграде, как плыл по Дунаю, — и стали складываться стихи «Молодой король»:
То не красный голубь метнулся <…>Затем что еще? Вспоминаю уже не подражания, а просто желание, которое страстно испытывал много, много раз в жизни, желание написать что-нибудь по-пушкински, что-нибудь прекрасное, свободное, стройное, желание, проистекавшее от любви, от чувства родства к нему, от тех светлых (пушкинских каких-то) настроений, что бог порою давал в жизни. Вот, например, прекрасный весенний день, а мы под Неаполем, на гробнице Вергилия, и почему-то я вспоминаю Пушкина, душа полна его веянием — и я пишу:
Дикий лавр, и плющ, и розы <…>А вот другая весна, и опять счастливые, прекрасные дни, а мы странствуем по Сицилии… При чем тут Пушкин? Однако я живо помню, что в какой-то именно связи с ним, с Пушкиным, написал я:
Монастыри в предгориях глухих <…>А вот Помпея, и опять почему-то со мной он, и я пишу в воспоминание не только о Помпее, но как-то и о нем:
Помпея! Сколько раз я проходил <…>А вот лето в псковских лесах, и соприсутствие Пушкина не оставляет меня ни днем, ни ночью, и я пишу стихи с утра до ночи, с таким чувством, точно все написанное я смиренно слагаю к его стопам, в страхе своей недостойности и перед ним, и перед всем тем, что породило нас:
Вдали темно и чащи строги <…>А вот изумительно чудесный летний день дома, в орловской усадьбе. Помню так, точно это было вчера. Весь день пишу стихи. После завтрака перечитываю «Повести Белкина» и так волнуюсь от их прелести и желания тотчас же написать что-нибудь старинное, пушкинских времен, что не могу больше читать. Бросаю книгу, прыгаю в окно, в сад и долго, долго лежу в траве, в страхе и радости ожидая того, что должно выйти из той напряженной, беспорядочной, нелепой и восторженной работы, которой полно сердце и воображение, и чувствуя бесконечное счастье от принадлежности всего моего существа к этому летнему деревенскому дню, к этому саду, ко всему этому родному миру моих отцов и дедов и всех их далеких дней, пушкинских дней… Вышли стихи: «Дедушка в молодости»:
Вот этот дом, сто лет тому назад <…>«Каково было вообще его воздействие на вас?» Да как же это учесть, как рассказать? Когда он вошел в меня, когда я узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил ее небо, воздух, солнце, родных, близких? Ведь он со мной — и так особенно — с самого начала моей жизни. Имя его я слышал с младенчества, узнал его не от учителя, не в школе: в той среде, из которой я вышел, тогда говорили о нем, повторяли его стихи постоянно. Говорили и у нас, — отец, мать, братья. И вот одно из самых ранних моих воспоминаний: медлительное, по-старинному несколько манерное, томное и ласковое чтение матушки: «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том…», «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной…» В необыкновенном обожании Пушкина прошла вся ее молодость, — ее и ее сверстниц. Они тайком переписывали в свои заветные тетрадки «Руслана и Людмилу», и она читала мне наизусть целые страницы оттуда, а ее самое звали Людмилой (Людмилой Александровной), и я смешивал ее, молодую, — то есть воображаемую молодую, — с Людмилой из Пушкина. Ничего для моих детских, отроческих мечтаний не могло быть прекрасней, поэтичней ее молодости и того мира, где росла она, где в усадьбах было столько чудесных альбомов с пушкинскими стихами, и как же было не обожать и мне Пушкина и обожать не просто, как поэта, а как бы еще и своего, нашего?
— «Вчера за чашей пуншевою с гусаром я сидел…» — с ласковой и грустной улыбкой читала она, и я спрашивал:
— С каким гусаром, мама? Дядя Иван Александрович тоже был гусар?
— «Цветок засохший, безуханный, забытый в книге вижу я…» — читала она, и опять это чаровало меня вдвойне: ведь я видел такой же цветок и в альбоме бабушки Анны Ивановны…
А потом — первые блаженные дни юношества, первые любовные и поэтические мечты, первые сознательные восторги от чтения тех очаровательных томиков, которые я брал ведь не из «публичной библиотеки», а из дедовских шкапов и среди которых надо всем царили — «Сочинения А. Пушкина». И вся моя молодость прошла с ним. И то он рождал во мне те или иные чувства, то я неизменно сопровождал рождавшиеся во мне чувства его стихами, больше всего его. Вот я радостно просыпаюсь в морозный день, и как же мне не повторить его стихов, когда в них как раз то, что я вижу: «Мороз и солнце, день чудесный…» Вот я собираюсь на охоту — «и встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю, вопросами: утихла ли метель?». Вот зимний вечер, вьюга — и разве «буря мглою небо кроет» звучит для меня так, как это звучало, например, для какого-нибудь Брюсова, росшего на Трубе в Москве? Вот я сижу в весенние сумерки у раскрытого окна темной гостиной, и опять он со мной, выражает мою мечту, мою мольбу: «О, Делия драгая, спеши, моя краса, звезда любви златая взошла на небеса…» Вот уже совсем темно, и на весь сад томится и цокает соловей, а он спрашивает: «Слыхали ль вы за рощей в чае ночной певца любви, певца своей печали?» Вот я в постели, и горит «близ ложа моего печальная свеча», — а не электрическая лампочка, — и опять его словами изливаю я свою выдуманную юношескую любовь: «Морфей, до утра дай отраду моей мучительной любви!» А наутро чудесный майский день, и весь я переполнен безотчетной радостью жизни, лежу в роще, в пятнах солнечного света, под сладкое пенье птиц, — и читаю строки, как будто для меня и именно обо мне написанные:
В роще сумрачной, тенистой, Где, журча в траве душистой, Светлый бродит ручеек…А там опять «роняет лес багряный свой убор и страждут озими от бешеной забавы» — от той самой забавы, которой с такой страстью предаюсь и я. А вот осенняя, величаво-печальная осенняя ночь и тихо восходит из-за нашего старого сада большая, красновато-мглистая луна: «Как привидение, за рощею сосновой луна туманная взошла», — говорю я его словами, страстно мечтая о той, которая где-то там, в иной, далекой стране, идет в этот час «к брегам, потопленным шумящими волнами» — и как я могу определить теперь: бог посылал мне мою тогдашнюю муку по какому-то прекрасному и печальному женскому образу или он, Пушкин?
А потом первые поездки на Кавказ, в Крым, где он — или я? — «среди зеленых волн, лобзающих Тавриду», видел Нереиду на утренней заре, видел «деву на скале, в одежде белой над волнами, когда, бушуя, в бурной мгле, играло море с берегами» — и незабвенные воспоминания о том, как когда-то и мой конь бежал «в горах, дорогою прибрежной», в тот «безмятежный» утренний час, когда «все чувство путника манит» -
И зеленеющая влага Пред ним и плещет и шумит Вокруг утесов Аю-Дага…<1926>
Конец Мопассана
Мопассан скончался в Париже, в лечебнице доктора Бланш, тридцать пять лет тому назад.
Литературное и светское общество того времени было чрезвычайно взволновано этой смертью и всем тем, что ей предшествовало.
Взволновано, главным образом, потому, что обстоятельства болезни знаменитого писателя содержались в глубокой тайне.
Рассказывали тысячи небылиц, объявляли Мопассана сумасшедшим задолго до того, как он стал им, даже присылали ему на Ривьеру, куда послали его врачи, вырезки из газет, где говорилось, будто он уже сидит в сумасшедшем доме, распускали слухи, что «этот кумир женщин, певец радости жизни», лижет стены своей камеры, находится в состоянии полного идиотизма. Потом всеми способами пытались проникнуть к нему в лечебницу…
Что происходило на самом деле? Как провел последний год своей жизни этот «воплощенный идеал своей эпохи», как называли его многие? Что такое было его таинственное безумие? Откуда было оно у этого сильного, жизнерадостного человека, неутомимого спортсмена, неутомимого любовника?
Жорж Норманди впервые открывает нам тайну последних дней Мопассана в своей новой книге о нем.
Мать Мопассана, Лора де Мопассан, о которой Норманди говорит, что она достойна разделить славу своего сына, так как это она развила и воспитала в нем его замечательные качества и любовь к литературе, всю жизнь страдала таинственной болезнью, мало известной в то время и теперь именующейся базедовой. Признаки этой болезни выражаются в увеличении сердца, глаз, шеи и «делают взгляд блестящим и неподвижным, а выражение лица трагическим».
Болезнь эта делает нервную систему необычайно чувствительной, парализует мускулы лица и глаз, делает больного раздражительным, неспособным долго оставаться на одном месте, бывает причиной сильных головных болей, нарушает все главные отправления организма.
Об отце, Густаве де Мопассан, известно очень мало. Он скончался в параличе, глубоким стариком, в Сент-Максиме. Брат Мопассана, Эрвье, в цвете сил и здоровья внезапно заболевает (от солнечного удара, по уверению родителей) и через несколько месяцев умирает в доме для умалишенных. Смерть эта производит сильное впечатление на Мопассана — в лечебнице доктора Бланш, в бреду, он постоянно возвращается к покойнику брату, к его могиле.
Остается дядя по матери, Альфред де Пуаттевен, необычайное сходство с которым Мопассана обращает всеобщее внимание.
Сходство это так велико, что Флобер пишет его матери, подруге своего детства: «Несмотря на разницу в нашем возрасте, я вижу в твоем сыне „друга“. К тому же он так напоминает мне моего бедного Альфреда! Меня иногда потрясает это сходство, особенно когда он опускает голову, читая стихи».
Норманди говорит больше:
«Есть какой-то ужасный рок в том, что малоизвестная жизнь Альфреда де Пуаттевен есть как бы точный эскиз славной жизни Мопассана, который и физически поразительно походит на своего дядю». Жизнь Альфреда была в высшей степени мучительна своей нервностью, постоянным самоанализом, раздвоением, невероятной чувствительностью, раздираема самолюбием и непомерной гордостью, «этим великолепным недостатком всего его рода», отличалась беспорядочностью, неумеренностью, «эксцессами всякого рода», дебошами и оргиями.
Такова наследственность Мопассана.
Был ли он болен базедовой болезнью?
Этот вопрос ставится неоднократно, но, однако, точного ответа на него врачи не дают.
А меж тем известно, что, несмотря на свою великолепно здоровую внешность, на необычайную выносливость в труде и спорте и неутомимость в любви, он уже в молодости страдает непонятными головными болями, бессонницами и что с 1880 года у него проявляется странная болезнь глаз, «невольно заставляющая вспоминать о тех временах, когда его. мать была осуждена врачами жить в темноте, так как малейший свет заставлял ее кричать от боли». В 1885 году правый глаз Мопассана не может уже переносить минутного напряжения, пищеварение сопровождается сильнейшими болями в пояснице, нервными сердцебиениями, приливами крови к голове; во время приступа мигрени поверхность его рук, так же, как и спина, теряет чувствительность, и все это опять очень сходится с некоторыми проявлениями болезни Лоры Мопассан.
И вот эта блестящая, с виду такая счастливая, а на самом деле мучительная жизнь, в которой сроки здоровья все сокращаются, приходит к концу.
Мопассан на Ривьере, в Каннах, куда отослали его врачи. Силы его на исходе. Он напрасно пытается продолжать роман «Angelus», которому не суждено двинуться дальше пятидесятой страницы. Он уже чувствует, что «мысль понемногу уходит из его мозга, утекает, как вода из сита…». С ним происходят странные вещи: выйдя на прогулку, он встречает по дороге в Грасс, у кладбища, привидение, после завтрака ему кажется, что рыба, которую он только что съел, «вошла ему в легкие и что он может умереть от этого…». Он борется с туманом, все чаще и гуще заволакивающим его сознание, пытается успокоить мать, живущую в Ницце, молча терпит выходки друзей и врагов, на все лады печатно и устно провозглашающих его сумасшедшим, пишет завещание…
Тридцать первого декабря 1891 года солнце заходит за Эстерель среди особенного великолепия.
— Я никогда не видел подобной феерии в небе! — задумчиво говорит Мопассан своему слуге Франсуа, любуясь закатом. — Это настоящая кровь…
На другой день он встает в семь часов, собираясь ехать с утренним поездом к матери в Ниццу. Но во время бритья испытывает странное недомоганье — ему кажется, что глаза его что-то застилает. Он готов отказаться от поездки, говорит об этом Франсуа, но тот успокаивает его, приносит ему обычный завтрак — чай и два яйца.
После завтрака ему лучше, он просматривает множество полученных писем и бормочет:
— Пожеланья, все пожеланья!
Поздравление матросов с «Бель-Ами» трогает его гораздо больше. Он выходит к ним, долго и дружески разговаривает с ними. В десять часов он решает ехать.
— Иначе мать подумает, что я болен…
Он поехал с Франсуа. В пути не отрывает взгляда от зелено-голубого, блещущего моря, говорит: великолепная погода для прогулки на яхте!
За завтраком у матери он, по словам Франсуа, спокоен, ест с большим аппетитом. Г-жа Мопассан, напротив, находит, что сын ее очень возбужден. Он с чрезмерной порывистостью обнял ее при встрече, благодаря ему настроение за столом несколько повышенное. По утверждению постоянного домашнего врача г-жи Мопассан, он бредит во время завтрака, говорит о каком-то событии, о котором он будто бы предупрежден посредством «пилюли»… Заметив общее удивление, он, однако, спохватывается и сидит до конца завтрака грустный.
Франсуа рассказывает, что он и его господин мирно уехали в четыре часа домой, что, вернувшись к себе, Мопассан надел шелковую рубашку, чтобы чувствовать себя свободнее, и, видимо, довольный тем, что находится у себя, один, пообедал, как обычно. Г-жа Мопассан, напротив, говорит, что сын обедал у нее и что среди обеда она с ужасом заметила, что он бредит. Она пробовала уговорить его лечь в постель и остаться ночевать у нее, он отвечал, что ему непременно надо в Канны. В конце концов, забыв собственную болезнь, потрясенная его безумным видом, она охватила его ноги, стала молить пощадить ее старость, не уходить в таком состоянии, остаться… Не слушая, должно быть, не сознавая, кто с ним, занятый своими видениями, он оттолкнул ее и, что-то бормоча, шатаясь, едва держась на ногах, бросился вон и исчез в ночной темноте…
Как бы то ни было, он наконец дома. Франсуа приносит ему на ночь чашку ромашки. Он жалуется на сильные боли в спине, на нервность. Франсуа ставит ему банки, и он успокаивается. В половине двенадцатого он в постели. Франсуа, заметив, что он закрыл глаза, на цыпочках удаляется. Но тут вскоре звонок на крыльце: какая-то таинственная телеграмма. Однако Франсуа не решается беспокоить своего крепко спящего господина. В два без четверти он вскакивает, разбуженный страшным шумом, доносящимся из комнаты Мопассана. Он бросается туда. Мопассан поворачивается к нему, бледный, с трясущимися руками, с окровавленным горлом:
— Взгляните, Франсуа, что я сделал! Я перерезал себе горло… Это уже чистое безумие…
Франсуа, с помощью матросов с «Бель-Ами», укладывает его, — на что приходится употребить большую силу, — вызывает доктора… И через несколько дней после того толпа, собравшаяся на платформе каннского вокзала, со сладострастным любопытством и ужасом смотрит на знаменитого писателя, едва стоящего на ногах, поддерживаемого с одной стороны Франсуа, с другой присланным из Парижа больничным служителем, и шепотом передает друг другу, что под пальто у него смирительная рубашка, что его везут в сумасшедший дом.
И вот Мопассан в лечебнице доктора Бланш, в Пасси, недалеко от улицы Ренуар, в доме, который некогда принадлежал знаменитой г-же Ламбаль, убитой во время революции парижской чернью.
Входя в этот дом для умалишенных, которого он всегда так боялся и к которому его так неодолимо тянуло всю жизнь, он уже не сознает, куда его привезли. Он с трудом говорит, узнает некоторых из присутствующих, но находится в состоянии глубокого безразличия и подавленности. Ему перевязывают рану на шее и укладывают в постель. Он покорно подчиняется, но отказывается от всякой пищи и, жалуясь на нестерпимые страдания, выпивает только немного воды…
Вся первая неделя проходит в глубоком безразличии. Он все молчит, только жалуется, что у него украли половину рукописи его последнего романа; после приема данных ему врачом пилюль говорит, что одна из них прошла ему в легкое. Но постепенно он несколько оживляется. Он обвиняет доктора Г. в краже вина из его погреба. Просит держать дверь его комнаты открытой — «чтобы дьявол ушел из нее…». Ему кажется, что он живет в доме, населенном сифилитиками, от которых он заразился. Все время прислушивается к каким-то неведомым голосам…
Встав в первый раз с постели, он около часа проводит на ногах, слушая эти голоса…
Позднее он объявляет, что доктор Г., к которому он с первой минуты испытывает непонятную ненависть, хотел, из ревности к каким-то двум дамам, убить его, заставив его вымыться медом.
Одиннадцатого января, после дурно проведенной ночи, во время которой он часто вставал и, стоя у своей постели, читал молитвы, он опять говорит, что в его комнату забрался дьявол. Потом, днем, моет себе все тело минеральной водой и отказывается от всякой пищи, кроме бульона, жалуется, что «соль пропитывает ему мозги все тело»…
Затем наступает временное улучшение. Рана на шее зарубцевалась. Он приходит в себя настолько, что однажды утром спрашивает свои письма, газеты. Однако вскоре опять объявляет о своей способности видеть на необыкновенно далеком расстоянии, описывает прекрасные пейзажи России и Африки. В продолжение ночи — почти напролет бессонной — то и дело встает и подходит к стене, подле которой подолгу говорит с кем-то вполголоса.
На другой день доктор Мерио выходит с ним прогуляться по коридору больницы. Он часто останавливается и беседует с кем-то воображаемым. Потом начинает пристально рассматривать паркет: оказывается, что по паркету «ползают насекомые, которые извергают морфий на большие расстояния…». Вечером он объявляет, что присудил к шести месяцам тюрьмы человека, изнасиловавшего какую-то молодую девушку, и что он сообщается с мертвыми:
— Потому что ведь мертвых нет…
Ночью ему кажется, что он слышит рев парижской черни под окнами — известно ли было ему кровавое прошлое этого дома? — пытается выброситься из окна, требует свои револьверы. Засыпает только под утро, на два часа. Весь следующий день говорит о мертвых, беседует с Флобером, с братом Эрвье:
— Их голоса очень слабы и доносятся словно издалека…
Потом говорит, что написал папе Льву XIII, советуя ему сооружение таких могил, где холодная и горячая вода постоянно обмывала бы мертвые тела, а маленькое окошечко вверху мавзолея позволяло бы сообщаться с покойниками.
В последующее время его ум постоянно возвращается к мыслям о боге, о смерти, о мертвых, о своем величии.
Он говорит, что бог «вчера после завтрака объявил с Эйфелевой башни его своим сыном, своим и Иисуса Христа», опять отказывается от всякой пищи, считая себя находящимся в агонии, требует причащения, собирается на дуэль с Казаньяком и генералом Феврие и, в конце концов, повернувшись к стене, опять ведет длинную беседу со своим умершим братом.
И так продолжается всю ночь. Он громко уверяет кого-то, что не писал какой-то статьи в «Фигаро». В конце концов кричит:
— Если эта статья подписана моим именем — это ложь! Я не имею никакого отношения к «Фигаро»! Я не писал в «Фигаро»! Это было на улице, в полдень! Облако закрыло Эйфелеву башню…
Затем уверяет, что у него украли шестьсот тысяч франков.
После плотного обеда он в первый раз пытается сесть писать, сесть за работу, «оставленную им вчера», но писать не может, пишет только телеграмму матери:
— Ты получишь завтра. Мы нашли в доме шестьсот тысяч франков. Хотели сжечь дом. Парижане на меня в ярости, потому что я распространяю запах соли. Мне причинили ужасную боль. Мне вскрыли желудок. Скоро будет большое открытие… И все бредит, бредит:
— Мой брат, похороненный два года назад, вернулся сегодня утром и утопился в Сене… Я сегодня утром принял лекарство, которое мне совсем помутило рассудок: у меня нет больше ни сердца, ни печени… В камне пробили дыру, и Он пришел утром в мою постель, чтобы убить меня…
— Мой дом в Париже сожгли…
— Генерал Негрие послал врача, чтобы осмотреть меня, и все это из-за моих демонических замыслов…
— Собралась вся чернь, чтобы убить меня, потому что я сжег свой дом…
— Вы меня слушаете, император? В эту минуту совершены тысячи преступлений…
В газетах на все лады обсуждается его болезнь, вспоминаются различные обстоятельства его жизни, ведутся лицемерные рассуждения о том, можно ли заключать больного — хотя бы и потревоженного в уме — против его воли в сумасшедший дом…
Но он уже далеко от всего этого. Круг преследующих его представлений все сужается:
— У меня искусственный желудок, поэтому он не может переносить мяса…
Ему кажется, что «соль сделала три отверстия в его черепе, и мозг вытекает через них». Он говорит, что его держат в этой больнице по приказу военного министерства, что Эрвье просит расширить его могилу, что Франсуа обокрал его — похитил у него семьдесят тысяч франков, что он умирает и хочет исповедаться, иначе его ждет ад, что Франсуа послал письмо богу, в котором обвиняет его в содомском грехе с курицей, с козой…
И без конца идут в его мозгу все одни и те же представления. Все его былые страхи, все мысли, все тревоги, все прежние попытки узнать что-нибудь из медицинских книг о своей растущей болезни — все возвращается к нему, но в каком виде!
В его бреду постоянно одно и то же: убийства, преследования, бог, смерть, деньги… Так выражаются теперь у него его прежние сложные, мучительные мысли, столько раз с такой точностью, с такой красотой и изяществом высказанные им!
И чем дальше, тем беспорядок в его мозгу все увеличивается. Он говорит целые дни, а иногда и целые ночи, кричит, жестикулирует…
Посещения знакомых неизменно приводят его в мрачное, подавленное состояние. Он почти не говорит с ними, отворачивается с недовольным видом, бормочет что-то. Может быть, подсознательно вспомнив, что больным базедовой болезнью не следует худеть, он вдруг начинает много есть. Потом удерживается от естественных отправлений и, когда ему вводят зонд, кричит, что в его моче драгоценные камни, что их хотят отнять у него…
К весне от него остается только тень прежнего человека.
Видевшие его незадолго до смерти говорят, что его лицо было землистого цвета, плечи сгорблены, рот раскрыт. Сидя в саду, под весенним голубым небом, он бессознательно поглаживал себе подбородок…
<1927>
<Дон-Аминадо>
Меня не раз спрашивали, что я думаю о таланте этого писателя, то есть кто такой этот писатель: просто ли очень талантливый фельетонист или же больше — известная художественная величина в современной русской литературе?
Мне кажется, что уже самая наличность этого вопроса предрешает ответ: спрашивающие чувствуют, что имеют дело не просто с популярным и блестящим газетным, злободневным работником, а с одним из самых выдающихся русских юмористов, строки которых дают художественное наслаждение.
И вот я с удовольствием пользуюсь случаем сказать, что это чувство совершенно справедливо.
Дон-Аминадо гораздо больше своей популярности (особенно в стихах), и уже давно пора дать подобающее место его большому таланту, — художественному, а не только газетному, злободневному.
<1927>
<Предисловие к роману Франсуа Мориака «Волчица»>
Франсуа Мориак, один из самых замечательных — и едва ли не самый замечательный из современных французских писателей, — родился 11 октября 1885 года в Бордо. Там он провел первые двадцать лет жизни, воспитывался и учился. В 1906 году переехал в Париж, где и начал свою литературную деятельность. Первая же его книга — книга стихов, вышедшая в 1909 году, — обратила на себя внимание знатоков, сам Морис Баррес возвестил «рождение нового большого поэта». В 1912 году появился первый роман Мориака — «Дитя, отягченное цепями». «Поцелуй прокаженному» (вышедший в 1922 г.) принес ему уже славу. «Огненная река», «Женитрикс», «Пустыня любви», «Тереза Декейру», «То, что было потеряно», «Змеиное гнездо», «Тайна Фронтенаков» славу эту неизменно увеличивали. В 1925 году французская Академия присудила ему «Большую премию», а в 1933 году он сам становится академиком.
Как вкратце определить его?
Христианин, католик, воспитанник марианитов, несущий в себе страстное наследие пылкой крови людей, живших и умерших под огненным небом Ланд — предки его были земледельцами, фермерами, богатыми промышленниками в Ландах, — он внес противоречие этих двух натур и в свои создания. Редко кто так знает и чувствует всю глубину падения, греха человеческой природы и вместе с тем умеет писать столь обольстительно эту греховность. По его собственному признанию, он с юности предпочитал благонамеренным авторам Бодлера, Рембо и других «проклятых».
«Умел ли я когда-либо говорить о существах с открытой душой, блещущих добродетелями? Открытые души не имеют истории; но историю душ, глубоко скрытых и таящихся в теле, полном греха, я знаю», — говорит он в предисловии к одному из своих романов. И прибавляет, обращаясь к одной из своих героинь: «Я хотел бы, чтобы твоя боль привела тебя к богу».
Роман «Женитрикс», перевод которого мы предлагаем русским читателям под заглавием «Волчица», — сам автор употребляет это слово, говоря о главном лице этого романа, — Женитрикс, одно из самых страшных созданий Мориака, есть именно история одной из таких «глубоко скрытых душ». Эпиграфом к нему можно бы поставить те несколько строк Бодлера, которые он сам поставил перед другим своим романом и которые смело могли бы стоять во главе почти всего созданного им:
«Боже, смилуйся, смилуйся над безумными! О создатель! Могут ли существовать чудовища в глазах того единого, кто знает, почему они существуют, как они создались и как могли не создаться!»
Париж, 1938
«Панорама»
Слава Модеста Гофмана, уже давно пекущего, как блины, всякие русские истории для французов, соблазнила Ивана Тхоржевского, доныне нам известного только в качестве многолетнего сотрудника газеты «Возрождение» по части плохих переводов разных иностранных поэтов: теперь перед нами целых два тома его прозаического труда: «Иван Тхоржевский. Русская литература. Издательство „Возрождение“. Париж. 1946».
Это «общая панорама» русской литературы, по заявлению самого Тхоржевского: «Русская литература, — категорически говорит он, будучи вообще весьма категоричен, — лучшее, что было создано до сих пор русским народом. А между тем ее жизнь все еще не развернута одной общей панорамой. Не сделан — а нужен! — критический пересмотр: что же из старого еще живо в русской литературе? и чему из нового суждено жить?» Речь, как видит читатель, идет о деле весьма серьезном и печальном. И вот Тхоржевский решил спасти положение, длившееся до него спокон веку без «одной общей панорамы», без «критического пересмотра». Труд и ответственность предстояли ему громадные, прав развернуть «одну общую панораму» того «лучшего, что было создано русским народом» за все века его существования, дать «критический пересмотр» этого «лучшего» и решить наконец: «Что же из старого еще живо и чему из нового суждено жить?» — прав на все это у Тхоржевского, мне кажется, не было и нет. Но вот он все-таки «развернул», «пересмотрел» — и «решил». Он размахнулся необыкновенно широко, пересмотрел русскую литературу от самых древних истоков ее вплоть до самых последних наших дней, а руководствовался в своем труде следующей мыслью своей, высказанной в предисловии к «Русской литературе».
«Долго живет и оставляет глубокую зарубку в читательской памяти только то, что было раньше отточено, — как топор, — жизнью».
Что можно подумать о способностях и притязаниях Тхоржевского даже после одной этой смехотворной фразы? Все же считаю долгом предостеречь читателей от его «Русской литературы». Худо то, что некоторые и даже немалые способности у него все же есть и что не всякий сразу разберется в их качестве и вообще в ценности его панорамы. Читатели могут быть удивлены, во-первых, его трудоспособностью и начитанностью, ибо, повторяю, чего и кого только нет в его двух увесистых томах (от царя Гороха до советского драматурга Афиногенова), чуть не целая тысяча поэтов и прозаиков русских то проходит, то мелькает в его панораме! Могут быть, во-вторых, поражены читатели той бойкостью, смелостью, дерзостью, самоуверенностью, с которыми Тхоржевский, не хуже завзятого раешника, все проходящее в этой панораме с редкой решительностью судит, рядит, определяет, «отточено ли оно, — как топор, — жизнью» или нет. Есть, кроме того, в его «Русской литературе» весьма немало верного, правильного: почти все верно, правильно там, где дело идет об общеизвестном, о том, что можно найти в любом учебнике и что может внушить малоопытным читателям даже почтение к Тхоржевскому, не даст им заметить, что и тут он зачастую несет совершенную околесицу, говорит вздор и вульгарности: «Протопоп Аввакум пролетел как беззаконная комета в кругу расчисленых светил»; «Кантемир играл на глухом и дрянном инструменте»; «Котошихин был как человек дрянцо»; «у Жуковского и у его подражателя Тургенева было непременное желание нравиться и отсутствие своего слога»; «Каролина Павлова и ее муж были тогдашние Мережковские»; «Пушкин только краешком копыт „Медного всадника“ коснулся символизма»; «Герцен — русский Вольтер, читать этого русского Вольтера хорошо в вольтеровском кресле»; «Петербург вбил новые клинья в душу Некрасова»; «Аполлон Григорьев — русский Ипполит Тэн», — да, не более, не менее, как Тэн, который, вероятно, тоже мог бы сочинить, как Аполлон Григорьев это сделал, песенку «Две гитары за стеной жалобно заныли»; «Тургенев на три четверти фарфоровый, непрочное изящество, хрупкость и старомодность… тургеневское творчество временами похоже на толкучий рынок призраков… за тургеневской культурностью крылась зияющая пустота…» и т. д. и т. д.
Таков Тхоржевский, когда он судит и рядит даже о классической русской литературе. А насколько он смел и развязен, как «критически пересматривает», категорически характеризует, венчает и развенчивает, казнит и милует писателей прочих, вчерашних и нынешних, как вообще он их разделывает под тот или иной орех, некоторых не удостаивает даже упоминания (Г. Иванова, Газданова, Зурова, Ладинского) и на многих просто сочиняет чепуху, — во всем этом он и меры не знает. Вот, например, я: чего только не наплел он на трех страничках о литературном труде всей моей жизни, сколько наболтал о нем пошлостей и совершенно глупых, грубо противоречивых и почему-то злобных выдумок:
«Бунин часто признавался в неистребимом желании своем как писателя остановить солнце. Движение ему несносно: ветер жизни его раздражает. Покой и солнце! Он классик, академик…»
Что за чушь? Где, когда я «часто признавался» в столь идиотском желании «как писателя»? Я «классик, академик», но почему же этот господин включил меня в отдел своей «Русской литературы», озаглавленный: «Художники-импрессионисты»? Он откуда-то взял, будто меня «сближали с почвенником Гончаровым, творчество которого напоминает остановившиеся часы». Но как же связать с этой галиматьей о творчестве, подобном остановившимся часам, следующую тираду Тхоржевского: «Стиль чеховского „В овраге“ воспринят Буниным со всей страстностью бунинского темперамента»? Куда же девались мои «покой и солнце»? И далее: «Стиль Бунина — золотая сухость…» А где же стиль чеховского «В овраге»? И еще далее: «Людьми Бунин мало интересуется, чувствует себя среди них золотым фазаном на бедном птичьем дворе… Он скуп, недоверчив, мрачен к людям… Родился и умрет пейзажистом, самого себя вложил в пейзаж… Оторвите его повествование от пейзажа — ничего не останется…» Старый «Господин из Сан-Франциско», лет сорок тому назад, когда весьма многие носили цилиндры, надел, сходя с парохода, цилиндр — Тхоржевский и тут зачем-то передергивает: «В „Господине из Сан-Франциско“ есть промахи: на палубе парохода люди в цилиндре»…
Затем — вот Алданов, Тэффи:
«Время работало против эмигрантов… Всякий свежий номер из газеты их ранил… И писатели укрывались от жизни, каждый по-своему… Так возникли исторические романы Алданова… „Боги жаждут“ А. Франса — вот его образец… А закончил он свой исторический цикл прыжком прямо на Св. Елену… Другие пытались лечиться юмором: так возникли юмористические рассказы Тэффи…» И Тхоржевский, сделав вид для красного словца (он вообще очень «покраснел» теперь), будто он не знает, что Тэффи много лет писала юмористические рассказы и до эмиграции, так кончает свой «критический пересмотр» ее творчества: «Не роман — область Тэффи. Ее сила и ее доля („бабья доля — доля злая“) мир художественных мелочей и газетного фельетона…»
При чем тут «бабья доля — злая доля», непостижимо. Хлестаков опять и опять зарапортовался.
Памяти П.А. Нилуса
Нынче, 23 мая, третья годовщина со дня кончины моего многолетнего друга художника Петра Александровича Нилуса, и мне хочется напомнить об этом богато одаренном и прекрасном человеке.
Он родился 29 июня 1809 года в Подольской губернии, рос в Одессе, учился, кончив реальное училище, в Одесской рисовальной школе, где был учеником известного художника Костанди, в Петербурге, поступив в Академию художеств, работал в мастерской Репина, в конце восьмидесятых годов вернулся в Одессу и начал работать самостоятельно. В 1890 году он уже был участником первой выставки Южнорусских художников, а затем и выставки Передвижников, членом которых оставался после того многие годы. С тех пор он стал совершать с художественными целями частые поездки в Париж, посещал Германию, Австрию, Италию, выставлял свои картины в Мюнхене, в Вене, в Риме… Покинув в 1919 году Россию, он жил в Болгарии и в Австрии, устраивая свои выставки в Софии, Белграде, Загребе и Вене, в 1923 году окончательно переселился в Париж, много выставлял и здесь, неизменно встречаемый большими похвалами наиболее видных французских художественных критиков, ценивших его как первоклассного колориста и художника-поэта: начав в молодости с реалистического жанра, П.А, все более и более тяготел впоследствии к романтике пейзажа и персонажей начала и средины прошлого века; в Париже он работал особенно много, достиг полного расцвета и разнообразия своего дарования.
Наследие оставил он большое: помимо того, что еще можно видеть в его парижской мастерской, картины его находятся во многих и многих русских и европейских музеях и частных собраниях: в Одессе, в московской Третьяковской галерее, в бывшем музее Александра III и в музее Академии художеств, в Париже, Страсбурге, Гренобле, Лондоне, Нью-Йорке, Загребе, Белграде, Софии…
Был он и талантливым беллетристом, — повесть его «На берегу моря», напечатанная в 1906 году в альманахе «Шиповник», затем книга рассказов, изданная «Книгоиздательством писателей в Москве», имели крупный успех; был тонким знатоком музыки, обладал чуть ли не абсолютным слухом; пленял всех знавших его добротой, благородством, вечной молодостью сердца…
<Предисловие к книге Александра Клягина «Страна возможностей необычайных»>
Мне хочется сказать несколько слов об авторе этой книги и обратить на него внимание читателей потому, во-первых, что он в некотором роде мой литературный крестник, что это я побудил его взяться за перо, и потому, во-вторых, что я считаю его одним из даровитейших русских людей, необыкновенно много видевшим и испытавшим на своем веку, за долгие годы своей неустанной и разнообразной практической деятельности, истинной страсти всей его жизни, неожиданно ставшим на моих глазах еще и весьма своеобразным писателем.
Я познакомился с ним на юге Франции, в Грассе, где мы оба проводили годы войны, — английская вилла, на которой я жил, оказалась в ближайшем соседстве с его собственной великолепной виллой, и мы часто коротали на ней время в наших долгих беседах, делились газетными вестями, тайком от врагов, повсюду сидевших вокруг нас в оккупированном Грассе, слушали радио… Без конца рассказывал он мне в эти часы и о своей удивительной жизни — с живостью тоже совершенно удивительной для его возраста. Так и узнал я, что этот миллионер, уже четверть века живущий во Франции и ставший французским подданным, родился и рос в орловской деревне, в очень и очень скромном именьице своего отца, человека из народа, и чуть не с детства проявил ту стойкую энергию своей натуры, что уже никогда не покидала его впоследствии: кончив в девятьсот третьем году орловскую гимназию, он в том же году, преодолев труднейший конкурс, поступил в Петербургский технологический институт, лето следующего года провел на железнодорожной практике помощником машиниста в Польше, затем, когда студенческие волнения прервали занятия в институте, нанялся простым рабочим на постройку в пустынных прикаспийских степях Астраханской железной дороги, — ни противодействие, ни гнев отца не сломили упорства юноши, мечты которого простирались гораздо далее мирного наследственного существования в брянском сельце Карпиловке. Не сломили его и жесточайшие условия жизни в этих голых песчаных степях, летом нестерпимо знойных и доисторически кишащих змеями, тарантулами, скорпионами, осенью поливаемых непрестанными дождями, зимой заносимых вьюгами, — благодаря своей редкой трудоспособности и одаренности, он вскоре настолько выдвинулся по службе, что назначен был участковым техником. В ту же пору свалилось на него и первое его богатство: зоркий взгляд, русская сметка навели его на смелую мысль начать раскопки в окрестных песках, поиски под ними камня, который так необходим был для постройки дороги, и этот камень, к великому удивлению всех сослуживцев Клягина, в конце концов нашелся, оказавшись остатками какого-то давно погребенного песками города. Продав этот камень, Клягин вернулся в Петербург уже обладателем некоторого состояния, чтобы продолжать учение в институте и дать прибыльный ход своему капиталу, вложив его в предприятия какого-то вскоре прогоревшего общества, стал снова нищим, но ни на минуту не пал духом: открыл автомобильный гараж, при гараже мастерскую для починки автомобилей — и целых два года, изо дня в день, работал по пятнадцати, по восемнадцати часов в сутки, учась в институте, добывая средства к существованию гаражом, и настолько изучил с течением времени автомобильное дело, что стал участвовать в автомобильных гонках в России и за границей… Дальнейшая карьера этого русского американца была блестяща: кончив институт, он снова на постройке железной дороги — на этот раз Амурской, служит инженером в Восточной Сибири, затем состоит при начальнике по постройке всех железных дорог России и посещает по службе ее многие окраины: Туркестан, Закавказье, южный Кавказ, северные русские области… В девятьсот двенадцатом году переводится в Петербург, в министерство путей сообщения, командируется за границу для наблюдения за усовершенствованиями железнодорожной техники… Война девятьсот четырнадцатого года захватывает его в Бельгии, откуда он пешком добирается до Парижа, находится тут некоторое время при нашем посольстве и с последним пароходом возвращается через Дарданеллы в Россию. В России, назначенный на постройку Мурманской железной дороги, заканчивает в девятьсот шестнадцатом году укладку ее рельсового пути, соединив в девять месяцев Ледовитый океан с Петербургом линией в 1400 километров, затем командируется в Англию и Францию представителем министерства путей сообщения — и, застигнутый в Европе русской революцией, навсегда поселяется во Франции…
Не мое дело рассказывать о всей последующей деятельности автора этой книги, — отмечу еще только одно: то, насколько этот русский американец все же остался прежде всего русским человеком и каким крепким русским духом, складом и ладом полны его богатые повествования.
К моему завещанию
Май 1942 года
В России осталось много всяких писем ко мне. Если эти письма сохранились, то уничтожьте их все, не читая, — кроме писем ко мне более или менее известных писателей, редакторов, общественных деятелей и т. д. (если эти письма более или менее интересны).
Все мои письма (ко всем, кому я писал во всю мою жизнь) не печатать, не издавать. С просьбой об этом обращаюсь и к моим адресатам, то есть к владельцам этих писем. Я писал письма почти всегда дурно, небрежно, наспех и не всегда в соответствии с тем, что я чувствовал, — в силу разных обстоятельств. (Один из многих примеров — письма к Горькому, которые он, не спросясь меня, отдал в печать.)
Умоляю разных литературных гробокопателей не искать, и не печатать моих стихов и рассказов, рассеянных по разным газетам и журналам и никогда мною не введенных в издание моих книг: я многое печатал только по той бедности, в которой часто бывал. Насчет же того, что введено в издание моих книг, я делаю указания.
Ив. Бунин
Самое ужасное: заваливают хорошее детским, плохим.
Ив. Бунин
К моему литературному завещанию
Париж, 1951 г.
Если будет после меня издание моих литературных работ, то вот мои указания, каково оно должно быть:
Это издание должно быть повторением берлинского издания «Петрополис» (Берлин, 1934 г.) с теми добавлениями к нему, кои я указываю ниже.
В это новое будущее издание должен войти отдельным томом мой перевод «Песни о Гайавате» Лонгфелло, текст которого (с моими поправками) взять из парижского издания (Книгоиздательство «Север», Париж, 1921 г.).
Отдельным же томом должны быть изданы и три «Мистерии» Байрона, переведенные мною. Этот том должен быть повторением берлинского издания этих «Мистерий» (К-во «Слово», Берлин, 1921 г.).
Из всех остальных моих переводов взять только следующее:
1. Крымские сонеты Мицкевича (три сонета: «Аккерманские степи», «Чатырдаг» и «Алушта ночью»).
2. «Годива» Теннисона (по тексту в «нивском» издании Маркса моих сочинений, Петербург, 1915 г.).
3. Из «Золотой легенды» Лонгфелло: 1) «Рождественская ночь», 2) «Очарованный инок», 3) «Эльза».
Все это, то есть сонеты «Годива» и из «Золотой легенды», разместить (следуя хронологии моих работ над этими переводами) среди моих оригинальных стихов.
Стихи и эти переводы — отдельный том.
Какими по счету томами должны идти в будущем собрании моих сочинений «Песнь о Гайавате» и «Мистерии», сейчас, конечно, нельзя сказать. Во всяком случае, они должны идти после последнего тома моих оригинальных художественных писаний. Но что будет в этом предполагаемом последнем томе и какой он будет по счету? Это зависит от того, напишу ли я еще что-нибудь после книги «Темные аллеи» и некоторого другого, написанного мною за последние годы и еще не изданного отдельной книгой (смотри пакет, в котором «Зимний сон» и прочее).
Ввести в это будущее собрание моих сочинений тоже отдельным томом «Освобождение Толстого». Это — после двух вышеуказанных томов (т. е. двух томов переводов). Для перепечатки взять исправленный мною экземпляр «Освобождения» — он находится при этом завещании, как и все прочее.
И еще отдельный том — после «Освобождения» — под заглавием «Записи». Материал для этого тома тоже находится в пакетах, которые лежат вместе с этим завещанием.
В маленьком предисловии к собранию моих сочинений, изданному «Петрополисом», — смотри первый том этого издания, — я сказал об ужасном издании моих сочинений 1915 года (приложение к «Ниве») и выразил твердое желание, чтобы в будущее собрание моих сочинений не было взято ничего (кроме уже взятого мною для издания «Петрополиса») из этого приложения. Я указал, почему я был вынужден дать Марксу многие из очень слабых вещей, написанных мною в первые годы моей литературной деятельности со всей небрежностью, присущей мне в ту пору, и напечатанных большей частью из-за нужды или по слабости характера: «Дайте что-нибудь нам!» — и давал; слава богу, что еще далеко не все дал Марксу — и горячо прошу все это не данное мною не разыскивать по разным газетам, иллюстрированным журнальчикам и книжкам, вроде изданий Д.И. Тихомирова. Теперь думаю, что все-таки кое-что можно взять из «нивского» издания и ввести в будущее собрание моих сочинений как добавление к этому будущему собранию.
Сперва скажу о прозе.
Из второго тома «нивского» издания можно взять в будущее собрание только следующие рассказы: «На край света», «На Донце», «Антоновские яблоки», «Эпитафия», «Над городом», «Новая дорога», «Мелитон», «Костер», «Новый год», «Надежда». Все это печатать по исправленным и сокращенным мною текстам. (Смотри пакет с этими рассказами.)
Из четвертого тома «нивского» издания можно взять следующие рассказы: «Сны», «Золотое дно», «Заря всю ночь», «Илья», «Цифры», «Зеркало», «Белая лошадь» (прежнее заглавие — «Астма»), «Маленький роман», «Птицы небесные». — Некоторые заглавия этих рассказов были прежде иные, я их изменил.
Исправленные и сокращенные тексты этих рассказов тоже находятся в вышеупомянутом пакете.
Все это (из II и IV тт.) ввести в собрание, следуя хронологии.
Указания насчет стихов я делаю на книжках («нивских») стихов.
Есть, кроме того (приложенный здесь же), пакет стихов, писанных рукой — эти стихи тоже можно ввести в будущее собрание.
Все — и стихи и проза, — что я не ввожу в это собрание моих сочинений, напечатать, если это нужно, как приложение к нему.
После меня явится, может быть, у кого-нибудь мысль печатать мои письма, дневники, записные книжки. О письмах я уже писал в другом месте («К моему завещанию»): я чрезвычайно прошу не печатать их, — я писал их всегда как попало, слишком небрежно и порою не совсем кое-где искренне (в силу тех или иных обстоятельств), да и просто неинтересно; из них можно взять только кое-какие отрывки, выдержки — чаще всего как биографический материал. (Если бы нашелся умный и тонкий человек, который мог бы выбрать эти отрывки!) Дневники мои тоже, по-моему, мало интересны (в общем). Их я тоже писал как попало и с большими промежутками. Да и уничтожил я очень большое количество этих записей. Против печатания их, впрочем, не имею такой решительности, как против писем. — Записные книжки можно печатать.
Издать отдельным томом русские и иностранные рецензии и статьи обо мне (начиная с самой первой — И. И. Иванова в «Артисте», не помню, какого года — 1889? 1890?). Но, конечно, взять эти рецензии и статьи в выдержках — как русские, так и иностранные (последние должны быть переведены на русский язык).
Чемодан с этими рецензиями и статьями (конечно, собранными — да и то неполно — только за время эмиграции) находится в Париже, на нашей квартире — I, рю Жак Оффенбах. Сохранилось ли то, что осталось в Москве — не знаю.
Ив. Бунин
Приложение. Ранние статьи, интервью
Недостатки современной поэзии
В то время как за последние годы возрос интерес к лирической поэзии и появилось значительное количество поэтов, часто весьма талантливых и даровитых, — постоянно раздаются жалобы на недостатки, обнаруживающиеся в их произведениях: упрекают в излишнем увлечении личными, индивидуальными чувствами, в «нытье», принявшем эпидемические размеры, в отсутствии искренности, в натянутой тенденциозности на гражданские мотивы и т. д. Вместе с этим делают упреки в несовершенстве поэтической формы и в непонимании требований изящного искусства. В подобного рода критике и рецензиях заключается, конечно, серьезная доля правды, но, с другой стороны, подчас встречаешь и невероятные несообразности и преувеличения. Лицам, недостаточно следящим за современной поэзией, иногда бывает чрезвычайно трудно, на основании отзывов печати, составить более или произведениях того или другого поэта.
За последнее время много, например, писалось и говорилось о г. Фофанове. Некоторые издания ставят его не только в ряду первых, но даже первым из современных представителей лирической поэзии. Например, «Еженедельное обозрение», журнальчик, снабженный многими весьма талантливыми сотрудниками, говорит, что на г. Фофанове «покоятся их надежды», ставит его выше всех и в некотором отношении даже выше покойного Надсона. Однако о том же самом Фофанове один из наших самых солидных журналов, «Русская мысль», говорит, что не только не считает г. Фофанова портом, но полагает, что его следует отнести и к стихотворцам-то весьма плохим. Ясное дело, что здесь кроются некоторые недоразумения, и при этом вытекающие не из каких-либо посторонних Эстетике побуждений, а просто из отсутствия здравых требований от искусства. Мы понимаем, например, г. Буренина, когда он ополчается на современных поэтов: ему антипатично все их направление, а потому он и является пристрастным, часто до смешного. Совсем иное дело, когда речь идет об изданиях, поименованных выше. Но если даже в таких серьезных и почтенных органах, как «Русская мысль», приходится читать излишне пристрастные суждения, то что же ожидать от изданий низшего калибра? Нам кажется поэтому небезынтересно остановиться на вопросе об общих принципах, полагаемых в основании лирической поэзии и искусства вообще.
Всякое поэтическое произведение складывается из двух элементов: содержания и формы. Для того чтобы удовлетворить первому требованию, во времена преобладания ложноклассических взглядов на искусство полагали, что материал, достойный и доступный поэзии, ограничен довольно тесными рамками: поэты должны были не только по определенным, заранее установленным образцам создавать свои произведения, но и выбирать предметы возвышенные и прекрасные — все прочее из поэзии совершенно изгонялось: главным образом воспевали героические поступки, одушевлялись патриотизмом, божьим величием, или же риторически-ходульным образом воспевали любовь идиллических пастушков, наяд, фавнов и т. п. обломки классической мифологии. Романтизм значительно расширил пределы поэтического творчества: жизнь сердцем и искреннее проявление нежных чувств составляли главное содержание романтических произведений.
С дальнейшим развитием поэтического творчества для всех стало ясно, что содержанием для поэзии может быть все, что затрогивает человека в его индивидуальной и общественной жизни, лишь бы это не переходило границ приличия и не впадало в пошлость.
Поэзия может и должна затрогивать самые разнообразные предметы. Поэт, как и всякий другой, находится под влиянием как общечеловеческих условий и интересов, так и национальных, местных и временных; ему, как и всякому другому nihil humani alienum est[29], поэтому и содержание поэтических произведений может носить в себе отпечаток [как] общемировых вопросов, так и тех, которые составляют насущную злобу дня. Ограничивать условными требованиями рамки поэзии — значит стеснить свободное проявление человеческого духа, укладывать в прокрустово ложе — мысль, чувства и волю. Мы говорим: и волю — потому, что для поэта творчество составляет насущнейший акт его деятельности, одну из важнейших функций его психической жизни. Поэт должен быть отзывчив на всякое движение души, на всякое проявление нравственного и умственного мира, он должен жить одной душой с людьми и с природой:
Ревет ли зверь в лесу глухом, Трубит ли рог, гремит ли гром, Поет ли дева за холмом — На всякий звук Свой отклик в воздухе пустом Родишь ты вдруг.Или, еще лучше, у Баратынского о Гете:
С природой одною он жизнью дышал, — Ручья понимал лепетанье, И говор древесных листов понимал, И чувствовал трав прозябанье; Была ему звездная книга ясна, И с ним говорила морская волна.Но и этого недостаточно: поэт должен проникаться всеми радостями и печалями людскими, быть искренним выразителем нужд и потребностей общества, направить ближних к добру и прекрасному.
Восстань, пророк, и виждь, и внемли: Исполнись волею моей И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей.Вот истинное призвание поэта, если только на поэзию смотреть серьезно, как на могущественный двигатель цивилизации и нравственного совершенствования людей.
Очевидно, что только при свободном развитии своих душевных способностей, при ничем не стесняемом просторе возможно ожидать от поэзии сказанных результатов.
По складу характера, по темпераменту, по известной степени умственного развития, а также под влиянием ближайших жизненных условий, поэт может сосредоточивать свое исключительное или главное внимание на том или ином отделе человеческих интересов и проявлений духа. Один, с более анализирующим умом, с большей склонностью к отвлеченному мышлению может сосредоточиться на философских проблемах жизни и вопросах мироздания (таков, например, «Фауст» Гете), другой бывает поглощен интересами политики и ближайшими общественными задачами (Гюго, Некрасов), третий — более всего может быть взволнован любовью (например, в древности Анакреон и т. д.). Что касается последнего рода поэзии, то иногда приходится слышать, что слишком часто злоупотребляют любовными темами. Мы думаем, что это не совсем справедливо. Любовь, как чувство вечное, всегда живое и юное, служила и будет служить неисчерпаемым материалом для поэзии; она вносит идеальное отношение и свет в будничную прозу жизни, расшевеливает благородные инстинкты души и не дает загрубеть в узком материализме и грубо-животном эгоизме.
Конечно, существует и много других факторов, облагораживающих человека, но неужели они находятся в таком излишке, чтоб ради этого изгонять один из сильнейших? Кроме того, надо заметить, что поэтические темы, о любви вовсе не так однообразны. Подобно тому как сама любовь проходила самые разнообразные фазы развития, так и воспроизведение этого чувства многосторонне и богато содержанием. Народы древнего Востока олицетворяли любовь в грубом, чувственном образе Астарты. Греки, со свойственной им от природы изящностью, в недосягаемо-прекрасных формах изображали физическую красоту в образе Венеры, и любовь являлась обоготворением этой красоты, поклонением прекрасным формам. В средние века любовь приняла платонический характер. Рыцари и их дамы сердца — вот основной мотив тогдашней любовной поэзии. Во времена сравнительно новые любовь также видоизменилась: на нее начинают смотреть как на нравственное единение двух любящих существ, как на союз, определяющий все их будущее направление жизни. Мы полагаем, что идеал любви все-таки для многих еще недостаточно выяснен, и поэзия в этом случае может оказать значительную услугу.
Мне кажется, что даже в произведениях, далеко не отличающихся пуританским взглядом на вещи, можно отыскать здоровые задатки нравственности среди различного рода фривольности и кажущейся распущенности. Таковы, например, песни Беранже. Разумеется, в произведениях, более счищенных, более проникнутых целомудренностью, если можно так выразиться, более возвышенных и идеальных, многое можно найти такое, что ведет человека к истинной гуманности, тонкости чувств и пониманию всего прекрасного.
Наполнение же поэтических произведений любовными темами потому кажется злоупотреблением их, что к ним многие поэты относятся чисто шаблонным образом, при полном отсутствии искренности, а это уже относится к исполнению, а не содержанию, и это можно сделать с какой угодно темой.
Что касается еще содержания поэтических произведений, то часто слышатся упреки в излишнем увлечении гражданскими мотивами. И здесь есть преувеличение со стороны критики. Теперь почти вошло в моду, в противоположность недавнему прошлому, считать за особенное достоинство поэтических произведений, если они не касаются общественных вопросов, если в них не слышно «гражданских иеремиад», как будто индифферентизм в этом случае — невесть какое преимущество. Человек, живя в гражданском обществе, не может игнорировать интересов последнего, он связан с ним душой и телом, и весьма странно желать, чтобы поэты, у которых чувства отличаются большей интенсивностью, остались глухи и немы к тому, что интересует субъекта среднего уровня. А если «гражданские мотивы» являются часто узко-тенденциозными и поддельно-преувеличенными, то опять-таки виноваты здесь сами авторы, а не избираемые ими темы.
Теперь несколько слов о пресловутом «нытье».
Мрачное, пессимистическое направление современной поэзии действительно представляет собой явление ненормальное. Как бы ни были безотрадны условия общественной жизни, как бы ни царили в ней порок, эгоизм и корыстолюбие, все-таки современным поэтам нельзя впадать в излишне преувеличенный пессимизм и на все накладывать черные, и исключительно черные краски, так как в обществе, подобном нашему, не так давно вступившем на путь цивилизации, и не только не истощившем свои жизненные соки, но еще и недостаточно их обнаружившем, всегда существует множество шансов на возможность лучшего будущего, всегда можно открыть такие живые элементы, которые могут проявиться в полном расцвете и силе, если только не терять своей личной энергии и бодрости духа. В обществах разлагающихся, подобно древнему Риму, вполне естественно, если все представители интеллигенции падают духом и не видят просвета в будущем. Интеллигентная мысль в таком, и только в таком случае не имеет возможности успокоиться на чем-либо отрадном, подающем лучшие надежды. Но сила человеческого духа такова, что даже при самых худших обстоятельствах не всегда угасает искра идеальных стремлений в горячих протестах, и в удручающих, мрачных изображениях жизни римских сатириков блистает иногда светлый луч и вера в совершенствование человеческой природы; в стоической философии, обвеянной невыразимой печалью, на темном фоне ее не всегда встречаешь мрачные картины. И если даже интеллигентная мысль древнего Рима не всегда была проникнута безусловным отрицанием, то в обществах молодых бодрость и энергия должны быть преобладающим мотивом. Утверждение это вовсе не полагает и не допускает, чтобы следовало проходить перед всеми безобразными явлениями жизни с закрытыми глазами. Как раз наоборот, как мы уже сказали выше, нужно крайне чутко относиться к ним и быть на все отзывчивым. Но пусть наряду с картинами современных бедствий рисуются идеалы лучшего, и будет вера в них и энергия! Это вовсе не значит, чтобы мы предлагали искусственным образом менять тон своей лиры. Искусственности здесь вовсе не требуется. Надо лишь стараться выработать свой характер и волю, не погружаться в исключительно личные чувства, измельчающие душу, а также и не поддаваться царящей моде и рутине. Мы думаем, что мода, понимаемая в смысле тенденциозно вошедшего в жизнь обычая и привычки, играет не последнюю роль в пессимизме современной поэзии: поэты друг от друга заражаются пессимизмом и мрачным отношением к жизни.
Дела так идти далее не могут: поэзия совершенно измельчает, утратит последние зародыши силы, так как для развития ее нужна здоровая пища, а ее-то и нет почти вовсе.
Новейших поэтов справедливо упрекают и в несовершенстве формы.
Действительно, ни один из них не возвысился до изящества и тонкости отделки поэтов предыдущей эпохи. Следует поэтому обратить серьезное внимание на выработку внешней стороны поэзии. Недостатки ее, по нашему мнению, объясняются многими причинами. Прежде всего, заметно, что поэты не с особенным усердием изучают классические образцы своего искусства. Мы уже не говорим о недостаточном знакомстве с древними и европейскими классиками. Несмотря на то, что наше среднее образование зиждется, главным образом, на изучении древних языков, всякий знает, что оно сводится к усвоению грамматических форм и почти вовсе не обращает внимания на художественное воспитание учеников на образцах древней поэзии. Эти пробелы не пополняются и последующим саморазвитием, так как у нас почти вовсе нет хороших переводов, а некоторые авторы и вовсе не переведены. Существующие же переводы весьма слабы, даже, например, труды г. Фета, от которого можно было бы ожидать гораздо лучшего исполнения.
Европейских классиков тоже не особенно изучают. Совершенно иначе обстояло дело, например, в Пушкинскую эпоху. Мы знаем, что не только Лермонтов и Пушкин с малолетства ознакомлялись с французской, немецкой, английской литературами, но даже и второстепенные поэты шли по этому же пути. А теперь не видно даже, чтобы поэты хорошо знали и усваивали русскую поэзию и воспитывались на ее образцах.
Незаметно также, чтобы старшие поэты горячо принимали к сердцу успехи своей младшей братии. Из биографии Надсона мы узнаем, что только в 1881 году он в первый раз познакомился с одним из лучших представителей поэтов старшего поколения, Плещеевым, после того, как уже стал известен, а ведь Надсон почти всю жизнь прожил или в Петербурге, или близ него.
Что же сказать о других, которые проживают, например, в глухой провинции?
Нам кажется, что при желании поэты старшего поколения могли бы быть действительно руководителями младших, если не при посредстве личного знакомства, то путем переписки или печати. На долю редакторов выпадает тоже задача направлять по правильному пути развитие современной поэзии, а многие ли исполняют не только эту роль, но даже хоть внимательно относятся к начинающим?
Среди других причин, обусловливающих несовершенство формы новейших поэтов, мы упомянем еще об одной, об излишней поспешности обрабатывать свои произведения и во что бы то ни стало написать как можно больше. Мы полагаем, что здесь даже не может быть извиняющим обстоятельством материальная необеспеченность поэтов, так как весьма трудно ожидать, чтобы возможно было добывать достаточные средства стихами, как это можно ожидать от беллетристов, фельетонистов, публицистов и пр. Нам кажется, что поэтам не следовало бы увлекаться желанием написать как можно более, и не забывать в высшей степени прекрасного и благородного правила: «non multa, sed multum»[30].
К будущей биографии Н.В. Успенского
Старою, но в то же время постоянно юною историей стала печальная участь многих русских писателей. Судьба Никитина, Решетникова, Помяловского, Надсона, Левитова и подобных им несчастливцев, которым словно на роду было написано «что-то роковое», всякому известна. Одни из них были подавлены нищетой, другие — с чуткою до болезненности душою — не вынесли окружающей их обстановки, третьи… третьи унесли с собою в могилу тайну своей ненормальной тяжелой участи.
К последним, я думаю, более всего можно отнести недавно зарезавшегося Николая Васильевича Успенского. Его оригинальная и печально своеобразная жизнь, положительно, ставит в тупик. Я говорю, собственно, про себя, а не про публику, потому что собственно мне и еще очень немногим пришлось узнать некоторые удивительные факты из его интимном жизни. Публика же, наверное, до сих пор не имеет никаких хотя бы голых, но полных биографических данных одного из первых и крупнейших народных писателей, совершенно особой, своеобразной школы, зародившейся в шестидесятых годах. Впрочем, последним, то есть передачей полной биографии Н.В., не задаюсь и я. Я передам только кое-какие очень характеристические факты его интимной жизни.
Верстах в десяти от Ефремова (Тульск. губ.) есть село Лобаново. Случайно узнав, что в нем очень часто и в течение многих лет появлялся Н.В., которого многие из жителей отлично знают и помнят, я сейчас же отправился туда, с надеждой услыхать некоторые подробности из жизни покойного писателя. К тому же я знал, что в Лобанове живет тесть и друг детства Н.В., священник А.И.У., человек очень образованный и развитой, и я понадеялся даже на большее, — думал, что могу узнать полную биографию его друга и зятя. И в самом деле, где и от кого можно было узнать более подробно и верно? Но предположения мои наполовину рушились. Узнал я много менее, чем ожидал.
Прежде всего А.И.У., к которому я первым делом отправился, наотрез отказался дать какие-либо сведения. «Жизнь, которую вел покойный Н.В., до того, молодой человек, своеобразна, — сказал он мне, — что описать и передать ее вкратце очень трудно и даже, по-моему, не имеет смысла… Н.В. был слишком недюжинный человек, слишком глубокая натура. Передать всего я на словах не могу, а кое-что не считаю интересным и нужным».
— Но ведь лучше знать что-нибудь, чем ничего, — возразил я. — А для того, чтобы не вышло односторонности, не надо вдаваться в рассуждения о фактах.
— Нет, по-моему, лучше ничего.
— Значит, — продолжал я, — вы все-таки думаете когда-нибудь сами написать о Н.В.
— Право, не знаю. Если не умру скоро, — может быть.
— Вот видите, «может быть», а вы ведь один из очень немногих, знавших Н.В. близко.
— Да, даже из очень и очень немногих, — подтвердил А. П., - мы были с ним товарищи, родственники близкие, так что Н.В. во многом мне открывался.
Старик, как видно, был тверд в своем решении. Просить снова — было бесполезно. Поэтому я переменил тактику и решился выпытать кое-что незаметно. Меня, уже не как биографа, а просто, как человека, заинтересовала личность покойного. Это мне отчасти удалось.
Дома за чаем, среди посторонних разговоров, А.И., действительно, коснулся некоторых фактов из жизни покойного. Я расспросил еще кое-кого из лобановских жителей, и у меня получились следующие сведения. Николай Васильевич родился приблизительно в сорок пятом году, недалеко от Ефремова, в Тульской же губернии, в селе Ново-Михайловском или Шилове и происходил из духовного звания. Первоначально он учился в Троицком духовном училище (в Новосельском уезде), потом перешел в семинарию и, по окончании там курса, поступил в университет. Но по странности своего характера он пробыл там недолго и вышел. На мой вопрос: «Почему Н.В. не мог нигде долго держаться», — А.И.У. ответил, что объяснить это трудно. «Из-за пустяковых ссор не уживаются и не такие люди, как Н.В., а мелкие, страдающие грошовым самолюбием», — сказал он мне. Потом снова поступил, и снова повторилась та же история. Вообще долго где-нибудь держаться Н.В. не мог — ни в университете, ни на службе, на которую он впоследствии поступал несколько раз. Служебная деятельность Н.В., по окончательном выходе его из университета, была по преимуществу педагогическая. Так, между прочим, он был помощником в Яснополянской школе у Л. Н. Толстого, но опять-таки пробыл там, кажется, не более двух месяцев. Так и проходила его жизнь — где день, где ночь, материально никогда не обеспеченная. Деньги вообще плохо держались у Н.В. В этом отношении характерна история с тургеневским имением. Как передал мне А.И.У. — Тургенев, с которым покойный был в хороших отношениях, подарил или, собственно, не подарил, а отдал в долг (выплатишь, мол, по возможности) Н.В. имение — десятин около пятидесяти, находящееся в Чернском уезде. Н.В. сейчас же распорядился с ним по-своему: продал его тысяч за шесть и, разумеется, через несколько времени был снова без копейки.
Писать, то есть, собственно, пробовать свои силы на литературном поприще, Н.В. начал сравнительно поздно. По словам А.И.У., он не шел по обычной для многих дорожке, то есть не начал писать еще в школе что-нибудь вроде стихов или мелких подражаний. Первый его рассказ, кажется, был чуть ли не первый из напечатанных и обративших на него внимание, как на выдающийся талант. У него завязались хорошие литературные знакомства в Петербурге и в Москве, где он обыкновенно и проводил зимы. Летом он появлялся в Лобанове и жил большею частью у А.И.У. На сорок втором году он женился на его дочери Е. А. Говорят, что она страстно влюбилась в него и вышла замуж против воли родителей. Сейчас же после свадьбы молодые уехали и вернулись только тогда, когда Е. А. родила дочь и заболела. Болезнь у нее все развивалась более и более, и, наконец, через четыре года чахотка свела ее в могилу. Н.В. был сильно поражен ее смертью. Он любил ее глубоко и искренне. Мне говорили, что почти каждый день, в теплую погоду, Н.В. возил ее в нарочно сделанной для нее тележке по селу, возбуждая тем всеобщие насмешки.
После смерти Е. А., несмотря на упрашивания и даже требования тещи отдать ей ребенка, Н.В. взял свою девочку и скрылся. Воспитанием ее он занялся сам, и замечательно оригинально было это воспитание. «Он ее страстно любил, — сообщил мне А.И.У., - но любил опять-таки по-своему». И действительно, он делал все по-своему. Например, он купал ее следующим образом: разденет и спокойно бросит в воду. Ребенок, разумеется, кричит, силится выбраться на берег, отчаянно бултыхается ручонками, а он стоит себе спокойно на берегу…
В это время жизнь Н.В. была уже вполне кочевая. Неизвестно, с какими целями он бродил всюду по селам (уходил даже в дальние губернии), где, разумеется, не пропускал ни одного питейного заведения, — и везде в «своем» костюме и с девочкою — дочкой. Костюм этот был незамысловатый, а иногда просто нищенский. Вещей у него только и было, что с собой. А с собой он носил маленький мешочек, где лежала одна-другая рубашка, кое-какие «бумажонки» (рукописи) и простая, русская гармоника. Он с нею не разлучался. Дочка, наряженная в мужской костюм, тоже всюду сопровождала его — и по деревням, и по питейным заведениям. В Лобанове почти всякий мальчишка видал, например, такую сцену: идет Н.В. с своею дочкою и, наигрывая «барыню», подпевает самым развеселым образом что-нибудь вроде:
Любила я тульских, Любила «калуцких», — Елецкого полюбила — Сама себя загубила…Вообще наружно Н.В. казался веселым. Очень многие из его знакомых называли его «Мефистофелем», по чему легко можно судить о характере этой веселости. В пьяном виде он был смирен, среди мужиков — весел, а на заводе (в Лобанове винокуренный завод, куда он очень часто заходил), среди разных «подвальных» и рабочих — серьезен и задумчив. Пить начал Н.В. уже лет под сорок, то есть, разумеется, пить «как следует». Зная подобные отношения Н.В. к простому народу, тяжело было слушать рассказ одного заводского служащего, как однажды он «закатил в шею Н.В.». «Альни закувыркался!» — прибавил рассказчик с неприятным смехом. Да и не одно это — многое и очень многое тяжело было выслушивать, тем более, что не верить таким рассказам было невозможно: во-первых, — не могут же все врать, и одинаково, а во-вторых, за правдивость говорила и сама бесхитростная передача, не бившая на эффект или на «поражение» слушателя. Видимо, что все привыкли смотреть на Н.В. как на обыкновенного бродягу-пьянчужку. Вот что, например, рассказал мне лобановский кабатчик, с которым я, как будто незаметно, разговорился в целом обществе лобановских жителей о Н.В.
— Известно — бродяга был. Чудной какой-то. Он, может, там и ученый был, только мы этому не верили. Какое же, к примеру, ученье, когда шлялся нищебродом? Раз пришел ко мне. Мы с женой сидим, чай пьем. «Дай, пожалуйста, чайку стаканчик». — «Нету, говорю, весь уж выпили». — «Ну, хоть стаканчик!»
«Да нету же. — Зло меня даже взяло. — Не заваривать же для тебя».
«Ну, хоть теплой водицы из самовара; дай, ради бога — душа пересохла».
«Это, говорю, дело другое. Авось не жалко». Налил ему стакан воды. Так, поверите, затрясся, — глотает, обжигается. Потом говорит: «Дай водочки». — «Да у меня не кабак». — «Да ведь знаю, говорит, торгуешь». — «Ну, а знаешь — деньги давай». — «Денег нету». — «Ну, и водки нету». — «Так возьми, говорит, что-нибудь». — «А что у тебя?» — «Возьми штаны». Поглядел я штаны эти, а там вместо штанов опоясья одни остались. На кой они мне черт. — «Ну, возьми гармонию. Я потом выкуплю». Дал я ему за гармонию четверть. Он тут же всю ее с мужиками и выпил. Хорошо. Только дня через два — становой ко мне. Что такое? Оказывается, это все Николай Василич обработал. Подал заявление, что мы водкой без патента торгуем, и гармонию у него отняли. Да ведь как оборудовал! Совсем я было пропал, да следователь хороший попался. Рассказал я ему при свидетелях, что он гармонию мне подарил — ну и выпутался почти. Следователь даже поругал его. «Бродяга, говорит, ты! Как же ты можешь напраслину возводить на человека?» И действительно попутал его бог. Зарезался, слава богу, как пес какой…
«Слава богу, зарезался!» Может быть, и в самом деле к лучшему!
Действительно, жизнь Н.В. к этому времени стала уже совсем невозможная. Писать он уже перестал, знакомств хороших не осталось (все о нем как-то забыли), средств буквально никаких, и ко всему этому даже дочь его покинула. Измученная этой скитальческой жизнью, она убежала от отца к дедушке — А.И.У. и даже стала бояться его, возненавидела так — что, когда в прошлом году на Святой Н.В. явился в Лобанове и зашел к А. И., она бросилась с плачем и криком в задние комнаты, боясь, что отец ее опять возьмет с собою. Но Н.В. не употребил никакого насилия: молча, со слезами на глазах, он постоял несколько минут и, махнув рукою, ушел уже навсегда от родных.
Летом в этом же году один из приятелей и даже сотоварищей по кочеванью Н.В. (некто Дружинин) встретил его, кажется, где-то в деревне в Самарской губернии, в питейном заведении, и был поражен переменою его характера. Н.В. был в крайне печальном настроении духа. Он даже постарел за это время. «Прежнего Мефистофеля, — говорил Дружинин, — в Н.В. уже не осталось ни капли».
А немного спустя, в Москве, на одной из улиц, нашли зарезавшимся одного из первых и лучших представителей народнической литературы. В кармане у него оказалось восемь копеек! Эти восемь копеек, в виде наследства, были доставлены полицией опекуну его дочери — А.И.У. В столе у последнего они хранятся и до сих пор.
Дочь Н.В. теперь в Туле, в гимназии.
Вот те немногие сведения, которые мне пришлось собрать о Н.В. За достоверность их я ручаюсь. Их всякий может проверить в том же Лобанове. Они, по-моему, все-таки характеристичны и могут послужить хорошим мате риалом для будущей биографии Николая Васильевича. И пусть простит мне читатель, что я передал их в такой откровенной наготе. Ни опозорить, ни очернить память покойного я не хотел ими. Да и кто может отнестись с подобными мыслями к памяти человека, вся жизнь которого, в силу ли внешних обстоятельств или внутреннего разлада, была исковеркана и загублена. Не нам судить таких людей.
Нет, слушая рассказы о Н.В., представляя себе его одинокую, загубленную жизнь, я не смел улыбаться вместе с другими.
Думал я горькую думу!..
<1890>
Памяти сильного человека
(По поводу 70-летней годовщины со дня рождения И.С. Никитина — 21 сентября 1824 г.)
Однажды, пробуя свою силу, Никитин поднял громадную тяжесть… «что-то оборвалось у него внутри»… Это надломило его здоровье. Новая же неосторожность — ранней весной он бросился купаться в реку — доконала его совсем: сперва была горячка, а потом пришлось надолго лишиться ног и лежать в постели. Но редкая физическая мощь, удивительная сила духа долгие годы боролись с недугами. Не слабея, он выбивался из них с ранней юности… Наконец уступил… Последние дни в глубоком молчании он читал Евангелие…
Да, это был сын своего отца, первого бойца на кулачных боях в Воронеже, сын своего оригинального сословия. Какая полнота его лучших типических черт сохранилась в великом поэте! Всмотритесь в его лицо на портрете: и посадка, и черты лица, и эти немного приподнятые брови, и этот взгляд прекрасных скорбных глаз — взгляд искоса — все типично! Откройте его книгу — в языке поэта много своеобразных выражений, оборотов именно того говора, которым отличается его сословие. Вспомните его жизнь — это не жизнь легкомысленного интеллигентного пролетария, не беспечность артиста — сына дворянского поколения, «лишнего человека», поэта Михалевича, неудачника-мечтателя.
В его жизни — «дело идет своим чередом». К нему приучила его нужда и крепость и серьезность отцов и дедов. Оно «шею ему переело» (все выражения самого поэта), но он не бросает его. Более десяти лет был он хозяином и дворником своего постоялого двора. Целый день он хлопочет и переносит бесконечные разговоры с кухаркой о горшках, щах, солонине и пр., галдит с мужиками, размещая их телеги под навесом, отпускает овес, торгуется. «А утомившись порядочно за день, — читаем мы дальше в его письмах, — в сумерки я зажигаю свечу, читаю какой-нибудь журнал… берусь за Шиллера и копаюсь в лексиконе, покамест зарябит в глазах. Часов в двенадцать засыпаю и просыпаюсь в четыре, иногда в три часа. Рассвет застает меня уже за чаем». Да небось и этот короткий сон приходилось прерывать каждую ночь, вскакивать, заслыша стук кнутовищем в окно, накидывать полушубок, совать босые ноги в валенки, еще не высохшие на загнетке, и выбегать на мороз отворять ворота обозу, который, скрипя полозьями, пришел оттуда, где
Белеет снег в степи глухой, Стоит на ней ковыль сухой; Ковыль сухой и стар и сед, Блестит на нем мороза след… Простор и сон, могильный сон, Туман, что дым, со всех сторон, А глубь небес в огнях горит, Вкруг месяца кольцо лежит…Да и разве тому, кто написал это, не случалось самому лежать в такую ночь на возу, завеянном ночною поземкой, блестящем при месяце снежной пылью? Не случалось разве кружиться в бешеной вьюге степной ночи, ходить искать дорогу, утопать по пояс в сугробах, измокнуть в снегу и промерзнуть на морозе?.. Верно, не многие из нынешних поэтов, поющих «челн томленья, челн тревог», знают, какое это ощущение, когда полушубок станет «как кол» да сапоги задеревенеют («выскочил, как на грех, в нагольных сапожонках!») да в лицо, в глаза, в уши, в волосы набивает мокрым снегом, захватывает ветром дыхание!
Все это Никитин испытал, все видел и все-таки был крепок телом и бодр духом. Тоска его звучала в стихах энергией великого народного духа, силой энергичных своих слов, пережитых всем сердцем.
Мне доставались нелегко Моей души больные звуки, —говорила его многострадальная душа; но разве не он же восклицал в песне:
Оробей, загорюй — Курица обидит!Народный быт Никитин изображал неподражаемо… Посмотрите хоть на изображение природы!
В словах его, передающих ее картины, была та неуловимая художественная точность и свобода, та даже расстановка слов, тот выбор их, которыми руководствуется невольно только художник, знающий природу всем существом своим:
Весело сияет месяц над селом, Белый снег сверкает синим огоньком… И бог весть отколе с песней удалой Вдруг промчался в поле песенник лихой. И в морозной дали тихо потонул И напев печали, и тоски разгул!Красота ранней зари передавалась им так, что все стихотворение было как бы напоено ее росами, крепкой утренней свежестью, всеми запахами мокрых камышей.: холодком дымящейся алой реки, горячим блеском солнца… и вместе с стихотворением звенела веселым кличем:
Не боли ты, душа, отдохни от забот, — Здравствуй, солнце да утро веселое!Вечер, летний вечер в поле… как дышит им каждое стихотворение поэта!
В чистом поле тень шагает… Песня из леса несется, Лист зеленый задевает, Желтый колос окликает, За курганом отдается. За курганом, за холмами Дым-туман стоит над нивой, Свет мигает полосами, Зорька тучек рукавами Закрывается стыдливо. Рожь да лес, зари сиянье, — Дума, бог весть, где летает…Живою, почти осязаемой картиной встает перед вами его изображение степного простора, степного хутора, осеннего свежего утра:
Что за утро! Серебряный иней На зелени луга лежит; Камыш пожелтевший над речкою синей Сквозною оградой стоит… —или ноябрьского хмурого дня у большой реки:
Одеты серые луга туманом; То дождь польет, то снег летит, И глушь и дичь. На берегу песчаном Угрюмо темный лес стоит…И какою задушевностью, силой и простотой благородного чистого сердца звучало его заветное чувство:
…Тишина — не слышно звука, Не горит огня в селе. Беспробудно скорбь и мука Спит в кормилице-земле… Мир вам, старые невзгоды! Память вечная слезам! Веет воздухом свободы По трущобам и лесам!Я не знаю, что называется хорошим человеком. Верно, хорош тот, у кого есть душа, есть горячее чувство, безотчетно рвущееся из глубины сердца.
Я не знаю, что называется искусством, красотою в искусстве, его правилами. Верно, в том заключается оно, чтобы человек, какими бы словами, в какой бы форме ни говорил мне, но заставлял бы меня видеть перед собою живых людей, чувствовать веяние живой природы, заставлял трепетать лучшие струны моего сердца.
Все это умел делать Никитин, этот сильный человек духом и телом. Он в числе тех великих, кем создан весь своеобразный склад русской литературы, ее свежесть, ее великая в простоте художественность, ее сильный простой язык, ее реализм в самом лучшем смысле этого слова. Все гениальные ее представители — люди, крепко связанные с своей почвой, с своею землею, получающие от нее свою мощь и крепость. Так был связан с нею и Никитин, и от нее был силен в жизни и творчестве.
Кажется, переводятся такие люди. Подумайте над теперешней литературой: главная ее черта та, что в ней уже утрачивается этот особый склад и характер именно русской литературы. Многие новейшие произведения можно приписать какому угодно автору — французу, немцу, англичанину. А поэты? Они пишут триолеты, сонеты, рондо, на средневековые, на декадентские темы — и все выходит бедно, безжизненно, мелко… выдумывают феноменальные рифмы, высиживают нелепые образы с претензией па поэтичность, нелепые выражения. Да, мы маленькие, слабые, бедные люди!
Они сознательно уходят от своего народа, от природы, от солнца. Но природа жестоко мстит за это. Это твердо помнить!
1894
Е.А. Баратынский (По поводу столетия со дня рождения)
Взгляни на звезды: много звезд
В безмолвии ночном
Горит, блестит кругом луны
На небе голубом.
Ту назови своей звездой,
Что с думою глядит
И взору шлет ответный взор,
И нежностью горит.
Е. БаратынскийИмя Баратынского принадлежит к числу очень почетных имен нашей литературы. Всякому хорошо известно, что он занимал одно из первых мест в так называемой Пушкинской плеяде поэтов. Всякий еще со школьной скамьи помнит его классические описания могучей и суровой природы Финляндии, знает его величавую элегию на смерть Гете, а его стихотворения, положенные на музыку, и до сего времени производят глубокое и сильное впечатление. Но, к сожалению, этим по большей части и ограничивается знакомство русской публики с Баратынским, хотя его талант далеко не сконцентрировался лишь в этих произведениях и заслуживает лучшей участи, требует всестороннего изучения уже хотя бы потому, что поэзия Баратынского никогда не имела временного, текущего интереса, а сосредоточивалась с первых моментов своих на так называемых «вечных» вопросах, а если иногда и являлась откликом своей эпохи, то и в таких случаях была полна тех настроений, которые нельзя отнести к числу пережитых и уже сданных в архив. Меланхолия Баратынского, его раздвоенность, искание ответа на тревожившие его вопросы о смысле жизни, о смерти, наконец, его скорбный пессимизм, переходивший иногда даже в отчаяние, — все это такие мотивы поэзии, которые находили и до сих пор находят отклик в нашем обществе; если же к этому прибавить еще то, что душевная жизнь Баратынского постоянно была обвеяна дымкой поэзии, что картины его были сильны и классически рельефны, что стих его отличался редкою красотой и изяществом, то важность ознакомления с Баратынским станет вполне очевидна. В предлагаемой статье я постараюсь показать, что изучение его избранных стихотворений и поэм может иметь серьезное воспитательное и развивающее значение как для молодежи, так и для всякого мыслящего человека. В настоящее время пришла уже, кажется, пора, когда эстетическому воспитанию начинают отводить солидное место если не на практике, то, по крайней мере, в теории, и вполне понятно, что в этом деле на первый план выдвигается изучение отечественной литературы, так как эта отрасль знания не только способна выработать изящество и тонкость вкуса, но и содействует расширению умственного кругозора и развитию нравственных чувств, не говоря уже о том, что изучение родной литературы может наилучшим образом способствовать пробуждению и укреплению национального самосознания. При изучении же русской литературы нельзя, конечно, миновать и поэзию Баратынского.
До некоторой степени это делается и теперь, когда ознакомление молодежи с отечественной поэзией стоит еще в нашей школе на весьма низком уровне. Многие из стихотворений Баратынского составляют необходимую принадлежность всякой хрестоматии, а при изучении Пушкинского периода дается представление и о его поэзии. Но всем известно, как скудно делается это, и, разумеется, такого ознакомления с Баратынским крайне недостаточно: Баратынский, повторяю, заслуживает более серьезного внимания.
Не будучи по профессии педагогом, я не решаюсь излагать плана и программы изучения его поэзии, но полагаю, что настоящая статья будет нелишним напоминанием родителям и воспитателям относительно значения Баратынского в деле воспитания нашего юношества. Мне хотелось бы посильным выяснением сущности и характера поэзии Баратынского содействовать построению плана изучения ее. Но если я и не решаюсь говорить о самом плане, то все же считаю необходимым отметить, что, на мой взгляд, поэзия Баратынского, если не считать некоторых его описаний природы, может быть доступна лишь старшему возрасту воспитанников, так как она, по своему содержанию, касается серьезных и глубоких вопросов жизни и духа. Проникнутая тем настроением, которое может быть охарактеризовано словами самого поэта, приведенными мною в эпиграфе, она, несомненно, должна затронуть очень многие струны юной души в ту пору, когда она начинает тревожиться высшими вопросами, когда является жажда найти ответ на вопросы о сущности бытия, о назначении человека на земле, о его роли в людской безграничной толпе. А кто из нас не переживал такого периода?
Прежде чем приступить к характеристике поэзии Баратынского, считаю полезным остановиться на оценке ее со стороны наиболее крупных представителей нашей литературы, — оценке, свидетельствующей о том, что изучение Баратынского действительно заслуживает серьезного внимания. И вот что читаем мы у Пушкина и Белинского относительно Баратынского.
«Баратынский, — говорит Пушкин, — принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален — ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем как чувствует сильно и глубоко. Гармония его стихов, свежесть слога, живость и точность выражения должны поразить всякого, хоть несколько одаренного вкусом и чувством. Кроме прелестных элегий и мелких стихотворений, знаемых всеми наизусть и столь неудачно поминутно подражаемых, Баратынский написал две повести, которые в Европе доставили бы ему славу, а у нас были замечены одними знатоками».
Каковы же причины того, что поэзия Баратынского встречалась в обществе довольно холодно? По мнению Пушкина, таких причин было три. Во-первых, Баратынский, ранние произведения которого встречались с восторгом, в позднейших своих трудах перерос современное ему общество: «Песни его уже не те, а читатели все те же, и разве только сделались холоднее сердцем и равнодушнее к поэзии жизни». Второю причиной было отсутствие настоящей критики: «Класс читателей ограничен, и им управляют журналы, которые судят о литературе, как о политической экономии, о политической экономии, как о музыке, т. е. наобум, понаслышке, без всяких основательных правил и сведений, а большею частью по личным расчетам». В-третьих, играли роль «Эпиграммы Баратынского: сии мастерские образцовые эпиграммы не щадили правителей русского Парнаса». Говоря таким образом, Пушкин полагал, что Баратынскому «время занять степень, ему принадлежащую, и стать подле Жуковского и выше певца Пенатов и Тавриды» (т. е. Батюшкова).
Пушкин, как известно, был в очень близких и дружеских отношениях с Баратынским, — значит, ценил его не только как поэта, но как и человека. Он часто вспоминал Баратынского в своих поэтических произведениях. Так, например, живя в Бессарабии и говоря, что он бродит там с тенью Овидия, он так заключает свое стихотворение:
Но, друг, обнять милее мне В тебе Овидия живого.В другом стихотворении он пишет:
Стих каждый повести твоей Звучит и блещет, как червонец,Описывая в пятой главе «Евгения Онегина» зиму, Пушкин свое описание ставит ниже описания Баратынского:
Согретый вдохновенья богом, Другой порт роскошным слогом Живописал нам первый снег И все оттенки зимних нег… Но я бороться не намерен Ни с ним покамест, ни с тобой, Певец финляндки молодой.Кроме Пушкина, с большим уважением относились к Баратынскому и многие другие видные представители современной литературы и критики, как, например, кн. Вяземский, Галахов, Плетнев и т. д. Последний сулил ему даже славу Анакреона и Петрарки. Я не буду, однако, останавливаться на этих отзывах, а приведу еще только мнение Белинского о Баратынском.
Белинский в начале литературно-критической деятельности отнесся к поэзии Баратынского строго. В 1835 году в статье «О стихотворениях г. Баратынского», помещенной в «Телескопе», Белинский хотя и признавал в поэзии Баратынского ум, литературную ловкость, умение, навык, щегольскую отделку, но замечательными стихотворениями считал только немногие и полагал, что и они оставляют в душе читателя очень слабое впечатление. Спустя десять лет после этого Белинский писал о Баратынском уже совершенно иначе, хотя в некоторых отношениях сохранил на него свой прежний взгляд. Вот что мы читаем в статье Белинского «Русская литература 1844 г.», помещенной в «Отечественных записках»: «Баратынский мыслил стихами… Дума (курсив автора) всегда преобладала в них над непосредственным творчеством… Эта мысль или, лучше сказать, дума, всегда так тепла, так задушевна в стихах Баратынского; она обращается к голове читателя, но доходит до нее через его сердце». Дума Баратынского, по словам Белинского, полна страдания, в ней постоянно слышится вопрос, ответом является лишь одна скорбь поэта. «Читая стихи Баратынского, забываешь о поэте, и тем более видишь перед собой человека, с которым можешь не соглашаться, но которому не можешь отказать в своей симпатии, потому что этот человек, сильно чувствуя, много думал, следовательно, жил, как не всем дано жить, но только избранным… Мыслящий человек всегда перечтет с удовольствием стихотворения Баратынского, потому что всегда найдет в них человека — предмет вечно интересный для человека».
Так характеризовал Баратынского наш знаменитый критик и, говоря о его ранней кончине, замечал: «Оплакивая его преждевременную смерть, мы скорбим не только о потере поэта, но и человека: в Баратынском оба эти имени слились нераздельно».
* * *
«Wer den Dicher will verstehen Muss in Dichters Lande gehen»[31], —сказал Гете и в этих двух строках выразил мысль, которая впоследствии была развита в целую теорию, по которой понимание произведений искусства вообще и поэзии в частности оказывается возможным только тогда, когда изучены условия среды, породившие творческую деятельность того или иного художника. Теория эта, как известно, нашла между прочим своего блестящего истолкователя в Ипполите Тэне, хотя он придал, может быть, излишне большое значение географическим условиям страны и расовым особенностям представителей искусства. Понятие среды в этом случае должно быть, по-моему, взято в самом широком смысле слова, и только тогда мы не впадем в односторонность, объясняя характер художественного творчества. Здесь должны иметь место и влияния природы на художника, и принадлежность его к тому или иному обществу, и условия политической и социальной атмосферы данного времени, и, наконец, тот цикл идей, чувств и настроений, которые господствуют в изучаемую эпоху.
Однако одного изучения среды, понимаемой даже в таком широком смысле слова, недостаточно; необходимо еще изучить индивидуальные особенности художника, черты его характера, темперамента и умственных наклонностей, ибо самые условия среды в одном индивидууме преломляются так, в другом — иначе.
Что же мы видим при изучении характера Баратынского и среды, окружавшей его?
Баратынский родился и провел свое детство в Тамбовской губ., то есть в такой местности, которая, подобно всей остальной полосе средней России, не может своими природными условиями производить какого-либо сильного впечатления: все тихо, мирно, скромно; здесь чаще всего могут под влиянием природы возникать или элегические, или идиллические настроения. Элегический оттенок, несомненно, присущ очень многим русским поэтам, а в Баратынском он сказался особенно сильно. Но ему не чуждо и мирное идиллическое настроение. Вот, например, описание одного помещичьего имения в средней России, сделанное нашим поэтом:
Я помню ясный, чистый пруд, Под сению берез ветвистых, Средь мирных вод его три острова цветут. Светлея нивами меж рощ своих волнистых, За ним встает гора, пред ним в кустах шумит И брызжет мельница. Деревня, луг широкий, А там счастливый дом… туда душа летит.Не правда ли, как патриархально-мирна эта картина, какой идиллией веет от нее? Но в этой простой и незатейливой природе есть время года, которое вливает жизнерадостность в душу человека и смягчает его элегически-грустное настроение. Это время — весна, которая бывает особенно хороша в средней России, и у Баратынского мы находим превосходные описания ее.
Весна, весна! Как воздух чист! Как ясен небосклон! Своей лазурию живой Слепит мне очи он. Весна, весна! Как высоко На крыльях ветерка, Ласкаясь к солнечным лучам, Летают облака! Шумят ручьи, блестят ручьи! Взревев, река несет На торжествующем хребте Поднятый ею лед. …Что с нею, что с моей душой? С ручьем — она ручей И с птичкой — птичка! С ним журчит, Летает в небе с ней!Однако Баратынскому пришлось испытать на себе влияние и другой, более могучей и дикой природы: в течение шести лет ему пришлось прожить, состоя на военной службе, в Финляндии (Нейшлотский полк, в котором он служил, стоял в Кюмени). Природа эта прямо поразила его, приковала к себе его внимание и, несомненно, наложила глубокую печать на его душу. К этому надо прибавить, что в Финляндии Баратынский жил очень уединенно, и поэтому вполне понятно, что мрачное величие северной природы внесло в его душу много меланхолии и наполнило ее романтическим настроением, в особенности если принять во внимание, что скандинавские саги и сказания еще более упрочивали это настроение. Вот дивные строки из поэмы Баратынского «Эда», где он описывает Финляндию:
Суровый край! Его красам, Пугался, дивятся взоры;[32] На горы каменные там Поверглись каменные горы; Синея, всходят до небес Их своенравные громады; На них шумит сосновым лес; С них бурно льются водопады; Там дол очей не веселит; Гранитной лавой он облит; Главу одевши в мох печальный, Огромным сторожем стоит На нем гранит пирамидальный; По дряхлым скалам бродит взгляд; Пришлец исполнен смутной думы…Суровая финляндская природа, если и придала романтический характер поэзии Баратынского, описана им с такою реалистическою правдою (черта, вообще, свойственная русским поэтам), что его описания поистине являются и считаются классическими. Таковы, например, его знаменитые стихотворения: «Финляндия» («В свои расселины вы приняли певца…»), «Водопад» («Шуми, шуми с крутой вершины…») и мн. др.
Под конец жизни Баратынскому удалось побывать и за границей и между прочим испытать на себе влияние природы Италии, куда его тянуло еще с детства, так как любовь к этой стране рано возбудил в нем его гувернер, итальянец Боргезе, руководивший воспитанием поэта. И в более зрелом возрасте Баратынский мечтал об Италии:
Небо Италии, небо Торквато, Прах поэтический древнего Рима, Родина неги, славой богата, Будешь ли некогда мною ты зрима?..Италия пленила Баратынского. В одном из писем к Путяте из Неаполя он пишет: «На корабле ночью я написал несколько стихотворений», а про Италию вообще говорит так: «Понимаю художников, которым нужна Италия… Здесь, только здесь может образоваться и рисовальщик, и живописец».
Итак, мы видим, что условия природы вырабатывали в Баратынском главным образом элегическое и меланхолическое настроение. Воспитание его сложилось также неудачно, если не считать раннего детства. Будучи еще совсем ребенком, Баратынский был отдан в один из петербургских пансионов, о котором он писал своей матери: Je croyais trouver l'аmitie, mais je ne trouvais qu'une politesse froide et affectee, une amitie interessee[33]. Затем он поступил в пажеский корпус, где пребывание его закончилось плачевно: он был исключен без права поступления на службу (лишь благодаря ходатайству Жуковского он имел возможность поступить в военную службу), и это обстоятельство так сильно повлияло на него, что он, по собственному свидетельству, несколько раз решался покончить самоубийством.
Следовательно, и воспитание не могло создать в Баратынском жизнерадостного настроения.
Посмотрим теперь, как отразилась на нем его принадлежность к богатому аристократическому кругу[34]. Мне кажется, что это обстоятельство имело, как и по отношению ко многим другим русским писателям, и свои положительные, и свои отрицательные стороны, а в разбираемом нами случае сводилось, между прочим, к следующему.
Богатство дало Баратынскому, во-первых, возможность получить если не официально, то фактически хорошее по тому времени образование и знакомство с новыми языками, позволившее читать европейских авторов в оригинале; богатство и аристократический склад жизни создавали, сверх того, эстетическую обстановку, с раннего детства развивавшую вкус к изящному. Затем та же материальная обеспеченность устраняла Баратынского, как и многих других людей его класса, от непосредственной борьбы за существование, вследствие чего он на литературу не мог смотреть, как это часто теперь бывает, как на средство к жизни, и не мог поэтому спуститься до ремесленничества в искусстве. На искусство Баратынский смотрел очень возвышенно, в нем он видел и счастие, и горе своей жизни:
Природа, каждого даря особой страстью, Нам разные пути прокладывает к счастью: Кто блеском почестей пленен в душе своей, Кто создан для войны и любит стук мечей; Любезны музы мне. Когда-то для забавы Я, праздный, посетил Парнасские дубравы И воды светлые Кастальского ручья; Там к хорам чистых дев прислушивался я, Там, очарованный, влюбился я в искусство Другим передавать в согласных звуках чувство, И, не страшась толпы взыскательных судей, Я умереть хочу с любовию моей…[35]Я, конечно, далек от мысли объяснять страстность Баратынского к поэзии его состоятельностью и аристократическим происхождением; я говорю только, что эти обстоятельства создавали благоприятную почву для культивирования его преклонения пред искусством. Эти обстоятельства имели, однако, и свои вредные стороны. Будучи от природы человеком пассивного, чисто созерцательного характера, Баратынский еще более укреплял в себе эти черты, живя в довольстве помещичьей жизни (с 25 лет он оставил службу и жил то в Москве, то в деревне). Образ этой жизни не создавал для него никаких импульсов к проявлению активности, общественные же вопросы, в узком смысле этого слова, обыкновенно были чужды нашему поэту. Поэтому он главным образом сосредоточивался в своем внутреннем мире, мучительно ища и не находя ответа на вопросы этического и философского характера, и в этом-то и заключался трагизм всей его жизни.
К числу благоприятных условии развития Баратынского надо отнести то, что он имел возможность сойтись и подружиться с лучшими писателями того времени. Я уже говорил об этом: упоминал о его дружбе с Пушкиным, отмечал также, что он находил заботливое к себе отношение в лице Жуковского. Он был, кроме того, близок с Дельвигом, с Гнедичем, Плетневым, а во время своего пребывания за границей познакомился с представителями и европейской литературы, как Мериме, Сент-Бёв, Виньи, Тьерри, Нодье. В молодости Баратынский был знаком н с некоторыми из декабристов, и если не разделял их политической программы, то вполне сочувственно относился к их этическим идеалам и стремлению к свободе, о которой он говорил:
С неба чистая, золотистая К нам слетела ты; Все прекрасное, все опасное Нам пропела ты!По складу своего характера и умонастроения Баратынский и не мог даже принадлежать к политической партии, требовавшей и активности и энергии, столь чуждых рефлексирующему строю души его. Его стремления были направлены в иную сторону: поэзия, этика и метафизические вопросы — вот что занимало нашего поэта, и он в этом отношении сильно выделялся в толпе своего времени, в той умственной атмосфере, которая окружала людей двадцатых и тридцатых годов и которая может быть охарактеризована словом «романтизм». Романтизм царил тогда, как известно, и в Западной Европе и в России, и едва ли это было у нас только эфемерным веянием. Не буду останавливаться на характеристике этого, всем известного, умственного течения, — отмечу только, что оно, с его отрицательным отношением к современной прозе жизни, с его полетом в мир прошлого или в туманную область грез и видений отражалось различно на различных духовных организациях. У одних, как, например, у Байрона, у Лермонтова, романтизм создавал дух протеста; у других, как, например, у Жуковского, он облекался в мечтательность и сентиментализм; наконец, у третьих он окрашивался мрачным колоритом и содействовал развитию пессимистического взгляда на жизнь и человека.
Мрачное настроение, помимо всего этого, создавалось у Баратынского и всею тою общественною атмосферой, которая царила тогда в России. Всякому известно, какое время переживало русское общество в эпоху двадцатых к тридцатых годов нашего столетия, — в ту пору, когда пришлось жить и действовать Баратынскому. Правда, он, как я только что говорил, был чужд общественных стремлений (в узком значении этого слова) и не принимал в них участия; но все же он не мог не испытывать на себе духа той реакции, которая была тогда разлита в воздухе и мертвила всякое деятельное проявление жизни, чем у таких личностей, как Баратынский, еще более усиливала мрачное настроение.
Вот каковы в общих чертах были влияния среды, окружавшей Баратынского. Интересно взглянуть теперь, на какую почву падали эти влияния, какими индивидуальными особенностями отличался Баратынский в своем духовном облике.
* * *
К числу особенно характерных черт, свойственных от природы Баратынскому, надо прежде всего отнести его искренность и прямоту, то есть именно черты, без которых немыслима истинная поэзия. Баратынский был искренен и прям как в жизни, так и в творчестве. Эта прямота, по мнению Пушкина, даже вредила его популярности, как это было указано мною выше. В поэзии Баратынского никогда не было ни ходульности, ни ложного пафоса, ни желания позировать:
Я правды красоту даю стихам моим…[36] Что мыслю, то пишу…Кроме того, у Баратынского была еще драгоценная черта, опять-таки необходимая для настоящего художественного творчества: он был человеком очень самобытным и врагом подражательности. Он говорил:
Не подражай: своеобразен гений И собственным величием велик.Строгое отношение к подражательности заставляло Баратынского произносить иногда резкие приговоры разным писателям: так, например, о французских романтиках он писал Пушкину: «Мне жалки эти новейшие романтики: мне кажется, что они садятся не в свои сани».
Натура Баратынского, как я уже отмечал, была по существу вдумчивая, созерцательная и сосредоточенная в своем внутреннем мире. Борьба и активность были совершенно ему несвойственны. Хотя в дни своей юности он не был чужд шумной жизни и разгула, столь распространенного тогда в его кругу, хотя он пытался даже воспевать военные доблести, но все это было у него наносным и временным. Будучи еще юношей двадцати одного года, он писал:
Пускай летит к шатрам бестрепетный герой, Пускай кровавых битв любовник молодой С волненьем учится, губя часы златые, Науке размерять окопы боевые: Я с детства полюбил сладчайшие труды. Прилежный, мирный плуг, взрывающий бразды, Почтеннее меча; полезный в скромной доле, Хочу возделывать отеческое поле.По тем же свойствам своей натуры Баратынский дорожил тихим семейным счастьем, которое выпало на его долю. И само собой разумеется, что человек подобного склада не мог иначе, как с душевной скорбью и ненавистью, смотреть на шумевшую вокруг него жизнь с ее прозаическими заботами и меркантильными интересами. Но пассивность и созерцательность Баратынского не делали, однако, из него сухого педанта и резонера; он чувствовал и радости жизни и даже осуждал тех, кто чужд увлечений, не в меру рассудителен и хладнокровен:
Всем этим хвастать не спеши: Не редкий ум на это нужен — Довольно дюжинной души.Из тех же черт характера проистекала у Баратынского его нелюбовь к сатире, чел он сильно отличается от многих русских писателей. Если в поэзии Баратынского мы и встреча елся с эпиграммами, то это лишь исключения, а общий дух его поэзии совершенно чужд сатире, о чем он сам говорил и в своих письмах, и стихотворных посланиях. Так, в одном из писем к Н.В. Путяте он говорил: «На Руси много смешного, но я не расположен смеяться. Во мне веселость — усилие гордого ума, а не дитя сердца». В стихотворении Гнедичу он хотя и признает значение сатиры, говоря, что
Полезен обществу сатирик беспристрастный, —но о себе пишет так:
Но ты ли мне велишь оставить мирный слог И, едкой желчию напитывая строки, Сатирой восставать на глупость и пороки? Миролюбивый нрав дала судьбина мне, И счастья моего искал я в тишине; Зачем я удалюсь от столь разумной цели?Однако нелюбовь к сатире не означала у Баратынского примирения с условиями современной жизни; он лишь мало верил в могущество слова вообще, говоря, что «разумный муж» не может пытаться «изменить людское естество», ибо
Из нас, я думаю, не скажет ни единый: Осина — дубом будь, а дубу — будь осиной.Такой взгляд на непреложный ход вещей в жизни людей служил для Баратынского не успокоением, не приводил его к квиетизму, а, напротив, мучил его душу; говоря в одном из своих очень сильных стихотворений, что мы принуждены, подобно всем другим предметам мироздания, быть покорными своему уделу, он заканчивает это стихотворение такими поистине патетическими словами:
О, тягостна для нас… Жизнь, в сердце бьющая могучею волною И в грани узкие втесненная судьбою!..И действительно, жизнь поэта была полна муки, несмотря на внешнее довольство и счастие. У Баратынского бывали моменты, когда он как бы примирялся с жизнью, он говорит:
Не ропщите: все проходит, И ко счастью иногда Неожиданно приводит Нас суровая беда… —а в другом стихотворении даже оправдывает необходимость страданий:
Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам, Не испытав его, нельзя понять и счастья… Одни ли радости отрадны и прелестны? Одно ль веселье веселит? Бездейственность души счастливцев тяготит! Им силы жизни неизвестны…Но такие рассуждения поэта, будучи также окрашены меланхолией, были, повторяю, лишь преходящими моментами в его жизни и не вносили гармонии в его страдающую душу. В счастие, понимаемое в самом высоком и благородном смысле, он не верил:
…в искре небесной прияли мы жизнь, Нам памятно небо родное, В желании счастья мы вечно к нему Стремимся неясным желаньем… …Вотще! Мы надолго отвержены им! Сияя красою над нами, На бренную землю беспечно оно Торжественный свод опирает, Но нам недоступно! Как алчный Тантал Сгорает средь влаги прохладной, Так, сердцем постигнув блаженнейший мир, Томимся мы жаждою счастья…Отрицая таким образом возможность счастия вообще, Баратынский еще более не верил в истинное и прочное счастие для самого себя, и это неверие росло у него с годами по мере того, как он все более отдавался своим горьким думам о суетности жизни:
Страдаю я! Из-за дубравы дальней Взойдет заря, Мир озарит, души моей печальной Не озаря…Тяжелая скорбь настолько овладела душою порта, что он начинал утрачивать веру в красоту и поэзию:
Что красоты, почти всегда лукавой, Мне долгий взор! Обманчив он! Знаком с его отравой Я с давних пор.Однако отказаться от веры в красоту и поэзию было для Баратынского равносильно утрате жизни, ибо на поэзию он смотрел как на возвышенное и благородное проявление человеческого духа, как на отблеск того света, который ярко озаряет мир идеалов. Томясь под бременем своих дум, он начинал терять веру даже в силу и могущество человеческого разума:
О, человек! Уверься наконец: Не для тебя ни мудрость, ни всезнанья.Но и этого мало: когда лучшие стороны человеческой жизни стали казаться поэту одними лишь миражами и когда он не находил себе ни в чем успокоения, он стал даже прославлять смерть:
О, дщерь верховного Эфира! О светозарная краса! В руке твоей олива мира, А не губящая коса!И только в смерти поэт нашел действительное успокоение…
* * *
Такова была скорбная внутренняя жизнь и поэзия Баратынского. Будучи от природы человеком нежной и хрупкой организации, неспособной на борьбу, и будучи подавлен многими крайне тяжелыми условиями личной и ударов и нередко впадал в настоящее отчаяние, между тем как перед его духовными взорами рисовался чистый и лучезарный мир поэзии и идеалов.
Многим может, пожалуй, показаться, что ознакомление с такого рода личностью и с такой поэзией приведет лишь к пессимизму, который и без того овладевает в наше время многими умами. Могут сказать, что нам нужны другие поэты и другие песни, вдохновляющие на борьбу за жизнь. Но как ни кажутся с первого взгляда такие мнения справедливыми, они, по-моему, являются все же чрезвычайно односторонними. Душа человеческая очень сложна и требует ответа на самые разнообразные запросы. Если этого ответа не дается, она замыкается в узкие рамки и не получает возможности развиться во всей своей силе и полноте. Я говорю, конечно, только о тех сторонах духовной жизни, которые могут быть оправданы с нравственной точки зрения, а к таковым, несомненно, принадлежат те психические движения, которые направлены на разрешение вечных вопросов бытия и смысла человеческой жизни, то есть тех вопросов, над разрешением которых и мучился наш поэт.
Задача истинного воспитания не может сводиться к тому, чтобы отстранить человека от восприятия тяжелых впечатлений: истинное воспитание должно, напротив, пользоваться и этой стороной дела, лишь бы в результате получилось гармоническое развитие всех душевных способностей, а это достижимо только в том случае, когда человек будет ознакомляться с жизнью всесторонне, когда он будет в состоянии понять и почувствовать, какие идеи и настроения волнуют теперь наше общество и какие волновали поколения, создавшие нашу современную культуру. К числу таких умственных веяний принадлежит и философия пессимизма. Руководители юношества должны лишь озаботиться тем, чтобы этому течению философской мысли отвести надлежащее место, сопоставить его с другими течениями и создать для человека такой синтез взглядов в его миросозерцании, который бы обеспечивал для него возможность искреннего и разумного служения лучшим заветам человечества. Одними из средств к достижению такой воспитательной цели может служить изучение выдающихся образцов истинной поэзии в ее разнообразных направлениях и разветвлениях. Наша отечественная литература богата такими образцами. Она, как всякое живое и органическое целое, отражала в себе все главные веяния нашей общественной мысли, которая принимала самые разнообразные оттенки. Едва ли нужно доказывать, насколько богата эта литература Пушкинского периода. Если в лице самого Пушкина мы имеем удивительную ясность души и стройность миросозерцания, то другие представители этой эпохи с поразительною тонкостью и изяществом выражали, хотя и более односторонние, но несомненно глубокие движения человеческой души. Так, например, в поэзии Лермонтова мы встречаем бурный и яркий протест как против несовершенства человеческой жизни вообще, так и против того общественного строя, в котором пришлось жить поэту. В нежной и пассивно-созерцательной натуре Баратынского этот протест принял совершенно иную форму: не будучи способен на борьбу, этот поэт, как мы видим, лишь с тяжкою думой останавливался перед суровыми вопросами жизни, которая в конце концов задавила эту хрупкую душевную организацию. Но скорбная жизнь Баратынского была не только трогательна, но и поучительна: в его лице мы видим искреннего и страстного искателя, истины, и он был в полном праве сказать о себе:
…Я живу, и на земле мое Кому-нибудь любезно бытие. Его найдет далекий мой потомок В моих стихах. Как знать? Душа моя Окажется с душой его в сношенье, И, как нашел я друга в поколенье, Читателя найду в потомстве я.<1900>
Первые литературные шаги
1. Наследственность (прямая или атавистическая) писательского дара. — Любовь к литературе и степень начитанности того или другого из родителей.
1. Наследственность, может быть, сказалась. Была в нашем роду поэтесса (Анна Петровна Бунина); Жуковский из нашего рода. Но какова степень их родства с нами — но знаю… Отец читал много и с большой охотой (хотя мог не читать и по году), любил образный язык, сравнения.
2. Лица, благоприятствовавшие и препятствовавшие развитию литературного таланта.
2. Домашний учитель (готовивший меня в гимназию) немного рисовал, писал стихи (сатирические вирши на местные нравы), поощрял мои первые стихотворные опыты. Поощрял позднее, когда мне было лет двенадцать — пятнадцать, и старший брат Юлий. Родители радовались, но никакого влияния в этом отношении на меня не оказали.
3. Обстановка жизни в детстве и молодости. Первые прочитанные книги. — Ранние жизненные опыты или отсутствие их, способствовавшие или первые литературные шаги мешавшие развитию писательского дара.
3. В детстве — глухая усадьба в Орловской губ. (имения отца уже приходили в разорение). Потом — уездный город, гимназия. Жил в Орле, Харькове, Полтаве, — и все в радикальских кружках, — учился, немного работал в провинциальных газетах, странствовал по югу России, года два служил в полтавском губернском земстве статистиком, библиотекарем, временами порядочно нуждался. Первые прочитанные книги: «Одиссея», «Песнь о Гайавате».
4. Фантазия или наблюдательность как элементы первых творческих попыток.
4. И то и другое; преобладала, кажется, наблюдательность.
5. Под влиянием какого писателя (отечественного или иностранного) создалось первое произведение?
5. Начал стихами — писал под влиянием Пушкина, Веневитинова. Увлекался Надсоном (но недолго), Шиллером, Майковым.
6. Случайное совпадение фабулы (какой?) с фабулой отечественного или иностранного писателя.
6. (не ответил).
7. Первое написанное и оставшееся в рукописи произведение. — Когда? Какое?
7. Несколько тетрадей стихов.
8. Первое отправленное для напечатания произведение. — Когда, какое, куда и кому?
8. Стихотворение «Деревенский нищий», отправленное и напечатанное в мае 1887 года (в «Родине»).
9. Мытарства по редакциям. — Каким?
9. Не испытал. С сентября 1888 года стал довольно часто печататься в «Книжках Недели» Гайдебурова.
10. Возвращенные редакциями или издателями рукописи. — Кем и какие?
10. Стихов мне почти никогда не возвращали; рассказов, кажется, совсем никогда.
11. Первое напечатанное произведение. — Когда, кем и где?
11. См. пункт 8.
12. Было ли напечатанное первое произведение предварительно прочитано близким людям? — Их нравственное, критическое или практическое влияние.
12. И стихи и рассказы читал обычно перед отсылкой брату; кажется, только ему.
(на вопросы 13–16 не ответил).
17. Даром ли было отдано для напечатания первое произведение или за оттиски (или экземпляры). — В каком количестве?
17. Даром.
18. Первый гонорар. — Со строки, с листа или полностью за всю рукопись?
18. См. «Кн. Недели», — за три стихотворения в сентябре 1888 года, всего 21 р. (кажется, копеек по 25 за строку).
(на 19 вопрос не ответил).
20. Отношение родственников и посторонних лиц к первому напечатанному произведению.
20. См. пункт 2.
21. Напечатано первое произведение под своей фамилией или под псевдонимом? Каким?
21. Под своей фамилией.
22. Первые критические отзывы. — Где и кем?
22. Рецензия Ив. Ив. Иванова (в «Артисте», на книгу стихов, изданную мною в Орле в 1891 г.: «Стихотворения 1887–1891 гг.»), советовавшего мне бросить стихи и заняться лучше прозой.
23. Нравственная удовлетворенность или неудовлетворенность автора при напечатании его первого произведения.
23. Чудесный весенний день!
(на 24 вопрос не ответил).
25. Борьба за существование в начале литературной деятельности и теперешнее положение.
25. См. пункт 3. Теперь недурно, гонорары получаю большие.
<Речь на юбилее газеты «Русские Ведомости»>
Почетный академик И. А. Бунин приветствует «Русские ведомости» с благодарностью за то, что дали они русской литературе, и за их отношение к ней. Упомянув, что столбцы «Русских ведомостей» украшались именами бесспорными — именами Толстого, Салтыкова, Глеба Успенского, Чернышевского, Чехова, Короленко и другими, если и меньшими, то всегда приблизительно того же порядка и ценности определенной, устойчивой, а не созданной теми или иными обстоятельствами, — оратор остановился на позиции, которую занимали «Русские ведомости» по отношению к литературе за последние пятнадцать — двадцать лет. Известно, чем была русская жизнь за последние двадцать лет; известны и ее радостные, уродливые или ужасные явления. Чем же была русская литература за эти годы? Уродливых, отрицательных явлений было в ней во сто крат более, чем положительных. Литература эта находилась в периоде, во всяком случае, болезненном, в упадке, в судорогах и метаниях из стороны в сторону. И тысячу раз нрав был Толстой, когда говорил: «На моей памяти совершилось поразительное понижение
литературы, — понижение вкуса и здравого смысла читателей, публики». Говоря о типе писателя этого периода, оратор замечает, что он, писатель этот, малокультурный, чуть не подросток во многих и многих отношениях, и начал и жил он эксцессами, крайностями, подражанием, чужим добром. Он нахватался лишь верхушек знания и культуры, а возгордился чрезмерно. Он попал в струю тех течений, что шли с запада, охмелел от них и внезапно крикнул, что и он декадент, что и он символист, что у него — «новая мозговая линия», что он требует в искусстве самой коренной ломки всего существующего и самых новейших форм его. Послушайте писателя нового типа: он сам, своими устами или устами своего критика, — и чаще всего газетного, — скажет вам, что он создал несметное количество новых ценностей, преобразовал прозаический язык, возвел на высоту и обогатил стихотворный, затронул глубочайшие вопросы духа, «выявил» новую психику, был «мудр», «дерзновенен» и т. д.) А между тем, за немногими исключениями, не только не создано за последние годы никаких новых ценностей, а, напротив, произошло невероятное обнищание и омертвение русской литературы. «Немногое исчезло: совесть, чувство, такт, мера, ум… растет словесный блуд»… Исчезли драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота, — и морем разлилась вульгарность и дурной тон, — напыщенный и неизменно фальшивый. Испорчен русский язык (в тесном содружестве писателя и газеты), утеряно чутье к ритму и органическим особенностям русской прозаической речи, опошлен стих. Чего только не проделывали мы за последние годы с нашей литературой, чему только не подражали мы, чего только не имитировали, каких только стилей и эпох не брали, каким богам не поклонялись? Буквально каждая зима приносила нам нового кумира. Мы пережили и декаданс, и символизм, и натурализм, и порнографию, и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и «пролеты в вечность», и садизм, и приятие мира, и неприятие мира, и адамизм, и акмеизм… Это ли не Вальпургиева ночь!
А сколько скандалов было в этой ночи! Чуть не все эти кумиры начинали свою карьеру непременно со скандала. И какую поистине огромную роль играла во всем этом газета!
«Русские ведомости» не есть эта газета.
«Русские ведомости» никого не рекламировали, не гонялись ни за какой сенсацией, не создавали скороспелых репутаций, не подносили читателю сведений о частной жизни писателей и всяческих слухов о них, с неизменным спокойствием отмечали плюсы и минусы писателей, и перворазрядных, и второстепенных. «Русские ведомости» проявляли отношение неизменно беспристрастное даже и к тем, которые после шумной славы падали и подвергались в других изданиях, ранее превозносивших их, чуть ли не издевательству. «Русские ведомости» отмечали, конечно, с своей точки зрения, с которой можно и не соглашаться, — все ценное даже и у тех, которые по общему своему направлению совсем не подходили к ним. «Русские ведомости» игнорировали, замалчивали все нелепости и крайности литературы последних лет, справедливо полагая, что то внимание, которое в угоду толпе обращалось на них, лишь содействует их развитию, их популярности, хотя бы и скандальной.
«Русские ведомости» протестовали против тех течений в литературе и искусстве, которые задавались целью совершенно устранить из литературы этический элемент, проповедовать безграничный индивидуализм, разнузданность все себе позволяющей личности, прославлять под видом утонченности разврат, искоренить из литературы идеи общественности, разрушить веру в силу разума и проповедовать мистические туманы, шаткие метафизические построения, часто нарочито сочиненные, собственного изделия и весьма слабо продуманные, прославлять смерть, квиетизм и даже самоубийство. «Русские ведомости» порою указывали и на происхождение всего того, чем жила наша литература за последние годы: на общую расшатанность, неустойчивость нашей общественной мысли и неорганизованность общественного мнения, на нашу подражательность Европе, большею частью жалкую, ученическую, доводимую до нелепости и нередко сводившуюся даже к плагиатам; на низкие стремления выделиться не оригинальностью, а оригинальничаньем, на что имелся особо бойкий спрос со стороны нашей уродливо формирующейся буржуазии и всех праздных слоев общества; на увлечение некоторых из писателей, хотя и искренних, но неспособных вследствие отсутствия истинной культурности разобраться в явлениях жизни, в различных теориях, смешивающих движение вперед с чисто дикарским: отрицанием заслуг всех своих предшественников, несовершенство научных методов с крахом науки, дерзновенные полеты мысли с дерзостью, рост и разносторонность индивидуальности с развращенностью ее… Толстой особенно упирает на те подделки под художественные произведения, которые в таком огромном количестве появляются в наше время, и на роль газеты, журнала, критики, проводящих в жизнь эти подделки. «От газеты, журнала, критики, — говорит он, — зависит вся будущность просвещения европейского мира».
Речь свою И. А. Бунин закончил словами: «Господа, „Русские ведомости“ — один из самых благородных органов печати во всей Европе. Поклонимся же им за это благородство!»
1913
Интервью
Вернувшись из большого путешествия, поэт И. А. Бунин остановился проездом на один день в Одессе и поделился с нами кое-какими сведениями о своем путешествии.
— Путешествие наше (Иван Алексеевич путешествовал с супругой) началось, собственно, с Ниццы, откуда поехали в Марсель и затем пароходом в Северную Африку. В Сахаре мы остановились в оазисе Бискре, в котором пробыли семь дней. Дольше оставаться в оазисе являлось невозможным: начались жары и необычно знойный ветер, который туземцами мягко именуется «сирокко»…
Оттуда мы поехали в арабский город Константин, расположенный на горах и скалах северного побережья Африки. Это удивительно интересный и живописный город.
Проехав Тунис, мы оттуда на довольно старом и небольшом итальянском пароходе направились в Сицилию — в город Маццаро, расположенный в северо-западном углу Сицилии. Здесь мне пришлось пережить нечто ужасное, что едва ли когда-либо изгладится из моей памяти. Вместо обычных двенадцати часов езды из Туниса в Сицилию мы оставались в открытом море двое суток. Мы пережили жесточайший шторм…
Из Сицилии мы поехали в Неаполь, а оттуда на остров Капри к Алексею Максимовичу Горькому, у которого гостили две недели. Вид у Алексея Максимовича хороший, бодрый, свежий, хотя, в общем, он как будто немного похудел. Лицо загорелое, как у природного островитянина. Алексей Максимович всецело поглощен теперь чисто литературной работой, которой отдает почти все время. Им намечены планы нескольких больших трудов, среди которых имеется одна пьеса, остальные намеченные произведения с чисто беллетристическими фабулами. Некоторые произведения появятся, вероятно, в начало будущего года. Говорить подробнее о содержании и характере этих произведений я, по вполне понятным причинам, не нахожу, конечно, возможным. В частности, укажу, что Алексей Максимович очень зорко и внимательно следит за общественной, политической и литературной жизнью России: получает массу книг, газет и журналов; все последние новинки книжного рынка немедленно ему доставляются, и благодаря этому он, представьте, больше осведомлен об общественной и литературной жизни страны, чем некоторые, живущие в столицах. Взгляд его на нынешнее общее положение в стране, как и на состояние современной русской литературы, крайне печальный. Радоваться, по его мнению, нечему, ибо как страна, так и литература переживает теперь упадочный период. Некоторых, правда, и очень немногих из современных писателей он ставит очень высоко. Вообще же его симпатии клонятся к тем именно представителям новейшей литературы, которые, развиваясь сообразно со временем, все же остаются верными хорошим старым литературным традициям. В общем, из встречи с Алексеем Максимовичем я вынес весьма отрадное впечатление.
Из Капри мы, сопровождаемые Алексеем Максимовичем и его супругой Марией Федоровной, поехали в Неаполь, где пробыли вместе два дня. Там мы расстались. Путешествие я закончил через Афины, Смирну и Константинополь, откуда прибыл непосредственно в Одессу.
Вас интересует, веду ли я путевой дневник и намерен ли я изложить вообще свои путевые впечатления? На это могу ответить вам, что ведение дневника я считаю излишним, ибо все то, что неспособно запечатлеться в памяти, не оставляет, по-видимому, глубокого следа. А раз этого следа нет, то естественно, что воспроизводить эти мимолетные, скоропреходящие впечатления не следует. Впрочем, кое-какие заметки я делал, но не могу все же сказать, что настоящее путешествие выльется в какой-либо труд. Ибо сейчас я всецело занят мыслью об окончании повести «Деревня», начало которой напечатано в «Современном мире». Отсюда еду на два дня в Москву, а оттуда в Орловскую губернию — в деревню. Там я займусь энергично окончанием «Деревни». Это моя первая задача, а там посмотрим.
1910
Инцидент с Ф. И. Шаляпиным дал нам повод поставить писателям и артистам следующий вопрос.
— Поскольку художник может поступаться своими требованиями при творчестве в целях достижения гармонии с окружающими его творческими условиями?
Вот ответы.
И. А. БУНИН
— Ответить вообще легко, но трудно высказаться сколько-либо исчерпывающим образом по возбужденному вами вопросу. Тема слишком тонкая, деликатного свойства.
По-моему, наивно видеть в художнике существо особого порядка, так сказать, не от мира сего. И в сфере искусства он остается, прежде всего, человеком с известным комплексом ощущений, мысли… Влияя словом, работая кистью, действуя талантом музыкальным, — словом, во всех областях искусства, — художнику приходится иметь дело с людьми, с окружающими общественными условиями. Соприкасаясь с жизнью, воздействуя на нее и, в свой черед, подвергаясь ее влиянию, художник волей-неволей становится общественным человеком.
«Чистого» эстетизма я не понимаю, толки об этом изжиты и надоели.
В интересах поддержки какого-нибудь органа, исполняющего, по-моему, общественную службу, я могу поступиться резкостью тона, яркостью отрицательной картины, — например, по цензурным соображениям. Но если редакция сама захочет урезать меня в ущерб художественной правде, ради партийных или других мотивов, я никогда не уступлю в таком случае, хотя бы дело касалось изменения чуть-чуть. Ибо в этом «чуть-чуть» заключается тайна творчества. Помните рассказ Толстого о Брюллове, одним мазком изменившем картину ученика… Один неверный мазок может изменить произведение в совсем иную сторону.
Не должно быть посягательства на свободу творчества, не место элементу насилия в сфере поэта. Художник свободен от всех условностей, стесняющих полное проявление его личности. Если хотите, в момент творчества художнику «все позволено», но не в обычном понимании этого лозунга. Области искусства несвойственна зависимость от внешних форм и догматов.
Единственным, руководящим его деятельность<ю> критерием должно быть человеческое его сердце. К голосу сердца и велениям совести должен прислушиваться истинный художник. Этот верный собственный суд и укажет границы дозволенного и недозволенного.
Когда художник упивается, смакует рисуемые им картины только во имя лозунга «все позволено» и раскрывает низменную свою натуру, то читатель вправе сказать про эту натуру, что она — низменная.
По-моему, этот лозунг, выставляемый преднамеренно на знамени, подозрителен. Последователи лозунга, значит, чувствуют что-то неладное в своей деятельности, что хотят оправдать, освятить этим все покрывающим девизом.
1910
Вчера возвратился в Москву после летних каникул И. А. Бунин.
В беседе с нашим сотрудником писатель поделился своими впечатлениями, сообщил об исполненных за это время работах и литературных планах на будущее.
После морского путешествия на о. Цейлон с весны И. А. поселился в имении своей сестры в Орловской губернии. Прекрасная старинная усадьба, по словам И. А., как нельзя лучше располагающая к творческой работе.
— И действительно, все время я посвятил непрерывной и напряженной работе. Буквально за три месяца не вставал из-за письменного стола. Я привез с собой шесть небольших рассказов и повесть — произведения вполне законченные, посвященные описанию жизни современной большой повести-романа под заглавием «Суходол».
— В чем заключается содержание этого романа?
— Это произведение находится в прямой связи с моею предыдущей повестью «Деревня». Там в мои задачи входило изображение жизни мужиков и мещан, а здесь… Я должен заметить, что меня интересуют не мужики сами по себе, а душа русских людей вообще. Некоторые критики упрекали меня, будто я не знаю деревни, что я не касаюсь взаимоотношений мужика и барина и т. д. В деревне прошла моя жизнь, следовательно, я имею возможность видеть ее своими глазами на месте, а не из окна экспресса… Дело в том, что я не стремлюсь описывать деревню в ее пестрой и текущей повседневности. Меня занимает главным образом душа русского человека в глубоком смысле, изображение черт психики славянина.
В моем новом произведении «Суходол» рисуется картина жизни следующего (после мужиков и мещан «Деревни») представителя русского народа — дворянства. Книга о русском дворянстве, как это ни странно, далеко не дописана, работа исследования этой среды не вполне закончена. Мы знаем дворян Тургенева, Толстого. По ним нельзя судить о русском дворянстве в массе, так как и Тургенев и Толстой изображают верхний слой, редкие оазисы культуры. Мне думается, что жизнь большинства дворян России была гораздо проще и душа их была более типична для русского, чем ее описывают Толстой и Тургенев. После произведений Толстого и Тургенева существует пробел в художественной литературе о дворянах: нельзя же считаться с книгою Атавы, которая рассматривает дворянство со стороны его экономического «оскудения», как с художественным произведением. Мне кажется, что быт и душа русских дворян те же, что и у мужика; все различие обусловливается лишь материальным превосходством дворянского сословия. Нигде в иной стране жизнь дворян и мужиков так тесно, близко не связана, как у нас. Душа у тех и других, я считаю, одинаково русская. Выявить вот эти черты деревенской мужицкой жизни, как доминирующие в картине русского поместного сословий, я и ставлю своей задачей в своих произведениях. На фоне романа я стремлюсь дать художественное изображение развития дворянства в связи с мужиком и при малом различии в их психике. Эта работа, я предполагаю, составит содержание трех больших частей.
— А что является предметом ваших рассказов?
— В них тоже рисуются различные стороны народной жизни — мужиков и мещан. Причем меня интересует воспроизведение подлинной народной речи, народного языка. Рассказ ведется не от автора, а от имени действующих лиц. Хороший колоритный язык народа средней полосы России я нахожу только у Гл. Успенского и Л. Толстого. Что касается ухищрений и стилизации под народную речь модернистов, — то это я считаю отвратительным варварством.
— Каковы ваши планы на будущее время?
— В конце этого месяца намерен поехать на остров Капри к М. Горькому, с которым мы в переписке. Он усиленно работает и закончил последнюю часть «Городка Окурова». В сборнике «Знание» пойдет и моя повесть.
— Вообще нынешним летом я вполне доволен, — закончил И. А. — После усиленной работы отдыхал некоторое время около Одессы, над морем, на даче моих друзей, художников Нилуса и Буковецкого. По соседству жил С. Юшкевич, наезжал иногда художник Пастернак.
1911
После летнего перерыва с запасом свежих сил в Москву понемногу стали собираться писатели.
Возвратился на днях И. А. Бунин, поселившийся на текущий осенний сезон в одной из московских гостиниц.
Из окон его тихого номера, куда не залетает шум и суета города, задумчиво виднеется лишь осеннее небо да верхушки кремлевских храмов и башен.
— Мне, — говорит писатель, — нравится жить в таком месте, я нарочно хочу быть подальше от раздражающей обстановки, чтобы иметь полную возможность свободно, без помех, работать. А работать предстоит мне немало! Нужно писать и писать!.. Нынешнее лето прошло в этом смысле весьма продуктивно и дало, кроме того, массу интересного материала.
— Где вы провели это лето?
— По своему излюбленному обыкновению, в русской деревне. Гостил, между прочим, у А. С. Черемнова, сотрудничающего стихами в сборниках «Знание», — в северной части Витебской губернии. Огромный лесной край, чрезвычайно любопытный в бытовом отношении. Мне пришлось очень много ходить пешком, вступать в непосредственное соприкосновение с местными крестьянами, присматриваться к их нравам, изучать их язык. Причем я сделал ряд интересных наблюдений. У крестьян этой полосы, по моему мнению, в наиболее чистом виде сохранились неиспорченные черты славянской расы. В них видна порода. Да и живут они хорошо, далеко не в тех ужасных некультурных условиях, как наш мужик в средней России…
— Что вы написали в течение лета?
— Очень много стихотворений, а также и по беллетристике. Вот и теперь заканчиваю большую новую вещь, которая впервые будет мною прочитана в Обществе любителей российской словесности накануне юбилея. Помимо того мною задумана и даже начата одна повесть, где темою служит любовь, страсть. Проблема любви до сих пор в моих произведениях не разрабатывалась. И я чувствую настоятельную необходимость написать об этом. Не менее сильно ощущаю потребность писать стихи.
— А скажите, Иван Алексеевич, какое место в вашем творчестве занимает поэзия, что больше влечет вас: стихи или проза?
— Прежде всего я не признаю такого деления художественной литературы на стихи и прозу. Такой взгляд мне кажется неестественным и устарелым. Поэтический элемент стихийно присущ произведениям изящной словесности одинаково как в стихотворной, так и в прозаической форме. Проза также должна отличаться тональностью. Многие чисто беллетристические вещи читаются, как стихи, хотя в них не соблюдается ни размера, ни рифмы. У Толстого, например, в романе его «Война и мир» есть такие поистине поэтические описания, которые не уступят шедеврам стихотворного творчества. К прозе не менее, чем к стихам, должны быть предъявлены требования музыкальности и гибкости языка.
— Равным образом я отрицаю ту эстетическую теорию, которая поэзии предписывает только чисто художественные задачи, различает направления гражданских мотивов, лирику и т. п. По-моему, предметом поэтического воспроизведения может быть все многообразие действительности. «Мир идей и сюжетов велик!» Возьмите Байрона, Шекспира, Гете, Шиллера…
Поэт «на все откликается сердцем своим, что просит у сердца ответа». С этой точки зрения я считаю, что русская поэзия остановилась в своем развитии на Фете, Ал. Толстом. А последние пятнадцать лет представляют пустое место.
Мне говорят, что форма стиха сделалась теперь совершеннее, рифма богаче, поэтические образы смелее… Все это в высшей степени спорно, почасту рискованно, а глазное, искусственно и неприятно. Если сравнить того же Пушкина, «солнце русской поэзии», с существующими стихотворцами (я не буду называть имена), то… какое может быть сравнение?
У кого из современных поэтов вы найдете более музыкальный стих, чем, положим, в стихотворении «Для берегов отчизны дальней», или разве встретите в русской поэзии последних лет такие смелые, мощные образы, как в пушкинском «Обвале».
Что касается разнообразия размера или богатства рифмы, то и в этом отношении трудно соперничать хотя бы с Меем или Минским. Разница та, что у последних просто и естественно, в то время как нынешние блещут надуманными стихотворными «ухабами».
Мне думается, я буду прав, если скажу, что поэтический язык должен приближаться к простоте и естественности разговорной речи, а прозаическому слогу должна быть усвоена музыкальность и гибкость стиха.
1912
На днях исполняется двадцатипятилетний юбилей поэта И. А. Бунина.
В настоящее время И. А. Бунин — в Москве, и мы воспользовались этим, чтобы побеседовать с ним.
— Родился я в Воронеже, в 1870 году, — говорит Н. А. Бунин. — Детство проводил то в Орловской, то в Воронежской губ<ерниях>, в деревне, в имении отца. Принадлежу я к старому дворянскому роду, который уже дал нескольких представителей в русской литературе. Назову из них В. А. Жуковского, который был сыном помещика Бунина и пленной турчанки Сальмэ, и известную в свое время поэтессу екатерининской эпохи Анну Петровну Бунину.
Учился в елецкой гимназии, но, слава богу, мое казенное воспитание продолжалось недолго. Это дало мне возможность развиваться самостоятельно.
Жил в Орле, в Харькове, Полтаве, учился, немного работал в провинциальных газетах, странствовал по югу России, года два служил в полтавском губернском земстве статистиком, библиотекарем. Временами порядочно нуждался.
Писать я начал очень рано. Мое первое стихотворение было напечатано в «Родине», когда мне было всего шестнадцать лет. Вот оттого-то и приходится теперь, в сорок, два года, в старики записываться: двадцатипятилетний юбилей — это как-никак звучит солидно. С сентября 1888 года стад печататься в «Книжках Недели» Гайдебурова.
Пережил я очень долгое народничество, затем толстовство; теперь тяготею больше всего к социал-демократии, хотя сторонюсь всякой партийности.
В настоящее время в газетах появляется обо мне много неверного. Например, «Утро России» решило, будто я одержим «мировой скорбью». Может быть, газету ввела в заблуждение та грусть, которая сквозит в некоторых моих прежних юношеских вещах, но грусть — ведь это потребность радости, а не пессимизм, и отсюда еще очень далеко до мировой скорби. Я, наоборот, настолько люблю жизнь, что с удовольствием прожил бы хоть две тысячи лет.
Какое из своих произведений я считаю наиболее удавшимся? На этот вопрос трудно ответить.
Из всех написанных мною книг я все-таки считаю наиболее удачным «Деревню», «Суходол» (сборник повестей и рассказов 1911–1912 гг.). Затем некоторые стихотворения последнего периода и прозаические поэмы мои к странствований — «Тень птицы», «Иудея», «Пустыня дьявола». Что касается вообще странствований, то у меня сложилась относительно этого даже некоторая философия. Я не знаю ничего лучше, чем путешествие.
На нынешнюю зиму у меня был план кругосветного путешествия, но я себя чувствую неважно и не могу сказать, к чему сведется поездка — может быть, всего лишь к Испании и Италии. Вообще мне приходится за последние годы проводить зимы в теплых краях. Благодаря Этому, я хорошо знаю Турцию, не раз бывал в Софии, в Палестине, в Египте, в Нубии, в Сахаре, на Цейлоне, объехал северо-западное побережье Африки и, конечно, почти всюду бывал в Западной Европе. Путешествия играли в моей жизни огромную роль.
Вы спрашиваете мое мнение о современной литературе? Должен признаться, что меня, за немногими исключениями, современная литература совсем не удовлетворяет. Русская литература сейчас европеизируется. Я, конечно, не против этого; но, с другой стороны, нельзя не заметить, что эта европеизация дала пока лишь самые незначительные результаты. Дело в том, что то, что происходит сейчас в западной литературе, тоже не бог весть как ценно. Мы же стараемся гнаться за модой. К пресловутым стилизации и схематизации я отношусь вполне отрицательно. Это все порождения мертвого сердца. Когда человеку нечего сказать, то он обычно толкует об исканиях формы, прячется за стилизацию и т. д.
Вы замечаете, между прочим, что русская литература за последние годы, может быть, в связи с общественными течениями как-то растерялась и не знает, что сказать? В ней появилось что-то нервное, честолюбивое. Это какая-то боязнь отстать от последнего крика моды.
Следует отметить еще одну странность в характере современной литературы. Я подразумеваю, что она дает много пищи для рассуждений критикам, но зато, мне кажется, она утратила способность непосредственного воздействия на душу читателя. Между тем цель литературы Заключается именно в непосредственном, эмоциональном воздействии. И вот этого-то эмоционального, органического элемента слишком мало в произведениях современных писателей, но зато в них более, надо, элемента головного.
1912
Только что прибывший из Италии академик И. А. Бунин сообщает интересные сведения о жизни Максима Горького на о. Капри.
— Совершив небольшое путешествие по Европе, я в заключение заехал на остров Капри, где и провел всю зиму — около четырех месяцев. Вас, конечно, интересует Горький? Он по-прежнему бодр, жизнерадостен, преисполнен любви к труду. Не в его натуре ныть. С внешней стороны оторванность от родной земли как будто не сказывается на нем, но нет-нет да прорвется тоска по родным краям.
— Эх, — незаметно как-то в беседе вырвалось у него, — с каким удовольствием я бы проехался теперь по России, да еще в третьем классе, в самой гуще жизни!
— А как Горький относится к заграничным петициям о прекращении имеющегося против него дела?
— Все эти петиции, как и непрошеная инициатива некоторых московских газет, поднявших вопрос о снисходительном отношении к Горькому, конечно, крайне ему неприятны. Никто этим людям не давал права просить за него, и ему было бы крайне неприятно, если бы возникла даже мысль, что он в какой бы то ни было степени рад этим непрошеным ходатаям. Живя вдали от родины, он продолжает с неослабевающим интересом следить за общественной и политической жизнью России и ведет обширную переписку с разными концами России. Переписка ведется не только с интеллигенцией, но и с представителями трудового класса. Сильно огорчает Горького общий тон большинства писем. Нытье, жалоба на потерю интереса к жизни, на бесцельность ее — вот лейтмотив этих писем. Особенно огорчает Горького все чаще и чаще повторяющаяся в этих письмах мысль о необходимости покончить с жизнью, проповедь самоубийства. В связи с этим Горький написал для «Русского слова» большую статью, в которой подробно разбирает причины, вызвавшие теперешнее угнетенное настроение молодежи. А ведь голоса о бесцельности жизни раздаются почти исключительно среди молодежи. Разбираясь в этом ужасном явлении, Горький находит, что здесь, помимо политическо-общественных причин, сказывается еще давнишняя пропасть, лежащая между «отцами и детьми». Что дали вы нам, — вправе спросить дети своих родителей, — чтобы закалить нас к жизни, осмыслить жизнь? Тут Горький ополчается против современной русской литературы, забывшей… «забытые слова». Ее перестали уважать, ибо в ней так мало хорошей жизни, в ней много лжи и эгоизма. Она не способна бодрить читателя, вести его к жизни… Повторяю, одним из главных виновников нынешнего настроения среди молодежи Горький считает современную русскую литературу, не сумевшую должным образом воспитать нашу молодежь.
— Вы, вероятно, слыхали о лиге самоубийц?
— Да, слыхал. Ну, конечно, вся эта лига — миф с известной долей жульничества и шантажа…
— Жизнь вдали от родины не отражается на творчестве и работе Горького?
— Судя по крайне интенсивной работе в последние несколько месяцев, оторванность отражается лишь в очень незначительной степени. Помимо большого задуманного им труда, он за эту зиму написал повесть «Три дня» и несколько мелких вещей под общим заглавием «Русские сказки».
В сатирическо-символическом изложении сказки эти затрагивают различные стороны современной русской действительности. При мне он написал десять таких сказок, но думаю, что из них добрую половину придется напечатать за границей… Повесть же «Три дня» будет напечатана в новом журнале «Заветы»…
— Приятели Горького продолжают посещать его?
— О да. К нему часто наезжают знакомые и друзья. В мою бытность, например, его посетил Шаляпин, внесший своей бодростью, весельем и мощью много оживления.
— Ведь после известного инцидента с Шаляпиным отношения между ним и Горьким несколько изменились?
— Да, на Горького, как и на многих других, случай этот произвел тяжелое впечатление. Трудно было объяснить известный шаг Шаляпина. Прибыв, однако, на Капри, Шаляпин сумел доказать, что вся кампания против него — плод сплошного недоразумения, что он прежний, нисколько не изменившийся Шаляпин. И виноват он лишь в том, что слишком близко принял к сердцу нужды хора…
Кстати, у Шаляпина и Горького возникла интересная мысль — написать оперу о Ваське Буслаеве. Они и меня втягивали в это дело. Вопрос, впрочем, решится с приездом ожидающегося на Капри Глазунова, которому будет, конечно, предоставлена самая ответственная работа. О своем участии в этой затее я пока сказать ничего не могу. А дело интересное! Приезжал также на Капри А. Стахович, просивший Горького написать для Художественного театра пьесу, но Горький определенного ответа не дал. В ближайшее время на Капри ожидается много артистов Художественного театра. У Горького гостит теперь один из лучших современных украинских писателей, Коцюбинский. Как видите, Горькому не так уж скучно, как может казаться.
— И вы, вероятно, не без пользы провели зиму в Капри?
— Да, там хорошо, тепло, солнечно. Я все время пребывания на Капри особенно интенсивно работал. Написал повесть «Веселый двор», которая будет напечатана в «Заветах», еще две другие повести и несколько рассказов. Частью они уже напечатаны, частью будут напечатаны. Прибыв в Одессу, я полагал отсюда поехать отходящим завтра пароходом в Японию. Но чувствую себя плохо и решил путешествие в Японию отложить. Вероятно, проведу весну в Одессе.
1912
В Москву только что приехал из-за границы известный писатель И. А. Бунин. Нашему сотруднику удалось побеседовать с ним.
— Я очень однообразно, — сказал Иван Алексеевич, — провел зиму, прожив всю сплошь на острове Капри. Пришлось очень много работать: к этому там располагает тамошняя жизнь… Единственный человек, с кем встречался постоянно, — это Алексей Максимович Горький.
Вот уже вторую зиму я провожу с ним вместе.
Алексей Максимович очень нервничал в этом году. Причиной его волнения была амнистия. Она ведь много вызвала толков за границей. Надеялись и мечтали… Горький так рвется в Россию.
После ознакомления ко всему еще примешалось разочарование — амнистия ведь мало кого коснулась. Вначале Алексей Максимович хотел было ехать на родину, но потом раздумал. Останавливает его то, что он не утерпит, вырвется крик боли, а знаете, с чем это связано в матушке-России — опять беги. Все-таки ничего не могло помешать Алексею Максимовичу, и он в этом году работал, как никогда. Сейчас, он занят большой работой, готовит к печати роман, но содержание держит в большой тайне. Нашу однообразную жизнь только раз нарушило одно событие — приезд Ф. И. Шаляпина, прожившего с нами около недели.
Собрались мы с Алексеем Максимовичем устроить поездку по Европе, да никак не хватало времени. Горький был занят, да и я все время уделял подготовке нового сборника своих рассказов, который намереваюсь выпустить в октябре этого года.
— Скажите, Иван Алексеевич, а не думаете ли вы что-нибудь написать для синематографа и не обращались ли с этим к вам?
— Да, ко мне обращались, но писать пока я не намерен. И не думайте, потому что боюсь толпы, пошлости, — нет! И толпа и пошлость есть везде, от нее не убежишь. Дело в том, что я не выяснил еще точной формы. Писать же так, не представляя ясно, как нужно, я не умею. Я считаю вообще литературу для синематографа очень серьезным вопросом. Пора, и очень давно, действительным литераторам обратить внимание на эту область и изгнать безраздельно парящую пошлость. Но здесь стоит совершенно новый вопрос о форме таких произведений. Ее нет, и только теперь она начинает вырабатываться.
Наш разговор прервали. Ивана Алексеевича вызвали в другую комнату: просил кто-то по телефону. В окно билось солнце. Ровными пятнами ложилось на диваны и кресла. Они белели.
— Вот людям грустно живется, скучают, а мне это кажется странным и очень удивляет. Как можно скучать! Жизнь так интересна, человек же в своем знании ее ограничен, споро приходится умирать. Я бы согласился жить бесконечное количество лет, и если бы нашелся человек, который гарантировал мне жизнь в течение десятков тысяч лет, я не задумываясь заключил бы с ним контракт на каких угодно условиях.
У Ивана Алексеевича загорелись глаза, оживилось лицо, перед тем спокойное, нет, скорее строгое. Он как-то преобразился весь, помолодел.
— И, знаете, не правы говорящие об Агасфере, что он несчастный человек. Нет. По-моему, нет счастливее человека, чем этот вечный странник. Ведь он все видел, все знает и будет знать. Завидую ему… жаль, очень жаль, что нельзя с ним поменяться, я с огромным удовольствием бы сделал это…
1913
Ив<ан> Алек<сеевич> Бунин не наезжал в Одессу уже давно — в течение двух последних лет.
— Эти два года, — сообщил И. А., - я провел большею частью в Средней России. Был некоторое время в Москве, недавно заезжал на короткое время в Петроград, но больше жил в Орловской губ., в деревне. Какое настроение — вы знаете. И не обо всем напишешь. Деревня совсем опустела, деревня без людей. В Петрограде как живут — тоже всем известно. Литературные течения? Какие теперь новые литературные течения? Не то, что в прежнее время бывало, что ни зима, то два-три новых течения. С начала войны все ударились в военные темы. Потом, конечно, сбавили тон. События слишком грозные, их не так легко обнимешь. И сейчас в ходу военная литература, создающаяся, однако, ремесленным образом, больше литературными мастеровыми. В поэзии тоже ничего заметного.
— Из литературных явлений привлекло общее внимание известное выступление Горького…
— Да, пожалуй. Но в этом явлении затронуты не литературные вопросы. «Две души» Горького интересны с точки зрения общественной, публицистической.
— А какое отношение к вопросу о «двух душах»?
— На мой взгляд, Горький не сказал ничего особенно резкого, ничего обидного и ничего такого, что прежде не говорилось. Горький призывал к активности, сказал, что у нас много этой восточной инертности. Будем деятельны… Что тут оскорбительного для русского народа? Или враждебного? Из обидевшихся литераторов некоторые наговорили многое, не относящееся к делу.
— А видали вы в последнее время Горького?
— Виделся с ним в Петрограде. У него хорошее, рабочее настроение. Увлечен «Летописью», имеющей, очевидно, успех. Вообще, все, с кем приходилось говорить, довольны успехом журнала у публики. Отовсюду слышишь, что число подписчиков увеличивается, тираж растет. Хорошо работает и наше московское книгоиздательство писателей. Очевидно, спрос на настоящую литературу есть.
— Вы много работали за эти два года?
— Работал. Написал одну большую вещь, несколько маленьких. Большая — по тону имеет отдаленное сходство с «Господином из Сан-Франциско». Но, в общем, работал меньше. Война как-то подавляет. Живешь, в сущности, от утра до утра, от газет до газет. Одно постоянное ожидание чего стоит! Развернулось ведь нечто ужасное. Это первая страница из Библии. Дух божий носился над землей, и земля была пуста и неустроенна. Это подавляет!.. И кажется, что слово вообще не может дойти до человеческого сердца…
В Одессе И. А. пробудет несколько дней. Отсюда предполагал уехать в Крым, но, по-видимому, изменил свое решение.
1916
Примечания
1
Даты везде по старому стилю. (Прим. И. А. Бунина).
(обратно)2
Этим малым успехам много способствовала та светская жизнь, которую вел тогда юноша Толстой. Он поступил в университет сперва на факультет арабско-турецкой словесности, когда же, из-за своей светской праздности, не был переведен с 1-го курса на 2-ой, перешел на факультет юридический. Но и этот факультет не вызвал в нем охоты к университетскому образованию. Что вынесем мы с вами из университета? спрашивал он однажды одного своего товарища. Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись восвояси, в деревню? На что будем пригодны, кому нужны? Смерть князя Игоря, змея, ужалившая Олега, что же это, как не сказки, и кому нужно знать, что второй брак Иоанна на дочери Темрюка совершился 21 августа 1562 года, а четвертый на Анне Колтовской в 1572 году? А как пишется история? Грозный царь Иоанн вдруг с 1560 года из добродетельного и мудрого превращается в бессмысленного, свирепого тирана. Как и почему? Об этом и не спрашивается! Так уже и тогда стала обнаруживаться одна из самых главных черт его вызывающее презрение к общепринятому, тоже идущее из жажды освобождения, борьбы с подчинением. (Прим. И. А. Бунина).
(обратно)3
Всюду, где это не оговорено, курсив мой. (Прим. И. А. Бунина).
(обратно)4
Доктор Душан Маковицкий, домашний врач, друг и последователь. (Прим. И. А. Бунина).
(обратно)5
О колониях толстовцев он всегда говорил неприязненно: Жить святым вместе нельзя. Они все помрут. Одним святым жить нельзя. (Прим. И. А. Бунина).
(обратно)6
Умирающий кн. Андрей, Пьер в плену у французов, о. Сергий, сам Толстой… Наиболее заветной художественной идеей его было, думается, это: взять человека на его высшей мирской ступени (или возвести его на такую ступень) и, поставив его перед лицом смерти или какого-либо великого несчастия, показать ему ничтожество всего земного, разоблачить его собственную мнимую высоту, его гордыню, самоуверенность… Отсюда и постоянное стремление его видеть и развенчивать то, что таится в душе человека под всеми формами блестящей внешности. Почему так преклонялся он перед народом? Потому, что видел его простоту, смирение; потому что миллионы его, этого простого, вечно работающего народа, жили и живут смиренной, нерассуждающей верой в Хозяина, пославшего их в мир с целью, недоступной нашему пониманию. (Прим. И. А. Бунина).
(обратно)7
«Чем больше он думал в те часы страдальческого уединения и бреда, которые он провел после своей раны, тем более, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Все, всех любить, всегда жертвовать собой для любви значило — никого не любить, значило — не жить этой земной жизнью…» (Прим. И. А. Бунина).
(обратно)8
«Ну, хорошо, у тебя будет шесть тысяч десятин в Самарской губернии, триста голов лошадей. Ну и что же из этого? Что потом? Ну, хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире — ну и что ж? Что потом?» («Исповедь»). (Прим. И. А. Бунина).
(обратно)9
«Разве не тогда приобретал я все то, чем я живу теперь?» Приобретал и тогда, но сколь бесконечно мало в сравнении с тем, что приобретал на этом пути! (Прим. И. А. Бунина).
(обратно)10
«Тогда не было ни смерти, ни бессмертия». Ригведа. (Прим. И. А. Бунина).
(обратно)11
«Пусти, пусти меня!» Это и значит: «Вон из Цепи!» Но что там, за Цепью? «Пойди, посмотри, чем это кончится? Надо, надо думать!» (Прим. И. А. Бунина).
(обратно)12
Гордость кн. Н. С. Волконского, деда Толстого по матери, тоже была достойна поговорки. (Прим. И. А. Бунина).
(обратно)13
Одна из важных черт его характера: он был очень застенчив. (Прим. И. А. Бунина).
(обратно)14
Однажды он едва не погиб на медвежьей охоте. Правила такой охоты требуют отоптать вокруг себя снег на том месте, где стоишь, чтобы дать свободу движениям. Он и тут пренебрегает обычным: «Вздор, в медведя надо стрелять, а не ратоборствовать с ним» — и становится по пояс в снегу. Из лесу на него выскакивает громадная медведица, он стреляет в нее и промахивается, стреляет еще, в упор, но пуля застревает у нее в зубах, и она наваливается на него, — глубокий снег не дал ему возможности отскочить в сторону, — начинает грызть ему лоб; спасло его только то, что подбежал другой охотник и застрелил ее. (Прим. И. А. Бунина).
(обратно)15
На кумыс в Башкирию он ездил не только для поправления своих легких и отдыха от всяких своих работ, но и хотя бы временного освобождения от того мучительного бремени, которым всегда была для него городская жизнь: «от времени до времени он испытывал особенную тягу к природе и к первобытному существованию». И в Башкирии воскресал и душевно и телесно с необыкновенной быстротой. (Прим. И. А. Бунина).
(обратно)16
Он сам виноват, между прочим, и в том совершенно нелепом мнении, которое утвердилось за ним как о художественном критике: «Ни в грош не ставил Шекспира и восхищался бездарным писателем из народа Семеновым!» Семенов стал знаменит в этом смысле. Но вот несколько строк из одних воспоминаний насчет этого Семенова: «Однажды Л. Н. неожиданно вошел в залу, где читали вслух рассказ Семенова. — Как фальшиво! Ах, как фальшиво! — сказал он, морщась. Но, дослушав до конца, где говорилось о развращающем влиянии города на чистую деревенскую душу, он вдруг с особым жаром стал расхваливать рассказ: заставил себя расхваливать». (Прим. И. А. Бунина).
(обратно)17
пушечное мясо (франц.).
(обратно)18
Вы законченное маленькое животное (франц.).
(обратно)19
Какая прекрасная смерть (франц.).
(обратно)20
Курсив Толстого. (Прим. И. А. Бунина).
(обратно)21
Курсив Толстого. (Прим. И. А. Бунина).
(обратно)22
вечно единственное (нем.).
(обратно)23
Вечное молчание бесконечных пространств пугает меня (франц.).
(обратно)24
Здесь и далее курсив И. А. Бунина.
(обратно)25
Далее следуют выписки из рассказов «Дама с собачкой», «Ионыч», «Невеста».
(обратно)26
В присутствии врача все полезно! (лат.)
(обратно)27
Я не вижу, о чем писать (франц.)
(обратно)28
Восстановление в первозданном виде (лат.)
(обратно)29
Ничто человеческое не чуждо (лат.)
(обратно)30
Не много слов, но много смысла (лат.)
(обратно)31
Кто хочет понять поэта, тот должен отправиться в его страну (нем.)
(обратно)32
Курсивы мои. (Прим. И. А. Бунина.)
(обратно)33
Я думал найти дружбу, но нахожу только холодную и подчеркнутую вежливость и небескорыстное внимание (франц.)
(обратно)34
Род Баратынских древний и ведет свое происхождение от древнего польского рода герба Корчек. В словаре Брокгауза и Эфрона говорится, что правильнее писать «Боратынский», а не «Баратынский». (Прим. И. А. Бунина.)
(обратно)35
Курсивы мои. (Прим. И. А. Бунина.)
(обратно)36
Курсив мой. (Прим. И. А. Бунина.)
(обратно)

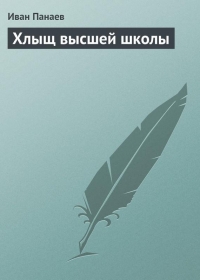

Комментарии к книге «Том 9. Освобождение Толстого. О Чехове. Статьи», Иван Алексеевич Бунин
Всего 0 комментариев