Николай Алексеевич Некрасов Собрание сочинений в пятнадцати томах Том 7. Художественная проза 1840-1855
Макар Осипович Случайный*
I
— Милостивый государь! Как вы смели наступить мне на ногу и не извиниться?! Вы забываетесь! Из этого может выйти история!
— А по мне хоть география!
Разговор на балеБал. Комнаты набиты самым пестрым народом. Много различных пехотинцев; кавалеристов, кажется, ни одного. Это бал, как бы сказать? среднего круга. Именно среднего, хотя вы и встретите тут двух-трех аристократок с мужьями; но они здесь как доказательство того, что общество тянется непрерывною цепью через все ступени гражданской жизни, — они, сказать точнее, переходные звенья от высшего круга к среднему. У подъезда три-четыре четверни, а последние экипажи — извозчичьи, кареты парами да дрожки. Эти балы бывают довольно скучны, потому что большинство гостей стеснено аристократией, которая обращает на себя общее внимание, зевает сама от скуки, дует губы и губки, танцует из милости. Здесь нечто вроде вавилонского столпотворения, где одни не понимают языка других. Балы этого рода бывают обыкновенно у людей случайных, ставших, по заслугам или иначе, на видную степень и необходимо имеющих, вследствие того, частые сношения с знатью, наряду с которою поместила их табель о рангах, а не порода. На таких балах всегда бывает ужасно много суматохи: всё что-то невпопад и как-то ненатурально связано.
Дело подходило к ужину; готовились танцевать мазурку. Молодой человек лет двадцати пяти выбрал поудобнее место, в простенке между окнами, и ожидал, задумавшись, начала мазурки. Но музыканты только шумели, настраивали скрыпки, перебирали ноты. Струны лопались, натягивались новые, а между тем суетливая молодежь осаждала музыкантов вопросами: играете ли из «Фенеллы», из «Цампы», из «Роберта» или «Нормы»?.. а какой-то франт, украшенный реденькими рыжеватыми усиками и лысиной, в синем фраке, с virtuti militari[1] в петличке, кричал громче всех, прыгал и требовал Хлопицкого. Он торжественно объявлял всякому за новость, что это прекрасная мазурка.
— С кем ты танцуешь? — спросил какой-то офицер задумчивого молодого человека. — Не с этой ли провинциалкой, вот, что сидит направо?
Зорин молчал; между тем дама, о которой говорил офицер, скрылась в анфиладе комнат с улыбающимся светлоликим господином при звезде.
Нашего молодого человека звали Зориным, он недавно из Москвы; любовь привела его в Петербург; он в чине 9 класса. Родители его милой люди достаточные, но у них большое семейство, и они не могут дать ей многого. Они также не более полугода приехали в Петербург. Зорин приехал не более месяца. Лёленька любит его, но он не может надеяться обладать ею скоро: он знает старика. Человек, что называется, положительный, этот старик в жизни своей ни на что не решался, не сообразив предварительно на счетах, выгодно или невыгодно? И вот наш Зорин решился во что бы ни стало добиться порядочного места, которое бы могло обеспечить его семейную жизнь. Он имеет рекомендательное письмо к какому-то действительному статскому советнику Случайному, но не знает об успехе рекомендации, потому что был уже несколько раз и не заставал его дома; в последний раз он оставил письмо. Всё к лучшему: на днях он узнал, что у этого Случайного открылась ваканция в канцелярии. Вероятно, он не приискал еще никого. «И как кстати я теперь явлюсь к нему, когда он уже предупрежден письмом! — думал Зорин. — Потом мои убеждения подкрепят письмо, и дело в шляпе, и Лёленька, или, говоря, как принято, Елена Александровна, — моя!» Лёленька обещала быть на бале. Один приятель его, знакомый в этом доме, имевший поручение привезти четырех кавалеров, с радостью вызвался привезти его в числе прочих и отрекомендовать. Зорин ждал бала с большим нетерпением; он думал, что это будет рай наслаждения. Лёленька обещала танцевать с ним две кадрили и мазурку; но вот уже скоро двенадцать, а ее нет! — досадно, нестерпимо. А он, в ожидании ее, не танцевал ни одной кадрили, тогда как здесь есть дамочка, право, премиленькая; конечно, — это не она, однако ж лучше б поболтать с ней, чем стоять у окна обрубком и увертываться от хозяина, бегающего из угла в угол, от одного гостя к другому, с вечным вопросом: «Что же вы не танцуете? вот возьмите хоть мою дочку, она, кажется, без кавалера».
Тут еще подбежал и приятель его и говорит:
— Пожалуйста, танцуй! хозяин несколько раз спрашивал меня: что ваш товарищ не танцует?
— Да, право, дам нет.
В это время подбежал хозяин и, услышав его слова, схватил его за руку, потащил через комнату к даме в голубом платье и шепнул, поставив его перед нею: «Просите ее превосходительство на мазурку!»
— На мазурку! — сказал он почти машинально. Кажется, дама согласилась, — едва слышно пролепетала она что-то и опустила глазки.
«Она довольно мила», — подумал Зорин; поклонился и отошел, чтоб приготовить место. Дама, которую он ангажировал, была в самом деле недурна: двадцать с небольшим лет, русые локоны, голубые глаза, черты лица довольно приятные, но с отпечатком деревенской простоты; вообще в ее движениях была видна неловкость провинциалки; ей было неловко на шумном бале, она мало танцевала, потому что почти не имела знакомых и к тому же старалась держаться в стороне, чувствуя какое-то неудобство, когда сидела на виду, подверженная очкам, лорнетам и просто глазам бальных франтов.
Зорин ожидал начала мазурки, отчаявшись уже увидеть тут Лёленьку. И вот смычки ударили, пары разместились вкруг залы, и первая пара открыла мазурку. Зорин натянул перчатку и побежал отыскивать свою даму… туда — сюда: нет! и след простыл.
— Не видали ли вы дамы в голубом платье и токе с перьями? — спросил он какого-то старика в вицмундире. Тот посмотрел на него и ничего не отвечал.
Зорин побежал дальше, спрашивал о даме с кавалером со звездой: нет! Он воротился и вдруг в дверях встретил отца Лёленьки и мать, а за ними и самую Лёленьку.
— Что это ты бежишь?
— Ах! я ищу дамы! — сказал Зорин, едва опомнившись и чрезвычайно обрадованный неожиданною встречею.
— Ну, вот тебе и дама! — сказал старик, указывая на дочь.
— Я и то дала им слово, — сказала Лёленька и протянула Зорину руку; Зорин схватил ее и пошел с Лёленькой к своему месту; но только он дошел, как его дама с своим светлоликим спутником идет прямо на него, запыхавшись…
— Извините, пожалуйста, мою жену; она опоздала, она была в уборной.
— Да, извините меня! — сказала дама и протянула руку, покраснев и опустив глазки. Но Зорин отступил и начал в свою очередь извиняться: наговорил извинений кучу и кончил тем, что уже ангажировал другую. Он не мог отказаться от Лёленьки; ну а это, думал он, как-нибудь обойдется.
Но господин со звездой огорчился; дамочка смешалась и не знала, что отвечать, так что самому Зорину стало жаль ее. Все смотрели на них. Зорину делать было нечего; он поклонился и пошел к своему месту.
Дама с мужем уехала.
Хозяин, проводив их, после напрасных упрашиваний остаться, подбежал к Зорину с упреками.
— Ну как же это можно, такая рассеянность; а они уехали… это невежливо… на что это похоже? — и пошел.
Зорин выдержал этот залп; выдержал еще несколько косых взглядов и улыбок, выдержал довольно длинный выговор от товарища, — делать нечего: это для Лёленьки. И в самом деле, она стоила такого пожертвования; она с таким милым участием начала его расспрашивать: в чем дело? Он рассказал по порядку, как он не танцевал, ожидая ее, как ему навязали эту даму, как она скрылась, как он был счастлив, встретив Лёленьку, и как потом был несчастлив, и как теперь опять тысячекратно счастлив.
— Будто вы меня не знаете, не могли сказать, что имеете даму, а я не большая охотница до танцев, вы знаете, я бы могла и не танцевать, — сказала Лёленька и повернула голову к дверям, где стоял стройный офицер с черными усиками и красными отворотами. Издавна существует и со времен Грибоедова известно и ведомо всякому сочувствие московских барышень с гвардейским мундиром; к тому же офицер не танцевал и пристально рассматривал Лёленьку. Мне показалось, что Лёленька сказала своим взглядом: вы бы не были без дамы. Может быть, я и ошибаюсь. Впрочем, я уверен, что она, несмотря на слова свои, рассердилась бы на Зорина и из мщения танцевала бы с гвардейцем… мщение извиняет всё.
— Но отчего вы так поздно приехали?
— Ах, это совсем нечаянно: сегодня поутру генеральша Лоскуткина прислала папеньке билет на бенефис какого-то молодого актера, и вот мы поехали. Семь или восемь водевилей было выставлено в афишке; я просидела целый вечер и не могла ничего разобрать: весь спектакль казался мне одним попурри в 15-ти действиях. Я решительно не могла разобрать, где оканчивалась одна пиеса и начиналась другая; впрочем, кажется, многие были довольны; шум был ужасный, вызывали актеров, хлопали, кричали. Мусье Щипцов говорил, что кричат четырнадцатые классы, прапорщики и студенты, папенька говорил, что это неправда — кричит раек, а мне кажется — кричали все… такой шум! у меня голова до сих пор кружится.
— Так вот отчего вы так поздно.
— Да, начали разъезжаться в первом.
— Ужасно.
«Вам танцевать, вам танцевать!» — закричали несколько голосов, и Зорин с Лёленькой пошли. Лёленька чрезвычайно мило скользила по паркету, выказывая атласный носик своей хорошенькой ножки. Зорин ловко провел ее вкруг залы; три раза повернулись; по закону фигуры он должен был выбирать даму, она — кавалера. Он выбрал первую попавшуюся под руку, она… она выбрала гвардейца, вследствие известного вам сочувствия с мундиром. Гвардеец перегибаясь повел Лёленьку, не сводя с нее глаз, она опустила глазки и, тихо улыбаясь, полетела быстро… они сделали три круга. Гвардеец что-то говорил, она ничего не отвечала, но ее улыбка была умнее всякого ответа… ее улыбки имели странное свойство говорить чрезвычайно выразительно и еще так, что их понимал только тот, к кому они относились. Зорин не понял ее улыбки, сделанной гвардейцу, хотя подсмотрел ее, пробежав с выбранною дамою полтура вскороспелку.
Когда Лёленька села, она долго не могла ничего говорить от волнения.
— Вы устали? — спросил Зорин.
— Да, — сказала она, тяжко дыша.
— Кто этот офицер?
Она не отвечала и только махнула веером в знак усталости.
Бал продолжался часов до шести. Лёленька была чрезвычайно мила, но Зорину не нравилось, что офицер беспрестанно втирался между им и ею. Всё это испортило для него совершенно первый петербургский бал. Он был недоволен. Посадив в карету Мирятевых, он взял извозчика и отправился домой. Долго он ехал от Шестилавочного переулка до Обухова моста, где занимал квартиру. В октябре месяце, вы знаете, как хороши петербургские улицы: только но Невскому можно ездить, и то, если не было заморозков.
Зорин, избитый трясучей мостовою, недовольный собою и всем миром, приехал и лег. Часов в двенадцать он встал, с головною болью, и собрался к Случайному; хорошо, что было недалеко. Случайный принимал в два часа. День был порядочный, мостовая обсохла, и Зорин благополучно, без приключений, добрел до дому. Позвонил. Человек, во фраке, переделанном из господского вицмундира, встретил его и провел в залу. В зале никого; только попугай кричит: «Барину сала! барину сала!» — да из дальних комнат слышится стук ножей и смешанный говор нескольких голосов; у пробежавшего через залу лакея он спросил: скоро ли выйдет генерал?
— Извольте пообождать четверть часа, его превосходительство закусывает.
Пока он ждет, я расскажу вам, что за человек генерал Случайный.
Французы бы сказали, что он съел бешеную корову, то есть, по-русски, прошел огнь и воду. Сын бедного священника в Малороссии, он сначала служил в каком-то армейском полку. Тому лет двадцать наша армия не слишком была богата грамотными офицерами, были лихие ребята, славные служаки, молодцы под огнем неприятельским, молодцы везде, даже в залихватской мазурке, но не с пером в руке. А наш Случайный хоть и на медные деньги выучился, а бойко строчил, когда случалась оказия. Справедливо кто-то сказал, что прямой талант везде найдет защитников. И Случайный не засиделся. Он попал в полковые адъютанты, оттуда в бригадные и так далее. Лет через 10 он был уже где-то полицмейстером, в чине подполковника. Славно распоряжался он на пожарах и в особых поручениях. Теперь он, не в пример прочим, действительный статский советник и уж исключительно состоит по особым поручениям у кого-то. Это его, так сказать, послужной список; но и в домашних делах он был не менее счастлив. Теперь он женат во второй раз и, как говорит сам, женат по любви. Но до этого его сердечная история довольно разнообразна. До густых эполет у него были различные любовишки; он открыл гораздо прежде барона Брамбеуса, что любовь не одна, а много любвей. Бывши штаб-офицером, он сделал чрезвычайно выгодную спекуляцию женитьбой на купчихе; когда он женился, у ней было сто тысяч, через несколько времени оборотливый ум Случайного сделал из них огромный дом и несколько сот тысяч. Злые люди говорили, что это было дело не совсем чистое. Не может быть! Случайный — честнейшая душа. Впрочем,
Пусть бранят, Говорят Злые люди, что хотят!А Случайный жил себе да поживал подобру-поздорову. Богатая жена умерла, оставив после себя несколько человек детей; теперь у него, как отца, в руках всё имение. Года два с половиной ему стукнуло 45; он поехал к себе в Малороссию и женился в другой раз, как я и упоминал, по любви. Говорят, что и она вышла за него по любви; ей было 19 лет. Да, исчисляя качества и принадлежности Случайного, я забыл, что у него есть звезда, которая чрезвычайно блестит на темном вицмундире, и лысина, впрочем прикрытая превосходной накладкой. Ей, то есть жене, 19 лет; впрочем, я сказал уже это, извините за повторение. Теперь несколько слов о его наружности… но слышны шаги из другой комнаты. Зорин встал, обтянул фрак и ожидал с трепетом появления его превосходительства.
Вот шаги ближе и ближе, — вот за дверью затихли, и Зорин выслушал длинный разговор о ценах на овес и сено. Между тем он приготовлялся, как начать приветствие; тысячи различных вступлений вертелись в голове Зорина, и он не знал, на котором остановиться. Между тем два голоса слышались за дверью, и один казался ему как-то знакомым; и ему слышалось, будто ему тут же шептал кто-то на ухо: «Извините мою жену!», и Зорин опять начинал обдумывать свое приветствие. Тут вошел высокий мужчина с обычной фразой: «Что вам угодно?»
Зорин пристально взглянул на него и смутился. Перед ним стоял тот самый генерал со звездой, который с своей супругой раньше всех уехал с бала Ж**, по известной причине.
— Если не ошибаюсь, то я уже имел счастие несколько ознакомиться с вашим превосходительством вчера вечером, — сказал Зорин.
— Очень помню; помню и то, что там был какой-то грубиян, который делал разные мещанские выходки и стыдил своими поступками тех, кому приводилось иметь с ним дело.
Зорин ясно понял, к кому относились эти слова; грубый, решительный тон Случайного придавал им еще более выразительности; однако ж Зорин выдержал это довольно хладнокровно.
— Извините; я не знал, что это вы… ваша супруга… я был рассеян… я почти не знал, что делал вчера…
— Не понимаю, зачем вы после такого поступка пожаловали в мой дом; разве затем, чтоб объявить, что были вчера не в своем уме?.. я это и сам видел.
Зорин вспыхнул, краска покрыла лицо его; он готов был наговорить Случайному колкостей, сделать еще более, но одна мысль удержала его: «Что же я скажу отцу Лёленьки?» — спросил он себя — и вмиг лицо его приняло вид смиренный, даже, можно сказать, умоляющий.
Он напомнил о письме и начал объяснять Случайному свое дело.
— В мою канцелярию — грубияна, человека дурных правил! — покорно благодарю; променять мою жену на какую-то субретку… — шептал Случайный.
Зорин слышал большую часть этих слов, но не понял, в чем дело.
— Место занято! — сказал Случайный холодно и насмешливо.
«Извините мою жену!» — зазвенело в ушах. Зорина, и, как звук страшной трубы, эти слова, проникая до мозга костей, раздирали, говоря a la Марлинский, тимпан его слуха.
Случайный обнаруживал нетерпение.
— Еще вчера говорили мне, что вы ищете способного человека…
— Я нашел его; я не могу принять вас.
— Но А.М. обнадежил меня…
— Скажите А.М., что я вполне уважаю его рекомендацию, но не могу исполнить на этот раз его желания… Что делать?.. обстоятельства!.. — При этих словах Случайный кивнул головой с невнимательностью вельможи и обернулся спиной к Зорину.
— Ваше превосходительство! — вскричал Зорин, усиливаясь не обнаружить гнева и презрения, которые кипели в душе его. — Место не занято… я в этом уверен… будьте снисходительны, забудьте эту мелочную обиду самолюбия, которая мешает вам сделать доброе дело, не решайте так опрометчиво; в ваших руках моя будущность… я имею невесту… отказом вы расстроите счастие целого семейства.
Случайный, не дослушав его, вышел из комнаты; через минуту карета его проехала мимо окон.
Опершись одной рукой на стол, другой поддерживая голову, Зорин стоял неподвижно и, казалось, забыл, что ему нужно идти. Самые мрачные идеи мелькали в голове его; в этот час он, в лице Случайного, ненавидел всё человечество; Случайный казался ему злым гением его жизни, которого назначение состояло в том, чтоб разрушать малейшую надежду, малейшую его попытку уловить счастие. Сначала Зорин не мог ни об чем думать, кроме Случайного: этот человек представлялся ему в самых отвратительных, ужасных образах, ниже, гнуснее и коварнее всех подлунных тварей; наконец волнение его несколько утихло; во это был новый удар для бедного кандидата в чиновники: ему пришла на мысль Лёленька, обворожительная, грациозная, легкая, — до того легкая, что ему показалось очень естественным, что она может упорхнуть от него, как бабочка, перелететь на другой цветок, то есть попросту выйти за другого… «Нет, нет! это невозможно: она меня любит! а гвардеец? а улыбка, которой я не понял?..» Тут он опять впадал в неописанное беспокойство; душа его испытывала мучения пытки; все неудачи, все последствия их, даже непонятные улыбки Лёленьки приписывал он коварству злого гения — Случайного; жену его он обвинял еще более.
Дверь скрыпнула. Из противуположной комнаты вышла жена Случайного. Зорин сейчас узнал эту роковую даму, на которой проиграл место, а может быть, и самую невесту.
По обдуманному ли предварительно плану, или так просто, без всякой причины, он придал мрачно-печальному лицу своему выражение беззаботно веселое и приветствовал Случайную льстивым комплиментом.
Случайная изумилась, увидя молодого незнакомого человека наедине с собою, и ничего не отвечала.
Он объяснил ей, каким образом попал к ним в дом, не сказав, однако ж, ни слова о грубостях ее мужа и о своей невесте.
Провинциалка не старалась поддержать разговора, от неуменья или от гордости — бог знает, впрочем, вероятнее, от первой причины. Но Зорин не унывал, он и не думал уйти. После многих тщетных попыток он навел разговор на вчерашний бал; тут наконец ему посчастливилось.
Случайная жеманно надула губки, которые у нее в самом деле были прелестны, и сказала несколько незначительных фраз.
Зорин принялся рассыпаться в комплиментах и проклинал, между прочим, рассеянность свою, которая всегда мешала ему танцевать с теми, к кому влекло его сердце; при этом он беспрестанно озадачивал Случайную огненными взглядами, от которых неопытную провинциалку бросало в краску, но которые, как казалось, не были ей противны. Впрочем, может быть, она в душе негодовала на его дерзость; но в таком случае что мешало ей одною какой-нибудь сухой фразой умерить смелость Зорина?
Сердце девы — кладезь мрачный!..
Еще несколько времени продолжался разговор, который Зорин искусно обращал к своей тайной цели. Небольшого труда стоило ему понять Случайную; он скоро удостоверился, что в сердце ее нет никакой глубокой привязанности, нет также и правил жизни, основанных на здравом убеждении, что она, так сказать, еще ощупью идет по пути ее. Из всего этого он сделал вывод в пользу своего плана. Он тонко льстил ее самолюбию, умел придать словам своим живую поэтическую возвышенность и чистоту идеальную, которые так нравятся женщинам, не лишенным или не задушившим еще в душе своей приемлемости впечатлений.
Большею частию говорил Зорин; Случайная слушала и, как показалось Зорину, не без удовольствия; впрочем, может быть, она и сердилась, но не находила средства остановить болтовню человека, который просто — изъяснялся в любви.
Уходя, Зорин изъявил сожаление, что не может видеться с ней в их доме, и коротко объяснил причину.
Случайная приметно огорчилась… нет, позвольте, кажется, обрадовалась… право, не помню.
— Впрочем, — сказал Зорин, — где б я ни был, всегда с наслаждением буду вспоминать счастливые минуты, проведенные сегодня в вашем милом обществе… везде, где только будете вы, — и меня приведет сердце…
Случайная улыбнулась весело… не то — вздохнула!..
Часу в осьмом вечера Зорин отправился к Мирятевым. Лёленька отчего-то сердилась и так мило дула губки, что в этот раз ему еще сильнее захотелось расцеловать их; сердце его сжималось от одной мысли не достигнуть такого блаженства. Он несколько раз покушался казаться веселым, но злодейка-грусть, как змея, выползая на чело его, беспрестанно разливала по нем яд мрачного уныния. Зорин не знал, как приступить к роковому объяснению своей неудачи; наконец, вооружась мужеством, в коротких словах рассказал Мирятевым свое настоящее горе и грядущие надежды. Старик пожимал плечьми, хмурил брови и то водил пальцем по голове от затылка до носа, то понюхивал березинский. Мать хотела упасть в обморок, но, вспомнив, что послала единственную свою служанку в магазин, сочла это излишним.
Лёленька советовала Зорину определиться в гвардию.
Расстроенный, не получа утешения, на которое надеялся, Зорин простился с Мирятевыми. Выходя из прихожей, столкнулся он с гвардейцем, тем самым, которому на вчерашнем бале Лёленька улыбнулась непонятною для него улыбкою. Это обстоятельство еще более встревожило бедного искателя счастия, пробудив в душе новую страсть — ревность; оно набросило глубокий траур на его безвестную будущность. Кто бы, взглянув на его бледное, помертвелое лицо, всклоченные волосы, глаза, готовые разрешиться кровавыми слезами, губы, дрожащие и посинелые, не угадал роковой повести его несчастия? Положение его было ужасно. От горя он даже лишился способности размышлять здраво.
Приписывая, как я уже сказал, причину всех своих бед Случайному, он не переставал проклинать его. Случайный казался ему самой замаранной, черной корректурой… тьфу!.. карикатурой на всё человечество, и он, из уважения к человечеству, изыскивал в голове своей средство уничтожить эту корректуру, — опять ошибся; в этих иностранно-русских словах я всегда мешаюсь! — уничтожить эту карикатуру со всеми ее оттисками.
II
Человек есть усовершенствованная обезьяна.
Из записной книжки Ф.Прошло три месяца. Случайный сидел в своем кабинете, заваленный делами. Он брал то одно, то другое, то третье дело и с неудовольствием клал их опять на место.
— И это нужно! и это не ждет! и об этом напоминал мне уже несколько раз его сиятельство! проклятая работа! вся моя канцелярия никуда не годится! нет головы — нет Силова! кто может занять место правителя канцелярии? Когда б был теперь Силов, мигом обработали бы мы все дела, — ревизуй хоть завтра! Чиновники запустили, а я отвечай! не разорвешься! дел пропасть; за которое взяться? — говорил скороговоркою Случайный.
В кабинет вошла жена его.
— Я не мешаю вам?
— Я ничего не делаю.
— Слава богу! наконец вы кончили свои дела?..
— Кончил! ох нет! не кончил! дела, дела! их всё прибывает и все срочные!
— Не огорчайтесь, друг мой! что делать! велите попристальней работать своей канцелярии.
— Канцелярии! с тех пор, как умер Силов, у меня нет канцелярии, у меня есть только люди, которые умеют писать.
— Для чего же вы не приищете человека, который бы заменил вам Силова?
— Ах, душенька! я тебе уж говорил, что таких людей нынче нет.
— Что ж вы думаете теперь делать? право, вы меня пугаете.
— Я искал три месяца; многие сами набивались в правители моей канцелярии, да что в этих людях!
— Отчего ж вы кого-нибудь не приняли? может быть, и был бы хорош.
— Помнишь ли ты того грубияна, что осрамил нас на бале у Ж**?
— Того, что отказался от мазурки со мной; да ведь я сама виновата: я ушла, а он ангажировал другую, так нельзя ж ему было танцевать в одно время с обеими.
— Я знаю — он человек дурных правил. Ну вот, например, он просился ко мне на место Силова, неужели я должен был принять такого невежу?
— Но, может быть, он хорошо знает свое дело.
— Какое дело? ты почем знаешь?
— Я говорю, может быть, он хорошо управлял бы канцелярией.
— Но каково бы было видеть у нас в доме человека, который на первом шагу оскорбил тебя!
— Для общей нашей пользы я бы забыла это оскорбление.
Случайный с чувством поцеловал жену.
— Что же вы, друг мой, думаете теперь делать? отчего вы так печалитесь?
— Вот видишь, душенька, я жалел тебя и не хотел прежде всего рассказывать, но теперь, так и быть, всё расскажу, потому что ты еще больше грустишь, видя меня невеселым и не зная тому причины.
— Так вы не на меня сердитесь?
— На тебя! ха-ха-ха! какая ты милая!.. да разве есть за что на тебя сердиться? смотри у меня, плутовочка! Где видано, чтоб муж так долго сердился на такую хорошенькую жену? это накладно.
Тут они опять поцеловались; я бы сказал, как голубки, если б благопристойность не запрещала этого.
— Видишь, душенька, — начал опять Случайный, — в чем дело. После смерти Силова дела беспрестанно прибывали в канцелярию, а подвигались плохо; это бы ничего, и прежде так случалось, да, на беду, у нас залежалось несколько дел, о скорейшем исполнении которых лично просили графа. Узнав, что они еще не исполнены, его сиятельство изволили рассердиться, призвал меня и так пугнул, такой дал выговор, что у меня так и заскребло сердце. Я думал, чего доброго, как бы в сердцах он не отставил меня; да, слава богу! всё почти тем и кончилось.
— Ну и прекрасно! значит, не о чем и беспокоиться.
— Оно так. Да я еще не сказал тебе, что его сиятельство, выговаривая мне за неисправность, изволил прибавить, что на днях будет сам ревизовать канцелярию. Ну, как он завтра же нагрянет! чтоб привести дела в порядок, нужно по крайней мере месяц.
— Ну так скажите, что вы больны.
— Нельзя. Тогда он поневоле должен будет наведываться сам в канцелярию и всё откроет. Хорошо, кабы он забыл! есть, матушка, делишки, с которыми нарочно надо повыждать; пусть-ка походят да попросят! Есть теперь у нас делишко, оно и пустяшное, да лапу в него можно запустить поглубже… будет и тебе на платье и мне на шубу, да и много останется. Удалось бы только поладить с графом, я придумал одно средство.
— Какое?
— После узнаешь. Поедем сегодня в маскерад.
— Вот вздумали! иногда, бывало, зову, зову, никак не соглашаетесь, а теперь сами напрашиваетесь.
— Эх, душенька! мне там нужно переговорить с одним человеком об этом именно деле; откладывать нельзя.
— Ну так поезжайте!
— А ты?
— Я не еду.
— Как не едешь? да ведь ты еще недавно приставала ко мне: поедем да поедем.
— Тогда мне хотелось; а теперь у меня голова болит.
— И полно, душенька! головная боль — пустое. Едем!
— Так для вас моя болезнь ничего не значит?
— Ах, душенька! ты уж и разгневалась! не хочешь ехать, так оставайся, только я для тебя же хотел; право, будет весело: поедем, теперь только смеркается, может быть, к тому времени тебе будет легче.
* * *
У подъезда Большого театра беспрестанно прибывают экипажи; в зале Большого театра беспрестанно прибывает люди; непрерывное хождение взад и вперед множества народу, пестрота, портящая глаза и возмущающая душу, говор более или менее громкий, более или менее приличный месту, более или менее…
Как разнообразна, как пестра эта масса! люди большие и маленькие во всевозможных значениях этих слов, люди чиновные и люди неслужащие, люди, везде встречаемые, и люди, существования которых и не подозревали, люди старые и молодые — все они теснятся, шумят, хлопочут всякий по-своему и невольно поражают взор этим, по-видимому, невозможным столкновением…
Неодинаковые причины привели их в маскерад, и как неодинаково действуют они в нем! Посмотрите, например, на этого худощавого, невысокого старичка, беззаботно стоящего у колонны: чем он занят? зачем он здесь?.. Многочисленная толпа, всегда рассеянная, всегда невнимательная, не щадит его от разных поклонов и приветствий: они тревожат беспрестанно это беспечное положение, ЭТОТ отдых старика. Он иногда в ответ только улыбается, только протягивает руку, а иногда и совсем отделяется от колонны. Блестящая суматоха маскерада, великолепное разнообразие костюмов, женская красота — ничто не отвлекает его внимания от одного предмета, от особенной забавы. Он не вслушивается в пискливые, искаженные голоса, не ловит дивных, заманчивых слов, брошенных на воздух, прошептанных на ухо, не разгаданных никем, но зароненных в чье-нибудь сердце. Он наслаждается по-своему. Я беру его теперь в любопытную минуту вечера и, может быть, в самую счастливую минуту старости. Разжалованный временем из актеров в зрители, без участия в резвой деятельности маскерада, без сочувствия к мелочным восторгам, к мелочному отчаянию, к множеству взглядов и надежд, которые сверкали пред ним в глазах юношей и красавиц, он, верно, вспомнил бы невозвратимые годы, пожалел бы, что нет у него более сердца для всех впечатлений и головы для всякого замысла, если б не нашел тут пищи, необходимой для старческой жизни, утешения, единственного в некоторые лета, если б не знал, куда поместить ему усмешку разочарования и язвительное слово опыта. Старик должен же употребить в дело невольное равнодушие, благоприобретенную бесчувственность, должен при случае похвастать своим несчастным преимуществом, и вот он рад-радехонек, если может кольнуть вас за ошибку, подшутить над опрометчивостию, предсказать неудачу, даже просто смотреть на огненные заблуждения молодости. Кто ничего уже не ждет, тот любит доказывать себе, что всякое ожидание — суета, вздор; наш старик лелеет эту благосклонную мысль. Ему весело!
Посмотрите теперь в другую сторону: вот очаровательная семнадцатилетняя девушка. Она, драгоценный камень в роскошной оправе фантастического наряда, блистает и привлекает всех. Тут центр маскерадного мира, тут вечерний гений, который мечет в толпу цветы поэзии. Около нее теснятся маски: то, как история, надоедают правдой, то, как повесть, смешивают быль с вымыслом, то, как поэзия, стараются лгать обольстительно. Маски рассыпают свое беглое красноречие, силятся перебить, затереть, перешуметь друг друга, но, странно: никому не удается подстрекнуть истинного любопытства молодой девушки. Никто не может найти этого верного звука, который манит за собою воображение женщины, от которого встрепенется она и вдруг увидит только вас и пойдет, мечтая, за вашим привлекательным звуком; спрячется за колонной, присядет на незаметный стул, отдаст вам свой слух, свое зрение, свою душу и, спросив: кто вы?.. — весело потеряется в лабиринте вашего маскерадного вымысла. И вот эта очаровательная девушка недовольна собой, недовольна толпой, ее окружающею. Ей скучно!
Вот еще третье лицо маскерада. Посмотрите на эту высокую пожилую деву, стоящую подле генерала с двумя звездами. Никто не старается обратить на себя ее внимание, никого нет около нее, никто даже не смотрит на нее; редко-редко, скорей из милости или из уважения к ее спутнику, кто-нибудь подойдет к ней, скажет несколько незначительных фраз. Ей двадцать седьмой год; она давно уже пережила положенный термин девичества!.. Бог знает, кто положил его, вероятно мужчины, — и это дурно рекомендует их; впрочем, может быть, таков уж закон природы. Во всяком случае, если даже предположить, что это в самом деле ало, то искоренить его нельзя. Нужно переменить весь порядок в мире. Попробуйте, госпожа Дюдеван! вы представляли пропасть примеров невыгоды и несправедливости нынешного порядка вещей. Составьте теперь проект и смету на исправления; я думаю, недостанет капиталов — сил человеческих, да и сам архитектор, то есть вы, верно, спасуете. Что ж касается до меня, то я даже отказываюсь порицать это. Как бы то ни было, положение пожилой девушки было достойно сожаления. Маскерад был для нее пыткой!
Но — к делу!
Случайный уже в осьмнадцатый раз проходил залу Большого театра из конца в конец под руку с каким-то господином в рыжем парике и коричневом фраке, толкуя с ним очень горячо и серьезно. На девятнадцатом повороте он остановился: стройная дама в испанском костюме привлекла его внимание, он пристально смотрел ей под ноги и, казалось, старался узнать ее по походке.
— Если б я не знал, что жена моя больна и что она никуда не решится выехать без меня, то готов бы побиться об заклад, что это она, — сказал он своему спутнику.
— Не имею чести знать вашей супруги.
— Ее стан, ее походка, ее любимый костюм… ее голос! — почти закричал Случайный, услышав несколько слов, которые проговорила подозреваемая им дама, проходя мимо его.
Случайный побежал за дамой. Забежав вперед, он заглянул в лицо идущему с ней молодому человеку.
— Лицо что-то знакомое; где, бишь, я видел этого господина? да, да, да! кажется, это тот самый, который просился ко мне в канцелярию. Как бишь его? Зу… Со… Зо… ну да всё равно, это он; ну а эта дама, должно быть, его жена, помнится, он говорил мне тогда, что имеет невесту. Вот что! А я уж было подумал и бог знает какое чудо! все женщины похожи одна на другую…
В это время дама с молодым человеком опять прошла мимо Случайного, и до ушей его долетело опять несколько ее слов.
— Что за демонское наваждение! точно ее голос, да и костюм-то, кажется, тот самый, в котором она прошлый год почти в это же время была со мной в маскераде… нет ли тут шашней! — Подумав, Случайный пустился догонять даму; он беспрестанно втирался между ею и молодым человеком, подслушивал ее слова, вымеривал ее рост глазами; подозрение его более и более усиливалось. Наконец он решился что-то сказать ей, но боялся ее спутника.
Молодой человек с дамой и преследующий их Случайный встретились в это время с старым генералом и пожилой его дочерью; молодой человек поклонился и хотел идти далее, но генерал заговорил с ним, и он поневоле должен был на минуту оставить свою даму; тут наконец Случайному представился удобный случай. На цыпочках подкрался он к даме и дрожащим голосом тихо сказал:
— Сударыня! ради бога, скажите мне, кто вы?
— Я? Донна Элеонора, — сказала дама голосом, который на этот раз не показался Случайному похожим на голос его супруги; это, однако ж, нисколько не уменьшило его подозрений.
— Я не шутя вас спрашиваю, ради бога, скажите правду.
Дама с нетерпением смотрела на прежнего своего спутника и с неудовольствием видела, что он и не думал еще к ней возвратиться.
— Не мучьте меня, сударыня, скажите!
— Я уже сказала, — ответила дама и пошла.
Случайный последовал за ней…
— Мне кажется, что вы моя жена, — сказал с усилием Случайный, — я ведь вот почему прошу вас об этом.
Дама засмеялась, несколько молодых людей, которым удалось подслушать последние слова Случайного, перемигнулись меж собой и пошли следом за ними…
Случайный ничего не замечал. Увлекаясь своим подозрением, которое в глазах его принимало все более и более вероятия, он почти забыл, где находится…
— Танюшка, душенька! полно меня обманывать-то, ведь я вижу, что это ты; скажись. Или и ты уж научилась этим маскерадным обманам и не хочешь узнать своего мужа… Посмотри — это я, твой Макарушка, Макар Осипович. — В лице Случайного было что-то чрезвычайное, когда он ронял с языка эти слова; мне кажется, что в другой раз увидеть его в таком положении можно только тогда, когда б ему пришлось отдать все свои деньги.
Смех нескольких человек последовал за этими словами. «Вот новый род мистификации! прекрасно, прекрасно!» — шептали между собою молодые люди. Дама, к которой относились слова Случайного, ничего не отвечала и только удвоила шаги, желая соединиться с прежним своим спутником, который, окончив разговор с генералом, шел к ней навстречу.
Намереваясь сказать еще несколько слов, Случайный побежал за этой непостижимой дамой; второпях наткнулся он на господина в рыжем парике и коричневом фраке, оба пошатнулись и упали.
— Ничего этого не будет, что я давеча обещал вам, я нарочно предложу графу завтра же ревизовать вашу канцелярию! — сказал оскорбленный господин в коричневом фраке, поднимаясь с полу. Рыжие волосы, прикрывавшие его голову, были только на волос от перемены своего обыкновенного жилища, выражение лица было, смешно и трогательно; после угрожающих слов, понятных только Случайному и возымевших свое действие, он прежде всего схватился за левый карман и с ужасом увидел часы свои совершенно разбитыми. Большого усилия над собою стоило ему не обнаружить словесно сожаления и гнева. Все, кто был в этой стороне валы, с наслаждением глядели на эту сцену.
Случайный, как громом пораженный словами господина в рыжем парике, безмолвствовал. Он поспешно удалился от места рокового столкновения и спрятался в уединенном углу. Приводя в порядок свои мысли, он не понимал, каким образом мог наделать таких глупостей. «Какая глупая мысль залезла мне в голову! моя жена! черт знает с чего я взял это! ее голос? да разве в маскераде говорит кто своим голосом! ее любимый костюм? да разве не могла и другая дама надеть такого костюма!.. Вообразил ни с того ни с другого, да и попал впросак. Черт помог мне толкнуть этого Конона Филатьича — человек-то нужный! что теперь станешь делать! хоть в петлю полезай… ох мне эта канцелярия!»
Так думал Случайный и отправился в буфет, решившись с горя выпить шампанского…
Совершив это важное предприятие с надлежащей аккуратностью, Случайный сел в карету и отправился домой. Ночь была самая ненастная. Она принадлежала к числу тех ночей, которых такой большой запас у петербургской природы, которые посылаются на грешных столичных жителей как гении насморков и коклюшей. Ветер, срывая, как хромоногий бес, крыши старых домов или шапки прохожих, бегал но улицам и пел заунывную песню, сопровождаемую стуком частого, мелкого дождя в железные кровли и прерывчатым шумом воды в трубах и водостоках. Фонари горели тускло, как будто вылив половину света на тротуары, которые казались около них покрытыми густым слоем лака. Иногда дождь утихал и ветер не так сильно шумел, но это для того, чтоб, притаясь где-нибудь за углом, подстеречь запоздалого прохожего, броситься на него с большею яростию, оглушить своим воем, завертеть около него одежду, как пеленки, ошеломить его совершенно и повалить, если можно. Дождь между тем немилосердно стучал в лицо бедного прохожего, и он сгибался униженно пред неумолимыми проказниками, хватал полы своей одежды и прижимал ее к груди. Снося с стоическою твердостию подобные оскорбления, он подвигался вперед, беспрестанно ниже и ниже сгибаясь, чтоб представлять меньшую плоскость действию врагов своих, походивших на избалованных детей, которым мучения бедного животного доставляют злое удовольствие, а его сопротивления только более раздражают шалунов. Иногда ветер забегал в тыл Прохожему; тогда не нужно было бороться с ним, он сам помогал ему идти, толкал его, дул в одежду, как в паруса. Но это состояние было безотраднее всякого другого, потому что ходьба по скользким тротуарам становилась тогда еще опаснее; нужно было много сноровки и ловкости, чтоб не запнуться о тумбу, не поскользнуться на покатостях против ворот, не попасть в винный погреб, в мелочную лавку, с опасностию сломить шею, вывихнуть ногу или руку и вообще потерпеть какое-нибудь неприятное физическое повреждение. В эту ужасную ночь скучно было даже сидеть дома: эгоистическое удовольствие находиться в теплой, сухой комнате, даже перед затопленным камином, с трубкою или сигарой в зубах за стаканом чаю, когда другие мокнут и мерзнут под небом, закрытым тучами, в темной сфере, где больше воды, чем воздуха, — эгоистическое удовольствие это не было так сильно, чтоб увернуться от влияния погоды. Самый самовар, казалось, шумел и визжал печально, подлаживаясь под песню ветра, под бой капель дождя и под шум воды, сталкивавшейся в желобах и падавшей на мостовую… Плохо было и под потолком и под небом; но все-таки лучше сидеть в сухой комнате, потому что тут еще есть отрада, которая придет, если совесть у вас чиста, — это сон; правда, песня бури напоет невольно грустные думы, а они приведут печальные грезы, но все-таки это не тоска, а грусть, которая всегда благороднее и сноснее…
Погода не обнаруживала на Случайного ни малейшего дурного влияния; сидя в карете, он важно размышлял о том, как человек с истинным гением всегда может найти себе дорогу к богатству и величию; с ужасом воспоминал, как, бывало, в подобную бурю таскался пешком; потом мысленно пробегал все те ступени, по которым вбежал наконец в дверцы великолепной кареты, вспомнил, как гнулся, чтоб попасть в них, как ему наконец повезло, и с гордостью остановился на том, как поехал в первый раз в собственной карете. Выпитое шампанское помогло ему позабыть угрозы господина в рыжем парике и все неудачи этого несчастного дня; мысль о неисправности его канцелярии и могущих последовать от того бедствиях также не смущала на этот раз его веселья, о даме и о своих подозрениях он забыл совершенно. Всё это помогло ему наслаждаться совершенным спокойствием. Приписывая счастливое устройство своего карьера единственно своему уму и проницательности, он был очень доволен собою; вино более и более горячило его воображение, и наконец он утонул в честолюбивых мечтах. Вот он уже министр, человек, нужный государству, известный Европе; все те, пред которыми он принужден еще смиренно сгибаться, толпятся у него в прихожей, ожидая с подобострастием выхода его высокопревосходительства. Он сам сидит в великолепном кабинете, обложенный делами, и ничего не делает; маленький сын его Коко гримасничает или, подходя к нему, восклицает: «Какой ты, папа, умный!» Он нежно целует сына или дает ему щелчок по лбу и посылает его в другую комнату к матери; между тем входит она, в утреннем неглиже; походка ее величественна, движения грациозны; он не знает, с кем сравнить ее из дам высшего круга, ему известных; она всех превосходит своею красотою, любезностью, утонченною непринужденностию в обращении. Тут воображение будущего министра разыгралось до nec plus ultra:[2] жена его показалась ему такою очаровательною, какою не казалась и в первую неделю брака; почувствовав в себе особенный прилив нежности, он дернул за шнурок и приказал ехать скорее. Чрез несколько минут карета остановилась у подъезда, он пробежал по лестнице и прямо отправился в спальню своей супруги.
Как только Случайный отворил двери и заглянул во внутренность спальни, свечка выпала из рук его, лихорадочный огонь пробежал по жилам; судорожное потрясение было так сильно, что он едва не упал; эта величественная министерская важность, эта веселая улыбка, это довольство самим собой — всё вмиг исчезло; лицо его представляло самую смешную карикатуру на его собственную особу; губы посинели, глаза посоловели, нос, к величайшему подрыву всех теорий о цвете носа у человека в пьяном виде, побледнел, вообще всё лицо вытянулось до невероятности; только парик, коварный парик, один оставался хладнокровным и совершенно чуждым каких-либо изменений… Вот выгода носить парики!
Причина изумления, испуга и остолбенения Случайного была следующая. Войдя в спальню, он увидел ту самую даму, которую в маскераде сначала принял за свою жену, потом за жену Зорина, потом опять за свою жену и, наконец, опять за жену Зорина. Она стояла перед зеркалом и снимала с себя маску; от изумления ли или от какой другой причины, руки ее, при входе Случайного, опустились и маска осталась неснятою.
Случайный хотел что-то сказать, но язык плохо повиновался ему; тщетно доискивался он в голове своей причины этого, по-видимому, очень обыкновенного явления. Суевер, никогда не размышлявший о том, во что верить и что отвергать, чуждый собственного разумного убеждения во всем, что не касалось чинов и денег, он не на шутку струсил. Подумав, что перед ним привидение, он сперва начал креститься, потом схватился обеими руками за голову и закрыл глаза.
Незнакомка, в первые минуты появления Случайного, была в большом замешательстве и, казалось, не знала, на что решиться. Увидев, что Случайный закрыл глаза, она быстро подошла к кровати, тихонько раздвинула осеняющий ее белый занавес и скрылась за ним…
— У меня в канцелярии нет ни одной ваканции; богом божусь! я бы с радостию принял вашего мужа, — шептал Случайный, немного опомнившийся, но всё еще дрожащий от страха и не смеющий ни раскрыть глаз, ни пошевелиться.
Наконец, совершенно проснувшись от нравственного онемения, которое мешало ему размышлять здраво, он сделал несколько шагов вперед с твердой решимостью спросить даму, кто она и зачем пожаловала; но каково было его изумление, когда, открывши глаза, он не нашел никого. Это повергло его почти в такое же положение, в каком он был за минуту; он снова убедился, что имеет дело с нечистою силою. Когда он опять получил употребление рассудка, первым движением его было обыскать комнату; осмотрев все углы и подозрительные места, он наконец отдернул занавес кровати и увидел жену свою, спящую крепким сном, небрежно раскинувшись в самом поэтическом беспорядке…
III
Прошло еще три месяца.
Войдите в этот двухэтажный когда-то беленый дом на конце улицы. Если вы видели его за 20 лет, то теперь c трудом узнаете, так он переменился от неприсмотра! Штукатурка и лепные украшения во многих местах обвалились и нагло обнаружили кирпичные стены. А видите ли наверху еще третий этаж или что-то вроде третьего этажа, эту деревянную надстройку с большим полукруглым окном? Когда дом был в цветущем состоянии, эта надстройка была тут чрезвычайно не у места. Она производила на проходящих такое же впечатление, какое производит большое родимое пятно на лице красавицы. Теперь она как-то идет к его неопрятной наружности, даже гармонирует с ней. Так на дурном лице какая-нибудь резкая черта иногда поправляет неприятное впечатление целого; чем больше морщин на лице старухи, тем она почтеннее.
Странно, но правда. «Правда всегда странна, страннее выдумки», — говорит Байрон.
Но зачем я веду вас туда? Непременно нужно, иначе мы потеряем из виду героя повести, без которого и конца повести не будет. Итак, несколько ступенек вверх по этой лестнице, и мы на месте. Однако ж берегитесь, чтоб не упасть: лестница хуже наружности дома; недаром говорится, что внешность есть вывеска внутренности. Да мало ли что говорится недаром; вот, например, я указал вам надстройку дома тоже недаром; там живут… Раз, два, три… вот и последняя ступенька, вздохните свободнее. Мы войдем в эту комнату без церемоний.
Комната невелика. Прямо против двери единственное окно, направо кровать, налево стол с письменным прибором, там и сям несколько стульев; в углу, подле двери, самовар, сальная переломленная свеча в изогнутом медном подсвечнике, щипцы, сапожная щетка и старые сапоги. Вот все ее принадлежности. Близ письменного столика сидит пожилой человек. Лицо его расстроено, щеки бледны и впалы, лоб сморщен, брови нахмурены. У окна, с чулком в руке, сидит молодая женщина; она тоже печальна, глаза ее не совсем еще обсохли от слез, черные локоны, распущенные в беспорядке, придают лицу ее, оттененному бледностью, мрачное выражение. Ни он, ни она не говорят ни слова уже более часа.
Наконец пожилой человек потянулся, зевнул, положил ногу на ногу и сказал:
— А которое, бишь, сегодня число, душенька?
— Кажется, 21,- отвечала женщина.
— Значит, скоро срок платить за квартиру, душенька.
— Да, скоро…
— Что за немилость божия на нас! — сказал мужчина, помолчав несколько минут. — Как пошло, как пошло сорить беды одну за другою — так и не успеваешь опомниться! так и душит! Помнится, вскоре после того проклятого бала, да который мне так не хотелось ехать, начались наши несчастия. Вот не прошло еще пяти месяцев, а приходит жутко. Неужели наши несчастия еще продолжатся…
— Бог милостив, авось всё опять поправится.
— Поправится, да не воротится. Ох! дети, дети! я вас воспитывал, за вами ухаживал, вас любил, да за вас же мне и досталось. И как всё вдруг собралось на мою голову. Недаром с той самой минуты, как граф сделал мне выговор, сердце у меня было не на месте; помнишь ли ты, душенька, когда это было?
— Вы мне это рассказывали.
— Да, да; в этот же день, кажется, я был в маскераде. Ужасный маскерад! ты, точно знала, не поехала; ах! кабы и я сделал то же! Да нет! грех попутал, черт сунул — думал, лучше будет. Тут ни с того ни с другого показалось мне, что и ты в маскераде.
— Как! неужели? вы мне прежде не говорили; странно, я не вставала в тот вечер с постели.
— Знаю, душенька; видел. Да ведь если черт захочет кого попутать, так на своем поставит. Ну так и шепчет: твоя жена! твоя жена! Я ну бежать за тобой как сумасшедший.
— Как за мной?
— Да, что я? за той-то дамой, бежал, бежал, долго говорил с ней…
— Долго говорили? она хороша собой?
— Ах, душенька, ты уж и вот что подумала; просто так говорил, потому что хотел узнать, кто она.
— Потом что?
— Вдруг, ох этот несчастный случай! я столкнулся на повороте с Кононом Филатьичем, чуть не уронил его, расшиб у него часы; он рассердился, да так, что не принял тысячи рублей, которые я послал ему на другой день за разбитые часы, да как часы тысячи не стоили, то частичку, знаешь, так авось думал, гнев-то и поуходится. Как узнал я об отказе, сердце у меня так и съежилось; вот уж тут я вправду струсил… да и было чего. Хожу по комнате часов в десять утра, а дрожь меня так и пробирает; ты еще спишь, я пожалел будить тебя, ты же накануне была больна, пусть, думаю, еще понежится. Оделся, поехал в канцелярию. Вхожу, а граф уже там вместе с Кононом Филатьичем; я так и обмер. «Господи помилуй, конец мой пришел!» — думал я… А Конон Филатьич злобно поглядывает на меня да посмеивается. Эка бестия! Граф начал ревизовать дела, рассердился ужасно, не сказал со мной ни слова и уехал… Я чуть жив приехал домой.
— Ах, какие вы приехали тогда бледные и сердитые…
— Побледнеешь, матушка, как того гляди под суд упекут! Уголовная-то не свой брат! спасибо, что еще велели только подать в отставку, — кабы притянули к суду да ко взысканию — вот тут бы так уж хоть матушку репку пой, не справиться. Потеря места хоть кого озадачит, помнишь, как мы с тобой плакали. Вдруг в тот же почти день новое горе… Эти дрянные купчишки наклеветали на меня, что я растрачиваю имение их покойной сестры, ненавижу детей, прижитых в браке с ней; отняли у меня опеку над детьми, отняли детей, отняли их имение, взыскали штраф… о, это всего ужаснее! несправедливость явная; я буду протестовать… дай только мне поопериться, опять найти место!
— А что вам сказал сегодня этот князь, к которому вы ходили хлопотать о месте?
— Да, душенька, я и забыл. Вели-ка Степановне почистить мой фрак да сапоги высветлить получше. Мне сегодня нужно на бал…
— К кому, по какому случаю?
— К князю, я зван. Давеча я у них был; самого князя не видел; он очень занят и поручил на время принимать всех просителей своему родственнику. Прекрасный молодой человек, такой вежливый, принял меня очень ласково, сказал, что похлопочет сам, и просил быть ужо у них на бале. Только что полтора месяца женился, еще на уме всё праздники!
— А как ему фамилия?
— Зорин.
Дама крепко ухватилась за спинку стула, потом встала, закрыла лицо платком и пошла в прихожую отдавать приказания служанке.
— Вот как иногда можно ошибаться, — сказал Случайный, когда она возвратилась, — после того, что он сделал с нами на бале, я думал, что он самый дурной человек. Увидя его сегодня, я полагал, что он по крайней мере покосится на меня, — ничего не бывало. Он так хорошо обошелся со мной, как нельзя лучше. Я надеюсь, что место, о котором я его просил, останется за нами.
— Ну, дай бог.
— А вот что ужо будет; на балу он обещал мне что-то решительное.
* * *
Бал. Свет и благовоние разлиты в приемных комнатах князя Н. Комнаты убраны великолепно. Множество восхитительных ножек, легких и маленьких, как мизинец Амура, мелькают по паркету, который, кажется, горит стыдливым румянцем, блещет светлой улыбкой удовольствия, созерцая дивные формы красавиц. Ничто не может победить владычества этих очаровательниц; самый стеарин меркнет и бледнеет пред блистательною их красотою. Только пожилые их спутницы мешают вообразить их существами нездешнего мира.
Я люблю видеть на могиле розу, но не люблю видеть старухи подле молодой девушки; это не дает мне увлечься ее красотою, переселить ее на седьмое небо, сделать волшебною, вечно цветущею феей и унестись за ней далеко-далеко, в очаровательную область мечты, залететь туда, где с безумием граничит разуменье. Иногда засмотришься на красавицу: душа под волшебным смычком мечты настроится к возвышенным впечатлениям; воображение возьмет на ней несколько мощных аккордов, в них, кажется, откликается само небо; вот оно раскрыло свои объятия; вот мы летим в его дивные чертоги: вдруг взор мой нечаянно падает на спутницу моей феи; очарование исчезает, я опять на земле, я снова прах, мечта моя переносит меня в будущее — я вижу двух старух, двух земных женщин и почти готов открыть табакерку и попотчевать мою красавицу.
Бал князя Н. был такой, какими обыкновенно должны быть балы знатных бар. Хозяин, настоящий русский вельможа, не жалел денег. Всё шло как нельзя лучше, видно было, что в этом доме бал — дело очень обыкновенное. Лакеи не суетились без толку, не роня друг друга, не обливали гостей чаем или оршадом, не подходили беспрестанно к хозяйке или хозяину, для того чтоб, с таинственным видом нагнувшись к их уху, спросить шепотом о каком-нибудь вздоре; сам хозяин не выбегал ни разу отдавать приказания. Гостей было множество. Молодые люди танцевали, пожилые играли в карты или смотрели на танцующих, между последними был и наш Случайный.
Он с нетерпением ждал конца кадрили, в которой участвовал Зорин. Ему хотелось переговорить с ним о деле, узнать что-нибудь решительное.
Кадриль кончилась. Зорин прошел с своей дамой мимо Случайного, отвел ее на место и подошел к нему.
— Весело ли вашему превосходительству? — сказал он насмешливо.
Случайный не заметил насмешки и был восхищен вежливостью Зорина.
— Я за честь себе поставляю быть на таком прекрасном бале.
— Помнится, мы только один раз встретились на бале, вы, верно, балов не любите?
— Мне, старику, признаться, уж и не до балов.
К Зорину подошел какой-то молодой человек в прическе ионического ордера и насильно оттащил его от Случайного.
— Пойдем, mon cher,[3] я покажу тебе чудо!
— Здравствуйте, почтеннейший! Скажите, пожалуйста, давно ли вы знакомы с Зориным, — сказал Случайному маленький человечек на высоких каблуках, подойдя к нему и схватив его за руку.
— Несколько месяцев тому назад я встретился с ним на одном бале, потом он был у меня по одному делу, потом я был у него…
— И так вы познакомились? Как он с вами ласков! вы — счастливец; теперь этот человек в ходу, он может многое сделать для нашего брата; он правая рука князя, а князь, вы знаете?..
— Скажите, пожалуйста, как он подбился к князю; как ему удалось жениться на его родственнице? он человек бедный, несколько времени тому назад он искал моей протекции, просился в мою канцелярию, когда я служил у графа.
— Эх, почтеннейший! вы еще всего не знаете, дело щекотливое. Между нами будь сказано, родственница-то князя, говорят, его родная дочь, грех его холостой жизни… понимаете?.. притом же она и не красавица… а товар, пословица говорит, лицом продают! Зорин, говорят, пришел просить у князя места; слово за слово — они и посблизились. Ну а остальное через экзекутора. Понимаете? Зорин дворянин, кончил курс в университете, был ужо шесть лет на службе в Москве, малый не то чтобы глупый — чего ж больше. Небогат! да с таким родственником не надо иметь четырехэтажного дома в Петербурге. Станет служить, пойдут чины, награды, повышения — для князя всё сделают!..
Маленький человек взял Случайного под руку и начал водить его по комнате, толкуя о всемогуществе протекции. «Да, да, протекция вещь важная, я только на нее надеюсь теперь!» — думал Случайный…
* * *
С трудом отделавшись от молодого человека в прическе ионического ордера, Зорин подошел к одной молодой даме и занял подле нее место…
У них завязался самый пустой разговор о погоде, о бале, о нарядах и так далее… Они как-то странно поглядывали друг на друга в промежутках этого разговора. Какое-то беспокойство тревожило их. Видно было, что у них много слов, которые просятся из сердца. Взоры их как будто спрашивали один другого: скоро ли ты начнешь, или мне начать?
Наконец Зорин преодолел робость и сказал вполголоса:
— Итак, вы замужем.
— А вы женаты.
Молчание последовало за этими словами. Глаза их встретились. Взор его, казалось, укорял и вместе говорил: прости! во взоре ее, кроме смущения, ничего не было; желая ли скрыть свое замешательство или по другой причине, она вмиг озарила глаза свои восхитительной улыбкой и навела их прямо на Зорина. В эту только минуту Зорин разгадал ту непонятную улыбку, которую невеста его некогда сделала гвардейцу.
— Вы любите своего мужа, вы счастливы, — сказал Зорин после долгого молчания.
— Ах нет! муж мой еще вчера поссорился со мной. Он никак не хотел взять ложи в бенефис Тальони, но наконец я на своем поставила. Ах, как она танцует!
У Зорина навернулись на глаза слезы. Он всё еще любил свою Лёленьку (вы, верно, узнали уже, кто эта дама). Ему тяжело было видеть ее ветреность. Казалось, это бы должно его утешить в потере ее, но с ним случилось противное. «Она еще ребенок, и это ее оправдывает, — думал он. — Когда б она была моею, моя любовь научила бы ее любить истинно, предпочитать тихую семейную жизнь удовольствиям шумного света». Во время этих размышлений он нечаянно увидел Случайного, и прежний гнев на этого злого гения его жизни снова вспыхнул в душе его…
— Сюда идет ваш муж, верно, он уже окончил свой вист, — сказал Зорин, увидя стройного гвардейского офицера, приближающегося к ним. Скрыв свое замешательство, Зорин с бессмысленным выражением лица обратился к Елене Александровне и заговорил о Тальони.
— Тальони, Тальони! я не знаю, что может быть лучше ее танцев, — сказала она.
— Не о той ли плясунье в белом платье говорите вы, что вчера прыгала, как козленок? — сказал офицер, не слыхавший начала речи и садясь в кресло.
— Ах, друг мой, как можно так говорить об ней, как можно ее чудные ножки сравнивать бог знает с чем! — сказала дама.
— Право, я мало знаю толку в ногах, исключая ножек… — офицер умильно взглянул на свою жену.
Она покраснела от негодования и бросила на своего мужа быстрый как молния взгляд, который невольно выражал досаду.
Зорин жалел ее и вместе чувствовал какую-то радость.
Он начал подбегать к кавалерам и просил танцевать мазурку. Всё пришло в движение, мужчины ангажировали дам, любопытные опять выстроились около стен, Случайный также шел занять удобное место, откуда бы мог свободно смотреть на танцующих. На половине пути к своей цели встретился он с Зориным и не мог более удержать нетерпения узнать о последствиях своей просьбы касательно места.
— Извините; через час я буду свободен, и тогда мы о вами потолкуем, — сказал Зорин и побежал дальше.
Музыканты заиграли, пары выстроились, ноги и ножки пришли в движение.
— А вы, Елена Александровна, отчего не танцуете? — сказал Зорин, найдя ее одну на том самом месте, где за минуту с ней разговаривал…
— У меня нет кавалера; не хотите ли вы быть моим кавалером?
— Нет, я уж давно не танцую. Хотите ли, я вам найду кавалера?
— Пожалуй, но отчего же вы сами не танцуете?
Зорин не слыхал этих последних слов. Как будто озаренный какой-нибудь гениальной мыслию, он спешил привести ее в исполнение. Бегом добежал он на другой конец залы, отыскал Случайного, схватил его за руку и, не говоря ни слова, повел через залу.
— Куда вы меня ведете?
— Вы, верно, не откажетесь сделать мне небольшое одолжение?
— Какое?
— Протанцевать мазурку.
— Помилуйте, я старик; я уже 20 лет не танцевал…
— Ну как хотите, а мне показалось, что такая мелочная услуга ничто пред тем, об чем вы меня просите. Если так, то и я…
— Ах, что вы? могу ли я этого для вас не сделать… но, видите, в мои лета… много народу.
— Что ж! если вам не угодно, я принуждать не смею…
— Извольте, извольте: я только так сказал… надеюсь, что место…
— Хорошо, хорошо! об этом после… ангажируйте эту даму! — сказал торжествующий Зорин, поставив Случайного пред Еленой Александровной.
Но этого мало, он должен был еще подсказать ему, что говорить, потому что озадаченный старик был сам не свой.
Елена Александровна изумилась, услыша приглашение Случайного, в нерешительности, с вопрошающим взором обратилась она к Зорину, но в это самое время несколько пар пронеслось мимо; Зорин толкнул Случайного, старик бессознательно схватил руку своей дамы и поспешно присоединился к танцующим. Очередь скоро дошла до них, и они пошли. В минуту все глаза, очки и лорнетки были наведены на эту интересную пару. И было чем любоваться! Случайный прыгал, аккомпанировал плечами своим ногам, то забегал вперед, то отставал и тяжкими вздохами как бы вымаливал пощады, жалобно озираясь кругом. Лицо его было красно, со лба градом катился пот; ничего нельзя вообразить себе смешнее его физиономии в эту минуту. Несмотря на это, какая-то веселая улыбка появлялась на лице его, когда глаза его случайно встречали Зорина; они, казалось, говорили тогда: вот что я для вас делаю! верно, после этого вы мне не откажете в месте. И, одушевляясь этою великою надеждою, он собирал последние силы ног и плеч и превосходил самого себя быстрыми движеньями! Беспрестанно меняясь в лице, то бледнея, то краснея от стыда и негодования, дама его, казалось, отдала себя на волю судьбы; она машинально двигалась, поминутно сбивалась, сбивала старика, старик, в свою очередь, сбивал других, и не было конца несчастным последствиям. Дама теряла последние силы и готова была упасть в обморок. До нее беспрестанно долетали насмешливые слова ее приятельниц, которые, радуясь, что встретили случай над ней подсмеяться, не жалели острот и колких замечаний. Они этим мстили ей за вред, который делала ее красота их собственной. Мщение извинительное!..
Зорин с видимым наслаждением смотрел на невыгодное положение этой пары. Он первый не старался скрыть насмешливой улыбки, возбужденной в нем странными кривляньями Случайного и отчаянным состоянием его дамы. «Мазурка, мазурка! когда-то и я потерпел от тебя много, пускай же и другие узнают, как иногда ты неприятна!» — думал Зорин, не спуская глаз с Случайного и прежней своей невесты.
Наконец эта ужасная мазурка, которую по справедливости можно назвать для двух ее действователей пыткою, для остальных самым занимательным зрелищем в комическом роде, к счастию первых и к сожалению последних, кончилась.
Елена Александровна с укором посмотрела на Зорина, отыскала своего мужа и сейчас же уехала, несмотря ни на какие упрашивания Зорина и супруги его.
Случайный с радостной улыбкой подбежал к Зорину и схватил его за руку.
— Ну что? не правда ли, что я много сделал для вас? Заметили ли вы, как я танцевал?
— Видел, видел! благодарю вас!
— Скажите же, ради бога, могу ли я надеяться?..
— Чего?
— Получить место?
— Завтра, завтра! вы у меня будете, и там переговорим, — сказал Зорин, освободил свою руку из руки Случайного и удалился…
Бал продолжался долго. Благовестили к заутрене, когда начали разъезжаться.
IV
Etieu me mi serum!
Sallustius [4]
Что такое сон? Сон уравновешивает жребии людей; люди в физической жизни составляют части огромной машины — человечества и оттого необходимо занимают равностепенные места. Богачи, бедняки, вельможи, простолюдины, и всякий совершает свое назначение лучше или хуже: было бы несправедливо, если б бедняк, трудясь целый век, не имел никаких наслаждений, или богач, живя в довольстве, не терпел ни малейших неудовольствий. Сон в некоторых случаях есть также, но мнению одного умного человека, нечто вроде репетиции того, что должно случиться в действительности. «Иногда (говорит он) я вхожу в дом, вижу людей, говорю с ними, и всё, что я вижу, что говорю, что мне говорят, кажется мне верным, до малейшей подробности, повторением минувшего, кажется, будто я был когда-то на репетиции всего этого».
Случайному виделся дурной сон. Целую ночь, как Нева во время наводнения, он метался на своей постеле из стороны в сторону. Какие-то бессвязные звуки, вылетавшие из уст его, нередко возмущали тишину ночи и будили жену. Она вслушивалась в них, старалась что-нибудь понять, но, видя бесполезность своих стараний, крестилась и опять засыпала.
Часу в одиннадцатом утра Случайный повернулся, пробормотал несколько непонятных слов и с словами: «Мне танцевать, мне танцевать? помилуйте!» — проснулся.
Жена, которая давно уже вязала чулок, с беспокойством подошла к нему и начала расспрашивать о причине его странного бреда.
— Не больны ли вы, друг мой? вы так беспокойно почивали…
— Ничего, душенька, это так.
— Вы были так страшны во сне; говорили про какие-то танцы, про место, и всё это перемешивалось у вас с словами: помилуйте, я надеюсь!..
— Это потому, что я вчерась вытанцевал себе протекцию и всё об этом думал; ты еще всего не знаешь. Вот каков я нынче: танцевал, да еще с какой дамочкой… чудо! мы протанцевали целую мазурку, она бы и еще пошла со мной, да мне не захотелось.
— Хорошо, хорошо! а дом, жена, дела — вы об этом и не подумали. Видно, что эта дама вскружила вам голову.
— Да, я едва стоял на ногах, когда мазурка кончилась… ты не поверишь, душенька, как я устал…
— По делам вам! пустились в танцы… а со мной так не хотите пройтись даже по Невскому… я уж стар, душенька, до гулянья ли мне, насилу ноги таскаю! вот как вы меня отделываете…
— И полно! ты уж и ревновать. Ну, велика беда, что я танцевал с хорошенькой… ведь танцевать не значит…
— А вы бы еще больше хотели… Вы не сказали мне, когда меня сватали, что будете так поступать.
— Но ведь я же ничего и не сделал. Не сердись, душенька, это в первый и последний раз.
— В первый! Правду вы говорите! Точно я не знаю, что вы раз как-то целый маскерад пробегали, как сумасшедший, за какой-то дамой… Не та ли опять?..
— Нет, ты сама знаешь… я тебе говорил, по какому случаю… это совсем другое, вчерась я танцевал для протекции.
— Для протекции! стыдитесь, сами не знаете, что вы говорите…
— Опять свое. Я же тебе толком говорю, душенька, что ты ошибаешься… Да хоть бы и поволочился — что делать! ущипнула за сердце, не вытерпел… извини! вперед не буду.
— Вот так-то! А что вы за минуту говорили. Верь вам после этого. Вы меня забыли, вы влюбились в другую, а я… — При этих словах Случайная заплакала…
Случайный, встревоженный, начал целовать ее руки.
— Виноват, душенька, прости! черт знает с чего мне эта дурь влезла в голову; клянусь тебе, что не буду вперед танцевать! так поразнежился, вспомнил молодость…
— Хороши утешения! стыдились бы говорить, видно, вы хорошо вели себя и прежде.
Случайный никак не мог уверить жену в истинной причине, по которой танцевал на вчерашнем бале. Чтоб утешить ее, он принужден был рассказать вымышленную повесть о том, как месяца четыре тому назад влюбился в одну даму, как страдал, как потерял ее из виду, как целый вечер гонялся за ней в маскераде, как готов был изъясниться ей в любви на вчерашнем бале, как, заметив, танцуя с ней, что и она неравнодушна к нему, блаженствовал. После этого он поклялся никогда больше не видаться с ней и не искать ее взаимности. Тогда только Случайная успокоилась.
— Верь не верь, душенька, а я вытанцевал себе протекцию, — сказал с самодовольствием Случайный, когда мир между супругами восстановился.
— Да о чем вы толкуете?
— О том, что Зорин обещал представить меня князю с выгодной стороны.
— И вы уже решили с ним: вы уверены?
— Ну, не так, чтобы очень. Решительного он мне ничего не сказал, а велел прийти сегодня. Да, впрочем, нет никакого сомнения. Заживем лихо! ты, душенька, опять по-прежнему будешь ездить в карете, и я иногда; наймем хорошую квартиру, станем принимать гостей. Жалованья достанет; будут и доходишки, — прибавил Случайный шепотом. — А тут и именье авось воротится; подам жалобу на деверей, заведу процесс; перевес на моей стороне; я буду тогда опять человеком значительным, для меня скорей всякий что-нибудь сделает, да и прав-то я. Не кормил, что ли, не учил я детей? Ели за одним столом с нами, учить их нанимал двух семинаристов; правда, один всегда ходил на уроки выпивши, а другого за леность выгнали из училища, но зато как он строчил четко, когда мне случалась надобность переписать что-нибудь наскоро, да и брал-то за всё только два целковых в месяц. Они говорят, что я растратил имение их племянников? А разве мало издерживал я на их воспитание, одежду, игрушки и прочие потребности жизни. Пусть-ка сочтут всё; дело-то, матушка, чистое — мы опять получим имение в наши руки. Тогда уж будем знать, как распорядиться; не так ли, душенька?
В обаянье этих сладостных надежд Случайный совершенно забыл сон нынешней ночи, который предсказывал ему несчастие.
Пробило час. Он оделся, поцеловал жену свою и отправился в дом князя Н.
Было около половины второго, когда Случайный пришел туда. Его ввели в великолепно меблированную комнату и просили подождать немного. Стены приемной были увешаны портретами знаменитых лиц всех эпох и всех историй. Нужно было, только не быть Случайным, чтоб засмотреться, задуматься над этими свидетелями земного ничтожества; только для его бесчувственной души, утонувшей в расчетах, взятках и мечтах самолюбия, не было тут ничего достойного внимания. Эти лица, полные или воинственной отваги, или ученого добродушия, или поэтической задумчивости, не могли, хоть на минуту, не тронуть чувствительной струны в человеческом сердце.
Я люблю, когда в уединенной комнате, где я свободно могу предаваться думам, висят по стенам портреты, особенно если это портреты отживших. Когда я вхожу в такую комнату, мне кажется, что я не один, и их серьезные лица иногда заставляют меня остановить улыбку, которая готова вырваться на уста от какой-нибудь веселой мысли. Иногда я стою, склоня голову, грусть меня одолевает, тяжелые думы приходят одна за другою и дружно сжимают сердце; вдруг в такую минуту я поднимаю голову, встречаю на их лицах холодную улыбку, и мне становится стыдно своих детских печалей. Так чудно действие этих лиц на душу, то бьющуюся наслаждением, то замирающую от холода!
Случайный с нетерпением ждал Зорина. Сердце билось в левой стороне его груди так шибко, что знаки отличия, кресты и медали, полученные им во время долговременной беспорочной службы военной и статской, отделялись от мундира, сталкивались между собою и производили шум. Чуть зашумит что в другой комнате, он вскакивал, прислушивался, выпрямлялся, обтягивал фрак и приготовленное приветствие готово было слететь с языка его. Обманувшись несколько раз в своих ожиданиях, он наконец стал дожидаться хладнокровнее. Звон ножей и вилок, который заслышал он в начале своего ожидания, начал утихать. «Завтрак кончен, — подумал Случайный, — теперь он, верно, сейчас пожалует».
При этой мысли знаки отличия еще сильнее заплясали на его груди от усиленного биения сердца; душа его сжалась, лицо вытянулось в вопросительный крючок (?), и все приветствия, все красноречивые изъявления благодарности, долженствовавшие последовать в случае совершения его желаний, смешались в голове его или вовсе исчезли. В таком положении застал его Зорин.
Случайный чуть было не заговорил: «Всепокорнейше благодарю вас за милостивое содействие в доставлении желаемого мне места; смею питать себя вожделенною мечтою, что его сиятельство не будет раскаиваться в принятии меня на сие место». Он опомнился на третьем слове этого хитросплетения, понял, какой делает промах, закусил губы и замолчал; наконец он кой-как оправился.
— Осмелюсь напомнить вам о всенижайшей моей просьбе и милостивом желании вашем видеть меня сего числа в сем доме для решительных переговоров о известном вам деле. — Говоря это, Случайный жался, мялся, кланялся беспрестанно, облизывался как кошка.
— Понимаю. Вы говорите о месте.
— Проницательность вашего высокого ума предупредила мои слова. Согласны ли его сиятельство определить меня на просимое мною место?
— Место занято! — сказал Зорин хладнокровно.
Нужно ли говорить, что почувствовал Случайный, услыша эти роковые слова? Этот человек, который за час мечтал о счастии, о карете, о просителях, на которых надеялся воротить все проести и волокиты, проторы и убытки, понесенные во время жизни без должности, снова увидел себя отдаленным надолго, может быть навсегда, от осуществления вожделенной мечты своей. Его дергало, корчило, ежило, трясло как в лихорадке; сердце его, или, точнее, кусок карельской березы, обточенный наподобие сердца, готово было выпрыгнуть из груди и отравить черной злостью и желчью своей треть человечества, корыстолюбивая душа, съежившись в гривенник, ушла, как говорится, в пятки, физиономия обнажилась во всем своем безобразии. В патетических местах трагедий талантливый актер, забывая себя, усваивает себе характер и действия представляемого лица: в минуты душевных потрясений человек забывает притворство и является таким, каков в самом деле. Потому-то весь запас трусости, бесхарактерности и душевной низости ясно отразился на лице Случайного. Не нужно быть Лафатером, чтоб, взглянув на него, понять в эту минуту его душевные качества.
Сначала он принял за шутку слова Зорина и смело посмотрел ему в глаза, но когда встретил равнодушный серьезный взгляд, смелость его оставила. В этом взгляде он прочитал себе приговор страшный, неумолимый; он многое, многое напомнил ему. Ему показалось, что когда-то он уже встречал подобный взгляд; несколько минут Случайный был в отчаянном положении, близком к сумасшествию.
Не дожидаясь ухода Случайного, Зорин небрежно кивнул головой и повернулся к нему спиною с намерением удалиться.
— Будьте великодушны, заставьте за себя вечно бога молить, не дайте умереть мне и жене моей с голоду! — закричал Случайный исступленным голосом, схватив Зорина за руку.
— Я ничем не могу быть вам полезным.
— Еще вчерась вы меня обнадежили; я танцевал — я для вас это делал.
Зорин улыбнулся.
— Его сиятельство сказал мне, что хотя ему бы очень приятно исполнить мою просьбу, но он уж отдал место другому, а потому не может сделать на этот раз по моему желанию; что делать! обстоятельства! — сказал он.
— Но вы меня обнадежили, я слышал, что место ив занято; войдите в мое положение… — При этих словах Случайный почти до земли поклонился Зорину.
Зорин, не дослушав его слов, вышел из комнаты…
— Батюшки! отпустите душу на покаяние! — шептал Случайный.
В эту минуту карета, в которой сидел Зорин, проехала мимо окон. Это напомнило Случайному что-то давно минувшее. Он вспомнил, как когда-то точно так же увидел из дверец своей кареты в приемной своей огорченного просителя. Всё ему объяснилось!..
* * *
P.S. Жена Случайного подарила его, чрез несколько времени, прекрасным мальчиком, который очень похож — на отца…
Без вести пропавший пиита*
— Что это за такое бессловесное животное?
— То, которое словесности не обучалось.
Хотя я иностранным языкам еще не обучался, но все-таки до личности своей коснуться не позволю.
НекиеЭто было в 182* году…
Плотно завернувшись в шинель, дрожащий от холода, я лежал на ковре, разостланном посредине моей квартиры, и размышлял о средствах достать чернил. Мне нужно было непременно написать одну статейку, на которой основывались все надежды моего бедного желудка, в продолжение трех дней голодного. Год был урожайный; за статьи платили мало или ничего вовсе, а есть любил я много; ни родового, ни благоприобретенного я не имел, следовательно, нечему дивиться, что мебель моя состояла из одного трехногого стула, а вся квартира простиралась не более как на шесть квадратных шагов, половина которых была отгорожена ширмою, за которою жительствовал мой слуга. Я находился в тесных обстоятельствах, во всевозможных смыслах этого выражения; денег у меня не было ни гроша; вещей удобопродаваемых тоже… Как тут быть?
— Милостивый государь! — закричал я громко, как бы опасаясь быть неуслышанным.
— Сию секунду, — отвечал из-за ширмы голос моего человека, которого я имел обыкновение называть милостивым государем.
— Как бы нам достать чернил? Ведь этак мы, пожалуй, умрем с голоду…
— Да, сударь.
— Вот если бы были чернила, я бы написал что-нибудь и достал бы денег. Нельзя ли взять у хозяина; вбеги впопыхах с чернильницей: очень, мол, нужно поскорей; куплю, так отдам.
— Да я уж так несколько раз делал; пожалуй, догадается.
— Ты прав. Не сделать бы хуже; он уж и то поговаривал, что нашу квартиру у него нанимают. Сходи лучше к лавочнику: мелких, мол, не случилось, хоть на грошик пожалуйте; да говори с ним поласковей.
— Куда! Этот жид и то не дает мне покоя. Всё долгу просит. «В полицию, — говорит, — явку подам, надзирателю пожалуюсь… Этак честные люди не делают… Вишь, твой барин подъехал с лясами: поверь да поверь земляку — вот я и влопался». И ну костить, да так, что инда злость берет; при всей компании по имени вас называет…
— Ах он мошенник!.. Да ты бы его хорошенько…
— Нету, сударь, уж как хотите сами, а я не берусь. Пожалуй, и в самом деле…
— Точно, точно… Лучше к нему и не ходи… Тьфу! черт возьми! да нет ли у нас гроша-то где, что и в самом деле!.. — При этих словах я обшарил все свои карманы — и засвистал протяжно:- Пусто!
— Пусто! — повторил мой милостивый государь еще плачевнее, выворачивая свои карманы.
Слезы навернулись у меня на глазах; злость закипела в душе…
— Вот до чего мы дожили… Сидим по два дни без хлеба, без дров, без чернил, — прибавил я страдальческим голосом. — Живем в гадкой каморке.
— Ничего, сударь.
— Как ничего! Глупец! Этак, если б меня посадили на кол, ты бы тоже сказал: ничего!
— Не место человека красит, а человек место, — говорит пословица. А пословицы, сударь, вещь прекрасная, сколько я мог заметить; что вы, сударь, об них ничего не напишете?
Я готов был заплакать и, по обыкновению, пуститься в проклятия стихами и прозой; но философия моего милостивого государя меня обезоружила. Этот человек, который сносил равную моей участь гораздо терпеливее меня, не раз отстранял совершенное мое отчаяние. Несмотря на простоту его, я замечал в нем гораздо больше твердости характера и потому невольно уважал его, иногда даже прибегал к его советам.
— За что же мы теперь примемся, милостивый государь? — спросил я.
— Да что, сударь, бросили бы свое писанье, коли не везет; испробовать бы другой карьеры…
— Ты опять за свое. Этого не будет, я уж сказал. Вот ты бы лучше подумал, как достать чернил.
— Терпит ли время до завтра? — спросил милостивый государь скороговоркою, с каким-то нечаянным самодовольствием…
— А кто поручится, что до завтра я не умру с голоду? Да и статью надо бы скорее.
— Батюшка-барин, — сказал милостивый государь дрожащим голосом, — потерпите до вечера… не сердитесь, что я вам скажу… У меня вон есть кусочки ситника, что намедни карандаш вытирали: вы съешьте их; оно всё на животе-то поздоровее… а я покуда добуду денег…
— Что ты, Иван? — закричал я, забыв обыкновенный тон шутки. — Где ты достанешь денег так скоро?..
— Да вот в соседние дома поношу водицы, так и заработаю что-нибудь.
— Добрый Иван! — сказал я и почти готов был обнять его.
— Оно, вот видите, барин, кабы вы так не транжирничали, и было бы хорошо; ведь еще третьеводни были у вас деньги: вы враз упекли! Хоть бы вы послушались моей просьбы да отпустили меня, так я бы нашел местечко, а деньги-то бы приносил вам… всё бы сподручнее…
— Опять за свое. Пожалуйста, не говори мне никогда об этом, — сказал я с чувством обиженной гордости и сел на стул… Изломанная ножка, кой-как подставленная, подломилась, и я упал.
— Эх, барин! говорил, не садитесь, ножка худа, я-де подставил ее только для приличия, кто взойдет, чтоб не переконфузиться: надо же ведь и тону задать!.. Виноват, батюшка… не ушиблись ли вы? — говорил милостивый государь.
Но мне было не до него. Сердце мое сильно забилось радостью; в этом падении я увидел начало своего возвышения. Да! я увидел сапоги милостивого государя; кажется, тут и нет ничего необыкновенного… Точно, точно, милостивые государи, для вас так, но для меня… увидел сапоги моего Ивана — и нашел, что бы вы думали?.. Философский камень?.. Ничуть не бывало… меня только поразила светлая, гениальная идея: видно, что в этот день на небе было что-нибудь особенное, или, может, ум мой… но я оставляю исследовать это до другого времени…
— Давай сюда поскорей мои сапоги! — закричал я милостивому государю и сам схватился за голову, опасаясь, чтоб не исчезла идея; неожиданное счастие иногда заставляет нас прибегать к излишним предосторожностям из опасения потерять его.
— Идти со двора, что ли, сударь, хотите? Ведь ваши-то сапоги очень худы… наденьте лучше мои…
— Не то! идея, братец, идея! — закричал я, держась по-прежнему за голову.
— Да ведь я вам говорю, что худы, вылетит.
— Что ты тут толкуешь! С ума, что ли, ты спятил? Давай скорей.
— Да вы посадить, что ли, в них хотите ее?..
Я вышел из терпения; надобно же случиться такой оказии, что милостивый государь вздумал рассуждать. Чтоб не терять по-пустому времени, я побежал сам за перегородку, отыскал сапоги и с торжествующей физиономией поцеловал один из них. Милостивый государь стоял, вытаращив глаза. Я потер пальцем по мокрому месту сапога… Физиономия моя еще более прояснилась. Иван пожал плечами.
— Иван, друг мой! — закричал я. — Давай скорей воды, тарелку, да нет ли какой тряпочки?.. Мы не умрем с голоду! Тебе не надобно идти носить воду… Что ж ты стоишь!
Иван, поставленный мною в тупическое положение, насилу опомнился и побежал исполнить приказание. Сердце мое шибко билось от полноты сильных сладостных ощущений; может быть, еще первый раз в жизни оно было озадачено таким полным, мощным приливом счастия. Я готов был выбежать на улицу и расцеловать первого встречного, хоть будочника, который диким беспрестанным восклицанием «кто идет?» не дает мне спать. Таких минут немного бывает в жизни!
Милостивый государь наконец достал требуемых мною вещей и явился. Я выхватил у него из рук тарелку и поставил ее на окно; набрал в рот воды, взял тряпку и таким образом остановился у окошка, держа сапог прямо над тарелкою.
— Осмелюсь вам доложить, не понимаю, что изволите делать: дельное что или просто так, шутственное?
Я взглянул на Ивана: лицо его представляло странную смесь любопытства, недоумения и какого-то глупого испуга. Мне стало смешно, а смех такая вещь, которая производится только рот разиня. Я фыркнул, и брызги воды полетели в лицо Ивана. Он обиделся.
— Не плакать бы нам, барин; после веселья всегда бывают слезы; пословица…
— Ты опять с пословицами; довольно и давешней, — сказал я и снова набрал в рот воды.
Не обращая более внимания на Ивана, я стал выпускать изо рта воду на сапог и тряпочкой смывать с него ваксу. Физиономия моя прояснилась до прозрачности, когда я увидел черные крупные капли, падающие с сапога на тарелку.
— Вот что! — произнес милостивый государь и вздохнул свободно.
— Да, вот что, милостивый государь,
— Не густы ли? — спросил Иван. Молча указал я на ковш с водою.
— То-то, а то у вас всегда так: вдруг густо, а вдруг пусто.
Через минуту чернильница моя была наполнена драгоценным составом; я приставил стул к своему ковру, положил на него бумагу, поджал под себя ноги, и пошла писать.
— Умудрил же господи раба своего! — набожно произнес милостивый государь и пошел за ширмы спать, или отдать визит пану Храповицкому, как сам он выражался.
Я уписывал уже второй лист, стараясь писать как можно разборчивее, потому что изобретенные мною чернила были не очень благонадежны; из-за ширмы слышалось уже полное, совершенно развившееся храпение милостивого государя, как вдруг в дверь мою послышался тихий стук… Я не мог растолковать себе, кто б это мог ко мне пожаловать; хозяин мой стучит сильно и смело, а больше ко мне ни собаки не ходит. Теряясь в догадках, я разбудил Ивана и велел отпереть ему, для большей важности.
— Наум Авраамович дома? — спросил робкий, дрожащий голос.
— У себя-с, — отвечал милостивый государь. — А как об вас доложить?
— Я приезжий из Чебахсар; они знают моего родителя; я Иван Иваныч Грибовников.
Я выскочил за ширмы и увидел молодого человека 45 множеством различных тетрадей под мышкой и с письмом в руке. Я оглядел его с ног до головы; черты лица его были резки и неправильны, в глазах выражалась необычайная робость, происходившая как бы вследствие сознания собственной ничтожности, нижняя губа была чрезвычайно толста, несколько отвисла и потрескалась; нос был довольно большой и несколько вздернутый кверху; волосы его, сухие, немазаные, неровно остриженные, не показывали ничего общего ни с одной из европейских причесок; зачесанные ни вверх, ни вниз, они щетиной торчали над головой, в виде тангенса к окружности; руки его были почти грязны и имели на себе несколько бородавок, расположенных почти в том же порядке, как горы на земной поверхности; ноги были кривы и двигались неровно и медленно; когда он говорил, то обыкновенно одну ногу выдвигал вперед, а другой изредка сзади в нее постукивал; кланялся он низко, очень низко, но совершенно не по тем законам, каких держится большая часть поклонников; на нем был долгополый сюртук из синего сукна, двубортный, с тальей на два вершка ниже обыкновенной, с фалдами, усаженными пуговицами, которых пара приходилась почти против пяток; желтые нанковые брюки, необыкновенно узкие, довершали безобразие ног; оранжевая с белыми полосками жилетка, загнутая доверху, пестрый ситцевый платок с китайскими мандаринами на узоре, из-за которого едва виднелась черная коленкоровая манишка, порыжевшая от времени и непредвиденных обстоятельств, и смазные немецкие сапоги на ранту — дополняли его наряд.
— Пожалуйте, пожалуйте, очень приятно… — говорил я, вводя его в дверь и путаясь в полах моей шинели.
Грибовников смотрел на меня с каким-то благоговением, а на мою квартиру еще с большим…
— Что привело вас сюда? — спросил я после обыкновенных приветствий.
— Судьба, — отвечал он трагически.
— Прошу садиться, — сказал я и, спохватившись, прибавил: — кто как любит, а я, знаете, просто, по-турецки, на полу оно как-то удобнее. Вы извините меня, у меня такой уж характер; не люблю этой мишурной пышности.
— Всеконечно. Суета мира сего — ничто пред всеобъемлющей, громадною, бесконечною вечностию.
— То есть вы хотите сказать: всё вздор против вечности?
— Действительно, сударь, я вам должен доложить, что я хотел сказать сие самое.
— Надолго в Петербурге или опять на родину? Вы, верно, там служите?
— Да, я хотел было поступить в земский суд, да наш уездный учитель, умнейший человек на свете, посоветовал мне поступить лучше в пииты; оно, говорит, и доходно и почетно… Я же уж давно пописываю… право, вот вам, прочтите… затем я и к вам, Наум Авраамович; как бы это определиться? вот и батюшка-то к вам письмецо пишет, — сказал он умоляющим голосом и вручил мне письмо.
Всё еще недоумевая, о чем идет дело, я развернул письмо и нашел следующее:
«Милостивый государь,
Наум Авраамович!
Примите под свое высокое покровительство сего юного питомца муз, дабы он мог, под вашим крылом, вознесться до превыспренних высей Парнаса и на сладко бряцающей лире восхвалить ваши ему благодеяния; ибо с давних пор, я вам скажу, замечено мною в сыне моем, Иване Иваныче, необычайное стремление к пиитике; долг родителя есть поощрять сие столько же, сколько довлеет изгонять из единокровных чад своих, коих господь бог послал ему яко утешение и подпору на старосте лет, семя греховное, и потому к вам, Наум Авраамович, как гению, прославившему наш град писанием, адресую моего сына; он у меня один, как порох в глазе, и вы за него богу ответите, если допустите погибнуть, аки оглашенному, кой, буде я не ошибаюсь, имеет безошибочные таланты и пишет, аки медом кормит, ибо в чтении оно так же сладило. Писание его вельми различно и обширно. Он также сочиняет для Российского Феатра, что в особности прошу заприметить, ибо и покойный Сумароков писал в различном духе и складе. Жена моя, Анфисочка…»
— Уф! — вскричал я, не имея терпения дочитать. — Прошу покорно, просит моего покровительства! Да я-то что такое? А! видно, что-нибудь… И в самом деле! Ведь пишет же он, что я прославил их город. Вот оно!.. — Эта мысль примирила меня с моим гостем, которого я хотел протурить без церемонии. — Милостивый государь! сколько могу, буду содействовать вам; но позвольте сперва обратиться к вам с одним вопросом: почему вы непременно хотите быть писателем?
— Мы все живем на земле, родители и сродственники ваши помещаются также на оной, — но никто из смертных не проникал в будущую судьбу свою… Всеобъемлющий гений Шекспира и сугубая злодейственность Малюты Скуратова равно велики и поразительны в своем роде…
— Но, любезнейший мой Иван Иваныч, из этого еще ничего не следует…
— Позвольте мне говорить с вами откровенно, — сказал доверчиво Иван Иваныч.
— Говорите, говорите, — сказал я и пожал его руку… Он положил руку на сердце, тяжко вздохнул и сказал:
— Мы удивляемся Шекспирову гению, но знал ли сей великий мясник…
— Но вы хотели мне что-то сообщить о себе?
— Да; я буду с вами откровенен: вы пиит, я тож, вы поймете меня, не так ли?
Я вежливо поклонился. Иван Иваныч продолжал:
— Что касается до меня, то в душе моей я признал нечто пиитическое еще в младости цветущей… Сие изложено мною в дактилохореическом стихотворении, титулованном мною двояко: «Зарождение плеснети в стоячем болоте», или «Пиит в юности»; прикажете прочесть?
— После, после, — сказал я поспешно, — мы их все рассмотрим. Теперь, что дальше?..
— Я пиит, решительно пиит! собственное сознание убеждает меня в сем предположении, — сказал Иван Иванович, положа одну руку на сердце, а другой пожимая мою. — Постыдно быть врагом самому себе и зарывать в землю свои таланты, кои, будучи очищены, аки злато в горниле, затмят камни самоцветные…
— Но вы не знакомы с положительной стороной того, за что хотите взяться… Тут много такого…
— Треволнения вселенной, коловратность мира сего — ничто! Неужели то, что я пожертвовал местом в земском суде, при коем окромя прочих продуктов квартира, дрова, и свечи, для пиитики, не может служить хоша малым доказательством моей к оной наклонности?.. Конечно, от доходов, буде оные случатся, я не отказываюсь, ибо состояние мое того не дозволяет. Но сие не важно суть, ибо всем известно, что Вальтер Скотт миллионы нажил писанием… Предположим, что не столь великое счастие мне поблагоприятствует, но пиит и половиною сего будет удовольствован…
— Но кто вам сказал, что это так легко? — спросил я, посматривая на свое жилище.
— Вы, Наум Авраамович! Вы! — воскликнул он, и лицо его просияло. — Весть о богатстве вашем достигла до нашего града и, мгновенно разлетись по стогнам оного, произвела всеобщее глумление. Сие-то и есть главною причиною, что родитель мой не воспрепятствовал моему желанию… Поезжай в Питер! — молвил сей добродетельный старец. — Трудись для российского Парнаса, а нам высылай наличными; пииту там хорошо… Наш друг Наум Авраамович…
— Да, конечно, я не могу жаловаться на судьбу свою: денег у меня довольно, — сказал я, вспомнив, что писал еще недавно к одному из земляков, что наживаюсь от литературы, имею своих лошадей, огромное знакомство и таковую же славу. Чего я не писал тогда? Впрочем, меня извиняют обстоятельства: там жила — царица души моей!.. Я не желал, чтоб Иван Иванович обличил меня во лжи перед целым городом, и решился во что бы ни стало опровергнуть невыгодное мнение о моем кошельке, которое, вероятно, внушил ему вид моей квартиры.
— Вам странным должен показаться образ моей жизни; в этом признались уже все мои приятели, но нарочно для этого-то и живу я так. Что ж? я мог бы иметь хорошую квартиру, мебель, прислугу, пару лошадей, дюжину поваров, кучера, дворецкого; но, знаете, всё это так обыкновенно… Нынче этим не удивишь. Да и для меня это полезнее; при виде окружающей меня бедности я прилежней работаю, как будто у меня и не лежит ничего в ломбарде… А чуть вспомню — вот и беда: мы, писатели, люди такие неумеренные.
— Заблуждаться свойственно человеку, — не извиняйтесь, Наум Авраамович… Я сам непрочь от сего… эт-то, в страстную пятницу, перед отъездом сюда… мерзко вспомнить… Благороднейшие пииты нашего града уподобились скоту бессловесному… у всех на другой день фонари под глазами были.
— Но вы не так меня поняли.
— Всё равно, — произнес он с жаром, — мы поймем друг друга… Скажите мне, что я могу на первый раз получить в год от пиитики?
— Вот видите, времена нынче странные: люди предпочитают поэзии прозу.
— О, грубые души, во тьме бродящие, бедных разящие, ложно мудрящие, низко творящие, вечно кутящие, пьющие, спящие, света не зрящие… — и пошел, и пошел… да так, что, я вам скажу, наговорил он их штук сорок… Ну, голова}
Я взглянул на него; лицо его было бледно и сияло каким-то неземным вдохновением; глаза страшно блистали, весь он слегка дрожал.
— Что с вами? — спросил я в испуге.
— Недуг пожирающий, тьму разверзающий, музу питающий, в радость ввергающий, плоть убивающий, дух возвышающий… — и опять пошел…
Страшно было смотреть на него; глаза его бегали, как у белки; нижняя губа как-то судорожно качалась; он уж едва держался на ногах.
— Сядьте! — сказал я и подвинул к нему стул, опять забывши о его недостатке.
Поэт не успел сесть, как уже был на полу…
— Землю пленяющий, небо вмещающий, огнь возжигающий… — шептал он, подымаясь с полу.
— Извините! — сказал я и поспешил подать ему помощь, но вдруг отскочил в ужасе…
— Черт вас возьми с вашим вдохновением! Вы пролили у меня чернила и залили мою статью! — закричал я с негодованием.
Поэт ничего не слышал. Он продолжал свою импровизацию. Между тем гнев мой несколько утих, и я очень радовался, что обидное мое восклицание не было им услышано.
— Успокойтесь, успокойтесь, любезный Иван Иваныч!
— Ох! — сказал он. — Это вы, Наум Авраамович, а мне показалось, что сам бог пиитики, Аполлон, предстал пред очи ничтожнейшего из пиитов.
Я вежливо поклонился.
— Извините, что я вас так много утруждаю присутствием моей малой особы, которая в присутствии вашем…
— Ничего. Лучше поговоримте о деле. Вы бедны?
— Я нищ!
— Что ж вы намерены предпринять для своего содержания?
— Наум Авраамович! Вы сами гласите, что уж и в ломбардном заведении ваши денежки водятся. А чем вы их нажили… мне бы то есть хотелось идти но следам вашим… Выпустите меня в литературу! Не корысть, не соблазны мира сего… поверьте… Мне бы так тысячи три-четыре на первый раз…
— Ого! — подумал я и поднял свой изувеченный стул.
— Только бы иметь средство прилично содержать себя и не быть в крайности; доставьте мне сию возможность.
— Право, не знаю как; задача трудная. По крайней мере знаете ли вы хоть один иностранный язык?
— Как же! еврейский, греческий, латинский, славянский…
— А немецкий, французский?
— Нет, Наум Авраамович.
— Плохо… на перевод, значит, нечего и надеяться. Не пробовали ли вы писать прозой? На прозу цена выше…
— «Fiunt oratores, nascuntur poetae»[5], — изрек Гораций; следственно, несомненно, что родившийся пиитом легко может сделаться оратором… Небезызвестно вам, что у нас еще с риторики задают рассуждения, хрии и прочая; я писал их по приказанию местного начальства, но душа моя…
— Оставьте-ка лучше вовсе свое намерение.
— Ни за что! Я не изменю своему призванию: Аполлон и девять сестер, именуемых музами, что на греческом наречии значит…
— Знаю, знаю. А я бы лучше советовал приняться за что-нибудь другое…
— Нет; лучше соглашусь довольствоваться тысячью рублями годичного продукта для поддержания бренной жизни сей, — произнес он с усилием, как будто бы делая величайшее пожертвование.
— Право, лучше поступите в статскую службу.
— Но небезызвестно вам, Наум Авраамович, что на первый раз жалованье слишком недостаточно. 300 рублей с копейками…
Я внутренне усмехнулся.
— Но уверяю вас, что и поэзия не больше принесет вам.
— Как! И вы это говорите! Вы, о богатстве которого весть гремит повсюду, которого наш град прозвал своим Крезом, — Крез, изволите видеть, был богаче всех, — которому весь наш град завидует…
— Да с чего вы это взяли, что я богат? я, право…
— Не скрывайтесь, Наум Авраамович! Вы хотите этим отвлечь меня от поприща, на которое влечет меня сердце, но пусть я буду терпеть глад и хлад, скуку и муку, насмешки человечества, изгнанье из отечества и прочие увечества, — но никогда ни за что не откажусь от пиитики. Вот они, вот плоды светлых вдохновений, сильных ощущений, тайных упоений, бледных привидений, адских треволнений, диких приключений, тягостных мучений, сладостных кучений, бед и огорчений…
— Чудо, чудо! — закричал я. — Да вы собаку съели, Иван Иваныч!
Поэт мой ничего не слышал; торжественно схватил он с пола кипу своих тетрадей, развернул первую попавшуюся и начал:
«Федотыч», трагедия в 5 действиях, в 16 картинах, заимствованная из прозаической пиимы Василия Кирилловича Тредиаковского «Езда на Остров Любви» и написанная размером Виргилиевой «Энеиды», в стихах, с присовокуплением некоторых новооткрытых идей самого автора Ивана Ивановича Грибовникова, с принадлежащим к ней прологом и интермедиею. В числе 8783 стихов сочинил Иван Иванович Грибовников. Действие частию в деревне Прохоровне, Симбирской губернии, Самарского уезда, частию в волчьей яме и земском суде.
Действие I
Явление I
Театр представляет полати. Федотыч спит. Работник Кузьма подходит будить его.
Кузьма
Вставай, владыка мой Федотыч, солнце красно Взошло и на сей мир осклабилося ясно.Федотыч (просыпаясь)
Всю ночь мне не спалось, и некий злой шакал, Мне мнилось, на меня хулу из уст рыгал.Кузьма
Что зрелося во сне, на то ты не смотри, А лучше лик себе платенцем сим утри!(Снимает с гвоздя полотенце и подает ему.)
Дремоту обуяв, взгляни на ясность неба; Умойся, помолись — и съешь краюшку хлеба.Федотыч
Советодатель мой и мой наперсник! внемлю Тебе и нисхожу — с полатей я на землю.(Федотыч встает, умывается, садится есть.)
Кузьма
Реши, владыка мой, сомненье днесь одно: Идти ли нам косить иль выйти на гумно.Федотыч
О юность! сколько ты неопытна, быстра! Ведь прежде, нежель мы изыдем со двора, Должно нам порешить с тобой, о сын мой, вкупе, Владыке в чем идти, в чемерке иль в тулупе?Кузьма
Едва лишь ночи мрак преторгнул свет Авроры, На улице жара, ну так, что ломит взоры.Федотыч
Итак, надену я армяк и стару шляпу, Не сторгся б с небеси дождь яростный внезапу.Кузьма
Надень подниз тулуп: здоровьем ты ведь слаб.Федотыч (едва удерживаясь от слез)
В объятия мои, ко мне, мой верный раб!(Заключает его в объятия, потом одеваются и уходят.)
— Превосходно, превосходно! — закричал я. — Да не махайте так руками и не декламируйте так громко; разумеется, это придает много силы вашему сочинению, но знаете, если у вас немножко грудь слаба…
Он подал знак, чтоб я молчал, и хотел продолжать.
— Отдохните немного, у вас сделаются конвульсии, у вас пламенная, благородная кровь, и потому вы очень увлекаетесь, а это…
— Если вы не хотите слушать, то я перестану, — воскликнул он обиженным голосом, прерывая мой слова. — Я, сударь, читал свои сочинения в торжественном собрании нашего града. Сам городничий был, смотритель училища на другой день зачем-то прислал мне лаврового листу и писал, что меня должно венчать, как какого-то Тасса, да я ответил ему, что жениться мне еще рано… Впрочем, и дочка у него скверная такая, рябая, с веснушками.
— Не сердитесь, мой любезный Иван Иваныч, я вас же любя сказал. Да притом сегодня мы всех ваших сочинений прочесть не успеем, то я просил бы вас оставить их на недельку у меня, а теперь прочесть только отрывки. — Я взял из кипы тетрадей другую, развернул и прочел заглавие — «Иоанн и Стефанида». — А, это что-то духовное… новый род… должно быть, хорошо.
— Да, это пиима сказочного содержания, так, в Овидиевом роде. Мне хотелось испытать себя во всем. Но это вы прочтете после. Знаете, как неудобно для сочинителя, когда внимание читателя двоится; лучше кончить трагедию.
— Но вы уже дали мне понятие о стихах ее, они прекрасны; а чтение всей трагедии отнимет у нас много времени, мне некогда… вы извините меня.
— Но дослушайте хоть сюжет; я вам говорю, я сам удивляюсь, как я написал это: о, тут будет еще не то! Я вам скажу, у меня для некоторых лиц язык даже особенный, а сюжет просто диковина… Всё, всё новое… нигде еще не было напечатано. Вот, изволите видеть, они пошли теперь на работу, тут придут домой, будут есть, пить; начнется кричанье, плясанье, стучанье — такие деянья, что даже названья им трудно прибрать… Но это еще всё ничто… Федотыч, подгулявши, это уже в третьем действии, идет, изволите видеть, в лес; вот тут штука… дело было под вечер… он не разглядел, да и бух в волчью яму, а там волк уж попался, голубчик, вот у них и начинается потеха. А! каково! Вот тут, я вам скажу, так уж пиитика! Меня самого слезы пронимают, как вспомню; как взял волк Федотыча, да как принялся ломать, так ажио самому страшно. (Становится в позицию и начинает декламировать).
Как ось несмазанна возницы Аполлона, Вдруг кости треснули: Федотычева стона Раздался велий глас, и гладную вельми К нему летящу зрит орлицу он с детьми… Кто ужас выражал на свете сем достойно? Кому, блаженну, сил дано премного столь, Исчерпать сей предмет, изобразить пристойно? Где, где счастливец сей: обнять его дозволь!Иван Иваныч простер ко мне свои объятия и искал моей шеи. Я уже хотел спросить: за кого вы меня принимаете? — но увлечение моего поэта было так сильно и естественно, что я не желал разбудить его.
Крепко, пламенно обнял меня поэт и заплакал. Долго слезы мешали ему говорить; наконец он снова начал:
— Не ужасайтесь: вы думаете, Федотыч погиб? никак нет-с.
Подобно праотцу всех праотцев, Адаму, Лишился он ребра, попавши в волчью яму.Вдохновение Ивана Ивановича сообщилось отчасти и мне. Я возразил ему стихами:
Но, видно, этот волк был очень глуп и добр, Когда не изломал Федотычу всех ребр.Он посмотрел на меня с приметным самодовольствием и отвечал:
Вещайте, с драмой сей возможно ль мне чрез вас Введенну быть, с толпой подобных, на Парнас?Я возразил с усмешкой:
Но можно ли волков вводить в литературу?Иван Иванович торжественно посмотрел на меня и воскликнул:
Но се не волк, — баран, одетый в волчью шкуру.Я захохотал во всё горло. Иван Иванович, который был вправе ждать от меня одобрения, изумился.
— Самое патетичное место в трагедии… поразительная нечаянность, неожиданный переворот во всей пиесе… сильный, гигантский шаг к заключению… — шептал он с неудовольствием, пока я смеялся. — Разве тут есть что-нибудь смешное, Наум Авраамович?
— Ха-ха-ха! сам себе смеюсь, любезнейший, сам себе, извините; как это я не мог с первого раза догадаться! Да вы так хитро придумали… Чудо, чудо! уж я на этих вещах взрос, а тут, нечего сказать, ума не приложил. Да как же это, уж не обманываете ли вы, Иван Иванович?
— Нет, поверьте. На том завязка; Федотычу со страха показалось, что это волк; а сказано это у меня вначале так, знаете, просто для интереса. Тут теперь чудеса пойдут. Прибегают поселяне на крик Фетодыча. Благородные сердца их поражены состраданием и изумлением. Федотыча вытаскивают, он видит барана и в гневе бросается на сие невинное животное, ставшее, по обстоятельствам, игралищем страстей человеческих. Надобно видеть ярость Федотыча: он клянется погубить врага тлетворным ядом — иль мечом! Всё для него равно, лишь бы достигнуть своей цели! Все средства позволительны: буря страстей завела его слишком далеко, чтоб уже благоразумно остановиться.
— О детища мои! о верная жена! — Федотыч в ярости взывает. — Заутро, может быть, мне плаха суждена, Уж смерть мне взоры осклабляет! Из посрамленных ребр ручьем текуща кровь В утробе сердца месть рождает. О пусть она вовек, как репа и морковь, Мне в душу корни запускает!После сего Федотыч начинает разыскивать, кто посадил в яму барана в волчьей шкуре. Открывается, что один юный парень, желая подшутить над своим другом, который вырыл сию яму ради взымания волков, сыграл эту шутку. Федотыч, познав сие, говорит много и сильно и наконец восклицает, почти в безумии:
Мне холодно, — я в ад хочу!
— И уходит в ад? — спросил я.
— Нет, он хватает «юного парня» и отправляется с ним в земскую полицию для принесения жалобы. Этим кончается четвертое действие. Но я должен сделать невеликое отступление. Что вы скажете насчет последнего стиха, произнесенного героем трагедии? А?! не напоминает ли он вам чего-нибудь этакого великого, колоссального? Подумайте, подумайте!
Я был в совершенном замешательстве и не знал, что отвечать; по счастью, Иван Иванович сам помог мне.
— Что, забыли! Помните ли вы сей стих из ямбической поэмы «Разбойники»:
Мне душно здесь, — я в лес хочу!
— Что, как он вам кажется?
— Удивителен!
— Повторите теперь мой: «Мне холодно, — я в ад хочу!» Что, не та же сила, гармония, звучность, меланхолия? Это просто пандан-с.
— Правда, правда; таланты равносильны… Но докончите скорей рассказ сюжета.
— Вы этого требуете? — спросил он с какою-то величественной важностью.
— Да, я вас прошу.
— Так нет же вам, — сказал он решительным тоном, весело улыбаясь, — моя трагедия вас заинтересовала, подождите же, подстрекнутое любопытство придаст ей еще более интереса.
— Но это безбожно!
— Ха-ха-ха! Сами писатель, а не знаете своих выгод. Помучьтесь-ка. Перейдем к другому, — Он взял огромную тетрадь и подал мне: «Дактило-амфибрахо-хореи-ямбо-спондеические стихотворения» — стояло в заглавии. Я посмотрел на поэта: он как-то странно переминался, лицо его блистало самодовольствием, которое он тщетно старался скрыть.
— Вы, вероятно, поражены новостью заглавия: а это так, пришло мне в часы златого досуга; оно, знаете, как-то… благопристойнее, — произнес наконец он и скромно потупил глаза.
Я перевернул страницу: «Ямбические стихотворения» — было написано вверху страницы…
— Нужно вам сказать, что сия тетрадь заключает в себе двадцать восемь отделов, кои все носят заглавия по названию того размера, коим трактованы. Мне показалось это удобнее, — прибавил он скромно.
— Конечно, конечно, — подхватил я, — если б все наши поэты…
— Впрочем, сие стихотворение вы можете прочесть в оной книге, см. Отдел четвертый, страница 1439, стихотворение, титулованное «Одного поля ягодам», — сказал поэт, заметив, что я его не слушаю, а гляжу в книгу… Между тем я отыскал в ней стихи, которые с первых строк меня заинтересовали; для полноты наслаждения я просил самого поэта прочесть их.
— Это так, безделушка, — сказал он и, прокашлявшись, начал: «Величие души и ничтожность тела», стихотворение Ивана Иваныча Грибовникова, посвящается товарищам по семинарии.
Сколь вечна в нас душа, столь бренно наше тело. Судьбы решили так: чтоб плоть в трудах потела, А дух дерзал в Парнас, минуты не теряв, Подобно как летал во время оно голубь, Всему есть свой закон: зимой лишь рубят пролубь, И летом лишь пасут на поле тучных крав!.. У вечности нельзя отжилить мига жизни, Хоть быстро прокричи, хотя протяжно свистни, Ее не испугать: придут, придут часы, Прервутся жизни сей обманчивые верви, Зияя проблеснет вдруг лезвие косы, И, смертный! ври: тобой — уж завтракают черви! Невольно изречешь: о tempora, о mores![6] Когда поразглядишь, какая в жизни горесть. До смертных сих времен от деда Авраама Людей я наблюдал и семо и овамо, Дикующих племен я нравы созерцал И — что- ж? едину лишь в них суетность встречал! Нещадно все они фальшивят и дикуют И божьего раба, того гляди, надуют. То всё бы ничего: но ежели их души Вдруг гордость обует, средь моря и средь суши, Забудут, что они есть прах, средь жизни чар Постигнет их твоя судьба, о Валтасар!Он умолк. Я всё еще слушал, так я был поражен. Молча подал он мне руку, также молча я пожал ее; но мы понимали друг друга без слов, да и что нам было говорить?
Что бедный наш язык? Печальный отголосок Торжественного грома, что в душе Гремит каким-то мощным непрерывным звуком. (Кукольник)— Вы поэт, — сказал я, — поэт оригинальный, самостоятельный, каких еще не являлось у нас; вы бы могли произвести переворот в литературе; но, послушайтесь меня… не печатайте того, что написано, не пишите больше.
— Как! — вскричал поэт. — Бы сознаете во мне дарование и советуете мне в самом цвете, в самой силе схоронить его в могиле?
— Ограничьтесь тесным кругом служебной деятельности, живите для счастия своего и нескольких избранных друзей: жизнь ваша потечет тихо и спокойно; благословляя судьбу, довольные миром и людьми, вы наконец перейдете в жизнь лучшую так же безмятежно и примете достойную награду неба. Поверьте, это есть именно то, к чему мы должны стремиться. Труден и неблагодарен жребий литератора… На каждом шагу, во всяком ничтожном деле он терпит и — такова его участь — должен сносить и не жаловаться. Предположим, что вы издали книгу: она хороша, прекрасна, вы сами, как самый строгий и беспристрастный судья своего таланта, первый заметили достоинства ее, так же как и недостатки. Но не так поступят с ней критики, враги рождающегося дарования: они найдут в ней небывалые недостатки, постараются унизить, затереть, совершенно уничтожить ее, если можно. Мало, — они докопаются до вас самих; какое-нибудь гнусное, бездарное творение, ничтожнейшее возможной ничтожности, низостью души кой-чего добившееся, творение, с которым нельзя встретиться на улице, чтоб не пожалеть в нем человека, стыдно быть в одном обществе, — посягнет на ваше доброе имя, превратит вас в нуль — и всё это для того только, чтоб наполнить страницу ничтожной газеты. О самой книге и говорить нечего, подобные ценители закидают ее сором, втопчут в грязь и в доказательство беспристрастия своего приговора скажут только: ведь и мы можем написать так же!
— Но есть же люди, которые достигли известности на поприще пиитов еще недавно. Ужели я столь несчастлив? К тому я драматический автор, тут судит сама публика. Я покуда ограничусь театром. К театру я чувствую в себе призвание. Я пишу во всех родах: трагедии, оперы, драмы, водевили. Да, вы еще не читали моего водевиля. Вот он, послушайте! (он взял одну из тетрадей) «Святополк Окаянный», водевиль в одном действии, с куплетами, действие на Арбате, в Москве.
— Но Москвы тогда еще не было?
— Doctoribus atque poetis omnia licent[7], — отвечал он и продолжал читать:
— Явление первое. Театр представляет померанцевую рощу…
— Но какие же померанцевые рощи в Москве?
— Doctoribus atque poetis omnia licent, — снова произнес он с некоторой досадой и продолжал:
— Святополк ходит в задумчивости и напевает известную песню: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан…», потом садится и начинает писать, потом читать: «С ног до головы целую тебя, любезная Элеонора…»
— Погодите немного, Иван Иванович, это мы прочтем после, я теперь не расположен смеяться, — сказал я, чувствуя особенное желание пофилософствовать, что у меня обыкновенно случалось на тощий желудок…
— Хорошо! — сказал он.
Я взял его за руку и продолжал:
— Положим даже, что журналисты, по какому-либо особенному случаю, вас расхвалят; но это еще не всё. Найдутся другие неприятности. — Вы — мечтатель в поэзии, но положительный в жизни; разумеется, вам не захочется всегда брать сюжетов из мира фантазии; вы возьмете их из природы, живьем перенесете на бумагу типические свойства человека, подмеченные вами; вы довольны своим трудом; вдруг чрез несколько дней доходят до вас слухи, что вы поступили неблагородно, бессовестно, низко… «Как? Что?» — воскликнете вы. «Еще запираешься, — говорит ваш приятель, — поздно, брат, мы узнали… Стыдно, стыдно: а еще человек с талантом, — списывать портреты с известных людей и разглашать печатно их семейные тайны; да и что он тебе сделал, за что ты его так выставил? он человек прекрасный!» Вы в недоумении, сердитесь, не знаете: что подумать. Приятель ваш подсмеивается над вами, и наконец дело кончается так: вы узнаете, что в вашем последнем сочинении выведены известные лица, которых сходство изумительно; одним словом, вас обвиняют во всем том, что мы разумеем под словом «личности». Не виноватый в этом ни душой, ни телом и, может быть, по благородству своего характера неспособный на такой поступок даже против человека вами ненавидимого, вы становитесь подозрительным в глазах людей благомыслящих и наживаете себе тайных недоброжелателей.
— Но, может быть, на театре…
— Еще хуже, одно случайное сходство фамилий, и вы неправы.
— Уж четвертый час, сударь; не прикажете ли сварить кофею? — послышался в дверях голос милостивого государя.
Я изумился, желудок мой обрадовался… «Но откуда взялся этот кофе?» — подумал я и повернул голову к Ивану. Только я увидел его, надежды моего бедного желудка вмиг разрушились: я сейчас догадался, что Иван приводил в исполнение то, что, по его словарю, называлось «задавать тону».
— Болван! — сказал я с притворным гневом. — Ты прежде этого мне не напомнил, а теперь уже время обедать.
Иван был очень доволен моим ответом и с самодовольствием возвратился за ширмы.
— Ну, любезный Иван Иванович, на что вы решаетесь?
— Но призвание, я вам скажу, оно-то меня волнует.
— Вы можете писать и не печатать.
— Но, вселюбезнейший Наум Авраамович, неужели слава, выгоды, которые представляет звание сочинителя, не выкупают с лихвою неудобств, вами представляемых?
— Ах нет! Иван Иванович! тот ошибается, жестоко ошибается, кто так думает. Слава? Но знаете ли, что только тысячный из среды этих жалких сочинительствующих тружеников достигает ее. Деньги! о, это еще труднее! Славу можно прикормить, припоить, купить. Но деньги! деньги, — повторил я со вздохом, — нет, о деньгах лучше не говорить; извините, я — не люблю денег! — произнес я в свою очередь трагически.
— Но ради чего вам кажется, что их приобретать трудно? Издал сочинение, роздал по лавкам — пошло, ходи только да обирай денежки по субботам.
— Ха-ха-ха! И вы так думаете, — закричал я почти неистово, — j по субботам! Ха-ха-ха! Нет, я думаю, полы перетрешь у книгопродавцев в лавках, ходя за получкой; знаю я эту получку, она мне вот где сидит! — вскричал я, указывая на сердце.
— Как! и вы еще жалуетесь, Наум Авраамович! Слава богу, известно, что вы и тысячками ворочаете; откуда же они у вас?
— Вы ошибаетесь, друг мой, — сказал я с жаром. Воспоминание о получках по субботам затронуло чувствительную струну моего сердца; положение мое живо представилось моему воображению; мне стало стыдно, что я морочу этого бедного ребенка из пустого каприза казаться не тем, что я в самом деле. Я решился во что бы то ни стало снять повязку с глаз Ивана Ивановича и отвратить его всеми возможными средствами от поприща, на котором он легко может испытать участь, подобную моей.
— Откажитесь, — вскричал я, — ради бога, откажитесь от своего намерения. Да или нет?
— Нет! — произнес Иван Иванович решительно. — Призвание…
— Вам мало убеждений, которые я привел; так знайте же, я вам скажу последнее: вы можете умереть с голоду, если не откажетесь!
— Помилуйте!
— Я вам скажу примеры: Артур В., Мальфиатре во Франции; Генрих Виц в Германии; Камоэнс в Португалии; Ричард Саваж в Англии… Я сам — в России!.. — вскричал я в исступлении.
— Помилуйте, вы, кажись, живехоньки.
— Жив! Но знаете ли, что чрез несколько часов меня не станет?
— Но вы, кажется, здоровы?
— Я умру, умру с голоду! — с усилием произнес я и упал на свой ковер от изнеможения.
— Но ваше состояние?
— Состояние! У меня нет его. Я бедняк, о, я ужасный бедняк! Я во сто раз беднее этих жалких существ, которые выпрашивают милостыню с простертой рукой там, на Невском проспекте, у Аничкина моста. О, зачем вы заставили меня вспомнить мое положение…
— Верите ли вы мне? — спросил я, несколько успокоившись, смущенного поэта. — Видите ли теперь, как выгодно писать из денег! Оставите ли свое намерение?
— Призвание, призвание! — повторил поэт, судорожно пожимая мою руку.
— Верите ли вы моей бедности? — спросил я и пристально взглянул ему в глаза. Он потупил их и покраснел. — Не верите! Ха-ха-ха! Видно, вас крепко уверили в ноем богатстве. Смотрите! — сказал я и раскрыл мой маленький чемодан, в котором лежал мой фрак и несколько худого белья. — Вот всё мое богатство! Любуйтесь, любуйтесь! Это я приобрел от литературы в продолжение пяти лет; неусыпным рвением, трудами, благородным желанием принести пользу. Оставите ли теперь свое намерение?
Поэт молчал, но меня уже и то радовало, что он забыл о призвании.
— Мало этого, — сказал я, — вот вам письмо, надеюсь, что оно убедит вас.
— Пошла вон, пошла! У барина гости, как ты смеешь лезть к нему! — послышался из-за ширмы голос моего Ивана.
— Не пойду, не пойду, не пойду! — отвечал резкий старушечий голос. — Что я, крепостная какая, что ли, вам досталась, помыкать мной; мыла, мыла белье — да мало того, что не платят, еще и не войди!
— Замолчишь ли ты, яга!
— Не замолчу, не замолчу, не замолчу! Отдайте деньги за мытье; что вы с вашим барином-то вздумали озорничать — видно, и он гол-соколик.
— А чтоб тебе, старая чертовка, ежа против шерсти родить! Типун бы тебе на язык. Еще смеет барина порочить. Пошла вон! — закричал Иван и силой протолкал старуху.
Это меня развеселило. Я имею чрезвычайно счастливый характер. В каких бы обстоятельствах я ни находился, я только свистну, пройдусь по комнате, закурю трубку, буде таковая есть, а не то просто плюну — и всё как рукой снимет. Так случилось и нынче; несмотря на мой тощий желудок, мне вдруг сделалось чрезвычайно весело.
— Милостивый государь! — закричал я. — Что там за шум происходит?
— Да вот, сударь, прачка пристала: подай да подай долгу, а и следует только два двугривенных; стану я из-за этакой мелочи беспокоить барина, да еще при чужих людях, оборони меня бог! — Последние две фразы прибавил
Иван затем, что мой гость вслушивался в его слова.
— Ну что, Иван Иванович, убедились теперь, что я говорю правду? Прочли письмо?
— Но, может, сие было писано на случай смерти от других обстоятельств.
— Что вы? Прочтите хорошенько; там просто сказано: на днях я должен умереть с голоду; когда меня не станет, завещаю тому, кто примет труд меня погребсти, надписать на моей могиле…
— Точно, точно; сказано.
— Что ж вы?
Иван Иванович молчал. Двукратное противоречие Ивана собственным моим уверениям подействовало на ум поэта сильней письма. С грустию в сердце увидел я почти разрушившуюся надежду свою спасти хоть одну жертву от хищных когтей чудовища, именуемого литературою; вдруг, в то самое время как поэт, снова увлеченный своим вдохновением, декламировал мне послание свое «К жестоко-душной», которое начиналось так:
В сфере высших проявлений Проявляется она: То как будто чудный гений, То как будто сатана… —дверь с шумом отворилась и грубый, решительный голос спросил: здесь ли живет господин П.?
— Здесь, здесь, батюшка, я уж знаю; я походил довольно за долгом к их милости, — подхватил другой голос.
— Да и я сейчас была, прогнали, просто прогнали! По миру пустить хотят, защитите, батюшка, — послышался визгливый голос женщины, недавно прогнанной Иваном.
Между тем человек в темно-зеленом вицмундире с красным воротником вошел в мою комнату и с величественною важностью начал обозревать ее.
— Что вам угодно, милостивый государь? — спросил я.
— На вас есть просьбица, дельце казусное. Вы то есть не платите крестьянину Григорию Герасимову, содержателю здешней мелочной лавочки, денег за продукты, у него забранные.
— Но могу ли я заплатить, когда сам их не имею?
— Нам невозможно входить в разбирательство таких мелочей. Довольно, что жалоба имеет законное основание, В потому я бы попросил вас выплатить без отлагательства.
— Но этот бездельник слишком важничает, вишь, велика персона: пятидесяти рублей подождать не может.
— Ждал, необлыжно говорю: ждал долго! — вскричал оскорбленный лавочник, высунувшись из-за ширмы. — Да еще ругается! А сам прежде писал: вот, посмотрите, ваше благородие! — И он подал ему какие-то записки.
Чиновник прочел: «Милостивый государь, любезнейший друг и земляк! Вы своим великодушием и покровительством, какое оказываете всем в одном месте родшимся с вами, заставляете меня надеяться, что и ныне не откажете снабдить меня двумя золотниками чаю и таковою же пропорциею березинского табака, за что деньги получите на днях. Примите уверение в искренности чувств и пр.». В заключение чиновник прочел мое имя и фамилию.
Я взглянул на моего поэта, всё лицо его было слух и удивление.
— Что, верите ли теперь?
— Но ваши ломбардные билеты?
Не успел я ничего отвечать, как дверь снова растворилась и в комнату вошел хозяин. Как я ни был бесстрашен, но это поколебало мое хладнокровие… Хозяин!.. Знаете ли, что предвещает приход хозяина тому, кто не платит за квартиру?
— А! здравствуйте, Семен Семенович! Вы здесь; вот кстати как нельзя больше, — сказал хозяин и подал руку чиновнику.
— Батюшка, уж и обо мне-то замолвите, — сказала прачка, кланяясь квартальному…
Хозяин мой отвел его в сторону и пошептал ему что-то на ухо.
— Еще на вас, м<илостивый> г<осударь>, жалоба! Вы не платите за квартиру.
— Прошу вас очистить ее сегодня же, сегодня… У меня нанимают, деньги верные, да и больше дают; где это видано, жить даром в чужом доме! — кричал хозяин.
— Забирать даром мелочные припасы, — подхватил лавочник.
— Заставлять мыть на себя белье и не платить денег. Да еще называть честную женщину — и невесть как. Вишь, лакеишко-то спозаранку, видно, наизволился! — прибавила прачка.
Это дивное трио продолжалось с четверть часа, разнообразясь до бесконечности… Вопрошающим взором взглянул я на поэта.
— Но ваши ломбардные билеты? — повторил он.
— Они существуют только в моем воображении!
— Если вы честно не разделаетесь, то, извините меня, я поступлю по всей строгости законов, — сказал квартальный.
— И хоть еще строже! Черт вас возьми всех! Убирайтесь вон! Вы мешаете мне заниматься! — закричал я, стараясь перекричать их…
— Вон! из моего собственного дома? Ха-ха-ха! посмотрим. Убирайтесь сами, покуда целы… Не то ведь… держал же вас в доме даром, так, видно, и покормить придется. Кормовых денег не пожалею, вы же не служите; так — как раз!
— Окажите милость, остановите хоть вот эту шинель да сюртук, что на них надет, может быть, хоть половину за них выручу, — сказал лавочник квартальному, рассматривая мою шинель.
— А мне, батюшка, хоть белье-то предоставьте, я и тем буду довольна; пускай уж мое пропадает, — говорила прачка.
— Убирайтесь вон! — заревел хозяин.
Я обратился к тому месту, где стоял поэт, с вопросом: «Верите ли мне? Отказываетесь ли от своего намерения?» Никто не отвечал мне; я обвел глазами комнату, но его уже не было, Я взглянул на пол: все до одной рукописи Ивана Ивановича лежали на прежнем месте. Лицо мое просияло.
— Стыдно, стыдно! — кричал между тем хозяин. — Молодой человек, где бы трудиться, наживать деньги, а он вдался, прости господи, в какую-то ахинею, пишет и пишет, а что толку? Грех, господи прости, этаким людям и добро-то делать, поблажать их порокам.
— Да ведь кто ж знал, батюшка: думаешь, и честной человек, еще земляком называется.
— Я и сама прежде думала, — начала прачка.
— Цыц! старая ведьма! измелю в порошок и вынюхаю! — закричал мой Иван, который всё это время провел в немом созерцании.
— Убирайтесь же поскорей! вам ли говорят, — повторял хозяин.
— Хоть бы шинель-то мне отдали, — сказал лавочник и надел ее на себя.
— Посмотреть, не спустил ли уж и бельишко-то, — сказала прачка и начала шарить в моем чемодане.
— Цыц! нишкни! старая карга! Изобью в ножевые черенья, только тронь! — закричал Иван и оттолкнул ее от чемодана.
— Нет, это выше сил моих! — вскричал я, схватившись за голову. — Мучители, кровопийцы! Чего вы от меня требуете? Вы хотите меня с ума свести, хотите вымучить из меня душу, растерзать тело, вцепиться в мою печень. О, если б вы это могли! Что говорю? Я сам это сделаю! Только позвольте мне отхлестать вас по щекам моими внутренностями, я их сам вытяну. О, я убежден, что вы не проживете после того ни минуты!
Очевидно было, что я завирался; я всегда завираюсь в патетические минуты жизни; да и когда ж бы завираться, не будучи в опасности показаться дураком, если не пользоваться такими минутами?
— Вы начинаете бесчинствовать, — сказал квартальный, — вспомните, что я облечен властью…
— Поступать со мной, как законы повелевают? Знаю, знаю!
— Но вы можете всё это кончить гораздо для себя выгоднее.
— Как это? — спросил я.
— Немедленно оставить квартиру, предоставив принадлежащие вам вещи в пользу кредиторов.
Я крепко задумался. Но для вас это не интересно: охота ли читать, что происходило в душе человека, когда у него в желудке пусто, в кошельке пусто и когда ему предстоит через минуту величайшее наслаждение воскликнуть:
Мне покров небесный свод —
А земля постелью!
В этом нет ничего комического!..
— Но позвольте мне по крайней мере переменить белье и надеть мой белый галстух! — воскликнул я, по тщательном соображении решив, что если мне суждено умереть, так уж всё лучше умереть в чистом белье и белом галстухе.
На галстух имел виды лавочник, на белье прачка: они вопрошающим взором взглянули друг на друга.
— Извольте! — сказал великодушный лавочник.
— Извольте! — нехотя повторила за ним прачка и ушла за ширмы.
Я наклонился к человеку, чтоб достать белье, и увидел лежащую подле него на полу залитую ваксой статью, начатую мной поутру. Луч надежды блеснул в моем сердце. Как утопающий, схватился я за эту последнюю надежду и с подобострастием сказал хозяину:
— Еще до вас просьба. Позвольте мне остаться на несколько часов в вашем доме, чтоб дописать вот эту статью, я надеюсь получить наличными.
— Ни за что! — сказал хозяин решительно. — Вспомните, сударь, что вы давеча говорили: вы оскорбили мою личность.
— Личность! — сказал я в испуге и бросился к дверям… Это слово всегда имело на меня такое действие…
— Иван! — закричал я из дверей. — Забери все бумаги и иди за мной, всё прочее я оставляю моим кредиторам. Иван пошел исполнять приказание, я растворил дверь с твердой решимостью оставить дом коварства и крамолы, но вдруг всё изменилось.
— Друг мой! ты ли это? — закричал человек, всходивший на лестницу в то самое время, как я с нее спускался.
— Дядюшка! Мелентий Мелентьевич! — воскликнул я, и мы бросились друг другу в объятия. Славный человек Мелентий Мелентьевич: он заплатил мои долги, накормил меня, нанял мне квартиру… Но я оставляю до другого времени познакомить с ним читателя, а теперь обращаюсь к моему герою, которого совершенно забыл, заболтавшись о себе.
Но что я скажу о нем?
Все мои поиски отыскать Ивана Ивановича Грибовникова были тщетны: я справлялся во всех кварталах о его квартире, писал в Чебахсары к его родным, ничто не помогло: Иван Иванович пропал. В продолжение нескольких лет я не пропускал ни одной новой книжки, ни одного нумера журнала, чтоб не посмотреть, не явилось ли что-нибудь под его именем или хоть написанное в его роде, совершенно новом, который обещал в нем со временем литератора самобытного и замечательного. Несколько раз проклинал я свою настойчивость в первое наше свидание, думая, что поэт стал жертвою предубеждения, посеянного мною в юной душе Ивана Ивановича. С ужасом видел я, что мой коварный умысел, внушенный мне самим адом, похитить у литературы деятеля, у славы чело, достойное быть ею увенчанным, удался как нельзя лучше. Желая загладить свою ошибку, я всеми мерами решился отыскать Ивана Ивановича, благословить его на литературное поприще, и вот уже четырнадцать лет не проходит дня, в который бы я не искал его, не вспоминал о нем и не укорял себя за необдуманный поступок. Мысль, что я, может быть, погубил в самом цвете, в самой силе его дарование, тяготит меня. В эти ужасные минуты мне остается одно только утешение: я переношусь в прошедшее, вижу перед собой пылкого, благородного юношу Ивана Ивановича, слушаю его стихи, наблюдаю течение его мыслей. Таким образом я начинаю припоминать его слова, вспоминаю, с каким жаром говорил он о призвании. Но отчего же он изменил ему? — рождается при этом вопрос в голове моей. У я? не потому ли, что он увидел, как оно мало приносит? Точно, точно, ведь он убежал от меня в ту минуту, как увидел крайнюю степень моей бедности, да и говорил-то о призвании только сначала. Но в таком случае он не мог чувствовать призвания? Впрочем, читатель сам может решить, был ли талант у Ивана Ивановича, или он просто был обыкновенный смертный… Если отрывки, приведенные здесь из различных сочинений Ивана Ивановича, будут признаны не лишенными достоинства, то я за долг поставлю себе короче познакомить публику с талантом Ивана Ивановича и по временам стану печатать в журналах плоды светлых вдохновений, тайных упоений, диких приключений, бед и огорчений и проч. Ивана Ивановича: их у меня достанет на девять томов!
Певица*
I Письмо
Молодая дама, прекрасной наружности, сидела на роскошной кушетке в грустной задумчивости. По временам лицо ее оживлялось и она с радостной улыбкой быстро повертывала голову к окну и готова была сойти на пол, но потом опять, как бы обманутая в надежде, склоняла на ладонь голову и предавалась еще большей задумчивости. В лице ее происходили беспрестанные изменения, которые ясно доказывали расстройство ее мыслей. То надежду, то отчаянье выражали эти смуглые, неправильные черты, чудные по своей оригинальной красоте и величию, едва возможному в женском лице. По всему заметно было, что она мучится ожиданием.
На дворе послышался стук въезжающего экипажа.
— Это он! — воскликнула дама и побежала к окошку; по покуда она успела разглядеть что-нибудь, приезжий был уже в сенях и звонил в колокольчик.
— Барон Р **,- сказал вошедший слуга.
— Проси! — с неудовольствием сказала дама и грустно повесила голову.
Вошел мужчина лет тридцати, мужественной; красивой наружности, и ловко расшаркался.
— Ваш муж и мой друг, граф Виктор, должен сегодня приехать. Это без сомнения будет одним из лучших дней вашей жизни, — сказал он.
— Да, барон, надеюсь.
— Вы так его любите! Как жаль, что он не стоит и половины вашей любви; невежда! Он не умеет ценить того, чей владеет…
— Вспомните, барон, что вы называете его своим другом.
— Другом! Он мне друг потому, что он ваш муж, потому, что в его руках сокровище, за которое я готов пожертвовать жизнью, готов вытерпеть мучения пытки, умереть сто раз!
— Оставьте, барон, ваши шутки!
— Я шучу? О, боже мой! Нет, графиня, клянусь вам, слова мои от сердца, которое носит в себе ваш несравненный образ.
— Барон, вы забыли условие, на котором я согласилась принимать вас в отсутствие мужа: не говорить ничего о своих чувствах ко мне…
— Графиня! я решился всё кончить… Приезд вашего мужа помог моей решимости; я смел, я дерзок, но — простите меня — я влюблен!
— И вот как вы оправдываете доверенность моего мужа, цените его дружбу!..
— Любовь — сильнее дружбы… Я готов, я изменю сто раз дружбе, только бы один раз остаться верным любви… О, скажите же мне ответ на последний наш разговор, или я… не знаю, что со мной будет!.. — Барон взял ее руку…
— Барон, я уйду…
— Я застрелюсь!
— Можете, если с вами есть пистолет…
Графиня хотела казаться равнодушною, но голос ее невольно дрожал. Барон это заметил и сказал твердым голосом:
— Итак, вы решились пожертвовать вечной любовью пламенного любовника приторным ласкам неверного мужа.
— Неверного? Барон, вы клевещете на человека, которого называете другом?..
— Он мой враг! Враг потому, что изменил вам…
— Барон! Вы говорите неправду! Сознайтесь! Ради бога, не мучьте меня…
— Клянусь моей любовью к вам — он не достоин вас, он изменник!
— Изменник? Барон, умоляю вас, откажитесь от своих слов… Вы меня испытываете…
— Я имею доказательства…
— О, боже мой! Но, может быть, вы шутите! Барон, не мучьте меня… За что вы хотите растерзать мое бедное сердце… отнять у него покой, счастие, любовь, для которой я всем пожертвовала: матерью, отцом, родиной, моей благословенной Италией!
— Вы всё опять найдете, если согласитесь пожертвовать изменником.
— Отказаться от него! Позволить другой жечь поцелуями его черные южные глаза, высасывать негу страсти из его уст, играть его каштановыми кудрями!
— А если всё это уже давно делает другая?
— Вы клеветник!
— Если б это сказал мужчина — не язык, а шпага моя была б ему ответом… Но я берусь доказать вам, графиня, истину моих слов.
— Не докажете!
— А если докажу, что ваш муж изменник, будет ли хоть искра вашей любви мне наградою?..
— Я вас задушу в моих объятиях!..
— Я согласен.
— Оставьте меня.
— Но, графиня, того, кому так много обещают в будущем, не отпускают так холодно.
Графиня подошла и поцеловала барона,
— Итак, вы меня любите?
— Я вас ненавижу! — При этих словах графиня пошла в другую комнату и в изнеможении, в расстройстве моральном и физическом, почти без чувств упала на диван.
«Чудная женщина! — думал барон, оставшись один. — Настоящая итальянка! Любовь ее беспредельна как небо и пламенна как солнце. Ревность легковерна как дитя и бешена как дикое животное! Ненависть… о, ненависть ее чрезвычайно странна… Она сказала, что ненавидит меня, а поцеловала так, что еще теперь кровь моя не успокоилась». И довольный барон отправился домой…
Страшные, возмутительные мысли мелькали в уме графини. В каком-то полубезумном состоянии она то вскрикивала отчаянно, то заливалась слезами. Глаза ее блистали каким-то диким огнем, холод леденил чело, от груди, как от раскаленного металла, веяло пламенем. В беспорядочном бреду она беспрестанно упоминала имя мужа, сопровождая его укорами. Страшно и жалко было смотреть на эту юную, чудную красавицу, обезображенную приливом нечистой страсти, буйным бушеванием сердца, которое забило тревогу: измена! Пылкая, восторженная, до безумия влюбленная в мужа, она только и жила этой любовью, только для нее и жила… Какова же была ей роковая весть барона?
Когда волнение ее несколько утихло, мысли пришли в порядок — она заплакала. Слезы облегчили несколько душевную муку ее… Наконец на дворе снова послышался стук въезжающего экипажа.
— Это он, это он! — воскликнула она, в минуту позабыв и ревность, и гнев и увлекаемая одной любовью…
Дверь отворилась, и она бросилась в объятия графа.
Граф Виктор Торской года два тому назад отправился в чужие край для окончательного образования. Пространствовав с полгода, он наконец поселился на несколько времени в Риме, был там радушно принят в лучших домах и разыгрывал не последнюю роль. В то время на одном из италиянских театров блистала славная примадонна Ангелина. Талант этой знаменитой артистки и необыкновенная красота привлекали множество поклонников, но все их старания оставались безуспешны. Явился граф, и неприступная певица покорилась могуществу его красоты и любезности. Он тоже влюбился в нее. Страстная, увлекаемая любовью и необузданными желаниями, неопытная и легкомысленная, Ангелика отдалась совершенно графу. Через несколько дней граф уже скакал с нею в Россию. Как по любви, так и по великодушию, граф не желал воспользоваться доверенностью молодой девушки и тотчас по приезде в Россию женился на ней. Жизнь их была настоящим раем, когда вдруг граф получил известие, что один из близких родственников его при смерти. Поручив охранение супруги другу своему, барону Р**, он с грустью в сердце отправился в путь… Окончив дела, он поспешно возвращался к супруге и прислал ей с дороги письмо о скором своем прибытии.
Сильным, почти неистовым восторгом встретила Ангелика мужа.
Сердце его сдавилось от блаженства. С какой-то высокой гордостью он целовал эту дивную женщину, которая просто и увлекательно высказывала ему, как она мучилась во время разлуки и как теперь счастлива.
«Ты ангел!» — шептал он, глядясь в ее очи. Она была прекрасна, чудно-прекрасна! Но красота ее, детски невинное выражение лица, отененного негою и счастием, улыбка уст — всё носило на себе что-то особенное. Никто бы не сказал, что это та же женщина, которая за час шептала угрозы и проклятия!..
«Ты ангел!» — повторил граф.
В прихожей послышались шаги, дверь отворилась, и перед смущенными супругами явился барон Р**.
Лицо Ангелики изменилось. Из ангельского оно сделалось чем-то ужасным, почти отталкивающим. Краска гнева и злости выступила на щеках. Она вспомнила, что говорил ей барон, и жалела, и досадовала на себя за то, что расточала так много ласк мужу, может быть их не стоящему, неверному…
Барон и граф дружески поцеловались и разменялись приветствиями…
Увлекаемая порывами своей живости и каким-то неопределенным чувством, она победила первое впечатление, бросилась к мужу и хотела оттолкнуть от него барона, но одного взгляда его довольно было остановить ее стремление…
— Ну что твое путешествие?
— Дядя мой, который долго не прощал меня за мою женитьбу, перед смертью умилостивился и оставил мне именье.
— Ты всё богатеешь, а я напротив. Не случилось ли с тобой чего интересного, не одержал ли ты каких побед?
— Вот вздор!
— Оставьте нас одних, — шепнул барон, проходя мимо Ангелики.
Она вышла.
— Послушай, брат, я к тебе для первого свидания с просьбой; я затеял маленький проект, а знаешь, для этого нужны деньги.
— Изволь! Сколько тебе?
— Пять тысяч. Отдам скоро.
— Что за счет между друзьями.
Граф вынул из кармана бумажник и подал барону.
— Здесь ровно столько, сколько ты требуешь.
Барон вынул деньги, повертел несколько минут бумажник в руках и потом отдал графу, который спрятал его в боковой карман.
Ангелика, подстрекаемая нетерпением, возвратилась в залу. Барон выразительно, с торжеством посмотрел на нее, и в минуту в лице ее сделалась страшная перемена: не сомнение, не ожидание чего-то печального — роковая уверенность и ярость тигрицы отразились на нем… Судорожно вскочила она, как бы желая кинуться на графа, но повелительный, укоряющий взор барона остановил ее…
Барон скоро раскланялся, отговариваясь тем, что графу, уставшему с дороги, нужен сон. Уходя, он шепнул что-то Ангелике и вложил в ее руку записку. Злая радость, смешанная с беспредельной, мертвящей грустью, оттенила лицо ее каким-то неопределенным выражением.
* * *
Было около полуночи. Все спали в доме графа. Тускло теплилась лампада в спальне супругов. Граф крепко спал, обвив одной рукой нежную шею Ангелики. Она не спала. Сердце ее сильно билось, грудь колыхалась как волны моря, возмущенного бурею; она трепетала всем телом. Тихо притаив дыхание, нагнулась она к лицу графа. «Он спит!» — прошептала она и с осторожностью отняла руку мужа от своей шеи. Тихо стала она приподниматься, всё еще прислушиваясь, не доверяя себе. Наконец она приподнялась и спрыгнула с кровати. Накинув легкий капот, трепещущая, едва касаясь пола, она подошла к лампаде, важгла свечу и вышла из спальни.
Она вошла в кабинет мужа и подошла к письменному столу, на котором в беспорядке разбросаны были бумаги. С сильным волнением Ангелика начала их пересматривать. Откинув несколько листов, она увидела бумажник, лежавший под ними. С жадной радостью схватила она этот бумажник и развернула его. В нем лежало несколько страниц записной книжки и распечатанное письмо.
«Письмо женщины; не моя рука! Письмо женщины в бумажнике моего мужа!» — с ужасом воскликнула она, развернув письмо…
Глаза прильнули к словам. Чудные, страшные перемены происходили в лице ее, когда она читала письмо…
«Она клянется любить его так, как он ее любит! А! он изменник! Сердце мое разрывается! сердце мое, сердце мое! Он не любит меня, не любит! Он изменник».
Так стенала несчастная Ангелика. В это время часы, стоявшие в кабинете графа, пробили двенадцать. «Час, в который я должна была или увериться в измене, или забыть сомнения, — наступил! Поздно, поздно! я всё узнала! Как счастлив этот час! Счастлив потому, что он еще не существовал, когда открылось ужасное преступление!.. Но он будет свидетелем моей мести!.. Там… в саду… он дожидается…»
Ангелика быстро пошла в другую комнату, оттуда в третью, миновала потом лестницу и вошла в сад. Свежая, летняя ночь веяла прохладой и благоуханием; ни одно облако не туманило неба; соловей сладко пел над засыпающей подругой…
Большими, неровными шагами шла Ангелика по саду…
Недалеко от павильона стоял человек, закутанный в черный плащ. Она удвоила шаги.
— Правду ли я сказал? — спросил он.
— Барон, я ваша! — сказала Ангелика и бросилась в его объятия.
Барон увлек ее в павильон…
* * *
— На что ж вы решились? — спросил барон после долгого молчания…
— Убейте меня, барон! если вы меня любите, если вы хоть сколько-нибудь уважаете женщин!
— Что за странная мысль, прекрасная Ангелика; успокойтесь!
— Я не хочу, не могу его видеть, потому что в его глазах, в которых я находила только себя, я встречу образ моей соперницы… потому что звук его голоса, который напоминал мне верного друга, теперь будет напоминать изменника…
— Вспомните, графиня, что есть сердце, которое бьется только для вас…
— Да, вы мой любовник, я для вас изменила мужу, которого ненавижу… О, как я счастлива, что сжимаю вас в моих объятиях. Я не потому отдалась вам, что он изменил, — я люблю вас!
— Вы не хотите его видеть, вы его не любите? Что ж мешает вам наказать изменника, для того чтоб принадлежать человеку, истинно к вам привязанному… Свет велик; два сердца, связанные любовью, везде будут счастливы. Уедем отсюда и поселимся в каком-нибудь отдаленном уголке мира, где люди не помешают нам жить друг для друга…
— Делайте со мной что хотите, мне всё равно; он меня не любит, — я больше не хочу быть счастлива.
— Куда же мы поедем?
— Куда хотите.
— Надобно выбрать удобное время для отъезда.
— Оно наступило!
— Как? Вы хотите сейчас же ехать! О, это еще лучше! В пяти шагах от вашего дома моя коляска; мы доедем до первой станции, возьмем почтовых лошадей и чрез два дня мы — за границей.
Ангелика машинально подала барону руку, холодную как лед. Не помня себя от счастия, барон почти донес утомленную Ангелику до кареты, завернул ее в свой плащ, осторожно посадил, сел сам, и колеса быстро мчащейся кареты застучали по мостовой Петербурга.
* * *
Поздно проснулся граф. Думая, что Ангелика уже встала, он пошел в ее комнату. Скоро он обошел весь дом, но нигде ее не было. С мрачным предчувствием вошел он в сад, — и там всё пусто… Страшные подозрения мучили душу графа. «Ангелика! Ангелика!» — восклицал он, но ответа не было. Он терялся в догадках, старался приискать отсутствию Ангелики извинительную причину. Он еще не вполне верил себе, не понимал своего несчастия. Он думал, что разум его в расстройстве, и оттого он не с той точки зрения смотрел на это обстоятельство, может быть, в сущности маловажное. Мрачный бродил он по комнатам; малейший шорох приводил его в радостное содрогание, легкий стук двери заставлял поворачивать голову. Считая по-прежнему барона своим другом, он пошел к нему, не застал его дома и вошел к нему в кабинет. На столе лежало незапечатанное письмо руки барона. Он прочел его и удивился. Теряясь в предположениях, он взял его и возвратился домой. Всё еще неуверенный в роковой потере, он надеялся, не предавался совершенному отчаянию. Когда наконец пришла страшная уверенность и он вполне понял свое несчастие — силы его оставили, он не мог владеть собою… Страшно изменилось лицо его, он невнятно вскрикнул, заскрежетал зубами и без чувств повалился на пол. Во время падения он наткнулся головой на острый угол кресла, и кровь ручьем брызнула из раны… Камердинер в страшном испуге прибежал на крик барина. Его отнесли на постель; послали за доктором, который объявил, что жизнь больного в опасности. Граф метался, вскакивал и произносил бессмысленные слова… Чаще всего вылетали из уст его проклятия и жалобы на барона и неверную жену… «Друг, друг! что ты так мало отблагодарил меня за мою приязнь, — соблазнил жену, лишил меня чести! Ты бы оклеветал меня, запятнал позорным клеймом преступника!.. О, мщение! мщение! Клянусь небом, мщение!..» И он вскакивал и искал кинжала.
Две недели прошло в бесполезных усилиях помочь больному., ему не было легче.
II Рим
Многочисленные толпы зрителей стекались в один из оперных театров Рима. Маленькая площадка перед театром была вся наполнена народом, жаждущим ворваться в двери. За нею тянулся ряд экипажей, которого конец едва усматривал взор. В театре было необыкновенное волнение. Зрители с нетерпением посматривали на опущенный занавес. Разговор почти всех был обращен на предстоящий спектакль. Давали новую онеру любимого Донизетти. Но не одно это до такой степени интересовало зрителей. Незадолго до настоящего дня дебютировала в первый раз новая певица Франческа, и слух о необыкновенном ее пении и чудной красоте быстро разлетелся по городу. Успех ее был заслуженный и совершенный: взволнованная толпа, увлеченная приливом восторга, провозгласила ее гениальной певицей, осыпала венками и золотом и почти на себе довезла домой ее карету. Ныне она готовилась во второй раз явиться на сцене, и все те, кому еще не удалось видеть ее, оглушенные общими похвалами, увлекаемые любопытством, жадно бросались в театр.
Занавес взвился. Почти не касаясь пола, выпорхнула она, легкая, грациозная. Оглушительные рукоплескания потрясли своды театра; потом всё смолкло… Всё, что дышало, имело глаза, уши, — притаило дыхание, напрягло слух, лучи всех глаз встретились на невыразимо прекрасном лице певицы. И вот полились дивные, пленительные звуки, разнообразясь до бесконечности; они льются — и наконец истаивают в воздухе. Но они не исчезли. Светлой строкой эстетического восторга напечатлелись они в сердцах слушателей!.. И лицо певицы было не менее замечательно в эту минуту. Она совершенно предалась своей роли, и страсти лепили из него, как из воску, все формы, какие только могло принимать оно… «Браво» оглушало театр; венки летели под ноги певицы…
— Чудно, чудно! — повторяла восторженная толпа. — Мы не слыхали ничего подобного!
— Она заменила нам незабвенную Ангелику.
— О нет! она выше ее!
— Она даже несколько похожа на эту превосходную артистку лицом, а в голосе почти нет разницы…
— Голос ее гибче и выработан лучше!
— Если б я был уверен, что это она! Или только случайное сходство? — так говорил сам себе синьор Джулио, теряясь в каких-то догадках…
После представления Франческа села в кабриолет, и восторженная толпа проводила ее до самого палаццо…
Она подошла к зеркалу и пристально на себя посмотрела.
— О, как я рада, что красота моя вянет, глаза теряют прежний блеск! Плачь, мое сердце, плачь; грызи мою грудь, червь горя: это поможет действию времени! Они восхищаются мной! Слава моя растет! Но я знаю, что большую часть ее приобрела мне красота. Слепые, они и не замечают, что я дурнею, что свежесть лица моего — поддельная свежесть… О, исчезай скорей, последний отблеск красоты, мне не нужна она; я хочу славы, славы, которая бы наполнила пустоту души моей… вознаградила бы за страдания, за жизнь без любви… я хочу славы, какой никто еще не имел, потому что я хочу приобресть ее одним искусством… Гибни, моя красота! Покуда я буду нравиться, мне всё будет казаться, что я обязана тебе славою!
И между тем она еще пристальней смотрелась в зеркало, и самодовольная улыбка невольно прокрадывалась на молодое, прекрасное лицо ее…
В комнату вошел молодой человек. Молча приблизился он к Франческе и поцеловал ее в лоб; она как бы нехотя ответила на его ласку.
— Что ты так задумчива, так грустна, моя синьора? Неужели и твоя слава тебя не радует?
— Моя слава не так еще велика, чтобы выкупить мое горе, которому нет пределов…
— И которое ты сама себе придумала…
— Может быть. Но где же мое счастье? Сердце мое холодно как лед; грудь моя волнуется только вздохами горя. У меня нет желаний, нет любви…
— И ты говоришь это мне, тому, кто всем для тебя пожертвовал? кто столько страдал от любви к тебе, столько счастлив ею… ты несправедлива!
— Я не люблю тебя!
— Непонятная женщина! Несколько лет постоянной верности, мольбы, клятвы, страдания — и вот награда!.. Ты не любишь меня? но для чего ты не отвергаешь меня?..
— Ты не поймешь меня!
— Для чего ты так ревниво следишь за мной, когда я в обществе женщин?..
— Для того чтоб показать, что я люблю тебя.
— Значит, это справедливо?..
— Нет. Я то же бы и с другим делала… Оставим этот разговор…
— Тебе скучно?
— Да, я охотно бы умерла!
— Брось эти печальные мысли. Я точно не понимаю тебя, но понимаю то, что я несчастен, что надежда обманула меня…
— Чем недоволен ты? Или ласки мои принужденны, поцелуи не горячи, объятия закрыты для тебя?.. Какая любовница может дать тебе более!
— Да, я счастлив… Но будь веселей; не напоминай мне своей горькой улыбкой, что ты несчастна… пойдем в залу; там собралось несколько почитателей твоего таланта. Нужен один твой взгляд, чтоб лица их просветлели, рот раскрылся для комплиментов, сердце для любви…
Они вошли в залу. Несколько молодых людей, между которыми был и Джулио, вскочили с своих мест…
— Синьора, — вскричал Джулио, — вы делали сегодня чудеса на сцене!
— Клянусь небом, свет не слыхал ничего лучше арии, которую вы спели во втором акте!
— Ставлю свое благородное имя против имени обесчещенного лазарони, если не всё, что в Риме есть живого и разумного, занято разговорами об вас, очаровательная Франческа!
— Ваш голос, ваша красота доставили вам славу первейшей певицы в мире!
— Моя красота! — повторила с досадою Франческа. — Моя красота так же ничтожна, как голос. Вы льстите мне, благородные синьоры!
— Я льщу! — произнес с жаром Джулио. — Порази меня небо, если я не тщетно приискивал слово, которым бы можно выразить вполне ваши достоинства!
Так превозносила восхищенная молодежь певицу. Молодой человек, которого считали некоторые за мужа, другие за брата, а третьи за любовника Франчески, с видимым удовольствием вслушивался в их похвалы; сама она почти не обращала на них внимания… Джулио восторженней всех говорил о таланте и красоте певицы; Джулио робко взглядывал на нее, тяжко вздыхал…
— Мне кажется, я умер бы, — говорил он, — если б лишился возможности слушать ваш пленительный голос. Это становится потребностию моей жизни…
Между тем некоторые из гостей перешепнулись между собою и приступили к Франческе с просьбою спеть что-нибудь. Робкий Джулио, который давно желал этого, умоляющим голосом повторил просьбу… Вопрошающим взором взглянула Франческа на своего любовника…
— Синьор Отто, походатайствуйте за нас!
— Запой, Франческа; ты этим меня обяжешь, — сказал он. Франческа запела.
Театр дрожал… восхищена, Толпа, дивясь, рукоплескала; Певица, гордости полна, Чуть головой толпе кивала; Краса тускнела перед ней, Заметней было безобразье; Вздыхали юноши сильней, И в старцах таяло бесстрастье… Летят хвалы со всех сторон, Шумнеет гул рукоплесканий, Сбирает — понят, оценен — Талант торжественные дани! И на нее венец кладет Ареопаг искусства строгий, И на себе толпа везет Ее в роскошные чертоги!.. Промчался месяц… Злой недуг Ее сковал; она в постели, Краса лица исчезла вдруг, Живые очи потускнели… Она поправилась: и вот Летит опять на помост сцены, Запела арию — и ждет, Как задрожат театра стены. Но тихо всё… Давно толпой Уже другая овладела… Толпа лишь шепчет меж собой: «Как Вероника подурнела!»Она пела прекрасно. Каждое слово нашло приличный звук, каждая страсть заговорила родным ей языком, полным гармонии поэтической… Чудно новой, бесконечно разнообразной показалась слушателям песня Франчески… От восторга они даже не смели хвалить ее, слушали с каким-то безмолвным благоговением… Перед ними раскрылось всё, до чего только искусство достигнуть может; но и самое искусство не было бы так сильно, если бы ему не содействовала душа.
Щеки ее горели, слеза дрожала на реснице. Невыразимо-унылым голосом, проникающим до глубины сердца, в котором смешаны были и язвительная насмешка, и болезненное сострадание, и презрение, пропела она последние стихи и, утомленная, облокотилась на диване, наклонила голову, закрыла руками горящее лицо…
«Превосходно, превосходно!» — воскликнули слушатели в один голос после долгого молчания.
Больше всех песня Франчески подействовала на Джулио. Он плакал, не мог сам себе дать отчета в своих чувствах. Сладкой струей лились в душу его обворожительные звуки, и ему казалось, что они не совсем чужды ему, что он когда-то слышал их.
Когда Франческа открыла лицо, он обратил на нее взор свой и долго пристально рассматривал ее…
— Что с вами, Джулио? — спросил Отто, подойдя к нему.
— Ах, эта песня пробудила в душе моей тяжелое, мучительное воспоминание, — сказал Джулио, не сводя глаз с Франчески… Отто сделал гримасу и сел на диване подле певицы…
— Два года тому назад я видел на сцене очаровательное существо, ангела на земле, и слышал из уст его звуки, столько же сладкие, пленительные… Они глубоко запали в мое сердце, на которое с тех пор права принадлежали очаровательной певице. Я полюбил ее, и теперь еще люблю, и теперь сердце мое горит страстью, которая дарит меня одними страданиями. Простите мне, синьора, что я так засмотрелся на вас; вы так похожи на нее… Смотря на вас, мне кажется, что я вижу прекрасную Ангелику…
— Ангелику! — повторил с беспокойством Отто и испытующим взором взглянул на Джулио и свою любовницу…
— Да; она овладела моим сердцем. Ее дивная красота свела меня с ума. Я страдал ужасно… День, в который я не видел ее, был для меня мукою… Зато когда я видел ее, когда она случайно дарила меня приветной улыбкой…
— Она дарила вас приветной улыбкой? — воскликнул Отто встревоженным голосом и гневно взглянул на Джулио…
Между тем Джулио смотрел на Франческу и как бы старался понять что-то из ее взора. Отто это заметил, и краска досады покрыла его щеки.
— О, как я был тогда счастлив! Мир казался мне прекраснее, люди добрее… Сколько раз намеревался я упасть к ногам ее, высказать ей любовь мою…
— И вы это сделали! — быстро прервал Отто. Что-то похожее на ревность или сильную злость сверкало в глазах его; с жадностью ждал он ответа…
— Нет, каждый раз непреодолимая робость меня останавливала. Я даже не был знаком с ней, хотя имел к тому случай. Я видел ее только на сцене… Может быть, моя робость повредила мне…
Тут Джулио украдкой вопросительно взглянул на певицу. Это опять заметил Отто; быстро повернул он голову к Франческе. Но оба они напрасно надеялись прочесть что-нибудь на лице ее: оно было спокойно и задумчиво и не носило на себе ни малейшего отпечатка какого-нибудь господствующего ощущения…
— Не происходила ли робость ваша от другой причины?.. У красоты так много поклонников, — насмешливо сказал Отто.
— Что вы хотите этим сказать, синьор?..
— То, что соперники иногда бывают слишком вспыльчивы и раздражительны…
— Я не понимаю вас, синьор… Но вы ошибаетесь, если думаете, что я боялся моих соперников, тем более что она меня предпочитала им…
— Вас?!
— Что она, казалось, любила меня…
— Она вас любила! — в бешенстве закричал Отто, и вопрошающий взор его встретился на лице Франчески с страстным взором Джулио…
— Да, мне казалось, что она любила меня!
— Тем более непростительна ваша трусость!
— Моя трусость! — вскричал с яростью оскорбленный Джулио. — После таких слов знаете чем дело кончается между благородными людьми?
— Вы и тут, кажется, медлить хотите…
Джулио обнажил шпагу; Отто сделал то же…
— Клянусь, я не оставлю этой шпаги, пока не паду сам или не смою кровью обиды! — сказал Джулио.
Напрасно Франческа и гости старались потушить спор. Дело зашло слишком далеко, и поправить его не было уже возможности… Озлобленные противники с яростью бросились друг на друга. Никто из гостей не дерзнул остановить их, потому что тогда мог бы произойти общий разрыв. Теперь они надеялись, что всё кончится одной или много двумя легкими ранами.
Франческе предлагали выйти в другую комнату, но она осталась на прежнем месте и с удивительным мужеством, даже бесчувствием смотрела на сражающихся…
Шпага Джулио вонзилась прямо в сердце Отто…
— Прости, Ангелика! Я умираю! — воскликнул он и полумертвый упал на пол…
— Ангелика! — вскричал изумленный и обрадованный Джулио.
— Ангелика! — повторили гости…
— Я убил графа Торского? — спросил с ужасом Джулио.
— Барона Отто Р**,- отвечала Ангелика…
Раненый страшно прохрипел и испустил последний вздох.
* * *
Оглянемся назад. Ангелика и барон долго ехали без цели, для того чтобы быть безопасными от преследований, которых, впрочем, они напрасно страшились. Наконец отчаяние певицы начало несколько утихать и уступать место тихой грусти. Тогда она вспомнила свое настоящее положение. Без уважения, без любви отдавшись человеку, которого она почти ненавидела, она не могла быть с ним счастлива, и жизнь «в каком-нибудь безвестном углу мира», как выражался барон, показалась бы с ним пыткою. Барон сам признался, что это слишком необдуманно и никуда не годится. Ангелика решила снова вступить на сцену, думая тем хоть несколько закрыть раны своего сердца. С радостью ухватился барон за эту мысль, тем более что он видел в ней легчайший способ иметь деньги, в которых у них мог случиться недостаток. Не желая появлением своим напомнить истории своего бегства, которое наделало в Риме тогда много шума, она дебютировала под именем Франчески и заключила контракт с директором театра, по которому за условную плату обязалась петь на сцене… Барон свел знакомство с блестящей молодежью Рима, которое легко доставила ему близость к Франческе, для многих подозрительная и непонятная, и вел веселую жизнь. Джулио, мечтательный, влюбленный, по тайному предведению сердца догадывавшийся, кто была Франческа, прежде всех нашел случай сблизиться с бароном. Отто был ревнив, и уже несколько раз непонятное обращение Джулио с Франческой, его загадочные слова и намеки заставляли его остерегаться этого опасного соперничества. До самого того дня, в который случилась кровавая сцена убийства, он наблюдал за поведением Джулио и искал повода к ссоре, которая заградила бы Джулио вход в его дом. Но не так кончилась, как мы видели, эта ссора.
— Так, сердце мое не обманывало меня, — говорил страстный Джулио, — сердце мое меня не обманывало! Но что я сделал, безумный! Кого я убил? — И отчаянным взором смотрел он на Ангелику.
Гости тоже пристально смотрели на нее… Им казалась странною, непостижимою бесчувственная холодность Ангелики. Все они были уверены, что барон ее любовник… Отчего же она не тронута его смертью, не поражена гневом на убийцу? Отчего ни малейшего вопля горя, ни малейшего сострадания, на которое имеет право всякий несчастный, не показывала она… Или она так глубоко поражена, что чувства ее оцепенели от ужаса? Или она его не любила?
— О, простите меня! простите! — говорил плачущий Джулио… — Я готов наказать сам себя, охотно бы выкупил своею смертью жизнь барона!
— Джулио! — сказал один из молодых людей. — Синьоре нужен покой; оставим ее. Вероятно, вид твой неприятен для нее. Уйдем… Твоя неосторожность наделала столько бед… Ты всех нас лишил счастия проводить вечера у прекрасной Ангелики… уйдем.
— О нет! благородные синьоры, я буду очень рада, если вы по-прежнему будете навещать меня, только позвольте попросить вас сохранить в тайне мое настоящее имя.
— Клянемся, что вы по-прежнему будете для нас — синьора Франческа! — воскликнули молодые люди.
— Что же ты молчишь, Джулио? — Джулио был бледен как смерть и ничего не слышал. «Я убил его; теперь она будет меня ненавидеть!» — шептал он…
— Синьора требует, чтоб ты обещал сохранить ее тайну!
— О, я это сделаю! Она умрет вместе со мною! — сказал Джулио и поспешно оставил комнату…
— Он страшен, поспешите за ним, благородные синьоры! — сказала Ангелика…
— Мы еще должны сделать одно дело. Помогите мне, — сказал один из гостей, подымая труп барона. — Синьоре, верно, не будет приятен такой товарищ, если мы его здесь оставим.
— Рана сделана в самое сердце; мы бросим тело в каком-нибудь переулке, и, верно, завтра никто не будет сомневаться, что это дело бандита.
— Прекрасная мысль!
Молодые люди простились и вышли, неся на руках труп барона.
Пройдя несколько шагов, они увидели труп. Подойдя ближе, они узнали Джулио, плавающего в крови, без малейшего признака жизни.
— Он убил себя!
— Несчастный!
— Сумасшедший!
— Глупец!
Так провожали они в небо душу нового покойника…
— Я всегда думал, что эта горячая голова тем кончит, — сказал один.
— Глупость, тем более непростительная, что уж нельзя и поправить ее, — заметил другой…
— Мне руки оттянул этот молчаливый барон; бросим его подле Джулио, вместе им будет веселей, — сказал третий… Они бросили труп и удалились.
* * *
Ангелика скоро утешилась, или, лучше сказать, она и не жалела о потере барона. Другое сильное горе мучило ее неотступно. Чтоб утешить, развлечь себя, смешать настоящее горе хоть с поддельной радостью и тем ослабить его влияние, с жадностью привязалась она ко всем наслаждениям жизни. Душа ее не просила любви, не могла уже чувствовать ее, но она бросилась не задумываясь на, грудь первого обожателя. Если б заглянуть в грудь Ангелики, то можно бы увидеть, что скорей с отвращением, чем по влечению страсти она это делала. Цель ее состояла только в том, чтоб изменять тому, кто так коварно обманул ее. Между тем слава ее росла и доставляла ей все средства блистать и жить роскошно. Сначала по слабому побуждению — сделать несколько сноснее свое положение, потом по привычке предаваясь всем удовольствиям света, она наконец столько привязалась к нему, что такой образ жизни сделался для нее необходимостью. Расположив свое время так, чтоб ни одной минуты не оставалось для уединенного размышления, углубления в себе, она начала забывать прошедшее, и редко что-нибудь пробуждало в ней старую грусть, вызывало на ресницу слезу… Так прошло около года.
III Слепой
На расстоянии полумили от Рима, в прекрасной долине, пересекаемой большой дорогой, Ангелика ехала верхом на красивом вороном коне. Впереди скакал мужчина, ловко помахивая хлыстом. Ангелика то поворачивала с дороги и ехала полем, любуясь живописным местоположением, то въезжала на дорогу. Проезжие и прохожие с любопытством вглядывались в лицо ее, пораженные необыкновенною его красотою, но она никакого не обращала внимания и была занята грустным размышлением. На душе ее не было совсем спокойно. Воспоминания, то грустные, то радостные, проходили перед нею в смутном беспорядке, с трудом отыскиваемые в архиве памяти, вполовину уцелевшие. Но вот она тяжело вздохнула и подняла голову.
По дороге шел мужчина, поддерживаемый молодой девушкой; впереди ехал экипаж, из которого они, по-видимому, недавно вышли. Ангелика увидела, что мужчина слеп; благородное страдальческое лицо его пробудило в ней участие; она стала в него всматриваться.
Лицо слепца было бледно и истомлено душевною мукою, но нельзя было не заметить красоты его. Одежда его была проста, но не бедна. Чем более дама всматривалась в слепца, тем более чувствовала к нему сострадания.
— Куда ты идешь с ним? — спросила Ангелика проводницу по-немецки.
— В Рим.
— Вы несчастны, вы бедны? — сказала она слепцу.
— Что? — спросил он с живостию.
— Говорите громче, синьора: он не совсем хорошо слышит.
Ангелика повторила вопрос. — Да, трудно найти человека меня несчастнее. Но я не беден, синьора: не предлагайте мне подаяния, — сказал он довольно чисто по-итальянски.
— Откуда вы? — быстро спросила дама.
Слепец молчал.
— Он не слышит, синьора; да и не спрашивайте его опять, он всегда неохотно отвечает на такие вопросы.
— Кто он? — спросила Ангелика проводницу.
— Я сама не знаю. Больного, почти лишенного зрения, нашла я его. Положение его меня тронуло. Какой-то братской любовью привязалась я к нему и решилась облегчить судьбу несчастного. Он плакал и громко жаловался, что лишен возможности отправиться в Рим, куда его призывала судьба; что в неизвестном городе не может найти человека, которому бы мог довериться. У меня недавно умер брат, с которым вместе я жила служанкой в гостинице, где остановился слепой, а в Риме у меня дядя, который содержит свой трактир: вот я и решилась к нему отправиться и довести слепца вместе. В восторге прижал он меня к груди своей и благодарил бога. С тех пор я неразлучна с ним. Если б вы знали, синьора, как он несчастен, как страдает! О, я благословляю бога, что он дал мне случай быть полезною такому праведнику.
— И ты ничего не знаешь об нем; не знаешь, зачем он идет в Рим?
— Нет; я боялась спрашивать. Несчастные обыкновенно не любят, когда их расспрашивают об их несчастиях, а мне так дорог покой его… Однако ж я догадываюсь, что значительная причина заставляет его торопиться. «Близко ли Рим?» — спрашивает он меня почти каждый день, с самого начала нашего путешествия.
— И ты не знаешь даже, как зовут его?
— Нет. «На что тебе знать имя, при звуке которого счастливцы содрогнутся за их счастие? Зови меня именем, которое дорого твоему сердцу», — сказал он, и я назвала его Фрицем, потому что так звали моего покойного брата, больше которого я никого не любила.
— Чем же вы живете?
— Он получил накануне отъезда в Рим довольно значительную сумму денег; еще у него было несколько дорогих вещей; платье его тоже было богато и нарядно. Он велел мне продать всё, и я купила ему скромную одежду, в которой он теперь.
— Фанни! Что ты так долго говоришь? Я слышу вечерний благовест. Рим недалеко; я узнал колокол церкви св. Петра; пойдем; мне хочется застать вечерню, чтоб принести благодарение богу за благополучное окончание нашего путешествия.
— Разве он был уже в Риме? — спросила Ангелика.
— Видно, что был, если слышал уже этот колокол; но он мне об этом ничего не говорил… Прощайте, синьора; он торопит меня.
— Ах, милая Фанни, мне так жалко его. Погоди немного, мне хочется еще порасспросить тебя: может быть, я могу вам быть полезна…
— Сейчас, Фриц! Еще одну минуту…
— Ради бога, — сказала Ангелика, — не говорил ли он тебе, зачем ему нужно быть в Риме?
— Нет, синьора. Вы так добры, что я не посмела бы скрыть от вас. Должно предполагать, что он кого-то ищет. Когда мы стали подходить к Риму, он сказал мне: «Фанни! я дам тебе два портрета, когда мы придем! в Риме живут два человека, с которых списаны эти портреты; когда ты увидишь мужчину и женщину, на них похожих, то скажи мне…»
В это время подъехал к ним молодой человек. Ангелика поспешила скрыть свое волнение и обратилась к своему спутнику.
— Я ожидал, что вы догоните меня, и проскучал целый час…
— Я засмотрелась на природу. Посмотрите, какие прекрасные виды!
— Да, правда; местоположение здесь очень хорошее. Однако ж пора кончить нашу прогулку.
— Приходите ко мне, когда будете в Риме: я постараюсь быть полезною несчастному слепцу. Спросите, где живет синьора Франческа, и вам всякий покажет, — сказала дама, поравнявшись с уходящей Фанни.
* * *
На другой день Фанни привела слепца в великолепные чертоги первой певицы Рима. Она уже ожидала его с каким-то тайным страхом и волнением.
Она употребила все старания, чтоб расположить в свою пользу недоверчивый ум слепца. Кроме сострадания, какое-то тайное чувство влекло ее к нему и побуждало сблизиться с ним, узнать его сердечные тайны.
— Не знаю, — сказал слепец, — чем я заслужил вашу благосклонность, но я не посмел пренебречь приглашения дамы и смело пришел к вам, потому что моя милая Фанни сказала мне, что вы ангел доброты…
— Не могу ли я быть чем полезна вам? Ваша судьба трогает мое сердце. Я сама несчастна, сама перенесла много горя…
— Благодарю судьбу, что я нашел сердце, которое может понять меня.
— Отчего лицо ваше так бледно и встревоженно, брови мрачно нахмурены, лоб сморщен прежде времени?
— Ах, синьора, долго бы было рассказывать мои несчастия, и я не затем пришел, чтоб мучить ими сердце ваше, — я уверен, что сотая часть их может тронуть его; но если вы так добры, что вызываетесь помочь мне, то окажите услугу страдальцу, от которой, может быть, зависит последняя радость, которую вкусить дозволила ему судьба в этом мире…
— Что такое? Говорите, я пойму вас, я умею понимать несчастных…
— Вы бываете в лучшем обществе Рима, участвуете во всех его празднествах и потому имеете много знакомства. В одном с вами кругу, если не ошибаюсь, находятся два человека, которых я ищу и которых найти мне необходимо.
— Но как узнать их?
— Вот два портрета, которые вам помогут, благородная синьора. Взгляните, вы, верно, уже знакомы с теми, чьи они?
— Где вы взяли эти портреты? О, говорите, говорите! — воскликнула она с изумлением.
— Они — моя собственность.
— Знаете ли вы тех, с кого они списаны?
— О, как не знать: один из них — портрет моей жены, другой — портрет моего прежнего друга.
Ангелика пронзительно вскрикнула и едва не упала. Потом она пристально взглянула на слепца.
— Говорите громче, синьора: я не слышу.
— Ступайте, ступайте скорее отсюда! Благодарите судьбу за ваше несчастное состояние, которое обезоруживает меня! Ступайте вон, или я прикажу вас вывести!
— Что вы говорите? Мне послышалось, что и вы переменили сострадание на гнев к человеку, которого все невинно преследуют…
— Невинно?
— Друг предал меня, жена, которую я любил больше жизни моей, отплатила мне изменой за самую постоянную верность.
— Верность?
— Что с вами? — спросил слепец, начинавший замечать ее беспокойство.
— Боже мой, что открывается глазам моим! Но я должна всё узнать!.. Продолжайте; ваш рассказ испугал меня: я не могу равнодушно слушать несчастных; но я буду хладнокровнее, — прибавила она громче и с нетерпением ожидала ответа.
— Горе научило меня быть осторожным, но ваше участие побеждает мою опытность. Слушайте, я вам всё скажу, и сознайтесь потом, что я говорил правду, когда называл себя обиженным судьбой и людьми.
— О, говорите, говорите!
— И я был счастлив; и я имел право на радость жизни и внимание света; и, не утаю, я пользовался ими. На двадцать пятом году, богатый, всеми уважаемый, я остался совершенно свободен в своих действиях и вскоре женился на молодой, прекрасной женщине, с которой наслаждался совершенным счастием. Через несколько времени одно обстоятельство разлучило меня с женою. В это время человек, которого я с детства называл своим другом, в котором был уверен, как в самом себе, влюбился в мою жену, и она, которая, казалось, так любила меня, забыла клятвы, — сделалась любовницею его и скрылась с ним из моего дома.
— Но не подали ли ей к тому повода ваши собственные поступки?
— Мои поступки! О, клянусь, что кроме ее я не любил никого!
— Боже мой! Но не было ли каких подозрений?
— Подозрений! Но какие подозрения могли падать на того, кто невинен?
— Вы не имели ни с кем связи, переписки? — воскликнула Ангелика с сильным волнением.
— Нет. Единственное, ничтожное подозрение, которое могло несколько вооружить против меня жену, было любовное письмо, от женщины вовсе мне неизвестной, подкинутое ко мне коварным другом…
Судорожно пошатнулась Ангелика и почти без памяти упала на диван. Несколько минут была она в таком положении…
— Я думаю, что она его видела, и это несколько ускорило ее решимость, — продолжал слепец. Но Ангелика ничего не слышала.
— Чем вы докажете, что письмо было подложное? — спросила она после долгого молчания, всё еще сомневаясь в страшной истине и стараясь отдалить совершенную уверенность…
— В день бегства жены, не зная ничего о вероломстве друга, я пошел в дом его оплакать с ним вместе мою потерю. Не застав его, я вошел отдохнуть в кабинет и увидел на столе незапечатанное письмо, наскоро писанное его рукою. Так как между нами не было тайн, то я решился прочесть его. Это была черновая того самого женского письма, которое я нашел после на моем письменном столе… Я взял ее и до сей поры храню как доказательство вероломства друга…
— Где, где она? — воскликнула Ангелика, вскакивая и подбегая к слепцу.
Слепец достал из бумажника письмо и подал его Ангелике…
— Это оно! это рука барона! — с ужасом воскликнула Ангелика, пробегая письмо. И вдруг глаза ее помутились, голова страшно потряслась, из груди вылетел пронзительный крик, и она без чувств упала на кресла…
Несколько раз дрожащий голос и необыкновенная живость, с какою слушала Ангелика рассказ, изумляли слепца; но он приписывал это излишней чувствительности ее сердца. Теперь это несколько его встревожило…
— Он невинен, — говорила в беспамятстве Ангелика, — я изменила ему для человека, которого ненавидела… Я изменила ему! Жизнь моя была с ним так прекрасна, счастье так прочно, любовь моя так беспредельна, — и я изменила ему! О, боже мой! для чего не поразил меня гром твой в ту самую минуту, когда я изменила ему! Он невинен! О, как я счастлива! Что ж я медлю? Передо мной он — невинный, верный мне — и я не брошусь ему на шею!
И она готова была кинуться ему в объятия…
— Прочь, прочь от него! — воскликнула она, отскакивая, — Он не примет моих ласк… Он верен, он невинный страдалец, а я — развратная женщина, преступница!
Страшно прозвучали в ушах Ангелики эти роковые слова… Она снова впала в беспамятство…
Слепец ничего не понимал, потому что она говорила слабым голосом, а он слышал только слова, сказанный громче обыкновенного; только по странным телодвижениям его можно было заключить, что он изумлен.
— Расскажите мне, расскажите всё! — сказала она несколько спокойнее, взяв его за руку. — Вы были прежде богаты, знатны? Как же вы лишились всего?
Слепец молчал. На лице его она прочла недоверчивость.
— Я должна всё узнать! Не относится ли и это к моему преступлению?.. Буду спокойней и постараюсь не казаться больше подозрительною, — сказала она про себя и повторила вопрос, стараясь придать своему голосу тон спокойствия.
— Да, синьора, я был не тем, что теперь. Как я потерял всё? Очень просто. Лишив меня чести, счастия, ей уже нетрудно было лишить меня знатности, богатства…
«О, неужели все несчастия этого человека должны обрушиться на мою голову!» — с ужасом думала Ангелика.
— Гнев, ревность, отчаянье овладели мной, когда я узнал о бегстве жены; в сильном обмороке я упал и был перенесен в постель. Я поправился через несколько недель, но в это же время другой ужасный недуг начал овладевать мною. Рана, которую я получил, в беспамятстве наткнувшись головой на ручку кресла, долго меня мучила и наконец закрылась; но зрение мое после того начало постепенно слабеть… Доктора советовали мне ехать лечиться в чужие край, но не одни советы их побудили меня к тому: я горел нетерпением скакать за изменниками. Я заложил имение, собрал деньги, какие только у меня были, и пустился в путь полубольной, едва различая предметы… «Скорей, скорей! — говорил я самому себе. — Мне достанет еще этого зрения, чтоб узнать изменников!» Но напрасно я утешал себя: зрение мое не возвращалось, а исчезало; наконец, в дороге я получил простуду; болезнь, от которой я еще не совсем излечился, возвратилась, и я принужден был остановиться. В это время человек, которого я взял с собою из России, скрылся и унес все мои деньги… Положение мое сделалось ужасно. Дожидаясь денег, о присылке которых я написал в Россию, я лежал в темной, грязной комнате гостиницы, больной, без помощи, почти без хлеба. Фанни, единственное существо, сжалившееся надо мною, была спасителем моей жизни. Я поправился, но простуда не вовсе прошла и слух мой стал несколько грубее… «Фанни, — сказал я, — выведи меня из этого мрачного жилища; мне хочется взглянуть на свет божий, полюбоваться природой!» Фанни провела меня несколько шагов и остановилась. «Что же ты остановилась в этом темном коридоре? Выведи меня на зеленый луг, под ясное небо!» — «Помилуй, Фриц, — ответила она, — мы и то на улице! Посмотри, как хорошо светит солнце!» Я прижал голову к ее груди и сказал: «Не для меня!» Она поняла, и мы заплакали. Я ужаснулся, удостоверившись в моем несчастии… «Как я теперь узнаю их!» — восклицал я в совершенном отчаянии. Фанни, добрая Фанни согласилась быть моей проводницей, и луч надежды мелькнул в уме моем. Я получил деньги и поехал в Рим, имея достаточную причину думать, что найду там изменников…
Невозможно описать, что происходило с Ангеликой во время этого рассказа; она узнала мужа, уверилась в его невинности и вместе в своем преступлении и мучилась, страшно мучилась… Только гениальная актриса могла бы дать некоторое понятие о том состоянии, в котором находилась тогда душа ее…
— Для чего же вы хотите найти этого друга, предавшего вас, эту несчастную женщину, вас недостойную? — сказала она, пораженная страшной мыслью…
— Как для чего? Для того чтоб грозным судьей предстать перед ней и напомнить этой женщине, что она делает! Для чего? О, боже мой! для того чтоб вырвать ее из преступных объятий любовника и сказать: ты прельстилась графским титулом, богатством, красотой и отдала мне свою руку; не забывай же этого! Я теперь слеп, несчастен, ничтожен, но я отрекаюсь от тебя! Для того чтоб мстить ей, повторить при ней проклятия, которыми я уже давно обременил ее голову.
— О, боже мой!
— Для того чтоб вонзить кинжал мести в сердце предателя и заставить ее любоваться позором своего любовника, страдать и плакать от преступной любви к нему…
— Но если она не любила его?
— Не любила? Но для кого же покинула она мужа, забыла честь и стыд женщины?.. О, проклятие, проклятие низкой изменнице!..
— Остановись, остановись! не проклинай! — воскликнула Ангелика отчаянным голосом. — Она преступна, но она невинна в душе, ее обманули!
— Что вы говорите? Разве вы знаете, синьора? Страшный голос слепца возвратил рассудок Ангелике.
— Может быть, я говорю, она увлеклась подозрениями, недоверчивостью…
— Нет! я ее хорошо понял! Синьора, если вы чувствуете сострадание к слепцу, умоляю вас, найдите эту женщину, чтоб я мог при ней повторить мои проклятия!
— Граф! эта женщина — я! — сказала Ангелика задыхающимся голосом.
— Что? — спросил он не вслушавшись. — Умоляю вас, приведите меня к этой женщине.
Ангелика опомнилась.
— Он не слыхал! — с радостью воскликнула она. — О, благодарение богу! Он спас меня! Я преступна, я изменила мужу, сделалась виновницей ужасных страданий его, а сама утопала в разврате, — теперь я знаю, что делать. Он хочет найти жену, для того чтоб оторвать ее от груди любовника, заставить слушать его проклятия… ужасно, ужасно! Но я должна искупить мое преступление.
Так думала Ангелика, озаренная вдруг светлой мыслью свыше. Бездна, в которую она пала, в страшном виде представилась ей, и совесть, долго дремавшая, проснулась в душе ее… Она почувствовала твердую решимость обратиться к добру в надежде на провидение. Волнение Ангелики прошло, лицо приняло спокойное выражение; в чертах блистала чудная, неуловимая улыбка кающегося грешника…
— Граф! — сказала она. — Ваше положение трогает меня до глубины души, и я решаюсь облегчить его. Не удивляйтесь тому, что я предложу вам. Помните, что я также несчастна и ничего уже не жду от здешней жизни. Позвольте мне всюду за вами следовать, быть спутницей вашей жизни, вашим другом, утешителем. О, не отвергайте моей просьбы!
— Вы шутите, синьора?
— Нет. Не отвергайте меня, я решилась; сходство судьбы нашей привязывает меня к вам… После вы узнаете больше. Теперь скажу только, что делаю это по собственной воле и, клянусь вам! буду во сто раз несчастнее, если вы отвергнете мое предложение… Я чувствую, что сам бог внушил мне эту мысль!..
Напрасны были все убеждения. Намерение ее казалось графу странным тем более, что он не понимал причины его. Ангелика сама догадалась, что поступила необдуманно, не приготовив его к этому, и решилась действовать осмотрительнее. В следующее свидание она рассказала ему вымышленную повесть своего несчастия и таким образом в продолжение нескольких свиданий успела приучить его к этой мысли и заставила полюбить себя. Тогда она снова напомнила ему о своем намерении.
— Не должно противиться воле божией! — наконец сказал граф после долгих опровержений, и лицо Ангелики просияло чистой радостью…
— Приди, обними меня, милая сестра моя, позволь мне так называть тебя! — и он простирал к ней свои объятия.
С минуту Ангелика стояла в нерешимости; наконец, бледная, дрожащая, подошла она к слепцу, и он напечатлел поцелуй на устах ее…
Этот поцелуй был для Ангелики задатком того чистого, высокого счастия, которым дарит раскаяние.
IV Он и она
Раскаяние Ангелики было глубоко и искренно. Обстоятельства, способствовавшие ее падению, не были следствием расположения к пороку, но происходили единственно от излишней раздражительности обманутой любви и оскорбленной гордости, и потому она не могла остаться вечной рабой порока. Когда она узнала невинность мужа, как ужаснулась она себя! Как велик, как благороден показался ей несчастный слепец, с своей беспрерывной печалью, с своей неистовой благородной жаждой мщения. Как она завидовала правам его на это чувство!.. Любовь к мужу, которая ни на минуту не засыпала в душе ее, получила необыкновенную силу, когда она узнала, что он невинен. Часто по целым часам очами, полными слез, смотрела она на тихое, безнадежное лицо его с грустной возмутительной думой, с укором самой себе. Сердце ее разрывалось от грусти. В эти минуты немых бесед с собою, с воспоминанием прошедшего и предведением будущего, она была страдалицей, какие редки. Она не терпела от преследований рока, от несправедливости людей — нет! страдания свои она сама себе уготовила, и некому пожаловаться, некого упрекнуть. «Как я несчастна!» — говорила она сама себе, стараясь унять слезы. Вдруг из груди молчаливого слепца вылетал глубокий вздох, и горькие жалобы а сожаления срывались с уст его. До слуха Ангелики долетало собственное имя ее, сопровождаемое проклятиями, и сердце ее замирало, свет темнел в глазах… Слезы вмиг высыхали, и гробовым камнем ложилась на душу тоска глубокая, убивающая…
Но она не роптала. У нее была одна цель — загладить, сколько можно, вину свою, посвятить жизнь страдальцу. Она радовалась, что судьба поставила ее в такое положение, в котором она беспрестанно должна видеть ужасные следствия своего поступка; она мучилась и благословляла свои мучения… И чем ужасней были они, тем больше она привязывалась к ним, потому что они возвышали ее жертву.
— Если б ты знала, милая Франческа, — говорил страдалец, — как я любил ее, как мы были счастливы; и вдруг… о, как ужасно она поступила со мной!..
Он вскакивал в сильном волнении, черты его выражали гнев. Ангелика содрогалась; в подобные минуты ей нередко приходило на мысль, что он узнал ее и хочет на нее кинуться…
— О, пойдем, пойдем! — говорил он. — Води меня по улицам Рима; я узнаю ее по одному шороху платья… Смотри внимательно на мужчин — и, если увидишь между ними человека средних лет, высокого роста, с благородной наружностью, смуглого, с черными волосами, скажи мне! Я знаю, что мне делать!.. Если будешь сомневаться, произнеси тихо: барон Отто Р**, если это он — он откликнется, я узнаю его по голосу, и тогда…
Ангелика не смела ему противиться, не смела сказать о смерти барона, потому что это привело бы в отчаяние графа, который только и дышал надеждою мести…
Все мысли его сосредоточились в этом чувстве. Опамятовавшись от болезни, он не хотел жить, проклинал людей, которые возвратили ему здоровье; вдруг мысль о мести мелькнула в голове его, и он обрадовался, обрадовался тому, что есть еще для него хоть одна цель в жизни. Тогда он дал безумную клятву не оставлять страннической жизни, не возвращаться в отечество, отказывать себе во всем, до тех пор пока не отыщет и не накажет изменников…
Ангелика, в угождение графу, принуждена была показывать, что ищет преследуемых им людей. Наконец она объявила ему, что достоверно узнала, что ни барона, ни женщины, которая ушла с ним, в Риме нет. Рим, в котором она так много заблуждалась и страдала, в котором часто попадались ей знакомые лица, сделался для нее несносен, ей хотелось оставить его…
«Но мы должны найти их, — говорил граф, — мы объездим весь свет, но найдем их, не правда ли?.. Ты не оставишь меня! Ты укажешь мне их…» Жажда мести до того ослепляла его, что он даже не видел всей трудности отыскать виновников ее, иначе это бы убило его!
А яге лика в тот же день, когда решилась быть спутницею графа, отказалась от театра, отпустила прислугу, не принимала никого и вскоре переменила свой великолепный палаццо на две простые комнатки в отдаленной части города.
К дороге не было никаких особенных приготовлений, только Ангелика сделала себе простую странническую одежду. Накануне отправления в путь пришла к ним добрая Фанни, которая нашла уже своего дядю и жила вместе с ним. Граф плакал, прощаясь с нею, а великодушная девушка удивлялась, за что он так любит и благодарит ее. Ангелика отвела ее в сторону и с заботливостью расспрашивала о том, чем она занимала графа во время дороги и чем можно хоть на минуту разогнать его скуку? «Старайся не напоминать ему о прошедшем; осуждай вместе с ним людей, сделавших ему зло, рассказывай о чужих несчастиях и пой ему иногда песенки, если ты петь умеешь! Он не совсем слышит их, но они услаждают его слух, и я замечала, что ему было легче, когда я пела», — сказала Фанни. Потом они простились.
Граф, предполагая, что жена его вступила опять на сцену которого-нибудь из европейских театров, не терял надежды найти ее и барона, который, по догадкам его, был вместе с нею. Для этого он вознамерился побывать в главных городах Европы. Ангелика всюду за ним следовала с рабской покорностью. Страдания ее были почти невыносимы. Если б не вера и твердая решимость — она бы их не вынесла! Она бы пала еще глубже, ужаснее, потому что тогда бы ею управляло одно отчаяние! Теперь она кротко и терпеливо всё сносила; она была даже спокойнее того бурного времени, когда, волнуемая бешеной ревностью, бросилась в объятия порока. Только не утихающий ни на час гнев ее мужа и его глубокое презрение к ней, которое он высказывал, ничего не подозревая, ужасали ее. Не было в душе ее надежды заслужить его прощение. Но иногда, когда граф начинал свои обыкновенные жалобы, она старалась смягчить вину свою, представить ее в другом виде… Больше всего старалась она сделать сноснее положение несчастного своего супруга. Она помнила много романсов и баллад из своих ролей и, уверившись, что граф не может узнать ее по голосу, нередко их пела. Вот одна из них.
Клятвою верности с милою связанный. Ею любимый душой, В латы закован, мечом препоясанный, Рыцарь сбирается в бой. Вот уж и сел на коня крутогрудого, Вот и пропал вдалеке. Годы промчалися… нет ниоткудова Вести о милом дружке. Слезы красавица льет одинокая, Тайно грустит в тишине… Пылью клубится дорога широкая: Скачет ездок на коне. Вот он приблизился, в замок торопится, Входит и ей говорит: Ждешь понапрасну ты — он не воротится: Храбрый жених твой убит! Плакать — не плакала, только лишь кинула Пламенный взор в небеса; С тех пор без горести часа не минуло: Гасла в ней жизнь и краса!.. Мужа избрать себе рыцарь воинственный, Грозный велел ей отец; Дева покорна судьбине таинственной, Плача, идет под венец. Вот обвенчалися…. пир начинается, Вот наконец призатих. Дверь отворяется… мрачный является К девице прежний жених! Вздрогнула, вскрикнула… Он ей с укорами Кажет златое кольцо… Встретил соперника страшными взорами, Бросил перчатку в лицо!.. Оба нашли себе в битве отчаянной К мраку могильному путь; Дева, сраженная смертью нечаянной К прежнему пала на грудь!..Так проходило время. Жизнь графа была в полном смысле — страдальческая; состояние Ангелики было еще ужаснее. Редко-редко, только когда ей удавалось на несколько минут утишить скорбь и роптания графа, заставить его согласиться, что и преступная жена может заслуживать сожаление, сердцу ее делалось несколько легче. Путешествие их было однообразно и утомительно. Они не осматривали древностей и замечательностей проезжаемых мест; не наблюдали нравов и обычаев, не собирали путевых впечатлений — нет! у них была своя цель, — цель, которую человек, не знающий их взаимных отношений и сердечных дел, назвал бы сумасбродною. Первым делом графа по приезде в какой-нибудь город было наводить справки об актрисах, что многим казалось странным и подозрительным. Ангелика посещала монастыри и усердно молилась богу. В продолжение года они объехали несколько известнейших городов Европы и остановились в Берлине, в гостинице под вывескою., «Баранья лопатка». Они уже несколько дней жили тут в своих обыкновенных занятиях.
Наступило утро. Граф еще спал, по временам беспокойно вскрикивая. Бледная, трепещущая, сидела Ангелика у его изголовья. Мысли перенесли ее в прошедшее; она вспомнила первые впечатления своей жизни, первые радости, первые слезы. Начав с самой верхней ступеньки лестницы воспоминаний, она наконец спустилась до нижней — до настоящего. Сначала оно предстало нагое и угрожающее, но потом мало-помалу надежда на будущее расцветила его своими радужными красками, и Ангелика весело замечталась. «Бог сжалился надо мной, — думала она, — муж мой стал несколько спокойнее; справедливый гнев его на меня стал тише; быть может, если б он знал причину моего проступка, мое раскаяние, он снял бы с головы моей свои ужасные проклятия».
Вдруг граф быстро приподнялся с постели и с ужасом воскликнул: «Она здесь! прочь, изменница!» Привыкнув к таким явлениям, Ангелика не испугалась, но отрадные надежды ее вмиг рассеялись и на душе ее снова сделалось так тяжело, так мутно… Она отскочила от постели и пала на колени перед образом. Долго, пламенно молилась она, долго плакала, но луч отрадного спокойствия не озарял души ее; какое-то ужасное предчувствие гробовым камнем давило грудь ее. Ей стало страшно; мрачные мысли в смутном беспорядке теснились в голове; лихорадочный жар пробегал по членам.
Она подошла и разбудила графа.
День начался по обыкновению бесполезными поисками. Вечером Ангелика взяла газету, которую услужливый трактирщик принес еще поутру, и стала читать ее.
Вдруг она остановилась. Глаза ее упали на последние строки страницы; она быстро пробежала их, и в глазах ее заблистала необыкновенная радость.
— Продолжай, — сказал граф, — это очень любопытно.
Но она оставила начатую статью и прочла вслух объявление.
«Известный глазной врач Иоганн А** с успехом продолжает лечение глазных болезней. Недавно с удивительным искусством возвратил он зрение человеку, у которого был на глазах катаракт уже более десяти лет. Желающие могут пользоваться его помощью: бедных он лечит бесплатно; квартира его…» и проч.
— Пойдем, — воскликнула Ангелика в сильном восторге, — пойдем к нему: ты еще можешь надеяться увидеть мир божий, прекрасное небо, друзей, родину…
— И тебя, тебя, ангел-утешитель мой! — с восторгом прибавил слепец.
Ангелика, как бы пораженная нечаянным ужасом, страшно побледнела и пошатнулась.
— Пойдем! — повторил граф, но потом печально прибавил: — На что я надеюсь? Все лучшие доктора объявили мне, что зрение мое невозвратимо… Но всё равно, пойдем; может быть, они ошибались… О, как бы я хотел снова иметь глаза- для того чтоб найти людей, которые позорят мое имя; увидеть ее — и осыпать проклятиями; увидеть тебя — и призвать на тебя благословение неба!
Ангелика совершенно потерялась. Она поняла, как ошибалась, думая прежде, что судьба обрушила уже на главу ее все возможные бедствия… Новое ужасное открытие поразило ум ее, и она не знала, что с ней делалось, не помнила себя. Нет, голова человеческая не способна выносить подобных открытий! Ангелика вовсе не думала противиться новому удару судьбы, напротив, она чувствовала некоторую радость, которая, однако ж, не могла победить ее душевного волнения. В душе ее не могло не происходить борьбы, мучительной борьбы между страхом за себя — и радостью за другого!..
Через несколько дней графу сделана была операция, которая возвратила ему зрение. На глаза его в ту же минуту была надета повязка, которой доктор не велел снимать раньше недели, опасаясь, чтоб слишком скорый переход не повредил восстановлению зрения. Страдания Ангелики возрастали до высочайшей степени. Ей нужна была вся сила души, весь навык переносить бедствия, чтоб устоять против совершенного отчаянья и безумия. Презрение и ненависть к ней, которые граф так часто высказывал, отнимали у нее малейшую надежду. Ей беспрестанно слышались его укоры… проклятия… Он то плакал, то рвал на себе волосы. Она не плакала от избытка горести, а он называл это бесчувствием… видал во всем притворство… подготовленную сцену… ужасно! Она просила у бога смерти… хотела бежать, прибегнуть к самоубийству. Луч веры, таившийся в душе ее, спас ее от этой последней мысли; она стала молиться. Тогда в душе ее снова утвердилась покорность судьбе.
Но чем ближе подходила минута роковой развязки, тем положение ее было мучительней. Она не хотела, не могла допустить ни малейшей утешительной мысли. Наступил день, в двенадцать часов которого должно было всё решиться. Сторы в комнате были полуопущены; граф молча сидел подле бледной, трепещущей Ангелики. Чтоб приготовить его к ужасному открытию, она рассказывала происшествие, похожее на собственную судьбу свою, под видом истинного случая; от этого граф, по обыкновению, перешел к воспоминаниям о жене своей, и тогда она стала невидимо сама за себя ходатайствовать.
— Но точно ли ты уверен, — говорила Ангелика, — что она изменила тебе для другого? Может быть, ревность, в которой женщина забывает всё и предается единственному чувству — мщению, побудила ее к измене…
— Всё равно: она нарушила долг любви и чести!
— Но в таком случае она меньше виновата: вина ее произошла от любви к тебе. Если б она не так пламенно любила, не столько дорожила тобой, она бы хладнокровно перенесла не только подозрение — самую измену.
— Ты любила, была любима, Франческа?
— Да, — отвечала она, глубоко вздыхая.
— Гм! странно же ты рассуждаешь! Она мало виновата! Я лишен навсегда покоя; принужден скитаться изгнанником; я обесчещен, убит горем, которому предел — гроб, — и она не преступница?
Ангелика тихо плакала.
— Преступница, но она достойна сожаления.
— Все преступники его достойны.
— Что бы ты сделал, если б знал, что она во всю жизнь не переставала любить тебя, что она страдает больше тебя — и больше тебя несчастна? — И, как преступница, ожидающая неизвестного ей приговора, она дрожала всем телом. Граф молчал.
— Если б она умирала у ног твоих, а один взгляд твой, одно слово могли возвратить ее к жизни и к радости, которой она не знала с самой разлуки с тобою, — скажи, произнес ли бы ты это слово?
Ангелика говорила с необыкновенным жаром и волнением; упорное молчание графа обдавало ее смертельным холодом: оно не обещало ничего доброго; но она не могла уже воротиться назад; настал час, когда душа ее должна была вылиться в звуках, освободиться от своего гнетущего ярма, которого нести не было уже в ней сил…
— И ты бы проклял ее, преследовал бы ее своим неумолимым мщением? — продолжала она отчаянным голосом.
— Что за странное волнение в твоем голосе, милая Франческа? Какой непонятный вопрос!
— О, говори, говори: что бы ты с ней сделал? — повторила она, не слушая его…
— Но можно ли иметь хоть искру сострадания к той, которая повергла меня в положение ужаснейшее самой смерти?
— Итак, ты бы проклял меня… ее… убил бы своим презрением… о, боже мой!., но я… она достойна того!
— Что с тобой, Франческа? Опомнись! — воскликнул граф в недоумении.
— Итак, ты проклянешь… но всё равно! пусть будет, что хочет судьба… проклинай…
Часы начали бить двенадцать. Голос замер на устах Ангелики; страшное чувство потрясло ее душу; с необыкновенной быстротою она закрыла лицо руками и отскочила от графа.
— Что с тобой? — повторял изумленный граф. — Ты, кажется, особенно встревожена, огорчена. Но мы должны теперь радоваться: настал час, когда я могу наконец увидеть тебя…
Душа Ангелики была в каком-то оцепенении. В этот день она столько напрягала себя, чтоб выдерживать испытания, что на последний ужасный кризис у нее недостало сил. Она стояла как безумная и только по животному инстинкту, в страхе, как тень кралась по стене в темный угол комнаты, с силой прижимаясь к стене, как бы желая продавить ее, для того чтоб скрыться в отверстии…
— Порадуйся со мною, — говорил граф, вскрывая повязку, — я наконец у цели желаний своих… клятва моя не останется неисполненною… — Он снял повязку и искал глазами Ангелики; она чуть не упала, силы ее оставили, и безжизненные руки опустились…
Граф подошел к ней. С минуту длилось молчание, в котором еще яснее слышалась Ангелике буря души ее.
— Неужели лицо твое всегда так бледно и мертво? Что же ты так бесчувственно на меня смотришь… Или ты не рада моему счастию? О, дай же мне насмотреться на тебя…
Граф взял ее за руку; машинально последовала она за ним на средину комнаты.
Образ супруги ни на минуту не оставлял графа. Он носился пред ним и в ту минуту, когда свет вдруг исчез из глаз его; он же первый поразил его возвращенное зрение, потому что, сколько ни переменилось страданьями и временем лицо Ангелики, он сейчас же почти узнал ее, но в то же время рассудок поспешил доказать ему, что он обманывается своим слабым еще зрением. Его только поразило необыкновенное положение Ангелики. «Что с тобой, добрый друг мой? рука твоя холодна, лицо мрачно… Посмотри же на меня с улыбкой… Ты всегда говорила, что мое счастие для тебя дороже своего; я теперь счастлив… что ж ты так бесчувственна?.. Улыбнись… скажи, что ты довольна…»
Ласковый голос графа, — голос, который она когда-то уже слышала, начал пробуждать душу графини от онемения… Но она всё еще не знала, на что решиться.
— Я теперь счастлив, — повторил граф, — и чувствую, что буду еще счастливее, потому что клятва моя теперь будет исполнена… Я найду коварного друга, найду ее…
— Она пред тобой! — воскликнула Ангелика и упала на колена.
Граф остолбенел, онемел. Долго он был нравственно уничтожен. Он походил на человека, который еще жив, но с которым совершился уже весь процесс смерти. Довольно было одного взгляда на Ангелику, чтоб удостовериться в истине ее слов.
— Да, это я, — Ангелика, преступная жена, которую муж предал проклятию, которая сама прокляла себя… Что ж ты медлишь? произноси последний суд твой. Но нет… постой, выслушай меня! Я была невинна… я всегда любила тебя… демон замешался между нами и увлек меня в бездну… ревность и жажда мести довели меня до преступления… Барон Р**, которого я никогда не любила, воспользовался моим легковерием и обманул меня подложным письмом… ты знаешь письмо… могла ли я сомневаться.
— Барон Р**,- глухо произнес граф, которого последние слова Ангелики несколько пробудили, — барон Р**…- повторил он, — месть моя будет ужасна!
— Барона Р** нет на свете!
— Он умер… умер! — произнес граф в отчаянии…
— Да, — сказала Ангелика, — теперь месть твоя должна обратиться на одну меня. Делай со мной что хочешь…
Граф снова впал в беспамятство…
Печальные, убивающие мысли произвело в нем открытие страшной тайны. Несчастие его сделалось еще ужаснее в глазах его, потому что он увидел, от каких гнусных, мелких причин произошло оно, как легко можно было его избегнуть…
Ангелика, как приговоренная к смерти, стояла, не смея взглянуть в глаза графа. Он боялся поднять на нее свои. Он видел себя жестоко уничтоженным судьбою, обманутым ею со всем бесстыдством, со всею наглостию насмешливого демона.
Наконец мысли его начали несколько приходить в порядок, и он с изумлением начал анализировать поведение Ангелики. Как высока, как благородна показалась ему эта женщина, которая так глубоко искупила свое невольное преступление!
— Я не буду проклинать тебя, не буду мстить… не будем плакать и жаловаться на судьбу; наше несчастие выше слез и жалоб. Ни ты, ни я — не виновны. Виноват предатель, который всё так устроил… Я прощаю тебя, прощаю от души, и еще удивляюсь тебе, как женщине необыкновенной…
Душа Ангелики наполнилась неизъяснимым счастием. Она так привыкла слушать из уст мужа одни проклятия, что долго не доверяла себе…
— Но мы должны расстаться; верно, и ты не будешь противиться…
— О да! Еще во время путешествия нашего по Италии я случайно была в одном монастыре, и мне понравилась его тихая, богомольная жизнь. Я тогда же сказала настоятельнице, чтоб она ждала меня… Теперь наступило время исполнить обет…
— Прощай, милая Ангелика! Мы расстаемся как друзья, которым судьба не дозволяет оставаться вместе… Прощай, молись за себя — и за меня!
Они расстались навсегда, — до свидания в лучшем мире, оба равно несчастные, оба одинаково страдающие друг за друга.
Ангелика вступила в монастырь и там в тишине и молитве провела остаток бурной жизни своей, исполненной страшных волнений и страданий поучительных.
Граф возвратился в Россию, поступил в военную службу, участвовал в одном из последних русских походов и получил крест, доставшийся ему, как говорят, вместо смерти, которой он искал, безрассудно кидаясь в самый пыл битвы.
1841
Двадцать пять рублей*
В начале нынешнего столетия случилось важное событие: у надворного советника Ивана Мироновича Заедина родился сын. Когда первые порывы родительских восторгов прошли и силы матери несколько восстановились, что случилось очень скоро, Иван Миронович спросил жену:
— А что, душка, как вы думаете, молодчик-то, должно быть, будет вылитый я?
— Уж как не так! Да и не дай того бог!
— А что, разве того… я не хорош, Софья Марковна?
— Хороши-да несчастны! Всё врознь идете; нет у вас заботы никакой: семь аршин сукна на фрак идет!
— Вот уж и прибавили. Что вам жаль сукна, что ли? Эх, Софья Марковна! Не вы бы говорили, не я бы слушал!
— Хотела из своей кацавейки жилетку скроить: куда! в половины не выходит… Эка благодать божия! Хоть бы вы побольше ходили, Иван Миронович: ведь с вами скоро срам в люди показаться!
— Что ж тут предосудительного, Софья Марковна? Вот я каждый день в департамент хожу и никакого вреда-таки себе не вижу: все смотрят на меня с уважением.
— Смеются над вами, а у вас и понять-то ума нет! А еще хотите, чтоб на вас другие похожи были!
— Право, душка, вы премудреная: что ж тут удивительного, если сын похож на отца будет?
— Не будет!
— Будет, душка. Теперь уж карапузик такой… Опять и нос возьмите… можно сказать, в человеке главное.
— Что вы тут с носом суетесь! Он мое рождение.
— И мое тоже; вот увидите.
Тут начались взаимные доводы и опровержения, которые кончились ссорою. Иван Миронович говорил с таким жаром, что верхняя часть его огромного живота закачалась, подобно стоячему болоту, нечаянно потрясенному. Так как на лице новорожденного еще нельзя было ничего разобрать, то, несколько успокоившись, родители решились ждать удобнейшего времени для разрешения спора и заключили на сей конец следующее пари: если сын, которого предполагалось назвать Дмитрием, будет похож на отца, то отец имеет право воспитывать его единственно по своему усмотрению, а жена не вправе иметь в то дело ни малейшего вмешательства, и наоборот, если выигрыш будет на стороне матери…
— Вы сконфузитесь, душка, наперед знаю, что сконфузитесь; откажитесь лучше… возьмите нос, — говорил надворный советник, — а я так уверен, что хоть, пожалуй, на гербовой бумаге напишу наше условие да в палате заявлю, право.
— Вот еще выдумали на что деньги тратить; эх, Иван Миронович, не дал вам бог здравого рассуждения, а еще «Северную пчелу» читаете.
— На вас не угодишь, Софья Марковна. Вот посмотрим, что вы скажете, как я Митеньку буду воспитывать.
— Не будете!
— Буду!
— А вот увидим!
— Увидите!
Через несколько дней Митеньке был сделан формальный осмотр в присутствии нескольких родственников и друзей дома.
— Он на вас не похож ни йоты, душка!
— Он от вас как от земли небо, Иван Миронович!
Оба восклицания вылетели в одно время из уст супругов и подтверждены присутствующими. В самом деле, Митенька нисколько не походил ни на отца, ни на мать.
Юность Дмитрия Ивановича была самая незавидная. Вследствие неожиданной развязки пари ни отец, ни мать не стали его воспитывать. За каждую шалость, свойственную ребяческому возрасту, его строго наказывали. Отец не любил его, да и мать охладела к нему, с того дня как он спросил ее однажды при Иване Мироновиче: «Мамуся, кто это у вас был давеча, вот тот, что поцеловал меня?»
Образец кротости и послушания, угнетаемый, никем не любимый, Дмитрий Иванович достиг наконец пятнадцатилетнего возраста. Отец, искавший случая сбыть его с рук, отдал его в гимназию. Здесь начинается длинный ряд приключений Дмитрия Ивановича. Бог знает за что восстала на него судьба, люди, обстоятельства. Не балованный от юности, он вступал в жизнь вполне, с позволения сказать, целомудренным, вполне достойным счастия. Наружность его была прекрасна: новогреческий нос, санскритский подбородок, испанская смуглость, сенегамбийская важность и множество других приятностей делали личность его чрезвычайно интересною. Одного недоставало ему. Глаза у него были чудесные, голубые, навыкате: кажется, вот так и увидят за версту… ничуть не бывало! Дмитрий Иванович был чрезвычайно близорук и не видел дальше своего носу. Зато какой богатый, отрадный рудник представляла неиспорченная душа его. Утвердительно можно сказать, что, если б разработать этот рудник, из него вышел бы целый четверик добродетели, без примеси зависти, вражды, честолюбия, самохвальства, нахальства, сплетничества, корыстолюбия и других анбарных принадлежностей человека. А сколько аршин у него терпения, смиренномудрия и кротости! Терпения в особенности. Он, как свеклосахарные заводчики, твердо верил, что терпение такая добродетель, которая, рано ли, поздно ли, даст плоды сладкие и многочисленные. Нельзя, однако ж, сказать, что Дмитрий Иванович был ангел. Есть в мире, особенно в Петербурге, прекрасные домы, в прекрасных комнатах которых живут прекрасные люди, но в тех же самых домах есть грязные отделения, где гнездятся разврат и бедность. Так и сердце человеческое. Оно разделяется на множество квартир: в лучших жительство имеют добродетели, в худшие нагло втерлись честолюбие, корыстолюбие, ненависть, зависть, лень и т. д. Как они попали туда? Трудно решить. Известно только, что подобные господа никогда не платят за квартиру, живут на счет своих соседей, которых иногда обкрадывают, стесняют или выживают совсем. Самих же их выжить нельзя, хотя бы рассудок, занимающий тут должность квартального надзирателя, употребил все свои полицейские меры: они вечно заняты, вечно стерегут своих соседей, вечно дома. Но об этом после. Таков был Дмитрий Иванович при начале своего жизненного поприща. В гимназии он учился хорошо и вел себя исправно. Курса, однако ж, он не кончил, потому что однажды второпях наткнулся на директора в коридоре, сбил его с ног, за что и был выключен. Первая неудача не испугала Дмитрия Ивановича. Он начал готовиться в университет. Через год явился на экзамен, отвечал довольно хорошо, но получил единицу из древних языков или аз математики, не помню, и его не приняли. Он вступил вольным слушателем и начал снова готовиться. Перед экзаменом сделалась у него лихорадка, потом горячка, и он пролежал полгода в постели; Дмитрий Иванович и тух не упал духом.
— Видно, мне не суждено быть ученым, — сказал он и, решась поступить в военную службу, пошел просить у отца денег на содержание. «Что ты, Митюша, что ты, с ума сошел? — сказал отец, разгневанный его неудачами. — В такие годы я уж получал тридцать рублей в месяц жалованья, кормил бедную мать… возьми… сообрази…»
Вследствие того отец не дал ему ни гроша. Дмитрий Иванович, с стесненным сердцем и пустым кошельком, вступил юнкером в армейский полк. «Наконец-то я попал на настоящую дорогу: меня скоро представят в прапорщики!» — писал Дмитрий Иванович к своему дражайшему родителю спустя несколько лет. Обрадованный отец прислал ему двести рублей. Дмитрий Иванович пришел в восторг: у него еще никогда не было столько денег; он не знал, что с ними делать, и на радостях задал пирушку своим приятелям. Они принудили его выпить несколько стаканов пуншу. Кровь закипела в жилах Дмитрия Ивановича. Он почувствовал в сердце своем суматоху вроде той, какая бывает при перемене квартиры. Действительно, там происходил этот процесс: некоторые жильцы грязных отделений захотели занять квартиру получше. Добродетель жаловалась надзирателю, обещала прибавить цены… тщетно! Дмитрий Иванович пил, пел, плясал, сам себя не помня. Ночь была темная и грязная, все были навеселе, Дмитрий Иванович в особенности. Ноги его едва двигались, он беспрестанно отставал, приятели смеялись. Не желая показаться слабым, он принялся бегом догонять их. Вдруг он упал и болезненно вскрикнул. «Что, брат! Шлепнулся, растянулся, ха-ха-ха!» Дмитрий Иванович продолжал стонать. Хмель выскочил из головы приятелей. Они стали его поднимать и с ужасом увидели, что левая нога Дмитрия Ивановича переломлена. Они снесли его домой; с помощью скорых медицинских пособий он остался калекой на всю жизнь, и… прощай военная служба! Он поневоле вышел в отставку чем-то поменьше коллежского регистратора и побольше недоросля… Из окрестностей Новгорода, где стоял полк Дмитрия Ивановича, он прибыл опять в Петербург, с намерением определиться «it статским делам». Но куда поступишь ты, бедный смертный, когда судьба тебе не дает ступить шагу? Где ты укроешься, дитя горя, от самого себя, от рока? В земском суде или в уездном? Там тебя доедут работой, обдадут чернилами и все-таки не поставят тебя на ноги; там скрып перьев и шипенье мелких страстей, там… чернила… там отделение, которого нет в твоем сердце! Беги, беги, добродетельный Дмитрий Иванович! Вывихни другую ногу, вырви соблазняющий глаз… вырви оба! Тебя тогда не ослепит ложный блеск! Беги! Куда? В гражданскую палату? Бедный смертный, ты погиб! Ты копиист! Ты увлекся жалованьем и квартирными деньгами… Хорошо… Дай же теперь квартирные деньги и твоей добродетели, потому что она уже не хочет жить в твоем сердце! Что ты сделал! Боже, боже!
Как гнусны, бесполезны, как ничтожны Деянья человека на земле! (Шекспир)Вот ты уж год на службе. За болезнию столоначальника ты управляешь столом… Ты еще невинен… сердце твое чисто… добродетель дома… порок притаился в дурной половине окнами на двор… Что ты задумался? В руках твоих запрос губернского правления: «Не состоит ли запрещения на имении помещика Чудова, желающего заложить оное?» Что ж ты не отвечаешь? Есть оно или нет? Ты краснеешь… запинаешься… ты поспешно прячешь какие-то бумаги под спуд… Дмитрий Иванович, берегись! Порок незаметно въедается, но он колет только, когда гладишь его по шерсти, погладь против — он убежит… Вот ты пришел домой. Квартира у тебя в неопределимом этаже, грязна, мала, без мебели. Ты недоволен, ропщешь, тебе есть нечего, денег только двугривенный: мало! Полно, вздор! Сходи в лавочку, купи трески — поешь и останься добродетелен! Не думай о стерляди, которую взял да съел твой начальник! Ты в какой-то борьбе… ты страшен… Что с тобой? Зачем ты так часто посматриваешь на дверь? Вот она отворилась; вошел человек, богато одетый. Ты и обрадовался и испугался… Он говорит: «Решились ли вы? право, дело пустое, а вы боитесь… и кому нужда справляться… а откроется, можно сказать: по непривычке к делам упустил из виду… вот и всё… Подумайте: вы получите…»
Дмитрий Иванович, что с тобой? Или ты не слышишь, как порок дал пощечину твоей добродетели? Дмитрий Иванович, пробудись! Он гонит ее из квартиры, один хочет поселиться в твоем сердце. Вот добродетель собрала под мышку свои пожитки и ждет у порога; порок отворил дверь и дразнит ее языком… Одно твое слово — и квартира за ней; другое — за ним! Что ж ты медлишь? Реши! Слышишь ли? В сердце твоем началась драка! Скорей за надзирателем! Где он, где твой рассудок? Он угорел в квартире порока, он пьян… спит! Горе, горе тебе! Беги! Запой романс, который ты и так петь любишь:
Я в пустыню удаляюсь От прекрасных здешних мест!Но ты недвижен… Ты наконец протянул руку…
О вы, души чувствительные, поплачьте вместе со мной за Дмитрия Ивановича… Он пал, пал, как может падать неподдельная китайская добродетель… Кредит сердца его упал, квартиры подешевели, в них может селиться всякий сброд… он гибнет и, преступный, на краю бездны, благословляет судьбу свою. Три тысячи не шутка. Он сделал себе щегольское платье, нанял квартиру в четвертом этаже, стал поигрывать в вист, волочиться за хорошенькими. Квартира в сердце его очистилась, и любовь поспешила занять ее. Он жил в Ямской, откуда ежедневно в девять часов утра маршировал по Невскому проспекту до места своего служения и тем же путем возвращался назад в половине четвертого. Он, грешный человек, любил поглазеть по окошкам, и вот однажды у Казанского моста глядит он в окно второго этажа, видит даму, которая пристально на него смотрит; он остановился: дама не отходит, он делает глазки: дама не сердится… И вот рой мечтаний, сладких, упоительных, нахлынул в его душу. Он всматривается в чудные формы красавицы, которая до половины открыта его взору. Лицо ее живо и правильно, глаза блестят удивительно, волосы чудно зачесаны, и по плечам вьются локоны. «Что за локоны, что за прическа! Она должна быть из знатных! И она обратила на меня внимание!» И он чувствовал, что сердце его стесняется: в нем прибыл жилец — чувство собственного достоинства и гордости! Неизвестно, сколько тысячелетий простоял бы Дмитрий Иванович перед окном второго этажа, если бы не вспомнил о службе. Он не мог ничего делать; зарождающаяся любовь охватила все его способности. Пробило три часа, и он опрометью бросился на улицу. Вот он у Казанского моста… о радость! Она опять тут… Он опять смотрит на нее… улыбается ей… Нет, душа Дмитрия Ивановича не так глупа, чтоб остаться бесчувственной; она загорается самою чистою, безумною любовью!
С того дня Дмитрий Иванович постоянно, во время следования в должность и возвращения, останавливался у восхитительного окошка и всегда находил в нем таинственную красавицу. Такая внимательность не могла не пробудить надежды в душе его. Она ждет его поутру, ждет в три пополудни… видно, ей дорог один взгляд, одна улыбка… Гордость его росла. Он стал подсмеиваться над приятелями, рассказывавшими ему мелкие интрижки свои, и, значительно улыбаясь, говорил: «Вы больше знаете, вам и книги в руки; где нам, дуракам, со сливками чай пить!»
Так прошло несколько недель; Дмитрию Ивановичу стало невтерпеж. «Что ж ты медлишь, Дмитрий Иванович? — говорил он сам себе. — Если она девица — женись, если дама — упади на колени… А всего вернее и всего лучше, что она вдова… тут и ждать нечего… Судя по платью, она не бедна. Прекрасно!» И Дмитрий Иванович побежал к Казанскому мосту. Любовь кутила в сердце его: всё пошло там вверх дном, как в доме, куда попал пьяный постоялец; но он не замечал того: он был упоен надеждою, упитан мечтами, разгорячен желаньями… Вот он у окна: она тут, смотрит, улыбается… О, Дмитрий Иванович! не помешайся от счастия! Гордо и надменно смотришь ты на мир божий, на прохожих… ты выше их… Теперь никто не скажет, как бывало, что ты несчастен в женщинах! Счастие долго изменяло тебе — теперь оно тебе улыбается!.. И Дмитрий Иванович, почти не помня себя, бежит на двор, отыскал дворника, спросил у него, где вход в квартиру, в которой обожаемое окно, и летит вверх.
Сердце его полно, признание дрожит на языке, он отворяет дверь, сталкивается с кем-то, бежит дальше, к окну…
— Что прикажете: остричь или завить? — спрашивает человек с добротной физиономией и полотенцем в руке.
Ба! что за вопрос? Куда ты попал? Ты, должно быть, ошибся, Дмитрий Иванович, не в ту дверь зашел… Посмотри: здесь только мужчины с ножницами и гребенками; здесь везде признаки парикмахерского производства. Вот ящик с стеклянной крышкой, наполненный париками, пуклями и пр., вот другой с банками духов и помады; на окошках расставлены фигуры, накрытые париками и увешанные пуклями.
Но ты неподвижен… Что ж ты себе думаешь? Что ты так пристально смотришь на эту бездушную фигуру, стоящую на окошке, столь румяную и столь тщательно убранную?.. Ты не можешь отвесть очей от нее, слезы навернулись на них, ты так укорительно, так дико смотришь на нее… ты зарыдал громко…
Ха-ха-ха! Теперь всё ясно. Несчастный! Что ты любил? Бездушную вывеску парикмахера, хладный кусок картонной бумаги, болвана, на котором мосье Гелио расправляет свои произведения! Опомнись, действуй!.. Что ж ты не исполняешь своих замыслов? Составь же счастие этого ангела; утопи душу свою в ее хрустальных очах! Впейся поцелуем в ее алебастро-бумажные плечи!
— Прикажете завить или выстричь? — повторил парикмахер.
— Стричь, стричь! — закричал Дмитрий Иванович.
Парикмахер подставил к окну стул; наш герой в беспамятстве сел на него, и его начали стричь. В сердце его происходила ужасная суматоха. Квартиры были все заняты, а какой-то нахал въехал со всеми пожитками и нагло требовал, чтоб ему отвели комнату. То было страшное отчаянье, недоверчивость к самому себе, к судьбе, к людям. «Нет, видно, ничто не удастся мне в жизни; видно, мне назначена самая несчастная доля!»
Расстроенный, полуубитый, гладко остриженный, пришел он домой. Там его ожидал столоначальник, выздоровевший несколько дней тому назад и вступивший в свою должность.
— Вы написали, что запрещения на имение помещика Чудова в нашем столе нет, а я нашел его, по делу купца… — начал столоначальник.
— Я не видал этого дела, клянусь честью! — перебил Дмитрий Иванович, изменившись в лице.
— Честные люди так не делают… Смотрите, вам худо будет, мы за себя постоим.
Пожар, пожар! Все постояльцы сердца Дмитрия Ивановича переполошились. Воют, визжат, скрежещут зубами, сталкиваются между собой… Спасите, спасите! Воды, воды! Га! Как там жарко! Какой страшный ад! Тут хнычет самолюбие, разорванное на части пламенем; там обожженное терпение испускает последний вздох; тут целомудрие стыдливо прикрывает члены свои обгоревшими лохмотьями; там совесть, с выжженными глазами, с закопченным лицом, худая, чуть живая, читает молитвенник; тут шевелится обгорелый, безобразный кусок чести, раздавленный подлостью, которую столкнули с антресолей сердца… ужасно! И посреди этого хаоса, этих полуживых уродов, бегает оно… страшное, гробовое отчаянье… главный член рокового пира… Оно не горит, не боится пламени; его стихия — огонь, оно тут как дома.,? А вот еще лицо… оно невзрачно, фрак на нем поношенный… А, это ум., ум бегает как безумный, роется в чужих пожитках и, уткнув палец в лоб, беспрестанно повторяет: «Как бы помочь делу?»
Напрасный труд!
Дмитрия Ивановича отставили от службы, с прежним чином и аттестатом: «А впредь не принимать»,
— Опять неудача! Когда же наконец мне что-нибудь удастся? Уж не нарочно ли судьба так искушает мое терпение? Нет, не поддамся же ей! Часто человеку бывает сначала несчастие, а потом вдруг — смотришь, всё ему удается!
Так думал Дмитрий Иванович, и в сердце его сделалось тише. Отчаянье должно было удалиться и искать квартиры в другом месте. Он сидел молча, поникнув головой, отягченной думами. Вдруг в комнату вбежала женщина…
— Дмитрий Иванович, батюшка, кормилец, пожалуйте скорей… батюшка…
— Что?
— Батюшка… — повторила старуха, заливаясь слезами.
— Да говори же, Прокофьевна, какая ты, право, странная… что ты плачешь?
— Да как же не плакать — батюшка, кормилец наш… Иван Миронович…
— Что, что, что?
— Кончается, батюшка… пожалуйте…
Дмитрий Иванович схватил шапку и побежал к отцу.
На одре смерти отец наконец простил его за то, что он не похож на него, и вручил ему несколько ломбардных билетов. Дмитрий Иванович поплакал, счел билеты и, по количеству их, заказал гроб покойнику. Мать его давно уже умерла, и таким образом он сделался наследником полутораста тысяч, накопленных отцом его в продолжение сорокалетней беспорочной службы.
Дмитрий Иванович разбогател. Как бы то ни было, а деньги — вещь не последняя в жизни. Он нанял великолепную квартиру, прилично меблировал ее, завел вечера и начал жить припеваючи. Но бездействие его мучило. Это была душа глубокая, как озеро волшебниц, виртуозная, как пальцы Тальберга, как посок Тальони, как голос Пасты; ей нужна была деятельность непрерывная, полезная и приятная — и он начал размышлять о средствах увеличить свой капитал. Другой на его месте непременно сделался бы ростовщиком. Но с того дня, как Дмитрий Иванович разбогател, добродетель опять заняла прежнюю квартиру в его сердце, и он никак не хотел расстаться с ней, потому-то и не пошел в ростовщики. За что же приняться?
* * *
Дмитрий Иванович в один день получил записку от своего старого товарища такого содеряшния: «Сегодня именины моей жены; у меня вечер, приезжай, пожалуйста, без церемонии. Зрелов». В восемь часов он оделся и отправился. Хозяин был женат на богатой купчихе, и потому в зале толпилось множество купцов всякого рода. На этом вечере внимание Дмитрия Ивановича обратил на себя иностранный банкир. Он спросил об нем одного гостя.
— Прекрасный человек, — отвечал тот, — и богат, очень богат, мильйонами ворочает. Неизвестно, какого он происхождения: одни говорят, грек, другие — немец, а некоторые — жид, впрочем, какое кому до того дело; я знаю, что он честнейшая душа, и все так говорят. А какие у него обороты — удивительно! И все очень удачны. Если он что затеет — можно наперед ручаться за прибыль. Вот и теперь он что-то начал… говорят, вернейшая выгода… ищет товарища с небольшим капиталом, тяжело одному… делами забрался очень.
— Познакомьте нас, если вы его знаете.
— С удовольствием. — И услужливый гость подвел Заедина к банкиру. Это был человек лет сорока, с лукавыми серыми глазами и остроконечным подбородком, невысокого роста, в черном фраке, застегнутом доверху. Дмитрию Ивановичу он понравился, и под конец вечера они очень сблизились. Он пригласил его к себе. Скоро они подружились. Дмитрий Иванович пошел к нему в половину по одному предприятию, от которого банкир предсказывал золотые горы. Заедин отдал ему свой капитал на выгодных условиях, так, что получал с него десять процентов, кроме половины, которая ему следовала из барыша. Дела шли очень хорошо, и он в первый год получил до пятидесяти тысяч чистой прибыли. Однако виртуозная душа его тем не удовольствовалась. «Счастье мне в первый раз в жизни благоприятствует, — думал он, — надо торопиться им пользоваться». Он взял часть денег у банкира, прибавил сбереженные и затеял литературное предприятие. Вскоре появилось великолепное объявление, аршинными буквами, о подписке на некоторую книгу, с политипажными рисунками и пр. и пр., которая будет выходить выпусками. Дмитрий Иванович заплатил за перевод оригинала, купил за сорок тысяч политипажи парижского издания и приступил к делу. Один журналист, который часто с семейством обедал у него, предсказывал изданию успех неимоверный, писал наперед похвалы и попросил взаймы пятьсот рублей. Между тем он свел знакомство с литераторами и сам искусился в их ремесле: он напечатал поэму и с трепетом ждал отзыва журналистов. В это же время Дмитрий Иванович встретил где-то молодую девушку, которая привлекла его внимание. Глазки у этой девушки были чрезвычайно живые и выразительные, губки манили к поцелую, ручки к пожатию и т. д., а грудь смело можно было принять:
За чашу благ, в которой слито — Всё, что небесного забыто В юдоли плача и сует!Я решительно опровергаю мнение некоторых журналистов, что любовь бывает только однажды. Доказательство тому Дмитрий Иванович. Уж он ли не любил, нежно, пламенно! И что ж? Он вторично влюбился. Душа его наполнилась этим ликующим пламенем, которое жжет и мертвит, бьет и гладит, а всего ужаснее — занимает такую большую квартиру в сердце и так бессовестно в нем хозяйничает. И вот он запел:
Стеариновые плечи, Беломраморная грудь, Брилиянтовые речи — Обольстительны вы суть!И так далее, сорок строк, каждая из двух слов: существительного и прилагательного. Он начал осведомляться о царице души своей. Оказалось, что она, по имени Марья Ивановна, бедна, живет с матерью на Васильевском острову и кормится рукодельем. Сколько тут поэзии! «Она сама будет штопать мне носки… о поэт! сколько ты высок над толпою и как завидна твоя участь!» Так говорил сам себе Дмитрий Иванович. Здесь кстати заметить, что с того дня, как он выдал поэму, он иначе не звал себя, как поэтом, и приказал слуге на вопрос: «Кто твой барин?» — отвечать: «Поэт». Вскоре Дмитрий Иванович познакомился с матерью своей любезной и ей признался в пламенной любви; она не отвергла его, и счастливый Дмитрий Иванович написал стихотворение под заглавием «Первая любовь». Была и прежде любовь, ну, да ту — не в счет: не поднести же любезной вторую любовь!
Однажды они сидели на диване рука с рукой. Матери не было дома. Марья Ивановна делала ему отчаянные глазки, какого-то особенного рода: зрачки у ней закатывались под лоб, а сиял один белок, во всей неподдельной красоте своей. «Чудная женщина! — думал Заедин. — Всё в ней особенное!» Мало-помалу они сблизились: рука его обхватила стан ее, уста их встретились.
Вдруг в комнату вбежали две старухи.
— Боже мой! какой срам, позор! Вы, сударь, целуете, обнимаете мою дочь. Я этого никому не позволю, кроме ее жениха. Вон, срамница, вон! прочь от моего дома! Вы, сударь, мараете честь бедного семейства… обольщаете…
— Клянусь, что я виноват только в том, что поцеловал вашу дочь! — воскликнул Заедин.
— Поцеловал… знаем мы вас… обольщать невинных девушек. Стыдно, сударь… стыдно… Вон, негодное детище! — Старуха зарыдала и начала выталкивать свою дочь.
Марья Ивановна бросилась к ногам Дмитрия Ивановича.
— Батюшки, страхи какие! По-нашему, честный человек должен был бы жениться после того, — произнесла товарка матери.
— Да, есть в них честь, дожидайся! Что же ты ждешь, негодница, пошла вон!
Девушка рыдала и обнимала колени Заедина.
— Успокойтесь, — сказал Дмитрий Иванович, — я давно люблю вашу дочь, и я прошу руки ее. Она невинна, клянусь вам!
И Дмитрия Ивановича помолвили с Марьей Ивановной. Две недели он утопал в мятежном счастии жениха, день сидел с своей любезной, жал ей ручку, целовал щечку и т. д.; ночью писал к ней стихи; наконец их обвенчали; бал продолжался долго… все усердно пили, ели и хвалили бескорыстный выбор Дмитрия Ивановича. Наконец все разъехались, и поэт, переполненный счастием, отправился на брачное ложе.
Дик и страшен выбежал поутру Дмитрий Иванович из спальни. Скорыми шагами ходил он по комнате, бил себя в грудь, топал ногами, хватался за волосы и рвал их, и произносил страшные проклятия, и метался как больной. В сердце его пустота мертвящая: все жильцы съехали, как будто чума испугала их. Но вот из бездны этой пустоты, беспредельной как океан, ужасной как могила, мрачной как развалины Колизея, вырастает какой-то призрак, сперва незаметный как атом, потом больше и больше… и наконец охватывает всю глубину, ширину и толстоту сердца, бросается в голову, щекотит мозг, наливает глаза кровью злости и отчаянья и покрывает чело краской стыда, вечного, неизгладимого. Кто он? Откуда взялся? Как ты пустил его, Дмитрий Иванович, и как можно пускать таких буянов?..
— Я не знал, что она преступна… Она показалась мне ангелом кротости и целомудрия… и когда позор постучался в дверь моего сердца, я еще долго не верил… о, зачем я, с моим несчастием, затеял жениться!.. Зачем я до сей поры жив, зачем мост не обрушился подо мной, когда я проходил Мойку, зачем не утонул я в Лиговском канале? Что я делал, что делать буду? Нет, видно, мне ничто не удается!.. — так горевал поэт, и отчаяние овладевало им. Утешительная вера в судьбу, в будущность начала слабеть в его сердце. Он проклинал самого себя, осуждал, называл глупыми все свои поступки. Бедный смертный! Не кляни себя, не осмеивай сам своих предприятий: если б они удались — ты бы первый похвалил их… Не виноват ты, твой ум, твоя душа — виновата судьба. Она вздумала выбесить из тебя надежду, свить веревку из твоего мозга, чувств, мыслей, желаний — и ею отхлестать тебя же досыта… Что делать? На то она судьба, чтоб тешиться над человечеством. На то у тебя воля, чтоб уклоняться от ее ударов, на то в море щука, чтобы карась не дремал. Есть сила — борись, мужайся, нет — упади на колена, скажи: виноват, сударыня, вперед не буду… Но не отчаивайся — этим ты только поощришь ее дерзость: она из того только и бьется, чтоб бесить нашего брата, смирного чиновника, а главное — держи ухо востро — имей наушников, подслушивай ее и предупреждай…
Дмитрий Иванович заперся в своем кабинете. Отчаяние не позволяло ему ни думать, ни плакать. Лучшая страница его жизни залита чернилами: бескорыстною любовью купил он право на ненависть; благородным поступком — позор; излишней пылкостью сердца — раскаянье. Может ли быть что ужаснее? К вечеру он, не то чтобы успокоившись, а так, с отчаянья, взялся за только что вышедшие журналы.
Сердце вздрогнуло, стеснилось, литературный трепет прошел по жилам, авторское самолюбие вытянулось во весь рост и в оба глаза начало читать литературную летопись.
Судьба — удивительная дама. Она постоянна… Перед одним она лисит, перед другим крокодильствует, но кажется, будто она одинаково любит того и другого, потому что с равным постоянством и радушием снабжает одного бедами, другого радостями… Для одного она устроит любовное свидание, достанет свежих устриц, сбавит цену акций на бирже, для другого приготовит нечаянную отставку, распустит клевету, забежит к журналисту, попросит, покланяется, продиктует ему статью, для того чтобы любимец ее не нуждался в несчастии, не забыл роли, которую она ему назначила.
Дмитрий Иванович бросил журнал под стол и взялся за другой. И в том не щадили его поэмы… В третьем то же. В газете — то же. В другой — то же! Разругали, разругали и разругали!
Несчастный, пиши антикритину… Нет, лучше схвати аршин антикритика, с костяным набалдашником, и беги… нанеси твоим врагам удар сильный, решительный… Боишься! Так узнай их семейные тайны, их отношения в свете, их дурные поступки. Представь их людоедами, кровопийцами, людьми без орфографии, самозванцами… Скажи, что они глотают таланты как устриц, убивают их как мух, или выдумай и еще что-нибудь ужаснее… Советую тебе для вящего уразумения исковеркать их фамилии, а имена оставить настоящие; если знаешь, напиши улицу, где они живут, да не забудь в конце статьи расхвалить самого себя, из скромности. Так делают же — и хвалят и ругают самих себя, — ты знаешь, люди не без имени!
Перед вечером пришел к мятежному Дмитрию Ивановичу конторщик, заведовавший его изданием с политипажными рисунками.
— Что, как идет подписка? — спросил он.
— Плохо-с. Только семь подписчиков… И то пятеро без денег по вашей записке, а вот за двоих деньги; десять экземпляров журналистам послано…
Опять неудача, пощечина судьбы в самое чувствительное место сердца, в карман, в разбереженную рану. Нет, и не Дмитрию Ивановичу этого бы не вынести!
— Нужно, сударь, денег. Переводчик просит, типография не выпускает последнего листа, бумаги нет, корректор отказывается, разносчики ушли.
— Хорошо, я ужо пришлю. — Дмитрий Иванович взял шляпу и вышел… Он был почти в помешательстве. Чувства его отупели. Только память сохранила последние слова конторщика, и он бессознательно побрел к банкиру, чтоб взять денег. Подходит к его квартире, звонит, — выходит неизвестный лакей и отвечает, что банкир давно съехал… Он к дворнику: тот объявил, что банкир восемь дней назад укатил за границу.
Заедин опрометью бросился в контору пароходства… оказалось, что дворник прав. До газет ли было Дмитрию Ивановичу, когда он утопал в любви, был женихом и готовился быть мужем, а между тем в этих газетах было объявлено об отъезде банкира несколько раз. О любовь! Как ты вредишь человечеству!
Дмитрий Иванович бегал, справлялся, не оставил ли где банкир его суммы, не перевел ли на кого… увы! нет!
Страшно сжалось сердце Дмитрия Ивановича; он понял всё, понял, к чему судьба вела его, охватил в одну минуту всё прошедшее, всё будущее, и в уме его нарисовалась страшная, бесконечная таблица в две графы: в одной были вписаны по нумерам в последовательном порядке все его предприятия, в другой аршинными буквами поперек написано роковое слово неудача, длинное, как Невский проспект. И всё, что он доселе думал, что видел, на что надеялся, — слилось для него в это слово, в эти роковые звуки, которые раздирали слух его, как музыка «Роберта Дьявола», перемешанная с нестройным хором настоящего ада. Буквы этого слова скакали перед ним, плясали качучу, делали ему гримасы. О, как страшно они его дразнили, неумолимые, бессовестные! Он убит, уничтожен. Он гордо смотрит, оттого что безумен, бодро идет, оттого что не знает, куда идет; но загляните ему в душу, спросите его о здоровье ее… Что он думает даже?
— Жизнь, жизнь! За что ты так обманула меня! Жизнь — на что ты дана мне? Что ты дала мне? Когда, скажи, приласкала ты меня, отогрела у сердца? Когда ты послала мне улыбку неба без того, чтоб не помрачить ее горем? Детство мое было несчастно. В гимназии я пробыл шесть лет — и вышел ни с чем; в университет готовился два — и напрасно! В армии служил пять — и свихнулся! В палате пробыл два. Любил и испытал разочарование! Издал стихи, плоды вдохновения, порывы к небу, — и меня столкнули в грязь! Женился… ха-ха-ха! и потерял веру в самое святое, благородное чувство! Нашел друга — и друг ограбил меня! О, как горько ты посмеялась надо мной.
Вот что думал вслух Дмитрий Иванович, в беспамятстве бегая по улицам Петербурга. Душа его, постоянно располагаемая обстоятельствами к сомнению и отчаянию, наконец вполне покорилась им. Это был уже не тот Дмитрий Иванович, который, бывало, после какой-нибудь неудачи гордо поднимал голову и говорил: «Не вечно же так будет!» Нет, он теперь уверился, что иначе быть не может, что ему вечно суждено испытывать неудачи и разочарования. Он чувствовал на челе своем горячее клеймо позора, пустоту в кармане, во взорах людей презрение, в руках судьбы чашу, наполненную несчастиями, которые все приходились на его долю… и он решился… На что?
Бегая по улицам, он наконец остановился, огляделся — и дикой радостью засверкали глаза его: он был на Исакиевским мосту. Нева в вечернем тумане весело плескала своими волнами, лоно ее было тихо и величаво. Как завидно ее спокойствие! Как сладострастно-приманчивы ее волны!
— Прощай, жизнь, с своими глупыми шутками! обманывай других, расставляй другим свои сети… а я… прощай, будь здорова!
И Дмитрий Иванович бросился с Исакиевского моста в Неву. Он глотал воду полным ртом, утопал в блаженстве особенного рода, понятном только несчастливцам, которым с жизни взять уже нечего; вдруг он почувствовал, что его кто-то схватил за волосы. «А! это, видно, какая-нибудь большая рыба. Тем лучше… Приятней попасть на зубы рыбе, чем быть слугою этой коварной индейки, судьбы!» Думая это, Дмитрий Иванович приготовился целиком вскочить в желудок воображаемой рыбы. Но он ошибся: чья-то сильная рука вытащила его вверх и плыла с ним к берегу.
— Опять неудача! — закричал Дмитрий Иванович, задыхаясь от злости и почти со слезами, когда какой-то незнакомец вытащил его на берег. Незнакомец сейчас скрылся, а к Заедину подошел будочник с толпою народа. Видя порядочную одежду его, он не посмел пригласить его в полицию, а сказал только: «Вот как опасно неосторожно ходить по мосту!»
Злость душила поэта. Он крокодильствовал сам против себя. Женатая физиономия его изумительно оживилась; он побежал опять. Везде свет, шум экипажей, бесчувственная толпа, и всё так богато, так чинно — досадно смотреть! Никому нет и дела до того, что Дмитрию Ивановичу душно на свете, что судьба даже в смерти отказала ему! Бог знает с каким намерением прибежал он домой, пробежал мимо лакея, которого не мог разбудить шум его мокрого платья, и прямо вошел в свой кабинет. Он схватил со стены пистолет, всыпал пороху и, вероятно намереваясь застрелиться по новооткрытому способу, вставил дуло его в рот и спустил курок…
Пистолет три раза осекся. В соседней комнате послышался шум. Рассудок на минуту возвратился к Дмитрию Ивановичу: он понял, как удивился бы тот, кто бы увидел его одежду, испугался сам своего положения; притом во всю жизнь он любил аккуратность. Итак, он с отчаянием спрятал пистолет, запер дверь и начал переодеваться. В кабинете, кроме парадного костюма, ничего не было, и он оделся франтовски… Когда вдали шаги смолкли, поэт опять схватился за пистолет. Он опять осекся!
— Опять неудача! Что ж это! Где я найду смерть? Душно, душно! — И Дмитрий Иванович опять выбежал на улицу, бегал, бегал, думал… Всё так велико, так торжественно… только жизнь нехороша, глупа, опротивела. А другим она так нравится. Есть разные чины и отличия, есть горы, в которых золото, моря, в которых перлы, женщины, через которых можно сделаться сиятельным; есть люди, которые всем пользуются, люди, которые точат горы, пишут ябеды, режут врагов, любят для протекции, вырывают клады, берут взятки… Да, им всё удается, им всё с рук сходит, пусть же они живут, хлопочут, обирают друг друга… пусть их режут и режутся, получают чины и отличия, издают стихотворения… пусть их живут себе… а кому ничто не удается, кто всем обманут, над кем смеется судьба… ему нужна смерть, ему нечего жить, нечего небо коптить. Правда, Дмитрий Иванович, правда. Но успокой свои мысли, приведи их в порядок, — ты как растерялся… грешно искать смерти. Ты спохватился, что грешно умирать в мокром платье, а не догадаешься, что грешней умирать в дурном, бессознательном расположении духа.
Не прежде как обегав все закоулки Петербурга, успокоился Дмитрий Иванович, но по-прежнему не переставал желать смерти. Однако ж он перестал искать ее. Уверенность, что ничто в жизни не удастся ему, остановила его покушения. Он решился жить, потому что видел невозможность умереть. Теперь он надеялся, что жизнь его будет сноснее, потому что, зная наперед результат своих действий, он уже не мог подвергнуться этим нечаянным ударам судьбы, которые так гибельно действуют на человека. Решимость его была разумна и глубоко обдуманна, он принял ее, взвесив все обстоятельства своей жизни, важные и мелкие, которые ясно говорили: ничто тебе не удается, а потому лучше не предпринимай ничего.
Было около одиннадцати часов; Дмитрий Иванович шел по Литейной; внимание его обратил дом, второй этаж которого был освещен великолепно. Он вздохнул и задумался. То был дом его школьного товарища Зрелова, того самого, у которого он в первый раз встретил банкира. Зрелов некогда был беднее его, ходил в оборванном вицмундире, кланялся в пояс повытчикам; вдруг счастье приласкало его, отличило в толпе, причесало, умыло и вывело в люди. Он теперь статский советник, имеет Анну на шее, занимает выгодное место, купил дом и женился на купчихе с миллионом приданого. И вот он живет себе припеваючи и не думает бросаться в Неву, не приставляет пистолета ко лбу… а ты всё такой же бесчинный бедняк, Дмитрий Иванович, тебе никто не поклонится. Однако ж Зрелов добр и любит старых товарищей; зайди к нему… у него бал… отведи душу роскошью бала, мелодией музыки. Там ничто не напомнит тебе твоего положения: там радость, там улыбка весны, аромат неба, очарование рая Магометова. Войди… вмешайся в резвую толпу женщин… ударься в вальс; ты можешь с помощью хромой ноги свихнуть в нем голову, которой тебе так носить не хочется, можешь вывихрить из души хоть на минуту думу о страшном завтра… Войди… там еще не знают, что ты вытерпел бурю…
Дмитрий Иванович вошел. Зрелов принял его с радушием. Бал был великолепен и разнообразен. Купцы, по обыкновению, занимали в нем главную роль, но было много птиц и высшего полета. Во всем замечалась необыкновенная роскошь и особенный вкус. В двух комнатах танцевали; в третьей играли в вист; в четвертой, на огромном столе, любители, большею частию купцы и богатые чиновники, в числе которых был и сам хозяин, играли в ланскнехт. Груды золота лежали на столе и переходили от одного к другому. Дмитрий Иванович раскланялся, поговорил с знакомыми дамами и хозяйкой и подошел к большому столу.
— Не хочешь ли присоединиться к нам? — сказал хозяин.
— Помилуй, разве ты не знаешь моего счастья? — отвечал Дмитрий Иванович.
— И, полно, вечно на счастье жалуешься; боишься проиграть.
— Не боюсь, а уверен.
— Поставь хоть карточку, братец; что за упрямство!
— Не хочу даром отдавать.
— Э, какой чудной! Ведь не много требуют; ну поставь что-нибудь… ну дай хоть пятьдесят рублей…
— Ах, братец, да если б тебе сказали: брось пятьдесят рублей в реку! бросил ли бы ты?
— Нет, разумеется. Да не об этом дело. Мне хочется, чтоб ты поставил. Ну дай что-нибудь… хоть двадцать пять…. я за тебя промечу на твое счастье.
Дмитрий Иванович с усмешкой подал Зрелову 25 рублей.
— Я наперед знаю, что с ними будет, хочется только тебя потешить, — сказал он и пошел в соседнюю комнату к дамам.
— Что вы сделали в карты? — спросила одна.
— Проиграл. Отдал двадцать пять рублей. Со мной всегда так. Я во всем проигрываю, оттого и привык. — И он пустился жаловаться на судьбу, довольный случаем вылить из души хоть часть желчи, накопившейся в продолжение дня.
— Дмитрий Иванович, у тебя уж шесть тысяч: забастовать или продолжать? Лучше продолжать советую, — тебе везет! — закричал через несколько минут хозяин.
— И, полно, братец, что тебе шутить вздумалось! Я уж знаю, в чем другом, а тут меня не обманешь, — отвечал Дмитрий Иванович и продолжал разговор с дамой.
— Не написали ли вы чего новенького? — спросила она.
— Нет, почти ничего целого. Да в наше время совсем писать нельзя, особенно стихами. Критики ставят их ниже всех других родов литературы. Пристрастие, личности, страх за себя, зависть, мелочные интриги врагов руководят их суждениями, а публика смотрит их глазами. Что же после того остается делать человеку, не имеющему и не желающему иметь с ними связей?
— Вы так хорошо владеете пером; что вам смотреть на них!
— Конечно, их бояться не стоит. Но не стоит также и давать пищу их мелкой злости… их…
— Дмитрий Иванович, у тебя уж пятнадцать тысяч; идет дальше? — закричал из соседней комнаты хозяин.
— Полно шутить, делай свое и не мешай мне.
— Да я не шучу, братец, право, не шучу!
— Не шутишь? Вот еще! В чем другом, а в этом меня не обманешь… Не стоит давать пищу их пристрастью, — продолжал он, обращаясь к даме, — а начни писать наперекор им, продолжай издавать книги — они замучат бранью, насмешками и совершенно уничтожат человека в нравственном отношении…
— Дмитрий Иванович, — сказал хозяин, подходя к нему, — у тебя уж двадцать пять тысяч… советую тебе не идти дальше: счастье может перемениться… возьми, вот деньги… пригодятся… куш хоть куда… Счастье удивительное!.. У нас еще никогда не было такой большой игры… тут из любопытства мой тесть с Кадушкиным держали все, — продолжал он, обращаясь к дамам. — Что ж ты не берешь, Дмитрий Иванович?
Он посмотрел на Дмитрия Ивановича, и деньги выпали из его рук. В глазах поэта изображалось чрезвычайное изумление и какой-то беспредельный испуг; лицо было бледно и безжизненно. Он пошатнулся назад, потом вперед — и упал.
Хозяин кинулся к нему, расстегнул ему жилет, взял его за руку, приложил руку к губам… ничто не обличало и признака жизни. Послали за доктором… терли виски спиртом… делали то, другое… ничто не помогло… Дмитрий Иванович был мертв.
— Удар, удар! — закричали гости, — Какой странный случай!
Ростовщик*
I
Было около семи часов утра. Петербург просыпался. По одной из улиц Васильевского острова скорыми, неровными шагами шла молодая женщина. Боязливые взгляды ее и желание скрыть в меховой воротник салона лицо показывали, что она не привыкла к таким ранним прогулкам и что только необходимость заставила ее выйти в такое время. Черты лица ее выражали страшное волнение; одежда была в беспорядке, волосы беспрестанно выбивались из-под шляпки и играли с ветром, что придавало ей какой-то странный и вместе привлекательный вид. Несмотря на беспокойство и тревогу душевную, проглядывавшие из каждой черты незнакомки, нельзя было не обратить внимания на красоту ее… Пройдя несколько улиц, она наконец вошла в ворота огромного пятиэтажного дома и быстро взбежала по крутой лестнице на самый верх.
— Боже! подкрепи меня, помоги мне! — прошептала она и дрожащей рукой прикоснулась к колокольчику.
— Ах, кого я вижу! Я никак не думал… так рано… — сказал седенький старичок, отворяя дверь и низко кланяясь.
Из довольно неопрятной прихожей, которая, по-видимому, служила и кухней, незнакомка вошла за хозяином в другую комнату, в которой с первого взгляда поражала необычайная бедность. Треть комнаты была отгорожена плохими ширмами, склеенными из прошлогодних нумеров газет, за которыми была постель хозяина. По стенам стояло несколько стульев, кожаные подушки которых были во многих местах прорваны; на стене висели закопченные часы с железными гирями. На единственном столике первое месте занимали счеты, далее книга о переложении ассигнаций на серебро и две копеечные сигары. На одном из стульев лежало парадное одеяние хозяина, прикрытое шинелью горохового цвета, с множеством маленьких воротничков.
Войдя в свою приемную, седенький человечек снова раскланялся. Он был в худом халате и медных очках; лицо его было желто и морщинисто, в глазах решительно не было никакого выражения, нижняя губа качалась, как старая ставня, полусорванная ветром с крючков. Что-то низков, что-то невыразимо отвратительное было в его лице, так что, взглянув на него однажды, трудно, кажется, решиться взглянуть в другой раз. На ногах старика были старые медвежьи галоши, на которые падала верхняя часть грязных носков и которые застучали каким-то странным образом, когда он подошел к незнакомке.
— Какому счастливому случаю обязан я вашим посещением? — сказал он, стараясь улыбнуться как можно приятнее.
— Ах, господин Корчинский! не счастливому, а несчастному… Мужу моему всё хуже и хуже… Дела наши в расстройстве… работы нет… да и работники ушли… Мы напрасно содержим такую большую квартиру…
— Перемените.
— Денег у нас нет. Мне не хотелось бы, чтоб больной муж догадался о нашем горестном положении… Помощи просить не у кого… На вас я могла надеяться, вы прежде так много для нас делали. Но вы что-то охладели к нам, как муж захворал…
— Но позвольте вам заметить, прекрасная Амалия, что я и теперь для вас много, очень много делаю. Конечно, я прежде давал вам деньги по векселю, потом даже без векселя, но потом, прошу не прогневаться… хоть мы и короткие знакомые, а когда я увидел, что дела ваши в расстройстве, я счел нужным не давать вам денег иначе как под верный залог. У меня такое правило, да и для вас лучше.
— Я переносила к вам во время болезни мужа все вещи, какие только были лишние…
— И, верно, помните, что я за всякую давал вам деньги?
— Но теперь наконец мне нечего дать вам под заклад…
— Очень жаль.
— И я пришла попросить у вас несколько денег на честное слово…
— Но могу-с.
— Муж мой при смерти; ему нужны скорые пособия; дети плачут и просят хлеба, а у нас нет его… Боже мой! Что, если их вопли дойдут до слуха моего бедного Франца… о, это убьет его!
— Ничего-с. Не убьет.
— Дайте же, ради бога, мне хоть немного денег, чтоб я могла купить лекарства мужу и накормить детей… Ваше не пропадет: вещи, которые я у вас заложила, стоят гораздо больше.
— Но они и без того принадлежат мне. Осмелюсь напомнить вам, сударыня, что срок выкупа давно прошел…
— Итак, вы решительно отказываете?
— Как можно! Принесите заклад — и возьмите сколько угодно…
— Можно ли поступать так безжалостно! А мы еще считали вас своим благодетелем.
— Гм! благодетелем! Да разве я дурак какой… последний, кровный грош отдавать. Я сам бедный человек, сударыня… чуть с голоду не умираю… Ох, деньги, деньги! Кто их выдумал? Если б бог сжалился над моим нищенским положением да послал мне наследство… А то — откуда мне взять? Того и гляди с квартиры сгонят, а вы еще денег просите, сударыня, да без залога… Я теперь сам в бедственном положении и, извините меня, сударыня, осмелюсь вам напомнить, что срок векселю, тово… прошел… а мне ждать нельзя.
Телодвижения и выражение лица Корчинского во время этого монолога были в высшей степени занимательны. Он то вздыхал, то взглядывал на небо, то потирал руки и улыбался; наконец, произнося последние слова, он с каким-то торжественным смирением, из которого проглядывала тайная злость, взглянул на переплетчицу.
— Денег я зам не дам; мало того, я сделаю с вами то, чего вы не ожидаете… векселю срок кончился… понимаете?
Последние слова его сильно поразили бедную женщину, и она воскликнула с изумлением:
— Что это значит, господин Корчинский?.. По крайней мере, этого я не могла ожидать от вас. За что же вы вдруг сделались из нашего друга злейшим врагом нашим?
— Пора вам всё объяснить, сударыня. Я никогда не был вашим другом; я не такой дурак, чтоб рисковать деньгами для дружбы… я всегда желал вам зла, я даже старался и… успел сделать вам зло.
— За что же, за что?
— А вот за что. Помните ли вы тот вечер, когда в первый раз я зашел в ваш дом и сделал вам предложение…
— Но вы сами после сказали, что это была шутка.
— Нет, то была не шутка. Я вас любил, очень любил, сударыня. Я вам скажу, я тогда ночей не спал… хлеба в экономии по фунту в день оставалось, а однажды… о, этого я никогда вам не прощу, сударыня… я обчелся в процентах… может быть, я бы теперь не принужден был один хлеб есть…
— Полноте, у вас много денег.
— Много денег? Кто вам это сказал? — воскликнул Корчинский, изменившись в лице. — Много денег! Господи боже мой! Вот живи, мучься, трудись, а другие еще говорят, что ты богатый человек… Богатый! Да кабы я был богатый человек, сударыня, я бы нанял себе квартиру в четвертом этаже… я бы взял служанку, а не стал бы сам ходить в лавочку за корюшкой… она бы мне принесла… Богатый! Кто вам это сказал? Скажите тому, что он лжет, выдумывает! Кабы я был богат, может быть, и вы бы не отказали, сударыня…
— Ошибаетесь…
— А то вы, сказать просто, переплетчица, больше ничего… а что вы со мной сделали?
— Но вы тогда всё простили и сделались нашим другом…
— Нет, я не простил; я только спрятал мою обиду, как залог мести, для того чтобы после получить с процентами! Меня обидеть — но кого другого; пришло время теперь… и я, во-первых, начну с того, что подам ко взысканию вексель, имущество ваше продадут в мою пользу с аукциона, а вашего мужа засадят в тюрьму… уж я постараюсь…
— Боже мой! какую змею грели мы у сердца! Жестокий, бесчеловечный злодеи!
— Не бранитесь, сударыня, я еще вам понадоблюсь…
— О, что мне делать? Как я покажусь домой… Какое ужасное положение!..
— Не отчаивайтесь, сударыня, всё может поправиться… Согласитесь только… вы знаете, я еще люблю вас; я разорву вексель, возвращу вещи, дам денег, последнее имущество иродам…
— Никогда, никогда! — воскликнула женщина и побежала к двери.
— Ждите, я скоро буду! скоро придут описывать ваше имение, а муженька поведут в тюрьму… радуйтесь там на него! — говорил старик вслед уходящей женщине. — «Какой глупый народ! — думал он про себя. — Я и так для нее делаю то, чего бы ни для кого не сделал… Шутка ли разорвать вексель в тысячу рублей, отдать вещи… дать денег… и она смеет упрямиться!..» Тут снова послышался звонок. Вошел человек со свертком под мышкой.
— Что вам угодно?
— Вы изволите давать деньги под ручные залоги?
— Ох, времена нынче круты. Всё дорого, денег ни у кого нет. Ох, куда их доставать трудно!
— Потрудитесь сказать, сколько вы можете дать под залог этих вещей?
Корчинский стал рассматривать вещи, подносил их к свету, взвешивал на руке, осматривал со всех сторон и мысленно делал им оценку.
— Вещи стоят не более трехсот рублей… Сто рублей можно дать. Вам на сколько времени?..
— На три месяца.
— На три… но двадцати процентов в месяц… со ста — шестьдесят рублей… проценты вперед, а сорок рублей чистыми деньгами получите. Угодно?
— Помилуйте, как можно!
— Ну так прибавьте еще что-нибудь, если вам больше денег требуется. За деньгами дело не станет; я сейчас добуду, а вы мне дадите записочку, что если в продолжение срока вещей не выкупите, то они делаются моею собственностию. Понимаете?
И у них начался продолжительный разговор. Послышался снова звонок, вошел другой посетитель за такой же нуждой, потом третий, и в несколько минут комната наполнилась посетителями. Корчинский давал деньги, принимал заклады и был совершенно в своей сфере. Пока он занят такими важными делами, я расскажу вам, что он за человек.
В молодости он служил в статской службе и дошел силою своего гения до чина титулярного советника. Дальше он не ходил и вышел в отставку, потому что не был честолюбив. Силы души его сосредоточивались на другой точке, на стремлении к благоприобретению. Весь свой век он кланялся и пресмыкался перед этим обманчивым кумиром, который люди, неизвестно почему, называют золотом. Рано понял он цену денег и то, как без них плохо на земле человеку. Зная очень хорошо пословицу, что перед смертью не наживешься, он смолоду начал копить денежку всеми возможными средствами. Средства были часто низкие и непозволительные, но Иосифу Казимировичу как-то всё удачно с рук сходило. Только однажды он ужасно ошибся в расчете. Чтоб разом разбогатеть, он считал женитьбу самой выгодной спекуляцией. Долго искал он по себе невесты, но богатых за него не отдавали. Наконец он вздумал подняться на самую отчаянную штуку. В губернском городе, где он служил, был богатый помещик с хорошенькой племянницей. Приняв в соображение то, что у помещика, кроме племянницы, родственников близких нет и что, следовательно, всё его имение должно достаться ей, Корчинский стал тайно ухаживать за племянницей и разыгрывать роль пламенного обожателя. План его был такой: «Дядя не согласится отдать ее за меня, так его согласия мне и не нужно: я увезу ее и обвенчаюсь тайно. Дядя посердится, но делать будет нечего, он простит, и тогда — я сам себе пан!» Всё так и случилось. Корчинский ошибся только в последнем пункте: дядя не пустил к себе и на глаза новобрачных. Корчинский уехал в Петербург от огласки, всё еще надеясь на прощение дяди. Тут он беспрестанно заставлял жену писать письма к дяде, но на них не было никакого ответа. Грустно было бедной жене видеть, как много ее муж хлопочет о ее наследстве, но пока положение ее было всё еще сносно. Вдруг она получила от управляющего известие, что дядя ее умер, не простив ее, и отказал всё имение своим дальним родственникам. Корчинского это известие привело почти в безумие; сначала он плакал, потом, в пылу отчаяния, бросился изливать гнев свой на несчастную жену. С того дня жизнь ее стала мучительною. Не проходило часа, в который бы обманутое корыстолюбие мужа не поражало бедной жертвы. Он попрекал ее каждым куском хлеба; он говорил, что если б не она, он был бы теперь богатым человеком. Наконец он просто стал ее гнать из дому. Мучения бедной женщины час от часу возрастали. Она бы охотно ушла от мужа, но ее связывал сын, которого она любила как первенца всею силою души. С христианским смирением решилась она сносить все оскорбления корыстолюбца, но их сносить не было возможности. Неистовство его дошло до последней крайности: он уже не довольствовался упреками и бранию, он не раз заносил свою нечистую руку на бедную страдалицу. Она предложила ему добровольно оставить его дом, если он отдаст ей сына или по крайней мере изредка позволит навещать его. Но злодей отказал и только удвоил мучения, какими терзал бедную жертву… Тогда, полубольная, убитая горем и отчаянием, в одну ночь она взяла на руки бедного малютку и с молитвою на устах тихонько ушла и:) дому злодея. Ее бегству Корчинский был рад, но ему жаль стало сына, на котором основывал он много надежд в будущем. Однако ж он скоро утешился и только изредка с горестью вспоминал о сыне. Страсть к деньгам беспрестанно в нем возрастала, по мере того как уничтожались последние остатки благородства душевного. Скоро душа его совершенно зачерствела; ни одного человеческого чувства не осталось в ней: ее можно было смело назвать приходо-расходной книгой, так ясно, четко и отчетисто хранила она то, что составляло беспрестанную мечту ее хозяина. Корчинский вскоре приобрел известность человека, у которого можно во всякое время достать денег, а где такие люди не нужны? Вот уж тридцать лет пользуется он этою известностию, но доставляет ли она ему выгоду — то один он знает. Бедная жизнь его, беспрестанные жалобы на нищету, жадность, с которой он смотрит на золото, — всё это располагает более к мысли, что он несчастлив на своем поприще, которое проходит со славою. Что касается до внутренней его жизни, то тут встречается та же картина. Темно, черно, холодно. Душа закалилась, замерзла, зачерствела, ничем невозможно было разбудить ее. Она спала себе, сердечная, сном мертвых… Страсти тоже спали, но наконец случилось что-то похожее на их пробуждение. Не с большим за год до начала нашего рассказа случайно встретил он переплетчицу Амалию Гинде, которую мы видели в первой сцене, и любовь, которой он не чувствовал ни к чему, кроме золота, вдруг ущипнула сердце почтенного старца. Он, может быть, в первый раз в жизни решился чем-нибудь пожертвовать для своей прихоти и с самоуверенностью богатого человека, избрав благоприятное время, отправился к Амалии. Каково было его удивление, какова была его злость, когда, вместо ответа на его учтивые и откровенные предложения, он увидел, что переплетчица замахнулась и готова была дать ему пощечину. Первым делом его было отвратить удар, вторым — обратить всё в шутку. Душа у него, несмотря на ее ничтожность, была мстительная и злая в высшей степени, кроме того, ему не хотелось отказаться от мысли когда-нибудь владеть переплетчицей, и потому он сейчас составил план, которым надеялся всего достигнуть. Он свел знакомство с ее мужем, был к нему и к его семейству чрезвычайно ласков к заставил их совершенно себе довериться. Франц жил бедно; рабочая его была очень мала и в отдаленной части города, отчего работы было мало. Корчинский, под видом истинного участия, предложил ему тысячу рублей на год без процентов, для того чтоб он мог хорошенько устроить свои дела. Переплетчик принял деньги с благодарностию, нанял обширную мастерскую, набрал учеников и работников, но дела его шли по-прежнему плохо, работы почти не прибавилось; ростовщик втайне этому радовался. К концу года Франц довольно опасно захворал, и тогда положение дел его становилось час от часу затруднительней. Мастеровые разошлись за недостатком работы, Францу всё было хуже и хуже. Амалия, которая всей душой любила мужа, старалась предупреждать все его желания, скрывала от него их возрастающую бедность. Ночи не спала она за работой, чтобы прокормить себя, мужа и двух детей. Сначала Корчинский помогал ей деньгами, без всякого обеспечения. Потом, руководствуясь первоначальным тайным планом, стал требовать залога. Он хотел довести бедное семейство до крайней степени нищеты и тогда уже начать действовать. Он успел в том; мы видели, как он обошелся в последний раз с несчастной Амалией и каково ее положение. Окончив дела с посетителями, Корчинский надел фрак, положил в карман какие-то бумаги, взял трость и шляпу и вышел на улицу. «Надо предъявить вексель переплетчика, — думал он про себя, — пора всё кончить чем-нибудь; если она не… так, но крайней мере, я получу обратно деньги, пока она не распродала еще всего своего заведения»,
II
Спустя два дни после сцены, описанной в начале рассказа, Амалия с глазами красными от слез и притворно веселой улыбкой сидело у постели своего мужа. Франц был бледен как полотно и худ как скелет. По временам он бросал на жену дикие взгляды, выражающие болезненное состояние тела и расстройство сил души.
— Что же так редко ездит доктор, вот уж пить дней он не был. Ты бы послала ему денег, Амалия.
— Послала, мой друг, ужо будет.
— Ах, боже мой! как мне вдруг душно сделалось; расстегни воротник, Амалия.
— Он расстегнут, мой друг…
— Ах, это медальон меня давит, он как-то неловко лежит.
— Да ты бы снял его покуда; он довольно велик; тебе неловко…
— Нет, не сниму; он дорог моему сердцу, пусть же всегда хранится у сердца.. — Франц дрожащей рукой взял бывший у него на груди золотой медальон, поднес его к губам и снова положил на грудь…
— Что это дети там плачут, ты бы купила им чего полакомиться, — продолжал он, прислушиваясь к шуму в соседней комнате.
— Ах, как меня вдруг сдавило; душно, душно… пошли за лекарем, Амалия.
— Сейчас, мой друг. — Амалия отвернулась и отерла слезы. Душа ее невыразимо страдала. Тут муж, больной, умирающий, которому нечем помочь, который живет еще только потому, что не знает всей глубины своего несчастия, там дети, которые ждут хлеба… Кроме того, ужасные слова Корчинского: «Ждите, я скоро буду!» — не выходят из головы ее…
— Мама, мама! что ж ты обещала мне беленького хлебца… я очень есть хочу, — сказала маленькая девочка, вбегая в комнату…
— Тише, тише, — отвечала мать, — пойдем, я дам. — Она взглянула на мужа, который несколько забылся, и вышла.
— Погоди, душенька, ради бога; скоро будет, погоди, милочка…
— Ах, мама, да долго ли ждать?
Тут вошел мальчик немного постарше с той же просьбой…
— Я пойду к папа просить хлеба, ты, мама, нынче такая скупая, — сказал он.
— И я с тобой.
— Не ходите, молчать! Если вы это сделаете, я вас за книгу на целый день… я вам еще два дни ничего не дам! — быстро произнесла несчастная мать в испуге…
— Маменька, милочка, ведь нам еще сегодня ничего есть не давали, а мы хорошо знаем уроки, хоть сейчас спросите, — говорили дети со слезами. Амалия горько зарыдала.
— Побудьте здесь, дети, сидите смирно и не шалите, я зато дам вам ужо обедать, — сказала Амалия и пошла к мужу.
Она удивилась спокойному выражению его лица. Казалось, сон, которым он теперь наслаждался, укрепляет его. Амалия вздохнула свободнее и мысленно просила бога сжалиться над их положением. Прошло около часа, больной спал. Амалия задумчиво смотрела на его лицо и тихо плакала.
— Мама, мама! к нам пришли какие-то двое, такие сердитые, спрашивают папу, — сказал вбежавший мальчик.
Амалия изменилась в лицо. С отчаянием взглянула она на спящего мужа и вышла.
Люди, о которых говорил мальчик, были исполнители закона. Они объявили, что так как переплетчик Гинде не платит по векселю долга, то им поручено описать и запечатать всё имущество, которое назначено к продаже с публичного торга.
— Делайте что хотите, — сказала Амалия, — только, ради бога, не слишком шумите и не говорите ничего моему мужу: он при смерти… Вот вам ключи от всего; вот ход в мастерскую, там все инструменты.
Исполнители закона принялись за дело. Вскоре пришел и Корчинский.
— Что, каково? не говорил я, что это будет, а? — сказал он с злобной усмешкой, громким голосом.
— Ради бога, не кричите; муж мой заснул… Он не спал больше недоли…
— Ничего, ничего, что он за неженка… Что, господа, много вещей оказывается?
— Немного.
— Тем лучше. Дольше ему не выйти из-под моей опеки… я буду платить кормовые деньги. И вы, >сударыня, если хотите, последуйте за своим мужем, я и за вас, так и быть, заплачу… Вы же его так любите… что же, не мешает, последуйте.
— Куда?
— В тюрьму, сударыня. Я бедный человек, но для вас последней копейки не пожалею.
— Ужасный человек! Вы поступили низко, вы выбрали ужасное время для своей мести…
— Что ж, господа, вы остановились?
— Опись кончена.
— Эге! что вы, господа? кончена!.. Были ли вы в той комнате? — сказал старик, показывая на спальню Франца.
— Нет.
— Клянусь богом, — сказала Амалия в сильном волнении, — там ничего нет, кроме необходимых вещей больного, которых вы не имеете права отнимать.
— Господа, я требую, чтоб спальня была осмотрена; иначе я не признаю верною описи.
— Ради бога, не ходите туда. Вы разбудите Франца, вы убьете его: он ничего не ожидает, он и не подозревает, что мы в таком ужасном положении…
— Тем лучше, тем лучше… Он услышит приятную нечаянность. — Старик дьявольски весело произнес эти слова, так что Амалия лишилась последнего присутствия духа.
— Господа, исполняйте свою должность. Исполнители сделали несколько шагов вперед.
— Жестокий человек… сжалься! Что ты делаешь? Ты хочешь убить его…
— Что его убивать, когда он и так на ладан дышит…
— Но ему стало лучше. Он заснул… О, сжалься, ради бога.
И Амалия готова была упасть на колена перед подлым стариком, который потирал руки от удовольствия.
— Что ж вы, господа, остановились? — сказал он. Исполнители сделали еще несколько шагов. Амалия в отчаянии ломала руки и умоляла старика.
— Ха-ха-ха! вот забавно! Как будто я но своему распоряжению. Заплатите по векселю… не заставляйте бедного человека потерять его достояния. Что я за богач такой, чтоб дарить по тысяче… И за что, смею спросить? Разве за то… помните, госпожа переплетчица? Тогда вы и смотреть не хотели, куда как расходилась в вас добродетель… А теперь, ну, теперь моя очередь… Не вечно коту масленица… Ха! ха! ха! Право, очень приятно получать свое с процентами.
— Сжалься! — повторила Амалия…
— Право, уж теперь почти поздно, сударыня, однако ж, так и быть, в последний раз… Послушайте. Муж ваш не сегодня завтра умрет, теперь, видите, дело другое… послушайте…
Он отвел Амалию в сторону и шепотом сказал ей несколько слов.
— Никогда, никогда! — воскликнула Амалия, с ужасом отскакивая от старика. Глаза ее пылали гневом и презрением.
— Господа, исполняйте же свою должность! — сказал с досадой старик и потел вперед исполнителей к спальне Франца.
— Я не пущу вас! — воскликнула Амалия отчаянно и стала неподвижно у дверей спальни.
— Вот еще какие штуки! Предписание налицо: за неплатеж по векселю описать и опечатать все вещи, находящиеся у переплетного мастера Гинде… Пустите, сударыня.
— Господа, вы не должны его слушать, он зол на нас. Придите в другой раз. Теперь вы можете нарушить сон больного, можете повредить его исцелению.
— Ха-ха! Какая важная причина откладывать формальные предписания! Ха-ха!
— Амалия, что там за шум? Поди сюда, Амалия! — < послышался слабый голос из спальни.
— Ради бога, замолчите! — сказала Амалия и пошла к мужу.
— Что же так долго нет доктора? Вот мне теперь легче. Может быть, с его помощью я скоро бы оправился…
— Скоро будет, мой друг.
Тут показалась в дверях седая голова ростовщика, и за ним вошли исполнители. Крайний ужас и гнев обезобразил лицо Амалии. Она не знала, что делать; то она готова была броситься и растерзать их, то хотела упасть перед ними на колена…
— Здравствуйте, Иосиф Казимирович! Вы в первый раз посетили меня больного; благодарю вас.
— Посетил, и, надеюсь, посещение мое доставит вам крайнее удовольствие.
— Я всегда думал так, потому что считал вас моим другом.
— Дудки, господин переплетчик\ с чего вы взяли, что я ваш друг… Вы думаете, что я пришел киснуть у вашей постели и охать вместе с вами; нет, я бедный человек, мне некогда заниматься таким пустодействием. Я пришел за долом, господин переплетчик…
— Что значит такая перемена, Иосиф Казимирович?
— Ничего, так, спросите вашу жену. Знаете ли вы…
Амалия умоляющим взором взглянула на старика.
— Знаете ли вы, почтенный, — хладнокровно продолжал старик, — что я пришел присутствовать при описи вашего имения…
— Как так? — спросил больной с сильным беспокойством.
— Готовьтесь в тюрьму, господин Гинде, — продолжал ростовщик тем же убийственным тоном, насмешливо поглядывая на Амалию.
— Что вы говорите?
— Я представил ваш вексель ко взысканию.
— Но разве вы забыли, что обещали отсрочить…
— То на словах, а не на бумаге. Мне только того и нужно было, чтоб заставить вас платить, когда у вас денег нет… Ведь нет, любезная Амалия? — прибавил старик насмешливо.
— Но я надеюсь, что я еще в состоянии собрать такую сумму, если вы не шутите…
— Я шучу! Собрать сумму в тысячу рублей! Так вы богатый человек, господин переплетчик… отчего же ваши дети умирают с голоду, а вы, прекрасная Амалия, с позволения сказать, до света бегаете к бедным людям за деньгами… О, да вы притворщица, сударыня!
И старик опять навел на нее свой злобно-насмешливый взгляд. Амалия отвернулась: в эту минуту старик показался ей гнусен до отвращения…
— Амалия! правду ли он говорит? Дети мне говорили, что они по дню голодают, что ты ночи просиживаешь за работой… Правда ли? говори! — сказал Франц слабым, дрожащим голосом…
— Нет, мой друг, будь спокоен, — сказала Амалия, стараясь придать своему голосу как можно более твердости.
— Не верьте. Послушайте меня, я лучше вас знаю, что делается у вас в доме. Я вам всё расскажу; а вы, господа, — прибавил старик, обращаясь к исполнителям, — занимайтесь своим делом. Слушайте.
Старик с мучительными подробностями, с отвратительной откровенностью начал рассказывать, как его взбесила глупая добродетель Амалии, как он обманул Франца ложной доверенностью; как его жена унижалась перед ним, выпрашивая денег, как он всё открыл ой и как теперь он, наконец, поставил Франца в такое положение, что кроме петли или тюрьмы ему не на что надеяться, а его семейству нужно или умереть с голоду, или идти по миру. Корчинский говорил но обыкновению своим насмешливым тоном: ему весело было мучить Амалию, которая слушала в каком-то бесчувственном положении и только иногда с отчаянием взглядывала на мужа. Франц по мере рассказа старика становился мрачнее. Ужасную пытку переносила душа ею. Он беспредельно любил Амалию и свое семейство, готов был всем жертвовать для их счастия. И вдруг перед ним самыми черными красками нарисовалась картина страданий, нужд и лишений любимцев сердца его. Страшно возмутила эта картина его больное воображение. Мысль, что он своими требованиями увеличивал их. бедствия, заставляя отказывать себе во всем для него, ужасала его душу.
Старик, окончив свой рассказ, громко засмеялся и прибавил:
— Отец в тюрьму, семейство по миру, славный карьер! Благодарите вашу жену, господин Гинде…
— Так, так… всё правда, — произнес Франц отчаянно, — мучь меня, старик. Нет ли у тебя еще чего? Добей меня одним разом… я стою того. Но за что они страдают? О Амалия! Я недостоин тебя! Я забыл, что не приготовил ничего, что был бесполезен семейству и отнимал у него последний кусок хлеба, как будто я ему дал его… Да, я достоин всего… ужасно!.. Амалия, поддержи мою голову… мне дурно, душно.
И больной упал на подушки. Лицо его было страшно, голова горела, глаза сверкали диким огнем. С минуту был он безмолвен, потом скороговоркою начал произносить невнятные слова.
— Что вы сделали! Вы убили его! — тихо сказала Амалия.
— Ничего. Рано ли, поздно ли, надо всем умирать…
— Надо умирать! — повторил больной. Лицо старика побледнело: так страшно были сказаны эти слова. Однако ж он скоро опомнился.
— Что, господа, совсем?
— Давно кончили, — отвечали исполнители.
— Пора домой, обедать… скоро четыре… Прощайте, господин переплетчик, желаю вам поскорей перейти на новую квартиру.
— В тюрьму, в тюрьму! — вскричал больной, в ужасе подымаясь с постели.
— Успокойся, Франц, ляг, — сказала Амалия.
Час от часу больному становилось хуже.
Амалия молилась жарко, пламенно. Страдания ее были ужасны: она видела постепенно разрушающуюся жизнь мужа и не имела средств помочь ему. Дни и ночи проводила она у постели больного, без сна, без пищи, не откликаясь даже на плач детей, которые умирали от голода. Наступил пятый день после сцены со стариком. Больному сделалось еще хуже. Амалия целуй день провела в какой-то борьбе с собою у постели мужа.
Грустны были ее мысли. Может быть, это последний его день, думала она. Может быть, только скорые пособия могут возвратить его к жизни. Пройдет день и тогда уже — созови всех врачей, употреби все средства, истрать миллион золота — всё будет напрасно! «Дорог день, дорог час, дорога минута!» — почти вскричала Амалия и с какой-то отчаянной решимостью раскрыла грудь мужа, который был в совершенном беспамятстве… Она отвязала от его шеи золотой медальон… «Боже! прости меня, помоги мне!» — сказала она и быстро выбежала на улицу.
III
Было уже около восьми часов вечера, а у скупого ростовщика в обыкновенной его приемной не было еще огня. Комната была пуста, хотя по лежавшей на столе шляпе и палке можно было заключить, что хозяин дома. Из-за ширмы узким лучом проглядывал свет, но за ширмой огня не было. Послышался звонок. Вдали раздался шум; за ширмою что-то скрипнуло, раздался звук, похожий на звук запираемого замка, и в комнату явилась испуганная фигура Корчинского, со свечой в руке. Он оправился, отпер дверь и впустил Амалию, бледную и едва стоящую на ногах от усталости и душевного волнения. Случайно или неслучайно свеча в руке его пошатнулась и погасла.
— Вот, я принесла вам заклад; ради бога, дайте денег; муж при смерти — я побегу сейчас к доктору… Скорее, господин Корчинский! — сказала переплетчица скороговоркою.
— Не торопитесь, любезная гостья… Муж ваш не умрет, покуда мы с вами… Побеседуем. Ну что, не говорил ли я, что вы еще придете ко мне?
— Мне некогда, говорю вам, некогда. Скажите, дадите вы денег или нет?..
— Ха-ха! разумеется, дам. Я бедный человек: мне бы нельзя жить было, если б я отказывал… Сколько угодно, если вещь хорошая и мы сойдемся в условиях.
— Говорите же их, говорите!
Старик взял руку Амалии и крепко пожал ее.
— Пора нам помириться, сударыня. — И он снова пожал руку Амалии. Она вырвала ее и отскочила. В глазах старика засверкало пламя.
— Низкий человек! Только отчаяние привело меня к вам. Если б я знала, где скоро достать денег, я бы скорее согласилась на коленях вымаливать их, чем унижаться перед бездушным злодеем.
— Я не злодей, сударыня, — перебил Корчинский, обидясь, — я не топлю по ночам людей в проруби, не вытаскиваю платков из кармана, не делаю фальшивых депозитных билетов; я в штрафах и под судом не бывал… Если б тут был свидетель, вы бы дорого поплатились за оскорбление моей личности…
— Я пришла к вам за делом; мне дорога минута… Скажите решительно: дадите ли вы мне денег? Окончим скорее, или я уйду…
И бедная Амалия в мучительной борьбе, ломая руки, пошла к двери. Медленность старика терзала ее душу.
— Постойте, сударыня. Да, я забыл, на что вам деньги.
— Да боже мой! Разве я не сказала, что мой муж умирает без помощи…
— Признаюсь, после ваших обидных слов, мне бы не хотелось давать вам деньги. Но у меня правило: никому под верный залог не отказывать… Позвольте посмотреть вещицу… что за сокровище такое.
Старик засветил свечу. Амалия дрожащей рукою подала ему медальон…
— Ну, он того… не очень тяжел… однако ж, вещица изрядная… можно под нее дать рубликов сто, если золото настоящее, — сказал ростовщик, взвешивая медальон на руке…
— Посмотрим, — повторил он и поднес медальон к свече… Несколько минут он внимательно рассматривал его и вдруг в изумлении спросил:
— Где взяли вы этот медальон, сударыня?
— У моего мужа.
— Где взял его ваш муж?
— Он его собственность, он его драгоценность, с которой он но расставался во всю жизнь… Вы, вы довели нас до того, что я решилась похитить у него его сокровище; разлучить его на смертном одре с портретами его отца и матери…
Старик снова пристально взглянул на медальон.
— Точно ли вы знаете, что это портреты его родителей? — спросил он.
— О да. Все знают, что он не сын Гинде… Но, ради бога, господин Корчинский, скорее; пока мы здесь, он может умереть: я оставила его почти при смерти…
— Пойдем, пойдем! Я всё для него сделаю! — отрывисто вскричал ростовщик и побежал к двери… Амалия последовала за ним…
Корчинский был в сильном волнении. На лице его можно было прочесть такие чувства, каких оно, может быть, никогда еще не выражало. Быстро, почти бегом, шел он к квартире переплетчика. Амалия едва успевала за ним следовать…
— Мама, мама! что ж ты оставила папу, он всё звал тебя… стонал, а теперь он такой страшный: ничего не говорит, не двигается, даже не дышит, такой бледный, страшный, — в испуге сказал сын Франца, когда Амалия с Корчинский пришла домой…
— Он умер, умер! — произнесла Амалия с ужасом.
— Умер! — повторил Корчинский отчаянно.
Они кинулись в спальню Франца. Франц был мертв. Старик схватил стоявшую на столе свечу, поднес ее к лицу покойника и стал вглядываться в его черты…
— Он, он! — дико вскричал старик…
— Ты — его убийца! — произнесла Амалия и без чувств упала на труп мужа…
Старик взял себя за голову, страшно покачал ею и с буйным, безумным криком выбежал из дома.
IV
Через несколько дней в одном из пятиэтажных домов Васильевского острова в верхнем этаже происходила следующая сцена. Квартальный осматривал вещи и мебель, а писец по его диктовке записывал их. Опись начиналась так: «После скоропостижно случившегося сумасшествия чиновника 9 класса („Оставьте место, — заметил тут квартальный, — надо справиться об имени и отчестве рехнувшегося“) остались пожитки следующего содержания…» Квартальный, осматривая вещи, беспрестанно приходил в удивление. Он, например, распорол подушку ветхого стула, для того чтоб удостовериться, чем она набита, а оттуда посыпалось золото. Далее, он расшил истасканный тюфяк, по той же причине, и увидел, что в нем с угла пучками положены были ассигнации. Он толкнул ногой старые медвежьи галоши, — они издали металлический звук: оказалось, что и в них под кожей деньги.
— Что за оказия! — говорил Семен Семенович. — Этакого удивления на моем веку еще не было! Ба! да тут дверь… заперта… надо ее осмотреть… рехнувшийся-то всё нанимал, — раздался из-за ширмы голос квартального.
— Видно, нежилая комната, — сказал писарь.
— Однако и ее надо обозреть для порядка; сбегайте-ка за слесарем.
Дверь была отперта, и тут представилось еще более пищи удивлению Семена Семеновича. У стены стояло огромное зеркало в богатой раме; на одном столе большие бронзовые часы и подле них десятка два карманных. На другом столе в углу до самого потолка были наставлены одна на другую разные вещи. У левой стены рядом стояли шкаф и комод. В шкафе квартальный увидел несколько енотовых, собольих и куньих шуб, лисьих салопов, шинелей с бобровыми воротниками и множество других богатых одежд. В комоде — несколько дюжин ложек, столовых и чайных, несколько серебряных сервизов и, наконец, множество колец, цепочек, перстней, алмазных и бриллиантовых.
— Оказия за оказией! — сказал квартальный.
— Ведь рехнувшийся-то, говорят, был ростовщик, — сказал писец.
— Та-та-та! Вот что… пишите всё.
Когда все вещи были описаны, квартальный выдвинул ящик и нашел там бумаги…
— Пишите: формуляр, расписки, числом десять… а это что? — сказал квартальный, рассматривая какое-то письмо. — Прочтем.
И он стал читать: «Я решилась лучше умереть, чем жить с тобою. Ты, верно, этому рад, но вспомни, что ты рано или поздно должен отвечать за мои муки там, где мы снова увидимся. Прощай! Завтра меня не будет на свете… Сын наш останется на жертву сиротства и нужды, но я лучше решаюсь вверить судьбу его неизвестному человеку, чем тебе. Ты никогда об нем не узнаешь ничего: я положила на грудь его медальон с нашими портретами, чтоб он хоть чем-нибудь мог вспомнить свою бедную мать, но я скрыла происхождение его и даже имя… Повторяю, ты никогда не узнаешь ничего об нем: вот единственная месть, которою я решилась отплатить тебе за все мои мучения…»
— Опять курьез! — произнес квартальный, свертывая письмо. — Не понимаю, ничего не понимаю!
— Что же писать прикажете?
— Ну пишите: письмо, писанное рукою, неизвестно кому принадлежащею… Скорее кончайте…
Скоро опись была кончена; к вещам приложили печать, и квартальный отправился к приятелю перехватить и потолковать о том, каких чудес иногда в их звании видеть ни случается.
Капитан Кук*
Глава первая, о том, как Кук завтракал и какая мысль посетила его перед зеркалом
Отставной армейский капитан Иван Егорович Кук сидел у стола за завтраком. Перед ним стояло несколько тарелок с закуской; посредине возвышался полуштоф с виньеткою, как нельзя более соответствующею его содержанию. Капитан уже хотел проглотить последнюю рюмку водки и встать из-за стола, как вдруг в комнату вошел молодой человек.
— Рекомендуюсь, — сказал он, — ваш покорный слуга, Андрей Чугунов…
— Ну а отчество? — перебил капитан.
— Петрович, — отвечал молодой человек.
«Сюртук на нем как сюртук, да жилет что-то подозрителен: пуговицы не все; карманы новехоньки, а перед вытерт», — говорил про себя капитан, оглядывая пришедшего.
— Ну а звание? — наконец спросил он, не зная, предложить незнакомцу стул или нет.
— Представлен к первому чину.
— Садитесь, покорнейше прошу, — произнес капитан. — Вам, конечно, угодно было познакомиться?
— Да-с, у меня есть до вас нужда, и я решился говорить с вами откровенно…
— Благодарю.
— Не стоит благодарности.
— Ну, об чем же вы решились говорить со мной откровенно… серьезное что?
— Вот видите: я хочу жениться…
— Жениться? Так вам хочется знать мое мнение… Оно конечно, я могу вам сказать…
— Я не об том хочу говорить… Вот видите… Вы так уважаемы в нашем городе, об вас известно…
— Так вы хотите, чтоб я был у вас посаженым отцом… Оно конечно; насчет этого я могу вам сказать…
— Вы не так меня поняли… Я хочу сказать, что об вас известно, что вы человек довольно богатый…
— Ну так вы хотите занять у меня денег… Оно конечно…
— Да-с, вы угадали. Мне нужно на свадьбу по крайней мере тысячу рублей, а у меня нет…
— Но беда, что нет… Есть верно, то можно дело поправить…
— То-то нет… Мне нечего продать, нечего заложить; если б на вексель, не более как на четыре месяца…
— Оно конечно, на этот счет я могу вам сказать… Нет, я ничего не могу вам сказать!
— За меня поручится наш секретарь, советник, если угодно…
— Помилуйте, что это? пустяки; разве без поруки нельзя; велика ли сумма… Тот поступил бы слишком бессовестно, кто потребовал бы этого.
Лицо молодого человека осветилось улыбкой надежды. — Вы судите, как прилично благородному человеку; не знаю, чем возблагодарить…
— И, помилуйте! за что? жаль, что у меня теперь денег нет, а то сейчас доказал бы вам, как ничтожна такая сумма и как недостойна она того, чтоб много об ней говорить…
Лицо молодого человека помрачилось, как небо перед грозой.
— Вы… так вы… не хотите мне дать денег?
— Как не хотеть… хочу — да не могу… Обратитесь к Домне Семеновне Абрикосовой…
— Я был у нее: она отказала… впрочем, как я заметил из ее поступков, она не отказала бы, если б… она показывала мне глазами…
— Двери? — перебил Кук. — Как невежливо!
— Ну, может быть, и не двери, а…
— Так извините!
Молодой человек раскланялся и ушел, очень опечаленный. Кук задумался. Долго он думал; думы его вертелись около одного неприятного сознания, что ему через неделю стукнет сорок три года. Странно создана голова человеческая! Поутру Кук был весел как нельзя более, и вдруг не прошло часа, как лицо его обезобразилось горестию. Отчего? Неужели виною тому этот молодой человек? но какое же отношение имеет его дело до лет храброго капитана? Никакого; не тут должно искать начала грустного раздумья Кука. Он просто любил, как и сам выражался, «вступать в мысленный разговор с самим собою», и вот в этом-то разговоре он случайно наткнулся на сорок лет. Лицо его становилось мрачнее и мрачнее. Наконец он подскочил к зеркалу, сложил на груди руки, как Наполеон в решительные минуты жизни, и стал пристально всматриваться в свою особу. В первый раз с ужасом подумал он, что, может быть, он уж и не молодой человек. «Где же ты, младость удалая?» — печально воскликнул он и опять задумался. Прошло пять минут немого молчания, в которые на лице капитана царствовал «гробовой» ужас к «могильный» мрак; вдруг он отскочил от зеркала, схватил фуражку и выбежал на улицу. Через минуту он проезжал уже на извозчике улицы уездного города.
Капитан Кук был известен в своем городе как человек почтенный, у которого можно «не иначе как по знакомству» занять денег, за пустячные проценты, под заклад серебра и золота; а в особенности он был известен как любитель и участник благородных спектаклей. У него был свой деревянный сарай, отделанный, как он выражался, на манер театра, куда приглашались все ревностные поклонники Мельпомены и холодного пунша. Еще недавно сам капитан играл «Отелло» и был «трикраты» вызван; после спектакля выпил до девяти стаканов пуншу и был единогласно прозван «любезным молодым человеком, с душой, созданной к великому». Вот и всё, что покуда нужно вам знать о храбром отставном капитане Иване Егоровиче Куке.
Куда он поехал? Уж не догонять ли младость удалую? Кто его знает; подслушаем, что он думал, когда стоял у зеркала.
«Я уже не в первой молодости — да! Пройдет десять лет (десять!), и я уже не буду нравиться прекрасному поду — да, да! Время летит и не возвращается… да, да, да! Что ж буду делать я в старости? Конечно, я могу иногда приятно провесть время, читая прибавления к „Губернским ведомостям“ или разыгрывая роль Отелло, могу раскладывать пасиянец, записывать приход и расход, получать проценты, петь псалмы и т. д. Могу иногда бывать у сестры Настасьи Егоровны, беседовать с ней, брать детей ее на руки… Та-та-та! А нельзя ли мне будет брать своих детей на руки?» Тут с минуту в голове капитана по было никакой мысли, наконец он продолжал так: «Сколько у меня доходу? Достанет и мне, и жене, и детям… только я не желал бы больше трех дочерей и четырех сыновей… (каково?). В каком я чине? Капитан… чин еще, так столбовой буду! Какая моя натура? Смирная и незложелательная. Создан ли я к супружеской жизни? Уж разумеется… А почему бы так? Люблю спокойствие и умеренность, читаю „Северную пчелу“ и даю в рост деньги…»
Капитан вздохнул свободно и спешил сделать формальный вывод из этого форменного рассмотрения дела.
«Из вышесказанного явствует, что я жених хоть куда, только бы не подурнеть к бракосочетанию. Женюсь, непременно женюсь! На ком? На вдове Абрикосовой… потому что и она отдает… совершенно наклонности одинаковые. Притом я давно люблю… а дом такой сухой, решительно не бывает сырости!»
Именно в тот самый момент, в который эта великая идея озарила разум капитана, он отскочил от зеркала и выбежал на улицу.
Мечты о любви, процентах, переделке дома и о подобном тому провожали капитанскую душу нашего героя до самых ворот дома Абрикосовой; он был давно знаком с нею и, следовательно, мог надеяться, что его примут, а потому бодро и весело взбежал на лестницу.
Глава вторая, о том, какой гриб съел капитан после завтрака
— Ах, кто-то идет… полноте, Андрей Петрович! — воскликнула в испуге Домна Семеновна, выдергивая свою руку из руки молодого человека.
В это время в прихожей раздался голос Кука:
— Дома ли барыня?
— Ах, это «наш капитан»! — сказала вдова. — Какой несносный! Ступайте покуда в эту комнату… я его сейчас выпровожу.
Молодой человек ушел в комнату направо, и в ту же минуту вошел капитан… Лицо ее показалось ему божественным, ручка, которую он облобызал с жадностию, обожгла его губы и, как надо полагать, была причиною прыщей, о которых будет говорено впоследствии. Сначала разговор был довольно обыкновенный; наконец с стесненным сердцем Иван Егорович решился приступить к объяснению.
— Сударыня, — сказал он, — вся природа веселится…
— Да, — отвечала она, взглянув на него с какой-то непонятной улыбкой.
— И вы тоже веселитесь, смею спросить?
— Как случится. — И она опять смерила его глазами и улыбнулась…
— Весна рассыпает благодетельные лучи на красоту вашу. Журчание ручейков, блеяние овец, зеленая травка, птицы небесные, конечно, вещи почетные… Что вы об них думаете, сударыня?
— Я совершенно согласна с вами. — Новая непонятная улыбка.
— Но по мне вы их затмеваете, сударыня. — Тут он «любовно» взглянул на Абрикосову и потом незаметно ущипнул себя в щеку, чтобы покраснеть.
— Вы нынче пускаетесь в комплименты, я от вас этого но ожидала, вы такой почтенный, мусье Кук…
Почтенным мусье, почтенный! Это несколько столкнуло капитана Кука с мыса доброй надежды, однако ж он скоро оправился и не терял бодрости.
— Странная бывает игра судьбы с человечеством, Домна Матвеевна, — сказал он таинственно.
— А что?
— Да вот что. Вы называете меня мусье Кук, а вам и невдомек, что был когда-то другой Кук, мореплаватель?
— Что ж тут удивительного… Такое сходство фамилий нередко.
— Но это сходство простирается гораздо дальше. Вы помните также, что тот Кук был капитан, а ведь и я, если не изволили забыть, не какой-нибудь прапорщик; тоже капитан. — Тут он приосанился и гордо взглянул на Абрикосову…
— И это случается.
— Он, как все моряки, любил пить ром, и я тоже, сударыня, хотя для экономии чаще пью вишневку.
— И это случается.
— Может быть, и конец-то наш будет одинаковый! — сказал Кук с глубоким вздохом.
— Как так?
— Да так. Он погиб от любви к морю, от ожесточения диких; а я, может быть, погибну от любви к женщине, от жестокости ее. От любви к вам! — воскликнул он, не имея сил более владеть собою, и упал на колена перед Домной Матвеевной.
— Ха-ха-ха! вы шутите, мусье Кук! Вот уж, право, странно. Вы были всегда так степенны, так любезны, а тут вздумали шутить!
«Шутить! я шучу! И это сказала она, в самую торжественную минуту моей жизни… когда душа моя готова была излиться в страстном признании; когда рай и ад теснился в мою душу… и когда одно ее слово могло меня осчастливить… О нет, она не любит меня!.. Она никогда не может любить… Она — холодная, безжизненная душа, которая отдала любовь свою в проценты, под верные залоги. А я, несчастный!» — вот что продумал в одну минуту озадаченный Кук.
— Прощайте, сударыня, прощайте! Вы меня никогда более не увидите, никогда!
— Помилуйте, мусье Кук; право, я вас не понимаю, разве вы шутите… ваш костюм…
— Мой костюм? мой костюм, сударыня, приличен благородному человеку моего звания и моей комплекции! — воскликнул Кук и в это время увидел себя в зеркале. — О ужас! О проклятие! Я в халате! — вскричал он отчаянно и выбежал на улицу; хохот вдовы и Чугунова проводил его. Проклятая надпись «Дом надворной советницы Абрикосовой» мелькнула в глазах его и лишила душу нашего капитана последнего покоя.
— Несчастный дом! На тебе никогда не будет надписано «Дом капитана Кука»! — сказал он с горестью и поехал домой.
Соблюдая историческую достоверность, мы, однако ж, должны сказать, что капитан сделал утренний визит госпоже Абрикосовой не в халате, а в форменном сюртуке, который за старостью и худобою носился только дома и носил название халата. У капитана была страсть давать вещам не по шерсти кличку…
Глава третья, о том, как капитан Кук пил кровь и какого мнения приятель его о брюках со штрифками
— Крови, Степка, крови! — яростно закричал капитан, вбегая в свою комнату.
Степка подал ему стакан красной жидкости, которую он выпил с жадностию.
— Отелло! сколько разительного сходства в судьбе моей с твоею! Ты блаженствуешь… семейное счастие тебе улыбается… Дездемона — ангел, Дездемона — рай души твоей… вдруг… всё переменяется: Дездемона — демон, ад души твоей… «Крови, Яго, крови!» — восклицаешь ты, и сердце твое разрывается… Так и я. Обольстительные мечты лелеют пламенную душу мою… Домна — кумир мой, Домна — лучезарная звезда моего счастия… Я ощущаю предвкусив ее объятий… подъезжаю к пой; самый дом мне улыбается… вдруг… адские проценты! демонский хохот ростовщика над бедняком, принесшим в заклад свое бедное сердце! Ха-ха-ха! у него ничего больше… каменный… вдова… дом… прекрасная… Я разорен! Крови, Степка, крови! — вторично воскликнул Кук и опять проглотил стакан. Но ничто не успокоивает бедной души его. О, как тяжело потерять веру в людей, в счастие, в жизнь, в дев, в мечту, в каменные строения, в чистоту нравов; о, ужасно! Будь у него бронзовая голова на каменном фундаменте… он бы и тут не выдержал!..
Быстрыми шагами ходил он по комнате и в ужасном отчаянии ломал себе руки, скрежетал зубами, моргал бровями, кусал губы и т. д. В таком положении застал его Евстафий Андреич, франт, отставной поручик, задушевный друг капитана.
— Что с тобой? — спросил он, заметив необыкновенную мрачность Кука.
— Ничего! — отвечал Кук гробовым голосом. Слова его заметно подействовали на чувствительную душу Евстафия. Он понял без слов, что друг его в бедственных обстоятельствах. У него была страстная охота прослыть утешителем страждущих, и он начал так, голосом, проникающим до глубины души:
— Друг мой! мы все люди, все человеки, все странники! — Кук пожал ему руку, в знак согласия, и вздохнул. — Итак, согласись, что не стоит роптать на трудности пути, когда он не бесконечен… Но если можно преодолевать эти трудности и находить для себя радости в скоротечной жизни, то зачем отчаиваться… будем бодры…
— Нет, радость не для меня!
Погибну я, как пламень дымный,
Среди полей, среди глуши!
Умру — и могила примет кости мои; сгнию — и прах мой соединится с землей; исчезну — и меня не отыщешь ни на земле, ни под землею! — Тут Кук заплакал и упал к нему в объятия…
— Кто погубил тебя? — спросил он с участием. — Она? Но для тебя не всё еще потеряно… Мир не вечен… Тебя ожидает другой мир, лучший дом…
— Лучший дом! — повторил Кук с некоторой надеждой. — Который, в какой улице?
— Дом, в котором успокоиваются все страждущие…
— Дом призрения бедных? Да он казенный?! — воскликнул Кук с прежним отчаянием.
— Есть, говорю я, мир, где будут жить по смерти; где встречаются души любящие и страдающие для вечного, неизменяемого блаженства… Там ты найдешь ее!
— Крови, Степка, крови! — закричал Кук еще отчаяннее.
— Что так поразило тебя? — спросил друг.
— Неужели я должен обречь остальную жизнь, — произнес он, глотая влагу, — на страдания, слезы, проклятия, вздохи, воспоминания веселые, предчувствия печальные, идеи мрачные и мечты прозаические, — сказал Кук раздирательным голосом. (Я вам говорил недаром, что он играет в трагедиях.)
— Постой! может быть, всё поправится, — сказал друг с надеждою.
— Увы!
— Кто она?
— Домна Семеновна Абрикосова.
— И она отказала? странно!
— Ужели вечно будем мы бездомны! — произнес Кук и заплакал.
— Не плачь! Домна не так жестока… Не понимаю, почему она отказала? Когда ты у нее был?
— Я только от нее перед твоим приходом.
Тут друг внимательно оглядел Кука с ног до головы и захохотал пронзительно.
— Теперь наконец я всё понял! — произнес он торжественно и подвел Кука к зеркалу.
— Знаю, видел! семи пуговиц нет, правая пола разорвана, на левой во всю длину сальное пятно, — простонал Кук голосом недорезанного теленка.
— А на шее-то, на шее что? — сказал Евстафий. — Носовой платок вместо галстуха, и весь в табаке…
— О судьба! Ты ли обрушила на главу мою столь тяжкие бедствия? Крови, Степка, крови! — И Кук опять выпил крови.
Евстафий хохотал.
— И ты в этом костюме предлагал ей приятности своей особи?
— Да… шила в мешке не утаишь.
— Любовь без галстуха, любовь без штрифок! ха-ха-ха! И ты ничего не снял, не прибавил, приехав домой?
— Ни йоты! — отвечал Кук мрачно.
— Бьюсь об заклад, что твоя неудача произошла от костюма! Ты, верно, показался ей шутом, полусумасшедшим!
Пока он так рассуждал, Кук, с своей стороны, доискивался причины небрежности наряда. Наконец он догадался. Идея о сватовстве была так быстра и неожиданна и так ему понравилась, что она в ту же минуту завладела всею полостию его ведения; он всё забыл… и удивительно еще, как он не забыл самой шапки!
— Но всё равно! Она не любит меня… Любовь не разбирает, в каких видах, она проявляется! Не костюм, не суетные украшения — на нее действует только личность… а она отвергла меня!
— Постой. Всё поправится! Есть у тебя хорошее платье?
— Как же! Всё новое, третьего года только сделал! Темно-зеленый фрак с плисовым воротником, малиновая жилетка с желтыми цветочками… галстух белый с красненькими полосками, брюки суконные.
— Без штрифок? — спросил друг нетерпеливо, с каким-то страшным предчувствием.
— Да!
— Ничто — не годится!
Кук был как пораженный громом… кровь бросилась ему в голову.
— Крови, Степка, крови!
— Друг мой, — сказал Евстафий после некоторого молчания, схватив его за руку, — ты хочешь владеть ею?
— Еще бы! — произнес Кук едва слышным голосом, в котором изображалась вся внутренняя борьба этой великой души.
— Есть ли у тебя в наличности пятьсот рублей?
— Есть полторы тысячи!
— Она будет твоею!
— Она будет моею! Крови, Степка, крови!
— Бери деньги с собой, пойдем к лучшему здешнему портному. Костюм повредил тебе, он же должен и поправить дело…
— Ты уверен?
— Как нельзя более… Великое дело брюки со штрифками!
Разряженный самым блистательным образом, капитан Кук подъехал к дому Абрикосовой. Он более отчаивался, чем надеялся. Только когда воображение рисовало ему собственную его фигуру, красивую, новомодную, он несколько ободрялся. Он спрашивал самого себя: что бы я сделал, если б был на месте Домны Семеновны? Вышел бы замуж за капитана Ивана Егоровича Кука, — отвечал он с самодовольствием, вытягивая свои триковые ноги. Мало-помалу он убаюкал сомнение, и, когда всходил на лестницу, в душе его была одна надежда.
На последней ступени лестницы он встретил молодого человека.
— Здравствуйте, Андрей Петрович! — Но Андрей Петрович насмешливо поглядел на Кука, не поклонился и пошел далее. Сердце капитана вздрогнуло, он готов был закричать: «Крови, Степка, крови!» Но впору опомнился.
Более мы ничего не скажем о вторичном сватовстве нашего капитана. Он очень скоро возвратился домой и в этот день истребил необыкновенное количество крови. Когда он не пил, то вздыхал и произносил про себя:
— Черт бы взял всех портных! деньги даром берут!
Глава четвертая, о том, какое условие заключили Кук с Чугуновым и какую кровь пил капитан Кук
Мрачен и дик сидел капитан за завтраком. Он почти ничего не ел. Интересная виньетка полуштофа не привлекала уже его внимания. Темно было у него на сердце. Дверь отворилась; вошел Андрей Петрович Чугунов.
— А, какому приятному случаю… Ну что, достали денег?
— Нет, я хотел просить вас.
— Ах, молодой человек, до суеты ли мирской мне теперь… Я убит горестию, растерзан… я сам несчастный, бездомный сирота!
— Послушайте, Иван Егорыч. Я знаю ваше горе: вам отказала Домна Семеновна.
— Вы знаете… О, теперь весь город знает мое бесчестие!
— Не отчаивайтесь! Знаете ли, что от вас зависит оправить дело?
— От меня, от меня?.. Как? я уж употреблял все средства: лучше одеться нельзя.
— Домна Семеновна никогда бы не отказала вам… вдруг она узнала меня… не знаю почему она отдает мне преимущество…
— Вам! так вы мой соперник… а? Вы благородный человек… вы знаете, что такая обида… Крови, крови!
— Позвольте, дело может обойтись без крови…
— Как без крови… я убит горестию… Силы мои слабнут. Крови, Степка, крови!
Он выпил крови. Молодой человек был изумлен.
— Послушайте, — наконец сказал он, — вся беда в том, что она не знает, что я имею невесту, и надеется, что я на ней женюсь, а я поддерживаю ее в этой надежде для того, чтоб она дала мне взаймы тысячу рублей на мою свадьбу… Если вы согласитесь…
Кук прозрел. Ему стало всё ясно. Дом так ослепил его, что он тысячу рублей считал ни во что и сейчас же достал их из комода.
— Без процентов! — сказал он, вручая ему деньги.
Молодой человек остолбенел от радости.
— Я сейчас пойду к ней и дам понять, что женюсь, — сказал он с чувством признательности.
— И прибавьте, что ей никогда не найти мужа… Слышите, подожгите ее! — подхватил Кук.
— Хорошо, с удовольствием.
— Вслед за вами явлюсь я… Вот как он захочется доказать, что вы лгали, так и согласится.
— Именно, прекрасно… прощайте…
Молодой человек сказал правду: он точно ухаживал за вдовой, желая выманить у нее деньги, и, получив их от Кука, был радехонек с ней развязаться. Кук приоделся и отправился в третью экспедицию за сердцем и домком вдовы.
Вот он на лестнице, вот в гостиной; поправился перед зеркалом, закинул назад голову, выдвинул вперед левую ногу, засунул в карман два пальца правой руки, несколько закусил губу, сдвинул брови, усилил блеск глаз… и ждет.
Она входит. На лице ее признаки недавней злости: краснота и опухоль; но вот оно просияло. Она бросает на него взор изумления, взор почтения, взор умиления, взор ласки, взор радости, наконец, взор счастия… потом… одним словом, все возможные взоры, от сонного до страстного включительно.
Кук бодро повторил предложение.
— Крови, Стенка, крови! — радостно закричал Кук, вбегая в свою комнату.
— Ну что? — спросил ожидавший его Евстафий…
— Наша взяла! — воскликнул Кук торжественно…
— Вот то-то, я говорил, я знал, как много значат брюки со штрифками…
— Да, толкуй тут… ты где пропадал целую неделю?.. вот я тебе порасскажу… Что ж крови, Степка!
— Пожалуйте денег, сударь, вишневка вся вышла, — сказал Степка, выходя из прихожей с пустой бутылкой.
Карета Предсмертные записки дурака*
Жизнь моя приходит к концу; скоро смерть костлявым перстом своим постучится ко мне в двери… скоро! Грудь моя иссушена страданиями, — поцелуям дев уже но разогреть ее. За грехи жизни, за борьбу с рассудком жестокий рок вырвал из головы моей все волосы, — макасарскому маслу их уже не вырастить! Трудно умирать, наделав так много глупостей в жизни, как я! Трудно умирать с горьким сознанием, что на душе грехов больше, чем было волос на голове в самую блестящую пору жизни; трудно рассчитываться с бренным миром, когда имеешь так много долгов… трудно, очень трудно! О я несчастный! О я глупец! Зачем не подумал я прежде о том, что делал… Зачем так поздно я себя понял! Братья люди! пожалейте бедного ближнего, который так поздно уверился, что он дурак; что всё назначение его жизни состояло в том, чтоб удерживать самого себя от глупостей. Пожалейте несчастного ближнего, который, не поняв себя вовремя, действовал вопреки своему назначению…
Не виню никого за мои заблуждения; никто их во мне не поддерживал: они сами укоренялись. Благодарю вас, добрые журналисты, вы даже старались прояснить мой разум; вы печатно доказывали мне горькую истину, в которой я так поздно уверился и незнание которой было причиною стольких несчастий и прегрешений! Глупое самолюбие мешало мне тогда поверить, что я дурак!
Незадолго до настоящей минуты я имел намерение написать и выдать в свет историю моих глупостей; но тяжела обязанность историка: трудно сохранить беспристрастие в отношении к самому себе, вы знаете это по опыту. Размышляя так, я решился не срывать покрова с прошедшей моей жизни. Не могу, однако ж, удержаться, чтоб не приподнять его, думая, что моя откровенность будет полезна человечеству. Может быть, я ошибаюсь; не упрекайте за дерзкую мысль: вспомните, что я дурак!
Думаю, что случай, бывший со мной в молодости и отбросивший яркую тень на всю мою остальную жизнь, будет кому-нибудь полезен. Приготовьте терпение: я хочу рассказать вам величайшую глупость моей жизни.
Из всех страстей, волновавших бурную мою молодость, зависть была едва ли но первая. Много я пострадал от нее. Не хочу, однако ж, безусловно порицать этого чувства. Подавив в душе своей личную ненависть, я сначала надеюсь высказать мое искреннее мнение о зависти. Зависть — не бесполезное чувство, хотя более вредное. Она приводит в волнение кровь и препятствует гибельному застою души; она пробуждает от бездействия, которое так вредно обществу; она заставляет иногда делать решительные глупости, которые от необычайной дерзости, с какою сделаны, получают вид глубоких соображений ума. Она постоянно держит человека, ею одержимого, в крайнем напряжении действующих сил — ума и воли. Не говорю о мелочной, ежедневной зависти, которую на каждом шагу вы можете встретить в Лондоне и в Калуге, на Выборгской стороне и на Невском проспекте, скажу о зависти более достойной внимания. Есть люди, которые завидуют Наполеону и Суворову, Шекспиру и Брамбеусу, Крезу и Синебрюхову; есть другие, которые завидуют Палемону и Бавкиде, Петрарку и Лауре, Петру и Ивану, Станиславу и Анне; есть третьи, которые завидуют Манфреду и Фаусту; четвертые… одним словом, все мы чему-нибудь завидуем. Вы встретите зависть в театре, смотрящую «Гамлета», в кондитерской, читающую-«Русский инвалид», на бале, танцующую с красавицей, которой завистнику не видать как ушей своих. Особенно проявление ее заметно в деле торговом, служебном в литературном. Но довольно о том, где можно встретить зависть, я хочу рассказать вам, где я ее почувствовал… Кладу левую руку на сердце, собираю остаток сил и молю благую судьбу, чтоб она не пресекла жизни моей прежде окончания моей поучительной беседы с благосклонным читателем…
Я родился в одной из линий Васильевского острова… от благородных, но бедных родителей. Когда мне минуло восьмнадцать лет, я остался сиротой и получил во владение десятитысячный капитал. Следуя предсмертному совету моего отца, я стал отдавать его в «частные руки», но как процентов мне на житье недоставало, я принужден был давать уроки… Жестоко жаловался я на судьбу свою, принужденный иногда но десяти верст в день бегать из-за пяти рублей. «Сколько людей ездят в каретах! — думал я, — Чем они лучше меня?» Мало-помалу эти жалобы становились чаще и чаще. Несчастный! я не понимал тогда, как много грешу против провидения, осмеливаясь осыпать роптаниями его благую волю. Сердце мое надрывалось от злости и зависти при виде кареты, я ненавидел тех, кто мог иметь ее… Зависть сосала мою душу… Что ни делаю, куда ни пойду — карета не покидает моих мыслей! Я пропускал уроки, говорил пошлости, делал глупости — и всему причиной была эта мысль. «За что, судьба жестокая ты создала меня бедняком? За какие подвиги столько народу ездит в каретах и за какие прегрешения я осужден целую жизнь проходить пешком?» — восклицал я в грешном отчаянии. Но всего ужаснее действовала на меня дурная погода. Когда на дворе дождь, грязь, гром, молния — и со мной то же самое; вид грязных сапогов побеждает твердость моего сердца: слезы льются ручьем, глаза сверкают как молнии, в голове шумит буря… «Страшно, страшно не иметь кареты!» — произносил я, на цыпочках переходя грязные улицы; вдруг раздавался вдали шум — я взглядывал и каменел от бешенства: мимо меня проезжала карета! Я тогда не мог владеть собою! Я готов был вскочить внутрь этого четырехместного чудовища; я готов был съесть глазами его квадратную фигуру, поглотить слухом его отвратительный стук, остановить зубами его правильное движение. Кровь моя приходила в волнение, ноги подгибались: я не мог идти, а дождь лил на меня ливмя, а гром гремел над самою моею головою, а страх опоздать на урок жег молнией мое сердце! Проезжало чудовище — я становился спокойнее, но ненадолго: опять вдали стук, снять оно; а иногда… о ужас! два, три, четыре чудовища разом… Решительно не было спасения! Грязь комками летит в бок, в ногу, в руку, в лицо, в рот… ужасно! Сколько причин ненавидеть человечество! Тебя публично кормят грязью, и ты не смей рта разинуть! «Задень за что-нибудь, расшибись, отвратительное орудие сатаны!» — кричал я, убегая от лошадиных копыт. Мучения мои доходили до невероятности. Самая любовь, которую я чувствовал к сестре одного из моих учеников, уступала место моему непостижимому чувству — к карете. Непостижимому, говорю я, потому что оно было действительно непостижимо: я любил карету, потому что завидовал ее обладателю; ненавидел, потому что желал ей всевозможного зла, как. источнику всех моих страданий… О, как я тогда был глуп! Самая любовь моя, повторяю, чуть было не превратилась в ненависть, оттого что предмет моего обожания ездил в карете. Я мучился, рвался, страдал, как шильонский узник, проклинал, как Байрон, и в страшном отчаянии незаметно издерживал свой капитал, вместо того чтоб отдавать его в проценты… Для успокоения сердца моего нужна была месть человечеству, для мести — карета… Я чувствовал, что обладание ею не сделало бы меня счастливее, но наслаждение видеть во власти своей эту рессорную гадину, иметь право раздавить ее при первой вспышке гнева… о, для этого стоит чем-нибудь пожертвовать! Долго я боролся с самим собою; долго искра потухавшего рассудка спасала меня от позорного названия «отъявленного дурака», наконец одно ужасное обстоятельство решило мою участь и помогло судьбе произвесть меня в «чистые дураки», каковым я теперь имею честь быть…
Однажды в довольно хорошую погоду я шел по Невскому проспекту; на сердце у меня было легко, потому что я уже давно не видал кареты. Я вспомнил мою любовь; ничего утешительного не было в ней; но она по крайней мере обещала мне много чистых наслаждений в настоящем. Любовь богата: она создана ездить в карете, жить в счастье и роскоши; я существо, явившееся в мир на правах пешего хождения, заклейменное странным пороком — завистью к карете! Но у дураков часто самые препятствия обращаются в мнимое их преимущество: я доказывал себе, что препятствия ничего не значат, что дело пойдет на лад, и выводил преглупые заключения, казавшиеся весьма вероятными моему ограниченному уму. Вдруг пошел дождь; стало грязно… Кареты чаще и чаще начали возмущать мой взор. По обыкновению мне казалось, что хозяева их глядят на меня с насмешкой, что кучера нарочно норовят наехать на бедного пешеходца и потом уж кричат ему пади, то есть «упади и простись с жизнию!» Глупо, очень глупо! а должно признаться, что такая дичь тогда казалась мне вероятною. Вот я перехожу улицу, вдали вижу карету, отворачиваюсь, чтоб не попасть под лошадей… Вдруг ужасный комок грязи летит мне прямо в лицо; я вздрагиваю от ужаса и негодования; хочу отнять от лица прилипший комок, но в это время в карете раздается хохот… Боже мой! чей хохот? руки мои опустились. Я оборачиваюсь и вижу — Любовь Степановну, мечту мою, предмет любви моей; она высунула головку из дверец и изо всей мочи изволит смеяться… Хохот ее и теперь раздается в моих ушах! Не могу припомнить, что я сказал тогда, только помню, что я сказал какую-то ужасную глупость… Судьба моя решилась. Как сумасшедший я убежал домой. Комок грязи был еще на лице моем; чувство присутствия его не дало охладеть моей ярости!
Я продал все свои вещи, собрал деньги, какие были, и купил карету. О, как я был тогда глуп!
Сделав эту капитальную глупость, я остался с несколькими сотнями рублей. А между тем расходы мои увеличились: проклятая карета требовала сарая, лошади — овса и стойла; люди — квартиры и хлеба. Я нанял небольшую комнатку с большою конюшней. Первый выезд мой в карете был к ним, на урок. Всё семейство и еще какой-то незнакомый офицер встретили меня хохотом. Меня бросило в жар и холод. Она, коварная, больше всех смеялась!
— Вообразите, — говорила мать офицеру, — мы только выехали покупать приданое для нашей Любиньки…
— Приданое, для Любови Степановны? — повторил я с ужасным предчувствием.
— Да, — отвечала Любинька смеясь, — мы ехали покупать наряды и так неосторожно… ха! ха! ха!.. брызнули…
Латинская грамматика Цумпта выпала из моих рук…
— Я отомщу за себя! — произнес я и выбежал вон из комнаты…
— Куда прикажете? — спросил лакей.
— Куда хочешь! Только скачи сломя голову там, где больше грязи, и старайся забрызгать всех прохожих, — закричал я кучеру.
Кучер и лакей вытаращили на меня глаза, думая, что я сумасшедший… А я просто был дурак…
С тех пор любимым моим занятием было скакать по улицам и смотреть, как грязь от моей кареты попадает на лица прохожих. Как скоро дурная погода, на улице грязь, я приказываю заложить карету и скачу, скачу, и с невыразимым наслаждением слежу глазами за направлением грязи, вылетающей из-под колес и копыт лошадиных! Я утешался мыслию, что в отмщение за обиды, нанесенные мне, пятнаю теперь сам грязью человечество. Дурак я, дурак!
Сколько я ни старался, мне, однако ж, никогда не удавалось влепить комок грязи в лицо тех особ, от которых я вытерпел некогда подобное унижение…
Наконец капитал мой истощился; я не ел сам, чтоб накормить лошадей, но всё было напрасно… Пришла минута горького сознания бедности, я увидел невозможность держать карету. Но я не продал ее. В безрассудном ожесточении на это немое орудие моего несчастия я собственными руками изломал мою карету, и в нищете, в отчаянии утешался еще мыслию, что я стер с лица земли хоть одну из тех двуместных гадин, которые столько людей, не исключая и меня грешного, запятнали грязью! О, как я был глуп!
Что еще сказать? Я уже упоминал, что это событие имело пагубное влияние на остальную жизнь мою. С разбитым сердцем, разочарованным воображением, бледный, изнуренный, наконец встал я с постели после продолжительной болезни, постигшей меня после уничтожения кареты. Силы мои были еще слабы; но я жаждал света божьего, жаждал чистого воздуха и вышел на улицу. На Невском проспекте я попал под карету и лишился правой ноги. Да научитесь вы, созданные на правах пешего хождения, из моего печального рассказа, что не должно завидовать людям, которые ездят. Если мой пример вылечит двух-трех завистников, я при конце жизни моей буду утешен, что сделал на своем веку хоть одно умное дело; для дурака и этого много! Завещаю тем, кто будет хоронить меня, чтоб за гробом моим не ехало ни одной кареты. Я сознаю, что предубеждение мое глупо, но не могу выйти совершенно из-под его влияния. Такова сила привычки. В старых дураках она извинительна!
Жизнь Александры Ивановны*
Повесть в четырех экипажах
I Карета
В летний прекрасный день, каких немного бывает в Петербурге, часу в осьмом вечера, по Невскому проспекту ехала карета, запряженная четверкою рослых вороных лошадей. На козлах сидел кучер, парадно разодетый; на запятках стояли два лакея в богатых ливреях. Карета остановилась у английского магазина; лакей ловко отворил дверцы, и из кареты, легкая как серна, прекрасная как майское небо, выпрыгнула молодая дама. Через несколько минут дама возвратилась из магазина с покупкой в руке, так же ловко впрыгнула в карету, как из нее вышла, и приказала ехать на Английскую набережную. Быстро промелькнул экипаж Исакиевскую площадь, повернул налево, проехал несколько сажен и остановился перед одним из изящных домов Английской набережной. У подъезда стояло несколько экипажей; вокруг их начала уже собираться толпа любопытных; у дверей стояли жандармы. Снова лакей отворил подножку, снова выпрыгнула из кареты дама, и какая дама! Теперь уже можно было лучше рассмотреть ее черты. Впрочем, извините, женщина, о которой мы говорим, кажется, не дама, а, по-видимому, девушка; потому что на ней не было ни чепчика, ни другого какого-нибудь признака, отличающего даму от девушки. Лицо ее было в полном смысле прекрасно; легкая бледность, как бы следствие недавней болезни, покрывала ее щеки и придавала ей еще более привлекательности; томная нега была разлита в ее голубых выразительных глазах и заставляла предполагать в ней много огня и жизни. Стан ее был гибок и строен; походка легка и правильна; ножка мала и привлекательна.
Она уже готова была всходить на лестницу, как вдруг к ней подошел швейцар с огромной гетманской булавою.
— Сегодня нельзя-с, никак нельзя! — сказал он с каким-то таинственным видом, поворачивая в руке свой жезл.
— Что такое, почему нельзя?
— Да так-с, нельзя; отсохни правая рука — нельзя! у барина гости.
— Да мне дела нет до его гостей; я не пойду к ним; мне нужно видеть только его…
— Нельзя-с, провались я сквозь землю — нельзя-с, — повторил швейцар с прежнею таинственностью.
«Что это значит, — подумала незнакомка, — прежде этого никогда не было».
— Послушай, любезный, разве барин отдавал тебе особое приказание?
— Не можем сказать, сударыня.
Незнакомка начинала терять терпение; на лице ее появился едва заметный оттенок гнева, смешанный с каким-то тайным страхом.
— Говори, что здесь происходит, — сказала она отрывисто, вкладывая в руку швейцара серебряную монету.
— Ничего-с, право, ничего.
— Ну так я пойду.
— Нельзя-с, сударыня, никак нельзя…
— Да почему нельзя?..
— Не можем знать.
Незнакомка вышла из терпения. Она оставила бестолкового швейцарами вышла из швейцарской. Гнев, досада и какой-то тайный страх уже гораздо яснее отпечатывались на прекрасном лице ее.
— Что здесь такое? — быстро спросила она у жандарма, стоявшего у дверей.
— Свадьба! — отвечал жандарм вытянувшись.
— Свадьба! Чья свадьба? Говори, говори скорее! — вскричала незнакомка.
Голос ее сильно дрожал, в глазах отражалось беспокойство; черты лица выражали необыкновенное волнение.
— Свадьба его высокоблагородия Ореста Андреевича Сабельского, — провозгласил жандарм торжественно.
Лицо незнакомки сделалось ужасно; губы посинели, щеки покрылись мертвою бледностию. Она пошатнулась, как бы лишаясь последних сил, и только с помощью лакея могла добраться до кареты, где почти без чувств упала на подушку.
Даже жандарм заметил ее необыкновенное смущение и вывел из него очень остроумное заключение в своем роде.
— Завистлива больно, — сказал он, — видно, ей чужое счастье как бельмо на глазу, а еще у самой карета такая знатная!
Карета снова покатилась и, проехав несколько улиц, остановилась у небольшого деревянного домика, прекрасно отделанного, в Грязной.
— Что с вами, Александра Ивановна? — сказала пожилая женщина, с очками на лбу, когда незнакомка неровными, быстрыми шагами вошла в комнату.
Александра Ивановна кинулась головой на подушку и горько заплакала.
Долго пожилая женщина, которую звали Анной Тарасьевной, не могла ничего добиться от Александры Ивановны, которая не могла говорить от слез и душевного волнения.
— Да не плачьте, матушка, скажите, в чем дело. Или вы хотите опять захворать. Избави господи! И так еще вы не совсем здоровы, матушка! Вот только было господь дал облегчение — теперь опять напасть! Да скажите же, матушка, что за беда такая случилась… Ведь я хоть не мать вам родная, а все-таки и не чужая вам!
— Он покидает меня, он женится! — восклицала Александра Ивановна всхлипывая.
— Что такое, матушка… Кто женится? Орест Андреич женится? Неужли! Вот, я всегда говорила, что тем кончится!
В минуту кроткий, покорный тон старухи перешел в гордый и укорительный…
— Я всегда так думала, — повторила она, — по одежке — протягивай ножки, пословица недаром сказана. Куда нам за господами тягаться; спасибо, что из крепостных-то вышли. Покойный батюшка ваш Иван Клементьевич был ведь крепостной человек, да, сударушка, графиня, его барыня, отпустила его на волю, когда уезжала за границу, — за его труды, за его честную жизнь… Да, он был честный человек; а детям…
— Ах, Анна Тарасьевна, не мучьте меня, ради бога! — сказала Александра Ивановна, терзаемая болтовней старухи.
— Чего не мучить, матушка, уймитесь-ка вы лучше плакать, да нечего даром-то сидеть — прошла коту масленица; надо будет за работу приниматься… Уж теперь не на кого надеяться-то. Вот кабы вы не затевали ничего да жили бы как бог велел, так бы и ничего не было… А то захотелось, вишь, барыней жить; меня, мачеху свою родную, чуть не ключницей сделала; и не войди к ним в комнату, когда…
— Перестаньте же, побойтесь бога… Я и так не знаю, доживу ли до завтра…
— Ничего, сударушка, правду говорить не грех, правду всегда скажу, отцу родному скажу. Что, чай, больно он любит вас? Не на мои слова вышло, что этакой сорванец только повертится, да и поминай как звали? Так нет… Он, вишь, на мне женится, он-де такой уж честный… Вот и женился, вот и дожили мы до радостного праздничка!
Слова старухи разрывали сердце бедной Александры Ивановны.
— Не баловаться бы, не пускать бы в дом озорника, не вешаться бы ему на шею, — продолжала старуха с язвительною жестокостью…
— Но ведь я женщина, я любила его! — сказала Александра Ивановна. — Неужели я не достойна хоть искры сострадания!
— Хороша любовь. Вот посмотрим, как будем жить… Придется скоро ходить по миру; где нам работать: мы, вишь, привыкли ко всему готовому, любим ездить в карате, ходить под ручку-с…
Долго еще мучила Анна Тарасьевна свою жертву. Во время счастливых дней Александры Ивановны она была тише воды ниже травы и первая молча всем пользовалась, благословляя в душе благоприятствовавшие тому обстоятельства. Но когда обстоятельства изменились в дурную сторону, она первая же не замедлила во всем обвинить Александру Ивановну, платя ей за всё самою черною неблагодарностью. Так всегда поступают злые женщины вообще и мачехи в особенности.
Час от часу Александре Ивановне становилось хуже. Она снова слегла в постель, пожираемая жестокою горячкою.
II Коляска
На третий день пасхи на Исакиевской площади около балаганов толпилось множество гуляющих. Чернь, полупьяная, донельзя довольная, качалась на качелях, пела песни и была совершенно счастлива. Привлеченные заманчивыми вывесками, многие с величайшими пожертвованиями относительно боков и локтей старались пробраться в балаганы, у дверей которых по сему случаю была давка неимоверная. Вдали тянулась длинная цепь экипажей, пестревших мужскими головами и дамскими головками, военными мундирами и разнообразными нарядами мирных жительниц Петербурга. Но не в том дело…
Из ряда экипажей, не без больших затруднений, успела наконец отделиться коляска, запряженная парою, в которой уединенно сидела молодая женщина, одетая просто, но довольно изящно. Она, то есть коляска, которая была как две капли воды похожа на все коляски в мире, готова уже была повернуть на Исакиевский мост, как вдруг, откуда ни возьмись, с Английской набережной налетели парные сани, в которых сидел мужчина, с лицом, закутанным в меховой воротник шинели. Кучер, управлявший коляскою, принужден был осадить лошадей, чтоб предупредить столкновение, грозившее бедой неминучей. Сани тоже остановились. Вероятно, удивленные непредвиденной остановкой, мужчина и дама в одно время подняли головы, любопытствуя узнать, что случилось. Взор мужчины упал на даму; взор дамы — на мужчину. Восклицание изумления вылетело из уст дамы; какой-то испуг, смешанный с оттенком радости, выразился в глазах мужчины. Коляска тронулась.
— Пошел за этой коляской! — сказал мужчина своему кучеру.
Экипажи помчались один за другим по Исакиевскому мосту. Разумеется, что всё это случилось в минуту.
Коляска остановилась в дальней линии Васильевского острова за Средним проспектом; сани тоже. Дама вошла в ворота каменного дома и начала взбираться по лестнице; мужчина тоже. Дама вошла в комнату, мужчина за ней.
— Боже мой! Вы здесь? И осмелились! — сказала дама, когда увидела молодого человека, неотступно следовавшего за нею.
— Да, здесь, у ног ваших, прекрасная Александрина! — отвечал он, рассматривая незнакомку.
— Ради бога, удалитесь, оставьте меня! Всё между нами кончено!
— Почему так? Я, право, не вижу никакой причины… Я благословляю судьбу, которая привела меня еще раз в жизни видеть вас… Не поверите, сколько я страдал… Но вы сердитесь… Да, черт возьми! В самом деле, я такой повеса: женился, не сказав вам ни слова!
— Ах, замолчите! Не растравляйте ран моего сердца, которые только еще начали заживать…
— В самом деле? так вы всё еще меня помните… Полтора года! Славно, черт возьми!
— Ах, не шутите, не играйте чувствами. Я поняла теперь, как вам должна была казаться смешна слепая, беспредельная любовь неопытной девушки, простой, малообразованной, которой свет едва позволяет чувствовать, иметь свои желания, свои страсти…
— Вы жестоки сами к себе… Почему же…
— Да, хотя поздно, но я поняла всё. Я доверилась сердцу — и за то жестоко наказана…
— Вы напрасно, милая Александрина, предаетесь отчаянию… Для вас не всё еще потеряно.
— Нет, всё, всё потеряно! — сказала она со вздохом глубокого горя. — Ах, что я сделала!.. Но могло ли быть иначе? Помните ли вы положение, в котором вы нашли меня, когда в первый раз со мною встретились? Что я была такое? Что такое вся жизнь моя, как не цепь страданий? Теперь, когда уже всё между нами кончено, выслушайте меня, Орест Андреевич, и судите, достойна ли я того, как вы поступили со мной.
— Говорите, говорите, — отвечал франт, играя перчатками, — я готов слушать вас целую вечность! Она начала:
— Я была бедная девушка, дочь честного управителя, воспитанная выше своего состояния прежнею владетельницею моего отца. Матери я никогда не знала; графиня заменяла мне мать. Не знаю, за что она полюбила меня, но привязанность ее ко мне была искренняя. Она была так добра, что даже позволяла мне часто по целым дням проводить вместе с ее дочерью, брать вместе с нею уроки. Почти каждый день она ласкала, чем-нибудь дарила меня, принимала как родную в свой дом. Там научилась я жить, чувствовать, мыслить так, как, может быть, никогда бы не умела, оставаясь в простом, даже, можно сказать, грубом, сообществе людей, к званию которых принадлежала я. Скоро всё изменилось. Графиня, моя благодетельница, уехала с мужем за границу, наградив отца моего отпускною. Судьба моя переменилась. После довольной, изящной жизни, к которой я уже начала привыкать, я вдруг увидела себя на единственных попечениях отца, в кругу мне уже совершенно чуждом. Не знаю почему, но и обращение отца но отъезде графини сделалось со мною гораздо грубее. Скоро положение мое стало и еще хуже. Отец мой, которого первая жена, как мне сказывали, умерла вскоре после моего рождения, женился во второй раз. Тогда, скрепя сердце, собрав все силы души, заглушив на время все мечты, все порывы воображения и чувства, стала я невольницей самой себя: без ропота, без малейшего признака принуждения, исправляла я должность служанки у моей мачехи, женщины необразованной и к тому же злой и капризной. Я перемогла себя, покорилась судьбе, но каково мне было! А между тем я росла, во мне образовывалось сердце, которое начинало уже просить воли, любви, дружбы, радостей жизни. В то время, когда уже я была в самом разгаре жизни, молода, пылка, неопытна…
— И прибавьте — прекрасна, как ангел, — перебил франт, страстно взглянув на Александрину…
— В то время, — продолжала она, — умер мой отец. За несколько минут до смерти он призвал меня к себе и хотел открыть мне какую-то тайну… но силы изменили старику… страдания перемогли силу воли… Язык его онемел, вскоре онемело и тело: тайну свою он унес с собою в могилу. Не стану рассказывать вам, как много терпела я от злой мачехи, которая становилась несноснее по мере того, как исчезал небольшой капитал, оставленный покойником. Бедность не замедлила явиться к нам со всеми своими ужасами. И когда!.. В то время, когда уже терпение мое начало истощаться, самоотвержение слабеть, сердце громче и громче жаловаться на скуку и бесцветную однообразность жизни, полной трудов и лишений, которая по-прежнему оставалась для меня ненавистною, потому что когда-то я знала уже жизнь лучшую, независимую! Вдобавок ко всем огорчениям присоединилась новая беда, которая тогда казалась для меня всего ужаснее. Человек грубый, необразованный, буйный, которого я не любила, которого не могла любить, предложил мне свою руку. Мачеха моя неотступно требовала моего согласия. Ей это извинительно: она видела тут единственный способ спастись от угрожающей нищеты, но мне… Так долго терпеть, страдать, мучиться, в надежде, что когда-нибудь луч радости осветит хоть на минуту и мою бедную жизнь, что когда-нибудь и я узнаю счастие… и вдруг… отдаться навсегда человеку, к которому не привязывало меня никакое чувство, который был даже противен мне, потому что понятия его были далеко не сходны с моими, далеко отстали от моих; обречь себя на бесцветную, скучную жизнь без любви, без счастья, без радостей; отказаться от всех надежд, всех обольстительных замыслов, которые так долго я лелеяла в душе моей, которые одни только поддерживали во мне мужество в темные дни горя… о, ужасно, ужасно! Не знаю, может быть, я ошибалась, но мне казалось тогда, что лучше быть заживо погребенной в могиле! Посещения жениха становились чаще и чаще. Требования мачехи настойчивее. Она то просила, то угрожала. Ежеминутно возрастающая бедность говорила красноречивее всего в пользу ненавистного брака. Но я не послушалась просьб и угроз мачехи, не послушалась угроз бедности — я послушалась собственного моего сердца! Отказ мой взбесил жениха, ожесточил против меня мачеху. Она стала гнать меня из дому. Положение мое было ужасно. И вдруг явились вы… повторяю: помните ли вы тот день, когда в первый раз меня увидели…
Он молча взял ее руку и, казалось, хотел поцеловать, но она отняла ее и продолжала:
— Душа моя изнемогала тогда в невыносимых муках, я была на шаг от отчаяния… Вдруг я узнала вас… Вы были молоды, богаты, знатны, я бедна и безвестна, — и вы обратили на меня внимание! Этого было довольно, чтоб привязать навсегда сердце несчастной девушки, всеми покинутой, заставить его биться чувствами уважения, благодарности… любви…
Александрина отерла слезы, навернувшиеся на ее ресницах. Молодой человек, казалось, тоже был тронут.
«Как она прекрасна теперь!» — думал он, смотрясь в ее прекрасные заплаканные глаза.
Она продолжала:
— Вы первый заговорили языком, понятным моему сердцу, вы сказали, что меня… любите… Буду говорить прямо, — зачем скрывать горькую истину, — вы меня обманывали, но, скажите, могла ли я не верить вам… могла ли устоять против обольщений любви, довольства, богатства, могла ли я устоять против моего собственного сердца? Нет, оно было слишком измучено горем, слишком жадно к радости, чтоб думать о чем-нибудь, кроме настоящей минуты. И вот я предалась вам… Скажите, виновата ли я, могла ли я поступить иначе и… не достойна ли я сожаления?..
Александрина горько заплакала. Молодой человек молча пожал ее руку.
— Оставьте же меня, — продолжала она после некоторого молчания, — оставьте на произвол собственной судьбы моей; оставьте меня с твердостью переносить участь, которую я сама себе приготовила, да, я одна. Я не виню вас: так поступил бы всякий на вашем месте. Перед вами широкий путь; жизнь вам улыбается, наслаждайтесь же ею, ловите ее радости, а я — я буду благословлять судьбу, если она позволит мне дожить тихо и безвестно остаток жизни, проливая слезы раскаяния и сожаления о прошлых заблуждениях…
Между тем молодой человек был как на угольях. Александрина, которой он не видал и о которой не думал ровно полтора года, показалась ему гораздо привлекательнее прежнего. Лицо се, разгоревшееся от долгого рассказа, дышало какой-то необыкновенной прелестью, глаза горели. Всё это, не исключая и рассказа Александрины, привело молодого человека только к тому, что он по старой памяти начал разыгрывать перед бедною Александрою Ивановною роль пламенного обожателя. Есть в свете люди — и их довольно много, — на которых не действуют никакие слова, никакие страдания ближних, хотя бы они сами были их причиною, которых эгоизм до того силен, что они почитают весь свет созданным только для них. К таким людям принадлежал Орест Андреевич Сабельский. Если добавить к тому, что Орест Андреевич был человек довольно пустой и ветреный, не способный ни к каким глубоким ощущениям, что он был до крайности избалован счастием, то об Оресте Андреевиче сказать будет больше решительно нечего.
— Простите меня, простите! я во всем один виноват, — начал он голосом нежным и вкрадчивым, — но вы бы не судили меня так строго, если бы знали обстоятельства, которые заставили меня изменить собственным чувствам. Вы напрасно думаете, что я обманывал вас, когда клялся любить вас вечно… Изменить клятве было не в моей власти, потому что я любил вас истинно; люблю и теперь еще, — может быть, более, чем когда-нибудь…
— Ах, забудем прошедшее! Поздно утешать меня, поздно оправдываться… Между нами ничего не может быть, кроме дружбы…
— Дружбы, дружбы!.. Пламень пожирает мое сердце… я так счастлив, что наконец после долгих исканий нашел ту, мысль о которой ни на минуту не покидала моего сердца…
И он ударился в чувствительную болтовню, в промежутках которой покрывал ее руки горячими поцелуями. Александрина уже не отнимала рук от губ Ореста. Она была женщина. Орест был ее первою любовью. Она чувствовала, что и теперь еще любовь к нему не совсем погасла в ее сердце. Притом Орест был большой мастер на сантиментальные фразы, которые женщины не совсем еще отвыкли принимать за чистую монету, несмотря на их явную пошлость и устарелость. Однако ж Александрина скоро опомнилась. Ей стыдно стало слабости собственного сердца.
— Оставьте меня, оставьте! Я еще так мало умею владеть собою; но я не должна слушать вас, не должна верить вам, — сказала она, приподнимаясь с дивана и стараясь оторвать свою руку от губ Ореста.
Не успела она привесть в исполнение этого последнего намерения, как вдруг дверь растворилась и в комнату вошел мужчина среднего роста, довольно дородный и неуклюжий. Лицо его было рябо и некрасиво; около серых небольших глаз его почти не было век; нос, довольно большой, громко обвинял своего хозяина в близких сношениях с табаком. Одет он был в темно-зеленый поношенный сюртук, застегнутый доверху, и в панталоны такого же цвета, без штрипок; на ногах его были смазные немецкие сапоги, потускневшие от ненастной весенней погоды. Кроме того, надо прибавить, что он ежеминутно моргал бровями без всякой пощады. Картина, представившаяся его глазам, казалось, так поразила его, что он долго оставался неподвижным на одном месте, безмолвно устремив вопросительный взгляд на смущенное, испуганное лицо Александрины.
— Ах, это вы, Карл Федорович! — сказала наконец Александрина, стараясь преодолеть свое замешательство. — Я вас сегодня не ожидала…
— Да, видно, что вы меня сегодня не ожидали! — отвечал Карл Федорович, как говорили в старину и как теперь выражаются люди, придерживающиеся старины, «с иронией», ломаным русским языком, искоса поглядывая на Сабельского.
Разговор опять прекратился. Александра Ивановна еще больше смутилась. Карл Федорович не переставал рассматривать Ореста. Орест был в положении человека, не знающего, что вокруг его происходит.
— Мне еще надо поспеть к девяти часам к князю Л***, а потом я дал слово быть в десять часов на вечере у камергера Флотова, — наконец сказал он, взял шляпу, рассеянно кивнул головою Александрине, сделал гримасу Карлу Федоровичу и вышел, ловко помахивая палкой из королевского дерева с костяным набалдашником, изображающим голову китайского мандарина пятой степени.
В комнате снова воцарилось молчание. Александрина, казалось, страшилась поднять глаза на Карла Федоровича. Он то переминал табак в табакерке, то чесал за ухом, не забывая беспрестанно моргать глазами…
— Саперлот! — наконец проворчал он и понюхал табаку; потом опять проворчал: — Саперлот, — опять понюхал табаку и… чихнул.
В комнате снова стало так тихо, что можно было услышать жужжание мухи.
— А я уж было приготовил новую карету вместо старой коляски, которую вам дал покуда на подержание… Я нарочно торопил моих мастеровых, чтоб поскорей можно было праздновать свадьбу… Что я вам сделал, Александра Ивановна?.. За что вы меня так обидели? — произнес с расстановкою, после долгого молчания, Карл Федорович голосом, полным чувства и внутреннего волнения.
— Выслушайте меня, — сказала Александра Ивановна…
— Нечего выслушивать… Я не дурак, сударыня. Прощайте, бог с вами!.. Пойду я опять заниматься своим каретным мастерством: авось забуду вас…
— Ради бога…
Дверь снова отворилась.
— Что это? Никак Орест Андреевич у нас был опять. Я напилась чайку у Авдотьи Макаровны да иду домой; только я на лестницу, а он и пырь мне навстречу, да такой что-то печальной… Словно несолоно хлебал… Что ты ему молвила, Александрушка… Экой бессовестный — не постыдился на глаза-то явиться… — проговорила новопришедшая старуха в очках, снимая с себя верхнюю одежду. — Ба! Карл Федорович! Вы здесь, — продолжала она, увидев Карла Федоровича, — просим милости… Что же вы так невесело смотрите?.. Что, уж вы не поссорились ли с невестой-то?.. Поцелуйтесь же, приголубьте друг друга.
— Покорно вас благодарю, Анна Тарасьевна! — сказал Карл Федорович, держа под. носом щепотку табаку, как надо полагать в нерешимости, которой ноздрей прежде понюхать…
— Да что вы, словно как будто что-то у вас неладно?..
— Спросите у вашей дочери.
Анна Тарасьевна взглянула на Александру Ивановну.
— Мать моя, что за оказия! Что случилось, прости господи?
Александра Ивановна закрыла лицо платком и ничего не отвечала.
Анна Тарасьевна взглянула на Карла Федоровича. Он по-прежнему в нерешительности держал щепотку табаку под носом, но теперь уже на лице его можно было прочесть, что нерешительность более относилась к настоящему делу, чем к окончанию важного вопроса о табачной понюшке.
— Да скажите хоть вы, батюшка Карл Федорович, что случилось? Или вы со мной комедию играете? Грех шутить над старостью, прости господи!
— Я ничего не могу вам сказать… Прощайте.
— Да останьтесь, батюшка, помилуйте…
— Прощайте… Вы уж меня больше не увидите… Прощайте, Александра Ивановна… Я уж больше не приду…
— Что! — воскликнула Анна Тарасьевна в недоумении.
— Куда нам, когда… ну да мой больше ничего сказать не станет… Прощайте…
Он ушел.
Несколько секунд Анна Тарасьевна пребыла безмолвною, неподвижною. Она была углублена в крепкую думу, терялась в каких-то догадках и предположениях… Наконец разум ее просветлел; она сделала быстрое движение к Александре Ивановне.
— Так, так, — начала она грозным голосом, — опять накутила, сударушка! уж я предчувствовала! Детище балованное! что мне с тобой делать-то! Аль норовишь ты меня, старуху горемычную, в гроб уложить? Или тебе самой туда хочется?..
— Да, да! — сказала бедная жертва рыдая…
— Погоди, дождешься скоро. Теперь уж нечего продавать; не на что надеяться… уж теперь, не сегодня завтра, придется нам умирать с голоду… вот убей бог, придется! Нашелся добрый человек, хотел было выпутать из беды… Богатый человек, свой завод каретный имеет… Я было и думала — слава тебе господи, житье наше горемычное переменится… Он было уж и о свадьбе замышлял… нечего сказать, добрая душа! Уж чего он для нас не делал. Он и долги-то заплатил, и одежи-то тебе нашил, и коляску-то прислал… вишь, нежна больно… привыкла кататься как сыр в масле… пешком ходить не можешь… Уж чего бы, кажется, лучше! Так нет! опять сорванец тут как тут! Говори, озорница, где ты его нашла… как ты с ним съякшалась опять… Как ты перед женихом-то осрамилася…
Александра Ивановна ничего не отвечала: она знала, что оправдываться перед Анной Тарасьевной значило бы терять по-пустому слова.
— Молчишь, озорница, — продолжала старуха, — видно, сказать-то нечего…
И пошла, и пошла Анна Тарасьевна мучить свою бедную падчерицу. И долго злилась она, и долго змеиный язык ее не уставал в изобретении обид всякого рода. И больно было слушать слова ее Александре Ивановне, и страшно рвалось сердце ее, да нечего было делать — слушала… И горько было ей терпеть унижение от ехидной старухи, да нечего делать — терпела… Есть минуты в жизни, в которые человеку больше ничего не остается, как или броситься в реку с камнем на шее, или позволить делать с собой, что кто захочет. Единственное утешение человеку тогда — слезы!
III Дрожки
— Извозчик!
— Куда прикажете?
— На Английскую набережную.
— Рубль двадцать.
— Пятиалтынный.
— Ни копейки меньше.
— Двугривенный.
— За четвертак, коли угодно, садитесь.
— Двугривенный.
— Нельзя-с.
— Ну так не надо.
Дама, торговавшаяся с извозчиком, отвернулась и пошла по тротуару с твердым, по-видимому, намерением не заплатить больше двугривенного. Извозчик издали следовал за нею, с полной надеждою получить четвертак. Надежда его имела основанием, между прочим, то, что шаги дамы были тихи и неровны и явно обличали чрезмерную усталость или болезненное состояние идущей. По всему заметно было, что она, как выразился извозчик, «недалеко уйдет», то есть принуждена будет согласиться на его требование. Притом одежда ее, хотя поношенная и простая, была еще не до такой степени бедна, чтоб заставляла предполагать в ее владетельнице отсутствие пятачка серебром.
Однако ж дама не останавливалась, даже не оглядывалась. «Не потерять бы седока», — подумал про себя извозчик, прикрикнул на лошадь и пустился догонять даму.
— Право, недорого, сударыня, — закричал он, поравнявшись с нею, — дешевле никто не поедет. У меня дрожки славные: ловко сидеть; и лошадь такая ухарская — мигом докатим!
— Двугривенный, — повторила дама и опять пошла вперед, не оглядываясь.
Извозчик опять отстал.
— Нет, видно, тут взятки-то гладки… Пожалуй, и так, ни за копейку уйдет, — сказал сам себе извозчик и снова прикрикнул на свою клячу.
— Что ж, сударыня, угодно прокатиться?
— Я уж сказала — двугривенный. Извозчик помялся, почесал за ухом и сказал:
— Ну, нечего делать, садитесь… барыня-то добрая… может, на водку прибавите…
Дама почти в совершенном изнеможении опустилась на дрожки. Извозчик прикрикнул; дрожки, которые, не в укор будь сказано их сметливому хозяину, не совсем-то напоминали форму обыкновенных дрожек, поехали мерного шагообразною рысью по тряской мостовой, которая, к прискорбию порядочных людей, как известно, до того самолюбива, что всякому проезжему немилосердно жужжит в уши об услугах, которые ему оказывает.
После получасовой езды дрожки наконец остановились у подъезда уже знакомого нам дома на Английской набережной.
— Назад скоро поедете, сударыня? — спросил извозчик, сдавая, с стесненным сердцем, сдачу с полтинника,
— Скоро, — сказала дама и вошла в швейцарскую.
— Ради бога, — сказала она швейцару, — нельзя ли доложить обо мне барину так, чтобы никто, кроме его, не знал… Мне нужно его видеть на одну минуту…
Швейцар заспанными, красными глазами навыкате, которые, казалось, готовы были лопнуть от недавнего неумеренного употребления крепких напитков, смерил новопришедшую, приложил указательный палец ко лбу, как бы что-то вспоминая, и наконец сказал:
— Лопни мои глаза, я вас где-то видел, сударыня!
— Не об том дело; скажи, можешь ли ты сделать для меня услугу, о которой я тебя прошу.
— А что вы говорили? Я, кажется, ничего не слыхал, отсохни правая рука — ничего. Позвольте, кажется, четыре года назад…
Незнакомка повторила просьбу.
— Вот уж хоть сейчас провались я сквозь землю, — нельзя… Ах, батюшки! Ну так и есть — я вас узнал! Та-та-та! Вот что!
— Пожалуйста; я буду тебя благодарить, — сказала дама с усилием, робко озираясь кругом.
— Да говорю же я — нельзя, а уж коли я говорю нельзя, так, значит, нельзя…
— Ну так передай ему вот хоть это письмо поскорее… Ради бога! — Дама с умоляющим видом подала швейцару письмо. Она была в чрезвычайном волнении, беспрестанно робко озиралась во все стороны, как будто боялась чего, как будто ей стыдно было положения, в котором она находилась.
— Письмо? — сказал швейцар. — Провались я сквозь землю — ничего не понимаю…
— Кажется, нет ничего непонятного… Отдать…
— Отдать, да как я его отдам?.. Ведь барина-то нет в Петербурге… отсохни рука по локоть — нет… Он, видите, как говорят господа, давно уж вышел из границ: в Италию укатил!
Известие это, казалось, не слишком сильно поразило незнакомку. Напротив, при внимательном взгляде на нее, в первую минуту можно было еще прочесть на лице ее след какой-то нечаянной радости…
Она вышла из швейцарской.
В то время из ворот дома к подъезду его подлетела карста, лакей сошел с занятой и скрылся в швейцарской. Извозчик, который, втайне радуясь припрыснувшему дождичку, с нетерпением ждал возвращения незнакомки, при приближении кареты отъехал несколько в сторону…
— Что ж, прикажете подавать, барыня? — весело спросил он, увидя незнакомку…
— На Петербургскую сторону.
— В которую улицу?
— К Карповке.
— Два двугривенных.
— Четвертак.
— Нельзя-с; теперь грязно ходить; дождь-то порядочный… Седоков много будет… Платье испортить никому не охота.
— Четвертак.
И опять началась сцена, подобная давешней, которую православные русские извозчики имеют привычку разыгрывать почти со всяким седоком своим, не имеющим охоты бросать им лишние деньги.
Ряда на нынешний раз состоялась за три гривенника. Дрожки тронулись. В то же время из дома, в котором была незнакомка, вышли мужчина и дама и сели в карету. Карета быстро промчалась мимо дрожек. Грязь от колес ее брызнула на платье и на лицо незнакомки. Односложное восклицание страха и удивления вылетело из уст ее…
— Он здесь! Он не велел принимать меня… Но всё равно, по крайней мере, я избегла унижения! — проговорила она через несколько мгновений, следя глазами за удаляющейся каретой…
В Петербурге, в числе многих прекрасных обыкновений, есть обыкновение строить домы с подвалами, то есть оно, если хотите, не совсем с подвалами, а, как бы вам сказать, с нижними жильями, которые до половины находятся в земле, а другою половиною смотрят на свет божий чрез небольшие окна, опирающиеся с улицы на мостовую. В них, как надобно полагать, жить чрезвычайно приятно. Во-первых, одно удовольствие нанимать квартиру
Ни на земле, ни под землею —
и притом за довольно дешевую цену в отношении к ценности других квартир — должно возвышать человека до самого верхнего этажа дома, в подвале которого жить имеет он счастие. Во-вторых, его должно услаждать то, что он уже никогда не будет страдать чахоткою, если не получит ее во время обитания в вышеупомянутом жилище «ни на земле, ни под землею». В-третьих… но всех причин не перечтешь и до завтра… Чем предполагать, войдем лучше в один из таких подвалов и поверим предположения. Вот мы и вошли. Комната довольно чиста и опрятна; пол вымыт, выметен, мебель… Но где же тут мебель? Два плетеные стула, один кожаный; диван турецкий, зачиненный в разных местах русской выбойкой; столик маленький некрашеный, с отверстием в боку, напоминающим, что в нем был некогда ящик. Другой стол побольше в углу; на столе глиняная кружка, кувшин, несколько тарелок, три деревянные ложки и одна… позвольте… точно серебряная… что за роскошь? серебряная ложка! Налево от двери русская печка, которая, как можно заметить, несколько дней уже не топлена. На припечье сковорода, в углу дружно с кочергою ухват; в печурке сереньки, кремень и огниво. Направо от двери вешалка с женской одеждой; ее немного: три ситцевых платья, драдедамовый выношенный салоп и… позвольте… точно… бархатный черный капот, почти новый и прекрасно сделанный… опять роскошь!.. Но вот, кажется, и всё… нет… позвольте, мы забыли сказать главное. В дополнение ко всему, что мы описали, на диване сидела, сгорбившись, старушка с чулком в руке, который она старательно вязала, пристально глядя на свою работу в большие очки в медной оправе, которые были вздернуты на ее достаточно дородный нос.
В то самое время, когда она подбирала спустившиеся петли, дверь отворилась и в комнату вошла известная уже нам женщина.
— Ну что? — сказала старуха.
Новопришедшая печально покачала головой.
— Как, ничего? Ах, безбожная душа!
— Я его не видала.
— Александра Ивановна, мать моя, — побойся бога. Ты меня, бедную старуху, с голоду, что ли, уморить хочешь?
— Я сделала всё, что могла; я решалась на унижение…
— И, матушка, что тут за унижение!
— Я решалась просить милостыни у человека, которого презираю, ненавижу…
— Ну, что ж дальше?
— Но бог сам не захотел допустить меня до этого унижения. Он меня не принял и, верно, никогда не примет, потому что велел сказывать, как я догадываюсь, нарочно для меня, что он уехал из Петербурга.
— Ах, окаянной! Да ты-то чего смотрела… — И старуха опять с ожесточением напустилась на Александру Ивановну, которую вы, верно, давно уже узнали.
— Послушайте, Анна Тарасьевна, — сказала несчастная жертва решительно, — я долго терпела, теперь не могу терпеть больше. Вы несправедливы, мало того, вы жестоки ко мне. Вы делали меня одну виновницей наших горестей, нашей бедности — я молчала; вы беспрестанно преследовали меня упреками и бранью — я терпела. Вы заставляли меня делать больше, чем я могла, — я не противоречила. Я сносила всё, потому что была действительно виновата, хотя не столько, сколько вы меня обвиняли, но все-таки много, очень много. Я даже радовалась, когда вы терзали мое сердце; для меня тут была сладкая, невыразимая отрада: я чувствовала, что еще в земной жизни начинаю искупать заблуждения неопытной молодости… Но всему есть конец; в сердце человека есть такие струны, которые, когда их неосторожно затронут, нелегко смиряются при всех усилиях воли и разума. Несмотря на ваше дурное обращение со мною, на вашу беспрестанную суровость ко мне, я старалась сколько могла о вашем спокойствии, более своего собственного. Я уже сказала и повторю не без гордости, что, когда я увидела вас плачущую, отчаивающуюся, с трепетом с часу на час ожидающую неумолимой нищеты, — я решилась на величайшее унижение, какое только для меня возможно в жизни, я решилась принести для вас жертву, более которой я не могла принести ни для кого… Последнее, что оставалось мне в утешение, — моя благородная гордость, право вечно и самостоятельно презирать низкого виновника моих страданий, — я и тем решилась для вас пожертвовать… Я решилась преклонить перед ним колена, просить его помощи, просить у него куска хлеба, умолять его… тогда как целый ад в душе моей кипит против этого человека, когда при всех усилиях я не могу даже думать об нем без презрения; тогда как я знаю, что благодеяние его обожжет мою руку, лишит последнего спокойствия мое бедное, убитое сердце… И я решилась на всё это для вас… Не знаю, откуда взялась у меня решимость, но знаю, что если б теперь мне пришлось сделать это — я бы не могла… О, боже мой! Не мучьте же меня, не язвите упреками, иначе я буду думать, что смирение мое неприятно богу!
Александра Ивановна подняла голову на старуху. На желтом, морщинистом лице ее заметно было борение разнородных чувств. Кроткие, убедительные слова страдалицы наконец заметно тронули черствую душу Анны Тарасьевны… В глазах ее заблистали слезы…
— Так, так, дитя ты мое! Прости меня, если я виновата. Но ведь что же делать? Как подумаю, что мне, старухе, не сегодня завтра придется взять суму да идти по миру, так на сердце и заскребет. Уж тут, рада не рада, слово лишнее вымолвишь… А как пораздумаешь да поразгадаешь — так во всем виноват он, злодей наш, чтоб ему ни дна ни покрышки. Вот хоть бы из-за чего вы разошлись с Карлом Федоровичем? Он хоть немец, а человек доброй, любил тебя и ты его…
— Ах нет, я уже не могу любить. Только для вас, для вашего спокойствия я решалась пожертвовать ему жизнью, но… видно, так уж судьбе угодно; может быть, и к лучшему…
— Так, дитя мое, верю. Да что мы будем делать-то… Вон хоть бы сегодня: и есть-то нечего, и истопить-то нечем, и хозяин-то за квартиру требует… говорил, что если сегодня же не отдадим, так из дому выгонит… От него станется… жид, прости господи! Вся надежда была… ну да что поминать… Послушай ты, дитятко мое, утешь ты меня, старуху слабую, сходи к графине-то…
— Нет, нет!
— Она такая добрая. Ономнясь меня встретила, так обрадовалась; уж я не ждала не гадала такого счастия — чуть не обняла меня середи улицы! «Я, говорит, вас искала с самого приезда в Питер… вот уж четвертый год… ни слуху ни духу… Что, здорова ли Александра Ивановна?» А я ей: «Здорова, матушка графиня, много благодарна, что вспомнили!» — «Где вы живете?» Я сказала ей, что здесь, так чуть не заплакала… «Шутка ли, говорит, в такую глушь забрались… видно, вы бедны… Приходите ко мне завтра же, приходите… да непременно…» Право, такая добрейшая! Отчего тебе не сходить-то к ней? Она тебя так любит… Сходи, утешь ты меня!.
— Нет, не просите меня… всё будет напрасно. Графиня — женщина, которой я всем обязана, которая заботилась обо мне как мать, которую я любила всем сердцем, которая так меня любила… О, посмею ли явиться к ней, посмею ли я, создание ее благотворительности, предстать пред нее убитая, униженная, покрытая стыдом… Как мне будет поднять на нее глаза, как принимать ее ласки, когда я знаю, что недостойна их… Нет, пусть она никогда не знает ужасной судьбы моей, пусть она думает, что я счастлива…
— Но, дитя ты мое, как же мы будем жить?
— Я соглашусь лучше ходить по миру, чем огорчать мою благодетельницу своим присутствием. И к тому же, когда она увидит, что попечения ее были обращены на недостойную, что старания ее пропали даром, — может ли она почувствовать ко мне что-нибудь, кроме презрения?.. Простит ли она меня когда-нибудь?..
— И, полно! почем она будет знать…
— Как, вы хотите, чтоб я ее обманывала… ее, мою благодетельницу, мою вторую мать! Вы думаете, что я способна заплатить ей такою низостью за все ее благодеяния… О нет, никогда, никогда!
Стук приближающегося экипажа раздался под окнами; Анна Тарасьевна с любопытством просунула голову в форточку.
Появление модного столичного франта в уездном городе, появление беспристрастного суждения в пристрастном журнале, появление должника к кредитору, появление кометы, предсказанной астрономами в небе, появление хорошей книги в русской литературе, наконец, появление богатой, великолепной кареты в отдаленном углу Петербургской стороны, — как всякому известно и ведомо, вещи чрезвычайно редкие, необыкновенные. Каково же должно быть удивление Анны Тарасьевны, которая вдруг увидела из окон своей бедной комнаты карету, красивую, новомодную, запряженную четверкою лихих лошадей. Но удивление ее возросло еще более, когда она увидела, что карета остановилась у ворот дома, в котором они живут…
— Карета, карета! — закричала Анна Тарасьевна. — Посмотри, Александра Ивановна, кажется, это карета?
Александра Ивановна по примеру старухи просунула голову в форточку.
— Точно карета. А вот из нее кто-то выходит… барыня, вся в черном.
— Уж не к тем ли, что живут во втором этаже?
— Не знаю, к ним, кажется, никто прежде не ездил даже в дрожках.
— Так к Воробиным?
— Они купцы, а это карета барская, с гербами.
— Ну так к этому толстому чиновнику с крестом, что один занимает восемь комнат?
— Что вы! Ведь он позавчера выехал…
— Ну так к кому же?
Ответ явился сам собою, самый неожиданный. Женщина, по-видимому лет шестидесяти, одетая в черное бархатное платье, слабыми, дрожащими стопами вошла в убогое Жилище наших знакомок. Лицо ее могло служить самой верной моделью глубочайшей старости. Желтое, морщинистое, безжизненное, но подернутое глубокою думою, оно представляло живую развалину, много говорящую сердцу о прошедшем и еще больше наводящую на идею о грядущем.
— Графиня, ваше сиятельство! — закричала старуха, почти обезумевшая от нечаянного, никогда неожиданного посещения именитой гостьи. — Помилуйте! что изволите приказать?
— Не беспокойся, моя милая, — отвечала графиня, блуждая глазами по комнате.
— Боже мой! кого я вижу! — вскричала Александра Ивановна, которая долго смотрела на графиню в какой-то нерешимости, долго вслушивалась в разговор графини с ее мачехой, как бы не доверяя своему слуху.
— Александрина! О, наконец я нашла тебя! Благодарение всевышнему! Что же ты неподвижна? Разве ты не узнала меня, разве ты уже не любишь меня?
И графиня простирала объятия к прежней своей питомице. Александра Ивановна не трогалась с места. Страшная борьба происходила в душе ее.
— Что же… подойди же к ее сиятельству, — шепнула ей Анна Тарасьевна.
— О, скорей, скорей в мои объятия, — продолжала графиня.
— Я не смею, я не должна… — начала Александра Ивановна.
— Простите ее, матушка, ваше сиятельство, — быстро перебила Анна Тарасьевна, — она так обрадовалась… Ну, полно, опомнись, — продолжала она, обращаясь к Александре Ивановне, — поздоровайся же с ее сиятельством.
Александра Ивановна медлила. Старуха почти силой толкнула ее в объятия графини.
О, как судорожно, как болезненно билось сердце бедной Александры Ивановны, когда она обнималась с графинею!
— Я так давно не видала тебя; но не думай, чтоб я не по-прежнему любила тебя. Бедное, бедное дитя, сколько ты, я думаю, претерпела в эти восемь лет, между тем как…
Графиня отерла слезу.
— Обстоятельства не позволили мне тобою заняться. Совсем неожиданно я должна была удалиться из Петербурга, и ты осталась одна, без друга, без руководителя… сколько ты должна была претерпеть…
— Да, я много плакала, когда вы уехали; мне казалось, я лишилась матери…
— Матери? — повторила графиня с каким-то особенным чувством в голосе. — Тебе казалось, что ты лишилась матери?
— Да.
— А теперь, в эту минуту, что чувствуешь ты?..
— Мне кажется, что я опять нашла ее.
Графиня хотела что-то сказать, но вдруг остановилась и только молча обняла Александру Ивановну.
— О, как я счастлива! — продолжала графиня после некоторого молчания. — Но ты, ты, дочь моя, так же ли любишь меня?..
— О, как же, ваше сиятельство; только у нас и речи было что об вас… уж так вас любит, — перебила старуха.
— Первым желанием моим по возвращении в Петербург, — продолжала графиня, — было увидеться с тобой, моя шалунья… О, ты была большая шалунья в детстве!.. Я употребляла все средства, чтоб найти вас, но старания мои были напрасны. Наконец бог сжалился надо мною… При выходе из церкви я встретила твою мачеху… Но почему же ты, друг мой, не пришла ко мне тогда же?.. я ждала. Или она тебе не говорила…
— Графиня, я не смела… — начала Александра Ивановна…
— Виновата, матушка, ваше сиятельство… совсем запамятовала… ох, старость не радость! Только сегодня вспомнила… — перебила старуха, делая глазами знаки Александре Ивановне.
— Жаль, я ждала, ждала; наконец сердце мое не утерпело…
— Как вы добры, графиня!
— Но вот мы, слава богу, вместе. Расскажи-ка мне, друг мой, как вы жили здесь…
— Ах, графиня, — начала Александра Ивановна с глубоким вздохом.
Но Анна Тарасьевна опять перебила ее, сделав тот же выразительный знак глазами…
— Уж как жили, — заговорила она скороговоркою, не давая времени падчерице, которая в сильном беспокойстве снова было пробовала начать речь, — пока жив был мой покойник, ну ни то ни се, и деньжонки водились… а как умер, разумеется, беда наша пришла: с утра до ночи за работой, тем только и хлеб добывали, матушка…
— Жалко, но что делать, честная бедность все-таки лучше богатого бесчестья, — сказала графиня.
Александра Ивановна хотела что-то сказать.
— Молчи! — шепнула ей Анна Тарасьевна, делая опять прежнюю гримасу глазами. — Уж так ли бились, только на бога и надеялись, — продолжала старуха, обращаясь к графине, — да на вашу честь…
— Бедная Александрита! Ты много терпела, но наконец ты будешь награждена… Муж мой умер, детей у меня нет, родственников близких тоже; я уже сама стою одной ногой в гробу… ты не будешь жаловаться… я должна позаботиться о судьбе твоей…
Анна Тарасьевна с жадностию вслушивалась в слова графини. Александра Ивановна была в страшном беспокойстве. Несколько раз она хотела говорить, но то повелительный взгляд мачехи удерживал ее, то голос невольно замирал на ее устах от внутреннего волнения.
— Покуда я жива, — продолжала графиня, обращаясь к Александре Ивановне, — ты будешь жить в моем доме, вместе со мною…
— Графиня, — воскликнула Александра Ивановна решительно, — я…
— Наконец господь сжалился над нами! — перебила Анна Тарасьевна, стараясь заглушить голос падчерицы.
— А когда богу угодно будет, — продолжала графиня, — призвать меня на суд свой, что, вероятно, случится скоро, тогда я даю обещание оставить тебе, милая Александрина, всё мое имение…
— О, как вы добры, матушка графиня; вы просто праведница: наградит вас бог по заслугам…
— Вот, друг мой, что я давно хотела тебе сказать, зачем я тебя искала… Надеюсь, ты простишь мне, что восемь лет я принуждена была оставить тебя на произвол судьбы.
Александра Ивановна молчала. Страшная буря происходила в душе ее.
— Что ж ты не благодаришь ее сиятельство, чего ты испугалась? — шептала ей торжествующая Анна Тарасьевна.
Но Александра Ивановна совсем не об том думала. Долго в чертах ее заметна была нерешительность, смешанная с совершенным отчаянием; наконец она решилась; черты ее приняли величественную твердость: лицо просияло.
— Графиня, — воскликнула она, падая перед нею на колена, — выслушайте меня… Я недостойна вас, недостойна ваших милостей. Вы ужаснетесь, если я скажу вам, кого за несколько минут сжимали вы в своих объятиях…
— Что ты, с ума сошла! — прошептала ей старуха, но на сей раз старания ее удержать падчерицу были тщетны.
— Не мешайте мне; дайте мне произнести собственный приговор свой, — продолжала Александра Ивановна твердо и решительно. — Графиня, обратите свои милости на другую: я недостойна их. Вы теперь удивляетесь, вы готовы собственными слезами искупить мои, но погодите минуту — вы будете гнушаться мною; вы с негодованием оттолкнете ту, которую осыпали вашею благосклонностию… О, я знаю слово, страшное слово, которое оттолкнет вас от меня, сделает вас врагом моим из благодетельницы, вырвет с корнем малейший остаток привязанности ко мне… О, я хорошо знаю такое слово… и я назову его… это слово — позор, позор…
— Что с тобою, дочь моя? — воскликнула изумленная графиня.
— Да, графиня, позор — и он тяготит над моею головою… Не называйте меня вашею дочерью! Нет, я сама вижу, чья дочь я: во мне низкие чувства; я не предпочла, как вы говорите, честной бедности богатому бесчестью… Нет, я…
— Что я слышу? Дочь моя… позор… Боже мой! — с ужасом воскликнула графиня глухим, болезненным голосом. Лицо ее побелело, губы посинели; ее можно было принять за мертвую… Она сильно пошатнулась и без чувств упала на спинку дивана…
— Дочь моя! — воскликнула Александра Ивановна быстро, слабым, дрожащим голосом. — Графиня! каким голосом были сказаны эти слова? Я прежде часто их от вас слышала, но никогда они не производили на меня такого впечатления… Отвечайте мне, отвечайте!
Графиня была безмолвна и неподвижна.
— Господи! что с вами, матушка? — вскричала наконец Анна Тарасьевна, которая с отчаянья, с досады на откровенность падчерицы почти потеряла рассудок и слушала ее с каким-то тупым вниманием, решительно не принимая участия в ее словах. Наконец блуждающий взор ее упал нечаянно на графиню. — Господи! что с вами, матушка, — повторила она, подбегая к графине. — Лицо как воск, руки холодны. Мать пресвятая богородица! Да она мертва… или нет… дышит… Батюшки мои, батюшки! лекаря надо, лекаря.
И Анна Тарасьевна выбежала из комнаты.
Александра Ивановна, сильно взволнованная, увлеченная своим положением, ничего не замечала. Долго напрасно ждала она ответа на свой полу странный, полубезумный вопрос. Волнуемая различными безотчетными ощущениями, нетерпением, страхом, она наконец приближилась к графине, но не заметила ни признака жизни в ее лице. Графиня была по-прежнему неподвижна, безмолвна, бесчувственна, может быть, мертва.
Ум Александры Ивановны до того был взволнован, что она даже не могла составить основательной идеи о положении, в котором находилась бесчувственная графиня; но отчего-то ею вдруг овладела какая-то тоска, горькая, невыразимая. Она громко зарыдала.
Послышался стук экипажа, и чрез минуту вошла Анна Тарасьевна с доктором.
Доктор долго щупал пульс графини, прикладывал руку к ее сердцу, всматривался в ее лицо и наконец сказал с расстановкою:
— Удар; должно быть, что-нибудь сильно поразило ее… Временное бесчувствие, онемение, или, может быть… надобно немедленно перенести больную в сухую, теплую комнату… нужны немедленные пособия… нет ли спирту?
Все усилия доктора привести графиню в чувство остались бесполезны. Наконец, после долгих недоразумений, больную отнесли на руках в карету, которая тихим, осторожным шагом отправилась в ее дом, предоставив смиренным жителям и в особенности жительницам Петербургской стороны рассуждать о минутном явлении ее в их мирном крае, как кому заблагорассудится.
В то же время в дверь бедной квартирки нижнего этажа вошел человек, по-видимому из простого звания, в сером армяке, подпоясанный красным полинялым кушаком, и чрез минуту возвратился назад в какой-то несвойственной ему задумчивости…
— Уж как хотите, хозяин, — сказал он, увидя сходящего с лестницы второго этажа пожилого человека, одежда которого свидетельствовала, что он был купец, — ступайте сами, а я не могу больше требовать с них денег; не пойду к ним…
— А что? — спросил купец.
— Да молодая-то стоит на коленях перед образом и молится и горько плачет; так, сердечная, и заливается, больно глазам смотреть; а старая так сердито смотрит, словно помешанная… страшно, хозяин… да и как-то сердцу-то тошнехонько, глядя на них… язык не поворачивается сказать…
— А вот я сам схожу; у меня мигом очистят, — сказал купец. — Ты, видно, только и мастер двор мести…
Купец решительными шагами пошел в квартиру нижнего этажа, а сострадательный человек, который, по-видимому, занимал здесь должность дворника, взял метлу и принялся мести двор, оставаясь по-прежнему в несвойственной ему задумчивости.
IV Дроги
Весна, весна! В то время как тебя называют лучшим временем года, когда поэты сравнивают тебя с эдемом земным, в то время когда так много ждут от твоего целебного, благоухающего воздуха больные, — ты в Петербурге, по старой привычке, не перестаешь быть сырою, грязною, вредною и совершенно лишенною жизни… Понятно, за что тебя славят жители стран полуденных: ты хороша, ты полезна, благотворна — там, далеко, под чистым южным небом; ты тоже хороша, полезна для поэтов, потому что твой май очень хорошо рифмует с любимым их словом — рай, которым они по сему случаю величают тебя; для больных ты, добрая петербургская весна, удивительно полезна, особенно для чахоточных: они вечно должны благословлять тебя… там… ну, знаешь, куда ты их отправила… Но для нас, настоящих жителей севера, людей прозаических, людей, не страдающих чахоткою и рифмобесием… скажи, что для нас в тебе привлекательного, за что мы каждый год надеемся и каждый год обманываемся, а все-таки не перестаем верить в приписываемые тебе достоинства, не перестаем надеяться, для того чтоб снова быть тобою обманутыми? Привычка, привычка, привычка!
Весна 1840 года была точь-в-точь такая, какие обыкновенно были и, вероятно, будут в Петербурге до того времени, когда великолепный град Петербург сойдется клином, то есть когда он, по замысловатому предположению одного китайского студента, соединится с Москвою… Только в то время жители Петербурга могут надеяться иметь весну московскую, а до тех пор им должно будет довольствоваться петербургскою, то есть они, по обыкновению, принуждены будут называть весною время разведения мостов и продажи зеленого луку.
Не знаю, известно ли читателям, что в Петербурге, кроме многих известных чудес, которыми он славится, есть еще чудо, которое заключается в том, что в одно и то же время в разных частях его можно встретить времена года совершенно различные. Когда в центре Петербурга нет уже и признаков снегу, когда по Невскому беспрестанно носятся летние экипажи, а по тротуарам его, сухим и гладким, толпами прогуливаются обрадованные жители и жительницы столицы в легких изящных нарядах, — тогда в другом конце Петербурга, на Выборгской стороне, царствует совершенная зима. Снег довольно толстым слоем лежит еще на мостовых; природа смотрит пасмурно и подозрительно; жители выходят на улицу не иначе как закутавшись в меховую одежду. Здания пасмурны и туманны; на заборах, из-за которых выглядывают угрюмые деревья, до половины покрытые снегом, стелется иней; из десяти извозчиков только один и то с отчаянием в сердце осмелился выехать на дрожках. О, как далеко Выборгской стороне до Невского проспекта! Как бы я хотел теперь побывать с вами на Невском проспекте, показать вам на деле всё неизмеримое расстояние между ним и Выборгской стороною, но, по долгу добросовестного описателя истинного события, я должен отказаться от своего желания. Вот картина, на которой давно бы уже пора исключительно остановить наше внимание.
Видите ли вы печальный поезд, который тянется по направлению к церкви Спаса в Бочарной?.. Простые дроги, запряженные в одну лошадь, и на них гроб — белый, ничем не обитый, без всяких украшений; за гробом подслепая старушка, нищенски одетая, согбенная под тяжестию лет, с слезами на глазах, с безотчетно грустным выражением на желтом, безжизненном лице. За нею двое мужчин, по-видимому из ремесленников. Отчего так уныл, так безвыразительно туп взгляд этого доброго человека в зеленой венгерке, который идет по правую руку? Он смотрит на гроб пристально, задумчиво… Вот лицо его начало одушевляться, вот слезы показались на глазах, вот он вздохнул тяжело, болезненно… Кого потерял он, о ком его истинные, непритворные слезы? И отчего тот, который идет рядом с ним, так бесчувствен, так равнодушен, что даже заглядывается по сторонам в окошки домов? Отчего такие разнородные ощущения производит одно и то же обстоятельство?.. кто еще провожает покойницу? Никого… неужели эта богатая, великолепная карета, которая шагом идет в отдалении, принадлежит к печальному поезду… О нет, верно, нет!
Но вот картина исчезла: гроб внесли в церковь. Провожавшие ушли за гробом.
В то время к Воскресенскому мосту подъехала коляска. Кучер осадил лошадей и остановился.
— Что ты стал? — раздался голос из коляски.
— Нельзя-с; мост только наводят.
— Черт возьми, почему так поздно? Другие мосты давно уже наведены, — с гневом сказал господин в темно-коричневом пальто, высунувшись из коляски…
— Наведен-то был он давно, да опять нужно было развести… Ладожский лед пошел, ваше благородие, — сказал, подходя, один из рабочих…
— Черт возьми! ждать! я так доволен местом, которое присмотрел для моей дачи… У меня уже в голове вертится план, как устроить ее… Надобно торопиться, чтоб в мае была готова, — бормотал про себя господин в темно-коричневом пальто…
— Извольте пообождать маленько, ваше благородие… Тотчас наведем, — сказал рабочий.
— А другие мосты тоже разведены?
— Вестимо, ваше благородие.
Господин в коричневом пальто с неудовольствием вышел из коляски и пошел удостовериться, точно ли мост может быть наведен скоро…
— Живее, — закричал он, — на водку целковый получите!
Желая как-нибудь сократить время, господин в темно-коричневом пальто вздумал пройтись по Выборгской стороне, узнать покороче угол Петербурга, о котором он не имел никакого понятия… Бродя по улицам, он наконец пришел к церкви Спаса в Бочарной; ему пришла идея зайти туда.
— Кого хоронят? — спросил он у подслепой старухи, которая с свечой в руке стояла за белым простым гробом и усердно молилась, проливая слезы.
— Так, бедную, ваша милость. Платье стирала на господ покойница, царство ей небесное!
Старуха набожно перекрестилась.
Но во пришедший обвел глазами церковь. Она была почти пуста. Кроме старухи в стороне стояло еще двое мужчин, у стены несколько нищих, церковный сторон? — и только. Нет, позвольте. В отдаленном темном углу стояла на коленях какая-то дама. Черный наряд ее сливался с мраком, царствовавшим в храме; она была почти незаметна. По временам только глубокие вздохи и невнятные слова вылетали оттуда, где она стояла, напоминая тем о ее присутствии. Картина была печальная и глубоко трогающая. Унылое пение глухо и протяжно разносилось но сводам. Нельзя было не задуматься.
Пение кончилось. Стали прощаться с покойницей. Подошла старуха, ломая руки, делая судорожные гримасы отчаянья. Ее насильно отвлекли от трупа покойницы. Подошел и пожилой человек в зеленой венгерке с меховым воротником — поцелуй его был силен и продолжителен, как будто б он хотел передать в нем душу. Подошел и товарищ его, хладнокровный зритель печальной картины; подошел и тоже поцеловал покойницу. Но что был его поцелуй? Уже крышка гроба готова была захлопнуться, как вдруг мерными, дрожащими шагами приблизилась к гробу старая дама в черном наряде и от бессилия, от страшного потрясения почти без чувств упала на труп покойницы…
Господину в коричневом пальто показалось странным присутствие дамы, по-видимому довольно важной, при похоронах простой прачки. Им овладело любопытство увидеть покойницу.
Как скоро дама отошла от гроба, известный нам господин не замедлил занять ее место.
Он остолбенел, казалось, от изумления. Лицо его страшно изменилось. Через минуту он опять нагнулся к покойнице и долго пристально рассматривал черты ее.
— Как звали покойницу? — быстро спросил он, подходя к подслепой старушке.
— Александрой, батюшка, — отвечала она всхлипывая.
Господин в коричневом пальто пошатнулся. Глубокий вздох вылетел из его груди.
Крышка готова была уже закрыться, но он снова подбежал к гробу — нагнулся и напечатлел поцелуй на губах покойницы.
Когда он поднял голову, по щекам его катились крупные слезы…
Гроб вынесли из церкви. Все вышли. Старая дама села в карету и опять поехала поодаль. Двое мужчин и подслепая женщина пошли за гробом…
— Мост давно наведен… Мы ждем вас, — сказал кучер господина в коричневом пальто, когда увидел его задумчиво идущего за печальной процессией…
Господин в коричневом пальто продолжал идти за гробом, приказав кучеру ехать за ним…
— Вы здесь, батюшка Карл Федорович, — сказала подслепая старуха, обращаясь к пожилому мужчине в зеленой венгерке, — как я давно вас не видала… с тех пор… А как вы известились о нашем-то несчастии?
— Мне сказал ваш брат — Егор Клементьич, — отвечал Карл Федорович, указывая на своего товарища…
— Ах, батюшка, уж сколько мы помучились-то… куда горя много натерпелась несчастная — ну да теперь конец всему… У меня, у старухи, сердце обливалось кровью, смотря, как она мучилась, сердечная… Уж кабы не братец Егор Клементьич подоспел… я бы не знаю, как и с похоронами справилась…
— Ах, жалко, жалко, — пробормотал Карл Федорович со слезами…
— А всё сама покойница. Такая была деликатная… Ведь после-то, Карл Федорович, приехала к нам старая графиня, такая добрая… вот она и теперь здесь… хотела взять ее к себе в дом, да то ли еще, хотела сделать своей наследницею… так нет, ничего не взяла… Я-де недостойна вас… буду жить своими трудами, буду грехи отмаливать… Я было, признаться, посерчала на нее, да потом сжалилась… Опять стала с ней вместе жить да горе мыкать… Вот и поселились мы здесь… и стала она белье стирать и всякую черную работу делать; право, тем только и жили: а от графини не хотела взять ничего… упросила и меня не брать… я, говорит, поссорюсь с вами… такая деликатная! Шесть лет так маялись… Ну да теперь… — Старуха показала рукою на гроб…
— А кто эта графиня? — спросил Карл Федорович у своего товарища.
— Наша прежняя барыня, — отвечал Егор Клементьевич.
— В самом деле, она добра была к покойнице…
— Между нами будь сказано, — отвечал Егор Клементьевич таинственно, — чуть ли покойница-то не ее дочь… Ну, понимаете?.. Теперь уж можно сказать… У моего брата, который был управляющим у ее сиятельства, детей-то от первой жены не было… да и от второй бог не дал… Графиня-то, знаете, в молодости… Ну да кто богу но виноват! Царство небесное брату; за него-то и нас отпустили на волю… Я и не видался с ним перед смертью… Всё жил в Рыбинске: там у меня своя лавчонка… Третьего дня приезжаю в Питер… спрашиваю, где брат; говорят: богу душу отдал… отыскиваю родных и нахожу дочь-то его уж на столе, холоднехонька… А старуха лежит на полу… да благим матом воет; я и взялся по родству похоронить дочь-то братнину… или… то есть, как хотите.
— Понимаю, — сказал Карл Федорович. — А хорошая была девушка; я любил ее… ах… очень любил!
И Карл Федорович опять горько заплакал…
Приехали на Охтинское кладбище. Гроб опустили в могилу; священник бросил горсть земли на гроб; за ним бросили присутствующие, и могильщики принялись 8а свое дело.
Графиню почти без чувств отнесли в карету. Господин в темно-коричневом пальто во всё пребывание на кладбище ходил потупя голову, как бы не желая быть узнанным или, может быть, от чрезвычайного огорчения…
И разошлись люди, и скоро снова предались они суетным заботам жизни. Люди всегда — люди! Смерть ближнего, самый лучший урок для человека, сильно потрясает здание его суетности; но проходит время… впечатление слабеет… и всё забыто! Люди снова хлопочут, враждуют друг против друга, думают, придумывают, хитрят, снова лезут из кожи для достижения минутного непрочного блага; снова они ходят, бегают, ездят в каретах, колясках, дрожках до тех пор, пока смерть не подаст им общий экипаж человечества — дроги!
Несчастливец в любви, или чудные любовные похождения русского Грациозо*
I
«Que font quelquos f'emmes? Elles babillent, s'habillent et se deshabillent»[8], — сказал Панар; истина неоспоримая, которая была бы еще выпуклее, если бы почтенный автор слово quelques[9] заменил членом les[10]…Не говорите мне о постоянстве женщин, о том, что они способны на всё великое и прекрасное, о самоотвержении и героизме их: не верю, тысячу раз не верю… Женщина создана для шутки; есть не что иное, как шутка; жизнь ее замысловатая шутка, страсти ее — шутка, и способна она на одни великие мелочи, на одни шутки!.. Не говорите мне, что она в состоянии понять высокую, фанатическую любовь мужчины: она притворяется, что понимает ее; мужчина верит ей на слово и скоро узнаёт, что то была новая шутка!.. Я ненавижу женщин и смело сознаюсь в том, не боясь мщения прекрасного пола.
Но не так легко искоренить заблуждение веков одними словами, без доказательств, и потому, как человек, постигающий всю важность предпринимаемого подвига, представляю я на суд всех благомыслящих людей неоспоримые доказательства того, что утверждаю; они не придуманы, по взяты из жизни вашего покорнейшего слуги, который имей равную с вами глупость даться в обман и быть игралищем женщин более, чем кто-либо…
Рано задумал я об женщинах, рано заговорило во мне сердце, рано почувствовал я потребность любви и необходимость женского пола для совершенного счастия человека. Еще ребенком, на школьной скамье, под скучные лекции тощего профессора, уже мечтал я о черных и голубых глазках, русых, белокурых и каштановых кудрях, губках и носиках всех калибров, ножках и ручках всех форм и размеров, — мечтал, а детское сердчишко так и колотило под казенною курточкою, и глаза, устремленные в тетрадь геометрии, в треугольниках и пирамидах видели идеалы, которые создавало шаловливое воображение!.. Но рано тоже узнал я, как накладны для сердца, ума и тела подобные мечты: но милости их я никогда не знал заданного урока; вместо ученых записок профессора писал стихи всех возможных размеров, на все возможные темы; вместо геометрических фигур чертил одни носики, глазки и головки, — и всё это влекло за собою очень неприятные для меня последствия… Но, как поэт, я стоял выше обыкновенных смертных, с презрением и отчаянною твердостню простаивал по неделе за штрафным столом и, питаясь сладкими мечтами, довольствовался в существенности хлебом и водою, с стоическим хладнокровием выслушивал длинные убедительные речи инспектора и только кусал губы от досады при антиизящных выражениях оратора. Но даже еще в ребячестве я не довольствовался одними мечтами; я жаждал осуществления их и в каждом хорошеньком личике видел свой идеал, вспыхивал, томился, вздыхал, писал нежные записочки на розовых бумажках, с бездною точек и восклицательных знаков; но, к немалой досаде влюбленного юноши, «идеалы» его не понимали, не умели ценить страсти поэта; иные, более сострадательные, улыбались, другие, менее идеальные, хмурили брови и надували маленькие губки, иные, более прозаические, даже изустно объявляли свое негодование в выражениях, которые сильно действовали на мое самолюбие и вместе с тем показывали всю полноту их невежества; одна даже — о, стыд и срам! — не довольствуясь личным выговором, пожаловалась своей маменьке, а та инспектору, а тот… С тех пор долго-долго не мог забыть я глубокой раны, нанесенной моему сердцу; пылкость моя упала на точку замерзания…
Наконец я, благодарение аллаху, кончил бесконечный курс учения; я получил свободу… Очертя голову кинулся я в вихрь света; в каком-то непонятно сладостном опьянении вертелся в неистовом вальсе наслаждений или мчался в бешеном галопе страстей… Отуманенный счастием, я не в силах был остановить ни мысли, ни взоры исключительно на одном предмете; мне хотелось зараз стиснуть в своих объятиях всё человечество, влюбиться во всех женщин, вспыхнуть пламенем страсти, сгореть в нем, превратиться в пепел и разлететься от жаркого дыхания красавиц… Мало-помалу мысли мои пришли в порядок; сердце стихло, как природа стихает перед бурею; глаза, утомленные пестротою, искали предмета, на котором бы могли отдохнуть, — я был на той степени чувства, с которой переступаешь на степень любви… Я стал замечать, что всех женщин было бы для меня даже много.
Недолго искало себе сердце повелительницы: оно поверглось к ногам семнадцатилетней девушки и поднесло ее неземной красоте весь пыл свежего сердца… А если бы вы знали, как хороша была моя Софья, как лучезарна была красота ее белокурой головки с томными голубыми глазками, смеющимся ротиком и прозрачными щечками, слегка наведенными румянцем утренней зари. Она была мила как ребенок, обворожительна как гурия, легка как перышко колибри; и мне ли, с моим ли сердцем можно было противостать владычеству ее красоты? Она рабски влачилась по следам ее, когда она носилась бабочкою в вихре вальса, порхала райскою птичкою под музыку мазурки или плавала золотою рыбкою под звуки контрданса. Я следовал за нею; как тень был на всех вечерах, гуляньях, в театрах — везде, где была она, так, что она не могла ступить шагу, не встретившись со мною… Любовь находчива; для нее преград не существует — я вошел в дом родителей Софьи. Я не говорил вам еще, что Софья была единственною дочерью одного из богатейших купцов, получила блестящее воспитание в известном модном пансионе и была идолом своего старика-отца, который, однако, несмотря на безграничную любовь к дочери, не отступая ни на шаг от обычаев почтенных предков, считал выбор жениха неоспоримым правом и священным долгом отца…
Вы, верно, знаете по себе, как бывают уверены в своих достоинствах молодые люди, только что вышедшие из-под ферулы учителя, и потому не удивитесь, что я, нисколько не колеблясь и не подозревая неудачи, объявил почтенному батюшке Софьи о привязанности к его дочери и о намерении соединиться с нею узами законного брака… Но, увы! батюшка Софьи не разделял со мною мнения о моих личных достоинствах, не принял в уважение ни моей любви, ни моей будущей славы (я был уверен, что со временем непременно прославлюсь) и отказал наотрез, основываясь на глупых отговорках, что я губернский секретарь и получаю всего шестьсот рублей жалованья, — будто гению нужны высокий чин и большое жалованье!! По, несмотря на неосновательность этой причины, ни на мои доводы, доказательства и убеждения, упрямый старик стоял на своем и кончил тем, что, вышед из терпения от моей неотвязчивости, довольно невежливо попросил меня убираться и избавить на будущее время от своих визитов. Что мне было делать? И был на верху отчаяния, я покушался на жизнь свою, и, уверяю вас, от моей горячей головы это бы легко сталось, если бы письмо моего ангела-хранителя, Софьи, не спасло меня от этого преступления.
«Mon ange[11], — писала она, — хотя я не в силах противиться воле отца и потому никогда не могу быть твоею, по, несмотря на то, сердце мое будет принадлежать одному тебе; тебя одного люблю, любила и буду любить!.. Утешься, милый друг; неужели нельзя быть счастливым на земле чистою, идеальною любовью? Я привыкла видеть в тебе человека, нисколько не похожего на других, способного понимать меня, — неужели я обманывалась?.. Будь мужем, люби меня идеально и не теряй надежды на соединение если не тут, то там!.. Твоя навек Софья».
Это письмо, разумеется, было бы плохим утешением теперь, по тогда, когда все предметы видел я не иначе как сквозь призму поэзии, — оно остановило порыв отчаяния.
Но скоро почувствовал я, что этой идеальной любви для меня недостаточно, что мечты не в состоянии утолить жажды взаимности, что поцелуи подушки не в силах утишить взрывов страсти… земное вкралось в небесное, и я снова искал сближения с своим идеалом… Но отец Софьи с неутомимостью наблюдал за дочерью, и я не мог улучить минуты, в которую мог бы переброситься с нею парою слов…
Видя бесполезность своих исканий, я задумался… Злая мысль запала в мою голову… Она не покидала ни на минуту, мучила, душила меня… Я решился на гнусное средство: приискать Софье мужа!!. Какой-то адский дух помогал мне в этом плане — он указал мне на моего школьного товарища и друга, сына богатых родителей и вдобавок гусарского корнета. Я опутал его сетями дружбы, вдохнул в него мысль о женитьбе, раздувал, укоренял ее, так что наконец он так сроднился с нею, что считал ее своею. Тут я натолкнул его на Софью, как Иуда продавал любовь свою за порочные надежды в будущем. Красота Софьи поразила его, он посватался, отец ее согласился, Софья не имела силы, а может быть, и по хотела противиться воле отца, — и через месяц она стояла уже с своим женихом перед брачным налоем, и я, ее возлюбленный, держал венец над головою своего друга!.. Софья с изумлением смотрела на мои поступки; она дивилась моему самоотвержению, моей твердости — она уважала меня.
Томский (имя моего друга) по женитьбе оставался по-прежнему моим другом; он привязался ко мне еще Солее и с детскою доверчивостью делился со мною избытком счастия, причиною которого считал меня. Каково было мне слушать его — судите сами; и я слушал, притворялся. что радуюсь его счастию, и в то же время медленными. осторожными шагами приближался к предположенной цели. Сначала, в беседах с Софьею, не было и в помине любви; далее по временам промелькивали воспоминания прошедшего, там жалобы на судьбу, на свое несчастие на свои страдания и т. д. Софья слушала меня, верила мне сожалела, утешала — и только… Терпение мое истощалось, я положился на неопытность и любовь ко мне Софы и стал действовать открытее. Софья поняла меня. И кроткая семнадцатилетняя женщина одним взглядом, одним словом разбила вдребезги все планы, которые строились в продолжение нескольких месяцев под руководством страсти… Софья поняла всё: она увидела, как искусно опутывал я сетями коварства ее добродетель, ее волю. Двери дом; друга моего закрылись для меня…
Стыд, раскаяние, досада, бешенство, любовь разрывали сердце мое на части; мне должно было бежать Софьи, бежать воздуха, которым дышала она, бежать себя самого, своей страсти, — и я хватаюсь за первое попавшееся по руку средство: прошу перевода в Москву и через неделю сказав прости Петербургу, Софье и своей любви, скачу очертя голову по московской дороге, оставив за собою толпу мечтаний, надежд и планов… Пылкость души моей упала опять к точке замерзания!..
II
Москва славится калачами и невестами — дело известное. Дорога поохладила припадок отчаяния; рассудок стал робко подавать голос о своем существовании; он толковал мне о твердости и развлечении — советы, при тогдашних обстоятельствах не совсем дурные, — и я спешил воспользоваться ими. Услужливость одного школьного товарища, постоянного жителя Москвы, и фактическое радушие москвитян очень пособляли мне в исполнении этого намерения. Не прошло и двух месяцев, а я, к стыду моему, отуманенный ароматическою атмосферою балов и легионами красавиц, почти совсем забыл и свое несчастие и свою идеальную Софью. Вы, может быть, подумаете, что страсть, забытая так скоро, была несправедливо принимаема мною за любовь; в таком случае вы очень обманываетесь: то была любовь, любовь в том самом виде, в каком это чувство впервые названо любовью. И между тем я все-таки забыл Софью. Сердце мое, по прихоти случая, создано так, что с неимоверною легкостью воспламеняется от пары хорошеньких глазок, но охлаждается еще быстрее, для того чтобы воспламениться от дуновения новой страсти. У Лунского, одного из известнейших хлебосолов Москвы, был вечер для встречи нового 18** года. Общество было многочисленное и блестящее; в хорошеньких личиках не было недостатка; но среди этого роскошного цветника роз одна была пышнее, ароматнее своих прелестных подруг, и взор наблюдателя, скользя по цветистому ковру, с изумлением останавливался на головке, принадлежавшей Лидии Карно, лучшей розе цветника красавиц этого вечера. Лидия была двадцатилетняя супруга шестидесятилетнего подагрика с тремя тысячами душ, фиолетовым носом, звездою и огромною лысиною. Все эти личные достоинства Карно придавали ему большой вес в обществе; но красота Лидии была чуть ли не главным из этих достоинств, и почтенный супруг, хорошо зная это, не упускал случая пощеголять своею собственностью. На всяком порядочном вечере он был непременным рыцарем зеленого поля, а жена его божьею карою за грехи всем лицам и личикам женского пола!!.
Но злоба матушек, злословие тетушек и зависть дочек и жен еще более придавали Лидии интереса в глазах блестящей молодежи. Все вились около нее, как рой пчел около улья, жужжали комплиментами, стреляли холостыми зарядами вздохов, полупризнаний и глазок, осмеивали друг друга, и все были равно счастливы, или, вернее, равно несчастливы: Лидия со всеми была равно благосклонна, со всеми равно мила и ни с кем — коротка. Лидия была, как и все женщины, хорошенькие и дурные, начиная от прабабушки Евы, кокетка!.. Несмотря на неудачные попытки столь многих, я, с свойственною мне самоуверенностию, смело приступил к атаке, следуя влечению сердца, которое давно уже било тревогу.
Лидия слушала меня с приметною рассеянностию: в этот вечер она была скучнее обыкновенного. Но сердце понукало меня, самолюбие подстрекало, рассудок обнадеживал, — я не робел. Я преследовал ее похвалами, восторгами, комплиментами, вздохами — я был чертовски красноречив, и неудивительно: во мне говорило сердце; наконец, увлекшись блестящим фейерверком мыслей и чувства, она сделалась внимательнее, благосклоннее; милая улыбка заиграла на ее коралловых губках; ее личико воодушевилось жизнью, в глазах заискрилось чувство, — она была очаровательна. Демон самолюбия и страсти поджигал меня более и более; я становился смелее и смелее, она делалась благосклоннее и благосклоннее.
Зоркие глаза зависти успели уже заметить это, и на каждом шагу встречал я долгие, уморительные физиономии, на которых ясно были написаны худо скрываемая злоба и досада и нескрываемая насмешка. Я торжествовал. Но кто вообразит себе восторг, блаженство — нет, не то — какое-то особенное, сверхъестественное чувство, не выразимое слишком холодным, пошлым, материальным языком человека, чувство, близкое к безумию, каплю, в которую перегнаны все лучшие наслаждения жизни, — одним словом, что почувствовал я, когда гордая, холодная, непобедимая Лидия своею крошечною ручкою с трепетом страсти сдавила мою неуклюжую, прозаическую руку?.. Какой-то туман набежал на глаза мои, какой-то хаос завьюжил в голове, какой-то огонь охватил сердце… я готов был вскрикнуть от неизъяснимой, пронзительной боли; мне чудилось, что все мои нервы готовы лопнуть от напряжения; я страдал — и, несмотря на то, я желал бы пострадать еще хоть минуту этим чувством, чтоб умереть от избытка счастия… Всё это продолжалось не долее одного мгновения; я взглянул в глаза Лидии, и они сказали мне, что то был не обман чувств, не сон, не случай; что рука ее была проводником сердца, наэлектризованного страстью!..
— Верить ли мне своему счастию? — едва проговорил я, задушаемый приливом крови.
— Молчите! — прошептала она. — За нами наблюдают. Еще новичок в обществе, я по успел постичь трудной науки маскировать чувства; следуя инстинктивному влечению, быстро взглянул в сторону, — и глаза мои встретились с глазами одного офицера. Я не вынес его взгляда: огонь глаз его прожег мое сердце. Легкая улыбка пробежала по лицу Лидии; вероятно, я был очень сметой в эту минуту.
Кадриль кончилась (всё это происходило в продолжение одной кадрили); я намереваюсь поместиться сзади стула Лидии, но короткое «на минуту», сказанное офицером, принудило меня оставить свой завидный пост и последовать за ним на другой конец залы.
— Что у вас было с нею? — сказал он глухим голосом, стискивай н своей железной руке мою бедную руку.
— Вопрос довольно неуместный, — отвечал я, собравшись с духом, — и не совсем вежливый, — присовокупил я, оправившись от невольного страха.
— Что у вас было с Лидиею Александровною? — повторил он, не обращая внимания на слова мои и стиснув мою руку сильнее прежнего.
— Какое вы имеете право спрашивать меня об этом, — отвечал я, выходя из терпения, — пустите меня.
— Ты негодяй — слышишь? — сказал усач, сверкая своими страшными глазами.
— Да кок вы смеете? да знаете ли, что за это вас…
— Завтра мы с вами увидимся, — прервал он меня, — ваш адрес!
— На что вам?
— Ваш адрес, говорю я!
И я машинально, как бы под влиянием какого-то волшебства, опустил в карман руку и вынул карточку. Он вырвал ее из руки моей и оставил меня, ошеломленного от неожиданности этой сцены. Оправившись от смущения, я бросился отыскивать в толпе гостей Лидию, но все поиски мои были безуспешны: во весь остаток вечера я по встречал ни Лидию, ни усатого соперника. Грустный и встревоженный происшествиями вечера, возвратился я домой, и долго-долго не мог заснуть, мечтая о неожиданном счастии, которое послало небо на мою долю. Прелестное личико Лидии и страшное лицо офицера попеременно представлялись разгоряченному воображению; странное деялось со мною: я то вздыхал, то хохотал, то начинал жаркое любовное объяснение, то вступал в жестокие прения об оскорблении чести. Наконец, утомленный душевным волнением, я забылся…
И каких снов не переснилось мне в эту ночь! Я пережил в нее несколько лет, редких, завидных лет счастия. И во всех этих дивных созданиях разгоряченного воображения главным предметом была она, милая, очаровательная Лидия; то являлась мне она окруженная каким-то чудным блеском и с улыбкою ангела простирала ко мне с недосягаемой высоты свою маленькую прозрачную ручку; то лежала на груди моей с страстным лепетом на устах; то, поправляя мои. волосы, умоляла меня голосом, глубоко проникавшим в душу, не покидать ее, и я, осыпая поцелуями ее бледные щеки, омоченные слезами, клялся в вечной преданности. И вот вдруг является перед нами длинное, страшное привидение, вырывает ее из моих объятий и, увлекая ее с собою в ужасную бездну, с адским хохотом говорит мне: «Мы с вами увидимся!» Не знаю, долго ли бы еще продолжались эти сновидения, если бы громкий стук не разбудил меня. Первый предмет, представившийся глазам моим, был мой противник… Я протирал глаза, считая это продолжением ночных видений, но образ офицера не исчезал: он стоял подле меня, и бледное лицо его, растрепанные волосы и сверкающие глаза приводили меня в ужас.
— Но долго ли это будет продолжаться? — воскликнул он наконец с сердцем. — Я не люблю подобных шуток, милостивый государь! Мне надобно стоять у вашей кровати и смотреть на вашу глупую физиономию. Я не намерен более дожидаться — едемте, мы будем стреляться без свидетелей: к чему они, — один из нас должен остаться на месте!
Я вскочил с кровати и всё еще, протирая глаза, с недоумением смотрел на офицера.
— Стреляться? с кем стреляться? — бормотал я, не понимая сам, что делается со мною.
Как ни ожесточен был мой противник, но не мог удержаться, чтоб не захохотать.
— Разве вы забыли о вчерашнем вечере? — спросил он наконец, принимая прежний вид.
— О вчерашнем вечере? Но разве я вас чем-нибудь обидел? Помнится еще, что вы…
— Вы трусите? — закричал усач. — Знаете ли, как называют труса? — подлецом, да, подлецом, которого должно заставить палкою, если он отказывается от благородного вызова. Я вас заставлю стреляться, слышите ли, я вас заставлю…
Я уж не спал. Я очень хорошо понимал слова офицера… Драться, драться мне, невинному истребителю бумаги и чернил, который отроду не имел в руках ин шпаги, ни пистолета… И что такое дуэль? Глупость, величайшая глупость, недостойная образованного человека: она противна религии, потому что заповедь гласит «не убий», противна нравственности, потому что основание ее — мщение, а мщение безнравственно; дуэль противна правосудию, потому что успех зависит от запальчивости или искусства противников; дуэль противна всем правилам общественного порядка, которые не позволяют самому чинить расправу; дуэль вещь нелепая, потому что часто невинный лишается жизни единственно оттого, что дерзкая отвага или искусство противника выше отваги или искусства его; наконец, дуэль ничего не доказывает, потому что удар шпаги или выстрел пистолета не докажет невинности того, кто виноват, справедливости того, что ложно… Однако, несмотря на все эти прекрасные мысли, которые в продолжение одной секунды перетолпились и голове моей, слова офицера так сильно задели меня за живое, что я, отложа в сторону философию, с гордостью, приличною человеку, чувствующему нанесенную ему обиду, сказал своему сопернику: «Милостивый государь, вы забываете, что грубость не принадлежит к числу отличительных качеств образованного человека. Не вы должны требовать у меня удовлетворения, а я — я обиженный!.. В доказательство же, что я не заслуживаю названия труса, я требую удовлетворения и, как обиженный, предлагаю условия: мы стреляемся в трех шагах».
— Тем лучше, — отвечал он с дьявольским хладнокровием, — но будет промаха. Итак, едем!
— Но пистолеты?
— Они здесь, — сказал он, выставляя из-за шинели пистолетный ящик.
Я стал одеваться.
В передней раздался звонок. «Письмо, сударь», — сказал человек, подавая мне красиво сложенную раздушенную записочку. Я взглянул на адрес: Андрею Ивановичу Гронову. «Кто принес это письмо? оно не ко мне».
Офицер, взглянув на адрес, вырвал записку из рук моих, с поспешностию распечатал и жадными глазами впился в мелко исписанный листок.
Мгновенно выражение лица его совершенно изменилось: улыбка зашевелилась на его губах, глаза заблистали радостью.
— Милостивый государь, — сказал он, обращаясь ко мне, — я виноват перед вами; стыжусь своей запальчивости и прошу у вас извинения в нанесенной вам обиде. Впрочем, если этого для вас недостаточно, я не прочь от удовлетворения.
Изумленный неожиданною переменою в обращении офицера, я пробормотал не помню что; он взял меня за руку, пожал ее с каким-то двусмысленным выражением лица и оставил меня рассуждать на досуге о чудесах, которые творятся со мною. Но недолго я оставался в недоумении; скоро насмешливые взгляды и урывчатые фразы, долетавшие со всех сторон до ушей моих, объяснили мне всё дело: я был жалкою игрушкою женщины. Офицер успел, еще до появления моего в московских обществах, завоевать сердце прекрасной Лидии Александровны Карно. Ревнивая, как и все женщины, она не выпускала из виду своего возлюбленного; ей показалось, что Тронов сделался к ней холоднее, и вот, боясь лишиться его навсегда, она сочла небесполезным прибегнуть к одному из обычных маневров женщин: возбудить в нем ревность. Ей нужна была для этого какая-нибудь жертва, и я был этою глупою жертвою!
Нет! на этот раз мне не нужно было бежать за шестьсот верст, чтобы заставить сердце забыть его идола: любовь превратилась в ненависть, в ненависть бешеную, жгучую, еще сильнейшую, чем была ее предшественница. И все-таки я должен был бежать из Москвы, если не хотел быть игралищем молвы, оселком, на котором всякий пробовал свое остроумие, шутом общества, — и я через несколько дней, проклиная себя, любовь, ревность, женщин и любовников, мчался в Варшаву, напутствуемый гулом колоколов, которые казались мне насмешливым хохотом старушки над глупою ролью, которую заставили меня разыгрывать на потеху добрых людей!
III
Есть в мире отрада лучше всех отрад, добрый друг — посланец небес для утешения бедствующего человечества, этот верный друг — надежда. Она не покидала и бедного Грациозо, она заживляла раны сердца, изъязвленного неудачами, и оно, ослабшее, обгорелое от страстей, всё еще билось отрадным авось! Но женщины утратили уже много прежнего блеска в глазах моих; я смотрел на них уж но с тем благоговением, слушал их не с тем безотчетным верованием, любовался ими не с тем безграничным восторгом — я был уже на пути к разочарованию: к прекрасному в чувствах самовольно примешивалось досадное сомнение; поэтический туман, в который облекало женщин детское воображение, редел, и я начинал чувствовать положительность этого мира, начинал понимать, что поэзия находится не в нем, но в нас самих; что степень прекрасного в природе зависит от степени прекрасного в нашем сердце. Проза жизни начинала вытеснять из сердца поэзию мечты! Но я все-таки надеялся, хотя при встрече существ, которых считал почему-либо достойными осчастливить меня, я удерживал пылкость сердца силлогизмами рассудка, был осмотрителен, недоверчив, изведывал прежде ту, которую могло полюбить сердце, и кончал всегда тем, что говорил ему: «Погоди еще, эта недостойна тебя!» И оно, напуганное неудачами, слушалось, ждало и надеялось! Так прошло несколько лет, в продолжение которых я жил постоянно в Варшаве; и я всё еще был холост, а сердце свободно. Надежда соскучилась уже утешать меня и готова была оставить несчастливца на произвол судьбы, как случай поспешил спасти ее от неслыханного вероломства я тем сохранить ее репутацию: он натолкнул меня… но нет, позвольте рассказать всё по порядку.
С самого начала пребывания моего в Варшаве нанимал я квартиру у одной шляхтянки, вдовы какого-то Тпррм… Птрм… не выговоришь. Пани Марианна, как я называл ее, была женщина лет сорока, вертлявая, болтливая, услужливая и веселая, как и все польки. Я любил ее как родную и часто в минуту грусти делился с нею чувствами души моей, рассказывал ей похождения своей жизни, поверял ей надежды в будущем, желания, мечты — и, что всего более мне нравилось, никогда не встречал противоречий: пани Марианна слушала меня всегда со вниманием, с дружеским участием, утешала, как могла, сватала даже невест, не сердилась на мою разборчивость, одним словом, мы жили с ней как нельзя дружнее. В числе многих ее знакомых была одна молоденькая вдовушка, о красоте которой отзывалась она всегда с особенным уважением и с которою, не знаю почему, никак не соглашалась познакомить меня. Не полагаясь слишком на вкус моей хозяйки, я мало обращал внимания на похвалы ее означенной вдовушке и не настаивал слишком на том, чтобы поверить слова ее на деле. Прошло более года, а я даже и не видал ее. Но от того, что написано на роду человеку, не отмолишься, не отчураешься. Вдовушке суждено было иметь большое влияние на жизнь мою, и я не избег ее. Однажды, бог весть с чего, хозяйка моя что-то особенно много толковала о красоте своей знакомки; но видя, что это на меня мало действует, стала убедительно просить, чтобы я отнес ей не помню какие-то йоты, говоря, что обещалась доставить их непременно в этот день, но что не имеет на то времени. У меня не было никаких причин уклоняться от этого, и потому, без всяких отговорок, согласился я исполнить ее просьбу. «Смотрите, берегите свое сердце!» — сказала хозяйка, прощаясь со мною. Я смеялся словам ее, не воображая, что то было роковое предсказание новых бед для сердца… О, если бы я никогда не относил нот к этой вдовушке!..
В Польше хорошенькие личики — не редкость; из десяти женщин, верно, девять если не красавиц, то по крайней мере миленьких… Но та, которую суждено мне было увидеть в этот роковой для меня день, красотою своею потемняла всех красавиц, до тех пор мною виденных. Я бы непременно описал вам ее, если бы в состоянии был вообразить себе ее дивный образ: время и горести ослабили мое пылкое воображение, и теперь она представляется мне темным кружком, который вертится перед глазами после того, когда долго смотришь на солнце. Итак, довольно сказать, что сердце, холодное уже в продолжение трех лет, при виде ее, не дожидаясь ни силлогизмов рассудка, ни моего разрешения, запылало давно забытым пламенем страсти, который охватил его тем с большим ожесточением.
Она встретила меня с милою, благосклонною улыбкою и, к немалой радости, явным образом старалась удержать меня у себя подольше. «Я так много наслышалась об вас от моей знакомки; она не может нахвалиться своим жильцом, — и это давно пробудило во мне желание короче познакомиться с вами. Но вы, по ее словам, такой нелюдим, так боитесь нас, женщин, — вы так несчастливы».
Я отвечал ей не помню что, только, вероятно, какую-нибудь глупость, потому что мы всегда говорим глупости, когда хотим казаться умными. Но она слушала меня с неизъяснимым добродушием, была так ласкова, с таким неподражаемым искусством льстила моему самолюбию, с таким милым кокетством принимала от меня неуклюжие комплименты, которыми желал я отплатить ей за ее похвалы моему уму, моему сердцу, даже моей наружности (право, не лгу!), — что не прошло и часу с первой минуты нашего свидания, а я был уже прикован к ней неразрывной цепью страсти; она видела свою победу и с примерным великодушием простирала к побежденному руку милости!.. Если бы кто послушал нас, подумал бы, что мы знакомы уже несколько лет, так скоро сблизились мы. «Смею надеяться, — сказала она, прощаясь со мною и дружески пожимая руку, — что вы позволите мне считать вас в число своих друзей, — их у меня так немного!»
Я кланялся, бормотал бессвязицу и еле-еле удержался, чтобы не упасть к ногам прекрасной вдовушки. Глаза мои, мое смущение высказывали ей ответ красноречивее слов, и она рассталась со мною, взяв с меня слово посещать ее как можно чаще… Нужно ли говорить, что я с примерною аккуратностию держал данное слово, что не проходило недели, в которую бы не провел вечера у обворожительной пани Францишки; что страсть моя с каждым свиданием разжигалась сильнее и сильнее, а прошедшие неудачи вспоминались реже и реже? Сердце болтливо, когда полно любовью, — а потому и очень естественно, что, не в состоянии долее таить свою любовь, я чувствовал необходимость высказать ее пани Францишке… По-видимому, она была приготовлена к этому заранее, потому что нисколько не изумилась, когда однажды, в пылу страсти, забыв нерешительность и страх быть отвергнутым, я высказал тайну сердца… Долго молчала она, и глаза ее, устремленные на меня, казалось, читали в глубине души моей; наконец на этих чудных глазах заискрились две алмазные слезинки, неземная улыбка заиграла на ее губах, и тихим, дрожащим голосом проговорила она: «Да, я люблю тебя!»
В каком-то бешеном исступлении я стиснул Францишку в своих объятиях; мы жили одною общею прекрасною жизнью — мы переливали друг в друга свои души, свои мечты, мысли, и время летело, унося с каждою минутою бездну счастия… Поздно вечером расстались мы для того, чтобы свидеться снова по наступлении утра. Францишке нечего было опасаться меня: моя любовь была слишком чиста, чтобы я решился воспользоваться слабостью обожаемой мною женщины. На другой день я предложил ей свою руку.
— Мой ангел, — сказала она, склоняясь головкою на плечо мое, — я слишком много перенесла в первое замужество: муж мучил меня, а свет обвинял жену, называл ее преступною и оправдывал тиранство варвара. Я терпела, я не жаловалась никому на свои страдания, на несправедливость людей. Наконец небо сжалилось надо мною — оно избавило меня от мужа. Я поклялась не выходить замуж вторично; но клятва, вызванная из сердца страданиями, — не клятва; я решаюсь нарушить ее для тебя, из любви к тебе. Друг мой! не допусти меня раскаиваться в своем решении, сделай меня счастливою, люби меня всегда, как любишь теперь; не обмани меня, не погуби меня! — Рыдания заглушали слова ее, я заграждал уста ее поцелуями, я плакал, плакал в первый раз в жизни от избытка счастия…
— Да, да! клянусь сделать тебя счастливою, клянусь любить тебя вечно, вечно!
Я жаждал обладать скорее Францишкою — через неделю церковь должна была соединить нас на всю жизнь.
Мечты человеческие, что вы такое? — как сказал один наш великий драматург, — одуванчик, который осыпается от малейшего дуновения случая; и мои мечты разлетелись, одулись и оставили один голый, грустный стебелек — воспоминание об них… Но без отступлений. Вы не поверите, если я скажу вам, что платок был причиною нового и едва ли не величайшего несчастия в моей жизни, и между тем это так же справедливо, как справедливо то, что я, шут-грациозо, не признаю в женщинах ничего великого и прекрасного. Да, простой, прозаический носовой платок открыл глазам, отуманенным страстью, пропасть, в которую готов был я кинуться… Вот как это было. Вне себя от избытка счастия, которым была переполнена душа моя после последнего свидания с Францишкою, бежал я домой, строя планы новой для меня жизни и любуясь цветистою, завидною перспективою будущего. Вдруг посреди этих сладостных мечтаний почувствовал я слишком прозаическую прихоть носа: ему захотелось чихнуть. Я хватаюсь за карман — пуст! Вероятно, я оставил платок у своей невесты, утирая им умилительные слезы, орошавшие мои ланиты… Я был еще недалеко от ее дома и, радуясь случаю еще раз поцеловать ее сахарные губки, ворочаюсь… Дверь в прихожую была незаперта, и я вошел в приемную, не быв замечен никем. Желая изумить Францишку неожиданностию, тихонько пробираюсь я к ее кабинету, отворяю притворенную дверь и — застаю свою невесту, свою ножную, пламенно любящую меня Францишку tete-a-tete[12] с одним моим коротким знакомым в очень неутешительном для меня положении…
Вся кровь бросилась мне в голову, я обеспамятел и почти без чувств отшатнулся к простенку двери… Увидев меня, приятель мой нисколько не смутился; напротив, подошел ко мне и дружески протянул руку. «Вот мило, ты как очутился здесь? — сказал он смеясь. — О скромник! вот все вы таковы!..»
Я едва был в состоянии понимать его и в порыве бешенства едва не задушил презренного. «Негодяй, — воскликнул я, играя в свою очередь роль Гронова, — мы с тобой увидимся… Ваш адрес?» — продолжал я, забывая, что бывал раз двадцать на его квартире.
— Да что с тобой? — сказал он, изумленный моими словами. — В уме ли ты?
— Ваш адрес, говори! — воскликнул я, не обращая внимания на слова его.
— Послушай, ты знаешь — я не трус и никогда не откажусь от вызова; но, несмотря на то, драться с добрым приятелем и притом из-за… помилуй, на что это похоже?..
— Если вы желаете непременно знать причину моего вызова: знайте, что она моя невеста!
— Невеста, твоя не… причина, впрочем, довольно достаточная; но в таком случае вам, милостивый государь, предстоит довольно хлопот: вы должны будете иметь дело с порядочным числом обидчиков!
— Как?
— Как? так! — и он громко захохотал.
— Как, Францишка!.. — я взглянул на нее — клеймо порока напечатлено было на лице ее… Францишка — боже той, боже мой!.. Я задрожал от бешенства и омерзения; слезы ярости брызнули из глаз моих — я бежал из этого проклятого дома, задыхаясь от горести и отчаяния…
И она, презренная, могла говорить языком ангелов, могла выжимать слезы из нечистых глаз своих, могла призывать небо в свидетели ее непорочности, — и небо не разразилось над нею своим праведным гневом, попустило ее ругаться над всем, что есть святого в этом мире! Женщины, женщины! если бы вы знали, что чувствовал я к вам в эти минуты!..
И между тем я грустил о потере этой надшей женщины; любовь моя к ней зашла слишком далеко; я досадовал даже на благодетельный случай, открывший мне глаза: мне жаль было любви своей! Разочарованный, я не ждал уже от мира ничего; я отрекся от радостей, от горестей, от надежды… Невыносимо тяжко было для меня бремя жизни, и я не имел силы разорвать этой длинной, тяжелой цепи, приковывавшей меня к земле… Внезапная мысль озарила уснувший рассудок: я надел косматую шапку и шашку и поскакал на Кавказ, обрекая себя на верную смерть…
IV
Нет, не верю вам, высокоученые психологи: есть в свете судьба, есть предопределение, есть что-то руководствующее свободою человека, управляющее его поступками, напутствующее его в продолжение всего земного пути… Судьба руководила и меня, она ограждала меня непроницаемым щитом, когда я с безумною дерзостью врубался в толпы диких наездников, стремглав кидался на своем бегуне с утесов в ярящиеся волны Терека, вскарабкивался на неприступные скалы, готовые рухнуться от малейшего потрясения… Судьба хранила меня, смерть бежала неутомимо преследовавшего ее несчастливца, пули визжали у самых ушей, шашки свистели перед глазами, и я оставался жив и невредим; и груды тел моих товарищей, через которые пробирался я, нанося смертоносные удары, ясно говорили мне об этой невидимой силе, с озлоблением разрушавшей все надежды, все желания ею гонимого: она завидовала даже моей смерти!..
Видя бесполезность своей дерзкой храбрости, я сделался рассудительнее; инстинктуальная привязанность к жизни заговорила во мне, и я стал снова дорожить жизнью — для чего — сам не знал я: мысли о счастии и не западало уж в мою голову; женщины не в силах были и на минуту возмутить мертвое спокойствие сердца; я смотрел с презрением и насмешкою на сети, в которые так легко ловили они неопытных, и с искусством старого моряка лавировал между подводными камнями кокетства и красоты…
Душа моя огрубела; мечты развеялись от порохового дыму; из пылкого фантастиста сделался я положительным человеком; все чувства сердца взвешивал на безмене рассудка, все лучшие верования души подводил под анализ сомнения, задушал их безжалостными логическими доводами и силлогизмами… Молодежь дичилась меня; женщины бегали как от чумы… Так прошло добрых полдюжины лет; я был уже в летах солидного человека.
Но мой злой гений, судьба, не дремал; он поджидал только минуты, в которую удар его был бы для меня чувствительнее… Поверите ли, я влюбился еще раз!.. После всего, бывшего со мною, после дорогих уроков, которые дали мне женщины, я, пошлый глупец, мог забыть прошедшее, мог усомниться в результатах, выведенных из тяжкого опыта, — я полюбил женщину!..
Моя храбрость, примерная исправность по службе и мой странный угрюмый характер привязали ко мне нашего нового полковника, переведенного из одного армейского полка, стоявшего в окрестностях Москвы… Старый служака был без ума от своей находки, не слышал во мне души, любил меня как сына, как брата. Я не оставался невнимателен к его ласкам и старался своими поступками сделаться достойным привязанности ко мне моего почтенного друга.
Полковник был женат; но жена его, по каким-то домашним обстоятельствам, не могла сопровождать его на место службы и должна была приехать к нам не раньше как через несколько месяцев. Полковник всегда с особенным удовольствием говорил о личных и душевных достоинствах своей Кати, и часто, увлекшись чувством, добрый старик забывался, и слезы умиления смачивали его лицо, закоптелое в пороховом дыму. Он любил ее более как дочь, чем как жену, и ждал приезда ее с возрастающим нетерпением.
Наконец она приехала. В это время я был у него. Не стану описывать трогательной сцены свидания супругов, которая заставила меня еще раз признать в женщинах чувства, которым бы позавидовал любой мужчина. Катерина Ивановна с первой минуты нашего знакомства расположила меня в свою пользу. Она уважала своего мужа, и потому я, как лучший друг его, имел притязание на маленький уголок в ее сердце, и она уделила мне его: я получил позволение считать себя и ее другом.
Дружба между мужчиною и женщиною невозможна; что ни говорите мне напротив, я не отступлюсь от своего мнения. Пользуясь правом друга Катерины Ивановны, я позволил сердцу принять в этом деле маленькое участие: ведь и в дружбе нельзя же обойтись без согласия сердца! Ветреное, неудобоуздываемое, когда дашь ему хоть немножко воли, оно встрепенулось от долгого летаргического сна, засуетилось, заговорило; былое стало деяться с ним, в нем зароились по-прежнему и радости, и горести, и мечты… Я считал всё это за нежную дружбу и не принимал никаких мер против ослушника. Поздно увидел я свою опрометчивость; я разгадал это смутное чувство, когда было уже невозможно обратиться к рассудку, когда пламень новой страсти с неудержимою яростью разливался по всему моему существу… Я любил жену своего друга!.. Совесть грызла меня, я не мог без внутреннего трепета смотреть в глаза моего благородного друга, я содрогался, как преступник, при каждом его слове; его ласки, его братское обхождение со мною были для меня ударами кинжала; я дичился его, бегал и решился во что бы то ни стало задушить преступную страсть и начал с того, что под различными предлогами не ходил к нему целую неделю… Что перенес я в продолжение этого времени, знаю я один; дни казались мне веками… Наконец страсть взяла свое: я не в силах был долее крепиться; любовь заглушила все другие чувствования, рассудок умолк, совесть уснула; я решился дружбу принести на жертву любви и отправился к полковнику… Он встретил меня с обыкновенного приязнью; но дела по службе не позволяли ему оставаться со мною, и он ушел, препоручив жене занимать дорогого гостя. Его уверенность во мне, его благородство, его доброта разбудили на минуту голос совести, по один взгляд, одна улыбка Катерины Ивановны — и снова всё забыто, и я жадными глазами пожирал ее кроткое, милое лицо.
— Вы, кажется, сегодня очень расстроены, — сказала она, с нежным участием устремив на мое бледное лицо прекрасные, томные глазки, — вы больны? Не правда ли? Грех таиться перед друзьями!
— Нет, ничего, уверяю вас, ничего! — едва мог я выговорить от душевного волнения. — Не знаю; мне сегодня что-то особенно скучно — вот и всё.
— Скучно? О чем вам скучать? уж не влюблены ли вы? — спросила она с ангельской улыбкою. — Но нет, этой беды с вами, верно, не случится. Не хотите ли сыграть со мною партию в шахматы; это, может быть, несколько развеселит вас, — и она придвинула ко мне шахматную доску. Не зная, что делать, я молча сел и стал расставлять шахматы. Она придвинула к столу кресло и села так близко ко мне, что платье ее касалось ног моих… Кровь кипела во мне, сердце готово было выпрыгнуть из груди, я был весь в огне и двигал шахматы наудачу, не в силах будучи принудить себя вникнуть в игру.
— Помилуйте, кто так играет! — воскликнула она, переставляя на прежнее место моего слова. — Ну можно ли так ходить? Ведь вы сами поддаете мне вашего короля.
В ото время рука ее коснулась моей; электрический удар пробежал по всему моему телу, и я, сам но знаю как, очутился перед нею на коленах с признанием на языке. Глаза ее загорелись негодованием, но не более как на одну секунду; лицо ее приняло прежнее выражение, и голосом, который не обнаруживал в ней ни малейшего волнения, «Послушайте! — сказала она. — Если бы женщина и захотела изменить своему мужу, вероятно она избрала бы для того человека, отличающегося красотою или по крайней мере умом, любезностью… Ну а вы…»
— Не угодно ли продолжать! — прервал я ее, вне себя от стыда и смущения, и сел на прежнее место. — Шах королеве! — продолжал я, сам не зная, что говорю.
— Мат королю! — отвечала она с тою же самою улыбкою, которая околдовала меня…
В это время вошел полковник. «Что мило, то мило, — сказал он, подходя к жене и целуя ее в лоб, — благодарю за исправность!.. Эге, да, видно, женщины лучше нас, мужчин, умеют занимать, — продолжал он, смеясь и трепля меня по плечу, — пришел в чем душа: бледный, угрюмый; а теперь что твой маков цвет, — браво, браво!»
Я был ни жив ни мертв! но уйти не было никакой возможности; в голову не приходило никакого предлога, который я мог бы представить… Я просидел с ними весь вечер, — бесконечный, адский вечер, о котором и теперь не могу вспомнить без содрогания. Катерина Ивановна была мила и обходительна со мною, как и прежде, и это усиливало еще более мои мучения. Наконец, хвала аллаху, пытка кончилась; я вырвался на свободу с твердою решимостью никогда уже не переступать за порог этого дома. Но исполнить это намерение было не совсем-то легко; после различных попыток должен был я прибегнуть к последнему и единственному средству: рассориться с полковником. Скоро нашел я к тому удобный случай; и как но найти случая поссориться, когда того желаешь?.. Раздосадованный моим ослушанием в каком-то его распоряжении по службе, он арестовал меня. Я с радостью ухватился за этот предлог к разрыву, и ни просьбы, ни убеждения полковника не могли помирить нас… Я перепросился в другой полк и с тех пор не видал ни полковника, ни жены его.
V
Рассказывать ли вам последнее мое несчастие? Я и то уж смешон в глазах ваших, а после его… Но я отрекся от всех высоких чувств души, отрекся от самолюбия, от гордости, любви и чести; я прикрыл свою седую голову дурацким колпаком Грациозо, и все лучшие воспоминания, все священнейшие движения души отдал на потеху людей. Мне ли после того бояться показаться смешным в глазах читателей?
Я проклинал женщин с их мишурною образованностию, с их гибельным кокетством; но сердце, неудовлетворенное взаимностью, требовало любви, и я решился искать ее в ауле мирных черкесов; я решился, в отмщение свету, не понявшему меня, не воздавшему должной справедливости моим талантам, полюбить дикарку без образования, без кокетства, но с сердцем, способным любить искреннее, бескорыстнее, пламеннее, чем сердце, принадлежащее ароматным существам большого света. Я решился полюбить, я искал любви, и потому не удивительно, что скоро желание мое увенчалось успехом: кошелек золота и несколько слов склонили на мою сторону одну старуху, мать той, на которую пал мой выбор. Излишне говорить, что она была красавица; во-первых, потому, что я выбрал ее из числа многих; во-вторых, что между черкешенками дурные лица такая же редкость, как между нашими дамами… как между нами, хотел я сказать, истинные красавцы. Я намеревался увезти ее, и старуха дала мне слово уговорить дочку и привести ее на условленное место, когда смеркнется. Я являюсь на место свидания, оставив н недальнем от себя расстоянии повозку, в которой намеревался увезти ее. Старуха не заставила себя долго дожидаться, и я уж заранее восхищался при мысли, что буду обладать сокровищем, которое она предательски передавала мне с рук на руки, как внезапный шум за соседнею скалою обратил на себя мое внимание. Не успел я еще собраться с духом, как увидел в нескольких шагах от себя брата красавицы и за ним несколько человек его товарищей, которые с громким гиком и ругательствами бросились на меня. Чувство самохранения заставило меня бросить свою добычу и прибегнуть к помощи ног.
За мной раздалось несколько выстрелов, и я ясно слышал шаги бегущих. Вне себя от страха, бежал я сломя голову и, благодаря темноте, успел благополучно добраться до своей повозки, прыгнул в нее с легкостью, какую придает нам близкая опасность, и погнал лошадей в хвост и в гриву. Впоследствии узнал я, что старуха обманула меня и, притворяясь, что согласна на мои предложения, уведомила обо всем своего сына.
Вот мои похождения — не правда ли, очень смешные? Я сам смеюсь, рассказывая их; смеюсь, по обязанности шута, хоть часто и сквозь слезы, но все-таки смеюсь. Пожалейте, добрые люди, жалкого Грациозо.
Опытная женщина Повесть из провинциального быта*
I
У одного из жителей города *** был бал. Все веселились. Скучал один Зеницын. Зеницын только три дня как воротился из Петербурга в свой родимый город после пятилетнего отсутствия; нынче в первый раз показался он в обществе. Вот почему Он не мог найти себе удовольствия на балу у одного из важнейших граждан доброго города *** и скучал, скучал, как только может скучать порядочный человек, заброшенный в кучу незнакомых людей, которые танцуют, вистуют, острят, хвастают, спорят, — словом, «наслаждаются жизнию». Отчаявшись, как видно, встретить кого-нибудь из знакомых или найти что-нибудь привлекательное, Зеницын смерил глазами в десятый раз общество, зевнул протяжно прямо в лицо хозяину и направил стопы свои прямо к двери. Сделав несколько шагов, он вдруг остановился, как бы пораженный чем-то нечаянно. Внимание его привлекла пара танцующих, промелькнувшая мимо его. Разумеется, глаза Зеницына летели за лучшею половиною — за дамою. Она была красавица. Высокая, стройная, с черными, выразительными глазами, с розовым ротиком, белым, очаровательным личиком, в прекрасном бальном костюме, она показалась Зеницыну каким-то небесным существом, чем-то поэтическим, упавшим нечаянно с неба в кучу этих горбатых, земных барынь и барышень, у которых отнимали последнюю привлекательность явные претензии на красоту и любезность, изящество в наряде и ловкость в танцах. Зеницын почти бегом возвратился на другой конец залы и поспешно занял место, с которого мог удобнее рассмотреть поразившую его даму. Чем более он смотрел, тем она казалась ему восхитительнее; довольный, что наконец нашел пищу для своего праздного взора, он почти в продолжение двух часов не сводил глаз с очаровательной брюнетки. Им овладело желание узнать ее фамилию. В надежде встретить кого-нибудь из знакомых Зеницын опять принялся расхаживать по зале, не теряя, однако ж, из виду незнакомки.
— Ты ли это, Зеницын? Каким трактом, какими судьбами попал ты сюда? — раздался голос сзади Зеницына, и чья-то рука в то же время ухватила его за плечо. Зеницын ничего не слышал, занятый: своею незнакомкою.
— Постой, братец, — продолжал голос, — куда ты торопишься? Привык в Петербурге бегать-то…
— Черницкий! — невольно вскрикнул Зеницын, оглянувшись наконец и увидев молодого человека небольшого роста, который всё еще держал его за плечо.
— Пойдем, пойдем! — сказал Черницкий, таща Зеницына за руку. — Здесь мы можем говорить свободно, — прибавил он. когда они пришли в пустой, отдаленный угол многолюдной залы.
— Прежде всего, — сказал Зеницын, когда они обменялись приветствиями, — скажи мне, кто эта дама, которая сидит вон там, подле этой сухой, старой барыни, так пестро разряженной.
— Что тебе в ней? Нам с тобой и без того есть о чем поговорить. После, братец, я тебе опишу подробно все наши провинциальные диковинки.
— Говори, говори теперь; иначе ты ничего от меня по услышишь… Кто она?
— Изволь, если ты непременно этого хочешь. Она — *** полка полковница Александра Александровна Задумская. Вдова, братец, моя соседка по имению, да и твоя тоже; удалая вдовушка: не прошло еще и году, как умер муж, а уж пляшет!
— Вдова! — повторил Зеницын задумчиво. — Скажи, пожалуйста, как ее прежняя фамилия? Мне что-то, кажется, знакомо ее лицо.
— Радова, братец. Да брось ты ее и с ее родословною. Расскажи-ка…
— Радова? — повторил Зеницын.
— Ну да, Радова, дочь помещика Радова, у которого мы бывали еще в детстве… Помнишь?
— Помню, помню, — задумчиво говорил Зеницын, следя глазами за каждым движением вдовушки, которая сидела еще на прежнем месте.
— Да что тебя она тревожит?.. Долго еще говорили друзья.
Когда они кончили, в зале почти никого уже но было.
— Прощай, — сказал Зеницын, подавая руку Черницкому.
— Что ты? куда? Чтоб я тебя пустил! Нет, как хочешь: сегодня едем ко мне ночевать, а завтра вместе в деревню.
— На первое я согласен, а на второе нет. Мне непременно нужно пробыть несколько дней в городе, — отвечал Зеницын.
— Даю тебе три дня сроку; после этого ты должен непременно явиться в мое Кубино; я буду ждать. Не думай, чтоб тебе было скучно. Мы в деревне живем веселее, чем в городе, несмотря на то что дело идет к осени. Соседство у меня прекрасное; люди все добрые, весельчаки и оригиналы; ты нахохочешься; я тебя непременно потащу ко всем. На тебя будут смотреть как на диво, — увидишь!
Долго еще Черницкий не давал покою своему приятелю; наконец на рассвете они заснули.
* * *
— Хорош же ты! — говорил Черницын, подавая руку Зеницыну, который входил в его кабинет. — Обещался быть через три дня, а приехал через три недели. Так друзья не делают.
— Дела задержали меня.
— Что ты такой грустный?
— Есть о чем грустить. Обстоятельства призывают меня в Петербург; мое отсутствие может повредить мне. Я почти решился ехать; но когда стал перебирать всё, что мне нужно будет здесь покинуть, остановился на одном.
— Уж верно на нелепой любви к нашей провинциальной звезде — Задумской?
Черницкий был с самой ранней юности другом Зеницыну; они вместе шалили на школьных лавках, вместе проказили в Петербурге в горячее время первой молодости; между ими не было ничего заветного, а потому Зеницын не счел нужным скрываться перед другом.
— Да, — сказал он, — она мне нравится. Ты знаешь, вкус у меня причудлив, желания слишком неограниченны, но она мне нравится. Конечно, я не скажу, что не могу жить без нее, что влюблен в нее до безумия: ты знаешь — я к тому неспособен; но если мне в жизни надо кого-нибудь любить, то есть на ком-нибудь жениться, то, кажется, я могу быть счастлив только с нею.
— Полно, полно; неужли эта кадрильная любовь к пустой, ветреной…
— Пожалуйста, не называй ее так. Мне кажется, ты ошибаешься. Еще в детстве мы знали ее; еще в первые дни юности она нравилась мне. Тогда как желания манили меня вдаль, мысль об ней удерживала меня. В день ее свадьбы я не помнил себя от исступленного отчаяния; только скорый отъезд спас меня от помешательства: я был влюблен. После, разумеется, жар мой прошел, я забыл ее; но и там, далеко, она в сновидениях проносилась иногда передо мною светлой, блестящей звездочкой любви и счастия. Теперь, когда я снова увидел ее, прошедшее ожило в душе моей… Я будто опять живу прежнею, молодою жизнью. И тем более полны жизни и свежести мои воспоминания, что она, сколько я заметил, ничего не переменилась. Так же резва, беспечна, так же простодушна…
Черницкий громко захохотал.
— Маска, мой милый, маска! — закричал он. — Уж я получше тебя знаю ее. Ты здесь другой месяц, а я другой ход. Для нашего брата она неприступна, как Гибралтар. Чтоб успеть у нее, надо много и много. Притом же она вдова… Понимаешь ли ты это? вдова! то есть женщина, которая глядит на супружество «с надлежащей точки зрения». Ей нужен муж-пешка, муж-болван, который бы не смел любить ее, точно так же как не смел бы противоречить ой в чем-нибудь. На нас, на людей, дерзающих иметь свой голос, она смотрит как на обманщиков, лицемеров, тиранов женщины. В твоей чистосердечной страсти, безотчетной преданности она будет видеть обдуманное притворство, рассчитанные замыслы на ее свободу. Да, милый, почти все вдовы так смотрят на своих вздыхателей; они уверены, что вправе думать так, потому что им удалось скоро уморить первого мужа, или, выражаясь их словами, «приобресть опытность». Задумская, более чем другие, уверена в своей «опытности». О, я очень хорошо ее знаю! Оттого-то она и не кружит мне головы, только кружусь иногда с нею в вальсе, потому что приятно подержать в руках свеженькую, душистую вдовушку, хоть я и знаю, что не для меня она цветет, а для какого-нибудь превосходительного, у которого глаза худо видят от старости.
— Может быть, ты и прав; но как бы то ни было, я хочу с ней чаще видеться, хочу объясниться с ней. Твоя обязанность доставить мне случай.
— Изволь, изволь! Дай бог, чтоб тебе удалось поколебать ее сердце, смирить ее надменную гордость, которую, к стыду всех мужчин нашего околодка, она слишком явно выказывает. Она теперь больше живет в деревне с своей тетушкой, старой девой, которая до сей поры не покидает еще вожделенной надежды выйти замуж. Мы можем встречаться почти каждый день у соседей. Я тебя всем им представлю.
Вошел человек и доложил о приезде Андрея Матвеевича Стригунова.
— Вот кстати! — сказал Черницкий. — Я тебя сейчас и отрекомендую. Это один из ближайших наших соседей, самый веселый и любезный человек; немножко того… охотник пускаться в философию. Ну да и то не всегда. Не заговаривай только с ним о соленых огурцах, которые он почитает главнейшими источниками народного богатства. У него дочь Вера, девушка лет семнадцати, — добра и мила, только немножко горбовата; он вдовец… имение 200 душ но заложено, ветряная мельница и…
— Здравствуйте, мое почтение, вселюбезнейший сосед Разумник Петрович! — воскликнул в это время Стригунов, войдя в комнату и подавая руку Черницкому.
К портрету Андрея Матвеевича, нарисованному Черницким, нужно только прибавить, что Андрею Матвеевичу было за сорок лет, что совесть у него, по-видимому, была довольно чиста, потому что он не мог пожаловаться на худобу, и что в эту минуту, когда он вошел в комнату, лицо его было чрезвычайно озабочено и вместе с тем сияло какою-то торжественностию. Присутствие третьего, казалось, сначала несколько смутило Андрея Матвеевича, однако ж он совершенно ободрился, когда Черницкий отрекомендовал ему Зеницына и тот дружески пожал ему руку.
После разных учтивостей и небольшого разговора, сперва о Петербурге, потом о погоде и урожае, Андрей Матвеевич, как говорится, замялся; несколько минут он был безмолвен и неподвижен; наконец начал с расстановкою:
— Я к вам с просьбою, Разумник Петрович; не откажите: дело серьезное; без вас не обойдется.
— Говорите, Андрей Матвеевич; я исполню с удовольствием всё, что от меня будет зависеть.
— Вот видите (начал Андрей Матвеевич, видимо собираясь сострить)… третьего дня, часу в четвертом пополудни, попался мне в руки «Месяцеслов». Я и ну перечитывать… Да и дочитался, сударь мой, до показания годовых праздников и табельных дней. Коли развернулось, так уж пробегу, подумал я сам про себя, и начал читать… Что ж бы вы думали? Я начитал там, что 17 сентября, судари мои, праздник…
— Ну-с, праздник?
— Да-с, праздник: Веры, Надежды, Любви, матери их Софьи…
— Вот что-с! Вас удивляет, что так много именин в один день?
— Это бы еще ничего; да вот в чем дело: ведь дочь-то мою зовут Верой.
— То есть вы хотите сказать, что Вера Андреевна семнадцатого сентября именинница. Но ведь еще далеко до этого; вы рано беспокоитесь.
— Мне бы хотелось отпраздновать повеликолепнее, знаете… Вот я и приехал с вами посоветоваться.
— Еще успеете! Задать хороший обед, назвать гостей, потанцевать… Вот и славно; все будут довольны.
— Всё так, — сказал Андрей Матвеевич, переминаясь, — но надо подумать, что Верочка уже на возрасте… этого, мне кажется, мало. Вот я и придумал…
— Ну, что ж вы придумали?
— Покойница моя была страстная охотница до театра… у нас и теперь хранятся все принадлежности…
— Славная мысль, славная мысль! — закричал Черницкий, не дожидаясь окончания речи Стригунова. — Мы сочиним домашний спектакль в честь вашей дочки. Решено! завтра же начинаем хлопотать.
Лицо Андрея Матвеевича просияло невыразимой радостию. Он готов был броситься на шею Черницкому.
— Ну так, я знал, что вы меня выручите! А без вас что я? пропал бы! Право, так. И слыхано ли дело, чтоб у нас удавалась какая-нибудь новая затея без помощи Разумника Петровича. Он подлинно у нас разумник. На всю губернию голова!
Андрей Матвеевич не льстил Черницкому. Слова его были отголоском общего мнения. Черницкий был светилом провинциального общества по крайней мере на шестьдесят верст в окружности, был главный двигатель удовольствий его. В сущности, он был не более как человек, который, прожив около десяти лет в Петербурге, имел случай наглядеться и наслушаться таких диковин, о которых и мечтать не смеет провинциальная мудрость. Выдумки его были всегда удачны; остроты повторялись в самых отдаленных уездах ***ской губернии. В деревню он попал уже чем-то вроде Онегина: полупромотавшимся, разочарованным, ленивым денди, с тою только разницею, что предпочитал уединению удовольствие разгонять свою хандру в обществе людей, каковы бы они ни были. Разменяв свой ум на мелкую монету ежедневных острот, он без оглядки бросал ими в кого попало, в суждениях своих был резок и решителен, говорил важно, «с ученым видом знатока», как человек всё испытавший и всё презирающий. Мудрено ли, что слова его принимаемы были как закон, что к нему прибегали за советами и пособиями в делах затруднительных? И, надобно признаться, Черницкий умел поддержать себя в подобных случаях, так что с каждым новым подвигом слава его возрастала. Все, так сказать, благоговели перед ним, никто не дерзал оспоривать его первенства. Да и отчего не простить человеку славы провинциальной, местной славы, которая никому не вредит, а, напротив, приносит еще так много удовольствия?
Долго не могли решить, что сыграть. Черницкий стоял за водевиль, Стригунов за драму. Наконец приняли за лучшее дать и водевиль и драму. Черницкий вытащил пук разных театральных альманахов и принялся выбирать. Водевиль нашли скоро, выбор драмы затруднил на несколько минут и самого Черницкого. Драмы были все большие, пятиактные и притом весьма неудобные для представления на домашнем театре.
— Давать так уж давать что-нибудь новое! — сказал важно Черницкий. — Вот только что вышедшая в переводе драма Шекспира «Ромео и Юлия»; сыграем ее.
— Как можно! — перебил Зеницын. — Она слишком трудна, сложна, длинна.
— Ничего, я завтра же прилажу ее к нашим декорациям, костюмам…
— Помилуй, неужли ты хочешь наложить руку на Шекспира? Грех, братец!
— Молчи, мы из трагедии сделаем комедию, — отвечал Черницкий шепотом. — Прежде всего надобно подумать об обстановке драмы, — продолжал он, обращаясь к Андрею Матвеевичу. — Надо распределить роли и заблаговременно раздать их, чтоб успели выучить и вырепетировать. Началось чтение драмы.
— Как вы думаете, кому из наших знакомых приличнее играть Ромео? — спросил Черницкий, прочитав вслух первое действие.
— Кому, кому… кто бишь у нас из молодых-то людей по соседству? Да вот хоть бы Глеб Сидорыч Бралов; хороший, очень хороший человек: голос у него такой басистый, вид мужественный, руки длинные.
— Что вы, какой он Ромео! Отставной стряпчий, закоренелый подьячий; не спорю, что у него руки длинны, по этого еще недостаточно, чтоб играть шекспировского героя… Притом же он горбат.
— Ну так Ардальон Петрович Горлатин, наш заседатель; человек прямой: словно аршин проглотил… Или вот Петр Иваныч Хламиденко, наш ближайший сосед; он, правда, немножко стар, зато уж большой мастер играть.
— По годится. Он вечно в каком-то веселом расположении духа, как будто немножко хмелен от природы, а тут нужен характер мрачный, глубокий. Мы ему найдем другую роль. Без него также нельзя. Хламиденко человек удивительный, — прибавил Черницкий, обращаясь к Зеницыну, — я тебя с ним познакомлю. Несмотря на то что я беспрестанно смеюсь над ним, мы живем дружно, душа в душу. Я на него много надеюсь в отношении нашего спектакля. Но кому же дать роль Ромео? Разве Пырзикову, нашему исправнику?.. Он человек довольно неглупый, хоть и простой. Пишите же: действующие лица; Ромео — господин Пырзиков.
— Позвольте, — перебил Андрей Матвеевич, — я вспомнил одно не совсем приятное обстоятельство. Не спорю, Роман Макарович человек хороший, дай бог побольше таких людей нашей губернии. Но… мы все существа слабые: у Пырзикова есть привычка выпивать по рюмке ерофеичу через каждые полчаса. Что, если ему придется дольше получаса быть на сцене: ведь не стерпит, сердечный…
Зеницын не мог воздержаться от невольной улыбки; Черницкий, напротив, сделал очень серьезную гримасу, какая появляется у людей при нечаянно встретившемся затруднении, и сказал с важностию:
— Вы правы; Пырзиков не может играть. Есть места, в которых Ромео по целому часу не сходит со сцены.
Андрей Матвеевич насчитал еще несколько кандидатов в Ромео; все они, по различным причинам, весьма уважительным, были отвергнуты Черницким.
— Ну так играйте вы сами…
— Не могу, любезный Андрей Матвеевич, — я решительно неспособен к такой роли… Ну вот, вы видите, нет никакой возможности сыграть драму; по необходимости должно ограничиться водевилем…
— Что вы, как можно! — воскликнул Стригунов почти со слезами. — Некому играть… полноте; как вам не найти человека! Вот хоть бы ваш приятель; если б они сделали такое одолжение.
— Я еще не уверен, долго ли здесь пробуду, — прервал Зеницын. — Мне скоро нужно быть в Петербурге.
Андрей Матвеевич остолбенел от ужаса. Мысль задать великолепный спектакль так срослась с его мозгом, что без осуществления ее ему казалось невозможным праздновать день рождения дочери.
— Постойте! — быстро воскликнул он, как бы озаренный светлою мыслию свыше. — Вы говорите, что кроме Пырзикова никто не может сыграть Ромео?
— Ну да.
— Так у нас сыграет его Пырзиков. Только нельзя ли прибавить, что Ромео болен и пьет лекарство или что ему слишком жарко, так он прохлаждает себя водой. Ну, разумеется, мы вместо воды-то водки нальем; гости не догадаются.
— Славная мысль! Браво, Андрей Матвеевич! — вскричал Черницкий с простодушным восторгом, так что Зеницын не знал чему больше удивляться — простоте Стригунова или искусству, с каким Черницкий умел подделаться под его натуру.
— Теперь я всё вспомнил; в пятом действии есть сцена, где Ромео выходит с пузырьком, в котором яд…
— Ну вот и налить туда ерофеичу! — радостно перебил Андрей Матвеевич. — Пусть пьет да пьет себе; и ему хорошо, и нам любо, да и ничего нет предосудительного.
— А предыдущие сцены я сокращу, так, чтоб каждая шла не более получаса…
— А за кулисами поставим графинчик: как он выйдет, так мы и поднесем ему, голубчику… Слава богу, от сердца отлегло! — воскликнул Стригунов, записывая Пырзикова действующим лицом.
— Теперь далее. Пишите: граф Парис — господин Хламиденко; Бенволио — я, ваш покорнейший слуга, Черницкий; Юлия… кому играть Юлию?.. Я думаю, вашей дочери.
— Нет, для нее роль покороче, она слаба грудью…
— Так кого же вы думаете?
— Уж лучше, я думаю, некого, как Александру Александровну; оно и больше важности… Только согласится ли? недавно сняла траур…
— Согласится, — отвечал Черницкий, — она уж танцует.
— Ты думаешь? — перебил Зеницын.
— Я уверен. Она любит увеселения всякого рода, особенно такие, где можно блеснуть чем-нибудь новым…
Зеницын задумался. Случай покороче узнать Задумскую представлялся сам собою нечаянно; потерять его было бы жалко. Он решился.
— Позвольте, господа, — сказал он, — вы должны сделать небольшое изменение в вашей афишке. Обдумав хорошенько свои дела, я нашел, что мне еще можно пробыть здесь до исхода сентября; я с удовольствием беру на себя роль Ромео и прошу записать меня.
Радости Андрея Матвеевича не было конца. Он был не чужд честолюбия; показать своим провинциальным собратиям диковинку, залетевшую из Петербурга, было для него верхом счастия.
Вскоре афишка была составлена, и Андрей Матвеевич, исполненный самодовольствия и гордости, отправился упрашивать соседей быть участниками в его спектакле.
— Славный малой, только глуп немножко! Ну да и слава богу! — сказал Черницкий, когда добродушный помещик раскланялся и сел в свою бричку.
II
День семнадцатого сентября был великим днем для села Вахрушова. Всё было в движении, волновалось, шумело, хлопотало с самого раннего утра. Об Андрее Матвеевиче и говорить нечего. Еще до света поднявшись с постели, он неутомимо бегал из одного конца своего дома в другой, из кухни в чулан, из чулана в погреб, из погреба в театр. Скоро наступила и решительная минута: начали съезжаться гости. В продолжение получаса двор Андрея Матвеевича наполнился каретами, колясками, рыдванами, тарантасами, бричками всех видов, величин и достоинств; комнаты закипели народом. И, боже мой, кого тут не было! Съехались почти все чиновники города, все помещики того уезда, живущие не далее сорока верст от усадьбы Стригунова. Была тут и она, с строгим, неприступным взором, с повелительным голосом, с очаровательной ножкой и дымообразной талией. Кто на нее но засматривался, у кого сердце не билось при взгляде на пышную красоту в полном развитии? А она? Холодно и гордо смотрела она на этот уездный мир, готовый упасть к ногам ее… Зеницын кусал себе губы от досады и от другого не менее сильного чувства, видя презрительные гримасы, какими отвечала она на любезности уездных франтиков. Несмотря на свою столичность, он еще не много подвинулся вперед в видах своих на Александру Александровну, хотя имел к тому довольно времени и удобства.
Александра Александровна против ожидания отказалась участвовать в спектакле, отговорившись тем, что недавно сняла траур; но, несмотря на то, Зеницын почти каждый день в продолжение трех недель бывал в ее доме, потому что роль Юлии приняла на себя ее тетушка, девица лет тридцати пяти, сухая, высокая и неуклюжая. В такой печальной перемене Зеницын утешался только тем, что Задумская дала слово постоянно бывать на репетициях. Но напрасно он старался применять горячие монологи Ромео к настоящему своему положению; напрасно, как будто невзначай, относился он к Задумской с словами страсти и страдания. Она слушала равнодушно, по временам произнося только холодным, спокойным голосом: «Хорошо, очень хорошо» или «Немного громче, не так пылко» — и тому подобные замечания. Усилия Зеницына, по-видимому, не произвели ни малейшего впечатления на Задумскую; зато они сильно подействовали на ее тетушку; зрелая девица таяла, млела и густо, тяжело вздыхала, слушая Зеницына. На третьей репетиции она была уже влюблена по уши, на четвертой уже делала Зеницыну самые выразительные глазки. Зеницын ничего не замечал, занятый своею вдовушкой. Им овладела какая-то робость. Задумская оставалась для него по-прежнему загадкою. Из смелого, самонадеянного малого он сделался кротким, неопытным любовником. Каждый день решался и каждый день откладывал. Однако ж рассудок беспрестанно напоминал ему, что пора кончить.
Обед был великолепный. Андрей Матвеевич не садился за стол, поминутно подбегая к гостям и потчуя их своеручно. Все были очень довольны. После стола одна часть гостей уселась за карты, другая отправилась в сад, третья, которая состояла из участников спектакля, бросилась со всех ног в комнату, где шли приготовления к спектаклю. Там сделалась ужасная суматоха. Кто вслух твердил роль, кто гигантски размахивал руками, кто пробовал, как ловче и эффектнее упасть, а Юлия приставала к Ромео, чтоб он повторил с нею сцену объяснения в любви. Из числа участников представления особенно замечателен был Петр Иванович Хламиденко. Мы не будем его описывать, а лучше повторим то, что говорил об нем приятель его Черницкий, которого мнения в таком случае гораздо важнее, как основанные на авторитете.
— Когда (говорит он) я в первый раз увидел почтенного Петра Ивановича Хламиденко, не знаю почему мне пришли на мысль поношенные брюки. После, когда я короче ознакомился с ним, когда, наконец, мы стали друзьями, я тщательно старался доискаться причины столь странного впечатления, но решительно не находил ее. По необходимости я должен был назвать его впечатлением безотчетным, происшедшим по какому-нибудь сверхъестественному соотношению физиономии Петра Ивановича с поношенным платьем. От роду господину Хламиденко лет пятьдесят; ходит он в парике. Что касается до внутренних качеств Петра Ивановича, то я думаю, что он принадлежит к числу людей, которые способны набить свой карман при случае, одурачить дурака и быть одурачену умным, поесть, попить на чужой счет и даже придумать проектец вроде проекта о застраховании курительного табаку от огня.
Хламиденко, как доказывает самая его фамилия, из малороссиян; он служил двадцать пять лет по статской службе, вышел в отставку надворным советником и купил деревеньку по соседству Черницкого и Стригунова. Еще нужно сказать, что он бредил приметами и хворал страстью — свататься.
Пробило семь часов. Андрей Матвеевич с лицом встревоженным и озабоченным вбежал в сборную комнату своих актеров-любителей.
— Пора, пора! — закричал он. — Гостей наехало бездна, время бежит… восьмой час, а все еще не готовы… Ай, господа, господа! какая неисправность… Ну, право, видно, я не гожусь в режиссеры. Петр Иванович — граф Парис, готовы ли вы? Выучите, пожалуйста, потверже сцену с Ромео во втором акте, Вера Леонтьевна: я надеюсь от нее большого эффекта…
— Я и то прошу Ореста Николаевича повторить, — пропищала жалобно Вера Леонтьевна. — Ну, Орест Николаевич, начинайте хоть с этого: «О, говори, говори, ангел блистательный!»
Зеницын сделал кислую гримасу и начал репетировать с Верой Леонтьевной.
— Повторите, повторите, — говорил Андрей Матвеевич, перебегая от одного к другому. — Пусть же все скажут, что и мы умеем давать хорошие праздники.
— И что ваши гости умеют хорошо разыгрывать свои роли! — самодовольно прибавил Хламиденко.
Стригунов ушел на сцену. Вера Леонтьевна продолжала декламировать; Черницкий насвистывал какую-то песню. Хламиденко хотел идти; но вдруг, не дойдя до двери, остановился, нагнулся, поднял что-то и сказал со страхом:
— Булавка! Она лежала ко мне острием… Дурная примета… Нужно принять предосторожности. (Он три раза повернулся на одной ноге, плюнул сперва на северо-запад, потом на северо-восток и произнес торжественно): Господа, непременно случится какое-нибудь несчастие! Однако прощайте! Что бы ни случилось — пора одеваться.
Хламиденко ушел.
— Ну, мосье Зеницын, будем же продолжать! — начала Вера Леонтьевна. — На чем, бишь, мы остановились? Да! я говорю вам: «Возьми меня всю, всю…»
И она делала глазки бедному Зеницыну.
— «Беру тебя, беру, с тем чтоб ты назвала меня сладостным именем любви», — отвечал он почти со слезами.
Дверь с шумом отворилась: вбежал Хламиденко, расстроенный, всклокоченный, вбежал в полурусском, полуитальянском костюме, без парика.
— Фабры, фабры! — закричал он. — Боже мой! Что ж я буду делать без фабры?.. Вот порядок!.. Не говорил ли я, что случится какое-нибудь несчастие? Так и есть! Где я возьму фабры?..
На крик сбежалось несколько слуг и за ними сам хозяин.
— Что случилось? отчего вы так расстроены, Петр Иванович?
— Расстроен! и вы еще спрашиваете, отчего я так расстроен?
— Он никогда не был настроен, — подхватил Черницкий.
— Он, видно, как подержанные фортепьяно, не держит строю, — заметил Зеницын.
— Не понимаю причины вашего гнева… Объяснитесь.
— Вы имели против меня злой умысел; хотели опозорить меня перед вашими гостями. Я прихожу одеваться… И что ж? Нет фабры, нет волос, из которых бы я мог сделать усы и бороду приличной длины и цвета…
— Успокойтесь, я сейчас отыщу парикмахера; всё найдется…
— Найдется? нет, поздно уж искать теперь! Я преодолел одно препятствие; я с опасностию своей жизни достал вот эти волосы.
— Покажи, покажи, что за волосы… Да это какая-то шерсть! — вскричал Черницкий, рассматривая продолговатый пучок волос рыжего цвета, который он уже давно заметил в руках неистовствующего Париса.
— Я хотел сделать из них усы и бороду…
— Что ж мешает?.. Славный отрывок… кажется, от теленка… Советую тебе привязать из него бороду.
— Отвяжись!
— В самом деле, почему ж бы вам не воспользоваться своим открытием? — смиренно спросил хозяин.
— Воспользоваться?.. Да разве вы не видите, что это открытие рыжее… всмотритесь хорошенько, совершенно рыжее! — воскликнул Хламиденко почти со слезами.
Все присутствующие начали с любопытством рассматривать волосы.
— О, какое несчастие! — говорил Хламиденко.
— Огненного цвета!
— Совершенно рыжего цвета!
— Без малейших оттенков черного или красного!
— Настоящее подобие красной меди!
— Блистательней солнца, точно у Казимода!
— Что за козьи моды! — закричал оглушаемый Хламиденко. — И глупо, — продолжал он, — у козы белая борода, а не рыжая… Хоть бы смеялись-то умно…
— Да успокойтесь, Петр Иванович, — сказал хозяин, смекнув, что дело может принять дурной оборот для его спектакля. — Вооружитесь всегдашним вашим благоразумием… теперь вас узнать нельзя… Я никогда не думал, чтоб вы были в состоянии кричать и сердиться… Скажите, вы ли это, вы ли?
— Все решительно против меня! — воскликнул Хламиденко, хватаясь за голову. — Если я и вою, так по вашей милости… Однако смотрите, Андрей Матвеевич, как бы вам самим не заплакать!
— Помилуйте, совсем не в том смысле сказал… Если я виноват, то прошу извинения…
— Извинения! могу ли я сделать усы и бороду из вашего извинения?.. Могу ли я нафабрить эти рыжие волосы вашим извинением?.. Нет, я решительно отказываюсь играть!
— Ах, какой вы человек!
— Я не человек, я надворный советник! Я не позволю играть собою всякому… да и сам не буду играть… Прощайте.
Хламиденко ушел. Стригунов чуть не упал в обморок с отчаяния. Только обещания Черницкого уговорить Петра Ивановича несколько ободрили его. Они со всех ног бросились за разъяренным Парисом.
Зеницын остался один. Когда влюбленный робок и нерешителен, тогда он хватается за самые странные средства, чтоб сблизиться с любимой женщиной, только б эти средства были по плечу его робости и нерешительности. Так действовал и Зеницын. Боясь объясниться открыто, он думал, что может заронить искру любви в сердце Задумской, объяснить ей несколько свои чувства, передав на сцене верно и увлекательно любовь и страдания лица совершенно постороннего. Такое предположение ему извинительно: он был мечтатель и верил в тайное сочувствие душ. Надеясь многого от настоящего вечера, он усердно принялся за повторение своей роли, торопясь воспользоваться последними минутами. Вдруг за дверьми послышался шум: в комнату вбежал Хламиденко, сопровождаемый Черницким и Стригуновым.
— Ты говоришь, что она, Александра Александровна, ангел, штаб-офицерша, — просила меня играть?
— Ну да, — отвечал Черницкий, удерживаясь от смеха.
— О, как я счастлив!.. Беги же, скажи ей, что я всё для нее сделаю.
— Да будешь ли ты играть-то?
— Буду ли я играть? Она просила — и я не буду играть?.. Разве я камень, разве я пробка, разве я дерево… «Понемногу того и другого и третьего, — подумал Зеницын, — а больше всего пробки».
— Иду, иду, буду играть, хоть бы горы препятствий воздвигала судьба!
Хламиденко ушел. Андрей Матвеевич молча пожал руку Черницкому в знак благодарности. Чтоб понять столь быструю перемену, надобно сказать, что Хламиденко давно уже таял от взоров очаровательной вдовушки. При своей самонадеянности, он уже несколько раз приступал даже к решительному объяснению, но был отвергаем. Теперь надежда снова ожила в душе его.
— Половина восьмого! — с ужасом закричал Андрей Матвеевич, взглянув на часы. — Только полчаса осталось… Ах, боже мой!
Он побежал со всех ног на сцену. Суматоха сделалась ужасная. Начали одеваться. Наконец поднялся и занавес. Началось представление. Рукоплескания не умолкали почти во всё продолжение драмы. Об игре актеров-любителей и говорить нечего: если б не Зеницын, который один несколько соответствовал своей роли, то драму Шекспира легко было бы принять за комедию. Хламиденко невыносимо кричал, бил себя в грудь, топал ногами и засматривался на одно из кресел, в котором сидела Задумская. Монах Лоренцо, которого играл Пырзиков, нес какую-то ахинею и, толкуя о укрепляющей силе трав, им собираемых, беспрестанно ослабевал от травнику, который пил на сцене под именем целебного эликсира. Вера Леонтьевна кстати и некстати вешалась на шею Зеницыну и портила его монологи пискливым мяуканьем. Зеницын понимал, как смешно его положение в кругу подобных существ, и между тем лез из кожи, то рыдая, то радуясь, то хохоча в припадке неистового отчаяния. У него, как мы уже сказали, была своя цель, цель странная, однако ж, не вовсе нелепая. По достиг ли он ее? Задумская была тут. Она слушала его, — сначала как все, холодно, равнодушно, потом с некоторым вниманием; наконец с нетерпением ждала она его выходов… Но поняла ли она его? способна ли она была понять его? Черницкий был прав, описывая ее своему приятелю. Она действительно давно сказала сама себе: «Мне нужен или муж — ребенок душою, который был бы слепо, беспредельно предан мне, или муж — дурак первого ранга; иначе я никогда не выйду замуж, потому что буду несчастна». Вот почему она была так неприступна для провинциальных любезников, по большей части пустых и несносных. Она знала, что если б ей не удалось найти мужа первого разряда, то есть мужа-ребенка, то мужей второго разряда могла бы встретить вдоволь. До сих пор она видела в Зеницыне человека слишком обыкновенного и вовсе не думала прочить его себе в мужья, хоть сердце много говорило в его пользу; но теперь, когда она услышала его сильную, могучую речь, полную страсти и энергии, она поняла, что в нем есть душа, способная чувствовать глубоко и сильно. Она стала припоминать слова, которые говорил он, робость, какую обнаруживал в ее присутствии: слова показались ей так простодушны и благородны, робость так естественна и невинна, что ее молено было принять лучшим свидетельством неиспорченности сердца и чистоты намерений. Зеницын стал не столько ничтожен в глазах ее, как прежде. Таким образом, мечтательный расчет Зеницына принес ему действительную пользу.
Драма кончилась. Зеницын, разумеется, был вызван и оглушен рукоплесканиями. Много было и других вызовов; только как будто гости сговорились заранее: никто не подал голоса в пользу Веры Леонтьевны. Она одна не была вызвана! Предвидя огорчения своей тетушки, За-думская поспешила на сцену, чтоб успокоить ее обиженное самолюбие. Тетушка бесновалась в полном смысле слова; она готова была вызвать на дуэль всех гостей за то, что ее не вызвали. Нескоро успели привесть ее в память и уговорить играть в водевиле, где она выучила главную роль…
— Вперед нога моя не будет у Андрея Матвеевича! — сердито говорила она своей племяннице, выходя с нею за кулисы.
— Ничего, ничего, матушка! — кричал ей вслед Андрей Матвеевич. — В водевиле зато три раза вызовем… Что делать! видно, забыли, забыли… Впрочем, ничего… дело поправимое… Ставь кулису, на которой нарисовано синее небо с черными полосками да три зеленые дерева! — продолжал он, обращаясь к лакею.
— Успокойтесь! — говорила Задумская своей тетушке, внутренне смеясь над ее страстию к славе. — Водевиль всё поправит: я сама вам похлопаю…
— Как! — воскликнула Вера Леонтьевна с изумлением. — Ты хочешь смотреть водевиль? Опомнись… Уж будет того, что смотрела драму… Прилично ли, скажите пожалуйста, смеяться публично через год после смерти мужа?..
— Но меня просит Андрей Матвеевич…
— Что слушать мужчин! Они уговорят, да после сами же смеяться станут… О, я их хорошо знаю!
— Я в этом уверена, тетушка.
— Сколько раз я говорила, что я тебе кузина, а не тетушка.
— Вы сейчас сами назвали меня племянницей.
— Нужды нет… Так ты не пойдешь смотреть водевиля?
— Но ведь вы играете же в нем, хоть также были очень близки моему покойному мужу.
— Я? я дело другое… Не смотри водевиля, советую тебе.
— Пожалуй. Я что-то устала… Притом же маменька учила меня уважать советы старших…
— Иногда надобно слушать и не одних старших, — перебила Вера Леонтьевна с досадою, — например, я желаю тебе добра; не должна ли ты меня послушаться?
— Ванта любовь ко мне, точно так же как и лета ваши, обязывают меня…
— Ты что-то сегодня рассеянна… Как тебе показалась драма? — сказала Вера Леонтьевна, стараясь замять неприятный для нее разговор. — Зеницын играл прекрасно!
— О, без сомнения! Он очаровал меня!
— Ну, не очень очаровывайся… Помни, что ты вдова. Иное дело девушка: она может предаваться влечению своего неопытного сердца… Не заметила ли ты, он, кажется, что-то робел со мною, голос его дрожал, когда он говорил о любви?
— Как же, заметила… Он решительно влюблен…
— Ну, бог знает; только не советую тебе думать о нем: нет ничего ужаснее безответной любви… Вот Хламиденко; он и давеча говорил…
Вбежал Стригунов и объявил, что пора выходить. Вера Леонтьевна убежала на сцену. Задумская осталась одна. Слова Зеницына: «Будь моею, подари меня своей любовью!» — не выходили из ее головы. Ей почему-то казалось, что они относились к ней, несмотря на то что были сказаны на коленях пред ее тетушкою в виду множества зрителей. Она замечталась. Зеницын, в прекрасном итальянском костюме, который живописно обрисовывал его талию, с страстным, умоляющим взором, с словами любви на устах, живо представился ее воображению. Его упоительная, сильная речь, полная страсти и преданности, лилась рекою в ее жадный слух; его глаза сверкали пламенем, обличая душу сильную и высокую, способную любить беспредельно, вечно… Она слышит биение его сердца, пьет его дыхание, наконец чувствует жгучую сладость его поцелуя… До чего не доводят мечты?.. О, как он свеж, как пылок поцелуй его! Здесь в первый раз Задумская решила, что лучше иметь мужа-ребенка, чем мужа-глупца, что прежде для нее казалось совершенно одно и то же. Видение не исчезало, она продолжала поглощать его глазами, предаваясь упоительному обману чувств, забыв всё на свете… Вдруг послышался тихий шорох шагов. Она подняла голову… Зеницын, не мечтательный, действительный Зеницын стоял перед нею в том же самом положении, как она воображала его себе, с тем же кротким, умоляющим взором; даже костюм его был тот же самый.
— Простите мою неосторожность… Я помешал вашему уединению, — сказал он с замешательством.
— Я очень рада, что нашла случай поблагодарить вас за удовольствие, которое доставила мне ваша прекрасная игра.
— И вы с благодарностью!.. Право, я не знаю, куда мне деваться от благодарности… Когда я кончил, голова моя горела, чувства просили покоя, мысли уединения; вдруг благодарность, под видом нескольких самодовольных, плотно пообедавших существ, обступила меня со всех сторон. Я убежал в сад — там поймала меня благодарность в особе хозяина; я сюда — здесь также благодарность и, к несчастию, точно такая же.
— Но может ли быть иначе?.. Вы играли так хорошо, в вас было так много души, чувства, очарования, что, несмотря на несносные кричанья Хламиденко, который всё портил, нельзя было не увлечься…
— Как? Игра Хламиденко вас не растрогала?.. Вы не разделяете общего мнения, что он играл превосходно?.. Вас не поразила его энергия, его вдохновение?
— Разве это вдохновение?
— А как же?.. Что же оно по-вашему?
— Какой вопрос!.. Вдохновен только тот, кто способен увлекаться до восторга чем-нибудь…
— Или кем-нибудь?
— И увлекает в то же время других…
— Прекрасно! Но разве Хламиденко не увлекает? Помните ли, как всё оживлялось, когда он начинал говорить? И как говорил он! Он задыхался от жару; глаза горели…
— Полноте! Его восторг не более как прилив крови к голове и сердцу…
— Хорошо. Положим, что это не вдохновение, а прилив крови к голове и сердцу, предполагаемым у господина Хламиденко; но он все-таки увлекает…
— Меня он только смешит.
— Странно! Значит, вы не так понимаете слово «увлекать», как господа, которые давеча осыпали рукоплесканиями господина Хламиденко?
— Не знаю, как они понимают его. Но, по-моему, увлекать значит заставлять других думать и чувствовать так, как мы думаем и чувствуем.
— Разве это возможно?
— Вы сегодня доказали, что возможно.
— В самом деле?.. Что ж! Может быть, человек и владеет такою способностию; может быть, частица ее досталась и на мою долю… Но жаль, что эта способность только во время роли не оставляла меня. А как бы иногда дорого я дал за нее! Бывает и со мной, что кровь прильет к сердцу: так много слов, так много мыслей роится в голове; хотелось бы их высказать…
— Что ж? Маленькое усилие над собой, и как не сказать того, что думаешь?
— Сказать нетрудно, но трудно пробудить сочувствие в ком бы хотелось.
— Говорите смело и откровенно, и вас всегда выслушают.
— Выслушают, но поймут ли? но ответят ли?..
— В таком случае нужно быть готовым ко всему.
— И говорить смело, — даже тогда, когда знаешь, что слова твои могут вызвать ответ, решающий судьбу всего будущего, счастие целой жизни?
— Вы мужчина и боитесь неудач!
— Говорить, когда любишь; сказать: я люблю вас, люблю давно, с первой встречи… но я не смел, не мог говорить вам о любви моей, потому что ни в поступках, ни в словах, ни в глазах ваших не встречал никогда малейшего признака участия…
Случай, как мы видим, дав разговору такой странный оборот, сделал то, на что так долго не мог решиться Зеницын. Александра Александровна давно уже догадалась о намерении Зеницына, однако ж неожиданный переход его несколько изумил ее. Она пристально взглянула в лицо Зеницына.
— Я люблю вас, люблю беспредельно, — продолжал он голосом нежным и умоляющим.
— Охотно верю, — сказала Задумская, снова взглянув пристально в его лицо, — ко скажу откровенно: я боюсь любви. Может быть, — продолжала она с важностью профессора, опытного в своем деле, — может быть, ваша привязанность, о которой вы говорите, есть только упрямство, свойственное мужчине, когда он стремится к своей цели. Когда же цель достигнута…
— О нет, нет! клянусь вам! Не мучьте меня. Скажите, советует ли вам сердце ваше любить меня…
— Любить вас? Да, я…
Она в третий раз взглянула на Зеницына и протянула к нему руку.
— О, решайте же скорей мою участь… Или умертвите презрением, или подарите любовию! — воскликнул Зеницын, покрывая поцелуями руку Задумской.
Вдруг лицо Александры Александровны страшно изменилось. Сперва ужас, потом изумление, досада, злость отразились в чертах ее. Она быстро оторвала свою руку от губ Зеницына, отскочила от него на середину комнаты и начала громко, неистово аплодировать.
Долго аплодировала она. Изумленный Зеницын тщетно искал в глазах ее разгадки странного поступка.
— Браво, браво, мсье Зеницын! — наконец вскричала она голосом совершенно спокойным и твердым, стараясь скрыть свое замешательство. — Вы идете вперед: теперь сцена вышла у вас гораздо лучше, чем давеча; вы сделали быстрые успехи. Но мне кажется странною охота так долго рисоваться в театральном костюме; конечно, он к вам идет, вы играете прекрасно… вы прекрасный актер…
— Актер?
— Прекрасный актер! Нельзя не удивляться вашему таланту. Слух менее проницательный, менее опытный легко бы мог принять ваши слова за голос действительного чувства: так живо, так увлекательно говорите вы… Браво, браво! Но, вы видите, в таких случаях я сама актриса, недурная актриса. Притом сцена, которую вы разыграли, мне уже знакома, и она не могла произвесть надо мной такого действия, какого вы, может быть, ожидали. Как бы то ни было, вы прекрасный актер и вполне достойны законной награды, громких рукоплесканий…
Она опять принялась аплодировать, потом подошла к зеркалу, поправила свою прическу и тихими, спокойными шагами вышла из комнаты.
Зеницын был поражен до крайности. Лицо его было бледно и мрачно, глаза сверкали огнем бешенства…
— Ай-ай! Вот куда я попал вместо двери! — раздался голос позади его. Он оглянулся: голова Петра Ивановича Хламиденко, вся измаранная, испещренная фаброй и румянами, усыпанная мушками, высовывалась из прорванной ею кулисы; ног его не было видно: они, вероятно, гостили на сцене.
— Сова, сова… или нет — филин… Нет, сова, которая похожа на филина! — безумно закричал Зеницын, бросаясь к кулисе…
— Что, как?
— Помилуйте, что вы наделали, — вскричал вбежавший впопыхах Андрей Матвеевич, помогая Хламиденке подняться на ноги, — это не годится. Вы разрушили очарование целой пьесы: действие на улице; тут был представлен горизонт… как же можно было прорвать небо?
— Когда небо вздумает кувыркаться вниз, а земля займет место неба, что случится 54 ноября, то тут не будет ничего удивительного! — перебил Зеницын с важной миной безумствующего Гамлета.
— Что такое? — воскликнул Хламиденко.
— Что такое? — повторил Стригунов.
— Ничего, ничего, ничего! — отвечал Зеницын. — Я только говорю вам: сено потому дорого, что на свете развелось ужасно много скотов…
Стригунов и Хламиденко значительно переглянулись между собою. Вошел Черницкий под руку с Верой Леонтьевной.
— Хламиденко упал, а прочие играли порядочно, — закричал он с обыкновенного своею веселостию. — Ты что так страшно смотришь? — продолжал Черницкий, обращаясь к Зеницыпу. — Ты ужасно переменился.
— В самом деле. Мне кажется, что я стал умнее. Ха-ха-ха!.. Оно так и должно… Когда человек сделает все глупости, которые ему суждено сделать на белом свете, он по необходимости становится умнее…. Торопитесь, господа; я сделал свое дело. Приходите ко мне завтра — я прочту вам ученую лекцию… а теперь мне некогда: я пойду в тюрьму подышать свежим воздухом…
Зеницьш ушел.
— Он с ума сошел! — шепнул Хламиденко Андрею Матвеевичу и побежал из комнаты, ворча про себя: — Вот странная оказия!
Андрей Матвеевич не мот ничего сказать от крайнего изумления: он только пожимал плечами и нюхал табак, по временам щупая свою голову. Черницкий опрометью бросился за Зеницыным.
— Он влюблен в меня, нет больше сомнения! — задумчиво прошептала Вера Леонтьевна. — Бедняжка, как он робок!.. Но я должна прекратить его мучения…
— Что вы говорите? — спросил Андрей Матвеевич.
— Ничего; меня удивило положение Зеницына.
— Да, оно, признаться, и у меня из головы не выходит. Не принять ли каких мер, не нужен ли доктор?
— О нет! я знаю его болезнь… Тут не поможет доктор… Не беспокойтесь, Андрей Матвеевич, ступайте к гостям, хлопочите об вашем празднике… Уверяю вас, что Зеницын будет сегодня же здоров.
— Дай-то бог!
III
Бал был блестящий. В карты играли на восьми столах. Зала, при всей своей обширности, не могла в одно время вместить всех танцующих. Играющим подавали пунш, танцующим лимонад и оршад; то и другое было приготовлено прекрасно. Александра Александровна была очень весела и очаровательна, как всегда. Опытные наблюдатели замечали, что в ней с некоторого времени прибыло еще более важности и самонадеянности. Несмотря на то, находились смельчаки, которые неотвязно вертелись около нее, лестью и комплиментами надеясь победить ее холодную неприступность. Наскучив наконец приторными комплиментами привязчивых волокит, Задумская тихонько прокралась из танцевальной залы в соседнюю комнату, где, к счастию ее, в то время никого не было. Но и тут не спаслась она от преследований. Едва успела она избрать себе место, в котором надеялась быть незамеченного, вдруг откуда ни взялся Хламиденко, с довольным, по обыкновению, лицом, нежным взором и раскрасневшимися щеками. Появление его, казалось, было не совсем неприятно Александре Александровне. Она очень милостиво улыбнулась на какую-то пошлость вроде приветствия, сказанную Хламиденком. Разговор зашел о спектакле.
— Да, вы были очаровательны в роли Париса, надо отдать вам справедливость…
— Ах, — отвечал скромно Хламиденко, — если и было в игре моей что хорошее, то не себе обязан я… не своему искусству… тут есть другая причина…
— Какая же? — кокетливо спросила Задумская.
— Ах, боюсь и говорить…
— Обыкновенная отговорка мужчин, когда они хотят что-нибудь скрыть.
— Напротив, я ничего не хотел бы скрывать от вас… я бы хотел высказать вам всё, всё…
— Полноте, пожалуйста; вы шутите…
Для такого человека, каков Хламиденко, последних слов Задумской было достаточно, чтоб вывесть из них кучу благоприятных предположений. Лицо его просияло каким-то необыкновенным огнем. Он гордо закинул назад голову, натянул белые перчатки, которые держал в руках, поправил свой галстух и стал на колени пред Александрою Александровною.
— Вы требуете, чтоб я говорил? — произнес он торжественно. — Хорошо, я открою вам тайну моего сердца: вы знаете, я люблю вас…
— Полноте шутить! Вы открываетесь в любви всякой женщине; я уж не раз слышала ваши признания.
— Но вы не сердитесь?
— За что ж тут сердиться?
— Так вам не противны слова мои?
— Отчего же?..
— О, я счастливец! Так вы меня любите?.. А как я страдал! Я воображал себе, что вы предпочтете мне какого-нибудь из молодых людей… Я думал, что вы влюблены в Зеницына…
— Вот вздор!
— Да, я ошибался, вижу это. Впрочем, теперь всё равно: если б вы и любили его прежде, то теперь, верно, не захотите любить сумасшедшего.
— Сумасшедшего?
— Разве вы ничего не знаете? Ведь Зеницын с ума сошел.
— Пустяки!
— Ей-богу, я не шучу. Спросите у кого угодно. Давеча мы сошлись с ним; он начал говорить… я слушал, слушал, — ничего не поймешь; дичь, совершенная дичь… Сам про себя сказал, что он всех умнее, меня назвал филином. И мало ли что говорил! Только всё такой ералаш, что уши вянут… Кто ни послушает, все говорят, что он помешался. И лицо такое страшное…
— Давно ли случилась с ним такая перемена?
— Кто говорит — после спектакля, а мне так кажется, еще прежде. Еще на сцене он заговаривался; говорил не то, что надо. Уж так, из вежливости, его вызвали вместе со мной, а совсем не стоит… Ну да что об нем говорить! Я так счастлив, что сам чуть с ума не сойду от радости. Но скажите, сжальтесь, скажите, когда судьба навеки соединит нас?.. Не откладывайте, умоляю вас…
— Это что такое? С чего вы взяли? Вот еще новость! Оставьте меня, сделайте милость. Я долго слушала вас, наконец недостает терпения…
Перчатки лопнули на руках Хламиденко от внезапного потрясения. Он стоял как громом пораженный. Бедный Хламиденко! Он наконец был близок к своей цели. Задумская, по разным причинам отчаявшись найти мужа первого разряда, нашла нужным на всякий случай приступить ко второму, которого Хламиденко был достойным представителем. Минута была благоприятная; может быть, она и решилась бы под влиянием впечатлений, волновавших тогда ее сердце. Но одно слово, и дело испорчено. Весть о положении Зеницына заставила Александру Александровну призадуматься. Она играла веером. Хламиденко, как было заметно, собирался что-то сказать. Вы знаете, он человек чрезвычайно уверенный в себе; формальный отказ Задумской мог смутить его только на минуту. С неимоверной быстротою, сообразив «по-своему» слова Задумской, он успел уже вывести из них благоприятное для себя заключение и вследствие того приготовил речь, которою надеялся поправить дело. К несчастию, случай заставил его отложить исполнение этого намерения до другого времени. В комнату вошла дочь хозяина, Вера Андреевна, девушка лет семнадцати, задушевная приятельница Задумской. Хламиденко признал за лучшее удалиться.
— Несносный! — говорила с досадой Вера Андреевна, не замечая Задумской. — За три дня до бала просил на кадриль — и отказался! Я почти готова плакать! Ах, и ты не танцуешь?
— Я почти в трауре.
— Но ведь ты танцевала?
— По необходимости: тетушка пристала ко мне.
— Уж она такая странная. Только и дело, что бегает из комнаты в комнату за Зеницыным. А он на нее и смотреть не хочет.
— Скажи, пожалуйста, что с ним сделалось? Ты его видела?
— Он сейчас только пришел в залу. Такой бледный, расстроенный… И вообрази, что он со мной сделал: отказался танцевать кадриль, на которую приглашал меня, и подвел вместо себя Черницкого. Черницкий стал надевать перчатки; вдруг запыхавшись подбежала к нам мадам Бубликова и зашепеля<ви>ла: «Мсье Черницкий, мсье Черницкий. Вы меня звали на эту кадриль; пойдемте же!» Черницкий закричал: «Ах да, виноват!» — и убежал за нею, а я без кавалера; я не танцую по милости Зеницына.
— Но не сердись на него: может быть, он нездоров.
— Нет, мне наймется, он с ума сошел. Он так страшен, так бледен. Я и Варенька даже подозревали, не интересничает ли он, не набелился ли.
— Очень может быть, — быстро перебила Александра Александровна, ухватись с какой-то особенной радостью за последние слова подруги, — о, мужчины на всё способны!
— Полно, chere[13], я смеюсь. Нет, он, кажется, не на шутку встревожен. Его узнать нельзя. Задумчив, скучен, говорит так странно, даже, поверишь ли, я не совсем хорошо понимаю его… Если б ты его видела… Да вот он.
В другом конце залы показался Зеницын, сопровождаемый Черницким. Машинально подвигался он вперед; лицо его было мрачно и безвыразительно, глаза неподвижны и бесчувственны. Вдруг он увидел Задумскую: судорожный трепет прошел по его телу, глаза засверкали, он отвернулся и быстро пошел назад.
— Куда же ты? — закричал ему Черницкий. — Ты сам говорил, что тебе наскучило многолюдство. Здесь просторно. Сядем.
Он насильно посадил Зеницына в кресла. Они начали разговаривать. Зеницын по-прежнему говорил странно и отрывисто, часто совсем некстати и невпопад, но в словах его не было уже той несвязности, которая так напугала Черницкого в первые минуты странной перемены его друга.
Вскоре после появления Зеницына к Задумской подошла Вера Леонтьевна.
— Да будь же веселее, пожалуйста! — говорил Черницкий своему другу. — Посмотри направо… преинтересная картина. Вот Вера Леонтьевна; пестро наряжена она: точно картинка суздальской живописи. Разговаривая с племянницей, она искоса посматривает на себя в зеркало, и каким довольством сияет лицо ее! за неимением поклонников, она сама в восторге от своей красоты… А вот Задумская. Как она печальна, скучна… Посмотри, посмотри. Она обернулась, глядит прямо на тебя…
— Она на меня смотрит! — воскликнул Зеницын трагическим голосом, приподымаясь с кресла. — Ее взор убьет меня!
— Что с тобой? как ты говоришь? Да ты настоящий Тальма!
— Тальма, актер! не говори, не говори! Это напоминает мне самую ужасную картину в моей жизни. Сегодня… да, когда мне было десять лет, меня напугал заезжий фигляр.
— Что ты так засмотрелась на Зеницына? Напрасно! ничего не выиграешь, — говорила между тем Вера Леонтьевна своей племяннице. — Лучше будь поласковее с Петром Ивановичем: он так за тобой увивается!
— Ах, тетушка!
— Смотри, помни разборчивую невесту.
Зеницын приподнялся с кресел и под руку с Черницким пошел в танцевальную залу. Вера Леоптьевна отправилась за ним.
Александра Александровна тяжело вздохнула.
* * *
В деревне, как известно, праздники не оканчиваются одним днем. Хозяин непременною своею обязанностию почитает содержать на свой счет, по крайней мере в продолжение трех дней, удостоивших его своим посещением знакомых и приятелей с их лакеями, кучерами и лошадьми. Так было и у Андрея Матвеевича. Все гости, кроме людей должностных да нескольких городских жителей, отговорившихся крайнею необходимостию, принуждены были еще на два дня остаться у него «на хлебах». В разных местах дома были постланы тюфяки на кроватях, диванах, стульях, составленных рядом, и даже на полу… К рассвету все угомонились, и дом Андрея Матвеевича превратился в стоглавое чудовище огромного размера, храпящее изо всей мочи. Утро, по обыкновению, началось чаем; потом подавали завтрак, который произвел благотворную перемену в гостях. Отяжелевшие головы оправились, сонные глаза просветлели; всем стало очень весело. Только один Зеницын был по-прежнему скучен. Напрасно заботливый хозяин старался предупреждать его желания, напрасно Черницкий придумывал для него развлечения. Хандра не проходила.
Обед был довольно шумен. После обеда всякий занялся, чем хотел. Зеницын ушел в сад.
— Насилу мы вас нашли, — кричал Андрей Матвеевич, подходя к беседке, где стоял Зеницын. — Нам нужно с вами поговорить о важном деле.
— Я весь к вашим услугам… Что вам угодно?
— Знаете, разнообразие важная вещь в жизни. До чая время у нас совершенно свободное… Я предлагаю прогулку верхом; дамы согласились с восторгом; дело за кавалерами… Вот вам бы хорошо прокатиться… несколько рассеять меланхолию.
— В самом деле, поедем ненадолго. Погода прекрасная! — подтвердил Черницкий, явившийся вслед за Андреем Матвеевичем.
Зеницын тяжело вздохнул.
— Ехать верхом, — сказал он трагически, — разве потому, что тут можно встретиться с опасностью, что на лошади я буду на шаг ближе к смерти, которой так жадно просит душа моя?
— Да что с тобой? опять трагедия! — воскликнул Черницкий.
— Помилуйте! лошади смирные… бояться нечего…
— Хорошо, я поеду… только с условием, чтоб вы позволили мне взять лошадь, какую я захочу…
— С удовольствием, какую угодно. Вот хоть чалую… Лошадь красивая, кроткая и хорошо скачет…
— Нет, она мне не нравится. Дайте мне сивую.
— Сивую? — повторил Андрей Матвеевич со страхом, — Вы хотите взять сивую?
— Да.
— Помилуйте… как можно… Разве вы не помните: ведь я вам говорил, что она на днях до полусмерти убила моего кучера.
— А меня убьет до смерти! — с какой-то напыщенной радостью вскричал Зеницын.
— Право, я не понимаю вас… Лошадь еще невыезженная, горячая, бешеная… Она и сесть не допустит.
— Уж я как-нибудь сяду… Что ж, неужели вы не можете сделать для меня такого ничтожного одолжения?
— Как можно… Не хочу оскорбить вас отказом… Но пойдемте, посмотрим на нее. Я уверен, что вы сами откажетесь от своего намерения, как скоро на нее взглянете.
— Скажите только, могу ли я взять ее?
— Извольте, если вам угодно… Но я уверен… Из беседки вылетело восклицание ужаса.
— Никак в беседке кто-то вскрикнул, — сказал Андрей Матвеевич. — Не случилось ли чего? Ах, это вы, Александра Александровна… Что с вами? — продолжал он, заглядывая в дверь беседки.
— Паук, паук! — закричала Александра Александровна, закрывая лицо руками. — Я ужасно боюсь пауков.
«Вот чудо-то! Ничего не боится, а паука испугалась», — подумал Андрей Матвеевич, возвращаясь к своим спутникам.
Они пошли смотреть лошадь.
Вы, верно, догадались, что встревожило Александру Александровну. Долго не доверяла она, чтоб Зеницын действительно был расстроен так сильно, как о том рассказывали; даже тогда, когда она сама увидела Зеницына, расстройство его не казалось ей слишком опасным, хотя заставило ее пожалеть о своей опрометчивой жестокости, которая, как она догадывалась, была причиною перемены в ее обожателе. Но последнее обстоятельство, которого она была нечаянною свидетельницею, привело ее в ужас… Она была горда, надменна, но не зла; мысль быть причиною несчастия человека приводила ее в трепет; притом она любила Зеницына. Единственною причиною поступка, который имел такие печальные последствия, была ее недоверчивость, которую она почитала осторожностью опыта. С восторгом слушала она признания Зеницына; она готова была кинуться в его объятия, приковать его к себе навеки цепями любви… Вдруг костюм Зеницына бросился в глаза ее; несколько слов его роли, случайно вырвавшихся из его уст, поразили слух ее… Мысль страшная, нечистая мысль, внушенная демоном недоверчивости, блеснула в голове ее: «Он недавно говорил то же на сцене моей тетушке, с таким же жаром, с таким же одушевлением: он стоял пред нею в том же положении, на нем был тот же костюм. Что, если он меня обманывает?» Обманывает! Могло ли быть что ужаснее для такой опытной женщины, как Александра Александровна? В минуту злая мысль завладела всем существом ее. Она ничего не понимала, ничего не чувствовала, кроме страха быть обманутой. Через минуту еще она уже не сомневалась, что Зеницын играет с нею комедию; она благодарила судьбу, которая послала ей спасительную догадку в то время, когда еще можно было поправить дело, не уронив нисколько своей важности, не выказав слабости собственного сердца… И вот она приняла вид обиженной, и едкие, укорительные слова полились с языка ее… И как она потом гордилась своим поступком, как удивлялась своей опытности, как была уверена в знании сердца человеческого и в невозможности быть обманутою! Теперь, когда она увидела, что без всякой причины оттолкнула от себя сердце, которое любило ее так глубоко и непритворно, что сделалась причиною несчастия человека, который был нужен для ее собственного счастия, она готова была предать проклятию свою недоверчивость; гордость ее разлетелась прахом, улыбка самодовольствия и самоуверенности исчезла; повелительный, надменный вид превратился в печальный и озабоченный; слезы выступили на ее ресницы… Никто бы не узнал Александры Александровны, взглянув на нее в настоящую минуту.
Прогулка верхом была отложена до другого дня, за недостатком дамских седел, чему Александра Александровна была чрезвычайно рада. Она надеялась, что до того времени успеет сделать для Зеницына жизнь не столь ничтожною, чтоб подвергать ее явной опасности, садясь на лошадь, которую все почитали неприступною. Но напрасно искала она случая поговорить с Зеницыным: он быстро и робко отходил прочь, как только замечал Задумскую, или отвечал на вопросы ее нехотя и отрывисто, так что решительно не было возможности поддержать разговор. Вскоре он вовсе исчез. Александра Александровна обегала все дорожки сада, надеясь встретиться с Зеницыным, но она нигде не встретила его. Усталая и печальная, возвратилась она в гостиную. Было около шести часов вечера. Вскоре за нею явился Петр Иванович Хламидепко. Лицо его было искривлено испугом; со лба градом катился пот; дыхание его было тяжело и неровно.
— Ах, кого я встретил! — вскричал он. — Извините, извините, что вы видите меня в таком расстройстве… Этот Зеницын хоть кого напугает…
— Что такое… Зеницын… вы его видели?
— Я целые полверсты бежал от него… Уф! как запыхался! Нет, я больше не гость у Андрея Матвеевича… Только бы кончить одно дело… Представьте себе… Мы ходили гулять в лес, вот что за домом… Возвращаясь назад, я немножко поотстал… Иду себе повеся голову. Вдруг слышу какой-то ужасный хохот… Оглядываюсь: невдалеке стоит Зеницын; глаза у него блестят, как у кошки, волосы всклочены, точно дьявол… Меня так страхом и обдало… Еще больше я испугался, когда увидел в руках его ружье, которое он заряжал… Зачем бы, думаю, ему ружье? Близко дичи нет, далеко идти поздно… Видно, он задумал что-то недоброе… Ему хочется в елисейские… Давеча хотел отправиться туда верхом — не удалось; теперь… Тут уж откуда у меня ноги взялись; я побежал, что было силы…
— Как, вы убежали, вы оставили его в таком положении?
— Неужели же мне к нему идти?.. Ну, как бы он сдуру-то в меня… Мало ли что придет безумному в голову.
— Бегите, бегите скорей! Скажите по крайней мере его приятелю, скажите хозяину! — с ужасом воскликнула Задумская. — Дело идет, может быть, о его жизни…
— Сейчас, — отвечал Хламиденко, не трогаясь с места. — Нет, не могу идти… Теперь мы одни… такого случая сегодня уж не будет, а завтра я еду… Я должен сперва объясниться с вами… У меня, наконец, недостает терпения ждать. Я совершенно счастлив, дни мои текут благополучно… Только одного недостает мне — семейства… Отвечайте мне решительно — согласны ли вы быть моею женою?
— Нет, сто раз нет! Но торопитесь…
— Но ведь вы меня любите?
— Нисколько…
— Не сами ли вы говорили? Ах, не мучьте меня, не испытывайте… Решите судьбу мою: я формально прошу руки вашей…
— А я вам формально в ней отказываю.
— Как? вы не хотите быть моею супругою… спутницею моей жизни до самого конца ее?
— Хоть бы вы умерли в день свадьбы…
— Почему же?
— Потому… Да теперь некогда пересчитывать причины… Ступайте, ради бога, будьте великодушны!
— Но скажите причину…
— Хорошо, я скажу, только с условием, что вы уж навсегда откажетесь от своих видов.
— Если причины будут удовлетворительны, покорюсь судьбе.
— И чтоб сейчас же шли на помощь Зеницыну…
— Говорите, ради бога…
— Во-первых, я не хочу замуж; во-вторых, вы мне не нравитесь…
— Но я буду ходить всегда в парике… клянусь до гробовой доски не снимать парика!
— Третья причина… но всех не перечтешь. Взгляните на себя: вы стары.
— Нет еще…
— Ну, идите же.
— Так только-то? из-за таких-то пустяков…
Не успел Хламиденко договорить последнего слова, как вдруг послышался выстрел, раздавшийся, по-видимому, недалеко от дома.
— Ах! — вскрикнула За думская и почти без чувств упала в кресло. Через минуту она быстро вскочила и скорыми, неровными шагами вышла из комнаты.
При всей своей недальновидности, Хламиденко догадался о причине ее удаления. Несмотря на странное положение, в которое поставляло Петра Ивановича обхождение с ним Задумской, он наконец решил, что Александра Александровна не может быть его «супругою», как он выражался, потому что влюблена в Зеницына… Глубокий, продолжительный вздох был следствием такого соображения. Хламиденко не мог уже чувствовать истинной любви; но она у него заменялась страстью жениться, которая с некоторого времени доходила в нем до неистовства. С особенной гордостью воображал он себя мужем Александры Александровны, за которой увивался весь город, которая отвергла так много искателей; тяжело ему было отказаться от вожделенной мечты своей, по он не любил долго останавливаться на одном предмете; уверившись в невозможности своих исканий, он тотчас успокоился, просиял лицом и мысленно спросил сам себя: «На ком бы жениться?» Ответ не являлся; Хламиденко был в нерешимости… Простояв несколько минут неподвижно на одном месте, он наконец повернулся, отер пот с лица я пошел к двери, чтоб осведомиться о причине выстрела. В дверях попалась ему Вера Леонтьевна. Светлая мысль озарила его. Он воротился.
С Верой Леонтьевной случилось почти то же, что с Хламиденко. Тщетно заохочивала она Зеницына открыться ей в любви. Он не хотел с ней и говорить. Наконец Вера Леонтьевна с горестью созналась самой себе, что такое невнимание происходит не от робости. Следствием такого соображения было намерение отказаться от претензий на Зеницына и обратить их на другого… На кого ж? Вера Леонтьевна села в кресло и задумалась. Хламиденко вытащил из кармана перчатки, надел их, поправил волосы и сделал шаг вперед. Но вдруг он остановился, как бы пораженный чем-то нечаянно. С минуту он был в положении человека что-нибудь вспоминающего или придумывающего; наконец лицо его приняло решительную важность; он подошел к Вере Леонтьевне и сказал с нежностию:
— Сударыня, были ли вы в Бендерах?
— Что за странный вопрос? Нет, не была.
— Ах, и я не был! Наша судьба одинакова…
— Что-с?
— Сударыня, — продолжал Хламиденко с жаром, — вы учились русской грамматике и арифметике?
— Фи, как же не учиться! Можно ли…
— Ах, и я учился! Наши знания одинаковы… Сударыня, — продолжал Хламиденко с умилением, — что вы думаете о моем чине?
— Он довольно значителен.
— Ах, и я то же думаю! Наши мнения одинаковы…
— Вы играете со мной в загадки!
— Сударыня, хотите ли вы выйти замуж?
— Вы сделали мне такой вопрос, от которого девушки краснеют. Конечно, если б нашелся достойный…
— Ах, и я хочу жениться! Наши желанья одинаковы…
Слова Хламиденко как-то приятно звучали в ушах Веры Леонтьевны, несмотря на то что она не совсем хорошо понимала их. Хламиденко упал на колени; признания потоком полились из уст его. Чтоб понять быстроту, с какою Хламиденко приступал к решительным объяснениям, надо вспомнить, что он, желая прослыть отъявленным волокитою, любезничал со всякой женщиной не моложе шестнадцати лет и не старее шестидесяти, так что всякая из них нисколько бы не изумилась, если б он сделал ей предложение вступить в законный брак.
Не успела Вера Леонтьевна довершить счастия Петра Ивановича решительным согласием, как за дверьми послышались чьи-то шаги. Вера Леонтьевна убежала. Вошел Зеницын. Появление его смутило и изумило Хламиденко.
— Ах, так вы… вы… — произнес он с замешательством.
— Что я? — спросил Зеницын.
— Скажите, пожалуйста, кто давеча выстрелил?
— Я.
— Во что?
— В цель. Мы держали пари с Черницким.
— А где он? Мне надобно поговорить с ним о многом, сообщить ему новость.
— Он в саду.
Хламиденко убежал в сад, поймал Черницкого и по крайней мере час мучил его рассказом о своем сватовстве, своих надеждах и о том, как шибко бьется сердце его в ожидании решительного ответа Веры Леонтьевны.
Между тем Александра Александровна не переставала отыскивать Зеницына. Видя его робость и совершенную безнадежность, она наконец решилась сама приступить к объяснению, даже в случае нужды просить прощения. Она была уверена, что одного ее слова достаточно, как она выражалась, «повергнуть к ногам своим несчастного, спасти от погибели и возвратить миру для любви и счастия». И она решилась сказать слово, от которого, по ее мнению, должны были произойти такие благодетельные последствия, решилась, несмотря на то что тут несколько страдала со гордость. К такой решимости, кроме очень здравого рассуждения, что лучше раз уступить, чем потом целый век каяться, побуждало ее также опасное положение Зеницына, которое ежеминутно угрожало чем-нибудь ужасным. Притом и праздник Андрея Матвеевича приходил к концу: завтра надобно уже было ехать домой, следовательно, расстаться с Зеницыным. А когда, где, скоро ли можно будет опять встретить его? И будет ли удобный случай поговорить? И не помешает ли его робость воспользоваться таким случаем?
С такими мыслями вошла Александра Александровна в гостиную. Радость блеснула на лице ее, когда она наконец увидела себя наедине с Зеницыным. Она сделала несколько шагов вперед и остановилась. Он содрогнулся, как человек, внезапно чем-нибудь испуганный, быстро повернул голову в противоположную сторону и пошел к двери с какой-то трагической важностью, держась одной рукой за сердце, другой за голову.
— Вы так торопитесь… Вас призывает что-нибудь важное. Я хотела бы сказать вам несколько слов…
— Долгом почитаю выслушать их, — отвечал Зеницын возвращаясь.
— Как серьезно! Как будто вы готовитесь услышать от меня проповедь… Орест Николаевич, помиритесь…
— Я не понимаю вас, сударыня…
— Вы вправе сердиться, но забудьте всё… Он сделал шаг к двери.
— Послушайте же! Он воротился.
— Как вы переменились! вас узнать нельзя; у вас на душе есть что-то гнетущее. По всему видно, что грусть точит ваше сердце. Боюсь, не я ли виновата. Вы помните тот неконченный разговор…
— Не помню, — отвечал Зеницын рассеянно, — ничего не помню… Ах да! позвольте… Да, да!.. Нет, ничего не помню.
— Я была так опрометчива… Вы мне тогда говорили… помните?
— Нет, не помню.
— Вы злопамятны. Но я решаюсь говорить с вами откровенно. Что я тогда слышала от вас, я давно уже прочла в вашем взоре, того давно ждала я с тайным волнением. Когда вы говорили, слова ваши так сладко звучали в ушах моих. Я готова была отозваться на них. Вдруг страшная мысль испугала меня; мне показалось, что вы разыгрываете со мной подготовленную сцену. Ваша глубокая печаль, ваше отчаянье убедило меня, что я ошиблась. Простите меня.
Александра Александровна ожидала, что Зеницын залетит на седьмое небо от таких слов, окаменеет от блаженства и потом разлетится прахом у ног ее от благодарности, но, к изумлению ее, он выслушал их с таким же равнодушием, как и предыдущие, сказав только:
— Боже мой! Я готов сделать что вам угодно, готов упасть пред вами на колени, но решительно не понимаю вас!
«Отчаяние овладело им так сильно, — подумала Александра Александровна, — что он не верит своему слуху».
— Но я вас понимаю, — продолжала она. — Да; я видела, как тронула вас моя выходка, как сильно вы были поражены ею. Я раскаиваюсь; простите меня. Простите и за то, что я отняла у вас так много приятных минут: когда другие беззаботно, дружно предавались веселости, вы одни избегали ее; не обращая внимания ни на просьбы хозяев, ни на обидные толки, которые прокричали вас безумным, вы оставались верны своему горю; среди общей радости вы предавались отчаянию. Но знаете ли, что я перенесла еще больше, хотя и казалась, по необходимости, веселою? Вы поймете меня: легче быть оскорбленным, чем оскорбить всякого; но если оскорбленный — тот, которого любишь…
Последние слова Александра Александровна произнесла почти шепотом. Однако ж они не произвели над Зеницыным такого действия, как она ожидала. Лицо его было по-прежнему безнадежно и бесчувственно.
— Так вы верите, что я не актер? — спросил он.
— О, верю, верю! Ваша безмолвная грусть еще больше сказала мне, чем слова ваши.
— Вы верите? Вы, которая одним взглядом покоряете сердца мужчин, вы, для которой много даже одного взгляда, чтоб разгадывать их, вы просите у меня прощения?.. Нет, вы шутите! Таких быстрых переходов наяву не бывает. Если б это была существенность, я умер бы от счастия!
— Я люблю вас, — продолжала она с усилием, — люблю давно. Удивляюсь, как могла я забыться и оскорбить вас, когда так давно знаю вас! Сперва мы были знакомы как дети; потом… я еще не забыла ваших несмелых намеков… потом… но вы помните, где было наше последнее свидание, я уже стояла пред алтарем, я готова была произнесть клятву моему покойному мужу…
— Да, я помню эту минуту! — сказал Зеницын с некоторым увлечением. — Вы были так прекрасны! Рафаэль отказался бы для вас от своих идеалов. В вашей белой одежде, с венком на голове, с тихой, торжественной печалью во взоре вы мне казались тогда несчастною жертвой; вы были прекрасны… Красота ваша возвышалась еще более при бесчувственной фигуре вашего мужа. В темном платье, с свечой в руке, с серебристыми волосами на голове, в бакенбардах, он походил более на зажженный траурный канделябр, чем на жениха…
— До той минуты, — продолжала Александра Александровна, — я с чувством какой-то радости шла замуж; но когда я увидела ваше бледное, расстроенное лицо — я прочла в нем так много, я поняла всю тягость бремени, которое взяла на себя, соединив судьбу свою с человеком, которого не могла любить. Мне открылась вдруг вся страшная перспектива моего замужества. Я готова была броситься к вам и сказать: спаси меня, спаси! — но уже было поздно: я произнесла роковое слово…
— И вот как изменило вас время! как хорошо оно вас пересоздало! Тот, кому вы тогда готовы были ввериться беспредельно, теперь стал в глазах ваших человеком подозрительным… Я, я верю теперь, что опыт важная вещь в жизни.
— Полноте, забудем старое. Для нас еще так много впереди прекрасного…
Она протянула руку к Зеницыну. Он медлил взять ее. Поведение Зеницына удивляло Александру Александровну более и более.
— Вы ужасны, Зеницын! — произнесла она голосом, дрожащим от внутреннего волнения. — Неужели еще не успокоилась ваша гордость?.. Вот я перед вами, смиренная, униженная, я прошу вашего прощения, умоляю…
— Как? вы молите о прощении?.. О, не обманывает ли меня слух? Вы говорите, что любили, что любите меня; вы говорите, что сердце ваше разрывалось при виде моих мучений… О, повторите, повторите!
— Правда, правда… Но забудьте…
— Я блаженствую, я счастливейший из смертных! — громко, с напыщенным восторгом трагического героя вскричал Зеницын. — Уф! я даже устал, — продолжал он скороговоркою, делая несколько шагов назад. — Однако ж не так легко играть трагические роли, как я думал! Но докончим. Вы поражены, изумлены, растроганы, — значит, я <не> напрасно боролся с трудностями моей роли. Теперь мне остается только благодарить вас, предполагая, что вы аплодируете.
Он вышел на средину комнаты, крестообразно сложил на груди руки и отвесил Александре Александровне три низкие поклона, какие отвешивают почтеннейшей публике русские актеры, когда она вызовет их.
— Он с ума сошел! — невольно воскликнула Задумская.
— Нет, не льстите себе такой мыслию, — спокойно Зеницын. — Она выгодна для вашего самолюбия, но, к несчастию, несправедлива. Вы слишком самонадеянны, если думаете, что ваш странный поступок мог довести меня до безумия. Правда, он поразил меня, но совсем не так, как вам казалось: он только родил во мне желание доказать вам, что вы напрасно так много надеетесь на свою опытность, что я действительно могу быть актером, когда захочу.
— Актером?
— И как мало трудов стоило мне это! Сначала я хотел прикинуться безумцем, но скоро увидел, что могу отделаться гораздо дешевле. И вот я надел маску страдальца и стал разыгрывать пошлую роль отверженного любовника, — решился играть ее по всем правилам застарелой драмы: кричал как безумный, размахивал руками, брал себя за голову и т. д. При вас я был всегда мрачен и скучен; если говорил с кем-нибудь, то старался, чтоб несколько моих слов достигло до ушей ваших; заметив, что Хламиденко, по страсти к болтовству, аккуратно доносит вам обо мне, я нарочно при нем говорил и делал разные странности, которые, будучи пересказаны, могли бы показаться вам следствием отчаяния. Наконец, сцепа в саду… она была заранее обдумана. Я знал, что вы были в беседке… И вот какими средствами, в продолжение двух дней, успел я довести вас до положения, в котором вы теперь находитесь! Что же такое ваша неприступность, о которой прокричал весь город? Где ж ваша опытность, которою вы так много гордились? Я был в горячке любви. Вопреки своим правилам, вопреки своему характеру, я увлекся, как ребенок, и в припадке красноречия вылил пред нами из души моей чувства, которыми она тогда была переполнена… И что ж? Вы назвали меня актером! Теперь, когда жар мой давно простыл, рассудок принял свои права, с рассчитанным отчаянием, поддельным огнем начал я высказывать чувства, которых не было в душе моей, — вы приняли их за излияние сердца! Где же, повторяю, ваша опытность, которая, как вы думали, давала вам право оскорблять всякого подозрением, смотреть на всякого как на врага вашего доброго имени, наконец, называть в глаза лицемером!
Можно себе представить, что чувствовала Александра Александровна!
За дверьми послышались шаги. Зеницын отскочил в противоположную сторону. Все гости Андрея Матвеевича, которые наслаждались прогулкою, сбежались в гостиную по случаю нечаянного дождя. Хламиденко был впереди.
Ровным, величественным шагом подошла Александра Александровна к Хламиденке, восхитительно улыбнулась на его комплименты и сказала нежным голосом довольно громко:
— Я долго вас испытывала, но наконец уверилась в вашем постоянстве: вот вам рука моя!
Хламиденко чуть не помешался от восхищения. В минуту весть о событии, столь радостном для Петра Ивановича и завидном для многих, долетела до ушей всего общества. Пошли разные толки…
— Слышал? слышал? — воскликнул Черницкий, подбегая к Зеницыну.
— И, ты видишь, нисколько не удивлен, не встревожен. После сцены, которая…
— Знаю, знаю… Я втайне наблюдал за тобой и всё понял… Молодец! ты славно сбил спесь с нашей провинциальной неприступности; а то куда! никто не мог подладить! Ну да теперь всё кончено… Высоко летала, да низко села! А ты что думаешь делать?
— На днях отправиться в Петербург.
1842
В Сардинии*
I Дед и внук
Доп Нуньез де лос Варрадос был одним из знаменитейших грандов испанских. Род его начался едва ли не вместе с первым человеком, явившимся в мире. Если б вы могли представить себе во весь рост его родословное дерево, то увидели бы нечто необыкновенное, нечто повыше Чимборазо и Давалагири; по крайней мере так думал сам старый гранд и утверждали его приближенные. Испанская гордость, к сожалению, вошла в пословицу, а потому совестно было бы распространяться о ней. Дону Нуньезу было уже восемьдесят лет. У него не было детей, и все надежды его на продолжение знаменитого рода основывались на сыне его покойного племянника, молодом внуке, доне Сорильо. Любимым коньком старика были воспоминания о славных предках, из числа которых многие играли важные роли в судьбе Испании. И когда он говорил о них, лицо его разгоралось, глаза сверкали, седая голова тряслась от слабости, но речи были сильны и полны юношеского увлечения. В них было так много вдохновения, так много торжественности, что слушавший их невольно почтительно наклонял голову пред лицом истинного аристократа, который в роде своем сотнями насчитывал графов, грандов и даже герцогов. В свое время сам Нуньез играл немаловажную роль. Еще отец дона де лос Варрадоса переехал в Сардинию и поселился в Турине; дон Нуньез, но смерти отца сделавшись его наследником, остался также в Турине, и таким образом фамилия Варрадосов утвердилась постоянно в Сардинии. Дом его, гранитный, в четыре этажа, со множеством железных балконов, был украшен фамильными гербами и почитался одним из лучших в городе. Тихо и однообразно текли дни старика в отрадных воспоминаниях, в заботливых попечениях о внуке, с которым неразлучно было связано всё дорогое его сердцу, всё, что составляло предмет его гордости и заветных надежд. Старый гранд хранил его как зеницу ока, лелеял, как любовницу; он дышал только им, любил его, как славнейшего из своих предков, дорожил им, как всеми предками вместе. Была еще у него внучка донья Инезилья, сестра дона Сорильо, но на нее он обращал гораздо менее внимания.
— Род мой, — говорил старик, — должен непременно поддерживаться в мужской линии, как поддерживался доныне, иначе древность его будет хвастливой ложью, от которой да спасет святая дева всякого честного гражданина, но только потомка Варрадосов! — И глаза старого гранда с любовью останавливались на доне Сорильо, как будто говоря ему: в тебе надеюсь не умереть я! Ты должен с честью поддержать славный род наш!
— Я всё еще не могу приискать тебе приличной партии, — сказал однажды старый гранд своему внуку. — Вчера я советовался с королем. Он обещал назначить невесту и быть на твоей свадьбе. Надеюсь, королю сардинскому не стыдно быть на свадьбе у Варрадоса!
— Зачем торопиться, — отвечал дон Сорильо в смущении, — я еще слишком молод. Прежде надо устроить участь сестры… И я знаю жениха…
— Как, ты знаешь человека, который может быть ее мужем! — перебил гранд, пораженный его словами. — Кто ж он такой? Да, может быть, когда ты путешествовал… герцог… принц крови…
— Нет, он здешний придворный…
— Сумасшедший! — воскликнул гранд вскакивая. — И ты думаешь, что кто-нибудь из них достоин ее руки! Где он, где? Укажи мне его…
— Дон Фернандо де Гиверос молод, богат, в милости у короля…
Старый гранд захохотал. Голова его судорожно закачалась; глаза запылали гневом и презрением.
— Ты глупец, Сорильо! — закричал он, дрожа всем телом. — Ты сам не знаешь, что говоришь! Ты не понимаешь своего высокого назначения, не уважаешь наследственной славы нашего дома, которая дорого стоила мне и предкам моим! Ты недостоин носить имя Варрадоса… Ты не гранд, Сорильо! ты плебей, ты сын плебея, который не помнит своего отца!
— Я внук Варрадоса! — гордо воскликнул молодой человек. — И если кто осмелится… — Сорильо схватился за шпагу. Глаза старого гранда заблистали радостью… Старик бросился к нему на шею…
— Как! — воскликнул он. — Ты хочешь обнажить оружие против — меня…
— Против всякого, кто осмелится сомневаться в моем происхождении!
— Я опять узнаю в тебе потомка Варрадосов! В тебе их кровь, в тебе душа того славного предка, который своими руками задушил родного брата, когда он хотел опозорить род наш! Обнажай шпагу, Сорильо, обнажай прочив всякого, кто скажет, кто только подумает, что ты не потомок Варрадосов!
Старик в восторге обнимал внука; в полубезумной речи его было что-то решительное и торжественное. Казалось, он не замедлил бы произнесть приговор самому себе, если б поступил вопреки своим правилам…
— Дедушка! — сказал растроганный внук. — Пусть я один буду жертвою вашего честолюбия. Но пощадите сестру: она его любит!
— Diavolo! — воскликнул гранд, снова разгневанный. — Ложь! Она не может влюбиться в человека, который недостоин руки ее!
— Дон Фернандо может насчитать несколько предков, с которыми не стыдно стать рядом вашим, дедушка… Род его продолжается с лишком двести лет…
— Двести лет! А наш… Ты не знаешь, Сорильо, ты не знаешь, сколько веков существует род наш… На что тебе знать! Ты не дорожишь славой Варрадосов! Поди от меня, поди! Я не хочу тебя видеть, не хочу говорить с тобой… Не приходи ко мне, пока не исправишься.
— Если я уйду, дедушка, то уже не возвращусь, — твердо отвечал внук.
— Ты пугаешь меня, Сорильо. Ты хочешь играть мною… Да простит тебя Сант-Яго!
— Я говорю, что думаю, и исполню, что говорю.
— Ты уйдешь, ты будешь ждать моей смерти… А если я лишу тебя наследства, оставлю без куска хлеба, объявлю тебя самозванцем… Всё это я могу сделать, Сорильо…
— Я буду называться тогда просто — Сорильо и стану жить честным трудом, но не приду к вам, дедушка…
Старый гранд, с видимым наслаждением слушавший решительные ответы внука, снова обнял его.
— Любовь к правде, железная, беспощадная, твердость в слове, не знающая пределов, — отличительные свойства нашего рода, и они есть в тебе, достойный преемник мой. Прости меня, прости! Я капризен, брюзглив, взыскателен; старость, старость! Она то же помешательство! Прости, друг мой!
Сорильо с чувством пожал руку доброму старику, который так быстро переходил от гнева к радости, от сомненья к уверенности именно потому, что беспредельно любил своего внука и каждую минуту за него боялся. Теперь он плакал и извинялся; мир, казалось, был заключен на прочном основании…
— Твердость в слове! — произнес Сорильо, желавший, по-видимому, воспользоваться удобной минутой. — Вы уважаете твердость в слове; стало быть, я не должен отказываться от мнения, что дон Фернандо достоин быть мужем доньи Инезильи…
— Да, — отвечал гранд после долгого молчания, — но он никогда не будет им.
— В таком случае я женюсь на первой девушке, которая мне понравится…
— Женишься!
И старый гранд рассердился в третий раз сильнее прежнего. Он задрожал, топнул ногою и упал в кресло.
— Так ли думали, — ворчал он про себя, заливаясь слезами, — твои дети, о Алонзо де Варрадос, одержавший тридцать побед над неверными! Таков ли был ты, о Инфантадо, положивший голову за одно слово правды, которого ты не хотел утаить! Таковы ли были все вы, знаменитые предки мои! Мне позор! Мне проклятие и бесчестный титул последнего в роде! Peccador de mi! Vala me Dios![14]
— Бог видит, — сказал внук, тронутый горестью старика, — я не хотел оскорбить вас, дедушка. Я никогда не шел наперекор вам. Только страдания сестры, которая вянет от любви…
— Замолчи! — сердито перебил старый гранд, вскочив и топнув ногою. — Я лишился сына, теперь ты хочешь отнять у меня дочь!
В ту минуту дверь отворилась и в комнату вошла молодая женщина. Она была прекрасна, стройна и величественна, но лицо ее было бледно и задумчиво; во всех чертах ее, и в особенности в черных, выразительных глазах, проглядывало затаенное страдание; поступь ее была легка и правильна; взгляд горд и спокоен. Старый гранд быстро подскочил к ней при самом ее появлении и закричал безумным голосом:
— Он лжет… не правда ли… он лжет! Ты не влюблена в него… ты не хочешь выйти за него замуж?
— Что вы говорите? — спросила кротко девушка.
— Сестра, — сказал дон Сорильо, — дедушка спрашивает тебя, точно ли ты любишь дона Фернандо де Гивероса и хочешь ли выйти за него замуж?
— Дедушка! — отвечала донья Инезилья спокойно и твердо. — Я точно люблю Фернандо, но, если вы думаете, что он недостоин моей руки, никогда не буду его женою!
— Вот, — закричал обрадованный гранд, обнимая внучку, — вот как должны думать и действовать потомки Варрадосов!
— Смотри, сестра, — сказал брат с некоторою надменностью, — достанет ли у тебя твердости сдержать свой обет, которым ты навсегда отказываешься от счастия!
— Бог поможет мне! — смиренно отвечала сестра, подняв кверху глаза, полные тихой грусти…
— Дедушка, — сказал тогда Сорильо старому гранду, — если сестра моя так великодушно решилась пожертвовать своим счастием вашему, то я не противоречу. Я также буду следовать ее примеру…
Мир был заключен. Нуньез де лос Варрадос попеременно обнимал детей и плакал от радости. Страх не оставить достойных наследников своего знаменитого имени часто делал его недоверчивым, подозрительным и даже доводил до малодушного отчаяния. Зато когда сомнения рассеивались, он был в восторге.
— Так, так! — говорил он, обнимая внука. — Ты с честию поддержишь славное имя, которое носишь. И я не умру в тебе… и мои предки будут еще долго на устах благодарных потомков… Только надо поскорей устроить судьбу твою… я могу умереть… я должен себя успокоить… завтра же поеду к королю и поговорю о твоей свадьбе…
Сорильо тяжело вздохнул.
Донья Инезилья пришла в свои комнаты. Слезы хлынули из глаз ее; она закрыла руками лицо и долго сидела неподвижная, безмолвная; по временам только вылетали из груди ее болезненные вздохи и глухие стенания. Через час она встала, отерла слезы, гордо взглянула кругом, и лицо ее сделалось совершенно спокойно.
— Донья, — сказала хорошенькая камеристка Ханэта, раздевая свою госпожу, — дон Фернандо хочет убить себя, если вы не назначите ему свидания… И он сдержит слово. Он вас так любит! Грех ляжет на вашу душу…
— Воля божия! — отвечала она.
— Он сказал, что придет завтра к вашему балкону… Я его просила, чтоб он погодил убивать себя… Может быть, вы согласитесь…
— Никогда, никогда!
— А я почти обещала… Что теперь будет? Он придет… и он убьет себя под вашими окошками… Спасите его! согласитесь хоть из долга христианского!
— Никогда! — повторила Инезилья решительно и поспешила спрятать личико свое под покрывало, потому что на глаза ее набежали слезы…
II Брат и сестра
Воздух дышит упоительным благовонием роскошных дерев, отягченных дарами южного неба; алоэ, элоандра, гиацинты, нарциссы, маргал-хул (род тюльпанов) — всё цветет, всё радует взор и нежит обоняние. Чинары, тополи, алгорробы, дубы и вязы бросают из ароматных садов стройную тень свою на гранитные стены домов, на улицы, покрытые полумраком наступающего вечера… И вот наступил он, чудный, очаровательный вечер! Солнце скрылось; показалась луна… И какая луна! Не наша северная луна, сонливая, бледная, круглолицая, которая так ленива, так однообразна, так мертва и на небе и в поэтических описаниях… Нет, живая, видимо движущаяся луна, гордая, как гранды испанские, пылкая, живая, страстная, увлекательная, как девы страны, так роскошно освещаемой ею… Чудная страна!
По одной из туринских улиц шла молодая девушка. Широкая баскинья, которую надевают испанские и сардинские женщины, выходя на улицу, скрывала ее стройную талию; в лице и походке ее не было величественной важности, но оно было миловидно и привлекательно. Вообще в ней скорее можно было признать камеристку знатной дамы, чем знатную даму. Навстречу ей шел мужчина высокого роста, в простой куртке, или, правильнее, фуфайке, из грубого голубого сукна, в огромной желтой шляпе с букетом.
— Ханэта! — закричал он, увидев молодую девушку. — Долго ли ты будешь мучить меня, Ханэта! Долго ли я буду встречаться с тобою только на улице! Ты не любишь меня, ты хочешь шутить мною… Смотри, Ханэта!
— Фиорелло! — робко проговорила молодая девушка. — Ты мучишь меня своею любовью… Ты пугаешь меня своею ревностию! Мы не можем быть счастливы… Чем мы будем жить?.. Достал ли ты хоть тысячу вельонов на нашу свадьбу?..
— Нет! Наша ловля идет очень плохо!
— Видно, я скорей тебя достану их, Фиорелло!
— Ты упрекаешь меня! Хорошо, я брошу свой честный промысел. Завтра в Турине явится новый герильо.[15] Он будет ужасен, Ханэта… От него будет страшно показаться на улице!
— Избави бог! — вскричала испуганная девушка. — Нет, нет, Фиорелло… Тогда уж нам никогда невозможно будет соединиться!
— Ты боишься… Я не убью тебя… Но клянусь св. Фабризио, моим патроном… я убью твоего любовника… Скажи ему… скажи…
— Разве ты убьешь самого себя, Фиорелло?
— Не себя, а того, кто заступил мое место в твоем сердце, Ханэта!
— Ты жесток… Ты не стоишь любви моей…
— Но чем же ты докажешь ее? Чем?.. Завтра я приду к твоему балкону… Ханэта… в последний раз… впусти меня… впусти.
Голос рыбака был грозен и решителен. Ханэта дрожала.
— Хорошо… может быть… если я подам знак, — отвечала она трепещущим голосом. — Но ради всего святого, Фиорелло, будь осторожнее!
— Помни же, я приду завтра! — сказал рыбак и скорыми шагами отошел от смущенной своей любовницы. Она пошла домой, грустная, растерзанная, и уже была близко жилища знаменитого гранда Нуньеза де лос Варрадоса, как вдруг кто-то схватил ее за плечо… Она оглянулась: перед ней стоял мужчина среднего роста, закутанный в широкий плащ.
— Что? — спросил он быстро. — Что сказала она?
— Она запретила мне даже говорить об вас… Нет никакой надежды!
— Я не увижу ее, не увижу! — отчаянно вскричал мужчина. — Нет, я должен увидеть ее… Ханэта! вот золото… смотри… здесь много… я дам еще больше… Завтра ночью я приду к балкону… ты бросишь мне веревочную лестницу… Да?
Ханэта молчала, но глаза ее жадно впились в кошелек, полный золотом. «Половины его было бы достаточно для нашего счастия!» — думала она, тяжко вздыхая…
— Бери, бери! — нетерпеливо кричал мужчина…
— Страшно, грешно! — тихо проговорила она, и опять замолчала, и опять устремила глаза на кошелек, как будто желая счесть, за сколько придется ей продать госпожу свою…
— Страшно, грешно?.. ложь, выдумка! Она меня любит… Мне стоит только увидеть ее, чтоб победить ее решимость… Не страшно, не грешно, Ханэта!
«Она, точно, любит его!» — подумала камеристка, лицо ее прояснилось. Она взяла деньги и сказала:
— Завтра!
— Завтра! — радостно повторил мужчина, и они разошлись.
Фиорелло между тем по темным улицам пробирался в свое жилище. На краю города стояло несколько каменных четвероугольных изб, очень некрасивой наружности, с пирамидальными верхушками, которые заменяли трубы. Там помещался беднейший класс туринского народонаселения; большая часть жителей предместий состояла из рыбаков, к которым принадлежал и наш знакомец. Он наконец пришел в свою улицу. В ней было пусто, темно и тихо; только в окне его дома светился огонь. «Она меня надет!» — проговорил Фиорелло и ускорил шаги; через минуту он уже стучался в дверь своего жилища. Свет, который проглядывал сквозь щель полуразрушенной двери, мгновенно исчез; внутри комнаты послышались суетливые движения.
— Отворяй, сестра! — закричал пораженный рыбак, но дверь не отпиралась. В ту же минуту с наружной стороны дома раздался резкий стук, как будто что-то упало с крыши, как будто кто-то выскочил из окна… Фиорелло бросился на улицу. Зорким глазом осмотрелся он кругом, но никого уже не было…
— Кто он? — грозно закричал рыбак, войдя в дверь, которая была уже отворена…
Вопрос относился к девушке, которая стояла посреди комнаты, как приговоренная к смерти, сложив на груди руки, потупив глаза… Она была очаровательна. Белая рубашечка ее, вышитая на рукавах и воротнике золотыми узорами, сжималась алым корсажем, который живописно обрисовывал ее талию; голубая юбочка спереди закрывалась белым передником; грубая обувь еще лучше оттеняла ее миниатюрные ножки; с головы ее тянулись две пряди черных, блестящих кудрей и, падая на пышную полуоткрытую грудь, дразнили воображение самым бесчеловечным образом… Но прочь земные мысли, прочь грешные описания! теперь она была хороша, как падший ангел, проклинающий минуту своего падения…
— Кто он, кто соблазнитель твой? — повторил неумолимый брат, схватив ее за руку. — Он жених твой?
— Нет, — прошептала девушка слабым голосом, — он не может быть им…
— А! не может! И ты давно знакома с ним?
— Я уже ношу под сердцем залог любви его! — отвечала она с геройской твердостью.
— Diavolo! — закричал разъяренный сардинец. — Недаром товарищи посматривают на меня с усмешкою… Недаром они при мне перешептываются между собою; только я один не видел так долго позора моего имени… Все видели! но не долго оно будет бесчестно… Я отомщу… Я омою обиду кровью… Говори, сестра, говори! кто он? как зовут его?
Она молчала. Фиорелло схватил кинжал и с дикой радостию начал пробовать его об руку. Острое лезвие поскользнулось и из пальца рыбака закапала кровь…
— Кровь, сестра, кровь! смотри! всё напоминает мне о крови. Говори же, говори, кто он?
— Я не скажу тебе, кто он, — отвечала девушка, — не скажу, хотя бы молчание стоило мне жизни!
— Ты должна сказать! — закричал разъяренный брат. — Ты скажешь… Или мне скажет тайну труп твой… Я задушу тебя и выброшу на улицу на позор целому городу… И если кто остановится у твоего трупа, выронит над ним слезу, скажет слово участия, вздохнет или только взглянет сострадательно — я брошусь на того и месть моя будет совершена… Я узнаю, о, я узнаю его из тысячи!
— Убей же меня, — сказала она, — начни мною, жестокий! Мне уже незачем жить… Я лишилась любви твоей; ты хочешь убить его…
Она заплакала. Фиорелло долго смотрел ей в лицо с мучительным чувством сожаления; на глаза его навернулись слезы.
— Сестра, несчастная сестра! — сказал он умоляющим голосом. — Ты опять найдешь брата, который будет любить тебя еще нежнее и пламеннее, но ты должна пожертвовать для него недостойным любовником!
— Пощади его! — воскликнула рыдая бедная девушка и упала к ногам брата.
— Пощадить! пощадить того, кто покрыл позором мое имя! Сносить двусмысленные улыбки товарищей и позволить при случае назвать себя бездельником… Не обнимай ног моих, я не могу пощадить его… Встань, сестра, я не пощажу его!
— Ты погубишь тем и сестру свою… А вспомни… Ты говорил, что любишь меня больше жизни своей… Ты лгал, Фиорелло! ты был всегда дурной человек, Фиорелло! Бог не простит тебе моей погибели…
— Да, я любил тебя… Я люблю тебя, сестра… И потому буду мстить за тебя… Вспомни, ты была девушка веселая, живая, красавица… Тысячи женихов сватались к тебе… сам я засматривался на тебя… Соседи смотрели на меня с завистью, любили меня по тебе… Вдруг замечаю: они перемигиваются, шепчутся, прячутся… Бывало, я ворочусь с лова, ты встречаешь меня на пороге, резвая, живая, счастливая. Глядя на тебя, и я молодел, шутя с тобою, и я забывал горе. Вдруг замечаю в тебе перемену, ты стала бледнеть, перестала улыбаться, часто я заставал тебя даже в слезах, которые ты торопливо отирала при моем появлении… и теперь… О сестра! кто же погубил тебя, ради всех святых, скажи мне, сестра!
— Никогда, никогда!
— Всё равно… Завтра же я найду его… Завтра же его не будет на свете, клянусь всеми святыми! — он замолчал, гневно потряс головой и принялся точить кинжал.
— Им будет зарезан твой любовник! — сказал он с злобной улыбкой, кончив свою работу и показывая сестре кинжал…
— Святая дева! помоги мне спасти его! — прошептала она и упала на свою одинокую постель, где ждала ее мучительная бессонница.
III Встречи
Ночь чудная, душистая, очаровательная! Мужчина среднего роста, закутанный в плащ, неподвижно стоит под крайним балконом красивого дома Нуньеза до Варрадоса. Напрасно, вперив очи вверх, думает он встретить там милый образ. Никого нет, никто не разделяет его мучительного беспокойства, его жгучего нетерпения; никто не сочувствует пытке, которая терзает его душу; никто не слушает его тоскливой кантилены, которою он думает разбудить сердце красавицы и пробуждает только дремлющий воздух…
Если жизнь ослепит блеском счастья глаза, Даст на счастье обет, Да изменит… солжет… и наступит гроза, — Есть терпенье для бед, Есть для горя — слеза! Если тот, с кем делить ты все тайны привык, Чью ты руку сжимал, Вдруг обидит тебя иль предаст хоть на миг, — Есть для мести — кинжал, Для проклятья — язык. И на всё и за всё оживляющий вновь В чем-нибудь есть ответ… Лишь ничем не зальешь страстью полную кровь… Гамм ответных нет Без любви на любовь! Под балконом тебя сколько черных ночей Я стерег от измен. Сколько взоров кидал я к тебе из очей, Сколько спел кантилен! — Нет ответных речей! Подожду… и уйду, как земле возвратят Светлый день небеса… Но уж завтра сюда не вернусь я назад… Есть для горя — слеза, Для отчаянья — яд!Звуки льются, повторяются эхом и постепенно умирают, умирают, как надежда в сердце влюбленного. Снова смотрит он вверх; пусто и темно! Вдруг на балконе показалась женщина; она привязала к перилам один конец веревочной лестницы, кинула другой вниз и поспешно скрылась. Мужчина со всех ног бросился на лестницу и в несколько прыжков был уже на балконе… Донья Инезилья была в своей спальне и занималась благочестивым чтением проповедей отца Пио де Элизальда, укрепляя душу свою его мудрыми наставлениями. Лицо ее дышало строгим смирением; улыбка благоговейного умиления по временам пробегала по ее розовым, плотно сжатым губам, на которых, казалось, не было места улыбке другого рода. Она дочитала до главы о укрощении страстей и твердом выполнении обязанностей и остановилась, задумалась… Вдруг вдали через комнату послышался шорох.
— Ханэта! — закричала она, но ответа не было; шорох повторился ближе и явственнее. Она встала и вышла в другую комнату, осмотрелась кругом и хотела идти в третью, которая вела на балкон и служила гардеробного и вместе местопребыванием ее камеристы, но в то самое время дверь отворилась — перед ней стоял мужчина, закутанный в плащ.
— Дон Фернандо!
— Инезилья!
— Мужчина — в моей комнате, наедине со мною! — воскликнула испуганная девушка отчаянным голосом. — Я обесславлена… честь моя поругана… меня предали… мне изменили…
Он упал к ногам ее.
— Простите! выслушайте меня!
— Я закричу… я призову людей… Брат, брат! дедушка! дон Нуньез! дон Сорильо!
— Замолчите… Вы погубите и себя и меня! никто не поверит, чтоб я прошел без вашего согласия… Выслушайте меня, заклинаю вас, подарите мне одну минуту, одну только минуту…
— О богородица Карнеская, о пресвятая Мария! Будь моею заступницей!..
И она почти без чувств упала в кресла и закрыла лицо руками…
— Инезилья! я люблю вас давно и безумно… вы знаете, что я люблю вас… Но я не знаю чувств ваших… Инезилья! я пришел спросить вас: любите ли вы меня?
— Нет, нет! Теперь вы всё знаете… оставьте же меня, оставьте!
— Инезилья, справедливы ли слова ваши? Подумайте, вы произнесли мой смертный приговор! — Он выхватил из-под плаща кинжал. Инезилья затрепетала.
— Что вы хотите делать?
— До сей поры я жил надеждою. Теперь нет надежды — не надо и жизни!
Он поднес кинжал к своей груди. Инезилья быстро предупредила его движение и воскликнула, невольно уступив голосу чувства и сострадания:
— Я люблю тебя, Фернандо, я люблю тебя! Живи для меня!
Суровое лицо сардинца оживилось. Оно стало так же прекрасно и радостно, как за минуту было грозно и растерзано… В восторге он хотел броситься в ее объятия, но строгая испанка стремительно отскочила от него и твердо сказала:
— После брака, Фернандо, после брака!
— А когда будет брак наш?
— Он будет там, Фернандо! — отвечала она, подняв глаза кверху. — Молись, Фернандо, молись, чтоб смерть скорей соединила нас… потому что на земле счастие для нас невозможно…
— Невозможно! О гранд Нуньез де Варрадос! Зачем у тебя так много предков! Зачем я не могу насчитать и третьей части их! Что надобно, чтобы успеть у тебя? Я любимец короля — по заслугам, я кумир народа — по моим песням. Мои кантилены, мои сегедильи вместе с моим именем на всех сардинских устах… Имя мое долго будет повторяться со славою… Чего еще надо тебе? Предки, проклятые предки!
Донья Инезилья вздрогнула и как безумная вскочила с своего кресла.
— Стук в двери! — воскликнула она. — Стук из покоев моего брата… И он увидит мужчину в моей комнате. Он, которого я так надменно, гордо уверяла еще недавно… О пресвятая богородица Карнеская! Что мне делать!
Стук в дверь, соединяющую отделение доньи Инезильи с отделением ее брата, повторился громче прежнего и затих…
— Бегите, бегите! да поможет вам святой Фернандо… Может быть, есть еще время спасти мою честь!
Фернандо побежал к гардеробной, ведущей на балкон, но вдруг Инезилья сильно схватила его за руку и остановила.
— Поздно, уже поздно… Дверь не заперта… я слышу, ее отворили… может быть, брат… может быть, сам дедушка… О святая Мария! Я слышу шаги… Спрячьтесь, спрячьтесь, ради бога! Скорее!
— Куда?.. укажите… Я готов на всё… я готов провалиться под пол, только бы избавить вас от такого отчаяния!
— Вот сюда; скорее, скорее…
Донья Инезилья отворила шкаф, который так искусно был вделан в стену, что его решительно нельзя было заметить. Фернандо быстро бросился туда; она плотно захлопнула дверь шкафа, повернула ключ и в изнеможении кинулась в кресло… В кабинет вошел дон Сорильо; с ним был еще кто-то, по-видимому мужчина, в серой куртке простонародного покроя, сверх которой накинут был богатый плащ, совершенно противоречащий грубости остального наряда.
— Сестра, — сказал дон Сорильо, — прости меня. Я привел к тебе гостью, которой ты должна дать приют до завтра.
Инезилья с изумлением посмотрела на странный наряд особы, которую брат ее называл «гостьею».
— Не удивляйся наряду Линоры, лучше удивляйся ее мужеству… Она спасла мне жизнь, сестра. Сегодня целый день в этом костюме она провела около нашего дома, надеясь встретить меня. Наконец вечером ей удалось пройти в мои комнаты не замеченною никем. Ей только достало сил сказать мне несколько слов, ужасных, роковых слов, и она упала без чувств. Так истомили ее волнения дня, опасения за мою жизнь… Целый вечер пролежала она без памяти в моей комнате… Я беспрестанно дрожал, опасаясь посещения дедушки… Наконец она опомнилась… Я закутал ее в плащ и хотел отвезти домой, но дом ее далеко, теперь так поздно и она до того слаба, что едва ли выдержит далекий путь… Ей нужно отдохнуть, сестра, нужно успокоиться. Я не мог оставить ее у себя. Ты знаешь, дедушка часто ходит ко мне неожиданно. Когда ему видятся дурные сны, он просыпается, вскакивает, бежит ко мне и в рассказах проводит остаток ночи. И это бывает почти беспрестанно… Мог ли я оставить у себя Линору? Приюти ее, сестра, полюби ее, она спасла твоего брата!
Грудь доньи Инезильи разрывалась на части от внутренней бури, но она должна была согласиться на просьбу брата и казаться спокойною. Она протянула руку новопришедшей и пригласила ее сесть.
— Вы так бледны, расстроены; вам нужно отдохнуть, — ласково сказала она.
— Да, мне холодно… я нездорова, — отвечала переодетая женщина, закутываясь в свой плащ, который, видимо, не был принадлежностию ее обыкновенного наряда.
— Ты хорошо знаешь ее? — шепнула Инезилья своему брату, с беспокойством посматривая на дверь шкафа.
— Как самого себя, — отвечал громко брат, — она ангел доброты. Я тебе расскажу нашу повесть. Она не длинна, но трогательна. Из нее ты узнаешь, как много сделала для меня твоя ночная гостья…
— После, после; у меня болит голова… мне нужно лечь… Я и так уверена в добрых качествах твоей подруги… Одно лицо ее может быть самым верным ручательством за ее душу.
— Хорошо, так я расскажу завтра… А теперь прощай, сестра, дай мне твою чудесную ручку… клянусь, сестра, такой нет ни у одной здешней красавицы, кроме тебя.
Инезилья подала ему руку, которая сильно дрожала; брат несколько раз поцеловал ее и продолжал смеясь:
— Вот бы чудная парочка были мы, если б хоть на один вершок паше родство было подальше теперешнего… Уж мы бы, разумеется, друг другу понравились, и дедушка не противоречил бы. Твой род не превышал бы моего, а мой твоего даже на четверть предка. А теперь дедушка не может выбрать во всем Сардинском королевстве тебе мужа, а мне жены — беда и только! А тогда бы как хорошо было… Не правда ли?
И он опять поцеловал руку сестры.
— Да, — отвечала она, хватаясь за голову.
— Но я беспокою тебя, я разболтался. Что делать… Мне только и отвесть душу, что у тебя. А с дедушкой, слушая его обыкновенные рассказы, я сам становлюсь похожим на того знаменитого предка, который тридцать раз, по обязанности верноподданного, прослушал поэму своего короля, не зевнув ни однажды, и после сам божился, что не помнит из нее ни одного стиха…
Инезилья облокотилась локтями на стол, обеими руками подперла свою голову и закрыла лицо.
— Ты спать хочешь, сестра? Прощай. Завтра я приду и, прежде чем ты проснешься, уведу от тебя твою гостью… До свидания!
Сорильо ушел. Инезилья схватила за руку переодетую девушку, несколько мгновений колебалась и потом сказала решительно:
— Я могу положиться на вашу скромность? Должна вам сказать… клянитесь, клянитесь, что вы сохраните в тайне то, что здесь увидите… Здесь есть мужчина… Божусь вам, он здесь случайно… Клянитесь, клянитесь…
Линора, встревоженная беспокойным голосом своей хозяйки, отвечала утвердительно, плохо понимая, в чем дело. Инезилья подскочила к шкафу и быстро отперла дверь.
— Идите, Фернандо! скорее, скорее! Пока есть время! — закричала она; но Фернандо не трогался с места. — Идите же! оставьте меня! — повторила она. — Спасите мою честь, мою бедную честь!
Но Фернандо был по-прежнему неподвижен…
— Что ж вы стоите! — закричала она, схватив его за руку; рука была холодна и безжизненна…
— О богородица Карнеская! О святая Мария! Он не шевелится… он мертв, он задохся! — воскликнула она отчаянно, приложив руку к его груди.
Линора вскочила и, подбежав к шкафу, сделала тот же опыт. Фернандо не дышал.
— Да, да! — закричала она, разделяя отчаяние своей хозяйки. — Он мертв, он задохся…
— Что нам делать, что нам делать! — восклицала Инезилья, ломая руки. — О пресвятая дева! Мужчина… мертвый… у меня… честь моя, честь моя… Что нам делать…
— Что делать! — повторяла Линора. — Куда нам спрягать труп…
В это время в гардеробной послышался шорох.
— Кто-то идет… Мы пропали, мы погибли! — воскликнула Инезилья. — Или, может быть… Ханэта, Ханэта!
Она схватила свечу и выбежала в гардеробную; Линора за ней. По решетке балкона как призрак тянулась фигура человека, высокая, бледная, в огромной соломенной шляпе с букетом.
— Фиорелло! — с ужасом воскликнула Линора и упала без чувств на пол. В то же время восклицание невольного ужаса вылетело из груди испуганной ее хозяйки, свеча выпала из рук ее и погасла. Суеверный страх оковал душу испанки: она упала на колена и шепотом читала молитву… Высокий мужчина между тем отпер дверь балкона и с восклицанием: «Ханэта, Ханэта!» — вбежал в гардеробную.
Фиорелло целый день пробегал по туринским улицам с кинжалом, отыскивая следы человека, погубившего его честное имя. Прошел день, прошел вечер — он всё еще искал его. Случайно наткнулся он на дом Нуньез де лос Варрадоса, увидел веревочную лестницу, брошенную с балкона, и, приняв ее за знак согласия своей любовницы, с радостию бросился вверх и очутился подле доньи Инезильи.
— Вор! вор! — закричала она, вскакивая и вырывая свою руку, которую он хотел взять.
— Что с тобой, Ханэта? — сказал он, всё еще не узнавая, с кем имеет дело, потому что в комнате, освещаемой только луною, было довольно темно.
— Я не Ханэта, я внука гранда Нуньез де Варрадоса, — сказала гордо испанка. — Что тебе здесь надо? Ты пришел воровать… тебя схватят… ты будешь казнен…
— Vuestra grandezza! (ваше грандство) помилуйте… я не вор, я не за тем пришел. — Испуганный рыбак упал на колена.
— Нет пощады, нет пощады! Судьба не щадит меня… Ты задушил дона Фернандо! Ты задушил его! — воскликнула Инезилья, озаренная внезапной мыслию.
— Что?
Ханэта, с намерением удалившаяся из комнат госпожи своей, в то время возвратилась в гардеробную, думая, что уже пора прекратить беседу любовников.
— Фиорелло! — воскликнула она укорительно. — Ты здесь… Я тебе не подавала знака!
— Ханэта, — отвечал он мрачно, — меня называют вором, меня обвиняют в каком-то убийстве. Я невинен, Ханэта. Ты знаешь, зачем я пришел.
Ханэта бросилась к ногам своей госпожи.
— Простите его, простите меня! Он не вор… Я назначила ему свидание… Благословите наш брак, госпожа моя!
— Ханэта, — сказала Инезилья грозно, — ты предала меня… Твой любовник… если я захочу, он будет схвачен как вор и…
— Простите, пощадите, vuestra grandezza!
— Я всё прощу… я устрою ваш брак… Я осыплю вас золотом… только… он должен сделать мне услугу…
— Приказывайте!
— Клянитесь мне, клянитесь, что никто не узнает того, что я вам скажу, того, что вы должны теперь сделать…
— Я перекушу язык мой в ту минуту, когда мысль изменить вашей тайне заглянет в мою душу, — твердо сказал рыбак.
— Клянемся, клянемся! — подхватила камеристка. — Приказывайте!
Инезилья медлила. Силы ее истощались; дрожь пробегала по всему телу. Наконец она собрала последнее мужество и произнесла отрывисто:
— Здесь есть труп… или, может быть… всё равно, он не должен быть в моих комнатах… вы меня понимаете…
Она быстро оставила гардеробную. Как тень, слабая, умирающая, добралась по стене средней комнаты до своей спальни, заперла дверь, упала на колена и стала молиться…
Фиорелло и Ханэта долго стояли в недоумении.
— Ты должен спасти ее для меня, для нашего счастия! Ты должен спасти ее, Фиорелло! — сказала наконец камеристка.
— Где же труп? — спросил рыбак.
— Вот он! — отвечала она, указывая на женщину, переодетую в мужское платье, которая неподвижно лежала на полу и, при падении запутавшись в свой длинный плащ, была совершенно недоступна для взора.
— Я брошу его в реку! — сказал рыбак, взваливая на плечи бесчувственную девушку. — Я брошу его в реку, и, клянусь, никто вовек не будет знать, куда он делся и того, что здесь было…
— Да помогут тебе все святые исполнить клятву твою! — отвечала Ханэта. — От нее зависит наше счастие!
— Дай задаток, Ханэта, дай задаток!
Фиорелло нагнулся. Ханэта поцеловала его, и они простились.
IV Кинжал
Фиорелло шел с своей ношей к реке, рассуждая следующим образом:
— Ханэта меня любит, госпожа ее обещала дать нам денег… Но я не женюсь, покуда не убью проклятого хитреца, который погубил мою сестру; до тех пор я не могу быть спокоен и счастлив; соседи не пойдут ко мне на свадьбу. «Где твоя сестра, Фиорелло, где твоя сестра? — спросят они. — Умыл ли ты честь свою в крови ее обольстителя?» О святой Фабризио! помоги мне найти его! Кто он? И куда вдруг пропала сестра моя? Может быть, она кинулась в воду… Да, она была так огорчена. Бедная, бедная девушка! Я слишком напугал ее… Но зачем она переоделась в мое платье? Не пошла ли она предостерегать своего любовника? Всё против меня, родная сестра против моей чести! Нет, я не откажусь от мщения, хоть бы весь свет против меня! Зачем я люблю сестру мою? Зачем я не могу вырвать у нее тайны кинжалом? Грех, родная кровь ничем не смывается… Я люблю мою сестру, видит небо, как я люблю ее! И я отомщу за нее! Брошу скорей моего идальго… вот река… Брошу и побегу домой… не пришла ли сестра… Мне хочется ее увидеть… мне хочется обнять ее… — Фиорелло вошел в гондолу, которая была причалена у берега; но, желая подальше от края реки бросить свою ношу в воду, вдруг ему показалось, что труп пошевелился.
— Ты жив, идальго (дворянин), ты жив! — воскликнул он.
Крик ужаса вылетел из груди девушки, и она опять погрузилась в беспамятство.
— Ты жив! Слава всем святым, что ты вовремя пошевелился, идальго! Ты не можешь идти, идальго? Хочешь ли, я принесу тебя к себе, ты отдохнешь у меня. А, идальго? Ты не можешь говорить, идальго?
И рыбак молча понес свою ношу домой. Подходя к своему предместью, он заметил, что труп снова пошевелился. Фиорелло пошел во весь шаг. Наконец он внес труп в комнату и, положив его осторожно на постель, достал огня. Девушка открыла глаза и робко осматривалась кругом. Фиорелло подошел к ней.
— Брат!
— Сестра!
Оба восклицания вылетели в одно время. Но не одинаковое действие произвели они над рыбаком и его сестрою. Линора вздрогнула всем телом от ужасной мысли, которая мгновенно озарила ее рассудок. Фиорелло злобно захохотал и вскричал с диким восторгом:
— Теперь я знаю, кто он. Мне не нужна твоя тайна… Я знаю, знаю!
Рыбак продолжал хохотать от радости. Линора снова впала в бесчувственность.
* * *
Было очень рано! Ханэта только что проснулась. Сорильо вошел в гардеробную и спросил:
— Сестра спит?
— Да.
— А она?
— Кто она?
— Та девушка, которую я вчера оставил у твоей госпожи.
— Я не видала никакой девушки.
— Ты, видно, ничего не знаешь, Ханэта. Она должна быть вместе с сестрой.
— Не знаю. Я не была у моей госпожи: она заперла дверь своей спальни,
— Может быть, она там? — спросил Сорильо, указывая на дверь соседней комнаты.
— Не знаю. Я не была и там. Я боялась войти. Ночью тут слышался какой-то шорох… Я целый час творила молитву…
— Ну, верно, она там. Сорильо вошел в кабинет.
— Линора! Линора! — прошептал он, увидя в кресле человеческую фигуру, закутанную плащом: тихо подкрался он к креслу, нагнулся и готов был поцеловать неизвестную фигуру, но вдруг отскочил. Усы и эспаньолка остановили пламенное покушение дона Сорильо. Неизвестная фигура открыла глаза, зевнула и поднялась на ноги. Сорильо отскочил еще далее.
— Фернандо!
— Сорильо!
Фернандо не вовсе задохся в шкафе, а только лишился чувств от недостатка воздуха. Когда дверь шкафа была отворена, он понемногу начал приходить в себя и наконец опамятовался. Обессиленный душным заключением, он с большим трудом вышел из шкафа, упал в кресло и заснул. Так объяснил он своему другу причину их странной встречи; в заключение он прибавил:
— Сестра твоя невинна. Она не хотела меня видеть… Я против воли ее прокрался сюда… Если ты видишь в моем поступке оскорбление ее чести, то должен иметь дело со мной.
— Она тебя любит? — спросил Сорильо, взяв его за руку.
— Да.
— Я знал! что же она сказала тебе, Фернандо?
— Она сказала, что мы соединимся — там! — Фернандо указал на небо.
— Бедная страдалица! Она всё еще надеется на свою твердость!
— Уговори ее, Сорильо, обвенчаться со мною тайно…
— А дедушка?
— Он благословит нас, когда уже всё будет кончено.
— Скорей проклянет. Ты не знаешь его характера… Он ужасен, Фернандо… Я испытываю на себе, как он ужасен!
Сорильо подал руку своему другу, и они отправились в комнаты молодого гранда.
— Где же она? — спросил Сорильо, проходя гардеробную.
— Я не понимаю, о ком вы говорите, — отвечала Ханэта.
«Странно!» — подумал Сорильо.
— Дон Фернандо! — воскликнула камеристка, увидя его товарища. — Теперь я просто ничего тут не понимаю!
* * *
Гранд Нуньез де лос Варрадос проснулся и позвал слугу. Лопес вошел бледный, испуганный. Смущение его не укрылось от старого гранда.
— Что с тобой, Лопес? — спросил он, вставая с постели.
— Ничего, vuestra grandezza, ничего.
— Руки твои дрожат, ты потупил глаза… ты что-нибудь скрываешь от меня, Лопес! Говори, что ты скрываешь от меня?
Старый слуга медлил. Гранд вспыхнул.
— Ты дурной слуга, Лопес; у тебя есть тайны от господина! Говори!
Лопес силился что-то сказать, но не мог…
— Разве что-нибудь дурное случилось? А! Так, Лопес, так?
— Успокойтесь! — прошептал слуга. — Ничего не случилось, ничего…
— Ничего, Лопес? Так ли делают верные слуги? Ты предаешь меня! Ты меня обманываешь!
— Я сорок лет служу вам, vuestra grandezza. Я никогда не лгал…
— А теперь? теперь ты собираешься лгать… Я вижу, Лопес, ты собираешься лгать!
— Нам угрожает опасность, — проговорил слуга, запинаясь на каждой, слове.
— Опасность! Говори же, Лопес, говори — какая? Ты боишься испугать меня. Не бойся! Ты знаешь, что я не робок. Ты всегда был со мной, ты видел, как я переносил самые чувствительные потери! У меня железное хладнокровие, Лопес, железное. Говори, я твердо выслушаю самую ужасную весть!
И между тем старый гранд дрожал от волнения, ожидая со страхом и нетерпением ответа своего верного слуги.
— Vuestra grandezza! — отвечал наконец слуга, собравшись с духом. — В гербе вашем, который прибит на дверях вашего дома, — воткнут кинжал!
— Кинжал! — повторил с ужасом гранд. — Кто хочет мстить мне? За что?
— Мой приятель, сосед Пио, сказывал мне, что кинжал воткнут сегодня рано, очень рано каким-то высоким мужчиной, в простом платье.
— Кто же он? Чего он от меня хочет? Я не обижал никого, никого.
Между тем слуга вышел и через минуту возвратился с кинжалом.
— Фиорелло! — вскричал гранд, прочитав надпись, вырезанную на кинжале. — Кто такой этот Фиорелло? Я не знаю никакого Фиорелло. Кто из нас имел с ним дело?.. Кто мог нанесть ему обиду, за которую он жаждет крови!
Дверь отворилась; вошел дон Сорильо.
— А, Сорильо, Сорильо! — закричал старый гранд, вздрогнув от нечаянного соображения. — Ты знаешь Фиорелло, Сорильо?
Молодой гранд побледнел.
— Что за странный вопрос? — сказал он, стараясь преодолеть свое смущение.
— Ты знаешь его, Сорильо! ты его знаешь! Что ты сделал ему?
— Я не понимаю вас, дедушка.
— Ты лжешь, Сорильо! Ты хочешь обмануть меня! Ложь — орудие низких рабов. Стыдно лгать потомку Варрадосов! Ты знаешь Фиорелло. Что ты ему сделал? За что он хочет мстить тебе, за что он хочет отнять у меня наследника моего имени?
— Но он не знает меня, дедушка.
— Не знает! Смотри, Сорильо, смотри! — перебил старик, показывая внуку кинжал. — Он знает того, кому хотел напомнить о себе этим кинжалом! Он был в гербе нашем вестником мести, Сорильо!
— Мне изменили! — прошептал про себя молодой гранд.
— Признайся же, Сорильо, признайся! Ты знал Фиорелло? Ты обидел его?
— Дедушка, — отвечал внук, — я не знаю Фиорелло, но я точно нанес ему обиду, за которую он вправе искать моей смерти…
Морщинистое лицо старого гранда сделалось ужасно. Он едва не упал; слуга подскочил и подвинул ему кресло.
— Что ж ты думаешь делать? — спросил старик слабым голосом.
— Драться! — отвечал молодой гранд решительно. Старый гранд вскочил.
— Драться! — воскликнул он. — Потомок Варрадосов будет драться с плебеем! И плебей убьет его, как равного себе; плебей прервет род Варрадосов; плебей одним ударом кинжала кончит древнейшую в мире фамилию! Нет, скорей он кончит жизнь в тюрьме, на плахе! Я увижусь с министром… я поеду к королю…
— Где честь Варрадосов? Где любовь к правде, которою они знамениты? — возразил молодой гранд, устремив на деда укорительный взгляд.
— Ты прав, Сорильо, я забылся… Он невинен… Но что же делать? Он убьет тебя, Сорильо; он подстережет и убьет тебя!
— Нельзя ли помириться с ним, vuestra granclezza; дайте ему денег, — почтительно заметил, слуга.
— В самом деле! — воскликнул старый гранд с радостью. — Если ты обидел его, Сорильо, заплати ему, заплати, сколько он хочет!
— Дедушка, — отвечал Сорильо, — обида не такого рода, чтоб ее можно было загладить золотом; он не такой человек, чтоб согласился за золото носить вечное пятно на своей чести.
— Ты оскорбил честь его, Сорильо, — печально сказал старик, — я от тебя не ждал такого поступка. Он вправе убить тебя, и он, верно, не пропустит случая… Тебе нельзя показаться на улице. Каждая минута твоего отсутствия будет для меня пыткою. Что же нам делать? Говори, чем можно загладить вину твою?
— Я погубил сестру его, дедушка…
— Ты обольстил невинную девушку! Сорильо, Сорильо! Поступок твой недостоин честного человека!
— Простите, я люблю ее. Я должен жениться на ней, чтоб загладить свое преступление, смирить справедливый гнев брата…
Старый гранд с бешенством топнул ногою.
— Жениться! Понимаешь ли ты, негодяй, что значит жениться наследнику имени Варрадосов! Этот великий шаг предки твои совершали торжественно, с разрешения королей, которые сами присутствовали на их брачных пиршествах. Он прибавлял новый блеск к венцу их; он был эпохой; об нем говорили во всей стране. Пятьдесят лет прошло, но я еще и теперь с гордостью припоминаю день моей свадьбы… Весь город толпился у нашего дома; сама королева убирала к венцу невесту мою, первейшие лица в государстве провожали нас к брачному алтарю; сам король держал венец над головою будущей супруги гранда Нуньеза де Варрадоса! И когда мы вышли из храма, меня, как какого-нибудь императора, народ приветствовал радостными криками и поздравлял и громко желал счастья и долгоденствия нашему роду! А ты с своей безродной невестой, ты должен закоулками города пробраться во храм, чтоб не встретить человеческого образа, ты должен спрятать лицо свое от народа, чтоб не возбудить его презрительных взглядов и толков оскорбительного недоумения! О Сорильо, Сорильо! И ты — единственная отрасль нашего дома! И на тебе лежит святая обязанность поддержать знаменитый род Варрадосов!
Старый гранд, обессиленный своей энергической выходкой, в изнеможении упал в кресло и зарыдал. Сорильо, тронутый его отчаянием, бросился в его объятия и произнес со слезами:
— Дедушка! простите меня! Что мне делать? Приказывайте! Я буду вам послушен во всем!
V Под открытым небом
Прошло около месяца. Линора угасала, терзаемая разлукой и опасениями за жизнь своего любовника. Сердце рыбака ожесточилось еще более при виде мучений несчастной сестры. Он не переставал искать случая встретиться с виновником ее погибели и почти не жил дома, подстерегая его на улице. Но напрасны были его старания: дон Сорильо неотлучно был со своим старым дедом, который не переставал с ужасом думать о грозном мстителе и ни на минуту не отпускал от себя своего внука. Три недели прожил Сорильо, почти не показываясь на улицу; тяжело и больно было ему; неизвестность о судьбе Линоры мучила его душу. Несколько раз он пробовал уйти из дому, но старый гранд стерег его на каждом шагу. Наконец время начало охлаждать тревожные опасения, и все в доме стали смотреть хладнокровнее на роковой кинжал с надписью «Фиорелло». Сорильо осторожно вышел из комнаты заснувшего деда и был уже на дороге к жилищу рыбака.
— Не умирай, Линора, не умирай! погоди еще только один день… и ты будешь отомщена! ты умрешь с радостной вестью о его погибели, — отчаянно говорил рыбак сестре, которая видимо боролась со смертию.
— Брат, ты сокращаешь последние минуты мои! — прошептала она слабым голосом. — Откажись от своей мести, брат!
— Ты не знаешь, сестра, ты не знаешь, как приятно пролить кровь врага… Я принесу тебе его крови… Ты сама порадуешься тогда!
— Я люблю его, брат! я хочу, чтоб он был счастлив… Мне дурно, душно… прости, брат, я чувствую, что последний час мой близок, прости!
Она закрыла глаза и застонала. Фиорелло упал к ней на грудь.
— Ты умираешь, сестра! ты умираешь! погоди, погоди один день, один час!
Фиорелло, как помешанный, выбежал вон.
— Прости его! — прошептала сестра, но он уже не слышал ее слов; он уже был на улице…
Между бедным предместьем и главным городом была небольшая площадь, запущенная и неопрятная. Кой-где груды мусора или мелкого щебня; кой-где крутые возвышения или довольно глубокие овраги, наполненные нечистотою, разнообразною до бесконечности; кой-где малорослые деревья, бесплодные и некрасивые; в стороне начатое строение и подле него груды принадлежностей; сверху всего луна, пышная, величественная, нежно-бледная, как молодая супруга на другой день после брака.
Здесь встретился Фиорелло с заклятым врагом своим. Оба в одну минуту остановились; оба молча обнажили кинжалы. Фиорелло кинулся к дону Сорильо.
— Постой! — сказал молодой гранд, отталкивая его. — Прежде скажи, чего ты от меня хочешь?
— Крови вашей, идальго, крови!
— Знаю и не боюсь. У меня также есть кинжал. Я также умею владеть им. Одного из нас ждет смерть, другого — закон, столь же строгий и неумолимый. Не лучше ли нам кончить без крови? говори, чего ты хочешь?
— Ничего, кроме вашей крови, идальго! вы вельможа, у вас есть тысяча друзей и льстецов; в ваших руках несметные сокровища; ваше происхождение открывает вам путь к первейшим степеням в государстве… Я бедный рыбак, у которого была одна отрада, одно утешение — честь; одно сокровище — сестра… Вы — гранд, богач, наследник древнейшей фамилии, любимец короля, позавидовали счастью безвестного рыбака: вы убили бедную девушку, которая могла бы быть счастлива по-своему, если б не встретила вас; вы к титулу гранда, богача, наследника древнейшей фамилии прибавили титул подлеца, — да, подлеца, идальго!
— Замолчи, бездельник! — прервал вспыхнувший Сорильо. — Теперь не время укорять, не время оправдываться. Скажи, что сделалось с нею?
— Она умирает. Она, может быть, умерла теперь… Я обещал ей принести крови твоей, идальго!
— Умирает! — с ужасом повторил гранд. — Фиорелло, я не могу теперь с тобой драться. Пойдем к ней, пойдем. Клянусь тебе, через час мы опять будем здесь…
— Подлый трус! ты хочешь обмануть меня, убежать, спастись… Нет, я не отпущу тебя.
— Защищайся! — закричал обиженный гранд и бросился на рыбака с обнаженным кинжалом. Бой был недолог, через минуту Фиорелло упал к ногам гранда, окрашенный собственной кровью. Сорильо приложил руку к его сердцу — оно не билось.
— Всё кончено! — произнес он отчаянно. — Убийца сестры сделался убийцею ее брата! Линора! ты умираешь! ты, может быть, умерла!
И растерзанный гранд побежал к жилищу рыбака.
— Линора, Линора! — закричал он, вбегая в комнату. — Я пришел к тебе, я наконец вырвался из моего заключения!
Ответа не было. Сорильо наклонился к лицу девушки: оно было бледно и безжизненно. Он взял руку — она была холодна и недвижна. Долго молчал гранд, долго с мучительной думой стоял он над бесчувственным трупом своей жертвы. Слезы градом лились из его глаз. Наконец он вспомнил, что положение, в котором он находился, не позволяло ему долее оставаться в доме убитого им человека.
— Прости, прости! — прошептал он, падая на грудь девушки, горячо поцеловал иссохшие уста покойницы и вышел.
— Я преступник! — говорил он сам себе, жадно втягивая воздух в разгоряченную грудь свою. — Я убийца сестры и брата! куда мне деваться от самого себя, от правосудия!
Он пришел на место недавнего боя; там по-прежнему было всё пусто и тихо; луна, молчаливый свидетель его преступления, так же ярко бросала лучи свои на пустынную площадь, недоконченное здание, груды камней и мусора и на окровавленный труп рыбака. Сорильо бросился к трупу, поднял его, кинул в ближайший овраг и начал заваливать его каменьями и мусором. С какой-то дикой заботливостью закладывал он малейшее отверстие ямы, как будто боясь, чтоб мстительный сардинец не вышел из своего темного дома уликой в его преступлении. Около двух часов стаскивал гранд огромные камни на труп Фиорелло, наконец могила приняла вид костра, подобного тем, которые были на площади. Сорильо принялся заметать песком капли крови. Когда наконец малейший признак его преступления был уничтожен, он вздохнул свободнее и пошел домой…
Была еще глубокая ночь, когда Сорильо тихо, никем не замеченный, прокрался в свою комнату. Едва успел он сбросить с себя окровавленное платье, дверь отворилась, вбежал старый гранд, бледный, испуганный, с растрепанными волосами, с диким огнем в глазах. Привыкнув к подобным посещениям деда, Сорильо, бывало, нисколько не смущался их нечаянностию, но теперь он невольно вздрогнул…
— Ты жив, Сорильо! ты жив! — закричал старик, бросаясь к внуку. — Мне спилось…
— Что вам снилось, дедушка?
— Страшно, страшно, Сорильо! Благодари бога — то был сон, пустой сон! ты жив! ты не омрачил чести Варрадосов! ты не оскорбил тени предков своих!
— Дедушка, что за мысль? — перебил Сорильо, дрожа и бледнея. — Как вы могли подумать…
— Ничего, ничего, друг мой!., грезы, болезненное расстройство воображения… Забудем всё! обними меня, друг мой!
— Что же вам снилось, дедушка?
— Страшно, страшно… Мне снилось, что я хожу в галерее, где висят портреты предков моих. Вдруг мрачные фигуры их отделяются от рам; они сходят на пол и окружают меня; лица их важны и строги; взгляды грозны и укорительны. Я стою посереди их и с трепетом ожидаю своего приговора. И ты тут же, Сорильо; ты подле меня, бледный как смерть, растрепанный как страшилище; в руке твоей окровавленный кинжал, на шее красная полоса запекшейся крови… на лице, на пальцах твоих тоже кровь… страшно, страшно!..
Старик остановился, заметив необыкновенное смущение внука.
— Что с тобой? — спросил он, взяв его за руку…
— Дальше, дальше, дедушка! вы меня заинтересовали! — отвечал он с поддельной усмешкой, поспешно вырвав свою руку и опустив ее на колени. Старик продолжал:
— Они долго шептались между собою. Отец мой говорил больше всех, и я заметил, что он плакал, упрашивая о чем-то своих товарищей. «Нет! — отвечали они грозно. — Он поддерживал честь нашего рода, но он не умел воспитать ему достойного преемника… Он возрастил то семя, из которого выросло древо нашего позора! нет ему места между Варрадосами! прочь его, прочь!» Тут подошел ко мне отец мой и рыдая вывел меня из круга моих знаменитых предков… А ты, Сорильо, ты… На тебя налетела туча черных, безобразных теней… Ты упал к ногам своих предков… Ты молил, ты плакал… напрасно! Один из них махнул рукой, и черные страшилища увлекли тебя за собою… Всё исчезло… Я оглянулся кругом: портреты предков моих, как всегда, висели на стене мрачные, молчаливые, только двух крайних, Сорильо, крайних двух между ними не было… Я проснулся; страх оковал мои ноги, но я кой-как дотащился до галереи, и что же, Сорильо! все портреты висели в прежнем порядке, а твой и мой, крайние… Сорильо, они лежат на полу… Они сорвались со своих перержавевших петель и упали. Но это сон, Сорильо, пустой сон!
— Сон, пустой сон! — глухо повторил внук, падая головой на подушку.
VI Перстень
— Где твой брат, Линора? что его не видно? — говорил молодой Хозе, входя в дом рыбака. Ответа не было. Хозе подошел к постели, взглянул на покойницу и с ужасом отскочил к двери; крик дикого отчаяния вырвался из груди его. Хозе любил покойницу, любил безнадежно, но горячо и сильно. Смерть ее, о которой он только что узнал, поразила его в самое сердце… Хозе рассказал своим товарищам о том, что видел в доме рыбака. Все были тронуты и удивлены. Вопрос: «Куда же девался брат ее, где Фиорелло?» — повторялся на всех устах, и никто не решил его. Фиорелло был любим товарищами, и потому смерть сестры, его собственная печаль в последнее время и, наконец, странное, ничем не объяснимое его отсутствие — всё это сильно взволновало умы рыбаков. Прошло около трех дней. Тело Линоры было положено в гроб, всё было готово к погребению, ждали — не придет ли брат проститься навсегда с сестрою, которую он так горячо любил, — его не было; прошел еще день — Фиорелло не было. Линору похоронили. Рыбаки не переставали искать своего товарища, но долго их поиски оставались без успеха. Хозе на другой день шел домой из города, где он тщетно расспрашивал о пропавшем товарище, грустный, взволнованный. Проходя площадь, чрез которую лежал путь к предместью рыбаков, он вдруг остановился, увидев на одном из камней круглое пятно засохшей крови; в то же время обоняние его поразил неприятный запах. Хозе стал разрывать в разных местах песок и находил под ним кровавые пятна. К нему присоединилось еще несколько догнавших его товарищей; скоро они разрыли подозрительный костер, и труп Фиорелло был найден.
— Он убит! — воскликнул Хозе, рассматривая покойника. — Он весь изранен. Он умер ужасною смертию!
— Да, кто-то ловко поработал около него! — заметил один из рыбаков.
— Ловко, — подхватил другой. — Очень ловко!
— И славно похоронил его. Если б не случай, не скоро бы мы нашли покойника!
— Да, да, славно, славно! — подхватили второй и первый.
— Ловко, славно! — перебил с досадою Хозе. — Вы готовы произнесть похвальную речь его убийце, вы готовы смеяться! Стыдно, стыдно! И над вами также будут, сложа руки, подшучивать ваши товарищи, если вас постигнет такая же участь. А она легко может постигнуть всякого из нас, если мы так хладнокровно будем смотреть на погибель своих братьев.
— Что ж нам делать, Хозе? — спросили пристыженные рыбаки.
— Действовать, а не говорить; мстить, а не издеваться. Кто его убийца? говорите, говорите, если вы знаете,
— Не знаем! — печально отвечали рыбаки. — О, если б мы знали!
— Мы должны найти его.
— Да, да! — подхватили все, хватаясь за свои кинжалы.
Ханэта целый месяц не видала Фиорелло, целый месяц не имела о нем известия. Она ждала, страдала, терпела и наконец, измученная тщетными ожиданиями, растерзанная неизвестностью о судьбе своего любовника, решилась сама идти к нему. Рыбаки еще стояли над трупом своего товарища, когда она проходила площадь. Ханэта также остановилась, стараясь сквозь столпившуюся массу народа рассмотреть предмет общего внимания. Вдруг она безумно вскрикнула и бросилась к трупу.
— Фиорелло! Фиорелло! ты мертв! ты убит! — Она упала на труп; громкие рыдания заглушили ее слова.
— Она, видно, любила его! — сказал кто-то.
— Да, я любила его, любила! — вскричала девушка вскакивая. — О, как он был хорош, как он любил меня! Но его убили! отняли у меня моего Фиорелло, отняли моего мужа! — Она ломала руки и рвала на себе волосы.
— Не знаешь ли, кто убил его? — спросил Хозе.
— Ты, ты! — дико закричала она и побежала прочь, повторяя имя своего любовника…
Долго с безмолвной тоскою смотрели рыбаки за удаляющейся девушкой.
— Что же мы будем делать? — наконец сказал один из них.,
— Отнести его в дом, похоронить и потом искать его убийцу…
— Но как мы узнаем, кто он?
— Нужно узнать, нужно узнать, друзья мои!.. Берите же труп…
Хозе подошел к разрытой могиле, и в то самое время что-то звякнуло под ногой его, скатилось в яму и опять звякнуло, ударившись о камень. Хозе нагнулся и поднял красивый перстень, осыпанный драгоценными каменьями.
— Вот его убийца! — радостно закричал он, рассмотрев перстень и торжественно показывая его товарищам. — Смотрите, смотрите, друзья мои! Чей это герб? Чье имя вырезано на перстне?..
— Дон Сорильо, внук старого Варрадоса! — воскликнули в один голос изумленные рыбаки.
— Он, он, друзья мои! Бог попутал его. В одну могилу с телом жертвы своей он закопал и свидетеля своего преступления, свидетеля, который разрушит все его старания скрыться! Теперь мы знаем убийцу Фиорелло… Пойдемте, пойдемте, друзья мои! Ни минуты лишней не должен жить тот, кто безвинно принес в жертву своей прихоти нашего лучшего товарища и бедную сестру его. Да, и сестру. Я уверен, что убийца брата есть также убийца и сестры! Что другое могло быть причиною ее нечаянной смерти? Что другое могло заставить Фиорелло драться с доном Сорильо? Сестра, сестра! Он погубил ее и страшно будет ему отвечать за нее, за брата перед судом земным, перед судом божиим! Вы видите, друзья мои, вы поклянетесь, если потребуют, что перстень с гербом дона Сорильо де Варрадоса был найден вместе с трупом Фиорелло?
— Видели, поклянемся!
— Идем нее, идем, друзья мои! Смерть Варрадосу!
— Смерть ему, смерть!
* * *
Дон Сорильо очень жарко рассуждал с доньею Инезильею о назидательных поучениях отца Пио де Элизальда. Вдруг в комнату вбежала Ханэта. Лицо ее было бледно; взгляд выражал безумное отчаяние, волосы были распущены, слезы крупными каплями висели на ее ресницах.
— Он умер, он умер! — болезненно простонала девушка. — Его убили!
— Кто умер?
— Кого убили?
— Фиорелло, Фиорелло! Его нет уже здесь, он там, он на небе, он ждет, он зовет меня. Кто убил его? О, если б он убил также и меня! Дорого бы заплатила я ему; я отдала бы ему то, что нужно было для нашего счастья на земле. Теперь на что нам золото, возьмите, возьмите его!.. — Ханэта рассыпала по полу кошелек с золотом, который прежде хранила на груди своей залогом счастья. Донья Инезилья была сильно поражена глубокой горестью своей камеристки.
— Но точно ли ты уверена, что он умер? — спросила она с участием.
— О, вы хотите утешать меня! Нет, я сама видела его труп…
— Ты видела его труп? — невольно вскрикнул Сорильо. — Когда ты его видела?
— Сегодня, сейчас я видела труп его… Он обезображен, он покрыт кровью… Но я узнала его… О, я узнаю его из тысячи… Нет другого Фиорелло, нет его во всем свете! Около него толпятся товарищи, они сожалеют, они плачут… Но что их слезы, что их сожаления… О, если б вы могли заглянуть в мою душу!
Сорильо между тем беспрестанно переменялся в лице. Судорожный трепет пробегал по его членам. Он скорыми шагами вышел из комнаты.
— Простите, простите, добрая моя госпожа!
— Куда же ты, Ханэта, куда?
— К нему, к нему! — безумно закричала камеристка и выбежала вслед за доном Сорильо…
— Знают ли они, кто его убийца? — спросил он, останавливая ее.
Ханэта улыбнулась, потом захохотала неистово и отвечала, пристально смотря в лицо гранда:
— Знают!
Он чуть не упал. Она вырвала свою руку и убежала, напевая что-то диким, нечеловеческим голосом… «Она сумасшедшая», — подумал молодой гранд и вздохнул свободнее.
— Отчего ты так мрачен, так печален, Сорильо? — говорил старый гранд своему внуку. — Лицо твое бледно, глаза мутны. Что мучит тебя, что ты скрываешь от меня, Сорильо?..
— Я… дедушка… я ничего не скрываю от вас…
Вошел старый Лопес. Никогда физиономия его не была так расстроена, никогда, может быть, она не выражала столько чувств, как теперь; зубы старика стучали, и седые усы его тряслись, как листья на осине…
— Vuestra grandezza, дон Диего желает вас видеть, — произнес он отрывисто. — Я не знаю зачем, клянусь, я не знаю…
— Какое дело может иметь до меня алкад? — сказал изумленный гранд. — Разве поручение от короля? Может быть, известие о…
Он взглянул на внука. Лицо молодого гранда было страшно искривлено испугом…
— А!.. Что с тобою, Сорильо? отчего ты дрожишь…
— Тише, тише, дедушка! — сказал молодой гранд, схватывая его за руку. — Ради бога, тише!
— Зачем тише, Сорильо, зачем? — вскричал старый гранд грозно. — Разве я говорю что-нибудь противное чести? Разве…
— Тише… Прощайте, дедушка! Не проклинайте, о, не проклинайте меня!
Сорильо быстро пошел к двери…
— Именем короля, остановитесь! — воскликнул дон Диего, входя в комнату. Все вздрогнули.
— Простите, vuestra grandezza, — продолжал алкад, — что, чувствуя всю ничтожность мою перед вами, должен обеспокоить вас. Не ужасайтесь, не приходите в отчаяние, может быть, одно недоразумение, мы отыщем, мы оправдаем. Но законы, формы делопроизводства… Нельзя, извините, никак нельзя…
— Говорите, говорите! — перебил старый гранд. — В чем дело, что значит ваша вступительная речь…
— Не отчаивайтесь, говорю вам; может быть, только недоразумение, ошибка. Но… есть некоторый повод думать, есть причины подозревать вашего внука… Мне велено его задержать…
— Вот он! — твердо сказал старый гранд, указывая на внука…
— Впрочем, мне поручено также, — продолжал алкад, — оставить его у вас, если вы дадите слово гранда, что не выпустите его из своего дома и представите к суду по первому требованию… Благоволите дать ответ, vuestra grandezza!
— Исполняйте, что повелевает закон!
— Дедушка, — перебил Сорильо, — ради бога позвольте мне остаться. На одну минуту, позвольте мне сказать несколько слов в оправдание.
— Перед судом, Сорильо, перед судом! Если ты невинен, ты скоро возвратишься ко мне; если виновен, я не хочу тебя видеть!
VII Заключение
Сорильо был позван к суду. Его смущение, его нечаянный трепет при виде перстня, который он потерял, зарывая труп рыбака, и, наконец, сбивчивость и неясность речей его — всё это скоро обличило в нем убийцу рыбака и обольстителя сестры его. Сорильо наконец сам признался во всем, надеясь объяснением событий, предшествовавших преступлению, смягчить своих судей. Но они были неумолимы. Сорильо был приговорен к смертной казни. Один король мог смягчить строгость закона; дело было представлено на его рассмотрение. Между тем весть о преступлении внука долетела до ушей старого гранда; он заболел. Отчаяние его не имело границ; все надежды его разрушены, честь Варрадосов помрачена, и нет наследника его имени, нет того, кто б продолжил древнейшую в миро фамилию.
— Вместе с ним, — рыдая говорил старик, — будет казнен весь род Варрадосов! Сбылся мой сон! предки мои с посмеянием выбросят меня из своего круга. И никто ни на земле, ни на небе не вспомнит обо мне с участием. Там забудут меня, как недостойного, здесь… кто здесь напомнит обо мне? Где мой наследник, где представитель Варрадосов? Его нет, нет! — И старый гранд в исступлении бил себя в грудь и рвал клочками свои седые волосы…
— О богородица Карнеская! помоги ему! Укрепи мою душу! — шептала донья Инезилья, не отходившая от постели больного деда…
Вскоре после осуждения Сорильо к дому гранда Нуньеза прискакал курьер и требовал, чтоб об нем немедленно доложили.
— Бумага от его величества, — сказал он, подавая запечатанный конверт гранду…
— Не все еще забыли меня! Сам король вспомнил о своем несчастном подданном; он хочет утешать меня! — воскликнул тронутый старик. — Я слаб, я худо вижу… Прочти, Инезилья, что пишет наш добрый государь!
Король писал, что хотя по законам Сардинии Сорильо осужден на казнь как убийца, но во уважение его молодости и неопытности, бывших причиною его поступка, а также во уважение заслуг его деда и того, что он единственная отрасль дома Варрадосов, смертный приговор можно заменить заключением или ссылкою на некоторое время…
— Он будет спасен! — воскликнула донья Инезилья, прочитав письмо. — О великодушный король! Дедушка, дедушка! он будет спасен!
Инезилья в восторге упала на грудь старого гранда. Он долго не мог говорить, пораженный великодушием монарха…
— О добрый король! — наконец сказал он со слезами. — Ты жалеешь меня, слабого старика, ты жалеешь нашего рода, который должен уничтожиться… Благодарю, благодарю тебя… Но… я помню, что предки мои, что сам я — мы всегда были верными поборниками закона и правды… Дай мне перо, Инезилья, дай мне перо!
— Что вы хотите делать? — с ужасом спросила она…
— Что велит мне долг! Дай перо.
И старик твердой рукою написал смертный приговор своему внуку и вместе с ним всему своему роду. «Государь! Я люблю моего внука, люблю мой род; целью всей моей жизни было оставить по себе наследника, который бы со славою продолжил род Варрадосов. Но если ты велишь мне выбирать между любовью и справедливостью — явыбираю последнюю…»
И Сорильо был казнен.
1843
Помещик двадцати трех душ*
Записки молодого человека, который называет себя «злополучнейшим из людей»
29 сентября
…утешится и отрет слезы. О, без меня она, верно, плакала! Мы, мужчины, гораздо хуже женщин. Наши чувства, привязанности, страсти, стремления слишком разделены: мы хотим всё обнять и потому не обнимаем ничего. Мы ни к чему не можем привязаться постоянно, глубоко, беспредельно: десять идей в голове, двадцать привязанностей в сердце, дюжина фантастических образов в воображении — и всё в одно время, в один час, в одну минуту! Женщина… о, женщина совсем другое дело! Женщина может вся предаться одному чувству, вылить все страсти свои, все помышления, все порывы в одну форму, — женщина может любить сильно, глубоко, беспредельно. Она плакала… о, верно, плакала!.. А я… Не может, — я в том уверен, — не может ни в одной груди человеческой поместиться столько любви, сколько кипит в груди моей, не любил так Тассо свою Элеонору, не любил так Петрарка Лауру свою и не будет так любить ни один будущий поэт, ни один романтик, как люблю я мою Зенаиду… и между тем — когда мы расстались — день я вздыхал, день зевал, три дня скучал… и только! На пятый день я уже метал банк… сердце мое сильнее билось при взгляде на семерку пик, которая была виною моего проигрыша, чем при воспоминании о ней… И я еще хвастал моею любовию!
Как я приду к ней?.. Мне будет стыдно, я покраснею за себя, за свои чувства, моя любовь побледнеет пред ее любовию, как бледнеют звезды ночи пред пышным, ослепительным блеском восходящего солнца! Женщины лучше мужчин вдвое, втрое, в тысячу раз!..
30 сентября
Я проснулся. Девять часов утра. Боже мой! как мне дождаться урочного часа, когда, не нарушая условий света, я могу наконец увидеть ее?.. Зачем эти условия?.. Безрассуден человек: сам себя оковал он цепями и не может ступить шагу, чтоб не наткнуться на какое-нибудь препятствие, им самим изобретенное. Я приехал поздно… Был двенадцатый час ночи… Что нужды? Я полетел бы к ней тотчас, и радость наша озарила бы для нас темноту ночи, вывела бы солнце краше весеннего пред наши глаза… Целые двенадцать часов тяжкого, томительного, беспокойного ожидания… двенадцать часов муки вместо двенадцати часов счастия… ужасно! Стану читать книгу… А… часы начинают бить… Каждый удар их отзывается в моем сердце… семь, восемь… девять… десять… еще удар, еще… ради Брегета!.. Я не выдержу… я разобью часы… я расшибу себе голову… Вот я у стены… Слава богу, я впору опомнился! Я не разбил ни головы, ни часов: часы стоят денег; голова ничего не стоит, но она мне нужна, нужна, потому что без головы я не могу идти к ней: неприлично!.. Буду ждать… Вот на потолке нарисован китаец: какая глупая, довольная, добрая физиономия! Как завидую я его спокойствию!.. Что такое? он, кажется, надо мной смеется?.. Дурак! ему непонятно мое волнение! он никогда не чувствовал любви и не будет ее чувствовать: он китаец! Смотрите: он язвительно улыбнулся, он, бездельник, так странно вытянул губы, как будто хочет плюнуть мне в лицо… Вот я же его… Что я делаю? Вообразите, я схватил «Маяк» и хотел швырнуть им в китайца, — любовь лишает меня рассудка! Буду опять читать книгу…
* * *
Чрез несколько часов[16]
…ая…..читать. кровь. ад. рога. кладбище. развалины. человечья… коварная… труп… пистолет…
1 октября
Я убедился на опыте… я готов присягнуть — женщины хуже мужчин во сто, в тысячу, в миллион раз!..
У мужчины есть душа пылкая и впечатлительная; мужчина может чувствовать глубоко и благородно, любить сильно и бескорыстно. Женщина! О, не ждите от женщины ни истинной любви, ни постоянной привязанности: ветер в голове, ветер в сердце, ветер в воображении! Существа пустые и мелкие, великолепные при тусклом бальном освещении, бледные при дневном божием свете, красивые снаружи, отвратительные внутри, всегда занятые собою, всегда кокетки, всегда сплетницы, всегда изменницы — вот женщины!.. Страшно, когда подумаешь, сколько черных пороков, дурных наклонностей, непростительных помыслов, сколько безрассудства и легкомыслия скрыто иногда под самою очаровательною, магнетическою наружностию! Больно за человечество: скольким еще суждено обмануться, упасть с неба на землю — в грязную, нечистую, зловонную лужу разочарования! О, да померкнут очи у лицемерной красавицы, когда она с любовью наведет их на пылкого, доверчивого юношу, — да онемеют уста ее, когда трепетным, проникающим в душу голосом залепечет она ему слова любви, которой не чувствует, — да превратится в камень рука ее прежде, чем она донесет ее до раскаленных уст безрассудного… О, не верьте, не верьте, — если вы не хотите быть обманутыми, — когда женщина говорит вам: «Я люблю тебя»; переводите слова ее: «Я тебя обманываю», — и клянусь вам небом, клянусь опытом, который дорого достался мне, клянусь жизнью и всей китайской империей, — вы не ошибетесь…
* * *
2 октября
…Ночь. Спит небо, спит земля,
спит город, спит каждое здание огромного города, а я не сплю! Спят люди честные и низкие, великие и малые, бедные и богатые, спят графы и булочники, кондитеры и чиновники, журналисты и шарманщики, воры и книгопродавцы, спят, может быть, даже нищие и убийцы, — а я не сплю!
Не сплю!.. Когда земля повернется другою своею стороною к солнцу — а ту, на которой живу я, оставит во мраке — и вся жизнь органическая, лишенная теплоты и света, измученная заботами, страстями и недугами дня, повергнется в оцепенение — увы! столь непродолжительное! — мне становится легче… Строгая, девственная тишина ночи согласнее гармонирует с унылым, однообразным ропотом души моей, чем разнохарактерный, скрыпучий шум буйного дня. Огромные массы мрака, черные складки мантии, в которую ночь одевает природу, плотно прячут меня от глаз ненавистного света, а солнце?.. солнце предательски выдает меня: оно каждый день выставляет напоказ мою тоску, мои муки, мои раны сердечные!..
…Изменить!.. Да, она мне изменила. Напрасно стал бы я уверять себя в противном: факт слишком очевиден!..
* * *
5 октября
Не говорите мне, отчего так скучно, тяжело и страшно — человеку на белом свете. Я сам знаю причины. Я их вам расскажу по порядку… Оттого, друзья мои, что свет черен и неблагороден, что не уверен человек даже в том, — тверда ли земля, на которой он стоит, чист ли воздух, которым он дышит, безвредна ли пища, которую он употребляет; оттого, что на каждом шагу рискует человек сломить себе шею, сделать глупость, прослыть философом, быть укушенным бешеною собакою или обманутым коварною женщиною!
Мне тяжело, скучно и страшно на свете… случись со мной лет десять назад такая история, я непременно бы застрелился или повесился. Теперь, когда самоубийство всякого рода сделалось самою пошлою спекуляцией) на внимание почтеннейшей публики — из всех спекуляций, какие я знаю, — мне ничего более не остается, как писать свои записки…
Итак, буду писать записки.
Мы росли вместе. Под одним градусом долготы и широты бились наши сердца в продолжение восьми лет, одним воздухом дышали мы, одни и те же картины природы окружали нас с детства, под влиянием одинаковых обстоятельств развились в нас первые понятия о природе, о праве, о человеке; одну землю топтали мы; одно небо было над нами; по одному букварю учились мы русской грамоте. Наша юность была тождественна во всех отношениях… И между тем какая разница, какая ужасная разница!..
Некто, надворный советник и кавалер, человек сметливый и почтенный, который в семь лет схватил пять чинов и двести тысяч наличных денег, выстроил на имя жены дом в Петербурге и купил деревню в *** ской губернии, человек стойкий, прямой, доброкачественный, — дал жизнь существу, которому суждено было впоследствии обмануть меня. Его звали Супонев. Отец мой был бедный помещик, живший в селе, где ему принадлежало 23 ревижеских души, ветряная мельница и восемьдесят десятин строевого и дровяного леса, о которых, впрочем, доныне производится тяжба. Отец мой любил страстно охоту: у него было ружье, которое било на сто двадцать шагов, и собака — удивительная собака! — которая, по словам отца моего, была полезнее, умнее и расторопнее всякого «человека». Если взять в расчет, что шестеро лакеев, составлявших дворню моего отца, были все негодяи, лентяи и пьяницы, — то тут и нечему удивляться… О собаке моего отца ходили по всему околодку удивительные анекдоты, которые вскоре составили колоссальную репутацию не только самой собаке, но даже и моему отцу: так лучезарный ореол славы, окружающий чело всякого человека, бросает приятный блеск и на его приближенных; так гений великого актера, певца и музыканта заставляет видеть что-то необыкновенное и в дюжинных талантиках посредственностей, пользующихся его покровительством.
В сторону сравнения. На сцену является собака. Ее достоинства неисчислимы, ее добродетели изумительны. Она узнает, отыщет и принесет вещь своего хозяина, где бы вы ее ни потеряли, куда бы ни спрятали; она по первому указанию сорвет шляпу с прохожего, будь он хоть статский советник; ее можно посылать в лавочку за чем угодно: она не украдет ни копейки, ничего не съест и не испортит. Она будет лежать, ползать, ходить на задних лапах, делать всё, что прикажет хозяин. Она достанет дичь со дна моря. Она даже знает русскую азбуку.
Последнее обстоятельство особенно поразительно. Оно не шутка: я сам был не раз ему свидетелем. Я также не солгал, сказав, что собака составила репутацию моему отцу: все соседи любили и уважали его по собаке. Они почти каждый месяц наезжали к нему в значительном количестве, привозя с собой в подарок — кто муки, кто гусей, кто шампанского, кто повара и так далее. Зачем?.. Неужели их честолюбию могла льстить короткость с бедным помещиком двадцати трех душ мужеска и тридцати шести женска пола?.. Очевидно, что магнитом была собака. Каждое посещение соседей было истинным торжеством для моего отца. С самого раннего утра и до поздней ночи под непосредственным надзором и руководством моего отца собака выделывала свои гениальные фокусы, и хохот был гомерический. Когда наконец запас фокусов истощался, энтузиазм зрителей готов был погаснуть и самая собака, изнуренная продолжительной деятельностию и голодом, готова была протянуть ноги, — отец мой приказывал ей стать на задние лапы, брал кусок говядины, бережно клал на нос собаки и быстрым мановением рук и бровей давал знать зрителям, чтобы они ждали чего-то необыкновенного. Тотчас воцарялось глубокое молчание. Отец мой, поводя указательным пальцем от своего носа до собачьего и обратно, произносил с расстановкою:
Аз,
Буки,
Веди,
Глагол,
Добро,
Есть…
При последнем слове, произнесенном значительно усиленным голосом, собака делала быстрое движение, кусок летел кверху, она на лету подхватывала его и пожирала…
Если б я писал историю собаки моего отца, то должен бы был посвятить описанию ее подвигов весь мой досуг, но я пишу собственно свою историю и потому в коротких словах доскажу о собаке то, что собственно нужно для моей истории…
Супонев был также страстный охотник; ружей у него была целая дюжина, собак еще больше; но ни одна из них не могла сравняться с собакою моего отца. Как ни вкусны были обеды надворного советника и кавалера, однако ж соседи охотнее посещали моего отца или, правильнее сказать, собаку моего отца. Тайная зависть раздирала сердце надворного советника; он пожелал приобресть собаку покупкою. Сумма, которую он решился пожертвовать, возвышаясь по мере отказов моего отца, сделалась наконец так значительна, что на нее можно бы купить человека, но родитель мой, при всей своей бедности, выдержал свой характер. Он не отдал собаки! Не могу без сердечного трепета вспомнить о борьбе, которая происходила в душе и отражалась на лице его, когда он делал свое торжественное отречение… Налив собственноручно стакан водки «дворецкому», который приезжал к нему с письмом и деньгами за собакой, отец мой сказал:
— Не могу… Желал бы, душевно желал бы угодить Андрею Никифоровичу, — но, видит бог, не могу! Без Кастора я — как без головы; мне, старику, не привыкать жить на свете без него, когда привык жить с ним издавна. Всё готов сделать для Андрея Никифоровича: Кулебяку[17] отдам; стану ездить на Васькиной Соломониде.[18] Пусть кого хочет из людей возьмет, хоть Сидора: он малый непьющий, проворный, и дичь ли какая летит, заяц ли притаился в меже — прежде всех заподозрит… И жена у него такая бойкая: мастерица рубашки шить и всякое женское рукоделье для мужчин… А Кастора отдать не могу. Так и скажи своему барину. Пусть не сердится.
— Не отдавайте, не отдавайте, папуся! — подхватил я умоляющим голосом. — Я заплачу!
Отец мой поцеловал меня, назвал «своим карапузиком» и сказал: «Не бойся».
Я сел верхом на Кастора и закричал: «Ну, ну, ну, Кулебяка», подражая моему отцу, который обыкновенно понукал так свою лошадку, выезжая на охоту… Знай я тогда, что подражание дело нехорошее, я бы непременно придумал какое-нибудь свое восклицание: я был мальчишка преостроумный!
Увы! отец мой! зачем ты не сдержал своего слова? Зачем нежность твоя к единственной отрасли твоего рода победила в тебе привязанность к собаке? Если б ты до конца жизни своей был верен себе, я не испытал бы тех несчастий, которые теперь обрушились на мою голову, я не узнал бы ее, не привязался бы к ней (вы понимаете, что не о собаке здесь идет дело) всеми силами души моей и не был бы ею обманут!.. И зачем мне, наследнику твоего имени и твоих двадцати трех душ, твоей Кулебяки и Соломониды, — было дано то воспитание, на которое ты пожертвовал счастием последних дней твоей жизни и которое, увы! конечно не по твоей вине, сделалось для меня пагубным!
Не стану подробно описывать, какие средства в течение нескольких лет употреблял Супонев для того, чтоб завладеть нашею собакою. Доскажу коротко.
У Супонева была дочь. Когда ей минуло восемь лет, Супонев нанял француза, французенку и отставного старшего учителя какого-то училища для ее воспитания. Когда наконец все меры и кроткие и некроткие истощились и не повлекли за собою никакого успеха, — Супонев сделал отцу моему предложение, против которого отец мой не мог устоять…
Супонев писал:
«Павлуше вашему уже, кажется, тринадцатый год: нынче дворянин не может остаться без воспитания, его даже в службу не примут. Я нанял учителей и гувернантку для моей дочери, пусть же, думаю, учится у них и ваш Павлуша: всё равно едят мой хлеб и жалованье получают; по крайней мере сделаю добро соседу: он человек небогатый, поведения, как мне известно, хорошего и никаких дурных поступков за ним я не замечал. Павлуша будет у меня жить и учиться всему, чему будут учить дочь мою: француз — по-французски, на скрыпке, светскому обращению и танцевать, немка — по-немецки, на фортепьяне и вышивать по канве, шить бисером и по тюлю, Поношенский — русской грамоте и письму и всему, чему он там учил; закону божию — священник. Не упущено ничего, чтоб дочь моя была воспитана прилично рангу и состоянию. Павлуше вашему не мешает. Присылайте-ка его; никаких расходов вам не будет. Да уж присылайте с Павлушей и Касторку. Мальчик привык к собаке и, верно, расставшись с вами, будет скучать об вас: собака его утешит. Вы также очень меня обяжете, если будете навещать… и проч….»
Отец мой сразу понял, в чем дело. Слезы брызнули ручьями из глаз старика. Страшная борьба заметна была на лице его; видно было, что он на что-то решался.
— Павлуша, — сказал он после продолжительного молчания, — ты поедешь сегодня к Андрею Никифоровичу и там останешься. Кастора отправ…
Слезы помешали ему кончить. Он обвел глазами комнату: Кастор был тут. Он лежал середи комнаты в самом живописном положении, — в каком изображают львов перед подъездами богатых домов, — глаза его сверкали умом и довольством; мускулы двигались, баранью кость он грыз и весело визжал…
По временам умное животное взглядывало на своего хозяина и приветно вертело хвостом. Лицо моего родителя было мрачно. Он шептал про себя несвязные слова, из которых я мог только расслышать: «Отец всем должен жертвовать… счастие сына… не примут на службу… да будет воля господня!»…
Я не понимал ничего, но сам готов был заплакать: такова была горесть старика…
Сцену, происшедшую при прощании, по справедливости можно назвать раздирательною: Кастор разодрал мешок, в который принуждены были запрятать его, выскочил из повозки и бросился к моему отцу… Его поймали и опять посадили в повозку, со связанными ногами…
Жалобный вой Кастора и громкое рыдание моего отца долго оглашали окрестности… Я не плакал… Жаль, что те, которые в стихах и прозе сожалеют о «прекрасных днях невозвратного детства» и называют его лучшим возрастом жизни, не берут в расчет подобных обстоятельств!
Собака выла. Я с жадностью пожирал пирог с печенкой, который испекла мне на дорогу няня Тарасьевна. Я дал кусок собаке: она жалобно посмотрела мне в глаза, понюхала пирог и опять завыла пронзительно; кусок остался нетронут. Позже, вечером, я общипал поверхность его, которой касались губы собаки, а остальное съел с большим аппетитом.
Когда я доедал последнюю крошку, вдали показалась церковь и вскоре начали являться домы села ***…
Лягу спать…
* * *
15 октября
Целые десять дней я не брал пера в руки: мне было не до пера! Ужасная весть об ее измене не выходила у меня из головы: я бесился как исступленный, я плакал как ребенок, я проклинал, как Байрон… Меня звали к ней… Зачем я пойду к ней? Чтоб довершить муки своего сердца, чтоб увидеть ее счастливою с другим… О, никогда! никогда!
Я сумасшедший, я дурак первой руки: целые десять дней я думал о том, что можно было решить в одну минуту.
«Быть или не быть», «идти или не идти» — не выходило у меня из головы… «Незачем!» — ясно как день — «незачем!»
Не пойду к ней. Стану продолжать свои записки.
Благодаря собаке, которой в доме Супонева ждали все с необыкновенным нетерпением, я был принят прекрасно. Мне дали на завтрак одного кушанья с нею. Супонев обласкал меня и сказал, что будет моим вторым отцом; я поцеловал ему ручку… глупый поступок!.. Г-жа Супонева сказала, что я «жантиль», и дала мне ватрушку с вареньем; я поцеловал ей обе ручки, и мне сделалось тошно: от «ручек» пахло свиным салом и огуречным рассолом. С тех пор я получил чрезвычайное отвращение от целования чьих бы то ни было рук, — за что много терпел как в доме моего «второго отца», так впоследствии и во всем белом свете… Все кучера и бабы из кухни, все девки из девичьей, целая стая борзовщиков, доезжачих, подъезжих из псарни, — словом, всё, что было в доме живого, сбежалось в прихожую и смотрело сквозь полурастворенные двери на новоприезжих: со всех сторон раздавалось мое имя, сопровождаемое громкими похвалами собаке. Я был на седьмом небе. Вдобавок ко всему — я увидел Зизи!
Забуду я сладость первой конфетки, забуду тот нелепый восторг, который заставлял меня бегать высуня язык, когда я увидел в «Сыне отечества» первое мое стихотворение, с примечанием, которым я был очень доволен, забуду вас, расстегаи и танцовщицы, вас, устрицы и шампанское, тебя, душеоживительный, мятежный банк, где человек живет полно и совершенно, где все нервы напряжены, все страсти возведены в квадрат и душа ежеминутно просится на карту вместе с последним рублем, забуду вас, балы Американского клуба, вас, громкие, славу и торжество знаменующие вызовы Александрийского театра, вас, буйные ночные прогулки по Невскому проспекту, —
И вас, красотки молодые, Которых позднею порой Уносят дрожки удалые По петербургской мостовой, —забуду всё, — но не забуду, никогда не забуду той минуты, когда в первый раз увидел ее! То была минута великая и решительная, которая имела влияние на всю мою жизнь…
Я красноречив, когда говорю о собаке, но бледно слово мое, когда я заговорю о себе. Как будто на язык сядет типун, как будто сверхъестественная сила скует мысль свободную и готовую плавно излиться, как будто заяц перебежит дорогу слову резкому и выразительному. Лучше не говорить о себе…
К обеду пришли француз Бранказ, маркиз (по словам хозяина), немка Шпирх, баронесса (тож), и русский учитель Поношенский. Француз был настоящий француз: вертелся на одной ножке, пел куплеты, присвистывал, льстил хозяину, любезничал с хозяйкой и болтал за семерых, болтал живо, умно, занимательно. Немка, — в когда-то голубом, а теперь сине-сером капоте, в зеленой шляпке, бледная, сухая, стройная и длинная, как дреколье, — с первого взгляда напомнила мне кабак: серый шест, примкнутый к углу полуразрушенного дома, и наверху зеленая елка — девиз заведений такого рода — мог бы безбоязненно отлучиться с своего поста на какое угодно время, если б за него согласилась постоять баронесса: никто бы и не заподозрил подлога! Поношенский был в длинном темно-зеленом сюртуке и рожу имел чрезвычайно рябую; мало сказать, что на ней черт в свайку играл, нужно бы выдумать что-нибудь посильнее. Он говорил протяжно, нараспев, как драматические актеры теперь уже не существующей школы, почти при каждом слове описывал около себя рукою полукруг и слегка наклонял голову, причем француз, если он тут случался, обыкновенно делал то же, сардонически улыбаясь и выразительно поглядывая на хозяина, который, как увидим ниже, был большой пересмешник.
Все они, француз, немка и русский словесник, вошли в комнату почти в одно время, таща огромную корзину грибов, за которыми имели привычку ежедневно отправляться после уроков. Француз был впереди и пятился задом в комнату, передразнивая голосом рябого словесника, который сильно кряхтел, а глазами и губами — немку, которая с умилением смотрела в корзинку, выбирая грибок поменьше и покрасивее для поднесения своей маленькой ученице. Но план ее не удался: как скоро корзинка была внесена и поставлена, француз схватил из нее гриб наудачу и поднес Зизи, говоря, что он во всем лесу нарочно выбирал лучший для нее и насилу выбрал. Немка сделала кислую рожу, и замечание Андрея Никифоровича, что баронесса «съела гриб», было очень кстати.
Хозяин отрекомендовал меня моим будущим наставникам, и я был принят ими дружелюбно. Собака приняла их различно. По тайному знаку хозяина, она во мгновение ока сорвала зеленый бант с головы немки Шпирх и свихнула, в припадке сильного усердия, самую гребенку Анны Ивановны с ее надлежащего места; две пряди рыжих волос спустились вниз и скрыли от очей наших гневное чело гувернантки. Потом собака, без всякого знака с чьей-либо стороны, так ловко схватила за левую ногу профессора словесных наук, что крик ужаса, вылетевший из груди его, напугал самого хозяина. Все стали его успокоивать, и благодарный словесник, желая в свою очередь успокоить всех, сказал с улыбкою и со вздохом: «Ничего, я еще благодарен собаке; боль невелика, а между тем она возобновила в моей памяти одно из приятнейших воспоминаний: мне пришли на мысль те счастливые времена невозвратной юности, когда, бывало, меня сек учитель в школе». После того словесник опять вздохнул; целый день он был в самом романическом расположении духа и рассуждал с французом о том, как бы сделать, чтобы ему опять было лет восемь и он бы прошел бы все курсы — риторику, философию и проч.,- взял бы жену, завелся бы детьми и дослужился до пенсиона. Француз отвечал, что он давно из Парижа и потому хорошенько не знает, а там его соотечественники уж верно выдумали какой-нибудь способ или скоро выдумают… С одним только французом у собаки не вышло никакой истории: он очень скоро подружился с нею и своею угодливою любезностию разогнал даже несколько ее уныние…
Но что я делаю?.. Я взял перо с тем, чтобы сбросить на бумагу горе, раздирающее мою душу, перелить в звуки стоны и жалобы, ежеминутно исторгаемые из моего сердца мыслью об измене Зизи, заклеймить ее печатно позорным клеймом изменницы, а между тем наполняю страницы моих записок историею людей почти посторонних в моем рассказе. Конечно, предлог весьма благовидный. Пользуясь им, я мог бы написать четыре тома, где обрисовал бы широко и подробно всех, о ком только придется упомянуть; надел бы шутовской колпак на француза, размалевал бы румянами и белилами физиономию немки и заставил бы ее пылать огнем любви к профессору словесных наук, а профессора обожать втайне не имеющую привычки мыть руки хозяйку, а хозяйку сгорать от любви к французу, словом, я мог бы заварить страшную кашу, — но великодушию моему нет предела: те, которые будут читать мои записки, ничего такого в них не найдут. Я кончу очень скоро. Я только познакомлю их с моим вторым отцом, с которым необходимо им познакомиться, и перейду к себе…
Подробное описание носа и добродетелей моего второго отца в сторону: предмет слишком сложный, требующий большого описательного таланта, которого я не имею. Скажу лучше несколько слов об его характере. Характер Андрея Никифоровича во второй половине его жизни нечаянно получил направление сатирическое. В первую половину жизни благодетель мой служил и был занят тем, что разумеют под словом «благоприобретать»; ему было не до сатиры: он сам тогда мог бы служить предметом сатиры. Но перед самою покупкою деревни и отъездом туда, бывши на обеде у Андрея Никифоровича, один сочинитель, журналист — травленый волк, по поводу какой-то неумышленной остроты моего второго отца сказал с громким хохотом: «Браво, Андрей Никифорович! Да вы там, в деревне, всех засмеете, первым человеком будете не только по богатству, и по уму! Вы и здесь не последним бы сочинителем были: направление такое благонамеренное, нравственно-сатирическое, и слог даже в разговоре виден, ей-богу, право, клянусь женой, детьми! В сотрудники бы взял: тысячу рублей в месяц, вот хоть сейчас деньги, да знаю, что не пойдете!» С той минуты цель остальной жизни моего второго отца была определена. Целый вечер он острил без умолку, кстати и некстати; все хохотали, потому что угощение было отличное, журналист — травленый волк хохотал громче всех. Уезжая поздно ночью домой, он снова повторил предположение, что Андрей Никифорович засмеет в провинции наповал всех соседей, и попросил взаймы тысячу рублей денег, но получил только семьсот, но причинам, которые мне неизвестны.
Андрей Никифорович острил бесчеловечно; если б я имел охоту припоминать его остроты, то мог бы надоесть самому терпеливому читателю. Каждому в доме и в околодке была у него своя особенная кличка; он изобрел титул маркиза — французу, баронессы — немке и не называл иначе наставников своей дочери, как маркизом, баронессою. Почти ежедневно он придумывал и приводил в исполнение какой-нибудь замысловатый фокус-покус; у него были тысячи поговорок, прибауток и остроумных изречений, которые он сыпал за собою как бисер. Словом, остроумие Андрея Никифоровича после собаки моего отца составляло один из главных предметов удивления всего нашего околодка. Француз тотчас понял слабую сторону моего отца и прекрасно ею пользовался; словесник, на которого преимущественно направлялись стрелы остроумия хозяина, каждый раз, как бы шутка ни была груба, замечал очень серьезно, что кому бог дал остроумие, так на то и дал, чтобы острить, — и сердиться тут так же неприлично, как сердиться на бритву за то, что она хорошо бреет. Немка, при беспрестанных намеках на свои рыжие волосы, нередко выпрашивала, в виде прибавки к жалованью, денег на парик, но парика не покупала. Всё обстояло благополучно…
Настал час обеда. Профессор словесных наук, обязавшийся контрактом развивать, между прочим, в своей ученице поэтическое направление и носивший в груди своей поэтические начала, поставил себе за правило ежедневно отпускать по экспромту. На сей раз он взглянул в окно и, улучив удобную минуту, произнес торжественно:
Светило дневное взошло превыше ели, Но мы еще досель ни крошечки не ели!Хозяин громко захохотал, хозяйка приказала подавать на стол. Сели обедать. Обед был для меня пыткой. Андрей Никифорович обратился к маркизу, к баронессе и к Поношенскому с комически-серьезною речью, в которой поручал меня их ученому покровительству и просил, чтобы они «сделали из меня человека». Поношенский заметил, что, не зная, до какой степени я силен в науке, он не может покуда определить с точностью времени, нужного, чтобы сделать меня человеком. Хозяин предложил проэкзаменовать меня. Начали задавать вопросы. Я отвечал невпопад, краснел и бранил про себя профессора словесных наук. Заметив мое замешательство, или по другой какой причине, хозяин попросил мудрых наставников замолчать и взялся сам докончить мой экзамен. Много, по разным наукам, задавал мне вопросов остроумных надворный советник, но я, к сожалению, помню из них только четыре: один из логики и три из арифметики. Они очень замысловаты. Я их приведу здесь для пользы родителей и экзаменаторов…
Вопрос из логики: у Ноя было три сына: Сим, Хам и Иафет — кто им был отец?
Признаюсь, я было сначала стал в тупик. Но когда сообразил, что называться сыновьями люди могут только в отношении к своим отцам, то смело отвечал:
— Ной!
Единодушное «браво» сопровождало ответ мой, и общим советом решили, что логику я знаю прекрасно.
Вопрос из арифметики: летело семь журавлей: двух охотник убил, да три улетели — много ли осталось?
— Два! — отвечал я нисколько не задумавшись, наудачу.
Снова раздалось «браво», и хозяин серьезно заметил, что я «мальчишка преостроумный».
— Если он, — прибавил Андрей Никифорович, — решит мне еще вопрос из арифметики, то я его награжу чудесно.
Острота произвела потрясение: все захохотали, а словесник, отличавшийся, между прочим, и необыкновенною ловкостию, задел локтем тарелку соседки своей и тарелка, упав на пол, расшиблась вдребезги; соус, бывший на тарелке, до полу не достиг: на пути он встретил капот рыжей немки, на котором и поместился очень удобно.
Немка дико и невразумительно проворчала «абшейлих», а словесник в оправдание свое заметил, что «Андрей Никифорович вечно скажут что-нибудь такое, от чего невольно приходишь в самозабвение». Затем воцарилась тишина. Андрей Никифорович скорчил серьезную мину и произнес с расстановкою:
— Еще вопрос из арифметики:
У семидесяти семи мышей
Много ли ног и ушей?
Ободренный удачею первых двух ответов, я, без малейшего замешательства, отвечал бойко и самоуверенно: «Двадцать пять!»
Все засмеялись; я смешался ужасно. Спасибо, француз принял мою сторону и сказал, что подобного вопроса нельзя решить в одну минуту, что он требует глубоких соображений и прочая. Положено было отложить решение до вечера.
Вечером дали мне аспидную доску и грифель. Я решил вопрос в две минуты. Тогда Андрей Никифорович нарисовал на доске небольшой четвероугольник и, разделив его вдоль и поперек черточками, приказал мне расположить в маленьких четвероугольниках «разные цифры» в таком порядке, чтобы, как ни поверни, с которой стороны ни зайди, поперек ли, вдоль или накось, всячески выходило бы пятнадцать. Я не понял решительно, чего он от меня требует, и сказал, что мы с дьячком, который в доме родительском учил меня арифметике, до такого правила еще не добрались. Андрей Никифорович выбранил дьячка и сказал:
— Ну так я сам тебе покажу, — только смотри у меня: что раз показано — помнить; при гостях заставлю делать: осрамишь ты меня, как забудешь…
И затем Андрей Никифорович начал вписывать в квадратики цифры; где поставит пять, где восемь, где шесть, а иную цифру сотрет, подумает да напишет другую. Когда он кончил, вот какая вышла фигура:
5 7 3
3 5 7
7 3 5
Глупая шутка, но она стоила больших усилий моему тринадцатилетнему рассудку: я насилу вбил ее в голову. Зато и долго помню… Тем и кончился мой экзамен. Началось ученье.
Если б я имел охоту продолжать мои записки, то теперь началась бы самая интересная часть их. Дошла наконец очередь собственно до того, что можно назвать завязкою моих записок. Нужно бы ознакомить читателя покороче с характером Зизи, представить картину наших ребяческих занятий, постепенного освоения, дружбы и, наконец, любви. Следовало бы сделать сцену признания в саду, в беседке или у ручья, в прекрасный летний день, при последних лучах заходящего солнца, потом должно бы описать путешествие в Петербург, житье столичное, разлуку, измену… Знаю я, знаю всё, что следовало бы, но я устал ужасно, мне надоели мои записки…
Пойду на Невский проспект.
* * *
Через неделю
Я ее видел, я говорил с нею…
Удивляюсь, как не лопнула голова моя, как не разорвалось сердце мое, когда я слушал ее страшную исповедь. Дивная женщина! Я благоговею перед тобой! Когда-нибудь, может быть, я набросаю на бумагу конец печальной истории нашей жизни, и люди, подобно мне, придут благоговейно преклониться перед тобою, возвышенная страдалица… Теперь я писать не могу: весь я занят одной тяжелой мыслью, которая, как вампир, всосалась в мой череп и ни на минуту не дает мне покоя… «За что я так несчастен?» Внимательно пересматривая жизнь свою, ищу я причин, которые оправдывали бы враждебные действия ожесточенной против меня судьбы, и теряюсь в догадках.
Я не льщу дуракам и голосом бешеной собаки не кричу против тех, кто умнее и даровитее меня. Я не утверждаю, что философия — сказка, которая в почете только потому, что она стара и скучна. Я не разделяю мнения многих очень почтенных людей, что умным человеком можно быть только в известные лета и в известном чине. Я не надуваю новичков-книгопродавцев. Я не сержусь и не ругаю на всех перекрестках автора той книги, в которой выведен с дурной стороны человек одних со мною лет и в одинаковом чине. Я не клевещу. Я не продаю своих мнений. У меня нет той храбрости, которая заставляет людей, делающих подлости на каждом шагу, утверждать, что они живут для блага человечества, хвастать благотворительностию, в которой должно верить им на слово. Я даже не хвастаю дружбою с великими людьми, которых уже нет на свете и которые при жизни называли меня негодяем.
И между тем судьба гонит меня бесчеловечно, и человек мой беспощадно меня обкрадывает… За что?.. Скажите, добрые люди, — за что?
* * *
…Здесь оканчивается первая половина случайно попавших в мои руки записок молодого человека, который называет себя «злополучнейшим из людей». Следует вторая и гораздо обширнейшая половина, которая начинается словами: «Десять лет я не брал пера в руки» и пр. Почерк молодого человека, к сожалению, чрезвычайно неразборчив и по справедливости может назваться иероглифическим. Разобрать первую половину рукописи было так трудно, что решиться на подобный подвиг со второю я покуда не имею ни охоты, ни времени. Может быть, когда-нибудь, на досуге, я возвращусь к иероглифам «злополучнейшего из людей», и тогда читатели получат конец его записок.
Н. П-ий.
Необыкновенный завтрак*
(Эпизод из жизни сотрудника газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, рассказанный коротким его приятелем)
I В коридоре
Бенефис актера, отличавшегося необыкновенною любезностию, заключился пирушкою, на которой, как значилось из счета, поданного хозяином трактира, было выпито 17 бутылок шампанского, 14 хереса и 26 портера; съедено 36 порций разного кушанья, выкурено 130 трубок, 46 сигар и 11 папирос; разбито 23 стакана, одно большое зеркало, 9 тарелок, 7 рюмок и 3 чайника; изломано 5 чубуков и прожжено 6 салфеток. Бенефициант имел осторожность вовремя объявить, что не отвечает ни за что, кроме «собственных требований», и таким образом благоразумно сохранил большую часть сбора, которому в противном случае угрожала неизбежная гибель. Зато при расчете произошли значительные затруднения.
Я проснулся часу в одиннадцатом. Голова кружилась; в ушах звенели дикие взрывы хохота, дикие рассуждения, дикая брань и похвалы еще более дикие; тело, как после продолжительного путешествия в русской телеге по «немецкому» неукатанному шоссе, мучительно колыхалось. Я кликнул человека и, ухватившись за боковую сторонку дивана, на котором лежал, приказал тянуть себя за ноги.
В одиннадцать часов ровно кабинет мой наполнился теми из вчерашних гостей бенефицианта, которые более других чувствовали глубокую справедливость философской поговорки «Чем ушибся, тем и лечись», но редко имели средства к ее исполнению. «Ушибались» они обыкновенно на чужой счет, но не всегда удавалось им на чужой счет «лечиться». Они без зазрения совести стащили меня с «одинокого ложа» и требовали, чтоб я скорее одевался, потому что (говорили они) сотрудник газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, вероятно, уж давно ждет.
Тут только я понял причину раннего прихода достойных друзей моих и вспомнил, что, прощаясь накануне с сотрудником известной газеты, получил от него приглашение на завтрак; мало того, вспомнил даже обстоятельства, предшествовавшие приглашению, эффект, который произвело оно, и некоторые остроумные замечания, сделанные по этому важному случаю одним записным актером-водевилистом.
Завтрак у сотрудника газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа!.. Завтрак у человека, который никогда не давал завтраков и, кроме того, не стыдится брать за свой собственный труд — за свои пьесы деньги с бенефициантов, ни во что ценя их доброе расположение, их дружбу, их ласки и комплименты! Завтрак у человека, который воздает нередко за чужую хлеб-соль печатными ругательствами и насмешками, слывет бедняком, ходит робко, смотрит в землю, говорит тихо и мало, так что трудно понять, что он за человек… О, завтрак у такого человека интересен не для одних господ, которым нужно только опохмелиться где бы то ни было, хотя бы у трубочиста…
В половине двенадцатого я был совершенно готов и с нетерпением ждал актера, отличавшегося необыкновенною любезностию, с которым мы условились ехать к сотруднику вместе. Наконец, к особенной радости достойных моих друзей, которых положение было просто мучительно, актер явился. Мы отправились.
Никто, кроме меня да лысого драматурга-водевилиста, который имел привычку таскаться ко всем, у кого можно было выпить рюмку водки и подслушать каламбур, не знал квартиры сотрудника: на нас пала обязанность всеобщих проводников. Мы ехали впереди, и когда, проехав несколько улиц, поравнялись с огромным, довольно неопрятным домом, в пять этажей снаружи и в шесть внутри, драматург скомандовал остановиться.
Общество наше расплатилось с извозчиками и, пока взбиралось в четвертый этаж, где жил сотрудник, вытерпело влияние четырех разнородных атмосфер: каждый этаж имел свой особенный воздух, свою самобытную вонь, которую напрасно бы стали оспаривать у него другие этажи. Известно, что есть мастеровые, в гостях у которых непривычный человек задохнется в минуту. Дом был наполнен подобными мастеровыми…
Войдя в коридор четвертого этажа, мы вздохнули свободно, потому что стекла в окнах коридора, выходивших на двор, были сплошь выбиты. В противоположной стене коридора были также окна, но с полным комплектом стекол, и дверь, на которой красным карандашом была написана фамилия сотрудника. У двери стояло три человека: отставной солдат с корректурами и два петербургские мещанина средних лет, один с рыжей бородой, другой с черной…
Драматург-водевилист стал звонить…
Человек, у которого мы надеялись позавтракать, был коротким моим приятелем. Я могу сообщить о нем сведения, какие едва ли сообщит кто другой. Он называл себя несчастнейшим человеком в мире и имел к тому много причин. Несчастия его не заключались в дурном расположении карт, в скверных прикупках и тому подобных житейских неудачах, которые нередко вызывают строптивые вопли отчаяния на уста настоящего поколения; несчастия его заключались в собственном его характере и в образе действования, к которому принудили его обстоятельства. В каждом моменте своей жизни он чувствовал разительное противоречие собственным желаниям, которые, впрочем, время от времени изменялись и в которых он никогда не мог дать себе определенного отчета. Другой на его месте давно бы переменил сотни поприщ, перепробовал тысячи занятий, чтоб удовлетворить безотчетным стремлениям, которые не давали ему покоя. Для него это было невозможно: он был в высшей степени нерешителен и бесхарактерен и принадлежал к числу людей, из которых всё может сделать привычка. Он писал по привычке, пил (иногда очень много) по привычке, улыбался чужим глупостям по привычке. Я думаю, его можно бы даже приучить к подлости, если б приняться за дело умеючи: по крайней мере я замечал, как то, что в первый раз зажигало глаза его огнем негодования и стыда, он слушал впоследствии весьма хладнокровно. Авторство у нас еще доныне придает тем, кто умеет пользоваться его привилегиями, особенный вес, и как бы ни был плох сочинитель, всегда найдется кружок добрых людей, где будут смотреть на него как на гения. Нашему герою авторство не доставляло ничего, кроме скудного пропитания и тяжелых душевных мук: он, как говорится, был неказист; совсем не умел задать тона, пустить пыль в глаза. Неуверенный в самом себе, нерешительный, он подходил ко всему робко, с каким-то просительным видом, смотрел подобострастно, говорил только в крайних случаях и нередко совсем не то, что думал; словом, на каждом шагу он делал по привычке те маленькие подлости, которые лишают человека оригинального колорита и низводят на степень пошлых людей. Иногда, смотря, с каким простодушным, по-видимому, в высшей степени искренним жаром герой наш поддакивал и улыбался остротам какого-нибудь нужного человека, его можно было принять за дурака первой руки. Подобная роль, конечно, не может дать большого веса в жизни практической. Герой наш очень скоро это почувствовал и несколько раз пытался переделать себя — прикидывался наглым, беспечным, хвастуном, резким в суждениях, но беспрестанно впадал в промахи, за которыми тотчас являлось сознание, и это еще более увеличивало его мучения. Он писал обо всем, о чем только можно писать для печати, но был, подобно большей части сотрудников русских журналов, удивительно малообразован. Зато в значительной степени обладал способностью прикидываться всезнающим, и если знал о предмете сотую долю, то очень искусно разыгрывал пред читателями роль знающего предмет в совершенство. Он так привык к этому литературному шарлатанству, что даже нисколько его не стыдился. Часто приходило ему на мысль желание поучиться (он чувствовал необходимость образования), но никогда недоставало в нем твердости променять горький кусок хлеба, доставляемый журнального работою, на независимость, вместе с которою, быть может, ждала его голодная смерть. По обыкновению слабых людей, он винил в своих несчастиях ближних, судьбу, обстоятельства, но был виноват только сам…
Итак, мы пришли в коридор. Рассыльный спал, прислонившись к косяку двери; мещане шептались между собою, бросая на нас косвенные взгляды; драматург-водевилист звонил. Наконец ему надоело звонить. Он разбудил солдата и спросил: дома ли хозяин.
— Дома, — отвечал солдат, — изволит читать калехтуру.
Драматург-водевилист хотел снова звонить; но в ту самую минуту форточка соседнего с дверью окошка отворилась, и в ней показалась голова сотрудника газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, всклокоченная, заспанная, с небритым подбородком и носом в чернилах.
— Господа! — сказал он. — Если вы хотите попасть в мою квартиру, то прежде всего пошлите за слесарем. Надобно сломать замок.
— Сломать замок?
— Не иначе. Я заперт снаружи.
Затем он подозвал отставного солдата и, вручив ему несколько прочитанных корректурных листов и две-три страницы «оригинала», принялся толковать, куда что отнести, когда прийти за окончанием статьи и пр., и пр.
— Слушаю, ваше благородие. Счастливо оставаться!
Солдат ушел.
— Кто же тебя, братец, запер? — спросил драматург-водевилист. — Говори откровенно: не запирайся!
Кудимов, имевший свои причины восхищаться остротами Анкудимова, захохотал.
— Кто запер? — отвечал хозяин с некоторою досадою. — Человек запер!
— Как человек?
— Ну как… разумеется как — ключом!
Послышался стук сапогов, подбитых гвоздями, и в центре кружка, образовавшегося около окошка из членов нашего общества, явился рыжебородый мещанин, рябоватое лицо которого, пылавшее справедливым, по-видимому, негодованием, очень живо напоминало голландский сыр. Губы его, немножко раскрытые, выказывали ряд гнилых, черных зубов, как у большой части купцов, торгующих фруктами…
— Надуванция-с, господа! — сказал он, приветствуя каждого из нас мещанским поклоном. — Чистая надуванция!
— Вестимо, — подхватил чернобородый мещанин, протеснившийся чрез толпу к своему товарищу. — Не хочется денег платить!
— Молчите вы, свиньи! — с гневом воскликнул сотрудник. — Не с вами говорят. Пошли вон.
— Пойдем, как деньги получим… обещал сегодня, так сегодня и заплати… дверь заперта, ну так, в то место, через форточку заплати…
При слове «через форточку» сотрудник вздрогнул.
— Сумма невелика, — продолжал рыжебородый, — пролезет! Двадцать три рубля семьдесят три копейки…
— Да мне осьмнадцать рублев.
— Итого… Мещанин стал считать…
— Ничего! — воскликнул сотрудник грозным голосом. — Сегодня решительно ничего! Завтра…
— Спасибо! Покорнейше благодарим-с. Вот, господа, — продолжал мещанин, обращаясь к нам, — рассудите, господское ли дело? Приятелем нашим прикинулся. Каждый день в лавку зайдет. «Куда-с идете, Павел Степаныч?» Да вот надобно деньжонок получить, говорит, пьесу новую сочинил, и пойдет рассказывать, и про Асёнкову, и про театр, и про ахтеров, — заслушаешься, такой краснобай… поневоле дашь, в то место, полфунтика сыру швейцарского в долг… либо осьмушку чайку!.. Спасибо, говорит, благодарю, отдам с благодарности! Вот только пьесу мою сыграют: три тысячи, в то место, говорит, получу… «А что, хороша пьеса? — спросишь его. — Насчет трагеди, чувствительное, или так просто камедь?» Разное, говорит, да и ну пересказывать, а сам то и дело — отпусти того, другого, десятого. Отпусти стеариновых свеч: при сальных, видишь, не пишется! Не всё равно, бумагу переводить!.. Вот, судари мои, отпустим и свеч. Он всё сидит, вон нейдет, да и нам весело с ним: таким ведь хорошим человеком прикинулся, словно ахтер.
— Всё равно, что сочинитель, что ахтер, — заметил чернобородый.
— Пьет с нами чай, ест всякий деликатес: изюмцу отведает, черносливцу, орешков, набивает пузо, словно сроду сластей не видал, а сам, в то место, всё говорит, говорит… И камплетцы разные распевает. У меня братан, знаете, старший больно охоч до театра… вот он к нему баснями-то и подлещался…
— Замолчишь ли ты, дурак, — с гневом вскричал сотрудник.
Мещанин, догадавшийся по движению рук сотрудника об опасности, угрожавшей его бороде, отскочил от форточки и, злобно улыбаясь, воскликнул:
— Небось совестно стало! Покраснел, словно чайник… Дурак… я, видишь, дурак… а брата моего… у меня, господа, брат уж точно дурак, умалишенный, и в дела ни в какие не входит… только слава, что старший… брата моего, в то место, умником звал: вы, говорит, имеете образованный скус… а сам ест пастилу… мне приятно знать ваше суждение-с об моей камеди… я вам, говорит, в то место, билет принесу… позвольте взять сардинок коробочку…
Сотрудник газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, вторично обнаружил намерение побить словоохотливого рассказчика, но оно, как и первое, было неудачно. Сотрудник пришел в бешенство и в некотором роде походил на разъяренного льва, которому решетка клетки мешает растерзать дерзких мальчишек, показывающих ему язык…
— Ради бога, господа! — воскликнул он умоляющим и вместе отчаянным голосом. — Где же слесарь?
За слесарем давно уже был откомандирован один юный артист, славившийся необыкновенною расторопностию, но он еще не возвращался. Рыжебородый продолжал ругаться и с редким красноречием пересказал еще несколько забавных ухищрений, которыми сотрудник газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, погасил последние искры рассудка в голове главного хозяина лавки — его старшего брата.
— Замолчишь ли ты? — воскликнул сотрудник, которого бешенство час от часу возрастало.
— Не замолчим-с.
— Замолчи. Худо будет!
— Не замолчим-с!
— Ну так не пеняй…
Удар по голове сапожною щеткою, вылетевшею из форточки, помешал рыжебородому отвечать. Он только вскрикнул:
— У… ух!
Вслед за щеткою в рыжебородого полетели банка с ваксою, тарелка с застывшим жирным соусом и несколько корок засохшего хлеба. Мещанин зарычал.
— Господа, — сказал, обращаясь к нам, торжествующий сотрудник полусерьезным, полушутливым тоном, — я не такой человек, чтоб стыдиться сцены, которой вы были свидетелями. Признаюсь, почти всё, что вы слышали, — сущая правда. Что же делать!.. Право бы я не стал называть дураков умными людьми, если б они без того верили мне в долг. Вы можете не скрывать от меня смеха, который, без сомнения, возбуждает в вас эта забавная сцена.
И он стал хохотать вместе с нами… Между тем мещанин пришел в себя и снова начал ругаться.
— Что! мало еще? — запальчиво воскликнул сотрудник и нагнулся, вероятно желая найти что-нибудь, чем бы можно было нанести новый удар неугомонному крикуну.
Но он опоздал.
Х.Х.Х., обладавший удивительною способностью выпроваживать кредиторов и, кроме того, находивший особенное удовольствие побить человека, которому кто-нибудь должен, схватил рыжебородого за руки и пинками проводил с лестницы, приговаривая:
— Бесчестие купечества! изломанный аршин! Смеешь ругать благородных людей. Я тебя вляпаю в водевиль!
Чернобородый ушел вслед за рыжебородым. Явился мальчик, лет тринадцати, с плутовскими глазами и связкою книг.
— Сюда, — закричал ему сотрудник. — К форточке.
— Онисим Евстифеич приказали кланяться и прислали-с книжечки, вот-с…
Узел был так велик, что не мог пролезть в форточку. Мальчик стал развязывать.
— Дрянь, дрянь, дрянь и еще дрянь! — говорил сотрудник, принимая от мальчика книгу за книгою.
— Всё издания Онисима Евстифеича-с. Приказал-с просить — похвалить-с хорошенечко-с.
— А деньги есть у хозяина?
— Есть… да… нет… не знаю… кажется, нет…
— Плут! — сказал сотрудник, грозя пальцем. — Есть?
— Не знаю-с.
— Из почтамта получил?
— Не знаю-с…
— Ой, лжешь!.. Получил? Мальчик смутился.
— Вижу, вижу по глазам: получил!
— Не велел сказывать-с… не знаю-с… может быть, по-лучил-с…
— Получил! получил! — воскликнул сотрудник с необычайным жаром. — Ах, боже мой! получил! Где же слесарь, господа? Где же слесарь?
Сотрудник бросился к двери и силился разломать ее: напрасно!
— Ах, черт возьми! Вот тебе и раз! Получил, а я ничего и не знаю…
Лицо сотрудника, показавшееся снова в отверстии форточки, выражало дикую злость и отчаяние.
— Он в лавке?
— Был, да ушел, — отвечал мальчик…
— Ушел? Ну, теперь его не поймаешь!.. С кем?
— С Иваном Ивановичем… да еще, не знаю, какой-то новый, седой… Пить чай пошли.
— Куда?
— Под машину.
— Под машину?.. Х.Х.Х., попробуй оттуда: не сломаешь ни как замок… Может быть, захвачу!
Мы все вместе и каждый порознь перепробовали свою силу в уничтожении преграды, отделявшей нас от сотрудника; но усилия были тщетны…
— А потом куда он пойдет?
— Куда? Вы ведь знаете, как всегда… в другое какое-нибудь заведение… Наш хозяин вина не пьет… то и дело чай… Прощайте-с.
— Постой, дам записку.
Сотрудник сбегал в кабинет и возвратился с лоскутком бумаги, свернутым в виде треугольника.
— Скажи, что, если не исполнит моей просьбы, брошу работу, разругаю все его книги… Слышишь, все разругаю, и еще слушай… он меня выведет из терпения: я ему задам… понимаешь? ей-богу, задам! Так и скажи.
— Хорошо, — отвечал мальчик с улыбкою, которая доказывала, что ему приятно было бы, если б сотрудник исполнил свое обещание.
— Прощайте-с.
Он ушел. Вслед за ним явился другой мальчишка, в пестром пестредевом халате, с парою новых, ярко начищенных сапогов.
— А, сапоги! — сказал сотрудник. — Насилу-то! Давай сюда: я померяю.
Сотрудник выставил из форточки руку. Мальчик подал ему один сапог…
— Хорош, — сказал сотрудник. — А другой?..
Сотрудник опять высунул руку. Мальчик стоял в нерешительности, поглядывая то на оставшийся в руках его сапог, то на сотрудника.
— Хозяин приказал получить пятнадцать рублей, — сказал он.
— Знаю, братец, знаю; точно пятнадцать… Давай же другой сапог: у меня, братец, левая нога немножко больше правой, нужно померить.
Мальчик еще несколько мгновений боролся с самим собою и наконец вручил сапог сотруднику.
— Хорош! — сказал сотрудник после некоторого молчания. — Оба хороши! Каковы-то в носке будут? А при деньги скажи хозяину: завтра сам занесу.
— Нельзя-с! — сказал мальчик дрожащим голосом.
— Ну вот, нельзя! Точно в первый раз.
— Нельзя-с, — повторил мальчик. — Пожалуйте сапоги назад: завтра и возьмете-с…
— Вот еще! Я и так долго ждал. Они уж у меня на ногах.
— Хозяин меня будет бранить.
— Ничего; скажи только, что я взял; ничего… не будет бранить.
— Будет!
Мальчик собирался зарыдать, но Х.Х.Х. закричал на него таким диким и пронзительным голосом, что он отскочил от окошка и бегом побежал с лестницы…
— Глупый народ! — сказал сотрудник. — Как будто не всё равно получать деньги что сегодня, что завтра!
Положение наше с каждой минутой становилось ужаснее. Дело было в начале зимы. Мороз и ветер, проникавший в разбитые стекла коридора, пробирал нас до костей. Головы некоторых трещали. Мы готовы были уйти. Но в то время как общее терпение начало истощаться, общество наше увеличилось издателем газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, которого обычай являться на званые обеды, завтраки и вечеринки как можно позже спас на сей раз от томительного получасового ожидания на ветру и стуже. Узнав несчастное положение своего сотрудника, он очень много смеялся и сказал в заключение, что подобный случай очень годится для водевиля и что французские водевилисты именно такого рода случаями пользуются для составления своих эфемерных произведений…
— Впрочем, — заключил он с очаровательною улыбочкой, которая на устах его обыкновенно служила предвестницею каламбура, — уж не нарочно ли вы заперлись, милейший мой: у вас, надо признаться, есть-таки привычка запираться!
Каламбур, уже раз произнесенный, но получивший в устах издателя известной газеты новую прелесть, заслужил общее одобрение, но не согрел наших иззябших членов; Х.Х.Х. дул изо всей силы в ладони и сожалел, что отпустил свою коляску. «Я бы, — говорил он, — покуда лучше съездил к князю Зезюкину да к дяде — в палату… он там председателем…» Долговязый Кудимов выплясывал трепака, стараясь разогреть свои длинные и сухие ноги, которые имели обыкновение очень скоро зябнуть; несколько молодых актеров и сочинителей боролись и давали друг другу порядочные толчки, называя свое упражнение полированием крови; Анкудимов (драматург-водевилист)с быстротою, не свойственною его летам и почтенной наружности, бегал по коридору, напевая, патриотическую песню, которой аккомпанировали его собственные зубы. Только актер, отличавшийся необыкновенной любезностью, сохранял полное присутствие духа: вытребовав от сотрудника через форточку карты, он метал банк лунатику, Хапкевичу и еще нескольким любителям сильных ощущений на верхней ступеньке лестницы.
Водевилист-драматург ударил себя в лоб и торжественно объявил, что ему пришла прекрасная мысль.
— Что-о?
— Знаешь ли, братец… Брр!.. Выдай нам в форточку водки…
— Славная мысль!
Сотрудник молчал. Лицо его страшно измелилось; казалось, на душе его лежала какая-то тяжелая тайна; казалось, он хотел в чем-то признаться; но прежде чем он решился на что-нибудь, издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, предложил на всеобщее усмотрение следующую мысль:
— Зачем, господа? Долго терпели… Немножко уж не беда потерпеть. Поверьте, счастие человеческой жизни заключается именно в обстоятельствах, предшествующих свершению наших желаний… Ну, что было бы, если бы мы пришли прямо в квартиру Павла Степановича, застали бы там накрытый стол, начали пить, есть… ничего, решительно ничего! Обыкновенная история: проза, проза и проза!
Все одобрили мысль издателя, хотя втайне многие были ею недовольны и приписывали стоическую твердость ее изобретателя не столько его особенному взгляду на удовольствия жизни, сколько тому, что издатель не успел еще хорошенько прозябнуть…
— Ну так и быть! — сказал Анкудимов, принимаясь опять бегать и петь. — Подожду. Зато уж, брат, твой джин только держись. Я хвачу целый стакан.
— И я, — подхватил Кудимов, загибая угол червонной семерки. (Он понтировал в долг.) — Пять рублей мазу!
— И я.
— И я.
Сотрудник посмотрел на господ, делавших такие опустошительные предположения насчет его джина, с каким-то невыразимо болезненным состраданием и глубоко вздохнул… Вздох его нечувствительно сообщился почти всему собранию…
— О чем вы вздохнули?
— О непрочности человеческого счастия!
— А вы?
— О сардинках.
— Вы?
— Я вспомнил брата: он в прошлом году отморозил себе руки и ноги.
— Бррр!.. Руки и ноги! Бррр!..
Многие начали дуть в руки и бегать с особенным жаром.
— Берегите носы, господа. Тут недолго остаться без носа!
— Ну, небольшая беда; один нос отмерзнет, другой останется: мы ведь все с лишним носом.
— Ха! ха! ха!
— А вы что вздыхаете? У вас, кажется, очень теплая шуба!
— Давеча я забегал к Т***: у него на столе стоит чудесный пастет, лафит, сыр. Я ни до чего не дотронулся.
— И хорошо сделали. Поедим вместе.
— О, уж как поедим!
— Мне ужасно хочется ветчины.
— И мне.
— Мне сыру.
— Мне сардинок и джину.
— Мне икорки.
— Я так голоден, что поглодал бы и корки.
— Ха! ха! ха! ха! ха! ха!
— Удивительная вещь ум: не мерзнет и на морозе! У тебя, братец, верно, есть ветчина?
— И сардинки?
— И пармезан?
— О, как же, господа! Всё есть, решительно всё…
— И джин?
— И портер?
— И шампанское?
— Разумеется, разумеется!
Хозяин отвечал протяжным, шутливым тоном; но в голосе его в то же время было что-то до такой степени болезненное, физиономия его отражала в себе столько разнородных чувств, что нельзя было не заметить, что ему совсем не до шуток… Казалось, в душе его происходила борьба; он то высовывал голову в форточку, с видом человека на всё готового, то прятал ее с поспешностию. Наконец решительность осветила все черты лица его, он сделал знак рукою и просил, чтоб его выслушали. В голосе хозяина было столько торжественности и какой-то ужасающей таинственности, что даже многие из понтеров бросили карты и спешили стать в положение внимательных слушателей напротив форточки, которая должна была служить проводником загадочной речи.
— Господа, — сказал он нетвердым голосом, — конечно, это больше ничего, как случайность… забавная, конечно… но не менее неприятная… Сколь ни приятна мне честь, которую вы мне делаете… ожидая вот уже полчаса на холоде моего завтрака, но я должен вам сказать, что для вас гораздо выгоднее было бы не дожидаться…
— Так вот что! С церемониями! А мы думали бог знает что! Полно; что за церемонии… Мало ли чего не случается… Дождемся… Мы тебя так любим…
Когда восклицания умолкли, хозяин продолжал:
— Благодарю, благодарю, господа. Но совесть не дозволяет мне долее употреблять во зло вашу благосклонность… Вы иззябли, вы хотите есть…
— И пить, братец, особенно пить!
— Но, увы!.. Я должен признаться…
— Идет! идет! — закричало несколько голосов, и взоры всех устремились на лестницу, где показался юный артист в сопровождении рослого парня, в пестром халате, с огромною связкою разнородных ключей. Клики общей радости заглушили слова хозяина, который всё еще говорил. Слесарский подмастерье в минуту был поставлен перед заветной дверью.
— Отпирай, братец, поскорей. Что вы так долго ходили?
— Был у десяти слесарей. Никто нейдет… Насилу уговорил одного.
Подмастерье попробовал один ключ, другой, третий — и наконец отпер замок…
— Ну вот! Все затруднения уничтожились сами собою. Было из чего хлопотать, говорить такую странную речь!..
С шумом и криком неистовой радости толпа бросилась в дверь.
II В квартире
Квартира сотрудника состояла из прихожей, совершенно темной, гостиной, освещавшейся двумя окошками, выходившими на крышу сарая, кабинета, освещавшегося одним окошком, из которого видно было до сорока разнокалиберных труб, и кухни, заимствовавшей свой свет от коридора, в подражание планетам, заимствующим свет от солнца. В гостиной стояло три стула и березовый крашеный стол; в кабинете, длинном и узком, начинавшемся окошком и оканчивавшемся одностворчатого дверью в кухню, помещался длинный письменный стол, стул, зеленые вольтеровские кресла, этажерка, по другой стене — диван. Стол был завален книгами и рукописями в ужасающем беспорядке; под столом и на полу также валялись книги, рукописи и старые корректуры; на диване лежали смятая подушка и одеяло; на стуле — брюки с невынутыми сапогами — живое подобие хозяйских ног; над столом висели портреты Кутузова, Поль де Кока и Гутенберга; над кроватью картинка в рамке, обложенной золотым бордюром, изображающая красавицу, которая, ложась спать, распускает ворот сорочки. Во всем были заметны признаки бедности, беспечности и равнодушия к порядку и благообразию. Но ни в чем не было заметно малейших признаков завтрака…
— Давай же, братец, водки! — нетерпеливо сказал драматург.
— Водки! — вскричал Х.Х.Х. диким и страшным голосом над самым ухом хозяина.
— Водки! водки! водки! — повторили многие громко и резко.
— Водки!
И все начали кричать изо всей силы: «Водки!..» Хозяин стоял неподвижно, сложив на груди руки и осматривая по очереди каждого из присутствующих взором грустным и сострадательным.
— Господа, — наконец сказал он с принужденной улыбкой, — вы долго ждали, подождите немножко еще. Зато я расскажу вам чудесную повесть, в которой не пощажу даже себя. По-моему, лучше сознаться во всем чистосердечно, чем оставить необъясненными причины странного приема, который я вам сделал; тем более что между вами есть несколько лиц, которых я не имею честь знать коротко. Я должен извиниться перед ними… Итак, умоляю вас, выслушайте меня!
— Лучше бы прежде закусить.
— Ну пусть его говорит: он что-то очень расстроен!
Еще несколько минут продолжался ропот неудовольствия; наконец замечание издателя газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, что если хозяин настоятельно требует отсрочки завтрака, то, вероятно, имеет на то основательные причины, заставило всех замолчать. Сотрудник начал рассказ, который передается здесь с возможною точностию.
— Я имею, господа, привычку, когда у меня нет денег, — что случается двадцать девять раз в месяц, — прогуливаться по отдаленным петербургским улицам и заглядывать в окошки нижних этажей: это очень забавляет меня и нередко доставляет мне материалы для моих фельетонов. Не можете представить, какие иногда приходится чудеса видеть: иногда, проходя мимо какого-нибудь окошка, в одну минуту, одним мимолетным взглядом, увидишь сюжет для целой драмы; иногда — прекрасную водевильную сцену. В тот день, о котором я хочу говорить, я видел очень много забавных и странных вещей. Представьте себе панораму, в которой виды беспрестанно меняются, и тогда только вы поймете всё разнообразие, всю прелесть моего наслаждения. Мастеровой у станка, согнувшись, опиливает какую-нибудь мелкую принадлежность своей работы; жена, подкравшись сзади, целует его в колпак и в то же время делает глазки подмастерью, который сидит у другого окошка; цирюльник держит за нос толстого, красного господина, которому, как ребенку, под горло подвязана салфетка или целая простыня; титулярный советник целует свою кухарку, которая в знак особенной нежности колотит его по спине жирными, красными руками, засученными по локоть; чиновник в пестром халате, красной ермолке, перевернувшись на окошке вверх брюхом, старается кинуть на балкон второго этажа, где мелькает белое платьице, стройная ножка и черный локон, записку, сложенную хитро и красиво; другой, также молодой человек, а иногда и довольно старый, курит трубку, посвистывает и поет на голос «Чем тебя я огорчила»:
В двенадцать часов по ночам Из гроба встает барабанщик…Шум, крик, хохот, табачный дым столбом валит из раскрытых окошек. Четыре господина с почтенными, глубоко внимательными физиономиями сидят за зеленым столом; по углам пуншевые стаканы: один недопит на палец, другой на вершок, третий пустехонек, четвертый не тронут! Господин с крестом и с лысиной шутлив и весел, он мурлычет какую-то песенку; господин с крестом без лысины скучен н мрачен, он произносит проклятия… два остальные господина без крестов и без лысин ни скучны, ни веселы: они душой и телом погружены в игру, в карты, которые у них на руках, и по временам исподтишка — в соседственные. Господни с большими черными усами, и плисовом архалуке, гладит собаку и грозит кулаком жене; другой господин, с небритой бородой, стекловидными, опухшими щеками, потягивает по временам сивуху из стоящего перед ним полуштофа и после каждого глотка погружает свои пахучие губы в мягкую шерсть любимца-кота, целуя его и приговаривая: «Не хочешь ли водки, дурашка?»
О, сколько милых ласк потеряно напрасно!..
Девушка с густыми черными бровями, продолговатым вдумчивым лицом, подперши локтем голову, внимательно смотрит в книгу, лежащую перед ней на окошке; страницы перевертываются быстро, и не одна из них смочена слезами красавицы. Как приятно подсмотреть, что читает она!.. Мальчик перевесился через окошко и готов выпасть; грубая, неопрятная рука схватывает его за ногу и уносит в глубину комнаты; поднимается страшный вой… Старуха с огромным…
— Ну уж будет, братец, пересчитывать сцены, которыми ты любовался. Нельзя ли поскорей к делу?
— Сейчас, господа… Старуха с огромным совиным носом, черными усами и бакенбардами, с сухим, костлявым и желтым лицом, в раздранном рубище, сидит на ветхом треногом стуле и рычит, как корова, от горя и голода; девушка лет двадцати, также бедно и неопрятно одетая, но хорошенькая, очень хорошенькая, стоит перед ней на коленях, целует руки ее и нежным, дрожащим от слез и волнения голосом шепчет ей слова надежды и утешения…
Я невольно остановился перед кривым, полуразбитым окошком грязного деревянного домишка, где происходила сцена, о которой теперь говорю. Тут уже стояло несколько любопытных, привлеченных странностью зрелища. Они разговаривали между собою, смеялись, делали остроумные замечания, но никто не думал помочь несчастным… Такое равнодушие ужаснуло меня. Но я еще больше расчувствовался, когда старуха, вскочив с какою-то неестественною живостию, начала бить себя в грудь кулаками и кричать диким, нечеловеческим голосом.
— Видно, кликуша! — заметил один из зевак,
— Кликуша! кликуша!
И толпа подступила к самому окошку. Я за нею…
Старуха продолжала кричать; девушка стояла на коленях и молилась; лицо ее выражало трогательную покорность провидению; из глаз ручьем лились слезы…
Я бросился в ворота и чрез минуту очутился в комнате.
— Что здесь делается? — спросил я.
— Ах, помогите, помогите! — сказала девушка изломанным русским языком, доказывавшим неруcское происхождение. — Матушка моя умрет с голоду!
Девушка упала передо мной на колени.
— Не унижайся, дочь моя! — воскликнула старуха трагическим голосом по-немецки. — Мы бедны, но мы должны беречь свою честь: она единственное наше сокровище!
— Ах да! — воскликнула девушка и, зарыдав, упала на грудь матери. — Но вы, матушка, третий день ничего не кушали!..
У меня, господа, было всех-на-все пятнадцать рублей-до первого числа оставалось еще две недели; но если б я знал, что, отдав последние деньги, я должен буду умереть с голоду, я и тогда отдал бы их. Большого труда стоило мне оказать несчастным пособие: дочь — туда и сюда, но мать — гордая и честная немка, как я мысленно называл ее, — рвала на себе волосы и называла меня оскорбителем своей чести. Я принужден был употребить хитрость и, положив деньги в карман, шепнул девушке, чтоб она последовала за мною.
— Когда вам будет нужда опять, — сказал я, отдавая ей деньги, — приходите ко мне.
— О благодетель наш! Вы спасли мою мать! — воскликнула она с чувством глубокой благодарности. — Небо заплатит вам!
Сказав адрес моей квартиры, я поспешил удалиться.
— Всё это, — заметил нетерпеливый драматург-водевилист, — очень хорошо и доказывает твое великодушие, однако ж нисколько не относится к завтраку, о котором идет речь.
— О, напротив, напротив! — возразил сотрудник с большим жаром. — Совершенно напротив.
— Не мешайте ему продолжать, — сказал издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, — повесть его начинает меня интересовать.
— Если он и врет, то врет очень складно! — заметил Х.Х.Х.
— Известно, как сочинитель, — отвечал ему лунатик о громким хохотом.
Тишина восстановилась, и хозяин продолжал:
— Заметьте, господа, одно обстоятельство: когда я выходил от несчастных, так нечаянно спасенных много, быть может, от голодной смерти, некоторые из зевак, бывших свидетелями этой сцены, громко хохотали и показывали нд меня пальцами, делая на мой счет какие-то замечания; один даже сказал так громко, что я мог слышать:
— Надули голубчика!
Толпа отвечала ему хохотом… Всё это происходило назад тому месяца два. Поверите ли, господа, с тех пор до сегодняшнего дня Амалия (так звали девушку) не выходила у меня из головы. Каждый день я ходил мимо ее бедной квартиры, но ни разу не решился зайти, опасаясь оскорбить ее гордую и благородную мать. Зато Амалия ходила ко мне довольно часто…
— У-гу!
— О-го!
— А-га!
— Э-ге!
— Ваши двусмысленные восклицания совсем неуместны: она приходила ко мне не более как на минуту, брала небольшую помощь, которую я мог уделять ей от своих скудных доходов, и уходила, оставляя в сердце моем неизгладимый след своей красоты. В одно из своих посещений она рассказала мне свою краткую и простую, но трогательную историю и тем еще более увеличила мое участие, которое — вы догадываетесь — скоро превратилось в любовь. Амалия — ревельская уроженка, год тому лишившаяся брата, который кормил ее с бедною матерью. Потеря сына заставила старуху и дочь ее переселиться в Петербург, где Амалия надеялась найти место гувернантки и в крайнем случае горничной, или, как говорится для большей важности в полицейских публикациях, камер-юнгферы. Но надежды, по обыкновению, не сбылись; мать захворала; дочь работала день и ночь, но трудов ее недоставало на удовлетворение нужд и прихотей больной, раздражительной матери; нищета постучалась в дверь бедных страда лиц, за нею голод…
— А за голодом ты?
— Да, я, господа. Если бы вы слышали, с каким чувством говорила бедная девушка о своих несчастиях, как просто и красноречиво высказывалась в каждом слове ее беспредельная любовь к матери, если б вы знали, с каким терпением переносила она все капризы, все прихоти гордой и своенравной старухи, наконец, если б вы видели слезы благодарности, катившиеся из глаз несчастной девушки на мои руки, — уверяю вас, вы сделали бы то же, что сделал я: вы влюбились бы по уши! В последовавшее затем свидание мы объяснились. Не могу описать вам чувства, овладевшего мною, когда я услышал от нее робкое слово взаимности. Признаюсь, до той поры мне никто не объяснялся в любви и преданности, кроме моего вечно пьяного человека, который имеет привычку изворачиваться таким образом, когда я ловлю его в воровстве медных денег, водки и сахару. Разумеется, я обезумел от радости — не мог ни писать, ни думать, ни даже читать корректуры; целый день посвистывал, подпрыгивая в своей комнате на одной ножке, и не раз очень изрядно ушиб голову, потому что потолок, как видите, довольно низок. Но лишняя шишка на голове, господа, тут ничего не значит: она не может уменьшить того счастия, того внутреннего довольства и мира, которые приносит любовь, — я был на седьмом небе…
— Прекрасно, но будет уж о любви. Нельзя ли подвинуться к завтраку.
— К завтраку, к завтраку!
— Сейчас, господа! С каждым посещением я, как водится, открывал в ней новые совершенства. Не поверите, как несчастная любила свою мать! Иногда прибежит ко мне со слезами: «Матушка просит рейнвейну, рейнвейну!.. Если я скажу ей, что мы уже так бедны, что не в состоянии купить бутылку рейнвейну, она умрет с отчаяния!» В другой раз явится бледная, расстроенная, в обрывках того самого платья, в котором я увидел ее в первый раз. «Что же ты не одеваешься в свое новое платьице (я, господа, подарил ей прекрасное платье), которое так идет к тебе?» Она падает ко мне на грудь, плачет и признается робко и тихо, что продала его для удовлетворения какой-нибудь новой прихоти больной, выжившей из ума старуха. Какова девушка, господа?
— Это много, это очень много, — заметил издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, — когда девушка жертвует для больной матери даже нарядами. Прекрасный пол так любит наряды!..
Нарядов нет — прекрасный пол Капризится, тоскует, плачет. Наряды есть — прекрасный пол Под потолок в восторге скачет.— Вот вам экспромт, господа!
— Ха! ха! ха!.. ха! ха! ха!..
— Браво, Дмитрий Петрович!
«Как жаль, — подумал драматург-водевилист, смотря на издателя известной газеты с чувством глубокого удивления, — как жаль, что этот необыкновенный человек имеет привычку сам записывать свои каламбуры и помещать в печатных статьях. С каким удовольствием делали бы это другие!»
И он глубоко вздохнул.
Издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, между тем, по требованию господ, недослышавших его выходки, повторил свое четверостишие голосом более громким и торжественным и был снова осыпан всеобщими похвалами.
— Хорошо, командир! — сказал хозяин.
Эти слова произвели такое действие, что сотрудник мог еще целый час продолжать свой рассказ без опасения потерять слушателей, потому что издатель, награжденный похвалою своего сотрудника, который редко обращал внимание на его остроты, необыкновенно развеселился.
— Не правда ли, господа, — сказал он, когда тишина восстановилась, — рассказ, которым угощает нас мой почтенный сотрудник, стоит хоть какого отличного завтрака?..
Никто не осмелился противоречить, хоть, без сомнения, многие отдали бы десять подобных рассказов за рюмку водки и бутерброд.
— Ну-с, милейший мой, продолжайте…
И сотрудник, очень хорошо понявший выгоду своего положения, продолжал:
— Я имею несчастие, господа, принадлежать к числу тех людей, которые смотрят на женщину как на поэтическое создание, как на святыню…
— Весьма верный взгляд, — заметил издатель.
— Всякий, почти всякий из вас на моем месте, верно, не устоял бы против искушений, которые на каждом шагу расставлял мне демон соблазна. Я думал иначе. Погубить столь чистое, благородное и кроткое создание у меня не достало бы ни духа, ни совести; я понимал также, что не могу и жениться на нищей. И, однако ж, несмотря ни на что, непреодолимая сила влекла меня к ней. Я желал познакомиться с ее матерью, войти в их дом…
— То есть в конурку, — заметил кто-то.
— Ну да, в конурку. Но девушка сказала мне, что желание мое покуда несбыточно, и умоляла не разрушать обмана, благодаря которому мать ее довольно спокойна.
Прошло два месяца. В продолжение их Амалия была у меня раз пять и всегда получала какую-нибудь помощь. Наконец она прибежала третьего дня поутру и со слезами на глазах рассказала, что матери ее гораздо хуже, что нужна непременная и скорая помощь. Поверите ли, сердце мое облилось кровью: у меня почти совсем не было денег. Отдав ей последнюю мелкую монету, я просил ее прийти послезавтра и обещал оказать тогда гораздо большую помощь. К тому же, то есть к сегодняшнему, дню я приказал прийти некоторым моим кредиторам (двух из них вы имели счастие видеть). Назначая им этот день, я имел в виду деньги, которые получу с бенефицианта за мою пиесу. И вот я их получил. Бенефициант вручил мне двухсотенную ассигнацию — цена, за которую мы уговорились. Я просил у него мелких ассигнаций или серебра, но он сказал мне, что все деньги жена увезла домой. Дальнейшие события этого вечера всем вам, господа, очень хорошо известны: мы пили вместе, но я, кажется, выпил более всех, потому что, пришедши домой, едва мог кой-как прочесть корректуру, которую приказал человеку отнести пораньше в типографию, и завалился спать. Поутру я проснулся довольно рано, и первою мыслию моею была мысль о завтраке, на который я вас пригласил. Я рассудил, что всего лучше будет послать за завтраком к хорошему ресторатору…
— Прекрасная мысль!
— …и с нетерпением ждал моего человека, который, отправляясь по моим поручениям и своим собственным нуждам в город до моего вставанья, имеет обыкновение запирать меня в моей собственной квартире и уносить ключ с собою…
— Мой Санхо-Панчо делает так же, — заметил издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа. — Только я приказываю ему класть ключ на всякий случай в щель, которая у нас под дверями. Можно ключ достать и с той и с другой стороны, а между тем посторонний никто не знает.
— А вот мы вас и обокрадем! — сказал лунатик с громким хохотом.
— Мой человек, — сказал один молодой актер, — также имеет обыкновение запирать меня, но он поступает так единственно из предосторожности, чтоб меня самого не украли: больше украсть нечего!..
— Здесь, господа, — продолжал сотрудник, улыбнувшись наивному простодушию юноши, — начинается цепь тех несчастных событий, которые были причиною продолжительного вашего дежурства на холоде и невольного пощения. Человек мой до сей поры не возвращался: вероятно, он сидит в кабаке с приятелями, которых у него тьма-тьмущая…
— Конец! конец! — воскликнули многие с радостным нетерпением. — Скажи, братец, что ж за охота была тебе мучить нас рассказом о старухе и ее дочери, которые совсем нейдут к делу?..
— В том-то и дело, что не конец, — отвечал сотрудник. — Здесь только начинается…
— Что начинается? — спросили многие с ужасом.
— Развязка, — отвечал хладнокровно сотрудник. — Ужасная, роковая развязка, перед которой все рассказанные мною события покажутся совершенно ничтожными. Пропал человек — беда еще небольшая! Нельзя принести сюда завтрака — я бы мог, господа, пригласить вас к Кулону, к Лерхе, к Леграну…
— Всего лучше к Леграну, — гастрономически заметил Кудимов.
— Что же мешает тебе исполнить свое прекрасное намерение? — спросил Анкудимов.
— Пойдемте, — сказал Х.Х.Х.,- ты доскажешь нам свою повесть дорогой.
— В самом деле: веселей будет идти.
— Увы, господа, — отвечал сотрудник. — У меня нет ни копейки денег!
Белолицый и беловолосый Х.Х.Х. побледнел как мертвец. Длинноногий Кудимов выронил восклицание ужаса и с разинутым ртом, с выпученными глазами остался в том положении, в каком застала его ужасная весть: он протягивал зажженную спичку к погасшей трубке, насаженной на длинный чубук. Но всех ужаснее был водевилист-драматург: улыбка самодовольствия и льстивого внимания, постоянно украшавшая его сальные растрескавшиеся губы, не успела совершенно исчезнуть, но превратилась в какое-то странное смешение — сахара с дегтем, варенья с хреном, добродетели с желчью; зубы застучали, глаза выражали недоумение и боязнь. Страшная весть сотрудника не привела в ужас только тех, у кого были в кармане деньги, за которые, как известно, очень легко достать завтрак в любой из петербургских рестораций…
— Ну-с, милейший мой, — сказал издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, — продолжайте!
— Чтоб кончить мой рассказ, нужно возвратиться к тому, на чем меня перебили, — сказал сотрудник с печальной улыбкой. — У всех ли достанет терпения дослушать меня?
— О, без сомнения!
— Итак, господа, я с нетерпением ожидал человека, чтоб распорядиться приготовлениями к завтраку. Прошло около часа: вдруг слышу робкий, несмелый стук в двери; вставать страх не хочется, да и что было бы пользы, если б я встал? Лежу! Постучат, думаю, и уйдут. Так нет, стук продолжается, усиливается и наконец принимает все признаки барабанного боя. Меня взорвало; вскакиваю, бегу к двери и кричу с гневом: «Пожалейте своих кулаков! = Человек мой ушел и унес с собою ключ: я заперт!» Иду назад через кухню — слышу, стучат в стекло; оглядываюсь и узнаю… кого бы вы думали?..
— Амалию!
— Первым делом моим, господа, было возвратиться опрометью в кабинет и накинуть халат; затем подхожу к окошку, отпираю форточку; Амалия делает невольное движение ко мне, я к ней: уста наши встречаются…
— Водевиль, решительно водевиль!
— Нет, господа, драма. Амалия была бледна и печальна; на лице ее я не мог не заметить признаков только что высохших слез. Если б не преграда, разделявшая нас, я готов был бы броситься на колени просить прощения моей невольной дерзости.
— Отчего ты так печальна, Амалия?
— Ах, я несчастна, очень несчастна!
— Не новая ли беда вас постигла?
— Ах да, ужасная! Она зарыдала.
— Говори. Я помогу тебе перенесть ее. Ты знаешь, как я люблю тебя, как драгоценно мне твое счастие!
— Если б не ваша любовь (я говорю ее собственными словами, господа), если б не уверенность, что есть на земле человек, которому я что-нибудь значу…
— О миленькая!
— О несравненный!
Я сделал к ней движение, но оно было так быстро и неосторожно, что на лбу моем и теперь еще можно ощупать шишку, которую я получил, ударившись об раму (я как-то особенно счастлив на шишки). Амалия вскрикнула от испуга; но я успокоил ее, просунул голову в форточку, и поцелуи градом посыпались на мою рану: боль, разумеется, тотчас прошла…
— Я умерла бы, я давно уже не в состоянии была бы переносить тяжелых испытаний, которыми обременяет меня судьба, — лепетала она, продолжая прежнюю мысль. — Да если б еще не мать, не моя больная, бедная мать!
— О добрая девушка!
Робким, трепещущим голосом рассказала она, что матери ее с каждым днем становится хуже, что малейший признак нищеты приводит ее в ужас. Я благодарил судьбу, что имею средство помочь страдалице, и побежал в кабинет.
— У меня нет мелких, — сказал я, возвратившись с двухсотенной ассигнацией, кроме которой у меня действительно не было ни копейки. — Если б ты согласилась немножко подождать… Придет мой человек… я пошлю разменять…
— Моя мать, моя бедная мать! — произнесла девушка, ломая руки. — Может быть, она теперь при последнем издыхании!
Я не знал, что делать; сердце мое разрывалось; если б в ту минуту попался мне под руку мой человек, я бы растерзал его. Вдруг счастливая… счастливая!., (сотрудник горько усмехнулся) мысль озарила мой разум…
— Добеги в лавочку, — сказал я. — Разменяй эту ассигнацию: возьми себе сколько нужно… двадцать пять, пятьдесят рублей… а остальные принеси мне…
Она пошла — и не возвращалась…
Некоторые хохотали, другие принялись утешать бедного сотрудника газеты, говорили, что, быть может, долгое отсутствие девушки произошло от каких-нибудь непредвиденных обстоятельств, и пр. и пр.
— Напрасно вы тратите свое красноречие, господа, — сказал он печально и мрачно. — Припоминая все побочные обстоятельства, все декорации небольшой драмы, которую я вам рассказал, я с каждым часом более и более убеждаюсь, что «она» — просто плутовка. Не старайтесь утешать меня, я очень твердо уверен, что одурачен!
Никто не посмел возражать такому сильному убеждению, которое к тому же имело вид вероятности. Водевилист-драматург, долговязый друг его и некоторые другие взялись за шляпы, опасаясь прозевать скромный домашний обед, что было бы очень накладно в их положении. Я остановил всех, пригласив отобедать на мой счет в ресторации.
Мы обедали до полуночи, подтрунивая над сотрудником, который, выпив с горя всех больше, повторял беспрестанно раздирающим душу голосом:
— Я дурак, я ужасный дурак!..
1845
Петербургские углы*
(Из записок одного молодого человека)
Ат даеца. внаймы угал, на втором дваре, впадвале, а о цене спрасить квартернай хозяйке Акулины Федотовне.
(Ярлык на воротах дома)Дом, на двор которого я вошел, был чрезвычайно огромен, ветх и неопрятен; меня обдало нестерпимым запахом и оглушило разнохарактерным криком и стуком: дом был наполнен мастеровыми, которые работали у растворенных окон и пели. В глазах у меня запестрели отрывочные надписи вывесок, которыми был улеплен дом изнутри с такою же тщательностию, как и снаружи: делают троур и гробы и на прокат отпускают; медную и лудят; из иностранцев Трофимов; русская привилегированная экзаменованная повивальная бабка Катерина Брагадини; пансион; Александров, в приватности Куприянов. При каждой вывеске изображена была рука, указующая на вход в лавку или квартиру, и что-нибудь, поясняющее самую вывеску: сапог, ножницы, колбаса, окорок в лаврах, диван красный, самовар с изломанной ручкой, мундир. Способ пояснять текст рисунками выдуман гораздо прежде, чем мы думаем: он перешел в литературу прямо с вывесок. Но уважение к исторической истине заставляет сказать, что при вывеске повивальной бабки изображения никакого не было. Наконец, в угловом окне четвертого этажа торчала докрасна нарумяненная женская фигура лет тридцати, которую я сначала принял тоже за вывеску; может быть, я и не ошибся. На дворе была еще ужасная грязь; в самых воротах стояла лужа, которая, вливаясь на двор, принимала в себя лужи, стоявшие у каждого подъезда, а потом уже с шумом и журчанием величественно впадала в помойную яму; в окраинах ямы копались две свиньи, собака и четыре ветошника, громко распевавшие:
Полно, барыня, не сердись, Вымой рожу, не ленись!Но то, что я видел здесь, было ничтожно пред тем, что ожидало меня впереди. Угол, как уведомляла записка, отдавался на заднем дворе: нужно было войти во вторые ворота. Я вошел и увидел опять двор, немного поменьше первого, но в тысячу раз неопрятнее; целые моря открывались передо мною; с ужасом взглянул я на свои сапоги к хотел воротиться; казалось, не было здесь аршина земли, на который можно было бы ступить, не рискуя увязнуть по уши. Я решился сначала держаться как можно ближе стены, потому что окраины двора были значительно выше средины; но то была обманчивая и страшная высота, образовавшаяся от множества всякой дряни, выливаемой и выбрасываемой жильцами из окон; ступив туда, нога вязла по колено, и в то же время в нос кидался неприятный и резкий запах. Я смекнул, что лучше последовать известной пословице и, оставив в покое окраины двора, пошел серединою. Самоотвержение мое увенчалось полным успехом: через двадцать шагов, которые я но предчувствию направил к двери с навесом, прямо против ворот, я заметил, что нога моя с каждым шагом стала вязнуть менее, еще несколько шагов — и я очутился у двери, ведущей в подвал; поскользнулся и полетел… или, правильнее, поехал, — разумеется, вниз, — в положении весельчаков, катающихся с гор на масленице; сапоги по ступеням лестницы застучали, как барабан. Я летел очень недолго; ударился обо что-то ногой; вскочил, осмотрелся: темно, пахнет гнилой водой и капустой; дело ясное: сени. Ищу двери. Наткнулся на лоханку — пролил; наткнулся на связку дров — чуть опять не упал. Что-то скрипнуло, чем-то ударило меня по лбу — ив сенях стало светлей. В полурастворившейся двери я увидел женскую фигуру. Кривая и старая баба гневно спросила, что я тут делаю, потом, не дождавшись ответа, объявила мне, что много видала таких мазуриков, да у ней нечего взять, и что она сама бы украла, если б не грех да не стыдно.
Вы меня покуда еще не знаете, но, узнав хорошенько, увидите, что я человек щекотливый: принять меня за вора значило нанесть смертельную обиду моему костюму и моей физиономии. Я не выдержал и назвал старуху дурой. Есть много людей, которые равнодушнее перенесут название мошенника, чем дурака; старуха, вероятно, была из таких: при слове «дура» она как-то страшно содрогнулась и взвизгнула; ямки рябых щек ее налились кровью.
— Дура? — вскричала она запальчиво. — Я дура? Нет, молод еще, чтоб я была дура… Когда я жила в Данилове… весь Даниловский уезд знает, что я не дура… Пономарица ко мне в гости хаживала… Дура, я дура!
Старуха принялась доказывать, что она не дура, не забывая называть меня дураком и мазуриком. Из уст ее летели брызги мне на лицо и на платье. Вообразить положение, в котором она находилась, может только тот, кто видал бешеную собаку.
Я сначала хотел усмирить старуху, но, сообразив, что моё время дорого, а между тем она, верно, пойдет жаловаться квартальному надзирателю, и нужно будет дожидаться в конторе, а может быть до окончания дела и в арестантской, рассудил за лучшее поскорей уйти подобру-поздорову. Я уже прошел больше половины первого двора, как вдруг долетели до меня следующие слова, которые заставили меня воротиться:
— Ну… зачем ты пришел?.. Коли ты не вор, докажи, зачем ты ко мне, буре, пришел?… В гости, что ли, пришел? Я тебя не звала… Ну, скажи, зачем ты пришел?
Я объяснил старухе причину моего прихода, и она вдруг смягчилась. Нет, она сделала больше: вынула из кармана медный пятак и советовала мне потереть им ушибленное место на лбу. Я не противился — из благодарности. Сердце мое таково, почтенные читатели, что оно не может долго питать ненависти: я простил старухе ее минутную запальчивость и отправился с нею смотреть квартиру, в которую вход был через дверь, противоположную ударившей меня по лбу.
Старуха ввела меня в довольно большую комнату, в которой царствовал матовый полусвет, какой любят художники; полусвет выходил из пяти низких окошек, которые снаружи казались стоящими на земле, а внутри были неестественно далеки от пола. Комната была вышиною аршина в три с половиной и имела свой особенный воздух, подобный которому можно встретить только в винных погребах и могильных склепах. Налево от двери огромная русская пенка с вывалившимися кирпичами; остальное пространство до двери было завалено разным хламом; пол комнаты дрожал и гнулся под ногами; щели огромные; концы некоторых досок совсем перегнили, так что, когда ступишь на один конец доски, другой поднимается. Стены комнаты были когда-то оштукатурены: кой-где сохранились крестообразно расположенные дранки, какие обыкновенно приготовляются под штукатурку; некоторые из сохранившихся дранок, переломившись, торчали перпендикулярно; но главное украшение стен состояло не в дранках и не в остатках штукатурки: его составляли продолговатые кровавые, впрочем невинные, пятна, носившие на себе следы пальцев и оканчивавшиеся тощими остовами погибших жертв, да густые слои расположенной по углам и под окошками, в виде гирлянд и гардин, паутины, которая тонкими нитями в разных направлениях пересекала комнату, попадая в рот и опутывая лицо. Одна из досок потолка, черного и усеянного мухами, выскочила одним концом из-под среднего поперечного бруса и торчала наклонно, чему, казалось, обитатели подвала были очень рады, ибо вешали на ней полотенца свои и рубахи; с тою же целию через всю комнату проведена была веревка, укрепленная одним концом за крюк, находившийся над дверью, а другим — за верхнюю петлю шкафа: так называю я продолговатое углубление, с полочками, без дверей, в задней стене комнаты; впрочем, говорила мне хозяйка, были когда-то и двери, но один из жильцов оторвал их и, положив в своем углу на два полена, сделал таким образом искусственную кровать. Старуха была очень недовольна самоуправством жильца, но вообще отзывалась о нем весьма хорошо.
— А кто он такой? — спросил я.
— А кто его знает, кто он такой. Хороший человек: с паспортом. У меня без паспорта никого, я уж такая: хоть два целковых давай. Мало ли? Пожалуй, есть всякие… у иной кто хочет за гривну ночуй… а наутро ушел, глядь: у кого сапоги, у кого рубашку, голицы… в баню идти — мыло пропало… Хороший жилец. Дома почитай никогда не живет, а домой придет — спит либо пауков жучит. «Что, — скажешь, — Кирьяныч… охота тебе… с этакой дрянью… да еще и в руки берешь!..» — «А что, — говорит, — я душеньке враг, что ли, своей, — говорит, — паука увижу да не раздавлю». — «Ну дело, дело, Кирьяныч, коли не мерзит: и душе во спасенье и жильцам хорошо, и дом простоит дольше». Уж как я ему благодарна: всех пауков перевел; скажи на лекарство — за рубль не найдешь! Словно в палатах княжеских… Да вот одним нехорош: за эту дрянь не люблю.
Старуха указала на небольшую, пепельного цвета, полуобритую собачонку, которая в то время вылезла из-под нар, расположенных в правом углу от двери, и, перехватывая зубами с места на место с неистовой быстротою, безжалостно кусала свои грязные ноги.
— Добро бы одну держал, — продолжала старуха, — а то в иной раз вдруг пяток соберется… поднимут вой; известно: есть хотят. Кормить не кормит, а любит; жить, говорит, не могу без собак… Шутишь! Ну да что говорить! я уж такая… Из избы сору не выношу. Вот сами увидите: у меня… я ничего не знаю… ничего не вижу…
Старуха сделала рукою выразительный знак, на который я счел нужным отвечать ей уверением, что я не занимаюсь собачьей промышленностью, и продолжала:
— А что до чего дойдет — всякий за себя, бог за всех. Паспорт есть — я не ответчица. Махнула рукой… пусть, говорю, будут собаки; мне из-за них хорошему жильцу не отказывать. Да и что худого в собаке? Такая же, прости, господи, мое прегрешение, тварь, как и человек. Еще человек иной хуже: греха на нем больше; сами изволите знать: язык… А на собаке какой грех… Ученые собаки бывают: поноску подаст, ползает, ей-богу… всё совершенно как человек; веселей с ними. Вот вы не изволите брезговать (я гладил серую собачонку), а иные… право, разуму, что ли, в них нет?.. Просто дрянь, механик какой-нибудь, выжига забубённая, а туда же: стану я, говорит, вместе с собаками в собачьей конуре жить… Собачья конура!.. Известно, иной фанфарон: на грош амуниции, на рубль амбиции… Квартирка чем не квартирка; летом прохладно, а зимой уж такое тепло, такое тепло, что можно даже чиновнику жить, и простор…
— А почем вы берете?
Началась ряда и состоялась по четыре рубля в месяц. Старуха божилась, что никто так дешево не живет, и просила не сказывать остальным жильцам настоящей цены.
— Всякое вам уважение сделаю. У вас ничего… Где! Молодой еще человек: верно, уж ничего…
Я хорошенько не понимал, к чему относились слова старухи, но смело отвечал: «Ничего».
— А нельзя и без мебельки; на полу уж какое спанье; разве от бедности. Кроватку поставлю… кипятком выварю… широкая — хоть вдвоем… (старуха усмехнулась) покойно, очень покойно; только подальше от степы… ну да уж я сама и поставлю…
Я дал задатку и отправился за вещами. Перевозка стала мне в гривенник.
Когда, сопровождаемый извозчиком, я вошел с узелком и чубуками, в шинели, надетой в рукава, в мое новое жилище, кровать уже была на своем месте: в левом углу, образуемом стеною, противуположною окнам, и тою, в которой находился известный шкаф. Старуха немного прихвастнула насчет ее удобства, ибо постель была такова, что на ней двое могли спать разве по очереди; зато перед нею стоял небольшой только что выскобленный стол с отверстием в боку, доказывавшим, что в столе был когда-то и ящик. Подвал, которому поутру как будто чего-то недоставало, представлял полную, совершенно оконченную картину.
Есть обстоятельства, невольно располагающие к задумчивости при всей лепи ума и беспечности характера; Новый год, день рождения, нечаянно встреченные похороны, день переезда на новую квартиру — я знаю, что в таких случаях задумываются даже головы, которые в остальное время ни о чем совершенно не думают. Было часов около девяти; начинались светлые петербургские летние сумерки, а в подвале становилось темно. Мухи, сбираясь роями, словно добрые пчелы, с шумом и визгливым жужжанием отправлялись к потолку для ночлега. Сверчок пел за печкой; что-то ползало у меня по лицу, что-то иголкой кололо в руку, — я сидел неподвижно на голых досках кровати…
Дверь скрипнула, и в комнате раздались звуки, подобные звукам кастаньет.
Я вздрогнул и поднял голову.
Серая фигура медленно шла в правый угол и, продолжая прищелкивать пальцем об палец и языком, с видом совершенной беспечности кивала мне головой.
Я молчал. Серая фигура прошла к своим нарам, села и, положив левую ногу на бедро правой, долго рассматривала сапог, говоря с расстановкой:
— Дратва скверная… ну да и ходьбы много… а толку хоть бы на грош… даже, кажется, мозоли натер… А что вы, то есть, здешние?
— Здешний.
— Тэк-с! А чья фамилия?
— Тростников.
— Знаю. Он меня бивал. С нашим барином, бывало, каждый день на охоту… промаха ли по зайцу дашь, собак опоздаешь со своры спустить — подскачет да так прямо с лошади. А заехал сюда — здесь и побывшился… поело смерти, говорят, сердяга и часу не жил!.. Поделом!.. Не дерись с чужими людьми. Естафий Фомич Тростников… как не знать. Задорный такой. От него, чай, и вам доставалось?
— Я не знаю никакого Тростникова, я сам Тростников.
— Тэк-с!.. Извинтите-с… а я думал, что и вы тоже господский человек… просто с глупости… Я три недели только еще из деревни… Не бывать бы и век здесь, кабы не молодая барыня… «Собаки и люди, — говорит, — душенька, нас разоряют; не ждите любви от меня, душенька, — говорит, — покуда будут у нас в доме собаки». Спорили, спорили, да наконец и вышло решение: собак перевешать, а нас распустить по оброку… фффить (дворовый человек засвистал), катай-валяй в разные города и селения Расейской империи от нижеписанного числа сроком на один год… Вот я сюда и махнул… водой на сомине… осьмнадцать дён плыли… всё пели… впеременку гребли… Да вот что станешь делать! — и сел здесь как рак на мели: нет как нет места! Проедаюсь на своих харчах, за кватеру плачу… сапоги новые истаскал; левый совсем худехонек.
Дворовый человек, отпущенный по оброку, зажег светильню, укрепленную в помадной банке, наполненной салом; вытащил хранившийся в изголовье небольшой деревянный ящик, вынул оттуда дратву, шило и молоток; снял сапог с левой ноги и принялся за работу, напевая что-то про барыню. Русский человек любит петь про барыню.
Через полчаса дверь опять отворилась; вошел с собачонкой в руках рослый плечистый мужик лет пятидесяти, одетый в дубленый полушубок, с мрачным выражением лица, с окладистой бородой. Взгляд его, походка, телодвижения — всё обличало в нем человека рассерженного или от природы сердитого. Он прошел прямо к своим нарам (вправо от двери), гневно бросил на них собачонку, которая тотчас начала выть; перекрестился на образок, висевший над нарами; сел, потянулся, зевнул; закричал на собаку: «Молчи, пришибу!» Потом хотел погладить ее, она оцарапала ему руку, соскочила с нар и начала скребстись в дверь. Бородач бросил ей кусок хлеба; она только понюхала; он начал кликать ее к себе, давая попеременно разные собачьи названия, уродливо исковерканные, при каждой кличке останавливался и пристально смотрел на собаку; но собака не унималась. Тогда бородач, выведенный из терпения, топнул ногой и с полчаса ругал собаку, решительно не соблюдая никакого приличия в выражении своего негодования. Наконец собака смолкла и забилась под нары. Бородач разлегся и принялся страшно зевать, приговаривая протяжно за каждым зевком: «Господи, помилуй! господи, по…ми…милуй!»
— Да денег дай! — сказал дворовый человек, отпущенный по оброку.
— Денег у черта просить, — проворчал сердито бородач. Разговор прекратился.
— А что, Кирьяныч, — сказал дворовый человек, отпущенный по оброку, — кабы этак тебе вдруг тысяч десять… а… что бы ты стал делать?
— Ну а ты что?
— Десять тысяч! Много десять тысяч. Опьешься! Нашему брату, дворовому человеку, коли сыт да пьян да глаза подбиты, и важно… хоть трава не расти! да еще целовальники бы в долг без отдачи верили.
— Ну а барин-от?
— Барин, что барин? Оброк отдал, да я и знать-то его не хочу… а и не отдал, бог с ним… Побьет, побьет, да на воз навьет… Десять тысяч! Горячо хватил — десять тысяч, Нечего попусту бобы разводить… четвертачок бы теперь-и то знатно… ух! как бы знатно! На полштофчика, разогнать грусть-тоску…
— Ку…а…а…а… Господи, пом…ми…луй… купи.
— Купи? Да где куплево-то? В одном кармане пусто, в другом нет ничего… Есть, правда, полтинничек… один, словно сиротинка, прижался, да ведь, знаешь сам, голова, надо и на харчи. С голоду умереть неохота. Иное дело, кабы место найти… А то вот и сегодня у пятерых попусту был… ну уж только и господа, с самого с испода! Один вышел худенькой, тощенькой… и на говядину не годится; в комнате три стула стоит, халатишко дыра на дыре… «У меня, милейший мой, — говорит, — главное дело, чтоб человек честен был, аккуратен, учлив, не пил бы, не воровал…» — «Зачем, — говорю, — воровать… хорошее ли дело воровать, сударь? дай господи своего не обозрить, кто чужому не рад. А много ли, — говорю, — жалованья изволите положить?» — «Пятнадцать рублев», — говорит. Меня инда злость пробрала… пятнадцать рублев! «Тэк-с», — говорю… (А туда же, «не пей, не воруй»… да что у тебя украсть-то, голь саратовская?) Шапку в охапку: «Много довольны… мы не из таких, чтобы грабить нагих»… поклон да и вон… К другому пришел… толстый, рожа лопнуть хочет, красная… «Мне самому, — говорит, — почитай что и человека не нужно… поутру фрак да водки подать, приду из должности — к кухмистеру сбегать, халат да водки подать, спать стану ложиться — сапоги снять да водки подать — вот и всё. Да вот, — говорит, — у меня, видишь?» — и показывает черта такого… человек не человек, черт не черт… глаза пялит, облизывается. «Я, братец, вот посмотри», — говорит, — и ну по комнате с пугалом прыгать, а оно ему на плечо… рожи строит, кукиш показывает… «Так уж любит меня, — говорит, — Будешь за ней хорошо ходить, будет и тебе хорошо; а захворает, убьется как-нибудь… и жалованья тебе ни гроша, да еще, — говорит, — и того: у меня частный знакомый и надзиратели приятели есть». — «Покорнейше благодарим, — говорю, — много довольны… за господами за всякими хаживал, а за чертями, нечего сказать, не случалось». — «Это, братец, не черт, — говорит, — аблизияна». Кирьяныч страшно зевнул.
— Эх ты, ежовая голова! Спишь, а деньги есть… Далась тебе даровщинка. Развязывай мошну-то. На том свете в лазарете сочтемся.
— Толкуй, — сказал Кирьяныч и, докончив фразу, как следовало, присовокупил со вздохом:- Согрешили мы, грешные; прогневили господа бога… совсем дело дрянь! На табак гроша нет… даве на щах останную гривну в харчевне проел… совсем в носу завалило…
— Табачку-свету нигде нету! — сказал дворовый человек горестно. И потом, после некоторого молчания, прибавил:- А и то сказать, какие у нашего брата деньги. Известно наше богатство: кошля не на что сшить — по миру ходить. Иное дело у барина.
Мне показалось, что камушек был закинут в мой огород, и догадка моя оправдалась: дворовый человек нечувствительно перешел к тому счастливому дню, когда он, полный надеждами, прибыл из деревни и до приискания места занял угол в подвале. День тот был в полной мере торжественный: на новоселье было выпито семь штофов.
— Ан пять! — сказал Кирьяныч.
— Семь, ежовая голова!
— Пять, едят то мухи с комарами! Я как теперь помыто, что пять! — И между ними завязался жаркий спор о количестве штофов.
— Ну да сколько бы ни было, — заключил дворовый человек. — Я к тому только сказал, что на Руси такое уж обнаковение: последнюю копейку ребром, а новоселье чтоб было справлено, иначе и счастья на новой квартире но будет.
— И господь того человека не забудет, кто должное исполняет, — заметил Кирьяныч.
— Послушай, брат, — сказал я.
Дворовый человек вскочил и почтительно вытянулся передо мною.
— Чего изволите, сударь?
— На вот, братец, — купите себе вина.
— Слушаю-с. Штоф, что ли, брать прикажете?
— Бери штоф.
Дворовый человек обмотал дратву вокруг недочиненного сапога, надел его на левую ногу, схватил мою фуражку и побежал. Через пять минут вино было на столе перед моею кроватью вместе с двумя селедками, пятком огурцов, тремя фунтами черного хлеба и четверкой нюхального табаку. Дворовый человек, отдавая мне сдачу, почтительно извинился, что сделал некоторые излишние издержки. Кирьяныч между тем сходил к хозяйке за стаканом.
— Начин с хозяина, — сказал дворовый человек наливая.
Я отказался.
— Бона! — воскликнул дворовый человек в каком-то странном испуге. — Гусь, и тот нынче пьет… И пословица говорит: ходи в кабак, кури табак, вино пей и нищих бей — прямо в царство немецкое попадешь! Что ж вы душе своей, что ли, добра не желаете?
— Да вы бы в самом деле протащили немножко, — прибавил флегматически Кирьяныч. — У вас лицо такое, словно обожженный кирпич.
Но я опять отказался.
— Нечего делать, — сказал дворовый человек, хитро усмехаясь, — и не хотел бы, да надо пить. — Выпил, подержал с минуту стакан над лбом и произнес протяжно:- Пошла душа в рай на самый на край! Ну, Кирьяныч!
Но Кирьяныч ничего не слыхал. Он глядел в пол, топал ногою, перескакивая с места на место, и кричал: «Посвети! посвети!» Наконец он в последний раз страшно топнул ногою, восторженно крякнул и возвратился к столу. Лицо его сияло торжественно.
— Полно тебе пауков-то губить. Лучше бы вон что по стенам-то ползают; спать не дают… Пей, пока не простыло!
— Не грех и выпить теперь, — сказал Кирьяныч самодовольно. — Прибавь, господи, веку доброму человеку!
Перекрестился и выпил.
Когда было вышито по другому стакану, дворовый человек взял балалайку, заиграл трепака и запел:
В понедельник Савка мельник, А во вторник Савка шорник, С середы до четверга Савка в комнате слуга, Савка в тот же четверток Дровосек и хлебопек. Чешет в пятницу собак, Свищет с голоду в кулак, В день субботний всё скребет И под розгами ревет; В воскресенье Савка пан — Целый день как стелька пьян.Послышался страшный стук в двери, сопровождаемый странным мурныканьем.
— Ну, барин! — воскликнул дворовый человек. — Будет потеха: учитель идет!
— Что за учитель?
Дверь отворилась настежь и, ударившись об стену, оглушительно стукнула. Покачиваясь из стороны в сторону, в комнату вошел полуштоф, заткнутый человеческою головой вместо пробки; так называю я на первый случай господина в светло-зеленой, в рукава надетой шинели, без воротника: воротник, понадобившийся на починку остальных частей одеяния, отрезан еще в 1819 году. Между людьми, которых зовут пьющими, и настоящими пьяницами — огромная разница. От первых несет вином только в известных случаях, и запах бывает сносный, даже для некоторых не чуждый приятности: такие люди, будучи большею частию тонкими политиками, знают испытанные средства к отвращению смрадной резкости винного духа и не забывают ими пользоваться. Употребительнейшие из таких средств: гвоздика, чай (в нормальном состоянии), Гофмановы капли, пеперменты, фиалковый корень, наконец, лук, чеснок. От вторых несет постоянно, хоть бы они неделю не брали в рот капли вина, и запах бывает особенный, даже, если хотите, не запах — как будто вам под нос подставят бочку из-под вина, которая долго была заткнута, и вдруг ототкнут. Такой* запах распространился при появлении зеленого господина — я понял, что он принадлежит ко второму разряду. Всматриваясь пристально в лицо его, я даже вспомнил, что оно не вовсе мне незнакомо. Раз как-то я проходил мимо здания с надписью «Богоявленский питейный дом». У входа, растянувшись во всю длину, навзничь лежал человек в ветхом фраке с белыми пуговицами; глаза его были закрыты; он спал; горячее летнее солнце жгло его прямо в голову и вырисовывало на лоснящемся страшно измятом лице фантастические узоры; тысячи мух разгуливали по лицу, кучей теснились на губах, и еще тысячи вились над головой с непрерывным жужжанием, выжидая очереди… Долго с тяжким чувством (вы уж знаете, что у меня чувствительное сердце) смотрел я на измятое лицо, и оно глубоко врезалось в мою память. Теперь он был одет несколько иначе и казался немного старее. Кроме шинели, разодранной сзади по середнему шву четверти на три, одежду его составляли рыжие сапоги с заплатами в три яруса, и что-то грязно-серое выглядывало из-под шинели, когда она случайно распахивалась. Ему было, по-видимому, лет шестьдесят. Лицо его не имело ничего особенного: желто, стекловидно, морщинисто; на подбородке несколько бородавок, которые в медицине называются мышевидными, с рыжими завившимися в кольцо волосами, какие отпускают на бородавках для счастья дьячки и квартальные; на носу небольшой шрам; глаза мутные, серые; волосы (странная вещь!) черные, густые, почти без седин; так что их можно было бы назвать даже очень красивыми, если б не две-три небольшие, в грош величиною, плешинки, виною которых, очевидно, были не природа и не добрая воля. Но вообще вся фигура зеленого господина резко кидалась в глаза. В нем было что-то такое, что уносит с собой актер в жизнь от любимой, хорошо затверженной роли, которую Он долго играл на сцене. В самых смешных и карикатурных движениях, неизбежных у человека нетвердого на ногах, замечалось что-то степенное, что-то вроде чувства собственного достоинства, и, говоря с вами даже о совершенных пустяках, он постоянно держал себя в положении человека, готового произнесть во всеуслышание, что добродетель похвальна, а порок гнусен. От этих резких противоречий он был чрезвычайно смешон и возбуждал в дворовом человеке страшную охоту над ним посмеяться.
Дворовый человек встретил его обычным своим приветствием:
— Здравствуй, нос красный!
Казалось, зеленый господин хотел рассердиться, но гневное слово оборвалось на первом звуке; сделав быстрое движение к штофу, он сказал очень ласково:
— Здравствуй, Егорушка. Налей-ка мне рюмочку!
Дворовый человек украдкой налил стакан водою из стоявшей на столе глиняной кружки и подал зеленому господину. Зеленый господин выпил залпом. Дворовый человек и Кирьяныч страшно захохотали. Зеленый господин с минуту стоял неподвижно, разинув рот, со стаканом в руке, и наконец начал сильно ругаться:
— Ты, брат, со мной не шути! Кто тебе позволил со мною шутить? Меня и не такие люди знают, да со мной не шутят. Вот и сегодня у одного был… Действительный, брат, и кавалер… слышишь ты, кавалер… тебя к нему и в прихожую-то не пустят. А меня в кабинет привели. «Жаль мне тебя, — говорит, — Григорий Андреич (слышишь, по отчеству называл!), совсем ты пьянчугой стал; смотри, сгоришь ты когда-нибудь от вина, — говорит. — Не того, — говорит, — я от тебя ожидал… Садись, — говорит, — потолкуем о старине»… и графинчик велел принести… Вот я и заговорил… Знаю, о чем говорить: с Измайловым был знаком… к Гавриилу Романовичу был принимаем. У Яковлева на постоянном жительстве проживал… Не знаешь ты, великий был человек!.. вместе и чай, и обедали, и водку-то пили… Да и сам я: ты, брат, со мной не шути… у меня, брат, знаешь, какие ученики есть… вот один… у, какой туз!.. А мальчишкой был… кликну, бывало, сторожа, да и ну… никаких оправданий не принимал… Вот мы всё с ним вспоминаем, смеемся… «И хорошо, — говорит, — вот оттого я теперь и в люди пошел, — говорит, — что вы меня за всякую малость пороли… я вас, — говорит, — никогда не забуду», да и сует в руку мне четвертак… «Смолоду, — говорит, — человека надобно драть, под старость сам благодарить будет»… Знаешь, как мне, братец, платили… А ты… ты… вот поди ты служить: по пяти рублей на год да по пяти пощечин на день… Таланты разные имел: нюхал, брат, не из такой (он щелкнул по берестяной табакерке)… Золотая была… да было и тут… один палец, брат, восемьсот рублей стоил. А всё ни за что; так — за стихи?.. Я, брат, какие стихи сочинял!..
Зеленый господин так заинтересовал меня своим рассказом, что я впоследствии навел о нем справки. Сгоряча он много прилгнул, но в словах его была частица и правды. Давно, лет сорок назад, окончив курс в семинарии, он вступил учителем в какое-то незначительное училище и дело свое вел хорошо. Правда, любил подчас выпить лишнюю чарку, но от него менее пахло вином, чем гвоздикой, и нравственность учеников не подвергалась опасности. Снисходительное начальство училища, ценившее в нем человека даровитого и способного к делу, старалось кроткими мерами обуздать возникавшую страсть. Но страсти могущественнее даже начальства, как бы оно ни было благородно и снисходительно. Заметили, что с некоторого времени при появлении зеленого господина а классе распространялся запах, который мог подать вредные примеры ученикам. Наконец, к довершению бед, зеленый господин пришел однажды в класс не только без задних ног, но и без галстука, и, вместо того чтоб поклониться главному лицу училища, которое вошло в класс и село на краю одной из скамеек, занимаемых учениками, обратился к нему с вопросом: «А какие глаголы принимают родительный падеж?.. А, не знаешь? А вот я тебя на колени!»
Его отставили, и место его отдали молодому человеку, который в полной мере оправдал честь, ему оказанную: не пропускал классов, был почтителен к старшим и, женившись вскоре на сестре главного лица, совершенно отказался от треволнений, неразлучных с холостою жизнию. Зеленого господина отставили, но по ходатайству одного доброго человека и в уважение прежних заслуг дали ему небольшой пенсион. Остальное понятно: бездействие скоро усилило в нем страсть к вину, и нечувствительно дошел он до того положения, в котором мы с ним познакомились. Интересна жизнь, которую вел он в подвале. Еще за несколько дней до первого числа каждого месяца; хозяйка неотступно следовала за ним и так приноравливала, что накануне первого числа он всегда напивался дома. Поутру она отправлялась с ним за «получкой», вычитала следующие ей деньги, а с остальными зеленый господин уходил бог знает куда и пропадал на несколько дней. Возвращался пьяный, нередко избитый, в грязи и без гроша. В остальные дни месяца он почти ежедневно обходил прежних своих товарищей по службе, учеников, которые теперь уже были взрослые люди, наконец, всех, кого знал в лучшую пору жизни, — везде давали ему по рюмке вина, инде и по две; где же не давали, оттуда уходил он с проклятиями и долго потом, лежа на своих нарах, сердито толковал сам с собою о неблагодарности. Что ж касается до стихов, то очень немудрено, что зеленый господин и действительно писал стихи: в русском государстве все пишут или писали стихи и писать их никому нет запрета. Впрочем, последний пункт своего рассказа зеленый господин не замедлил подтвердить доказательствами. Он вытащил из-за сапога две тощенькие лоснящиеся брошюры в 12-ю долю листа, уставил их перед глазами дворового человека и, поводя указательным пальцем со строки на строну заглавной страницы, говорил торжественно:
— Видишь, видишь, видишь… а?.. видишь ли?
Но дворовый человек с негодованием оттолкнул брошюры и возразил с жаром, доказывавшим, что в нем говорит убеждение:
— Ты мне этим не тычь! Что ты мне этим тычешь! Я, брат, не дворянин: грамоте но умею. Какая грамота нашему брату? Грамоту будешь знать — дело свое позабудешь… А вот ты мне награждение-то покажи! Что, небось потерял али подарил кому?.. Ты ведь добрейший… Сам не съешь, да другому отдашь. Знаю я… кто намедни у меня ситник-от съел?
— Продал, так и нет, — отвечал зеленый господин с меланхолической грустью. — Где нюхать нашему брату на золотой табакерки, на пальцах самоцветные камни иметь!
Он махнул рукою и отравил последнюю струю чистого воздуха продолжительным вздохом.
Между тем я взглянул на брошюры. Одна из них была на всерадостный день тезоименитства какого-то важного лица тех времен, другая на бракосочетание того же лица. Обе были написаны высокопарными стихами и заключали в себе похвалы важному лицу, которое поэт называл меценатом. Такие брошюры загромождали русскую литературу в доброе старое время, потому что русская литература началась с хвалебных гимнов на разные торжественные случаи, и пиита обязан был держать всегда наготове свое официальное вдохновение; за то его и хлебом кормили, а за неустойку больно били палкою. Известен анекдот о Тредьяковском, которого Волынский собственноручно наказал тростью за то, что Тредьяковский не изготовил оды на какой-то придворный праздник. Поэт Петров официально состоял при Потемкине в качестве воспевателя его подвигов и для того, во время его походов, всегда находился в обозе действующей армии. По примеру великих земли и маленькие тузы или козырные хлапы имели своих пиитов и любили получать от них оды в день рождения, именин, бракосочетания, крестин дитяти, получения чина, награды и в подобных тому торжественных случаях их жизни; за то они позволяли пиите садиться на нижний конец стола обедать уже с собою, а не с слугами, как в обыкновенные дни, подпускали его к целованию своей руки, дарили его перстнем, табакеркою, деньгами, поили его допьяна и потом тешились над ним, заставляя его плясать. А пиита величал их своими благодетелями, меценатами, покровителями, отцами-командирами и «милостивцами». В начале XIX столетия этот род литературы начал заметно упадать; 1812-й год нанес ему сильный удар, а романтизм, появившийся с двадцатых годов, решительно доконал его. И теперь эта «торжественная» поэзия считается уже синонимом «подлому стихотворству». Так изменяются правы! Теперь уже за листок дурных виршей, наполненных высокопарною, бессмысленного и низкою лестью, нельзя от какого-нибудь барина получить на водку, перстенек, табакерку, 500 или 100 рублей денег — и еще менее можно приобрести звание поэта! Вероятно, это одна из причин, почему старички, запоздалые остатки доброго старого времени, так сердиты на наше время, с таким восторгом и с такою грустью вспоминают о своем времени, когда, по их словам, всё было лучше, чем теперь.
— Ерунда[19], — сказал дворовый человек, заметив, что я зачитался. — Охота вам руки марать!
— Ерунда! — повторил зеленый господин голосом, который заставил меня уронить брошюру и поскорей взглянуть ему в лицо. — Глуп ты, так и ерунда! Когда я подносил их его превосходительству, его превосходительство поцеловал меня в губы, посадил рядом с собой на диван и велел прочесть… Я читал, а он нюхал табак и говорит: «Понюхай». — «Не нюхаю, — говорю, — да уж из табакерки вашего превосходительства…» — «Нюхай, — говорит, — ученому нельзя не нюхать», и отдал мне табакерку… С тех пор и начал я нюхать. Велел приходить к обеду… посмотрел бы ты, как меня принимали… всякий гость обнимал… а какие всё гости… даже начальник его превосходительства поцеловал… я после и ему написал… Напился я пьян… говорю, как с равными, а они ничего, только хохочут. Всяк к себе приглашение делает… Ерунда!
И что-то похожей на чувство мелькнуло в глазах зеленого господина, и долго с поднятою рукою стоял он посреди комнаты и вдруг качнул головой и сказал голосом, который очень бы шел Манфреду, просившему у неба забвения: «Налей, брат, мне, Егорушка, пожалуйста, рюмочку!»
Дворовый человек налил стакан вина, подозвал зеленого господина и выкинул новый жестокий фарс: поднес стакан к губам зеленого господина и вдруг, когда уже тот вытянул губы и совсем приготовился пить, отдернул стакан и выпил сам. Но зеленый господин уже не рассердился: чувство собственного достоинства, окончательно побежденное запахом сивухи, коснувшимся обоняния, замолчало. Он стал униженно просить дворового человека «не шутить»…
— Попляши, поднесу…
И зеленый господин без отговорок начал плясать. А дворовый человек, приговаривая: «Еще! еще! лихо! лучше вчерашнего! ну, немножко еще!», — накапал в стакан сала из ночника, всыпал щепоть табаку и целую горсть соли, долил вином и пальцем всё размешал. Мне стало страшно.
Я просил не давать зеленому господину этого страшного эликсира, говоря, что он уже и так сильно пьян.
— Пьян! вот те раз — пьян! Слыхал я от умных людей и от девок, — отвечал дворовый человек, продолжая размешивать, — падает человек — не пьян, языком шевелит — не пьян; двое ведут, да третий ноги переставляет, вот пьян!
— И лежит да не дышит — тоже пьян, — отозвался Кирьяныч, разбуженный пляскою зеленого господина. — А-а-а… Го-спо-ди, по-ми-луй!
Зеленый господин выпил и похвалил. Вслед за ним выпили дворовый человек и Кирьяныч. Сделалось шумно. Зеленый господин добровольно вызвался еще поплясать, но только под музыку. Дворовый человек заиграл на балалайке и запел, пристукивая ногами и даже по временам откалывая небольшие плясовые коленцы. Кирьяныч, которому удалось раздавить еще паука, необыкновенно развеселился и каждый прыжок зеленого господина сопровождал трагическим хрюканьем, вроде хохота, а зеленый господин прыжки свои сопровождал икотой и бранью, непосредственно следующей у русского человека за каждым разом, когда икнется, да еще дикими вскрикиваньями… Но всего интереснее была тут песня дворового человека:
Лет пятнадцати не боле Лиза в рощицу пошла И, гулявши в чистом поле, Жука черного нашла, — Жука черного с усами И с курчавой головой, С черно-бурыми бровями — Настоящий милый мой! Завяжу жука в платочек, Понесу его домой, Дам я сахару кусочек — Кушай, кушай, милый мой! Злая тетка увидала — Разворчалась на него, Лизе строго приказала: «Выбрось жука за окно!» Я не слушалась приказу — Брошу жука под кровать, А на будущее лето Разведу жуков опять. . . Вот вам, девушки, наука! Но ходите в лес гулять, А найдете того жука — Не кладите под кровать.Как ни шумно пировали мы, однако ж пронзительный, нечеловечески дикий крик, раздавшийся вне комнаты, был тотчас нами услышан и в минуту сковал наши языки и движения. Это был крик, какого я уже не слыхал во всю остальную жизнь, — крик, в котором отзывалось всё: и противное карканье почуявшей непогоду вороны, и токующий глухарь-тетерев, и молодой, бодрый конь, спущенный с аркана и весело заржавший, почуяв свободу и поле, и поросенок, которого палят живьем, и человек, которого вешают. Не успели мы переглянуться, к нам вбежала старая баба, с лицом до того испуганным, что я едва узнал в ней хозяйку. Она ломала руки и кричала: «Ах батюшки!»
— Что такое? — спросил я в недоумении.
— Ничего, — отвечал дворовый человек хладнокровно. — Видно, опять напилась?
— Напилась… ей-богу, навилась, вина у рту… схватила нож: зарежусь, говорит, и всех перережу. Батюшка Егор Харитоныч!
— А пускай бы ее резалась.
— Оно так. Туда ей и дорога, коли лучшего конца себе не надеется, да ведь никогда не случалось… и для жильцов нехорошо… Надзиратель приедет. Деньги все, поди, просила, и за шубу полсотни давали… а уж где шуба? Сама своей души не жалеет, на саван не оставляет. Батюшка Егор Харитоныч, ведь похоронить не на что будет!
Дворовый человек и Кирьяныч отправились за хозяйкою. Любопытство заставило меня последовать за ними. Через дверь, с которою уже, если помнят читатели, я был хорошо знаком, мы вошли на половину хозяйки. То была точно такая же комната, как и наша, но убранная несколько иначе и лучше. В двух углах стояли кровати, а два остальные были загорожены ширмами, с которыми соединено было то удобство, что можно было заниматься чтением «Северной пчелы», которою ширмы были оклеены. На пол-аршина от потолка во всю длину стен были прибиты, как в крестьянских избах, узенькие полочки, на которых стояла деревянная и черепяная посуда. Посреди комнаты происходила сцена, достойная точного и возможно искусного описания. По полу каталась женщина в полном цвете бальзаковской молодости, с красными, как бурак, одутловатыми щеками, и задыхающимся, визгливо-пронзительным голосом кричала: «А… а… а… а… ой… батюшки!.. а… ой… умру!.. умру!.. умру!.. а… а… а… а!» Как у разгоряченной лошади, изо рта била клубами пена, которая клочьями падала на пол и размазывалась по лицу; руки беснующейся были в крови: в беспамятстве она их кусала. Ее окружали три женщины — две старые и одна пожилая, все беременные, которые при каждом повороте кликуши боязливо отскакивали и при каждом новом порыве ее бешенства вскрикивали в один голос: «Ай!» Нужно еще упомянуть об одном обстоятельстве: из-за ширм (влево от двери) раздавался тоненький голосок, напевавший с совершенной беспечностию немецкую песенку, которую очень любят все петербургские немки:
Mein lieber Augastin, Alles ist weg![20]Вдруг кликуша оглушительно визгнула, простонала: «Ой тошно! Ой батюшки, тошно! Отпустите душу на покаяние! Нож!.. нож!.. нож!..» — и вскочила на ноги.
Нож лежал на полу, и кликуша несколько раз через него перекатывалась, но ни у которой из женщин недоставало смелости поднять его. Дворовый человек выступил вперед, заступил нож, насупил брови и закричал грозно:
— А на что тебе нож, проклятая ведьма? На что тебе нож? Вот я дам тебе нож… Кирьяныч! а Кирьяныч… тьфу! ты какой! да поди же сюда… Надо бешеную бабу…
Но Кирьяныч в ту минуту страшно стучал сапогами, подпрыгивая, чтоб настичь рукою паука, уходившего к потолку, и ничего не слыхал.
Дворовый человек плюнул, не торопясь развязал ремень, которым был подпоясан, и, устремив на кликушу невыносимо свирепый взгляд, произнес со всею силою и энергиею голоса: «Вязать!»
И вдруг кликуша задрожала всем телом, и бешеное выражение в лице ее в минуту уступило место кроткому и молящему; как сноп повалилась она к ногам дворового человека и жалобно запросила пощады…
— На место! — закричал торжествующий укротитель, делая трагический жест рукою. — Цыц! пряничная форма! (Кликуша была рябая, — метко выражается русский человек.) За работу! — прибавил он, топнув ногою. — Только пикни, свяжу, да так в помойную яму и брошу!
Хозяйка усадила кликушу, дала ей работу, и укрощенная беспрекословно принялась шить, страшась поднять глаза на дворового человека, который с минуту еще смотрел на нее, как говорится, сычом и на разные тоны повторял: «Цыц! цыц! цыц!»
Чтоб объяснить сколько-нибудь эту сцену, я должен рассказать здесь то, что узнал уже впоследствии. Терентьевна не была в самом деле кликушей, как зовут у нас на Руси всех одержимых какою-нибудь дурью баб, но быта весьма склонна к белой горячке, которая периодически возвращалась к ней после каждых десяти суток беспробудного пьянства. Дворовый человек уже неоднократно, по вызову хозяйки, являлся на выручку из беды и каждый раз при помощи того же простого и крайне дешевого средства, какое употребил за минуту, возвращал бешеную бабу к покорности и даже вышибал из нее хмель. Происходило ли то в самом деле от необычайной дикости его голоса и свирепости взгляда, как думали старухи, или была на то особенная воля судеб, или просто так хотел случай, — как бы то ни было, но дворовый человек пользовался за магнетическую способность свою большим уважением хозяйки и ее постоялок. Впоследствии он придумал даже способ извлекать из влияния, которое имел на кликушу, пользу существенную: усмирив кликушу, он отдавал ей в починку худое белье свое, — оставаясь в таких случаях в том, в чем оставалась левая нога его, когда он чинил сапог, — и кликуша не смела тронуться с места, покуда работа не была кончена…
На возвратном пути я мимоходом заглянул за ширмы, откуда раздавался тоненький голосок, и увидел молодую миловидную женщину, которая также, подобно прочим жилицам подвала, отличалась полнотой неестественной.
— Отчего они все беременны? — спросил я, когда мы пришли в комнату.
— Известно отчего, — отвечал дворовый человек. — Ну вот хоть бы у вас жила кухарка… горничная… мамзель какая-нибудь, замужняя или так. Вдруг господь прибыль дает… сами знаете — держать не станут… Куда?.. Не пойдешь среди улицы: не такое дело. Федотовна — баба добрая… сальных свеч не ест… «Поживи, мать моя! Поживи, голубушка! Я тебя не обижу!» Вот на время и к ней. А там — дело уладилось — и опять место найдет… Всякий видит — талия с перехватцем. А умрет, не вынесет — Федотовна и того вдвое рада… Вор-баба! Без мыла в душу влезет… изойди весь свет, другой не найдешь! В Москве есть, говорят, две, да те похуже… хоть кого окальячит… У отца родного крест с шеи снимет… Намедни умерла роженица… Она инда в слезы; охает, ахает… до ниточки всё прибрала… дряни набила в сундук… «Куды! — говорит, — у покойницы ни роду ни племени! Нищим надо отдать!.. Пусть, — говорит, — за покойницу молятся… ничего себе не возьму, ничего, не пойдет впрок чужое добро!» Позвала нищих; всё мальчишки, девчонки… мал мала меньше; ну уж какое вино?.. только два старика. Пообедали… напоила, да у них же и украла платок… вот сейчас не сойти с места… Вчерась в нем в церковь ходила, рублев десятка стоит. Известно, тоже у господ украден: нищему где платок покупать! А что, Кирьяныч, дерябнем-ка еще по стакану!
Он подошел к столу и ахнул от ужаса: штоф был пустехонек. Выругавшись, дворовый человек принялся пинками будить зеленого господина, заснувшего сном невинности среди, полу, но зеленый господин не шелохнулся и только отвечал на пинки и проклятия стихами из брошюры на тезоименитство, полными благословений и радостных пожеланий. Впрочем, я думаю, что он бредил: к подобному великодушию человек в здравом рассудке едва ли способен.
— Нечего собаке делать, так хвост лижет! — сказал дворовый человек с трогательным состраданием; взял в одну руку шапку, в другую штоф. — Вот одолжил, как уж кабаки заперлись!
— Что ты, голова? Лучше же завтра будет у нас на что пообедать.
— Была не была! Уж неужто так и не выпить?.. Авось.
— И то сказать, — заметил Кирьяныч, внутренно обрадованный, — голенький ох, а за голеньким бог.
За первым стаканом взаимно признались в расположении, которое почувствовали друг к другу при первой встрече; за вторым — заплакали, обнялись и неоднократно поцеловались; за третьим — побранились; за четвертым — последовала естественная и неизбежная развязка незатейливой драмы, которую я здесь безыскусственно рассказал: герои ее подрались…
Поутру, впросонках, я слышал какой-то отрывистый разговор, который меня очень заинтересовал.
— Собаки есть?
— Есть, пара. Кирпичная, белая с крапинами…
— Крапины серые?.. левое ухо прорезано? на хвосте черное пятнышко?
— Кажись, так. Полюбопытствуйте.
Впросонках человек бывает ленив: мне страх хотелось посмотреть на раннего посетителя, но страх не хотелось повернуться и открыть глаза. Я так и не посмотрел. Впрочем, впоследствии я встретился с ним лицом к лицу: очень интересный господин! Очередь придет — познакомлю.
* * *
Здесь на сей раз простимся мы с записками Тростникова (объяснение — кто такой Тростников, завело бы слишком далеко, и потому оно здесь выпускается), из которых извлекли отрывок, предлагаемый благосклонному вниманию читателя.
Очерки литературной жизни*
Владимир Иванович Хлыстов был молодой человек с независимым состоянием и писал стихи. Другого никакого занятия у него не было, но он почитал для себя и это достаточным, потому что надеялся своими стихами произвести переворот во вселенной и перевоспитать всё человечество. В ожидании этого благодетельного переворота он, когда не творил стихов, ездил в театр, да в танцкласс к мадам Б., да еще кое-куда, бил баклуши с половины третьего до четырех на Невском проспекте и кутил с своими приятелями, в твердой уверенности, что поэт непременно должен кутить.
Кто-то из писателей очень метко охарактеризовал известный разряд петербургской пишущей братии названием «тли».
Господин Хлыстов, не во гнев ему будь сказано, именно принадлежал к этой «тле». Что касается до его приятелей, то они также были, по значению, не более как подобная Владимиру Иванычу тля…
«Тля, тля и тля!» Вы морщитесь… Вам кажется странным, неуместным, что я, желая сделать «очерки литературной жизни», заговорил с вами о тле… Вы скажете: да неужели у нас в литературе нет ничего, кроме тли? Сохрани меня бог утверждать такую нелепость!.. Нет, милостивые государи, я очень хорошо знаю, что в Петербурге есть литераторы, которых одно имя внушает уважение, есть журналисты, которых физиономии заключают в себе нечто «внушающее» и свидетельствующее об их неутомимом трудолюбии, есть заслуженные двадцатилетние любимцы публики, есть… но не перечтешь всех, какие в петербургской литературе попадаются тузы… Но тузы у всякого на глазах; их действиями литературными и нелитературными, их жизнью, даже частного жизнью во всех ее мелочах, интересуются, и укажите мне хоть одну петербургскую знаменитость, которой история не была бы известна публике как пять пальцев?.. Если и удавалось кому в течение нескольких лет с успехом окружить себя интересующим мраком таинственности, зато, когда наконец случай хоть немножко приподнимал завесу, — всё тотчас выводилось наружу с удивительною поспешностью, и о добродетелях такого «субъекта», долго таившихся под спудом, начинал трубить весь город. А тля? Кто ею интересуется? Кто, бесстрашный, решится спуститься туда, где настоящее ее местопребывание, чтоб выследить ее жизнь, нравы, обычаи? А это нелегко. Я даже думаю, что окажу вам услугу, раскрыв перед вами некоторые явления в мире этой «тли», те явления, которые не были еще раскрыты.
Люди, с которыми я хочу теперь знакомить вас, — всё люди великие. Каждый из них имеет своих поклонников и в большем или меньшем количестве обер-офицерских семейств, куда по воскресеньям ходит обедать, слывет гением. Люди эти, следовательно, не так ничтожны, как думают. Петербургский чиновник не любит и ни о чем не имеет времени думать, что выходит из круга его занятий. Однако ж он иногда чувствует потребность иметь о том или другом предмете какое-нибудь мнение. Что бы стал делать он при таком положении дел, если б раз в неделю не посещал его «сочинитель», который всё знает, у которого всё можно спросить?.. Поймите же великое значение для Петербурга презираемой вами тли. Их мнения принимаются на слово и повторяются сотнями почтенных и благонамеренных людей; они, следовательно, дают направление массе, они устанавливают тот голос, который называют гласом публики. Каков этот голос, это другой вопрос… Довольно сказать вам, что без тли Петербургу было бы плохо. Пришлось бы иногда самому думать о таких вещах, о которых думать совсем нет ни охоты, ни времени.
Хлыстов занимал квартиру, каких много в Петербурге и какие для холостяков очень удобны: две комнаты с кухней и прихожей. Квартирка его убрана была, как убирают в Петербурге люди средней руки и среднего состояния: красные диваны, вместо шерсти набитые мочалой, а дерево кресел хотя и красно, однако ж совсем не красное.
Хлыстов ждал гостей: вышла новая его поэма, и он решился задать пирушку, чтобы задобрить издателя некоей газеты… В утреннем голубом сюртуке с плюшевым воротником и шелковыми кистями, в бархатной феске с золотым ободочком и красной кисточкой, в желтых туфлях, с умыслом прорванных на большом пальце правой ноги, Владимир Иваныч медленно прохаживался по своему кабинету, и душа его тонула в блаженном созерцании самого себя и своей квартиры. «Если б, — думал он, — кто-нибудь вздумал написать из меня повесть, он, верно бы, описал прежде всего мой кабинет, и, надеюсь, тут ему довольно было бы работы…» При этом Хлыстов самодовольно взглянул на кучу разных безделушек, развешанных по стене, расставленных по сторонам, размещенных по этажеркам и подоконьям, сделал гримасу портретам, сказав: «Эх, вы!», и потом заглянул мимоходом в зеркало. «Описавши кабинет, он, верно, начал бы так: „Молодой хозяин кабинета…“» И тут Хлыстов не мог удержаться от улыбки, подумав, что повествователь уж никак бы не мог пропустить, что хозяин очень недурен собою. Эта мысль заставила его быстро подойти к зеркалу, и уже на этот раз он стоял перед ним довольно долго, потом начал шибко ходить, страшно отбрасывая ноги по сторонам и декламируя какие-то стихи своего сочинения. Потом он произнес: «Вот черт возьми!» — и задумался. Подумав с минуту, он вскочил и с необыкновенною живостью закричал: «Ванька, трубку!» — и опять сел… Прошла минута, ни Ваньки, ни трубки не было. Он побежал в кухню с сердитым лицом, разбудил Ваньку, крикнул, что он только спит и даром ест у него хлеб, погрозил высечь и, с гневом возвратившись в кабинет, сел и начал что-то насвистывать. Ванька подал ему трубку, которую набил из стоявшего тут же курительного снаряда.
В то время раздался звонок. Входит молодой человек невысокого роста, черноватый, в оливковой венгерке и в красном шарфе, — один из тех праздношатающихся молодых людей, которые попадаются во всех гостиницах Невского проспекта и всюду, где есть на что поглазеть. Сам он ничего не сочинял, но был друг со многими второстепенными сочинителями и актерами и с гордостью говорил, что решительно не пропускает ни одного спектакля в Александрийском театре. И он не лгал.
Он имел искусство, при довольно хорошем состоянии, быть всегда без денег. Получив их, он тотчас делал пирушку, сзывая всех актеров, сочинителей и другого рода «артистов», кутил с ними до той поры, пока в кошельке душа была. Зато все артисты говорили ему «монгдер» и на шумных пирушках экспромтом произносили в честь его стихи, которые он заучивал наизусть и хранил в памяти, как драгоценность. Он готов был пробыть два дни без еды (что не раз и случалось), только бы пройтись по Невскому в новом шарфе, заплатить бенефицианту тройную цену за кресло в первом ряду и проехаться в коляске мимо окон той, которой посвящались аплодисменты его терпких рук и вздохи страстного сердца. Замечательно, что страсть кататься именно в коляске, — потому что в карете не всякий его увидит, — осталась в нем господствующею и тогда, как все другие исчезли, подавленные, как ртуть в термометре во время мороза, постоянным безденежьем. Он навещал своих приятелей пешком, когда ему решительно нечего было ни заложить, ни продать, ни занять. Когда же появлялись деньги, он по два, по три, по четыре дни сряду разъезжал с утра до вечера по улицам, гордо посматривая вокруг себя, кланяясь знакомым и незнакомым, по нескольку раз объезжал всех своих приятелей, завозил их по домам, по кондитерским, по театрам, и в эти торжественные дни самодовольная улыбка ни на минуту не спалзывала с лица его; он был счастлив, хотя нередко можно было поручиться, что сам он не знает, где и будет ли завтра обедать. Еще любил он похвастать всем, что приходило ему на ум: значительностью своих родственников, красотою своей покойной матери, пирушками, которые задавал в старину, рысаком своего брата, балом, который задаст на своей свадьбе, интригой, которую непременно довел бы до благополучного конца, с какой-то губернаторшей, если б не помешал сам губернатор, и так далее. Приятели считали его добрым малым, но сам он был о себе мнения высокого и особенно находил в себе много остроумия. Поэтому острил, отпускал плоскости на каждом шагу и любил экспромтом рассказывать анекдоты, говоря всегда с примесью водевильных куплетцев, которых знал множество. В ту минуту, как он входил в кабинет Хлыстова, лицо его сияло необыкновенным весельем, глаза самодовольно блистали: по всему видно было, что он приехал в коляске.
— Наше вам почтение-с, с пальцем девять-с, с огурцом пятнадцать! — сказал он, пародируя голосом и жестами актера, который с ловкостью передразнивает петербургских апраксинцев, и вслед за тем запел:
Здравствуй, кум ты мой любезный, Здравствуй, кумушка моя. Вот вам в лицах суд уездный И измученный судья!— Ну что, каково изволили почивать-с? — продолжал он же останавливаясь. — А со мной случилась сейчас (и тут он уже заговорил собственным тоном) прекурьозная гистория: еду, братец, я в коляске… ты знаешь, я иначе не езжу… навстречу идет такая странная фигура в фризовом сюртуке… Я, братец, снимаю шляпу и кланяюсь ей с глубочайшим почтением; она так и разинула пасть, остановилась, глядит на меня во все глаза. Кучер кричит: «Пади! пади!»… И что ж, братец? Вот диво, уж подлинно нечаянный каламбур: она в самом деле зашаталась да и упала перед самыми лошадьми…
Но господин в оливковой венгерке принужден был остановиться на самом патетическом месте своего рассказа: снова раздался звонок. Запыхавшись и отряхивая со шляпы легким хлыстиком свежий, только что выпавший снег, в кабинет вбежал молодой человек, одетый в темно-зеленый фрак, в бархатном жилете и лакированных сапогах.
— Bon jour[21], душенька! Как поживаешь? — сказал он, подскакивая к Хлыстову и покрывая его щеки поцелуями. — А, Зубков (так звали господина в венгерке), ты уж здесь. Я так и думал — коляска стоит у подъезда; кому, думаю, кроме тебя, приехать в коляске!.. Только, братец, воля твоя — подгуляла!
— Чем же? — произнес Зубков и поспешил подойти к окну, чтоб удостовериться, действительно ли она подгуляла.
— Ну вот, — продолжал новопришедший, оглядывая кабинет Хлыстова с чувством родственного участия, потому что всё в нем, кроме стен и полов, было, так сказать, творением рук его. — Кабинетец стал хоть куда, настоящий литераторский, как подобает у артиста! — В Петербурге, в некотором кругу, есть обычай называть «артистами» всех, кто не чиновник, не военный и не купец. — И письменный стол, и этажерка, и Вольтеры, и полочка для книг, и ящик для рукописей… Поздравляю, поздравляю от всего сердца! — Он чмокнул Хлыстова в губы и продолжал не останавливаясь: — Ах, какая чудесная палка! Где ты, монтер, достал? Что за уморительная рожа. Китаец, должно быть, китаец… мандарин пятой степени!.. Ха-ха-ха… и с золотом… отделка чудесная… Ба! даже н наконечник-то золотой… А уж рожа, какая рожа! — он чмокнул ее. — Просто я влюбился в твою палку… Не могу расстаться!.. Ей-ей, не могу… Продай, братец! Сколько хочешь возьми… Или дай хоть на недельку… Я вынесу ее на сцену… Ха! ха! ха! Уморю всех… Ну так даришь, что ли, моншер?
— С удовольствием, — отвечал Хлыстов. — Очень рад, что она тебе нравится.
— Ну так по рукам! Какой ты милашка, моншер! — Он опять чмокнул его. — Я тебе сам что-нибудь подарю… или нарисую в альбом… Ты знаешь, как я рисую… Так, что ли?
— Ну, пожалуй, так. Что за счет между друзьями!
— И в самом деле… Умно! Что за счет между друзьями… особенно между такими, как мы… ведь я тебя, душенька, люблю всем сердцем, всею душою, всем помышлением…
Молодой человек с хлыстиком в третий раз поцеловал Владимира Ивановича и начал прохаживаться, опираясь на новоприобретенную трость и напевая куплет из недавно разыгранного водевиля:
Да, истинно актеры жалки: Должны лишь публикою жить, Работать век свои из-под палки И маску целый век носить.Нетрудно догадаться, к какому классу принадлежал этот любезный и ловкий молодой человек. Он был актер. Любезность составляла главную черту его характера, и эта любезность была так наивна, так обаятельно-вкрадчива, что нельзя было не плениться ею, особенно с первого раза. Оттого все молодые люди, знавшие его не коротко, были от него, как говорится, без ума, а знали его все, кто только ходил в театр. Можно было наверное сказать, что он в дружбе по крайней мере с половиною города. К такому обширному кругу друзей способствовала легкость, с которою он заводил знакомства. Поговорив не более пяти минут с человеком решительно незнакомым, он уж звал его другом, моншером, ангелом, душенькой, лобызал при каждом слове, говорил ему ты, выпрашивал у него на память какую-нибудь вещицу и оставлял очарованным от своего деликатно-добродушного обращения и артистического достоинства. Говорили, что будто сердечные порывы его в таких случаях были по расчету и что он никогда не заведет знакомства, если нельзя было чем-нибудь поживиться; носились даже слухи, что для поддержания температуры его дружбы требовалось время от времени дарить его… Но как же можно верить слухам? Что касается лично до Хлыстова, то он готов был проспорить сто тысяч против одного, что друг его был действительно таков, каким казался. Хлыстов готов был идти за него в огонь и в воду. К подробнейшему объяснению характера этого артиста должно прибавить, что он был во всем большой знаток, славился необыкновенным изяществом вкуса, очень счастливо играл в карты и был услужлив не на одних словах: доказательством тому может служить рачительность, ловкость и искусство, с которыми он убрал квартиру Хлыстова. Деятельность его при этом случае была изумительна. Он сам торговался с мебельщиком и обойщиком, по нескольку раз заходил к ним, смотрел их работы вчерне, испытывал прочность и сухость дерева, закупал обои, наконец, сам расставлял мебель и вешал зеркала и портреты. Благодаря ему квартира Хлыстова в две недели убрана была, как игрушка. Подобную услугу он оказал многим и всем умел угодить.
Зубков продолжал смотреть в окно. Актер ходил и пел. Хлыстов курил и думал о своих стихах… Вдруг Зубков с живостью отскочил от окна, схватил актера за руку и сказал:
— Послушай, братец, я тебе расскажу удивительный анекдот…
— Знаю я твои анекдоты, — возразил актер. — Небось опять что-нибудь случилось, как ты ехал в коляске…
— Именно. Еду, братец, я… ну, как всегда… в коляске… навстречу идет…
Тут Зубков рассказал то, что мы уже знаем, и продолжал:
— Странная морда в самом деле зашаталась и повалилась на мостовую перед самыми лошадьми. Я кричу кучеру…
— Извозчику, — заметил актер.
— Ну, извозчику, всё равно. Кричу: «Стой! стой!» Выскакиваю из коляски, гляжу: красная морда лежит без движения, пена у рта, вся посинела, глаза выкатились. Народа собралось пропасть. Кричу: «Доктора! доктора! Нет ли между вами доктора?» Выходит здоровый, плотный мужик в полушубке и говорит: «На что, сударь, доктора?» Поднял синюю морду, поставил на ноги да как хватит ее во всю мочь кулаком по затылку. Так из горла и…
Но судьбе угодно было, чтобы развязка анекдота, которым так нетерпеливо желал разрешиться остроумный рассказчик, снова отсрочилась. Пришли разом три гостя: первый был по ремеслу фельетонист и отличался величавостью осанки и глубокомысленностью взгляда; другие два были: подслеповатый поэт Свистов, отличавшийся чрезвычайною резкостью суждений, и небольшой толстенький водевилист, он же и драматург, Посвистов, с лысиной, очень искусно скрытой, известный в своем кругу обыкновением пить но утрам водку вместо чаю, страстью повторять чужие каламбуры и мнения, за недостатком своих, и достойным удивления искусством вставлять в «свои» водевили, переводимые с французского, разные анекдоты и случаи из русской жизни, которые удавалось ему подслушивать. Поэт был еще очень молод, водевилист-драматург уже в летах; но разность возрастов не мешала им питать друг к другу самую нежную дружбу, возникшую вследствие тонкого расчета самой природы: оба они одинаково любили опорожнивать бутылки, оба чувствовали одинаковую потребность в слушателе своих произведений, который показывал бы признаки глубочайшего внимания и умел при случае сделать умное замечание; наконец, оба любили острить и слышать одобрение, выраженное громким хохотом. Всё это выполняли они взаимно с изумительной точностью и, кроме того, оказывали друг другу некоторые услуги более существенные: водевилист-драматург подбирал к стихотворениям поэта, не знавшего немецкого языка, эпиграфы из Гете, Шиллера и Жан-Поля. Поэт, любивший до безумия ночные прогулки, луну, деву, мечту, слякоть и другие принадлежности петербургской ночи, всякий раз доводил или довозил драматурга-водевилиста (не слишком твердого на ногах и не чувствовавшего себя на улице в темную ночь в достаточно храбром расположении духа) до самого дома с дружеских вечеринок, на которых они обыкновенно дольше всех засиживались, с редким единодушием опоражнивая недопитые бутылки и поверяя друг другу со слезами умиления свои сердечные тайны.
— Ну, что нового в литературе, господа? — спросил актер, когда друзья уселись и закурили по трубке.
— Ничего, — отвечал многозначительно белокурый фельетонист.
— Я кончил свою поэму «Колыбель человечества», — сказал длинный поэт. — Но знаю, что скажут другие, но мне кажется она лучшим моим произведением. Я вот ему (поэт указал на драматурга). читал ее: он очень хвалит.
— В последнее десятилетие, — с поспешностью подхватил драматург, — никакое произведение нашей литературы так глубоко не западало мне в душу. Жена моя просто впала в истерику; говорит, не читала отроду ничего превосходнее.
Услышав слово «жена», Зубков тотчас выскочил вперед и запел:
Жена, действительно, как древо Познания добра и зла: Посмотришь справа, взглянешь слева, Так браки — чудные дела…Никто не обратил внимания на его выходку. Разговор продолжался.
— Супруга его имеет очень тонкий и образованный вкус, — скромно сказал поэт, указывая на драматурга.
— Поверите ли, — продолжал драматург, — я сам плакал навзрыд. Что бы, кажется! вымысел! пустяки! А между тем так и прошибают слезы!
При слове «пустяки» поэт нахмурился.
— Ну, братец, не совсем пустяки! — возразил он с досадой. — Тут у меня была идея, глубоко значительная идея. Конечно, и идея для иных пустяки… как кто смотрит на вещи и как кто понимает. Вникни, да раскуси, да потом уж и говори — пустяки! От таких пустяков хоть у кого вот здесь, — поэт указал на голову, — повернется. Не раз придется сходить за словом в этот умственный карман, из которого Гете и Шиллер почерпали свои великие создания, а издатели «Гремучей змеи» ежедневно вытаскивают столько гнусных клевет и сплетней!
Так как Свистов произнес это тоном остроты, то Посвистов счел нужным захохотать.
— Особенно я обратил внимание, — продолжал поэт, обращаясь к белокурому фельетонисту, — на устранение неточности выражений, которою вы, Павел Данилович, упрекнули первую мою сатирическую поэму. Могу вас уверить, голос ваш не был голосом вопиющего в пустыне.
Фельетонист поправил очки.
— То есть ты, братец, — возразил драматург, тщетно стараясь удержаться от смеха, возбужденного в нем остротою, которую он готовился произнесть, — соблюл в точности наставления Павла Даниловича касательно неточности выражений.
Актер толкнул меня локтем. Белокурый фельетонист посмотрел на драматурга-водевилиста с явным состраданием. Свистов захохотал.
Когда всё пришло в прежний порядок, Свистов взял фельетониста под руку и начал ходить с ним по комнате говоря:
— Мне бы хотелось слышать ваше суждение о моей поэме, прежде чем она будет напечатана. Если б вы были так добры…
Свистов вынул из бокового кармана небольшую тетрадку и потянул сотрудника в соседнюю комнату.
— Уж если читать, так читать во всеуслышание! — вскричал вслед ему водевилист-драматург, угадавший тайную мысль скромного друга. — Полно, братец, скромничать! Ступай сюда!
По долгу хозяина Хлыстов присоединил свой голос к голосу драматурга; актер тоже. Поэт воротился, стал в позицию и, как бы чувствуя великость жертвы, на которую присутствующие решались, сказал:
— Одну главу, господа, не больше.
— Нужно очень! — проворчал с досадою Зубков, нетерпеливо желавший разрешиться своим анекдотом, и отошел к окну.
Поэт начал:
Есть край, где горит беззакатное солнце Алмазным пожаром в безбрежной дали И сыплет горстями лучи, как червонцы, На лоно роскошной и щедрой земли; Где северный холод, вьюга и морозы Сердец не сжимают, не сушат костей, Где розы — как девы, а девы — как розы, Где всё наслажденье, восторг для очей, Где тигр кровожадный свободно кочует И робкая серна находит приют, Но где человек человека бичует, Где плачут и стонут, где режут и жгут, Где волны морские окрашены кровью, Усеяно трупами мрачное дно…— Страшно! у меня волосы дыбом становятся! — сказал актер, украдкой зевая в руку.
— Вроде Дантова ада, — заметил Зубков, никогда не читавший Данте.
— А ваше мнение? — спросил поэт нетвердым голосом у фельетониста.
— Нельзя не согласиться, что картина варварских восточных обычаев изображена с потрясающим сердце эффектом, — отвечал фельетонист значительно…
— Мастерская картина, — закричал драматург.
— А вообще о достоинстве поэмы что вы думаете? — спросил поэт, снова обращаясь к фельетонисту.
— Позвольте мне удержать, до некоторого времени, мое мнение при себе, — отвечал тот. — Вы прочтете его, когда поэма явится в свет, в ближайшем нумере нашего издания…
Поэт побледнел и в смущении начал укладывать, к общей радости, рукопись свою обратно в карман.
— Знаем мы ваши ближайшие, — сказал огорченный друг его с некоторою досадою, — далека песня!
Свистов счел нужным захохотать, потому что, по понятию господ, посещающих Александрийский театр, в последних словах драматурга-водевилиста заключался каламбур. Но смех поэта был далеко не так силен, сердечен и продолжителен, как прежде. Холодность фельетониста явно его опечалила. Все это заметили, и всем сделалось как-то не совсем ловко. Последовала довольно длинная пауза. Зубков не преминул ею воспользоваться: очень кстати явился на первом плане с своим анекдотцем и благополучно досказал его…
— Вздор, братец, — сказал актер. — Я знал наперед, что вздор. Сам выдумал…
— Что? как? вздор! — возразил Зубков шутливо обиженным тоном и пропел:
Задеть мою амбицию Я не позволю вам, Я жалобу в полицию На вас, сударь, подам. Хоть смирен по природе я, Но не шутите мной, Я — «ваше благородие», А вы-то кто такой?А водевилист-драматург, выслушав внимательно анекдот, приятно улыбнулся и сказал вполголоса: «Помещу в водевиль!»
Комнатки Хлыстова скоро начали наполняться народом. Пришел страстный любитель театра и литературы — пожилой, очень добрый человек, в эполетах, с майорским брюшком и лысиной от лба до затылка. Он снял саблю и, сказав: «Подождите здесь, Софья Ивановна!», поставил в угол, после чего с грациею поклонился ей и вмешался в толпу. Он говорил всякому встречному «ты» и «монгдер» и отличался необыкновенною любовью к некоторому лакомству, — любовью, которую, думал он, разделяет с ним вся вселенная. Раз, встретясь со мною на Невском проспекте, он с необыкновенною живостью схватил меня за руку и вскричал: «Моншер, моншер! Представь себе… Если б ты знал… Ах! если б ты знал!..» — «Да что такое?» — спросил я. Он нагнулся к самому моему уху и сказал шепотом, замиравшим от избытка счастья: «Мне прислали пять пудов сала из Малороссии!..» Он не только ел свиное сало пудами, но советовал лечиться им от всех болезней и беспрестанно рассказывал примеры чудотворного действия свиного жиру на человеческое здоровье.
Потом явился турист, недавно возвратившийся из-за границы, человек с кривыми ногами, рыжею бородою, дурно говоривший по-французски и в пылу разговора нередко употреблявший фразу: «У нас в Париже!» Он явился сам-друг с записным любителем театра и литературы, господином чрезвычайно красивой наружности, который имел обыкновение через каждые полчаса кричать своему человеку: «Девка, водки!» — и очень хорошо угощал своих приятелей по понедельникам. Вслед за ним предстал Павел Петрович Сбитеньщиков — человек довольно значительного и почтенного вида, старинный театрал, закулисный волокита первой руки, непременный член всех холостых закусок и вечеринок и, в дополнение всего, лунатик. По крайней мере так думали те, у которых ему случалось ночевать. Замечали, что он ночью непременно ходил и даже иногда рылся в шкафах и комодах и, ошибкой, уносил из гостиниц черешневые чубуки. Пришли два сочинителя — дядя и племянник, которые очень счастливо играли во всякие игры, когда им приходилось играть за одним столом. Оба они писали очень много, но подписывался под статьями по большей части один, именно дядя, для того, как выразился какой-то остряк, что «уж если позориться, так которому-нибудь одному». Наконец, в заключение, прибыли несколько театральных чиновников и актеров средней руки, которые приглашены были для балласта. Каждый, как водится, сказал какую-нибудь остроту, закурил трубку и сел или принялся меланхолически прохаживаться в ожидании завтрака. Разговор разделился на партии; гости сидели и двигались попарно. Офицер, называвший свою саблю «Софьей Ивановной», рассуждал с Хлыстовым о благотворном влиянии свиного сала на развитие не только физических сил, но и умственных способностей, что он испытал над собой. Зубков рассказывал в сотый раз актерам анекдот о фиолетовой морде, придуманный с целью довести до сведения всех и каждого, что он приехал в коляске. Фельетонист уговаривал издателя красивой спекуляции, не доставлявшей выгоды, купить у него и напечатать в одной книжке мелкие статейки его, разбросанные в разных журналах. Турист беседовал с поэтом и актером, которые слушали его — первый с подобострастным вниманием, второй с какою-то двусмысленною улыбкою.
— Я, — говорил турист скороговоркой, которая поставила бы в затруднение самого искусного стенографа, — тонул в болотах Голландии, жарился в пустынях египетских и сирийских, охотился за орангутангами на островах Яве и Борнео, дрался с пиренейскими разбойниками, получил несколько ран в Испании от тамошних герильо и бандитов, видел развалины Колизея, ел медвежий окорок с Александром Дюма, курил сигару с Жорж Санд, ухаживал за мамзель Марс, играл в экарте с Рубини, Лаблашем и Тамбурини, читал рукописные записки Шатобриана, которые вы прочтете только после его смерти. Я слушал лекции Кювье и Гумбольдта, видел дом Гете, сидел на том самом стуле, на котором великий поэт, критик, естествоиспытатель, государственный человек и философ погружался в свои глубокие размышления, примеривал на свою голову колпак «остроумного сумасброда» Вольтера, целовал туфли римского папы. Наконец, скажу вам, я присутствовал на всех замечательных спектаклях, ученых лекциях, литературных вечерах, заседаниях палаты пэров и депутатов и даже однажды поддержал мадам Лафарж, невинную и возвышенную страдалицу, когда, обессиленная душевными муками, убитая стыдом и отчаянием, она готова была упасть в обморок…
— Любопытны, — заметил меланхолически поэт, воспользовавшись минутой, когда турист переводил одышку, — в высшей степени любопытны воспоминания человека, который так много видел. Сколько наблюдений! Сколько познаний! Сколько идей, сравнений, философических выводов!
— О, — сказал турист, закидывая назад голову и гордо озираясь кругом, — там, за границею, в беспрестанных переездах с одного места на другое, душа нечувствительно приобретает чудную силу и свежесть, рассудок с каждым днем обогащается новыми познаниями, голова начинает кружиться, кружиться… Поверите ли? Избыток мыслей, новость предметов… разительность впечатлений… ездишь в омнибусе… обедаешь в ресторации… пьешь шампанское за пять рублей… Никогда, о, никогда не забуду я тебя, парижская жизнь, — вскричал турист, подняв очи горе, — жизнь людей, умеющих жить!.. Сердце мое навсегда сохранит, подле воспоминаний, дорогих моему сердцу, тот изящный стол, который имел я в день за полтора франка… Надо вам сказать, что житье за границей не то, что у нас; ресторации превосходные; цены умеренные: за чашку кофе с отличными сливками, с белым хлебом, прекрасно выпеченным, вы платите четверть франка; за квартиру, очень удобную, в месяц — 20 франков! Прачке, которая моет вам белье, — четыре франка. Конечно, иногда приходилось грустить: что-то, думал я, делают теперь мои родственники? Живы ли вы, почтеннейший Авдей Степанович? Было иногда так тяжело, тяжело… Но я утешался, что рассудок мой обогащается наблюдениями… В Сицилии очень много картофеля; в Лондоне удивительно дымно; улицы тесные, на улицах вечный шум, духота, визготня, крик; трактиры очень хорошие, можно иметь превосходный стол, но надобно платить очень дорого, — путешественнику обременительно. В Берлине мне в особенности понравилась уха. В Гавре превосходные устерсы, но, по несчастию, я не мог есть, — у меня была ужасная боль в желудке…
И так далее, и так далее. Нетрудно догадаться, к какому разряду туристов принадлежал словоохотливый рассказчик.
В то самое время как турист беседовал таким образом, в другом углу шел не менее интересный разговор. Речь шла о привидениях, духовидстве, месмеризме, сомнамбулизме и тому подобном. Сбитеньщиков рассказывал анекдот, как одна девица в припадке лунатизма взошла на самый верх колокольни, несколько минут постояла на карнизе и благополучно возвратилась на свою постель.
— Да что, моншер, — сказал высокий, тощий актер, — чего далеко ходить, ты сам, моншер, сомнамбул. Помнишь, как ты у меня ночевал?
— Когда?
— Ну вот как мы из Токсова-то приехали…
— А! Помню! Помню! — отвечал лунатик, оправившись от минутного смущения. — Точно, я у тебя тогда ночевал… Прекурьезная история… Ха! ха! ха!..
Он засмеялся глухим, басистым хохотом, от которого задрожали стекла в рамах. Актер также хохотал.
— Забыть не могу, — сказал он, удерживаясь от смеха. — Легли мы спать: я на диване, он на другом. Дело было в моем кабинете. Письменный стол, кресла, а в углу шкаф с серебром; у шкафа ключ. Сплю, наконец проснулся, темно еще; голова так и вертится; жажда ужасная! Встал, выпил стакан воды и опять лег. Лежал, я думаю, с час, — не спится! Гляжу, и Сбитеньщиков встал; идет потихоньку, на цыпочках; видно, думаю, и его также жажда морит; идет к столу, боится меня разбудить. Так нет! пошел к шкафу, а глаза у него так и светятся, выпучил их, точно кошка, сопит, как кузнечный мех… Постой! Что, думаю, из него будет; нарочно захрапел, будто сплю! Подошел он к шкафу, отворил, вынул ложку, другую, третью; вынул стакан серебряный… ну, там кое-что и еще, завернул всё в платок, который был с ним, и пошел вон из комнаты. Я за ним; он в прихожую — и я туда; он в сени — я тоже; гляжу: его уж и нет! Через минуту воротился без узелка. Я скорей на постель — наткнешься, думаю, напугаешь; пожалуй, еще с ума сойдет… Лег и захрапел; он тоже лег и захрапел; храпим себе, как будто бы за то жалованье получаем. Поутру встаем, напились чаю, я молчу. Он тоже ничего не говорит. Иду в шкаф, от шкафа в прихожую, к человеку. «Где серебро?» — «Не знаю-с!» А он всё молчит. Наконец спрашиваю: «Не снилось ли тебе, братец, чего? Ложек наших, стаканов… не ходил ли ты куда ночью?»
— Помилуй, говорит, с чего ты взял! Я спал без просыпу. Прощай, братец, жена ждет.
За шапку, да было и домой! Нет, постой, говорю: скажи, где ложки?.. Обиделся; глаза загорелись. Назвал меня мальчишкой! на дуэль!
— Ну как же, господа, не обидеться? — заметил Сбитеньщиков своим густым басом. — Поставьте себя на моем месте; всякий благородный человек обиделся бы. Ведь тут не что-нибудь другое; ведь тут честь — драгоценнейшее сокровище человека… Иное дело, если б я вспомнил, да не сказал…
— А то не помнит ничего, — перебил актер, — да и только! Хоть убей, ничего не помнит… стараюсь вразумить, рассказываю, как было дело. Наконец прошу по крайней мере сказать, куда ходил ночью, «Никуда, — говорит, — ты, братец, бредишь!»
— Лунатики никогда не помнят того, что делают в припадках сомнамбулизма, — заметил фельетонист и поправил очки.
— Вдруг, — продолжал актер, — он ударил себя по голове табакеркой и говорит: «Ведь ты, братец, говорит, — черт знает что говоришь. Неужели жена-то моя не врет? Она частенько уверяла, что я по ночам куда-то хожу да разные вещи таскаю: насилу, говорит, могу после найти!» Тут, — продолжал актер, — я немножко и догадался; схватил его за руки и говорю: «Лунатик?»
— Жена говорит, что лунатик, — отвечал он.
— Точно, я так сказал, — подтвердил Сбитеньщиков. — Как ты, братец, всё помнишь!
— Всё, кроме ролей, — сказал Зубков и наградил себя смехом.
— Смотри, брат, — вскричал актер. — Я, брат, за такие шутки… Вишь, рожа!.. — И, мазнув рукою Зубкова по лицу, он продолжал: — Смекнувши, в чем дело, я побежал в сени, заглянул туда, сюда… и что же бы вы думали? Нашел узелок с моими вещами, да ведь где? Ха! ха! ха!..
Актер нагнулся и означил шепотом место ночлега своих вещей…
Поднялся страшный хохот. Всех громче хохотал сам герой анекдота, Павел Петрович Сбитеньщиков, и хохот его походил на глухие звуки, издаваемые рассохшеюся бочкою, когда ее катят.
— Хороший анекдот, — заметил Зубков, — только я знаю лучше…
— Ну уж, пожалуйста…
«Помещу в водевиль! — подумал водевилист-драматург. — Ух! Как долго не дают водки!»
Тайная мысль драматурга была справедлива: уж, действительно, давно было время пить водку.
Ударило двенадцать. Адмиральский час! Завтрак был уже готов, и закуски стояли на столе в другой комнате, но Хлыстов не решался еще подать сигнал к наступательным действиям. Была на то особенная причина…
Тот, кого все ждали с особенным нетерпением, кому назначено было первое место на пирушке Хлыстова, для кого она собственно и приготовлялась, еще но являлся…
Когда ударило двенадцать часов, большая часть гостей переглянулась, и долговязый поэт сказал:
— Видимо, не будет!
— Да, — подхватили со вздохом некоторые, — должно быть, задержали корректуры.
— Будет, — сказал фельетонист. — Я видел его вчера в театре, и он сказал: «Буду непременно».
— Мне хотелось, — заметил драматург, — рассказать ему сюжет водевиля, который я начал писать, попросить совета; человек умный, опытный, остроумный…
— Я хотел, — сказал актер, — приступить к нему с просьбою, не напишет ли мне для бенефиса пьесу. Дома его так трудно застать. Он всегда так занят!.. Да притом оно как-то и лучше за бокалом шампанского. Тут человек бывает добрее; особенно если вина вдоволь… Мне бы только под веселый час слово дал, а уж там он у меня напишет: он не такой человек, чтоб захотел изменить честному слову…
— Надежда опять меня обманула, — сказал своим однозвучным басом Сбитеньщиков. — Я опять не буду иметь счастия познакомиться с почтеннейшим Дмитрием Петровичем!
Почти те же самые слова были произнесены вполголоса молодым человеком, недавно приехавшим из провинции, но довольно было подслушать, как они были произнесены, чтоб понять, как глубоко было уважение, каким пользовался ожидаемый «субъект» в обществе, собравшемся у Хлыстова.
— А что, господа, ведь, говоря откровенно, если есть у нас теперь во всем Петербурге даровитый писатель, так это Дмитрий Петрович, — сказал драматург-водевилист.
— Совершенно справедливо, — отвечал длинный поэт. Белокурый фельетонист нахмурился.
Хлыстов хотел что-то сказать, но, вспомнив про свою доморощенную новую поэму, прикусил губу и посмотрел с испугом на драматурга-водевилиста. Надобно заметить, что драматург-водевилист был в некотором роде «органом» Дмитрия Петровича и исправлял при нем должность, за которую в школе некоторых мальчишек товарищи зовут фискалами. Он решительно был убежден, что гениальнее Дмитрия Петровича не было человека и никогда не будет, и считал для себя счастием даже дышать одним с ним воздухом.
В то самое время как, в ожидании сигнала к приступу, отчаяние начало овладевать голодными гостями, колокольчик звонко залился…
— Он! он! — вскричал драматург-водевилист. — Я узнаю его по звону колокольчика: никто так не может звонить!
— У него всё оригинально, — заметил поэт и опрометью бросился в прихожую.
Мы все последовали туда же, но уже было поздно: дверь в гостиную отворилась, и Дмитрий Петрович, в темно-оливковом фраке, с золотыми пуговицами, в голубом галстуке и цветном бархатном жилете, диагонально пересекаемом часовою цепочкою, явился перед собранием «тли». Посыпались поклоны, рекомендации, комплименты.
— Извините, милейший мой, — сказал издатель, обращаясь к хозяину с тою очаровательною любезностью, которая составляла отличительную черту его характера, — я немножко вас задержал! Что делать? Журналист не всегда может располагать собою по произволу, для него часто на белом свете черные дни…
Все захохотали, кроме фельетониста и лунатика, мирно спавшего в углу у окна.
«Помещу в водевиль!» — подумал водевилист-драматург.
— Если б я, господа, — продолжал Дмитрий Петрович, пристукивая миниатюрной ножкой, вооруженною каблуком изумительной вышины, — если б я, господа, поспешил в ваше приятное общество…
Некоторые сочли нужным поклониться.
— То заставил бы ожидать целые тысячи подписчиков…
«У тебя их и всего-то триста осемьдесят один, и с гратисами», — сказал фельетонист про себя.
— Что, — продолжал издатель, — согласитесь, было бы гораздо хуже. Как человек публичный, как журналист, я обязан пещись о исполнении моих обязанностей перед публикою: я не какой-нибудь… который наполняет свои фельетоны похвалами лавочкам и кондитерским, взимая с них контрибуцию сальными свечами и конфектами. Я понимаю свои обязанности… Добросовестность для меня дороже всего. Целое утро я был погружен в работу с головой и с ногами. Первые три часа я был превращен в машину, которую зовут автоматом-корректором: сличал слово с словом, строку с строкой; потом я должен был перечитать и поправить статьи сотрудников… Потом я взял перо и соорудил статейку о Задорине и о свойствах его…
— Опять? — вскричал водевилист-драматург с выражением величайшей радости, который в продолжение рассказа Дмитрия Петровича таял от восхищения и думал про себя: «Как говорит, боже мой, как говорит!»
— Да, опять, — отвечал издатель, — по случаю выходки его на статью мою о петербургских гуляньях. Вообразите, господа, вздумал смеяться надо мною, что там, в одном месте, говоря о себе, я упоминаю о недугах, сопряженных с трудным званием журналиста, о геморрое…
— Прошу покорно, — сказал долговязый поэт обиженным тоном, — да ему-то какое дело!
— Да уж зато порядком же ему и досталось. Этот геморрой вгонит его в чахотку!
Вторичный взрыв смеха…
— Любопытно было бы прочесть, как вы его отделали, — сказал водевилист-драматург, делая масляные глазки издателю.
— К сожалению, статья уже в типографии; вы знаете, журналисту некогда долго носиться с своими статьями. Если хочешь, чтоб были хороши, давай им вызревать в голове. А уж, кажется, ловко ему досталось… Вот, говорю, есть в нашей литературе шмели…
И затем издатель от первой до последней строки рассказал свою статью, делая в приличных местах пояснения. Он обыкновенно выучивал наизусть свои статьи, что, впрочем, не стоило ему большого труда, потому что делалось как-то незаметно: статья оставалась в памяти по прочтении в пятый раз, а издатель иногда читал свои статьи по пятидесяти раз в сутки и более, смотря по количеству приходивших знакомых. К чести его, однако ж, должно сказать, что он не имел обыкновения читать своих статей своему лакею и только в крайнем случае, когда решительно не было ни одного постороннего слушателя, читал их своему отцу, от природы глухому…
Затем приступили к завтраку, который был, как все холостые завтраки, из хорошего вина и плохих острот, шумен и продолжителен. Издатель-журналист был в особенности весел и, собравши около себя тесный кружок внимательных слушателей, с бокалом шампанского в руке, ораторствовал с тем неподражаемым остроумием, которое так нравилось поклонникам его дарования. Водевилист-драматург ловил каждое слово журналиста, таял от восторга и мотал себе на ус его остроты; хохот долговязого поэта возобновлялся через каждые пять минут и был сигналом к общему взрыву мелких гостей, считавших за счастие восхищаться остроумием дорогого гостя. Актер, имевший в виду пьесу для бенефиса, в любезности и внимательности к оратору превзошел самого себя. Разговор, разумеется, вертелся около театра и литературы.
— Литература наша, — говорил Дмитрий Петрович, поправляя очки и прихлебывая шампанское, — в настоящее время похожа на толкучий рынок… где на грязном лотке уродливой торговки лежат яблоки свежею стороною кверху, а гнилая тщательно скрыта; глядя на них, можно ошибиться, но… — Тут он быстро повернулся на одной ножке и закричал: — Человек! Дай, братец, мне еще желея, только давай не жалея!..
Раздался оглушительный хохот, продолжавшийся несколько минут.
— Какой человек! Какой человек! — сказал водевилист-драматург длинному поэту и с чувством пожал ему руку.
— Но, — продолжал издатель, когда тишина восстановилась, — попробуй взять хоть одно из этих яблок в руки, и обман тотчас откроется… Вы купите десять яблок за цену, которую должно бы заплатить за три… Но, увы, ваши десять не стоят и одного: ваши десять в червях!
Страшный взрыв хохота.
— Конечно, литературы нашей нельзя сравнивать с гнилыми яблоками в отношении ценности книг, — продолжал оратор, торопясь поправить обмолвку, в которую вовлекла его острота, — но ценность в сторону… Пусть бы уж не жалели нашей наличности: ценность имеет влияние только на личности (хохот), индивидуумы, как говорят наши доморощенные философы (хохот), а литература все-таки шла бы вперед путем совершенствования… Пусть уж было бы дорого, да мило! А то дорого, и так дурно, что просто порядочному человеку может сделаться дурно!
Опять хохот.
«Всё, решительно всё помещу в водевиль!» — подумал раскрасневшийся от вина и улыбающийся от восторга водевилист-драматург и сказал, смотря на издателя с чувством благоговейного изумления:
— Вы сегодня, Дмитрий Петрович, превзошли самого себя!
— Бывают на меня такие минуты, — скромно отвечал оратор. — Слова так сами и льются. На днях нас, вот с Ипполитом Сергеевичем (оратор указал на одного из гостей), затащил к себе книгопродавец Крикунов; я сказал, я думаю, пятьсот каламбуров на дне… то есть, господа, не на речном или морском дне… (хохот). Вхожу к нему по темной лестнице в четвертый этаж и говорю: «Мы прибыли для вашей прибыли» (хохот). Потом оглядываюсь, чуть по достаю головой до потолка и говорю: «Вы, почтеннейший, Живете вместе и высоко и низко» (хохот). «Да-с, тово-с, — говорит он облизываясь. — Хи! хи! хи! Не прикажете ли сначала водочки-с! — говорит он. — Настойка отличнейшая-с, с перцем-с, из мяты!» — «То-то, — отвечаю я, — как у вас сторы измяты!» (хохот). Ну, словом, так каламбур за каламбуром и вырывался…
Разговор о литературе был забыт. Журналист-издатель пересказал до пятидесяти плоскостей, произнесенных им на завтраке у книгопродавца, и каждая была встречена общим одобрением. Пошло дело на каламбуры: водевилист-драматург с сильно бьющимся сердцем пересказал неведомо откуда пришедший ему в голову каламбур касательно «точности» и «неточности», произнесенный им выше.
— Каламбуры, — заметил Дмитрий Петрович, — на русском языке чрезвычайно трудны; отечественный язык наш очень богат, для каждого предмета он имеет отдельное название, а для иного два, три и четыре. Иное дело французский язык: часто пять или более предметов носят то же название, и вся разница в одной букве или в каком-нибудь незаметном оттенке произношения. Оттого там каламбуры чрезвычайно легки. У нас напротив. Только вникший в дух русского языка, изучивший его во всех тонкостях, способен по временам открывать те редкие соотношения слов и созвучий, которые производят смех в слушателях.
И он торжественно прошелся по комнате.
— Как умно, тонко и справедливо! — воскликнул водевилист-драматург, подошел к Дмитрию Петровичу и со слезами на глазах попросил позволения обнять его, признавшись, что он совершенно бы отчаялся за русскую литературу, если б в ней не было Дмитрия Петровича. Обнявши издателя и напечатлев на устах его несколько сочных поцелуев, он подошел к столу и, протянув руку к бутылке, разбил зеркало, под которым стоял стол.
Потом он сел на диван, опустил голову и начал что-то невнятно шептать про себя. После чего вскоре гости начали расходиться; остались только короткие приятели Хлыстова: долговязый поэт, Зубков, актер, рассказывавший анекдот о лунатике, да три или четыре господина, которым ноги отказались служить. Не нарушая их мирного сна, бодрствующие осушили еще несколько бутылок шампанского и единодушно решили, что в комнатах сидеть скучно. Привели несколько в порядок свою одежду и начали спускаться по лестнице не совсем твердым шагом. Вдруг долговязый поэт пробормотал что-то себе под нос и опрометью бросился назад.
— Куда ты?
Но поэт ничего не слыхал: он уже был в гостиной и будил драматурга-водевилиста. Тот потянулся, зевнул, вскочил, проворчал с ужасом: «Что, шикают?» — и открыл глаза. «Не мешай, братец, мне спать!» — сказал он, увидев своего приятеля, и снова опустился в кресла с отчаянным намерением тотчас заснуть. Но поэт нагнулся, шепнул ему слово, которое вмиг превратило его в живого и бодрого юношу; <он> быстро подбежал к разбитому зеркалу, пригладил свою седую голову, улыбнулся и пошел вслед за поэтом.
— А жена-то! — сказали ему товарищи, ожидавшие у ворот.
— Жена да повинуется своему мужу! — отвечал драматург, стараясь попасть рукою в рукав своей шубы…
1849–1850
Психологическая задача*
Давняя быль
В прошлом столетии в одном малороссийском селе жил мужик по имени Никита, крепкий, здоровый, ростом в косую сажень, нрава крутого и неуступчивого, но человек добрый и правдивый. Он любил старину, строго держался патриархальных обычаев и был в полном смысле главой своего семейства: ни жена, ни дети не ступали шагу без его ведома и спросу. Кроме участка земли, которую, обрабатывали пять его сыновей, у него был хутор с мельницей и пчелами; ими он занимался сам, а сыновья соберут хлеб, свезут на ярмарку, продадут и честно принесут выручку отцу, и всякая копейка, какую ни достанут в семействе, поступала к нему. А он как получит деньги, тотчас обделит всех: тому на свитку, тому на обувь, а жене на хозяйство выдаст. И потом, когда нужны деньги, — идут к нему: он выдавал — не морщился. Так они жили много лет согласно и зажиточно… Стукнуло ему пятьдесят лет. Поехал он в город и пробыл там два дня. Случилась ли там с ним какая история, или ничего особенного не случилось, только воротился он совсем другим человеком. Стал он жене говорить, что жена много денег изводит, стал детей корить, что мало зарабатывают, стал жаловаться на крутые времена и черные дни. Вот побывали сыновья на ярмарке, продали хлеб, воротились и, в пояс поклонившись отцу, счетом сдали ему выручку…
Отец поворчал на них, зачем дешево продали, деньги три раза пересчитал, чего прежде за ним не водилось, да и притих с ними.
День, два, неделя проходит — старик молчит; а деньги нужны, да сказать ему не смеют. Наконец попросили денег. Старик поморщился, однако ж выдал, только так мало, что через месяц опять пришлось просить.
— Нема грошей, — грозно отвечал старик, велел сыну запрячь лошадь и уехал на свой хутор.
— Коли батька говорит нет, значит, нет, — решили сыновья и стали с горем перебиваться до новой выручки за хлеб.
Только как отдали они старику новую выручку, так он выбранил их вдвое крепче, зачем дешево сбыли хлеб, а денег дал вдвое меньше, чем в прошлом году. На третий год еще меньше, на четвертый еще меньше, а отговорка всё одна: «Времена тяжкие, нема грошей». Дети уж и плохо верили такому ответу, да против отца не пойдешь: повесят головы и замолчат, а на следующий год опять несут отцу выручку. Вот жена так и пыталась не раз спрашивать: «Да куда же они деваются у тебя? ведь и прежде было не больше, а, слава богу, хватало на всё?»; пыталась она и упрашивать его и усовещивать, старик закричит, застучит костылем в пол, выбранит старуху и уедет на свой хутор. Прошло еще несколько лет, и старик вовсе перестал давать денег своему семейству; как только попадет к нему какая копейка — поминай как звали: словно в воду канула! И уж ничем не выпросишь! Раз поехали сыновья в город и воротились без меньшого брата. Парень и от природы был простоват, да тут еще на беду выпил, так и сам не помнит, каким образом впутался в уголовное дело; его задержали с двумя какими-то бродягами; пошло следствие… Бухнулись сыновья старику в ноги, рассказали, в чем дело, и стали просить денег на выручку брата. Старик долго расспрашивал подробности, долго думал, осведомился, сколько нужно денег, и наконец отвечал: «Нема грошей». Бухнулась и старуха-мать ему в ноги, да напрасно: «Нема грошей». Так и погиб его меньшой сын… Изба у них обвалилась, одежда доносилась, иногда приходилось голодать по суткам: старик будто не замечал ничего. Нечего делать! Чтоб как-нибудь жить, сыновья стали обманывать его: выручат тысячу, а отдадут ему половину, остальные идут на расход… Так жили они лет тридцать. Старику приближалось к осьмидесяти годам; как ни был он крепок, однако ж силы начали ему изменять. Он редко выходил из хаты, только время от времени съездит на свой хутор верст за семь, а наконец он и совсем свалился. С каждым днем становилось ему хуже, и он сам, кряхтя и охая, не раз говорил, что смертный час его пришел. С часу на час ждут сыновья, что вот позовет их батька, благословит и скажет, где у него спрятаны деньги, которых, по их расчету, в тридцать лет накопилось у него много… Того же ждала и старуха. Но старик молчал, только жаловался на боль в груди да на то, что сила совсем пропала: ни рукой, ни ногой пошевелить не может… Прошел еще день, и старику стало совсем плохо: сам он уж подняться не мог. Благословил он детей, простился и с старухой своей, а про деньги ни слова… Наконец старуха решилась сама спросить, где у него деньги… «Нема у меня грошей, какие у меня гроши», — сердито закричал старик и замолчал… К вечеру стало ему еще хуже, и старуха опять решилась повторить вопрос. Ответ был тот же. И как ни уговаривала его жена, он всё стоял на своем. Многие родные и соседи, которых он уважал, тоже пробовали уговаривать его, доказывая, как невероятно, чтоб у него не было денег, говорили, что не в могилу же он их унесет с собой, пугали гневом и наказанием божиим, — старик сердито просил отстать от него и упрямо повторял: «Нема у меня грошей»… Между тем он видимо гас; он уже же мог сам пошевелиться, сыновья переваливали его с боку на бок… Оставалась одна надежда — на священника. И священник, исповедуя его, представил ему тяжкий грех, который он возьмет на душу свою, утаив от родных детей сокровище свое, оставив их в нищете, тогда как может наделить их достатком. Долго запирался старик; наконец, тронутый увещаньями священника, он признался, что у него точно есть деньги, и обещал сказать жене, где спрятано его сокровище. Священник ушел, обрадовав семейство этим известием. Но проходит час, другой и третий — старик молчит; напрасно старуха сидит подле него и смотрит умильно и ободрительно в его впалые угрюмые глава, — старик молчит. Наконец она опять решается заговорить первая.
— Касатик ты мой! — говорит она. — Скажи, чем прогневили мы тебя, грешные, что ты хочешь лишить наследства родных детей своих, а меня, жену свою, на старости лет пустить по миру? Никогда-то мы не выходили из твоего повиновения. Сыновья твои во всем тебя слушались, как следует по закону, да и я никогда тебе не поперечила… Вдруг ты скупенек стал, начал денежки приберегать, мало на прожиток давал… Разве мы жаловались, шли против воли твоей… Никогда! На то ты всему дому глава: курицу яйца не учат! Ну а теперь, коли ты сам говоришь, что последний, час твой пришел, так не лишай же свою вдову горемычную милости своей, не обидь сыновей своих кровных…
— Нема у меня грошей, — угрюмо и нерешительно отвечал старик.
— Побойся бога! — восклицает испуганная старуха. — Да ведь же ты сам сказал отцу Прохору, что есть у тебя деньги… Ты только скажи, касатик мой, — продолжала она со всею нежностью, какая только могла выразиться в ее дряблом, разбитом голосе, — ты только скажи мне, сожительнице твоей верной и послушной, где схоронил их, чтобы не попали они в чужие, недобрые руки, не пропали даром?.. Или ты не веришь мне, старухе, или боишься, что сыновья размотают твое добро?.. Я, старуха, как жила, так и буду жить — где уж мне на старости роскошничать? Сыновья твои парии честные, трезвые, да уж и в летах: ведь уж старшему-то пятидесятый годок пошел… Не размотаем мы, не прображничаем добро твое, а будем мы жить смирно да помнить тебя добром да свечи за тебя ставить.
— Ну скажу, скажу, — глухим голосом проговорил старик, который, казалось, был тронут. — Получите свои деньги! — прибавил он с сердцем.
— Ну, где же они у тебя, касатик? — спрашивает старуха.
Старик молчит!
Проходит опять несколько часов глубокого и мучительного молчания. Только тяжелые громкие вздохи и болезненные вскрикиванья старика по временам нарушают его.
Испуганная выражением лица своего мужа, которое постепенно приняло совершенно земляной цвет, какой бывает у покойников, старуха решается возобновить свою речь.
Но старик молчит, погруженный в свои думы.
Иногда, будто выведенный из терпенья ее унылым упрашиваньем, он пробормочет злым, раздражительным голосом: «Скажу, скажу», но ничего больше не скажет, а разве застонет, заохает, попросит пить и потом плотно стиснет зубы, перекрестив рот худыми, длинными пальцами…
По временам сыновья входили и выходили, смотрели на больного отца, перешептывались, вызывали старуху, расспрашивали ее, по мать не могла сообщить ничего утешительного сыновьям своим.
Так ночь прошла.
Наутро всё семейство обступило старика. Никто не говорил, но все смотрели на него умоляющим и вопрошающим взором…
— Запречь сивку! — вдруг среди глубокого молчания звонко раздался повелительный голос старика.
Старший сын вышел и через полчаса пришел сказать, что лошадь готова, и спрашивал, куда и кому велит он ехать.
— Сам поеду! — отрывисто и строго отвечал старик.
Все невольно вздрогнули, когда он, поднявшись на своей кровати и поставив на пол босые ноги, вдруг выпрямился во всю длину своего огромного роста, который, при страшной худобе его тела, казался теперь еще значительнее.
— Чоботы и кожух! — закричал он.
Ему помогли одеться, и он без чужой помощи вышел на двор и сел в телегу… Старший сын хотел сесть рядом с ним, но он вырвал у него вожжи, толкнул его вон из телеги и поехал по направлению к хутору.
— Никого не надо! — сказал он повелительно, сделав знак рукой, чтоб за ним не следовали…
Прошло несколько часов в тяжелом ожидании; старик не возвращался. Наконец, опасаясь за него, сыновья с дядей Кузьмой решились поехать на хутор. Подъезжая к хутору, они увидели его лошадь, привязанную у пасеки; но самого старика видно не было. Они вошли в пасеку — и все разом вскрикнули, объятые удивленьем и ужасом: старик висел на перекладине, медленно качаясь; ноги его, по временам, задевали за корень дерева, который он, вероятно, подставил, чтоб удобнее повеситься!
Старик повесился, повесился, может быть, за один час до естественной смерти! Неизвестно, полюбовался ли он в последний раз своим сокровищем, простился ли с ним, — или, как приехал, так поскорей и надел веревку на свою шею, мучимый страхом, чтоб не выманили у него признания, где хранится оно? Спустя пятнадцать лет нашлось сокровище старика. Сыновья его понемногу перевели пчел и пасеку уничтожили. Когда стали они пахать ту землю, где прежде была пасека, вдруг наткнулись на что-то жесткое — глядь: камень в земле; им стало подозрительно; приняли камень — яма; вот они копать, копать да и докопались до чугунчика, а в чугунчике-то всё золото да серебро… слишком двадцать тысяч накопил старик. Только не впрок пошло добро, скопленное стариком: сыновья при дележе так передрались, что один тут же богу душу отдал, а другой недолго его пережил.
Происшествие, рассказанное здесь, не выдумано. Вы услышите его в Малороссии от любого старожила. Оно рассказано автору известным артистом московской сцены М. С. Щепкиным, урожденцем Малороссии.
Новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и Ко*
Неправдоподобный рассказ
I
Среди огорченных, озабоченных и расплаканных пассажиров, отправлявшихся однажды летом из Петербурга в Москву в почтовой карете, герой настоящей повести поражал необыкновенным спокойствием. Может быть, оно происходило оттого, что он ехал в сопровождении красивой собаки из породы водолазов, в страшной силе и отважности которой не допускали ни малейшего сомнения огромный рост и громогласная кличка. Хозяин звал ее Прометеем. Самого хозяина находившийся при нем человек, дюжий малый лет двадцати, называл Леонардом Лукичом, а провожавший его приятель — Хлыщовым. Господин Хлыщов принадлежал к породе мужчин крупных и видных; многие даже называли его красавцем, исключая, однако ж, нас: мы всегда были такого мнения, что лучше иметь щеки не столь полные и румяные, но без того подозрительного лоску, который поверхностные наблюдатели принимают часто за признак глупости, не умеющей скрыть восторга, ощущаемого при постоянном сознании и созерцании собственных достоинств. Был ли действительно герой наш глуп или обладал уважительными причинами к невозмутимому самодовольствию — обстоятельства раскроют впоследствии. Кроме красных, выпуклых щек, господин Хлыщов имел усы, о настоящем цвете которых читатель получит точное понятие также впоследствии — во второй или третий день его путешествия, — и пару больших совершенно синих глаз, напоминавших большую рыбу, например белугу, только что вытащенную на берег… да! они были мало выразительны, зато нежная, спокойная, ничем не возмутимая прозрачность их повергала в истинное умиление! Господину Хлыщову было за тридцать лет. Касательно сердечных свойств и привязанностей его покуда ничего не можем сказать. Известно только, что он сильно любил свою собаку, чему доказательством служит и место внутри кареты, которое он взял ей рядом с собой. Надо сказать правду, что никогда, может быть, привязанность к Прометею не возвысилась бы в сердце его до забвения собственных интересов, если б тут не примешивалось особенное обстоятельство: как ни глубоко чувствовал, как ни высоко ценил господин Хлыщов свои личные достоинства, которым и мы в течение рассказа отдадим полную справедливость, он, однако ж, не мог не заметить, что в одиноких прогулках своих по Невскому проспекту не производил и половины того эффекта, каким пользовался, появляясь в сопровождении своей огромной собаки. Таким образом мы видим, что похвальное чувство благодарности к бессловесному существу сделало то, чего не могли сделать красноречивейшие убеждения господина Турманова, который, проигравшись в пух (а известно, что красноречие проигравшегося человека почта неотразимо), в самый день отъезда пристал к своему другу, а нашему герою, с просьбою ссудить его незначительной суммой.
— Не могу, — отвечал ему Хлыщов, — самому деньги нужны на дорогу.
— Но ведь я в таком положении, что хоть продавай последний сюртук!
— Не могу, не могу, не могу! — повторил Хлыщов решительно. — Вот поеду в Москву, женюсь, возьму хорошее приданое, и тогда изволь, сколько хочешь!
Итак, Хлыщов ехал в Москву жениться. Факт не лишенный важности! Приняв его к сведению, скажем, что господин Турманов был именно тот приятель, который провожал теперь нашего героя. Находясь в положении еще более ужасном, чем решился открыть своему другу (мы положительно знаем, что продажа одного сюртука далеко не могла его выручить), он, однако ж, не упал духом перед решительным отказом.
Он остался у Хлыщова весь день, ходил с ним делать закупки, принял деятельное участие в закуске, помогал Хлыщову закрыть плотно набитый чемодан и между тем по временам, улучив минуту, совершенно неожиданно повторял свою просьбу, увы! всё так же безуспешно. Наконец пришло время отправляться в отделение карет… Давно сказано, что надежда такой прелестный цветок, который никогда не вянет: Турманов последовал и туда за Хлыщовым, и таким образом ничему другому, как всё той же вечно живущей в человеческом сердце надежде, Хлыщов был обязан тем, что уезжал напутствуемый, подобно другим пассажирам, искренними пожеланиями…
Но только пожелания господина Турманова были такого свойства, что едва ли можно порадоваться им. Когда, облобызав в последний раз нашего героя, забравшегося уже в карету, Турманов тихим и робким голосом повторил свою просьбу, а Хлыщов громким и решительным свой отказ, — надежда наконец покинула несчастного, он взбесился и громко воскликнул:
— Ну, жадная душа! чтоб тебе в Москве ни жены, ни приданого… а случись там с тобой…
Резко раздавшийся рог кондуктора, смешанный с шумом тронувшихся кареты и брика, заглушил последние слова раздраженного приятеля, к величайшему сожалению переднего пассажира, — породою немца, который немало удивился такому оригинальному способу прощанья и поспешил сообщить свое удивление соседу.
— Што он сказаль? вы слышаль?
— Слышал, — сквозь зубы пробормотал сосед.
— Браниль?
— Не бранил, а так: видно, поссорились, — мрачно отвечал сосед, в котором рекомендуется читателю Мартын, камердинер нашего героя.
— Поссорились?
— Наш барин не такой — браниться никому не позволит, сам сдачи даст!
— Барин?
— А то кто же? Разумеется, барин!
— Ваш барии? Вы его камердин?
— Да, камердин, — отвечал Мартын, передразнивая немца.
— Богатый барин?
— А то как же!
— Служит?
— Нет.
— А что не делает?
— Что? Известно: поутру встанет, чаю выпьет, велит трубку подать, курит; господа придут; ну, известно: закуска; либо книжку лежит читает; у нас книжки всё новые; как месяц прошел — старая не годится, — ступай, неси новую, и билет такой есть: придешь покажешь его — и выдадут — слона ко скажут! И я тоже читал. А вечером в театр либо к приятелям, а не то к нему соберутся: столы поставлю, играют. А бывает, коли вздумается, и с утра играют…
Пока Мартын описывал любопытному немцу образ жизни своего барина, карета быстро катилась по торцовой мостовой и наконец повернула в другую улицу. Проводив глазами ненавистный экипаж, умчавший лучшие его надежды, господин Турманов медленно стал переходить пешеходный мостик, против отделения почтовых карет. Лицо его было мрачно. «И за что потерял я целый день? — шептал он уныло. — Шатался с ним по магазинам, чуть но надорвался, зашнуровывая проклятый чемодан? Да обойди я лучше тем временем приятелей, достал бы, непременно дослал бы… мне и Чухломин бы дал, и Саврасов бы дал… а теперь поди застань кого-нибудь: все по дачам, на островах, в Павловске… А славное сегодня гулянье в Павловске, с музыкой…» Он вздохнул… «Хоть бы музыки послушать… всего и проезд-то пустяков стоит…» С надеждой, внезапно мелькнувшей в лице, он обшарил свои карманы и опять вздохнул глубоко-глубоко.
Солнце усердно пекло прощальными своими лучами. Воздух был душен, тротуары раскалены, пыль лезла в горло и производила сухой кашель. То был час, в который летом оставаться в городе сущее горе.
Господин Турманов, продолжая машинально свой путь, очутился у церкви Николы Морского и остановился. В ограде на зеленой траве играли дети. Он засмотрелся. О, как бы желал он теперь сам превратиться в дитя, чуждое житейских треволнений… стать с своим мячиком посреди розовых малюток, беспечно бегающих с обручиками, мячиками, картонными лошадками и всякими игрушками! Неведомая сила тянула его туда. Слезы сверкнули у него в глазах, грусть, сожаление, злость давили ему грудь, и тоска его разрешилась наконец в долгое, энергическое проклятие, посланное господину Хлыщову…
Оно было так искренно, так энергично, почерпнуто в таких сокровенных тайниках злобы и ненависти, что нет ничего мудреного, если оно отзовется нашему герою!
II
Занятия, которым предавался Хлыщов в дороге, всего лучше могут определить состояние духа, в котором он находился. Нередко всматривался он в блестящие дощечки жестяного фонаря, отражавшие его полное, краснощекое лицо; по как отражение было не довольно ясно, то он по временам открывал дорожный мешок, доставал небольшое зеркало и с помощию его дополнял сведения о состоянии своей физиономии, почерпнутые при посредстве фонаря. Глядясь в зеркало, он щурился, подмигивал, лукаво улыбался, покручивал и подергивал свои усы и вообще делал всё, что иногда делают перед зеркалом люди, знающие, что никто за ними не подглядывает. «Граф, граф, решительно граф, — говорил он, трепля свою полную щеку. — И осанка такая — и взгляд графский!» Когда эти занятия начинали ему надоедать, что случалось, впрочем, не слишком скоро, он обращался к молчаливому свидетелю своих наблюдений и вступал с ним в дружеский разговор. — Что ты видел во сне? что во сне видел, а? Ну, пошел зевать, пошел… Неженка! Вишь, развалился! а вот выгоню тебя, так и будешь бежать за каретой, — тогда увидим. Неизвестно, что думал в то время Прометей и вообще до какой степени развиты были его мыслительные способности, но с достоверностию можно сказать, что обоняние его было развито довольно сильно: он беспрестанно обнюхивал тот угол кареты, где находились копченые колбасы и другие дорожные запасы господина Хлыщова, составлявшие, по-видимому, постоянный предмет размышлений его верного пса. Случалось, что Прометей обнаруживал даже явное покушение полакомиться ими, но герой нага довольно неучтиво отталкивал его, пока наконец голод не пробирал его самого. Тогда в карете мгновенно всё оживлялось.
Каким бы глубоким сном ни спала собака, Хлыщову стоило крякнуть и прищелкнуть языком, чтоб поднять ее: ибо многочисленные наблюдения убедили сметливого Прометея, что герой наш издавал вышеупомянутые звуки только в таких случаях, когда, выпив водки, приступал к закуске. И действительно, испустив их, он тотчас доставал складной нож и развертывал припасы. Собака не спускала с него глаз, провожая в его рот каждый кусок, и жадностью своей подавала господину Хлыщову неистощимый повод к остроумию и наставительным замечаниям касательно терпения и других добрых свойств, необходимых хорошей собаке.
Иногда вдруг охватывало его поэтическое настроение. Он пел куплеты из любимых своих водевилей, и тогда целый рой милых сердцу театральных воспоминаний возникал в его голове. Мысленно переносился он в Александрынский театр, и перед ним стройно проходили любимые артистки, с своими очаровательными улыбками; знал он также много романсов и громким, проникающим душу голосом пел:
На заре ты ее не буди, На заре она сладко так спит, Утро дышит у ней на груди, Ярко блещет на розах ланит…То был его любимый романс; он пел его беспрестанно, вытягивая с особенным одушевлением стих:
У-тррро дыыыыы-шит у ней на грррру-ддддди… —причем его собственная могучая грудь высоко подымалась, и он вздыхал сладко-сладко и мысленно рассчитывал версты.
Поэтическое настроение его оканчивалось обыкновенно тем, что он начинал сам складывать стихи, — участь всех одиноких путешественников, сколько-нибудь наклонных к мечтательности и отвлеченностям. До какой степени удачны поэтические опыты Хлыщова, читатель может судить по следующему отрывку:
Ассан сидел, нахмуря брови. Кальян дымился, ветер выл. И, грозно молвив: «Крови! крови!», Он встал и на коня вскочил. «Зюлейка! нет, твою измену Врагу я даром не прощу! Его как мяч на шашку вздену, Иль сам паду, иль отомщу!» Что было ночью в поле ратном, О том расскажет лишь луна… Наутро конь путем обратным Скакал… Несчастная жена! Мешок о лук седельный бился, Горела под конем трава. Но не чурек в мешке таился: Была в нем вражья голова!Стихотворение называлось «Месть горца». Автор думал посвятить его трем буквам со звездочками, значение которых мы скоро узнаем; к слову чурек сделана была выноска: чурек — черкесское кушанье.
Читатель теперь видит, что имеет дело с человеком не совсем обыкновенным, и если, может быть, до сей поры он недоумевал и даже обижался, почему автор с таким усердием описывает мельчайшую черту своего героя, то теперь, надо надеяться, подобное недоумение уже не может иметь места. Почему Хлыщов, при всех условиях счастия, которым, по-видимому, наслаждался, выбирал такие мрачные картины? Потому, всего верное, что мелкие чувства и страсти, обыкновенные происшествия, обыкновенных людей он считал решительно недостойными описания и всегда удивлялся, как у авторов достает терпения возиться с таким к предметами. Любимым его чтением был «Кавказский пленник», после которого всего выше ставил он «Хаджи-Абрека», мало видя хорошего в остальных произведениях Лермонтова. Он думал, что изображения достойны только чувства громадные, предметы поразительные, люди со страстями могучими и душой возвышенной. И, надо признаться, мы совершенно с ним согласны, а потому именно выбрали нашим героем его, господина Хлыщова, а не кого-нибудь другого…
Однако ж к делу.
Нет никакого сомнения, что самыми торжественными минутами в путешествии Хлыщова были те, когда карета, с шумом подкатывалась к станции и останавливалась. Дверцы растворялись; вслед за своим хозяином собака бойко выскакивала, расправляла свои могучие члены, картинно выгибаясь, лаяла, визжала и бросалась ко всем с признаками живейшей радости. Но прочие пассажиры, не поняв ее дружеского расположения, приходили в смущение и пятились; дамы кричали: «Ах!»
Тогда Хлыщов, с любезностью приложив руку к фуражке и грациозно принагнув голову, произносил самым нежным голосом:
— Не извольте пугаться, сударыни. Собака моя, только страшна с виду и сила у ней ужасная, но, пока я при ней, она не сделает никому ни малейшего вреда… особенно прекрасному полу.
Вслед за тем кроткое выражение лица его сменялось повелительным и чрезвычайно свирепым с такой быстротой, как будто вдруг поставили ему сзади на плечи другую голову; голос из нежного тона мгновенно переходил в густой, настойчивый бас, и герой наш кричал:
— Прометей, сюда!
И собака тотчас послушно опускала уши и смиренно садилась на задние лапы у ног своего хозяина.
— Вот как у нас! — гордо замечал тогда Мартын своему соседу, с любовью оглядывая собаку. — Ведь уж как же мы ее и учили. Сколько битья приняла сердечная! А то прежде на людей бросалась — разорвет… Соседи хотели жаловаться в полицию, а кучер генеральский просто грозился извести: я, говорит, подсыплю ей яду…
— Мартын, трубку! — раздавался вдруг голос господина Хлыщова, и Мартын, не кончив речи, опрометью бросался с своего высокого седалища, с готовой уже трубкой, которую, ради скуки, набивал всю дорогу.
Нужно заметить, Хлыщов в карете курил папироски, а на станциях трубку с длиннейшим чубуком. Герой наш не любил коротеньких чубуков.
Когда человек хорошо настроен, каждая безделка доставляет ему повод к наслаждению. Разные дорожные встречи и случайности, ссоры ямщиков, привязчивые продавцы выборгских кренделей и баранков, называющие каждого проезжающего золотцем, — всё развлекало нашего путешественника; он острил, хохотал, пугал баб своей собакой и вообще обнаруживал признаки счастливейшего смертного.
И точно, он был счастлив. Не говоря уже о том, что он, как мы узнали, ехал жениться, и о том, что мог есть безнаказанно, как мы тоже видели, копченую колбасу в дороге, — вся вообще обстановка его жизни была такова, что печалиться было нечему: он был молод, хорош собой, по крайней мере по собственному убеждению, далеко не беден и наслаждался полной независимостью. Разбогател он, впрочем, недавно; в прошлую поездку свою в Москву он влюбился в одну очень образованную, примерной нравственности девицу, с хорошим приданым, но тогда еще, как он сам говаривал, делишки его хромали: бабушка его была еще жива. Благоразумие предписывало подождать. И вот теперь бабушка его умерла, оставив ему хорошее наследство, — и он ехал к предмету своей страсти, твердо уверенный в полной победе…
Таким образом, желание произвесть блистательнейшее впечатление на невесту было единственной заботой его в дороге. Надлежало, следовательно, принять меры, чтобы дорога не попортила лица. И герой наш принял их: во всю дорогу он ни разу не умывался, хотя карета страшно пылила и по природе был он весьма чистоплотен. Усы его через сутки начали терять свой черный цвет, наконец покраснели как кирпич, и скоро не осталось ни малейшего сомнения, что природный цвет их был рыжий; но с усами справиться легко! Иное дело нос. Так как нос Хлыщова имел несчастную привычку краснеть вследствие малейшего трения, то герой наш в последнюю ночь решился даже не спать, рассчитывая, что и приобретенная таким образом бледность придаст лицу его интересное, поэтическое выражение… Но натура взяла свое: как ни крепился Хлыщов, к утру сон одолел его, и он проснулся с краснейшим носом, благодаря суконному обшлагу шинели, в течение нескольких часов усердно делавшему свое дело. Обстоятельство ничтожное, и мы не упомянули бы о нем, если б оно значительно не омрачило веселости нашего героя. Проезжая последние станции, он ни разу не поговорил с своей собакой, не любезничал с дамами, но тотчас, как отворялись дверцы, бежал к трактирному зеркалу, подозревая собственное в предательстве. Но и трактирные зеркала показывали то же, с прибавлением иногда небывалого раскоса в глазах, чем Хлыщов, видимо, оскорблялся, отскакивая с негодованием и бросая кругом свирепые взгляды.
Думая, нет ли чего тлетворного в дыхании собаки, Хлыщов целые две станции проехал, высунув голову в окно, причем изрядно наглотался пыли; но что нужды! пыль шла в желудок, в котором у него всё обстояло благополучно… беда та, что гибельная краснота нисколько не уменьшалась. Оставалась одна надежда на разные косметические средства, которых находился при нем изрядный запас, — и Хлыщов с нетерпением ждал минуты прибытия в Москву.
И вот она наконец наступила, к величайшей его радости. Приказав Мартыну везти чемоданы в гостиницу Шора, а с собой захватив только дорожный мешок, Хлыщов нанял лучшего извозчика и полетел к Охотному ряду.
«Придется, может быть, — думал он дорогой, — принимать у себя родственников невесты: надо, чтоб квартира была хорошая. Пусть видят, что в родню к ним вступает не какой-нибудь забулдыга!»
К счастию, два лучшие нумера в гостинице Шора были порожние. Поторговавшись порядочно и назвав всех трактирщиков обиралами, Хлыщов взял их.
— Воды, скорей воды! — кричал он человеку, входя в комнату.
Человек пошел, а Хлыщов подскочил к зеркалу…
III
Когда Хлыщов разложил свой несессер и дорожный меток, нельзя было не подивиться необыкновенному обилию косметических средств, находившихся при нем; особенно мыла, в тисненых коробочках, в красивых жестянках, в цветных бумажках, имелось такое огромное количество, что невольно возникал вопрос: не был ли герой наш просто мыльным торговцем и не приехал ли в Москву с образчиками своего товара, которому не находил достаточного сбыта в столице? Но такое обидное предположение скоро рассеивалось тем, что каждый сорт имел свое особенное назначение и по мере надобности поступал в дело. Составов для крашенья усов было также немало; выгружая их, Хлыщов вскрикнул: любимый его фуляр, с китайскими мандаринами по краям и с чувствительной сценой в середине, был залит черной жидкостью, которая успела уже засохнуть и отставала местами, как кора с дерева.
«Надо будет его перекрасить», — подумал Хлыщов.
Пока герой наш умывался, Мартын призвал парикмахера, и через два часа Хлыщова нельзя было узнать — причина, обязывающая нас как можно подробнее описать его превращение.
Нежная кожа налима может дать далеко но полное понятие о том, до какой степени выбритая борода его, натертая благовонным мылом, синелась и лоснилась; усы были черные как смоль и расположены эффектнейшим образом: представляя в основании почти сплошную массу, постепенно шли они тоньше и тоньше и оканчивались с каждой стороны одним длинным волоском, закрученным в колечко; симметрия была соблюдена с удивительной точностью. Волосы были завиты мельчайшими колечками. На нем был черный сюртук с иголочки; брюки цвета вареной лососины, с черными лампасами, жилет черный с красным снурком по бортам. Руки его украшены были кольцами и дорогими перстнями. Туго накрахмаленные воротнички рубашки красиво облегали его полные щеки, а подбритый затылок тонул в складках синего шарфа, приколотого спереди огромной булавкой, в виде серпа, с маленькими брильянтами. Здесь необходимо отступление. Хлыщов принадлежал к числу немногих избранных, у которых волосы растут не спросясь, где нужно, где нет, с изумительной силою; в одиночку или попарно сюрпризом выбегали они на его щеки где попало; греческий нос его (он любил называть свой горбатый нос греческим) постоянно был украшен небольшим, но тесным семейством маленьких волосков необычайной белизны и тонкости; Хлыщов боялся их трогать, чтоб не наделать хуже, и благодарил судьбу, что они еще белые; не так милостиво поступал он с черными, коренастыми волосами, лезшими из самого носа такими пучками, что, не тронь он их ножницами, из них в короткое время вышло бы престранное дополнение к усам; уши его, по выражению одного остряка, зарастали так, что он по временам лишался всякой способности ценить оперу, отчего и предпочитал ей цыган. Голова в незавитом состоянии напоминала сноп, скомканный и перевернутый шаловливыми ребятишками, и волосы на ней, особенно сзади, росли так низко, что Хлыщов пришел к необходимости подбривать свой затылок, подобно кучерам, делающим то же из франтовства. Объяснив, почему затылок нашего героя был подбрит, приступаем к окончанию обстоятельной описи его наряда. Оно будет коротко: не упомянуто выше только о сапогах, которые были новы и немножко поскрипывали, — обстоятельство, глубоко огорчавшее нашего героя. Он был но чужд прогресса, и с того самого дня, как прочел в модах одного журнала, что сапоги со скрыпом перешли в достояние франтов дурного тона, Хлыщов возненавидел скрып, которым в течение одиннадцати лет самодовольно оглашал гостиные своих знакомых, следуя мнимой моде. И теперь каждый раз, как сапоги его, до крайней степени ссохшиеся в дороге, издавали звук, наполнявший некогда сердце его гордым удовольствием, герой наш содрогался!
«Впрочем, здесь не Петербург; может быть, оно даже и лучше», — наконец подумал он с полным убеждением, привыкнув, подобно всем счастливцам, толковать в свою пользу хорошую сторону предмета мимо десяти дурных, и, подумав так, он протянул руку к духам.
Надушился он так, что Прометей, как ни любил своего хозяина, не мог оставаться в одной с ним комнате и, расчихавшись, убежал в прихожую.
— Не твоему собачьему носу нюхать такие духи! — рассмеявшись прокричал вслед его Хлыщов и подошел к зеркалу.
Он был уже совершенно готов, даже перчатки, чистейшего лимонного цвета, были надеты, и подходил он теперь к зеркалу с таким же чувством, как художник, окончив любимую картину, выбирает лучшую точку, чтоб обнять эффект целого.
— Еще подумают, что пьянствовал в дорого, — пробормотал Хлыщов, с неприятным чувством всматриваясь в красноту своего носа (увы! никакие старания не могли уничтожить его), и вздохнул. — Но я сделал всё, что мог… не отрезать же мне его?.. видно, уж такая судьба!
Всего более бесило его то, что у Мартына, подвергнувшегося тем же самым влияниям, нос был нисколько но красен.
«А еще ехал, шут, впереди!» — думал Хлыщов, вздергивая плечами в горьком недоумении.
— Мартын! Ты пил дорогой? — спросил он вдруг.
— Как же-с! Да вот еще на той станции… как бишь ее? вот и забыл! квас такой важный!
— Да нет… не квас! вино пил?
Мартын подумал и произнес:
— Виноват-с.
— Не в том дело. И много пил?
— Как можно-с!
— Ну а как?
— Пил-с.
— Да много ли! Каждый день?
— Каждый… Нельзя-с: ночи такие холодные…
— Как! и по ночам пил? — воскликнул Хлыщов и снова пожал плечами, сделав гримасу, которую вместе с движением плеч можно было перевесть так: «Вот поди и спрашивай справедливости у судьбы!»
Объяснив обидную шутку судьбы особенной нежностью своей благородной кожи (чем значительно утешилась его щекотливая гордость), Хлыщов величественно облекся в синий плащ с бархатными отворотами, изобретенный исключительно для таких гигантов, и вышел.
Был час четвертый. Насидевшись вдоволь дорогой, герой наш чувствовал сильную потребность пройтись, и как времени до обеда оставалось еще довольно, то он и отверг решительно многочисленные предложения извозчиков, величавших его графским сиятельством. Конечно, такая грубая и пошлая лесть не могла ему нравиться; но как она служила новым доказательством некоторых собственных его заключений, сделанных перед зеркалом в почтовой карете, то и не осталась вовсе без его внимания: «Ведь не всех же и они величают графами! — думал он, драпируясь своим плащом. — Иной хоть тысячу прокатай им, а больше вашего благородия не дождется!»
В самом веселом расположении проходил он но узким кирпичным тротуарам, попирая их с особенной силой, в надежде, что сапоги авось выскрыпятся и будут вести себя в гостиной будущего тестя прилично.
Нет сомнения, что веселость его, говоря цветистым слогом, была бы еще безоблачнее, если б не зеркальные стекла некоторых магазинов, заглянув в которые он тотчас отворачивался с неприятной гримасой и даже иногда испускал глубокий вздох.
Ничто не могло равняться презрению, с которым осматривал он проходящих, особенно тех, в которых замечал претензию на щегольство.
«В Москве еще носят бирюзовые запонки, — думал он, преследуя сатирическим взором предмет своих наблюдений, — а вот… ха! ха! ха! белые перчатки, шляпа, фрак и — фуражка! в столичном городе в фуражке!.. А вот… ну, отличился, отличился! пальто с иголочки, сапоги лакированные — и сережка в ухе… ха! ха! ха!.. Эх, Москва, Москва! матушка Москва, золотые маковки! Далеко тебе до Петербурга… Тише, ты, ротозей! не видишь!!!» — Последнее восклицание, произнесенное весьма резко и грозно, относилось к дюжему парию, тащившему на голове лоток вареных груш и чуть не окатившему их сыропом нашего героя.
— А ты сторонись, не видишь — с лотком иду! — прокричал разносчик.
— Ах ты, ах ты… — сердито возразил Хлыщов, и голоса у него не хватило. Честь его была глубоко оскорблена, он хотел догнать дерзкого и спросить, знает ли он, кому осмеливается грубить, как всегда делывал в подобных случаях; но вдруг рука его коснулась плаща, и он побледнел. Струи грязной жидкости бежали по бархатным отворотам и некоторые обнаруживали дерзкое намерение пробраться под плащ. Пока Хлыщов предупреждал их порывы, разносчик исчез. В то же время над головой Хлыщова послышался бойкий и довольно приятный женский смех.
Сдержав резкие выражения, которые готов был послать разносчику, Хлыщов поднял голову. Он находился против весьма длинного и грязного двухэтажного дома, во всю длину которого тянулась вывеска такого содержания: «Дирлинг и Ко, красильщиков и пятновыводчиков из Парижа». В растворенном окно над вывеской виднелась женская головка замечательной красоты; рот незнакомки был полураскрыт, причем во всем блеске выказывался ряд ровных и беленьких зубов; живые глаза с детским любопытством у участием, даже больше — с любовью, устремлены были на Хлыщова. Хлыщов улыбнулся, показывая тем, что сам готов смеяться своему несчастию, и тотчас же убедился, что его высокий рост, важная осанка, блестящий наряд обворожили незнакомку… Нет никакого сомнения: победа совершена!
«Уж не зайти ли? — подумал он. — Тут, кажется, красильня. Будто что-нибудь выкрасить. Да ведь зачем пойдешь? Не такое время! А ну хоть бы затем, чтобы посмотреть ее вблизи да самому показаться… испытать, как, например… нос? не поразит ли ее вблизи? Может быть, я только так напрасно тревожусь».
И он уж решился было зайти; но мысль опоздать к обеду остановила его. Он ускорил шаги, повернул в соседний переулок и, взглянув на часы, взял извозчика. Через десять минут он уже всходил по лестнице, которая вела и квартиру его будущего тестя.
IV
Отрывок из письма Хлыщова к петербургскому приятелю
«…Скажу тебе, дружище, что семейство, в которое скоро должен я вступить, поистине образцовое. Отец, Степан Матвеич Раструбин, человек не слишком большой образованности, и манеры самые обыкновенные; но что и манеры, когда нет души! А у него, я тебе скажу, душа самая благородная: вообрази, за дочерью дает полтораста тысяч чистогану, да еще по смерти достанется нам до ста тысяч. Он, я тебе скажу, нажил все состояние сам — и чем же, как думаешь? пиявками! В молодости случилось ему быть в Персии; там он и высмотри, что пиявки вещь недурная. Вышел в отставку, откупил в Персии какое-то болото и завел торг, да вот теперь у него два дома и до полумиллиона чистыми! Он уже давно, разумеется, оставил эту торговлю; понимаешь, наживши такое состояние, оно как-то неловко, а говорит: продолжай торг, добил бы до миллиона. Конечно, он хорошо сделал, что перестал, а всё жаль: пиявки, пиявки, а деньги такие же! Престранный старик! Если б ты знал, как он любит пиявки! Всякую вещь ими называет. Дочь у него пиявочка, жена пиявушка, лакей Пиявкин; побранить ли кого вздумает, кричит: пиявица! От всех болезней у него одно лекарство — пиявки, и вообрази: сам ничем в жизни не лечился, кроме пиявок, — а ведь как здоров! Толстяк такой, а лицо — кровь с молоком! И к семейству своему и к знакомым беспрестанно пристает, не поставить ли пиявок; лошадям пиявки ставит, а маленькую Фифи совсем погубил: проклятые всю кровь высосали у бедной собачонки; делались, видишь ли, с ней престранные припадки: вдруг завертится, начнет бегать вокруг комнаты, кружится, кружится да наконец и упадет, ну биться; он ей и приставь сорок четыре пиявки, всю ее так улепили, что смешно было смотреть, стала вся мохнатая, точно новой шерстью обросла! Была толстая, жирная, как всегда мопсы. А как отвалились, так совсем не узнать: точно кот стала, с неделю не кормленный, и шатается. Я, признаться, сначала и порадовался: терпеть не могу никаких маленьких собачонок, особенно мопсов, — ножки короткие, ходит — переваливается, морда тупая, а шерсть так лоснится, — тьфу, противно вспомнить! Да моя бедная Варюша расплакалась: „Вы, — говорит, — папенька, ее погубили своими пиявками!“ А он только смеется. Вообрази: и меня вздумал было лечить пиявками: сделалось у меня с дороги небольшое красное пятно на носу — так, пустяки! Он и пристал: приставь да приставь я к носу пиявку, я отнекиваюсь… Только что же? Заснул я после обеда: с дороги устал (понимаешь, я у них по-домашнему), слышу шорох, и нос так страшно холодит… открыл глаза, а он тут! и пиявка в руке, уж пробовал, да счастие, не вдруг пристала! Я как вскрикну. Он, уж нечего делать, — стал извиняться; я, говорит, вам же добра желал, а впрочем, как хотите — обиделся! И чего вы боитесь, говорит, вот смотрите: взял и приставил к своему носу: каков? Беда при нем заикнуться, что нездоровится, болит что-нибудь. Умора! а, впрочем, хорошо, что он так привязан к тому, чем, можно сказать, судьбу свою упрочил, — редкая в наш век черта! И, вообрази, даже дети у него… их четверо маленьких, кроме моей Вареты. Женился он, видишь, в Персии, взял персиянку: ну, известно, черная, нос такой крупный, брови, как лес, теперь толстовата голубушка, а хороша, должно быть, была!.. Всё говорит про Персию… Даже дети такие черные, толстенькие, лоснятся, ну точно насосавшиеся пиявки; право! мне, по край ней мере, всегда так кажется. Странная игра природы! А впрочем, семейство прекрасное! Приняли они меня, братец, чудесно: старик послал шампанского. И моя Варенька чудо красоты, любит меня ужасно. Глаз с меня не спускала, да я скоро ушел: спать с дороги хотелось смертельно…; Да что! Она ли одна? Скажу тебе, братец, мне здесь тай повезло, так повезло, что не будь такое время… да жаль, не до жуировки! время не такое. А с другой стороны, ведь я в некотором смысле образ жизни готовлюсь переменить, с молодостью прощаюсь… думаю, думаю, и сам но знаю, как распорядиться. Ну, да утро вечера мудренее. Прощай, хочется спать…»
V
— Мартын! нет ли у нас чего перекрасить? — спросил на другое утро Хлыщов, просыпаясь в самом приятнейшем расположении духа и потягиваясь.
— А как же, сударь! сами еще изволили говорить: желтый фуляр весь фаброй выпачкался…
— Ба! ба! ба! — воскликнул Хлыщов. — В самом деле! Так ты приготовь его…
Он не колебался долее. Желтый фуляр решил дело.
Часу в двенадцатом, одевшись по-вчерашнему, герой наш тем же путем отправился к невесте и скоро очутился перед домом с вывеской братьев Дирлинг и Ко. Белокурая головка была тут, совершенно в том же положении, как будто она всю ночь провела у окна.
— Я к вам иду, — сказал он самым нежным и вкрадчивым полушепотом.
— Пожалуйте, — отвечала она спокойно и приветливо.
Хлыщов поднялся по лестнице. Не успел он подойти к двери с маленькой вывеской «Дирлинг и К®», как уже дверь отворилась. Хлыщов поспешил войти и заметил, что отворила ему сама хозяйка.
Он вошел в комнату довольно просторную, по стенам которой помещались высокие шкапы. Поперек тянулся прилавок, захватывавший крайнее окно, у которого, как сообразил Хлыщов, показывалась ему интересная красильщица. У другого окна стояла огромная вешалка, заваленная распоротыми платьями, салопами, сюртуками и другими принадлежностями мужской и женской одежды разных цветов и размеров; к каждой вещи приколот был булавкой ярлык с нумером. Хлыщов был поражен таким разнообразным смешением одежд и думал, что если б собрать в одну кучу их владельцев, то вышло бы не менее разнообразное и занимательное смешение лиц. Два шкапа были полураскрыты: в них висели, также каждый с своим нумером, разноцветные лоскутья сукна, ситцу, шелковых и шерстяных материй, намекавшие своей формой иногда довольно ясно, какого рода одеяния были распороты и подвергнуты перекраске и каких размеров были люди, носившие их в первоначальном виде.
— Славно у вас красят, — сказал Хлыщов, рассматривая перекрашенные лоскутья, — только долго ли держится краска?
— Как долго? — сказала хозяйка не совсем чистым русским языком, которому мы не будем подражать. — Всегда!
— Уж будто? — возразил с приятной улыбкой Хлыщов.
— Попробуйте! — отвечала хозяйка. — Что вам угодно?
— Что? — сказал Хлыщов. — Вы изволите спрашивать, что мне угодно?
Молчание.
— А вы не ждали, чтоб я к вам вошел? — продолжал он. — И если б я вошел так, без всякой причины, небось рассердились бы?
Молчание.
— Вы довольны, что я зашел? или вам всё равно?
— Всё равно, — отвечала немка.
При таком неожиданном ответе герой наш решительно подумал, что немка глупа.
— Нет! как всё равно? — поправилась она с испугом, медленно одумываясь и видимо недовольная своей оплошностью. — Мне очень приятно!
— А! — значительно произнес обрадованный Хлыщов.
— Муж бранит, что нынче совсем мало работы, — дополнила немка, — вы, верно, пришли…
— Муж? так у вас есть муж?
— Да, муж!
— А где он?
— Там, — отвечала немка, указывая пальцем в пол.
— Внизу?
— Да.
— А что он делает внизу?
— Красит.
— Так у вас там красильня?
— Мастерская, — отвечала красильщица,
— А там что? — спросил Хлыщов, указывая на дверь в соседнюю комнату.
— Там… столовая.
— А там, дальше столовой?
— Спальня, — отвечала немка.
— Н-да. Ну а там, после спальни?
— Там кухня.
— А после кухни?
— Там ничего… там лестница вниз…
— В красильню? — подхватил Хлыщов.
Ему нравились простодушные ответы и особенно замешательство красильщицы, при котором она раскрывала рот шире обыкновенного и устремляла к потолку синие большие глаза, чрезвычайно схожие с глазами самого Хлыщова, напоминавшими, как уже сказано выше, глаза большой рыбы, вытащенной на берег.
— Так у вас мало работы? — спросил он.
— Теперь мало.
— И мул? сердится?
— Очень.
— Вот я вам принес работы и принесу еще…
— Вам выкрасить или перекрасить? — с живостью перебила хозяйка.
— Перекрасить… Не то чтобы перекрасить, — поправился Хлыщов, — я перекрашенных вещей до ношу, к счастию, не имею в том нужды, а если что вымарается, отдаю человеку… А тут особенное обстоятельство: вымарался в дороге мой любимый фуляр… мне его подарили — дорога память…
Довольный последней фразой, слетевшей с языка совершенно экспромтом, по как нельзя более кстати, Хлыщов достал фуляр и показал его хозяйке.
— Можно, — сказала она. — В какую краску?
— В какую хотите.
Я предоставляю вашему вкусу и вполне уверен…
Он грациозно принагнул голову.
— Нет, уж лучше вы сами назначьте, — сказала хозяйка, — а то после…
— Ха-ха-ха! Что вы думаете?.. Разве вам случалось?.. Нет, я вам скажу… я…
— Нет, нет, нет! — возразила немка, неожиданно оживляясь. — Вот подавно тоже господин, как и вы, богатый, принес перекрасить… одну вещь… одну (она, очевидно, затруднялась в выражении)… принес и оставил перекрасить в дикую краску. Перекрасили, а он посмотрел и рассердился. Я, говорит, велел в дикую, а вы перекрасили в серую… Я серый цвет не люблю и никогда но ношу. Рассердился так! Отдайте, говорит, мне… мою вещь такую, как была… А где нам взять её, такую? Муж так сердился, бранил… всё ты, говорит: по расспросила хорошенько!
— Удивляюсь, — воскликнул Хлыщов с неподдельным негодованием, — удивляюсь, как находятся такие люди! Кажется, один пол должен бы обезоружить… Будьте спокойны, сударыня, если уж вы сами не хотите назначить, так пожалуй… Да вот чего лучше? О какой там краске у вас расписано? — заключил он, увидав пачку объявлений у конторки.
Хозяйка подала ему объявление. Хлыщов прочел:
БРАТЬЕВ ДИРЛИНГ и Ко
НОВОИЗОБРЕТЕННАЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ КРАСКА,
НЕ ЛИНЯЮЩАЯ НИ ОТ ВОДЫ, НИ ОТ СОЛНЦА
И НАВСЕГДА
СОХРАНЯЮЩАЯ СВОЙ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ГУСТО-ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ
С БРОНЗОВЫМ ОТЛИВОМ
— Уж будто никогда не линяет? — спросил он шутливо.
— Никогда.
— Знаю я, знаю ваши объявления! Написать всё можно — бумага терпит. А посмотришь: через недолго удивительная зеленая краска порыжеет, как вохра… Ха-ха-ха!
— Ни-ни-ни… никогда! — воскликнула немка, начиная сердиться. — Ее теперь все хвалят; каждый день котел выходит. Попробуйте, так увидите!
— Верю, верю, сударыня, — вежливо отвечал Хлыщов, — и, чтоб доказать вам, прошу выкрасить мой фуляр в вашу зеленую краску… оно хоть и не совсем идет к фуляру, но вы хвалите, и я…
Он опять грациозно принагнул голову.
Немка приняла фуляр и выдала ему нумер. Принимая его, Хлыщов осторожно пожал маленький пальчик красильщицы. Она быстро отдернула руку.
— А когда будет готов? — спросил он.
— В пятницу.
— А нельзя ли завтра?
— Нет… очень скоро.
— Хоть к вечеру?
— Погодите… я спрошу мужа.
И она хотела идти. Хлыщов остановил ее.
— Нет, зачем же? — сказал он. — Я лучше завтра наведаюсь, мне по дороге; если готов будет, так хорошо, а нет, так всё равно… Зайти?
— Пожалуйста, — отвечала она.
— Теперь прощайте. Не смет дольше утруждать вас моим, может быть, неприятным присутствием; будьте уверены, что, как бы вы ни распорядились с моим фуляром, хоть бы совсем испортили его… я… вежливость к прекрасному полу, по-моему, первый долг… Надеюсь, что вы будете смотреть на меня не как на докучного посетителя но делу, а как на доброго знакомого… так? — прибавил он тихо, устремляя на нее нежный взгляд, — так?
— Так, — отвечала она неопределенно.
— А в доказательство… позвольте пожать вашу ручку… Тут нет ничего, так делается.
И он взял ее руку и поцеловал.
— Ай! зачем? — сказала она, быстро вырывая руку.
— Ну, не сердитесь. Вы не сердитесь?
Красильщица молчала.
— Прощайте, прощайте! не смею более утруждать вас…
Он расшаркался и вышел.
«Начало недурно!» — думал он, спускаясь с лестницы.
— Прощайте! — сказал он, поравнявшись с окном, в котором уже опять появилась красильщица.
— Прощайте! приносите же еще!
— О, непременно!
И счастливый герой наш отправился к невесте.
— Вот, — думал он, — есть пословица: за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь… Ну, не всегда!
VI
Дела Хлыщова во всех отношениях шли превосходно. Будущий тесть его, кроме пиявок, страстно любил еще делать всякого рода сюрпризы и через три дня после первого свидания совершенно неожиданно объявил Хлыщову, что дает за своею дочерью не полтораста тысяч, как пошутил сначала, а двести. «Вот шутник так шутник!» — подумал Хлыщов, радостно выслушав старика и заключая его в объятия. «Дай бог, чтоб он всегда так шутил», — и в голову Хлыщова серьезно забралась мысль, но пошутит ли старик через неделю еще тысяч хоть на двадцать пять. «Тогда, пожалуй, можно будет согласиться и пиявки поставить, отчего не потешить добряка», — думал он. Хлыщов каждый день обедал у Раструбиных, приходя часу в первом и просиживая до обеда с невестой своей и с молчаливой Поликсеной Ираклиевной (так называлась госпожа Раструбина). Его красноречивые, остроумные рассказы о Фреццолини, о Бореи (Гризи и Марио тогда еще не было в Петербурге), о Фанни Эльслер, которую он называл просто Фанни, видимо интересовали молодую девушку. Варюша спала и видела тот вожделенный день, когда, сделавшись госпожою Хлыщовой и приехав в Петербург, она появится в опере. Надо заметить, что Хлыщов в Москве прикидывался страстным меломаном итальянской музыки и с пренебрежением отзывался о цыганах. Называя себя борсистом (он действительно принадлежал к тем, которые отдавали предпочтение Бореи перед Фреццолини), яркими красками описывал он мнимые победы борсистов над фреццолинистами, к одержанию которых значительно сам содействовал (чему нетрудно было поверить, приняв в соображение массивные руки и вообще атлетическое его сложение). Все были от него в восторге, не исключая и дородной Поликсены Ираклиевны, которая вмешивалась в разговор единственно в таких случаях, где можно было ввернуть словечко касательно того, как то или другое делается, растет, приготовляется или употребляется «у нас в Персии». Хлыщов, не лишенный юмористического взгляда на людей и людские деяния, скоро подметил слабую сторону доброй старушки и в приличных случаях скромно подмигивал старику Раструбину, который открыто смеялся над своею женою, называя ее не иначе как «у-нас-в-Персии». «А что „у-нас-в-Персии“ так присмирела? — говорил он, попивая кофе. — Что ни говори, а „у-нас-в-Персии“ прекрасная женщина. Какого плову сегодня подала нам; жаль только, изюму и коринки слишком много положила». «У нас в Персии всегда так кладут», — отзывалась Поликсена Ираклиевна, начинавшая уже дремать. «Ха! ха! ха! опять — у-нас-в-Персии!» Старик добродушно смеялся. В таких разговорах и шутках, до которых старик был большой охотник, не много заботясь, как все разжившиеся веселые старики, о их достоинстве и пополняя недостаток качества количеством, — проходило незаметно два-три часа после обеда.
Часу в осьмом Хлыщов обыкновенно уходил, обещая завернуть еще попозднее.
Куда шел он? — читатель догадывается.
— А что, Мартын, нет ли у нас чего перекрасить? — почти каждый день, отправляясь со двора, спрашивал он у своего человека.
И, спустя несколько дней, значительная часть его шейных платков, косынок, шелковых рубашек (Хлыщов в дороге носил шелковые рубашки) и некоторых других вещей была перекрашена. Принимая обратно вещи, которые перекрашивались обыкновенно в темно-зеленый цвет, Мартын не мог надивиться странному направлению вкуса своего барина.
«Что, нынче мода, что ли, на зеленый цвет?» — думал он и, как человек начитанный, любивший обстоятельно обсуживать каждый предмет, погружался по поводу прихоти Хлыщова в самые отвлеченные глубокие соображения, пользуясь долгими часами одиночества. Не раз даже обращался он с разными вопросами по поводу зеленой краски к своему единственному товарищу Прометею, с которым вообще имел привычку разговаривать. Остановившись наконец на мысли, что, видно, такая мода (а он любил следовать моде, и каждая новость в костюме барина так или иначе отражалась в его собственном), он однажды на обычный вопрос барина: «Нет ли чего перекрасить?» — запинаясь отвечал:
— Нет-с, вашего уже ничего нет… а вот-с, если прикажете, моего…
— Давай, давай! — сказал Хлыщов.
— Куда прикажете-с?.. я отнесу.
— Н сам возьму.
— Много-с; куда вам!
— Ничего, ты вон поди позови извозчика и положи ему… я уж сам отдам… да много?
— Довольно-с… я в узелок связал…
— А пальто, что я намедни подарил, положил?
— Нет-с.
— Что же?
— Да будет и так. Много доволен.
— Положи и пальто. Оно всё в пятнах, лучше и его перекрасить.
— Точно, уж как же не лучше? Покорно благодарю-с.
Не слыша ног под собой, Мартын связал в узел почти всё свое платье и сдал извозчику.
«Ну, будет моей немочке радость! — подумал Хлыщов, увидав у извозчика огромный узел и садясь в дрожки. — Всё жалуется, бедненькая, что мало работы!»
Узел был сдан красильщице с приличной оговоркой, что платье принадлежит не ему, Хлыщову, а его человеку, — Хлыщов же взялся сам передать только потому, чтоб иметь предлог увидеть ее. И через несколько дней Мартын ходил весь зеленый с ног до головы, словно попугай, и был очень доволен своим модным нарядом. Надо заметить, что зеленый цвет с некоторого времени начал преобладать п в костюме самого Хлыщова, который, желая угодить своей немочке, надевал иногда перекрашенный жилет или шарф.
Как, однако ж, шли его дела? Принося вещи красильщице, он довольно долго оставался у нее, шутил, говорил любезности, и она терпеливо выносила его присутствие: скука ли летней поры, в которую редко приходили посетители, ветреность ли характера, или, наконец, действительная склонность к Хлыщову, как он думал, — только она не слишком сердилась даже тогда, когда Хлыщов целовал у ней ручку… Несколько раз приступал он уже и к решительному объяснению, не всегда так случалось, что в самую критическую минуту раздавался звонок и входил посетитель или являлась (оттуда, где, по словам красильщицы, была столовая) высокая, сухопарая фигура в полосатом халате.
— Каролина Францевна! — говорил главный подмастерье господ Дирлииг и Ко, мрачно оглядывая нашего героя. — Хозяин приказал попросить рубль двадцать копеек!
Хлыщов выжидал, но подмастерье принимался перебирать вновь принесенные в краску вещи, искоса оглядывая нашего героя, пока наконец Хлыщов не убеждался, что его скоро не выживешь. Он уходил с твердым намерением в следующий раз тотчас же приступить к объяснению, не теряя времени в околичностях.
И невозможно было медлить. Шитье приданого Варюши кончено. Через два дня, именно 25 августа, назначена свадьба. В доме Раструбиных всё оживилось. Старик острит более обыкновенного, и по некоторым его таинственным намекам и отлучкам Хлыщов ясно видит, что он готовит новый сюрприз.
— Ну, «у-нас-в-Персии», — говорит Раструбин жене, — пошевеливайся! Пришла пора и тебе проснуться! А вот погоди, свадьбу сыграем, будет еще больше хлопот. Очень уж ты обсиделась… повозишься еще и с мебелью, и с сундуками своими… да! деньги деньгами, а надо им тоже и кроме денег… а нам что, старикам, всё равно.
«Уж не дом ли хочет предоставить нам? Но купчую ли проворит?» — думает Хлыщов, и сердце его наполняется сладостнейшим ощущением. И с новым жаром смеется он шуткам старика, говорит в его тоне, придумывает ему каламбуры и клянется, что сроду не встречал такого остроумного человека, что шутки Степана Матвеича всегда так оригинальны, тонки, поразительны…
— И существенны… главное — существенны, — самодовольно прибавляет старик. — Ха-ха-ха!
— О да, папенька!.. — говорит тронутым голосом Хлыщов, вспомнив неожиданную подбавку пятидесяти тысяч, и, нагибаясь, целует руку будущего своего тестя.
(Не худо заметить, что Хлыщов с самого дня помолвки называл господина Раструбина папенькой и целовал его руку.)
Далее неподвижная Поликсена Ираклиевна оживилась. Целый день она в хлопотах: то примеряет приданое дочери, то показывает его многочисленным гостьям, хлопочет, чтоб всё в доме было прибрано, вымыто, вычищено и приготовлено. Маленькие Раструбины, удачно прозванные Хлыщовым за свою толстоту и черноту насосавшимися пиявками, тоже в хлопотах. С утра до вечера прыгают и бегают они, радуясь, что старшая сестрица выходит замуж, что будет свадьба, будет музыка, будут танцы, будут конфекты…
Так как Хлыщов в глубине своего сердца более питал склонности к двумстам тысячам, чем к самой Варюше, то и неудивительно, что посреди свадебных приготовлений он не упускал и других преходящих, менее существенных, но успевших пробудить его интерес целей.
«Надо, надо проститься с молодостью!» — думал он, приближаясь утром 23 августа к красильному заведению господ Дирлинг и К®.
И он вошел в приемную красильщика. Красильщица, как всегда, была одна. Пожав ей руку, — право, которым уже давно пользовался, — он спросил:
— Что, мой кашне готов?
— Нет еще.
— Отчего же? Ведь вы обещали сегодня?.. А, а! Попались! Уж теперь не отделаетесь.
— Муж сказал, что не успел просохнуть.
— Ну, уж как хотите, я сказал, что, если не сдержите слова, я вас поцелую, и уж теперь прошу не гневаться…
И он хотел исполнить свое намерение, но она увернулась. Успев ухватить ее руку, он с жаром целовал ее.
— А когда же будет готов?
— Вечером.
— Рано ли?
— В семь часов.
— Мне нельзя: я так рано не могу быть.
— Ну так в восемь.
— И то нельзя. Можно в девять?
— Можно, приходите.
— Ну а если я приду в десять? — понизив голос, сказал он. — Мне давно хотелось с вами поговорить, — прибавил он еще тише.
— Приходите, — отвечала она тем же равнодушным голосом.
— И вы будете одни?
— Да.
— А муж?
— Он там, — указывая в пол, отвечала красильщица.
— А, там! — успокоенным тоном повторил Хлыщов. — Так можно?
— Непременно будет готов, — отвечала она.
В то же время в соседней комнате послышались шаги. Явился полосатый подмастерье с своей мрачной физиономией.
— Хозяин просит нумер семьдесят девятый, — сердито проговорил он.
— Прощайте, — переменив тон, сказал Хлыщов. — Я зайду за моею вещью или пришлю к назначенному вами времени.
Последние слова произнес он с особенным ударенном в вышел.
Отыскав вещь под нумером семьдесят девятым, красильщица молча подала ее мрачному подмастерью.
— Хоть бы ручку позволили поцеловать, — плачущим голосом проговорил он, потупляя глаза.
— Ни-ни! взял, что надо, и ступай, марш!
Но подмастерье не трогался с места.
— Больше ничего от вас не будет? — наконец спросил он уныло.
— Ничего не будет, — тем же строгим и резким тоном отвечала она.
— Небось другим позволяете…
— Что?.. иди… а то скажу… иди!..
— Каролина Францевна!.. я всё вижу… чем я такой несчастный…
— Иди, иди! — гневно перебила красильщица, топнув ложной и покраснев.
— Так вы так-то, Каролина Францевна!
— Идить, — нетерпеливо повторила красильщица. — Я не хочу слышать… я позову… И она пошла к двери.
— Уйду, уйду!.. сам уйду!.. — злобно воскликнул подмастерье. — Вижу, что нечего больше ждать, нечего! Вот вы теперь меня не жалеете, а я вас жалел, долго жалел…
— Идить! — прокричала опять немка.
— Ну уж теперь всё кончено, не пеняйте! сами не хотели выслушать… Увидите… я всё знаю…
Злоба душила его, и он ушел, произнося несвязные угрозы…
VII
Пообедав и просидев у Раструбиных до десяти часов, Хлыщов пробирался в знакомую улицу.
«Сегодня прощусь с молодостью, завтра пообделаю делишки, приготовлюсь, а там и за солидную жизнь!» — думал он, довольный и судьбою, и проведенным днем, и предстоящим свиданьем.
Было уже темно. Однако ж, подходя к заведению господ Дирлинг и К®, он тотчас узнал силуэт русой головки, рисовавшийся в крайнем окне.
«Она ждет!» — подумал он, и сердце его забилось.
— Можно? — спросил он тихо, поравнявшись с окном.
— Можно, — громко отвечала ему красильщица.
— У вас никого нет? — спросил он тихо.
— Никого, — отвечала она громко.
— Я войду.
— Пожалуйте, пожалуйте. Я нарочно ждала, готово!
Он вошел.
— А ваш муж нескоро придет? — был первый вопрос его.
— Нет, он всегда там до двенадцати часов.
Хлыщов посмотрел на часы, было половина одиннадцатого. «Медлить нечего», — подумал он.
— Вот, — сказала хозяйка, показывая ему кашне, который лоснился как новый, благодаря превосходным качествам зеленой краски господ Дирлинг и Ко.
— Что кашне! — сказал Хлыщов. — Бросьте его. Когда я носил к вам всю эту дрянь, вы понимаете, что не привилегированная нелиняющая краска ваша влекла меня сюда, а ваши чудесные глазки… Уж как хотите, а вы сегодня должны поцеловать меня, — заключил он, приближаясь к ней.
— Ах, как можно!.. что вы? муж есть… Идите! уж поздно.
— Нет, уж полноте… ну к чему?
И он хотел поцеловать ее. Она вырвалась и побежала в другую комнату. Там он догнал ее, она опять вырвалась и побежала в третью комнату, он туда…
Но здесь мы должны остановиться, чтоб выразить глубокое сожаление, пробуждаемое в нас неслыханным бедствием, которое постигло нашего героя. Бедствие, так неожиданно разразившееся над его головою, как по своей страшной оригинальности, так и по своим ужасным последствиям, заслуживает самого строгого описания.
Едва герой наш успел пасть на колени перед своей красавицей и начать то красноречивое признание, которое уже давно доставляло ему постоянную умственную работу, — как вдруг откуда ни возьмись (вернее всего, из кухни, смежной с красильной) появились два человека, два гиганта — оба они были чрезвычайно высокого роста, — и стремительно кинулись к нему…
Зажав ему рот, они схватили его и повлекли в кухню; оттуда по темной и узкой лестнице спустились они с ним в большую тускло освещенную комнату, которая была так низка, что герой наш, поставленный на ноги, сначала стукнулся, а потом при каждом движении вырваться подметал потолок головой своей, словно щеткой, — несчастное употребление, к которому роскошные его волосы не были никогда предназначены! Гиганты же стояли в ней нагнувшись. В комнате невыносимо пахло сыростью, краской и дымившейся светильней ночника, готового погаснуть. При тусклом свете последних лучей его герой наш успел несколько рассмотреть лица своих врагов: одно принадлежало известному уже подмастерью и было так же мрачно, как всегда, с примесью злобной и неумолимой радости. Другое, прикрытое тенью остроконечного колпака, украшавшего голову гиганта, ускользало от наблюдений; только большие серые глаза горели мрачным огнем, не предвещавшим ничего доброго. Герой наш смутно сообразил, что оно, вероятно, принадлежало одному из господ Дирлинг и К®. В комнате не было никакой мебели; по стенам висели спорки разных одежд, мотки крашеных ниток; посередине стояло множество чанов и котлов, обрызганных краской, с торчащими из них рукоятками кистей. К одному из таких котлов гиганты подтащили нашего героя.
«Что они со мной хотят делать?» — тоскливо подумал он, лишенный способности говорить: рот его постоянно был зажат широкой ладонью подмастерья.
— Сюда его! — проговорил мрачно подмастерье, усиливаясь приподнять Хлыщова, с явным намерением бросить несчастного в котел.
Страшное, варварское намерение! Когда Хлыщов услыхал это, кровь хлынула ему в голову; собрав силы, он рванулся, страшно ударился головой в потолок — и чуть не вырвался.
— Держи его! — воскликнул тот из гигантов, в котором герой наш не без основания подозревал одного из представителей фирмы господ Дирлинг и К®. — Держи крепче руки!
Подмастерье впился в Хлыщова своими ручищами, а господин Дирлинг, зажимая Хлыщову одной рукой рот, другою взялся за кисть, торчавшую из котла, и стал пачкать ею лицо нашего героя. Хлыщов снова рванулся, освободил свои руки и поспешил закрыть ими лицо. Но не успел господин Дирлинг мазнуть по ним двух-трех раз, как подмастерье снова принял их в свое распоряжение. Кисть снова коснулась лица несчастного…
Когда операция была кончена, гиганты подвели Хлыщова к двери и довольно неучтиво вытолкнули его вон. Герой наш очутился на свободе и вздохнул во всю ширину груди. В то же время к ногам его вылетели шляпа и кашне — несчастный кашне, послуживший поводом к такому ужасному происшествию!
«Ну, поделом! поделом! — была первая мысль Хлыщова, когда он несколько одумался. — Нужно было соваться самому в беду и в такое время!» Второю его мыслию было, что он так не оставит дела, что господа Дирлинг и Ко дешево с ним не разделаются, что он даст им себя знать…
Опрометью побежал он домой, горя нетерпением смыть отвратительную жидкость, уже начинавшую щипать его лицо, — и благодарил бога, что кругом темнота, народу нет вовсе и встретить знакомого не предстоит никакой вероятности.
Когда он подошел к своей двери и постучался, одна мысль смутила его. «Что подумает Мартын? пожалуй, еще смеяться станет…» И в голове его составился план…
Но дверь не отворялась. В нетерпении он стал стучать сильнее. Тогда наконец внутри комнаты послышалось шарканье спички.
— Не надо огня! — кричал Хлыщов. — Отпирай так! Но прошло минуты две, дверь не отворялась.
— Ну же!
Шорох продолжался, но дверь всё не отпиралась; казалось, как будто Мартын ощупью старался попасть к двери, но не успевал в своих усилиях; тогда Хлыщов начал подавать ему голос.
— Сюда! сюда! — кричал он. — Ну, сюда!
Но и после таких мер Мартын нескоро нашел и отпер дверь. Явление чисто физиологическое, требующее объяснения.
VIII
Когда колеса машины в полном ходу, рассказ кипит и читатель нетерпеливо желает знать, чем кончится дело, или, вернее, пустяки, которыми потчует его автор, — полезно прерывать действие и уклоняться в сторону. Следовательно, теперь или уж никогда должны мы посвятить несколько строк Мартыну.
Известно, что ничего нет скучнее жизни человека, состоящего в услужении у одинокого холостяка. Барин целый день рыскает бог знает где или скрыпит в своем кабинете с утра до вечера пером по бумаге, а человек сиди! Сиди один, без компании, без дела, без всякого развлечения. Мы разумеем человека благонравного, каким был Мартын. Постоянное одиночество сделало его решительным эксцентриком; многие вещи отражались в его голове совсем иначе, чем обыкновенно у людей; мрачность, меланхолия, наклонность к размышлению, дух пытливости и анализа преобладали в его характере. Отсюда тон его речи был дидактический, как у многих мыслящих людей. По целым дням иногда обсуживал он, почему зимой не бывает грому, а летом иногда грянет так, что окна дрожат; почему птицы летают, а люди не летают; и на все таковые и подобные им вопросы понемногу составились у него ответы.
Он говор древесных листов понимал И чувствовал трав прозябанье.Разумеется, по-своему. Но как человеческая голова не всегда способна к самостоятельной работе, то Мартын иногда прибегал к чтению, заимствуя книги у барина. Чтение дало прочное основание его собственным выводам и обогатило его разговорный, а особенно письменный язык. Но как книг у Хлыщова было немного: всего одна книжка в месяц, как выражался Мартын (герой наш подписывался на «Библиотеку для чтения»), то остальную часть времени нужно было наполнять иначе. Мартын наполнял ее сном. Так как ему приходилось иногда проводить во сне но двадцать три часа в сутки (часов пятнадцать в ожидании барина да часов восемь при барине, который часто уходил с утра, а возвращался ночью), то и понятно, что он скоро в совершенстве овладел искусством спать. Сначала он спал сидя или стоя, с поникшей головой, которая покачивалась, как маятник, потом спал, положив голову на стол, потом не раздеваясь ложился в свою постель и, наконец, когда приходил барии, спал в той же постели, раздевшись. Впоследствии четырех способов спанья показалось ему мало, и он присоединил к ним пятый, весьма оригинальный. Раз Хлыщов, воротившись домой, к удивлению своему, застал дверь своей квартиры незапертого; он вошел — в прихожей никого; пошел дальше — и в гостиной, где стояло большое вольтеровское кресло с полочками по бокам, увидал следующее: полочки были подняты и на каждой из них стояло по горшку цветов, а в креслах, обняв руками горшки, спал его верный Мартын!
Постепенно Мартын усовершенствовал способность свою до того, что мог исполнять свои обязанности не просыпаясь, но только не всегда с должной точностью. Так однажды, в другой раз, воротившись поздно домой, Хлыщов увидал, что бумаги и книги с письменного стола преаккуратно были уложены на постель его, а на письменном столе положены были простыня, подушка и одеяло — обстоятельство, чрезвычайно удивившее и рассердившее Хлыщова. Понемногу Мартын стал засыпаться до того, что терял всякое сознание о месте, о времени, о вещах. Так однажды, желая достать огня, он целый час шаркал об печку железным гвоздем вместо спички, пока наконец рассерженный Хлыщов не выбежал и не образумил его. Теперь понятно, почему Хлыщов, желая попасть в свою квартиру, в некоторых случаях должен был подавать Мартыну голос, — и рассказ может продолжаться.
— Сюда, сюда! — кричал Хлыщов, нетерпеливо стуча. — Видно, опять спячка нашла!
…Когда дверь отворилась, первым делом Хлыщова было задуть страшно нагоревшую и оплывшую свечу, бывшую в руках Мартына. Верная собака, узнав голос своего хозяина, с лаской кинулась ему встречу, но он гневно оттолкнул ее — в первый раз в жизни — и быстро пробежал в самую крайнюю из трех своих комнат.
— Мартын! подай мне огня и воды! воды умываться! — кричал Хлыщов, затворяя дверь. — Не лезь сюда! — прибавил он, когда Мартын подошел к двери с зажженной свечой. — Подавай!
Он приотворил дверь, просунул руку (покрытую перчаткой) и, отвернувшись, принял свечку. Когда таким же образом был ему передан кувшин с водой, он запер дверь на ключ, взял свечку и подошел к небольшому зеркалу, висевшему в простенке. Большое зеркало находилось в соседней комнате, но он не смел туда показаться.
Удовлетворив естественному желанию увидеть, как и чем выпачкали его мрачные гиганты, герой наш горько и язвительно усмехнулся.
То была знаменитая новоизобретенная темно-зеленая краска, которою так славилось красильное заведение господ Дирлинг и Ко! та самая краска, с которою у Хлыщова связано было столько блестящих и нежных надежд, та самая, превосходными качествами которой и теперь представлял полную возможность любоваться перекрашенный шарф, облекавший шею нашего героя!
Сдернув с шеи и отбросив с негодованием темно-зеленый шарф, в одну минуту ставший ему ненавистным, Хлыщов еще раз посмотрелся.
— Фу, как неблаговидно! — невольно проговорил он и стал поспешно мыть руки, которые были так же зелены, как и шарф, как и фуляр, как и пальто Мартына, как и все почти их вещи, как и самое лицо Хлыщова…
Но краска не сходит с рук. Хлыщов попробовал мыть лицо — не сходит и с лица! С новым жаром принимается он мыть лицо и руки, требует еще воды, пробует то одно, то другое мыло, превосходные качества которых ему хорошо известны, — смотрится в зеркало…
— Нет, краска не сошла!
Он снова моет, снова трет лицо мылом так, что больно и рукам и лицу, пробует тереть духами, одеколоном, даже черным зубным порошком… смотрится в зеркало…
Лицо всё так же зелено, — зелено, как всё остальное, к чему прикасалось превосходное изобретение господ Дирлинг и Ко! Только мыло придало ему глянцевитость, лоск, которого не имели в такой степени ни шарф, ни фуляр, ни пальто, ни другие вещи, подвергшиеся перекраске!
Он вспомнил зеленые бронзовые головы, привлекавшие некогда толпу зрителей, а в том числе и его, к фокуснику Родольфу и говорившие, по требованию посетителей, сиплым, таинственным шепотом, — вспомнил и снова горько-горько усмехнулся.
В самом деле, сходство его собственной головы с вышереченными (которые назывались, кажется, мнемоническими) было изумительно. Только белизна ушей и местами полоски настоящей кожи, пощаженные гибельною кистью, нарушали гармонию целого, которому ничего подобного не видано еще было в природе!
Долго еще пытался Хлыщов смыть ненавистную краску, но превосходное изобретение господ Дирлинг и Ко так; плотно впилось в его кожу, что и признаков успеха не было!
— Мартын! мне ничего не нужно. Можешь ложиться спать, а сюда не ходи! — крикнул он наконец и лег, в coвершенном изнеможении.
Как провел он ночь, какие опасения, какие упреки совести мучили его в течение долгих бессонных часов, как, честил он самого себя — не будем описывать. В то же время, когда он возился с водой и с мылом, пытливый Мартын находился в свою очередь в страшной тревоге. Надо заметить, что только третьего дня у соседа их, приезжего купца, случилась покража — обстоятельство, задавшее в свое время воображению Мартына немалую работу. С того дня мысль о возможности подобного несчастия не покидала его. И вот теперь вдруг приходит барин не барин, — требует огня, запирается в комнате, не пускает его к себе, не показывается, толкает собаку… Уж нет ли тут чего? Уж барин ли, полно, там? Конечно, голос его, но голоса бывают всякие… Что, если злодей какой? если вор? Выспавший в течение дня и вечера напропалую, Мартын не мог заснуть, перевертывая в уме страшную мысль. Усиливаясь решить трудный вопрос, он обращался с ним, по своему обыкновению, даже к Прометею; но и тот, оскорбленный неучтивым поступком своего господина, был угрюмее обыкновенного и хранил величавую неподвижность. Несколько раз Мартын уже покушался пойти посмотреть, но решительное приказание барина останавливало его… Положение его было ужасно! В промежутках легкого сна ему уже чудилось, что их обокрали, утащили всё господское платье, утащили и его превосходную зеленую пару, которая была совсем как новая и которою рассчитывал он сильно блеснуть в Петербурге. Последнее обстоятельство его страшно озабочивало, и он только тогда успокоился, когда пересмотрел, пересчитал и перепрятал свои зеленые пожитки. Посреди самых мучительных и жарких опасений послышался ему громкий голос Хлыщова:
— Мартын! поди найми мне карету!
Он открыл глаза. Был уже день.
«Нет, его, точно его голос!» — подумал он и, прокричав: — Сейчас! — пошел тихонько в комнаты.
— Не ходи сюда, не ходи! — закричал Хлыщов. — Ступай скорей за каретой!
— Куда прикажете нанимать?
— В баню ряди,
— Извольте запереть дверь, — проговорил Мартын, твердо уверенный, что теперь наконец уже Хлыщов выйдет и покажется.
— Хорошо, я запру! ты ступай и скажи, как пойдешь!
— Иду-с! — прокричал, одевшись, Мартын и приостановился.
Хлыщов подождал минуту,
— Ушел? — спросил он, подходя к своей двери.
— Иду! — отвечал, испугавшись, Мартын и поспешно вышел.
Вышел наконец и Хлыщов. Утро было ясное, солнце светило прямо в окна, и зеленое лицо нашего героя лоснилось и блестело под его лучами, как листы исполинского дерева.
Когда он отворил дверь в прихожую, торопясь поскорей запереться, чтоб кто не вошел, — собака радостно кинулась к нему; но вдруг она отскочила, окинула его свирепым взглядом, заурчала и наконец принялась лаять самым громким отрывистым басом, зверски оскаливая свои большие белые клыки.
Невыносимое уныние овладело нашим героем.
— Прометей, Прометей! Прометеюшка! — говорил Хлыщов самым ласковым голосом. — Перестань… Разве ты меня не узнал?
— Гам, гам, гам! — прыгая и ощетиниваясь, отвечала собака, и лай ее был такого свойства, что герою нашему ясно слышалось в нем:
— Не узнал, не узнал, не узнал, — да и знать не хочу!
«Даже и она не узнаёт», — тоскливо подумал несчастный.
Собака продолжала лаять, и попытки его усмирить ее оставались напрасными. Бешенство наконец овладело им. Он прибил глупое животное, подошел к двери, повернул ключ и скорым шагом ушел в кабинет, предупреждая движение собаки, которая с громким лаем покушалась пробраться за ним.
Долго еще лаяла собака, пока Хлыщов рассматривал свое лицо в большое зеркало. Ничего нового не увидал он: оно было зелено, зелено так же, как вчера, еще, может быть, зеленее, и солнечные лучи, сообщавшие ему неприятный лоск, страшно бесили нашего несчастного героя…
Послышался стук в дверь… Хлыщов переменился в лице… Нет, подобного события, слишком желанного, не могло быть… Хлыщов просто испугался. Тут только увидел он, что сделал глупость, не приказав самому человеку запереть дверь и взять ключ.
«Вот теперь увидит!.. — подумал он с ужасом. — Развесив уши, станет тоже смеяться, пожалуй… разболтает… да еще если не он, а кто-нибудь другой?..»
И дрожь пробежала по его телу. Он не сообразил, что было еще слишком рано, чтоб мог прийти посторонний.
— Мартын, ты? — спросил он нетвердым голосом.
— Я-с, извольте отпереть.
«Ну, всё равно, надо же будет…» — подумал Хлыщов и отправился в прихожую.
Собака опять залаяла. Хлыщов опять толкнул ее. Когда он отпер дверь и Мартын (одетый весь в зеленое) увидал его, трудно сказать, какое чувство сильное овладело Мартыном: испуг ли, радость, недоумение? Верней, что все они охватили его в равной степени и выразились наконец к самом глупом, неопределенном хохоте, как основательно и предвидел Хлыщов, знавший хорошо натуру своего камердинера.
— Ну, чего смеешься! — сердито сказал Хлыщов. — Разве не случалось видеть? Ну, шел мимо… плеснули… вдруг… нечаянно… прямо в лицо… плеснули… Вот! — заключил он, возвышая голос. — Ты смотри, не болтай; если я узнаю, что ты хоть пикнешь…
— Как можно! — перебил Мартын. — Да вы бы, сударь, вымылись.
— Ну вот и еду мыться. Смотри же, ни слова. Если кто придет, говори: дома нет. А если Степан Матвеич, скажи, не извольте, дескать, беспокоиться: сами обещали быть.
— Слушаю-с.
Одевшись и спрятав всё лицо шинелью и шапкой, Хлыщов сел в карету и отправился в баню.
IX
Описывать ли подробно дальнейшие попытки Хлыщова, увы! так же неудачные, как и первая! Взяв особую комнату, он, разумеется, употреблял все усилия возвратить своему лицу настоящий цвет: мыл его и кипятком и холодной водой, тер и простым и греческим мылом, даже пробовал парить веником, раскалив каменку так, что в нумере его трудно было дышать. Видя бесполезность своих усилий, он наконец решился прибегнуть к банщику, надеясь, что постоянные упражнения внушат ему какие-нибудь новые и лучшие средства. И здесь первым делом нового лица, увидевшего зеленого человека, было, разумеется, расхохотаться глупейшим образом, к крайнему неудовольствию Хлыщова; потом пошли глупые и докучные расспросы. Потом бледный и даже (к удовольствию Хлыщова) зеленоватый малый рассказал ему несколько глупых чисто банных анекдотов о том, как у них отмывали раз двух черномазых, должно быть, арапов, а другой раз африканца, и в заключение объявил, что смыть краску совершенно пустое, минутное дело. Обрадованный Хлыщов предался ему с полным доверием. Малый принес разной смеси, тер, мазал, пачкал, даже скоблил ножом его лицо и наконец, исцарапав, объявил, что ничего сделать не может, что цвет Хлыщова, должно быть, природный, как у тех арапов, которыми их в прошлом году надули, поручивши отмыть.
— А вот, — прибавил он, — есть у нас… ходит часто сюда один персиянин, он всё разными составами торгует, усы ли, бороду, волосы окрасить, — вот он так выведет непременно!
Несчастный хватается и за соломинку. Хлыщов велел привести и персиянина; тот тоже долго возился с его лицом, много пачкал, много тер, а кончилось все-таки тем, что с Хлыщова взяли препорядочный куш совершенно даром: он возвратился домой таким же зеленым человеком, каким поехал!
Тогда овладело им совершенное отчаяние. Уткнув зеленое лицо в подушку, лежал он как мертвый, не шевелясь и не издавая звука. Что ему было делать? Безобразие угрожало остаться надолго. Блестящая партия гибнет. Послезавтра — свадьба, а он… с какими глазами, с каким лицом покажется он к своей невесте? Нет, нет, она не увидит его таким… и никто не увидит!
И несчастный снова подтверждает Мартыну приказание никого не принимать.
«Ведь бывают же такие оказии! — думает он. — И надо же, чтоб попалась именно такая проклятая краска! Сколько раз случалось, — купишь вещь — в день, в два полиняет… а тут как нарочно: честность одолела!»
Он вспомнил красноречивое объявление господ Дирлинг и Ко, вспомнил зловещие слова красильщицы, наивно предлагавшей ему «попробовать» зеленую краску, и новый ужас охватил его, новые проклятия закипели в груди.
«Неужели она точно никогда не линяет?» — мучительно думал он, припоминая слова рокового объявления.
Весь день Мартын ходил около него на цыпочках; предлагал покушать, докладывал, что присылали от Раструбиных, докладывал, что приходил сам Степан Матвеич, — Хлыщов не сказал ни слова! Жаль его было Мартыну: в мудрой голове своей переворачивал он разные способы, как поправить дело, даже был у него один способ верный, самый верный, но только он не смел сообщить его Хлыщову. Наконец сожаление взяло верх над страхом. Поставив, по приказанию барина, перед его кроватью стакан воды, он долго переминался с ноги на ногу и наконец сказал:
— Ах, сударь, как посмотрю я на вас… Вот вы изволите лежать, а проклятая всё больше и больше впивается в кожу… после ее ничем не выскребешь…
— Ну, не твое дело! — сердито пробормотал Хлыщов.
— Сам знаю, что не мое, — отвечал Мартын. — Да ведь как подумаю, так просто плакать хочется. Вы попробуйте…
— Да уж пробовал, всё пробовал, — перебил Хлыщов, тронутый участием камердинера и чувствуя наконец потребность вылить перед кем-нибудь свое горе, так долго сдерживаемое. — Уж каких средств не употреблял: нет толку, только еще хуже…
— А вот я так знаю средство, — сказал Мартын.
— Как, ты знаешь средство? — воскликнул с живостью Хлыщов и вскочил, причем Мартын вторично увидал его зеленое исцарапанное лицо. — И чего ты нарядился весь в зеленое! — прибавил сердито Хлыщов, осматривая его с отвращением. — Разве не можешь другого платья надеть?
«Сам одел, а теперь сердится!» — подумал Мартын, пожимая плечами.
— Да не могу-с: кроме старого сертука, всё перекрасили…
— Ну, ну, пошел рассказывать, — перебил Хлыщов, — заговорил про средство, так про средство и говори; какое же средство?
— Вот видите, сударь… только вы не извольте сердиться… давеча в лавочке… так зашел разговор…
— Как? ты уж разболтал в лавочке?
— Как можно! я — ни-ни! А была тут старуха одна, старая-престарая. Вот про нее все говорят, что она все недуги, и заговоры, и порчу какую угодно выводит. Так и зовут ее — знахаркой.
Порасспросив еще, Хлыщов дал Мартыну позволение привести знахарку. Обрадованный Мартын духом доставил ее.
— С нами крестная сила! — проговорила протяжно костлявая беззубая старуха, увидав лицо Хлыщова, — сроду такого наваждения не привидывала. Испортили голубчика, сейчас вижу, злые люди испортили…
— Выведешь?
— Выведу, батюшка, выведу. Отчего не вывести? Только ты вот вели чашечку масла деревянного, да ложечку меду, да четверть фунта ладану росного…
Накупили разных снадобий, по требованию старухи, и она приступила к делу. Но роковая краска, к чести превосходного заведения господ Дирлинг и Ко, устояла даже против усилий знахарки!
После долгих пачканий, нашептываний и заговоров старуха наконец покачала задумчиво головой и сказала:
— Ни-ни, ничто но берет! Видно, уж подождать придется голубчику моему. Оно сойдет, само собой сойдет… Ты вот только потерпи: уж и недолго… дело к зиме… ох, к зиме идет! Знаешь, как первый снежок выпадет, ты первым-то снежком возьми да и умойся: оно сейчас как рукой снимет!
Измученный и взбешенный Хлыщов приказал выгнать глупую старуху, разбранил Мартына и снова упал в подушки своим несчастным зеленым лицом, вытерпевшим в короткое время столько страшных пыток.
Опять тихо и медленно потянулось время. Хлыщов молчал, даже не шевелился, испуская только по временам глубокие вздохи. Он всё думал, что ему делать, как ему быть, и наконец решил, что всего лучше написать письмо к Раструбину и просить отсрочки. Но под каким предлогом? Содержание письма составляло предмет постоянных размышлений его в течение целой ночи. К утру оно было написано и сдано Мартыну с приказанием тотчас отнести. Затем Хлыщов заснул и проспал до двенадцати часов.
— Мартын! принеси мне чего-нибудь есть! — были первые слова его при пробуждении.
Он страшно проголодался.
— Чего прикажете?
— Бифштексу. А дверь запри и ключ возьми с собой.
Тотчас, как ушел Мартын, в дверь стали сильно стучаться. Хлыщов притаился и лежал ни жив ни мертв; стук продолжался всё громче и настойчивее. Предчувствие не обмануло его: в двери ломился Раструбил.
«Ну, быть беде!» — подумал Хлыщов.
И действительно, Раструбил поймал Мартына у двери, уличил, по бифштексу, что барин дома, и ворвался в прихожую.
— Леонард Лукич! Леонард Лукич! — кричал старик, входя в комнату, где находился Хлыщов. — Скажите, что с вами сделалось? Шутите вы?
Хлыщов лежал, спрятав голову в подушку, и молчал,
— Или недовольны вы чем? — продолжал старик, усаживаясь подле него. — Скажите откровенно… вы нас перепугали!
Хлыщов молчал.
— Ну так — недоволен! Да чем же, ради бога, чем?
— Ох нет, — глухо простонал Хлыщов, — как можно! Я столько обязан.
— Так что же? Отчего вы вдруг не хотите жениться?
— Не могу… покуда не могу.
— Да почему же?
— Отложите, Степан Матвеич, отложите только. Я болен.
— Болен? Ну уж нет, плохо верится: а бифштекс?.. Ха-ха-ха! Полно шутить, почтеннейший!
— Я не шучу…
— Ну а если нездоровится — так что ж — пиявочек! Да что с вами? Что вы лежите и лица не кажете?
Хлыщов молчал.
— Послушайте, — сказал старик, начиная терять терпение, — так не шутят… вы присватались к благородной девушке… дочери благородных родителей, получили согласие, назначена свадьба, родные повещены… и вдруг вы… знаете ли, что так благородные люди не делают, что так шутить честью девицы нельзя, что у ней есть защитники…
Старик горячился, Хлыщов молчал, не оборачиваясь и даже не шевелясь и только испуская по временам глубокие вздохи.
— Что теперь будут говорить в городе? Ведь уж все знают, что вы жених, завтра назначена свадьба. Что ж вы молчите… Нет, молчаньем не отделаетесь!
— Не могу, — простонал Хлыщов.
Долго еще горячился старик, упрекал, грозил. Наконец слезы прошибли его; он переменил тон, стал просить, заклинать именем своих седин, честью дочери…
— И какая причина могла вас понудить переменить намерение? — со слезами говорил он. — Приданого, что ли, мало кажется? Ведь я только шутил, я шутил, Леонард Лукич: ведь дам ей не двести ассигнациями, а шестьдесят пять тысяч серебром. И, кроме того, ей же и дом в Мясницкой… я вам готовил сюрприз…
Хлыщов испустил глубокий, раздирающий стоп.
— Что ж, женитесь?
— Не могу.
— Не могу! не могу! Да почему же не можете? Подумайте, что с ней будет… Я колени перед вами готов преклонить.
Старик рыдал и несвязными, прерывистыми словами продолжал умолять. Хлыщов не мог выносить долее.
— Да как же я могу, посудите сами, жениться на вашей дочери? — воскликнул он вдруг, вскочив совершенно неожиданно и показывая ему свое зеленое, лоснящееся, исцарапанное лицо.
Старик остолбенел. Превосходное изобретение господ Дирлинг и Ко, при всех своих несомненных достоинствах, конечно, никогда не производило такого страшного, убийственного эффекта, как в настоящую минуту!
Когда Хлыщов описал старику свое несчастие, сказав, разумеется, что попался совершенно невинно и нечаянно, вместо ускользнувшего приятеля, которому — что делать, оплошность! — помогал в интрижке с красильщицей, старик кинулся обнимать его.
— Так только-то? — воскликнул он радостно. — Так вы на нас не сердитесь? и приданым довольны?
— Я никогда не смел и мечтать о другом счастии, как соединиться узами родства с таким достойным, благородным семейством.
— Ну так и горевать нечего, — заключил старик, — краску смыть, и конец!
— Я уж пробовал, — мрачно сказал Хлыщов и рассказал ему свои бесполезные попытки.
— Ничего, другое средство найдем! Вы говорите, краска новая, недавно изобретенная?
— Да.
— Ну так они должны знать и противодействие!
— В самом деле! — радостно воскликнул Хлыщов. — Я и не подумал!
— Мы их заставим. Я, слава богу, не первый год в Москве живу, имею связи. Мы заставим их, — заставим, да еще и проучим! не следует так оставлять.
— Зачем прибегать к таким мерам, — заметил Хлыщов, опасаясь, чтоб проделки его не вышли наружу, — дело пойдет в огласку, — все-таки нехорошо, а лучше их припугнуть…
— И то правда, — сказал старик, — оно все-таки нехорошо, когда разнесется. Нечего терять времени! Ждите, а я сейчас приведу красильщика. Дирлинг, вы говорили?
— Дирлинг.
— Да и пиявочек захвачу. Все-таки не худо. Они оттянут.
— Ну уж пиявки вряд ли помогут.
— Так, так! Вечно против пиявок! Ну, до свидания. Старик ушел, а повеселевший Хлыщов позвал собаку
и старался ее приучить к новому цвету своего лица. В полчаса удалось ему, с помощью остатков бифштекса и хлеба, дойти до того, что она уже не лаяла, а только урчала и скалилась, нечаянно взглядывая в лицо зеленого своего господина…
X
Представитель знаменитой фирмы Дирлинг и Ко, находившийся налицо в Москве и носивший к фамилии своей прибавление: младший, — был сухой, высокий, угрюмый немец, много красивший ежедневно разных вещей, а носивший постоянно одну и ту же серую куртку с кожаным передником — в будни, и серый длинный сюртук — но праздникам. Отличительной чертой его характера была мрачная, сосредоточенная молчаливость, легко объясняемая удушливым воздухом мастерской, который достаточно было вдыхать в легкие и одним носом. Еще отличался он необыкновенной пунктуальностью во всех действиях. С лишком уже двадцать пять лет пил он водку ровно в девять часов, курил трубку в десять, в три и в одиннадцать, спать ложился в двенадцать. И ни разу еще не случалось, чтоб вошел он в свою мастерскую позднее осьми утра и оставил ее ранее двенадцати часов вечера, не будь даже вовсе работы. Потому Раструбину чрезвычайного труда, многих угроз и просьб стоило уговорить его отправиться с ним немедленно к Хлыщову.
Нет в мире художника, способного видеть равнодушно плод своей производительности. Следовательно, нисколько не удивительно, что первым чувством господина Дирлинга-младшего, когда зеленый наш герой явился ему во всем своем блеске, было удовольствие, ясно выразившееся в угрюмом его лице. Много представлялось ему случаев видеть утешительные доказательства превосходных свойств своего изобретения, которому не знал он равного в истории человеческих открытий, но такого резкого и оригинального примера еще не встречалось! Немец решительно был умилен.
— Как ловко забрал! — проговорил он, медленно-медленно осматривая лицо Хлыщова. — Вы, должно быть, много натирал и скоблил, — прибавил он, недовольный некоторыми неровностями в цвете, которых, по его соображению, не следовало ожидать при правильной просушке окрашенного предмета.
— Уж и мыл, и тер, и скоблил, так что измучился! — отвечал Хлыщов. — А всё ничего не мог сделать. Вот как вы…
Немец самодовольно улыбнулся.
— Что ж, почтеннейший, видите, ваша помощь необходима, — сказал старик. — Сами настряпали, так теперь и расхлебывайте!
— Можете вы помочь? — тихо, с сильным биением сердца спросил Хлыщов.
Немец смотрел, смотрел, думал и наконец отвечал медленно и решительно:
— Никто не можно.
Хлыщов в отчаянии схватился за голову своими зелеными руками.
— Как нет? — запальчиво воскликнул старик. — Отчего нет? Нет, уж извините — вы не отделаетесь, краска — ваше- изобретение, и вы должны знать…
— Не горячитесь, — спокойно и мрачно отвечал господин Дирлинг-младший. — Краску изобрел не я, а мой брат, Франц Георг Дирлинг-старший. Чтоб вывести ее, надо составные части знать, а секрет у него: он поехал в Париж просить привилегию… Воротится будущей весной, тогда…
— Будущей весной!!!
Хлыщов вскрикнул, пораженный ужасом. Старик тоже, казалось, потерялся и отчаянно понурил голову. Минута была страшная, и собака, допущенная уже в комнату, довершила мрачный эффект. Напрасно думал Хлыщов, что она уже привыкла к нему. Точно, она старалась воздерживаться и лежала сначала смирно; но, всматриваясь с постоянным напряжением в его лицо, она понемногу начала щетиниться, вздрагивала, скалила зубы, наконец задрожала… и вдруг разразилась свирепейшим лаем, кинувшись с оскаленными зубами к своему несчастному хозяину!
— Уведи ее прочь, Мартын!.. Мартын! — кричал Хлыщов, зажимая уши.
Много угроз наговорил немцу Раструбин, убеждая его не упрямиться; но немец клялся, что ничего не может сделать. Видя, что угрозами его не проймешь, старик стал упрашивать, рассказал ему обстоятельства, при которых совершилось несчастное событие, унизился даже до лести, назвав заведение братьев Дирлинг и Ко лучшим в Москве и похвалив в особенности их зеленое изобретение. Немец, очевидно, был тронут; чувство проглянуло в его угрюмом, неподвижном лице; но ответ его был всё тот же:
— Не могу, подождите брата.
— А не поставить ли ему пиявок? — спросил вдруг старик, как будто озаренный светлой мыслию.
Немец подумал.
— Ах! Степан Матвеич, вы всё с пиявками!
— Нет, пиявка не поможет.
— Ну так что же? Что же? — тоскливо приставал к господину Дирлингу старик.
— Пожалуй… если уж хотите, — сказал немец, видимо искавший в голове своей способа помочь горю. — Пожалуй, попробовать…
— Что? — кидаясь к нему, спросил Хлыщов.
— Мое думанье, — нерешительно проговорил немец, взвешивая каждое слово, — мое думанье: пробуем перекрасить!
Старик взбесился.
— Что? перекрасить! Моего зятя перекрасить! Вы еще вздумали шутить?
— Я не шучу! — сердито отвечал немец, — а по вашей же просьбе предлагаю, как возможно! А не хотите, так мой почтенье!
И он хотел уйти и отворил уже дверь. Собака осторожно проскользнула в нее и тихо легла на полу. Хлыщов остановил немца.
— А в какой цвет? — спросил он тихо и кротко.
Дирлинг-младший подумал.
— В голубой можно.
— В голубой!
Хлыщов ударил своей зеленой рукой по зеленому лбу, причем собаку видимо начала пробирать новая охота полаять. — В голубой! Хороша перемена!
— В голубой?!! — кричал старик.
— А не хотите в голубой, — отвечал немец, — так можно…
— Что?
— Можно оставить тот же цвет, только по развести, сделать так — муаре…
— Муаре!
Хлыщов вновь наградил себя ударом по зеленому лбу. Собака, подмечавшая каждое его движение, не выдержала и подняла лай.
— Муаре! Муаре! — с негодованием и отчаянием повторял старик. — Муж моей дочери — муаре! прекрасно, благодарю… Нет, уж такие шутки…
— Я говорил вам, что я не шучу, — грубо возразил немец. — Нечего больше говорить, — продолжал он уходя и прибавил шепотом: — Пустой люд!
Никто его не удерживал: старик в горячности ничего не видел, а Хлыщов справлялся с собакой, которая так рассвирепела, что чуть не искусала его. Немец так и ушел.
— Знаете что, Степан Матвеич? — сказал Хлыщов, когда старик несколько успокоился. — Он говорил, что не знает составных частей, да ведь на то есть химики… а, как думаете? ведь они должны знать…
Старик одобрил его мысль, объявил, что у него есть даже знакомый знаменитый химик, и через час привез его. Визит химика был короток и также неутешителен. Осмотрев зеленого человека и отдав полную справедливость превосходным свойствам изобретения господ Дирлинг и Ко, он объявил, что состав краски новый, никому, кроме изобретателей, неизвестный, и потому сделать ничего невозможно, а лучше предоставить дело благодетельному действию времени.
По к нему приставали: нельзя ли как-нибудь? чем-нибудь? сколько-нибудь? и тогда он сказал:
— Пожалуй, есть одно средство: можно попробовать. Но рыск, большой рыск… не советую! нельзя ручаться — глаза могут лопнуть.
С последним словом он ушел, оставив слушателей своих в глубоком ужасе.
Так кончились многочисленные попытки нашего героя уничтожить следы новоизобретенной привилегированной краски братьев Дирлинг и Ко, не линяющей ни от воды, ни от солнца и сохраняющей навсегда свой первоначальный густо-зеленый цвет с бронзовым отливом.
XI
Какого бы рода впечатление ни производили странные и горестные приключения зеленого человека, читатель не может не сознаться, что автор поступал с ним (разумев; читателя, а не зеленого человека) великодушно. Многое, многое принесено в жертву краткости. Вовсе не развита внутреннее состояние героя со времени знаменитой окраски, бледно очерчен господин Раструбин, еще бледнее господин Дирлинг-младший, вовсе не очерчен характер химика, даже не приведено письмо героя к Раструбину… сколько поводов к упрекам со стороны строгого ценителя! сколько поводов к признательности со стороны простого, читателя, любящего шутку, не переходящую известной границы! А как в виду в настоящем случае имеется читатель, а не строгий ценитель, именуемый критиком, то автор решается быть до конца великодушным, почему и сожмет еще более последнюю главу своего рассказа.
Странные бывают истории, чрезвычайно странные и поразительные, но, к сожалению, разрешаются они всегда так, что рассказчику их под колец становится неловко, даже совестно. С горестию должны мы признаться, что дальнейшее развитие истории зеленого человека не представляет ничего особенного. Хлыщов, убитый окончательно последними попытками, преследуемый судьбой, обстоятельствами, угрызениями совести и даже собственной своей собакой, впал в отчаяние, близкое к помешательству. Раструбин еще крепился, но безнадежность прокрадывалась уже и в его сердце, к которому, думал он, смущенный его сильным биением, не минешь, никак не минешь приставить пиявок.
Единственной помехой к немедленному кровопусканию явилась новая, неожиданная надежда, вспыхнувшая в груди доброго старика. Ему казалось совершенно неправдоподобным, неестественным, чтоб злодей Дирлинг-младший не знал составных частей краски и не мог уничтожить ее. И он снова отправился к Дирлингу.
Он застал его перед целым котлом той самой жидкости, которая угрожала расстроить счастие его дочери. Господин Дирлинг, покуривая коротенькую трубочку, систематически опускал в котел распоротые салопы, платья, шали, курточки и многое другое суконное, шерстяное, шелковое, желтое, красное, полосатое…
«И есть же дураки, которые позволяют пачкать свои вещи таким составом!» — думал Раструбин, глубоко ненавидевший уже зеленую краску. — Господин Дирлинг! Я должен говорить с вами без свидетелей!
Немец увел его в верхние комнаты. Там Раструбин объявил ему решительно, что будет жаловаться, поднимет процесс, если красильщик немедленно не поправит своего злодейского дела. Чтобы показать законность своего вмешательства, он подробно раскрыл ему свои отношения к Хлыщову и объявил, что защищает в нем будущего своего зятя.
— Какой он вам зять! — с гневом воскликнул господин Дирлинг-младший, выслушав терпеливо его длинную речь. — Он низкий человек!
— Как, что такое? Вы смеете!
— Да, низкий! Какой же другой станет чужую жену соблазнять, когда через день хотел идти под венец! Чего вам хлопотать…
— Да разве он?..
— А вы не знаете?
И господин Дирлинг-младший обстоятельно рассказал старину настоящую историю несчастного волокитства. В свидетели он представил даже свою жену, которая подробно и верно описала Хлыщова, по желанию старика, а в заключение принесла брошку, которую герой наш подарил ей, о чем мы забыли упомянуть.
— Я не хотела брать, а он оставил и ушел. Возьмите ее, мне не нужно!
Увидав брошку, старик не сомневался более. Он вспомнил, что дочери его хотелось иметь именно такую брошку и что герой наш вызвался купить ее. (Брошка изображала жука с золотыми точками и лапочками.) И догадка старика была справедлива: действительно, Хлыщов купил и нес брошку невесте, но, завернув к красильщице, не выдержал и навязал ей.
И вдруг вместо прежней ненависти старик почувствовал к превосходному изобретению господ Дирлинг и Ко такое глубокое расположение, что готов был перекрасить в зеленый цвет всё свое имущество!
— Слава богу, что я впору спохватился и не отдал дочери такому сорванцу! — воскликнул он, обнимая господина Дирлинга-младшего и сожалея, что не может предложить своих объятий и господину Дирлингу-старшему, настоящему виновнику краски. — Ну, почтеннейший, извините! Напрасно вас осуждал: славно, славно вы сделали! Да неужели в самом деле краска ваша такая, что ничем уничтожить нельзя?
— Такая, — отвечал коротко и гордо немец.
— Ха! ха! ха!
Старик хохотал самым веселым и добродушным образом.
— Поделом, поделом ему! Пусть его повозится, пока кожа слезет и новая нарастет… Ха! ха! ха!
Он ушел, довольный и немцем, и собой, и красильщицей, а всего более превосходной краской господ Дирлинга и Ко.
Но дома ждало его новое горе. Варюша, огорченная двухдневным отсутствием жениха, была грустна и желта, как воск. Когда отец объявил ей, что Хлыщов уже не жених ее, она упала в обморок. Напрасно потом старик обстоятельно рассказал ей низкий поступок Хлыщова, показал брошку, описал, даже преувеличил безобразие зеленого нашего героя: ветреная девушка, увлеченная рассказами о Петербурге, о блестящем родстве и знакомстве Хлыщова, об итальянской опере, ничего не хотела слышать и только кричала, что не пойдет ни за кого другого, что умрет, что не может жить без Хлыщова…
— Но ведь он уж теперь не такой, как был, — возражал старик, — совсем не такой: душа у него, как открылось, черная, а лицо… лицо зеленое, зеленое как арбуз… ха-ха-ха!
Варюша продолжала рыдать. Старик думал уж поставить ей пиявки; но вдруг ему пришло в голову другое лекарство.
— Хорошо же! — сказал он. — Вот ты его увидишь, только уж смотри: понравится ли, нет ли — выходи! Я уж не посмотрю… ха-ха-ха!
Он ушел.
— Дома Леонард Лукич?
— Дома-с.
— Что делают?
— Да что-с? Изволют мыться. Мыло новое купили, с золой смешали.
— Ну, что ж?
— Да плохо-с.
Хлыщов сидел перед зеркалом. Зеленые щеки его были намылены. Он тер их щеточкой, какою чистят ногти. Против него стоял его дагерротиппый портрет, снятый еще до рокового события. Несчастный по временам сличал — увы! разница была непомерная.
— Ну, любезный Леонард Лукич, — сказал Раструбин, входя к нему, самым дружелюбным голосом. — Свадьбу я отложил; насилу уговорил и уладил. Так теперь другая беда: дочь в отчаянии; непременно хочет вас видеть. Он, видно, говорит, умер.
— Как же мне?.. Сами посудите.
— Ничего. Я уж немного их, знаете, приготовил. Надо, надо… поверьте, ничего.
— Но благоразумно ли будет, в таком…
— Что лицо! Сами знаете, когда искренно любишь… притом дело все-таки преходящее: ну, увидит так, увидит потом и иначе: вот таким молодцом!
Он щелкнул по дагерротипу.
— Увольте, Степан Матвеич, — сказал умоляющим голосом зеленый человек. — Уладьте как-нибудь.
— Невозможно, невозможно! пожалейте ее. Она вас так любит.
— Ну, пожалуй, — нерешительно сказал Хлыщов, тронутый последним замечанием. — Надобно же проститься. Только знаете, Степан Матвеич, нельзя ли так… в сумерки… и свеч не подавать.
— О, разумеется, разумеется! просто по-домашнему, Вот теперь семь часов. Я пойду домой, а вы оденьтесь да так в восемь и приходите.
— И никого чтоб посторонних.
— Разумеется. Ну, прощайте…
— Только уж вы приготовьте, пожалуйста. Расскажите.
— Рассказал уж… да, расскажу непременно, непременно!
Старик ушел, а Хлыщов принялся одеваться. Двухчасовые приготовления с дороги, когда он готовился явиться к невесте в первый раз и мучительно заботился о ничтожном красном пятнышке на носу, ничто в сравнении с теми усилиями, какие употреблял он теперь, чтобы придать благовидность своей особе. Но трудно было достигнуть успеха. Во-первых, лицо, нечего уж и говорить! а во-вторых, почти всё платье его было перекрашено в зеленую краску. Досадный зеленый цвет то и дело подвертывался.
— Ну вот! разве нет другого? — с негодованием воскликнул он, когда Мартын подсунул ему зеленый шарф. — Вечно глупости делаешь!
И невинный шарф полетел под стол.
Та же история повторилась с жилетом.
Повязав платок и выпустив полисоны, он посмотрелся в зеркало. Сочетание белого с зеленым сильно не понравилось ему, и в самом деле было нехорошо. Он спрятал воротнички — стало почти не лучше, но он оставил так.
— Ну, что? — спросил он, одевшись наконец совершенно, у Мартына. — Как: странно?
Он боялся употребить более точное выражение.
— Оно странно, точно странно! — отвечал Мартын. — Только ничего: цвет все же хороший!
— Хороший! — с горькой иронией повторил Хлыщов. — Ты, братец, правду говори: хуже такого цвета и не выдумаешь, так?
— Э, сударь! такие ли цвета прибирают в разных живописных обозрениях!
Посмотревшись еще раз, два и три в зеркало, выпустив снова и снова спрятав воротнички, обтянув зеленые руки перчатками (о! как ему хотелось сделать то же с лицом), Хлыщов сел в карету и поохал к Раструбиным.
«Просижу не больше пяти минут, а потом уж не покажусь, пока не сойдет», — думал он.
Увы! он не предчувствовал, что визит его будет последним!
Жестоко, бесчеловечно поступил с ним хитрый старик. Как только прозвенел колокольчик, тронутый дрожащей рукой зеленого человека, гостиная господина Раструбина осветилась двумя лампами и целой дюжиной свеч. Несчастный вошел — и ноги его подкосились; он хотел воротиться, но старик самым дружелюбным образом обхватил рукой его шею и повлек свою жертву к середине комнаты.
— А, почтеннейший, почтеннейший! — кричал он. — Насилу дождались… ну, спасибо!.. жена, дочь! вот вам любезнейший наш Леонард Лукич. Как видите, и жив, и здоров, и красив. Ха-ха-ха!
И он подтащил его к дамам. Нечего и говорить, эффект был удивительный: превосходное изобретение господ Дирлинг и Ко и здесь, как всегда, с честью поддержало свою заслуженную славу, и даже, благодаря множеству свеч, блистательнее, чем когда-нибудь…
Поликсена Ираклиевна вскрикнула и совершенно безумными, дикими глазами впилась в зеленое лицо, искаженное признаками глубокого страдания. Варюша упала в обморок. Черненькие дети господина Раструбина прыгали вокруг Хлыщова с криками:
— Зеленый, зеленый, зеленый!
— Папенька!.. Степан Матвеич!.. милостивый государь! что вы со мной сделали? — глухим, полным удушающего страдания голосом произнес наконец Хлыщов, начиная догадываться о страшной истине.
— Ничего, ничего… ну, понятно, первое впечатление: ведь, почтеннейший мой, и вы, я думаю, в первый раз не без удивления увидали… ха-ха-ха!
— Я не о том говорю! — возразил обидчиво Хлыщов, — Кто не знает, что… что… несчастие, которое…
Он задыхался и не мог говорить.
— Сестрица, сестрица! посмотри: зеленый, какой зеленый! — кричали дети, тормоша сестру. — Ха-ха-ха!
Дети прыгали и хохотали.
Варюша взглянула: смех невинных малюток был заразителен — она тоже расхохоталась.
— Что, хорош твой жених, хорош? — воскликнул господин Раструбив. — Хочешь за него выйти? а? ха-ха-ха!
И он тоже расхохотался. Все хохотали. Соседние двери растворились. Появилось несколько лиц, более или менее знакомых Хлыщову. Хохот поднялся — гомерический!
— Пиявочек пиявочек! — кричал старик. — Поверьте, самое лучшее средство, почтеннейший. Оно и тем хорошо, что кровь поусмирит, — у вас она такая горячая. Ха-ха-ха!
— У нас в Персии, — говорила Поликсена Ираклиевна, сдерживая густой, певучий свой смех, — случается, красят волосы, красят и лицо, но цвет, цвет…
— Я никогда но думал, — заговорил ошеломленный Хлыщов, — чтоб несчастие достойно было такого… такого… (он не докончил своей мысли). Конечно, большое несчастие, но неужели… неужели одно лицо могло так изменить дружеское расположение… приязнь даже, можно сказать. Сколько видим примеров в истории… сколько было даже великих людей с телесными недостатками… но не одна же наружность?.. Кажется, прежде всего душевные качества, душа…
— Душа? — подхватил старик. — Ха-ха-ха! знаем мы, какая у вас душа! А красильщица?
— Варвара Степановна! — воскликнул несчастный. — Неужели и вы? неужели те чувства, которые, можно сказать, соединяли наши сердца…
Она ничего не отвечала, но, продолжая хохотать, принесла брошку с изображением известного жука, показала ее несчастному и бросила…
Он всё понял и испустил странный, раздирающий крик… Ему стало вдруг душно, невыносимо душно. Он рванулся из объятий Раструбина, которого рука всё еще покоилась на его плечах, и побежал к двери.
Его проводили громким, всеобщим хохотом…
XII
Так кончились приключения Хлыщова. Он воротился в Петербург, и первый человек, попавшийся ему тут, был господин Турманов, ехавший в великолепной коляске.
«Видно, выиграл! — подумал Хлыщов. — Так в жизни: один отыграется, а другой попадет в такой лабет, в такой лабет, что просто хоть пропадай…»
С месяц не мог он никуда показаться. Наконец в исходе сентября в первый раз радость посетила его: собака узнала его, — и надо было видеть, в каком восторге она была! Еще через месяц следы краски были уже едва заметны. Его начали узнавать и люди. Гуляя раз в отдаленной улице (в многолюдные он не смел еще показываться), он встретил шедших под руку господина Турманова и того приятеля, к которому писал из Москвы известное читателю письмо.
— А! Хлыщов! Хлыщов! — кричали они. — Насилу воротился!.. ну что, женат?
— Нет, — отвечал он сухо.
— А что же?
— Да так… невеста не понравилась…
1853–1855
Тонкий человек, его приключения и наблюдения*
Глава I, в которой тонкий человек говорит, а друг его спит
23 марта 18** года, очень рано, часу в одиннадцатом, к Тростникову пришел приятель его Грачов и сказал с своей всегдашней важностью:
— Любезный Тростников, можешь ли ты уделить мне несколько часов времени?
— Изволь, сколько угодно. Но что такое особенное случилось?
— Мне нужно поговорить с тобою.
Тростников вдруг рассмеялся.
— Чему ты смеешься?
— Да как же не смеяться? Ты посмотри на себя. Так и Манфред не часто смотрел, я думаю!
— Перестань шутить. Я пришел сообщить тебе намерение, которое глубоко созрело в моей душе и должно иметь влияние на всю мою жизнь.
— В чем же оно состоит?
— Прежде чем я скажу его, я желал бы рассказать многое — дать тебе, так сказать, ключ к моему внутреннему миру.
— Как торжественно! Извини, не могу не смеяться. Впрочем, готов слушать.
— Послушай, — таинственно сказал Грачов, нисколько не обидясь смехом своего приятеля. — Послушай, и ты перестанешь смеяться, ты, может быть, даже…
— Пролью слезу сострадания? Может быть; говори!
— Того, что я решаюсь доверить твоей дружбе (я знаю: ты умеешь уважать тайны друзей, и надеюсь, что могу назвать другом человека, с которым короток с самого детства), нельзя передать в двух словах, и потому если ты не расположен слушать теперь, то лучше скажи…
— Ничего, любезный друг, говори. Ты увидишь, что я не только уважаю тайны друзей, но даже умею выслушивать их. Итак, начинай!
Грачов начал:
— Чтоб сказать всё, я должен коснуться моего детства…
Но рассказ Грачова длился несколько часов, и как мы не принадлежим к числу друзей рассказчика, то не лучше ли нам сократить его? Благо у нас под рукою верное средство: опыт научил нас, что, как только торжественное «я» уступит место скромному «он», многие подробности, казавшиеся чрезвычайно важными, вылетают сами собою. Например: «Принужденный сам заботиться о долговечности моих сапогов, я приискал какой-то дрянной черепок, пошел на рынок, купил дегтю, увы! на последний гривенник, и, возвратись домой, тщательно вымазал мои сапоги, не щадя рук и подвергая невыносимой пытке мое бедное обоняние». Отбросьте «я», и останется: «Он купил дегтю и вымазал свои сапоги». Если вам мало одного примера, то можете делать опыты сами: теперь только и пишутся, что записки, признания, воспоминания, автобиографии. И вы увидите иногда результаты неожиданные. Эта невинная замена имеет действие лопаты, с помощью которой очищают — веют — только что вымолоченный хлеб: зерно остается на гумне, а шелуху и пыль уносит ветер… И нет ничего легче, как веять. Если вы живали в деревне осенью, то, верно, заметили, что этим делом занимаются даже малые ребятишки. Дружно предаются они своей работе; зачерпнув зерен, высоко взбрасывают они лопаты свои — и как, образовав на минуту темную бровь в воздухе, весело и хлестко падают тучные зерна на твердое, гладко укатанное гумно! Славный звук и вообще хорошая картина. Но жалкое зрелище представляет шелуха: как подбитая моль, вяло покружась в воздухе, она апатически оседает на траву или на болото и пропадает там. Но что до шелухи? О ней никто не думает. Дело в том, что очищаемый таким образом хлеб дает сытную и здоровую пищу, и да научатся «веять» все те, до кого это может относиться.
И мы попробовали веять. И опыт наш превзошел ожидания: рассказ Грачова разлетелся весь так, что уцелело только несколько отрывочных громких слов с приличным числом восклицательных знаков: «Скука, тоска, разочарование!..» Грачов жаловался на пустоту своей жизни и в подтверждение приводил свою биографию, точно не богатую ничем особенным. Итак, передавать читателю нечего, и приходится начать новую главу. Однако ж, если перескалывать нечего, то Тростникову пришлось много слушать. Как же он слушал? Сначала он брился, пил кофей, курил сигару, а потом стал зевать, закрываясь газетой, и наконец уснул. Проснувшись на эпизоде о какой-то панне Сабине, которую Грачов почитал чудом женских совершенств и которая провела его самым грубым образом, — проснувшись, Тростников взглянул на часы и внезапно озлился, должно быть от мысли, что нашелся человек, считающий его способным выслушивать такие длинные признания, чьи бы то ни было. Одновременно с озлоблением, как это часто бывает, он почувствовал голод, позвонил человека и велел подавать обед тотчас, как будет готов.
— Вели и на мою долю, — прибавил Грачов. — Я не ел больше суток и сегодня буду иметь аппетит волчий.
Окончание признаний своего приятеля Тростников дослушал так мрачно, что, будь Грачов хоть немного менее погружен в свой рассказ, он, верно, сделал бы одно из тех топких замечаний, которые любил делать при всяком удобном случае, придавая им свою любимую форму вопросов и ответов, именно:
Вопрос: Когда человек находится в самом глупом положении?
Ответ: Когда поверяет свои душевные тайны голодному приятелю.
Или что-нибудь подобное.
Глава II, к которой тонкий человек спит, а друг его говорит
— Итак, ты видишь теперь, — сказал Грачов, окончив свои признания, — ты видишь, что я не фразирую, отзываясь несколько желчно о жизни, о людях, о женщинах и приняв твердое намерение…
— Вижу, — перебил Тростников. — Всё вижу и всё понимаю! И ты убежден, что жизнь тяжкое бремя? Что женщины, например, уже не могут занимать ни твоего сердца, ни даже глаз?
— Убежден, — отвечал Грачов.
— Скромное общество нескольких избранных друзей, с которыми сблизиться — помнишь? — ты так добивался, также, говоришь ты, потеряло в глазах твоих всю прелесть?
— Да, — со вздохом сказал Грачов.
— Карты, в которые ты играл не столь счастливо, как охотно, карты тоже?
— Тоже.
— Театр, опера, в которой ты хоть — мало понимал, но много шумел, опера тоже?
— Тоже.
— И ты говоришь, тебе осталось одно: уехать в деревню?
— И навсегда! — с эффектом сказал Грачов.
— Навсегда? Ну, едва ли! Извини, любезный друг, слишком сильно сказано! И откуда вдруг такое решение? Еще третьего дня играл ты до рассвета в карты, гулял но Невскому с полным самонаслаждением — и вдруг…
— Но ты знаешь, что часто самые скорые решения бывают и самые решительные… Они зреют в тишине, подобно… подобно…
Грачов не прибрал сравнения и продолжал:
— Я пришел вчера домой переодеться, чтоб ехать обедать к С*, как вдруг вопрос… нет, множество вопросов: что я там буду делать? и к чему еду? и к чему ездил прежде? и что я вообще делаю? и не есть ли вся моя жизнь пошлое повторение одних и тех же пошлостей? Эти вопросы сами собою пришли мне в голову. Или, может быть, их вогнал в нее порыв теплого весеннего ветерка, который ворвался в открытую форточку. И я подумал…
— Не лучше ли съездить в деревню?..
— И я подумал: не лучше ли уехать навсегда в деревню! — с ударением произнес Грачов. — Эта мысль не оставляла меня за обедом и потом целый вечер. Я с ней сегодня проснулся и нетерпеливо побежал к тебе, чтобы сообщить ее.
— Ну, видишь, как всё просто!
— Да; но дорогой мысль о пошлости моей жизни и о том, как в самом деле мало занимает меня всё то, чему я предаюсь с утра до ночи…
— А иногда и по ночам…
— Дорогой эта мысль представилась моему уму с поразительной ясностью, и мне стало стыдно, я почувствовал даже отвращение к той жизни, которую вел… и мое давнее презрение, мое горьким опытом купленное знание людей, весь яд желчи и ненависти, — как огонь, таившийся под пеплом, всё вспыхнуло…
— Ив таком прекрасном духе ты пришел ко мне, и, вместо того чтобы сказать просто: «Я вздумал ехать в деревню отдохнуть и поохотиться; не хочешь ли ехать со мной?», ты вот уже пять часов сряду… (как долго не дают есть!..) изливаешься перед приятелем в красноречивых и мрачных признаниях, бранишь всё и всех, словом, употребляешь отчаянные усилия вогнать и его в тоску… Очень великодушно! Прекрасная привычка: как только дрянь какая заведется на душе, тотчас бежать к приятелю. И всё под предлогом дружбы: ищу участия, совета! Изволь, я буду советовать. Только, смотри, не пенять. Теперь моя очередь, и я тоже начну издалека. Прежде всего позволь предложить тебе вопрос: не проигрался ли ты вчера?
— Сделай одолжение, говори, спрашивай сколько угодно! Ты хочешь знать, — апатически сказал Грачов, — не проигрался ли я вчера?.. Проиграл! Ну, теперь продолжай и можешь быть уверен: ты найдешь самого терпеливого слушателя, если вздумаешь говорить хоть до завтра, — чем дольше, тем лучше…
И тонкий человек зевнул, и по круглому лицу его пробежала ядовитая улыбка.
— Проиграл! Ну, вот видишь, ты проиграл вчера да и вообще в зиму попроигрался, приятели дали несколько щелчков твоему самолюбию, и дали поделом: всё твоя глупая страсть к тонкостям; вот и оказалось: карты и приятели — вещь негодная. Кстати припомнил ты историю с панной Сабиной. Ну, и женщины тоже! Наконец, певица, do правде сказать преплохая, которую ты один поддерживал, беснуясь и бросая ей букеты, тогда как другие шикали, любимая твоя певица окончательно срезалась. Ну, и опера никуда не годится. Таким образом и очутилось в самом конце то, с чего следовало начать и в чем всё дело: «Едем в деревню». Сознайся, ведь так?
Тростников приостановился. Но вместо ответа послышалось тихое и мерное храпение.
— Ты спишь? Так скоро? О, тонкий человек! Да не притворяешься ли ты?
Ответа не было.
— Смотри, Грачов, если ты вздумал выкинуть новую топкость, то предупреждаю: она не удастся, ты будешь жестоко раскаиваться в ней. Лучше признайся. Молчишь? Ну смотри: я буду неумолим!
И он продолжая, наблюдая спящее лицо своего приятеля:
— Сказать просто «еду в деревню» не в твоем вкусе. Я знаю тебя: ты ничего не любишь делать просто. Каждое самое естественное желание, мимо простых и очевидных причин, ты считаешь долгом облечь флером таинственности, особенной важности или траурной торжественности. Никогда не забуду твоих разглагольствий перед отъездом за границу. Боже мой! каких глубоких, важных, возвышенных причин не насказал ты, хитрый педант! А ты ехал просто потому, что шевелились лишние деньжонки в кармане и что при рассказах о парижских женщинах у тебя глаза наливались кровью, как у этого тупоумного индейца Джальмы, которым ты тогда восхищался вместе с парижскими дворниками. Спишь, Грачев? Спит — значит, я могу продолжать. А твоя глупая страсть к тонкостям? Ха-ха-ха, как ты всегда с ней срезывался! Помнишь, раз на охоте мы в поте лица месили грязь по болоту, а ты, тонкий человек, засел в куст и зло посмеивался, стреляя сгоняемых нами бекасов и уток; но только ты не рассчитал одного, что, сберегая ноги, можешь поплатиться лбом. И твой же собственный егерь, не заметив в кусте твоей важной особы, влепил в нее ползаряда… Ха-ха-ха… Правда, лоб твой устоял против бекасиной дроби; но смотри: не все части твоего тела, может быть, так крепки, как лоб, и не всегда ружье заряжается бекасинником! Ты тонил еще в детстве, и тонкость уже тогда резала тебя. Помнишь, в пансионе у Курнана: какой славный день был и как чудесно солнце светило в раскрытые окна нашего класса! Тогда еще голубь влетел в окно и ужасно перепугал учителя. Ждали нового инспектора, всё было вымыто, вычищено; monsieur Верфель в новом фраке отчаянно отмахивал французские глаголы; вдруг врывается в класс… только не голубь, а пьяная фигура с просительным аттестатом. Жидкий французик затопал ногами, заскрежетал зубами, крича: «Вон, вон!» (он еще, помнишь, кричал как-то иначе, что нас невероятно тешило). Так бы и выгнали бродягу, но пузатый и длинноухий мальчик, раскормленный, как индейка, проницательно заметил своим товарищам по задней скамейке: «А не инспектор ли, господа, сам переоделся и пришел инкогнито?» Говор пронесся по классу, дошел до учителя, и глупый французик, неизвестно почему, счел догадку твою основательною и стал вежливо говорить с пьянчужкой, пока не явился настоящий инспектор в сопровождении Курнана… Какая тогда произошла сцена и какие были последствия? Раздраженные французы высекли тонкого мальчика — и как больно высекли!
Или помнишь другую школьную сцену, с книгой, в которую вписывались наши проказы; учитель арифметики, человек русский, долго и горячо допытывался: кто вырвал из нее несколько листов? Виновного не нашлось; тогда он прибегнул к старой сказочной хитрости: роздал мальчикам по равной соломинке и сказал, что у виновного через час на вершок соломинка вырастет длиннее, — и ты ровно на вершок откусил свою соломинку, и тебя опять высекли, а виноват был не один ты, и ты даже меньше других! Так кончались твои тонкости в детстве, того же заслуживают они и теперь; да и чем твои новейшие тонкости умнее детских? (Черт возьми, как долго не дают обедать, пять часов!) Например, теперешняя твоя тонкость (если только ты не спишь действительно, а, право, я сильно подозреваю, что ты притворяешься) — что в ней умного? Ты вздумал срезать приятеля, которому пришла охота сказать тебе горькую правду, и прикинулся спящим (я так предполагаю), но приятель подметил твою тонкость и выскажет даже больше, чем хотел, может даже обругать хитреца, и ты ничего не вправе будешь сделать: ведь ты спишь. Спишь, Грачов? — возвысив голос, спросил Тростников. (Ответа не было.)
— Смотри, — продолжал Тростников, — лучше откликнись и признайся, а то еще хуже будет, ты рискуешь услышать неприятные вещи… Слышишь? Я теперь перестаю говорить с тобой, а буду рассуждать о тебе с самим собой; право, не лучше ли откликнуться?.. Но ты молчишь, и я начинаю: что такое Грачов? Начнем с наружности. Грачов — плотный детина двадцати семи лет. Он еще не толст, но принадлежит к людям, которые должны потолстеть неизбежно. И он будет толст, хотя и принимает дознанные меры, чтоб не потолстеть. Но характера у него поменьше, чем у Байрона, и, потерпев два-три дня, на четвертый он так наедается, что глаза его готовы выскочить. Каблуки его сапогов не выше обыкновенных, но они непременно прежде всего бросятся вам в глаза, может быть, вследствие особенности его походки: он не идет, а как будто козыряет, показывая свои маленькие ноги, ставя одну за другой с грацией и некоторой торжественностию, причем весь корпус его слегка колеблется. Вообще он не любит скрывать того, чем наделила его природа, и закапывает себе платье (у лучшего портного — он большой франт) в обтяжку; грудь его и так неумеренно высока, но он еще имеет привычку пялить ее, втягивая живот. Еще два-три года, и талия его будет переваливаться, а лет через пять он начнет ходить с солидной тростью. Он мастер повязывать галстук, и когда кланяется или танцует, то закругляет руки и нагибает голову с медленной грацией. В этом он несколько похож на Павла Иваныча Чичикова… Спишь, Грачов? Спит! (А повар тоже, видно, спать лег!) Теперь пойдем далее.
Что такое Грачов?
Грачов — добрый малый, не слишком умный и не дурак, но добрый малый, уже утративший первобытную форму и несколько испорченный новейшими примесями, и вот по какому случаю: Грачов имел счастие или несчастие, что решить довольно трудно, попасть в круг, где любят-таки поговорить о существенных вопросах науки, жизни, современности и проч. В этом кругу мужчины очень умны, а дамы очень дурны собой — это его характеристика. Этот кружок, между прочим, имеет свойство быстро развивать самолюбие каждого, кто прикоснется к нему, да иначе и не может быть там, где роль каждого определяется его личным значением, а значение — личным достоинством и заслугой. Следствия такого свойства для умных членов кружка часто бывали благодетельны: возбужденные соревнованием, эти счастливцы вырабатывали из себя всё, что могли, и делались светилами если не общества, то своего кружка. Но что делалось с остальными, с людьми обыкновенными? Бывало, что они кончали даже трагически. Оторванные от полусознательного существования, которое так весело влачит большинство добрых малых, они гибнут жертвою неумеренно развитого самолюбия. Вы тотчас их узнаете, вступив в такой круг (по преимуществу литературный); они желты и зелены, сидят, вечно надувшись, говорят мало: не смеют или думают, что не найдут слушателей. Самолюбие гложет их, и постоянное напряжение придумать что-нибудь оригинальное умерщвляет в них последний остаток ума; они кажутся совершенными дураками… Кто бы подумал, что величавый друг наш Грачов хоть одну минуту мог находиться в таком положении? Правда, не совсем в таком; он богат и давал хорошие обеды; его вздор выслушивали, от него не отходили прочь при первом его слове, но всё же гордость его часто получала неизбежные щелчки: он тайно мучился, и пот скудоумия нередко капал с его высокого чела при напрасных усилиях сказать что-нибудь умное. Но не такова была его натура, чтобы запутаться и засесть в паутине, сплетаемой смертельно уязвленным самолюбием. Его самолюбие не было смертельно уязвимо. Он скоро примирился с своим положением, перестал пыхтеть и надуваться и поднял голову. И с той поры он уже не опускал ее: он понял свою роль к умном кружке, нашел еще другой круг, в котором отдыхало его самолюбие, и славно повел свои дела. В умном кружке он жаловался на пустоту своего светского общества, а в светском — на педантство и ученую скуку умного кружка, сношения с которым облекал он должною, таинственностию, намекая, будто сам принимал участие в его деятельности. Он брал у кружка умников их суждения, их взгляды, их мудреные слова и фразы (всего чаще слова и фразы) и приносил их в светский круг свой, а умникам платил светскими сплетнями, до которых так падки литературные затворники. Наконец, окончательное удовлетворение своему самолюбию нашел он в том, в чем я вижу одно доказательство его тупости: если один отличается ученостью, другой написал умную книгу, третий мастер говорить, то и я также имею свое — я человек необыкновенно тонкий, — думает наш друг Грачов, который теперь сладко спит или, может быть, уже проснулся. Спишь, Грачов? Спит, и я еще успею разобрать, что такое тонкий человек. (А каков повар! Я умираю с голоду.) Что такой тонкий человек? — Глупец, так много думающий о своей особе, что не хочется даже признать в нем и тех достоинств, которые он действительно имеет…
Тут Грачов шевельнулся, но почти тотчас же снова же слышалось его тихое храпение.
Тростников продолжал:
— Нет, такое определение не годится, оно слишком общо и так грубо, что даже сонных коробит, надо поискать другого. Что же такое тонкий человек?
Тонкий человек — величайший энциклопедист, хотя может быть, учился плохо и в дрянной школе. Он знаток решительно во всем: в женщинах, в музыке, в лошадях, в литературе, в астрономии, в политике. Он мог бы написать превосходную книгу о чем угодно; но не пишет, потому что… не хочет.
Тонкий человек слышит за версту, видит впотьмах, знает вас насквозь, как свои пять пальцев.
Тонкий человек узнает характер человека по его почерку. Тонкий человек расскажет вам историю приходящего, даже определит его чин, лета, рост и самую цель посещения по звонку, приводимому в движение его рукой.
Тонкий человек — знаток в медицине: если вы больны и лечитесь у известного доктора, он посоветует вам прогнать доктора, объявит его лекарства никуда не годными в предложит вам свои услуги, вызываясь вылечить вас в один день. Не верите? Попробуйте!
Никто не возьмется охотнее тонкого человека и никто не выполнит лучше так называемых деликатных и печальных необходимостей, например когда нужно приготовить мать к известию о смерти сына, жену — к известию о смерти мужа. Можете быть уверены, что при самом входе тонкого человека мать хлопнется в обморок, вообразив, что не только один сын, а все ее дети померли. Но тонкий человек все-таки будет уверять, что, не случись его, было бы хуже: и мать и жена не перенесли бы удара и, верно, лежали бы на столе, тогда как теперь, при его содействии, мать только расшибла висок, ударившись об угол кровати ври падении, а жена впала в самое легонькое безумие, которое, же беспокойтесь, пройдет, непременно пройдет… уж я знаю!
Однако ж вот я и кончил, а обеда всё нет, и мой друг Грачов всё еще спит, что ж я буду теперь делать? Да, я еще не сделал общего заключения! Что же, какое общее заключение о Грачове? Хороший он или дурной человек? Ни то ни се! Был он хорош, когда был влюблен — не в глупую панну Сабину, о которой он так высокопарно повествовал и которая так нетонко его провела. Нет! гораздо ранее. Ему было тогда только девятнадцать лет. Как он был прост, и искренен, и тепел! (Я тогда и полюбил его.) Как он весь блистал и светился и, однако ж, нисколько не оскорблял, а веселил своим блистаньем, чего нельзя сказать о теперешнем его самодовольствии, которое иногда бесит даже посторонних. Я сам слышал, как один господин в трактире при входе Грачова закричал: «Человек, перенеси мой прибор в другую комнату!» — и потом вполголоса говорил своему приятелю: «Вот физиономия, которой я не могу видеть равнодушно! Мы не имеем ничего общего, даже не знакомы, может быть, он прекрасный человек, в чем ж, однако, сомневаюсь, но при виде него желчь моя подымается и аппетит пропадает». (Слышишь, Грачов? Так отзывался о тебе господин, которого зовут… Но что пользы называть фамилию, когда ты спишь?..) Впрочем, кто же не хорош в пору любви? А кто не хорош в эту пору, от того не жди добра в другое время. О, чудное, чудное пламя любви! Зачем не вечно горишь ты в груди человека! Люди были бы лучше, и Грачов никогда бы не дошел до такого нравственного падения, как теперь. Любовь облагораживает самую грубую душу. Так точно (славное сравнение пришло мне в голову), так точно бедной и тесной лачужке выпадает иногда на долю приютить на четверть часа под соломенной кровлей своей путешественницу, богатую, красивую и причудливую. За четверть часа до приезда красавицы с лачугой совершается превращение: пол устлан коврами, потолок и стены обиты богатой материей, накурено благовониями, зажжена лампа, придающая всему ровный матовый колорит. И вот явилась чудная гостья — покушала, сделала свой туалет и уехала далее, только пыль стоит столбом по дорого, да отдаленный стук экипажей, да лениво расходящаяся толпа свидетельствуют, что все происходившее за минуту не было виденьем, не сонная греза. А в избушке всё опять бедно, даже кажется беднее и хуже: потолок словно почернел пуще прежнего, огромная печь как будто еще стала неуклюжее; темно, сыро, нечисто, и, как мелкие страсти в душе человека, по закопченным стенам копошатся и бегают проворные прусаки и мухи. И жди, когда опять заглянет чудная гостья, и заглянет ли еще…
Да! славное сравнение! (уже не говорил, а думал Тростников). По странное дело! Нет сомнения, что оно принадлежит мне. Я его нигде не читал, ни от кого не слыхал; оно пришло в мою голову, оно мое. Но отчего же мне первому кажется, что я его украл… у Гоголя? Неужели сила гения так велика, что он кладет свое клеймо даже на известный род мыслей, которые могут родиться в голове другого? Или я ошибаюсь, и это просто общее место, пошлая мысль, которой я дал, благо готова, форму сравнений Гоголя… Или форма-то меня и сбивает, и в чужой форме мне и самая мысль моя кажется чужою? А своей формы я не умел дать. Кто решит мне эти вопросы? Я их не в силах решить. И вот почему я никогда не мог бы быть писателем. Хорошо или худо ли, мое или не мое — эти сомнения замучили бы меня, и при одной мысли, что меня могли бы заподозрить в краже чужого ума, бросает меня в такой жар, как если б кто сказал, что я вытащил платок из кармана…
— Кушать подано! — громко возвестил человек.
— А! ну, слава богу! — сказал Тростников. — Грачов, полно дурачиться! Пойдем есть.
Грачов медленно открыл глаза, приподнялся и спросил зевая:
— Что ты говоришь?
— Обедать подано.
— Как! Неужели уж так поздно?
— Полно хитрить, приятель! Признайся лучше: перетонил немножко?
— Что такое? Ничего не понимаю.
Грачов причесывался перед зеркалом.
— Ну, всё равно. Спал ли ты или не спал, я торжественно объявляю, что сроду не имел такого слушателя, как сегодня…
— А разве ты говорил что-нибудь? — спросил Грачов зевая.
— Всё время.
— Ну так я скажу, что ты ошибаешься: ты мог иметь еще лучшего слушателя.
— Кого же, например?
— Я думаю, человека, который умел бы спать с открытыми глазами, — кротко сказал Грачов.
— О, тонкий человек! Правда, правда!
Глава III Оба друга бодрствуют
Приятели перешли в столовую и сели обедать. Но хотя Грачов заявил, что будет иметь аппетит волчий, однако ж кушал мало и был, вероятно, со сна не совсем в духе. Разговор не клеился. Время от времени Тростников повторял одни и те же вопросы: «Так ты спал, Грачов? Так ты не слыхал, что я говорил?», на что Грачов каждый раз пожимал плечами и отвечал сухо: «Разумеется, что ж тут удивительного?» И разговор умолкал. Наконец Тростников прекратил свои вопросы (ему показалось, что они как будто сердят приятеля) и заговорил о поездке в деревню.
— Да! — заметил он между прочим. — Твоя мысль ехать теперь же удивительно счастлива; и, если бы ты сказал мне ее без длинных и мрачных предисловий, я бы расцеловал тебя! Я сам думал ехать, но не ранее как в конце мая. Почему не теперь же? А вот спроси! Невероятно, как глубоко и незаметно рутина въедается во все наши действия. Все едут в конце мая, и я ждал конца мая! Как будто что-нибудь удерживает меня здесь! Но не истинное ни удовольствие уехать в деревню теперь же? Это будет то же, что с одного выстрела убить пару вальдшнепов: мы избежим самого дурного времени в Петербурге и захватим самое лучшее в деревне! Не дышать зловонием, когда начнут колоть грязный лед, не видать чудовищной мостовой, по которой ныряют эти бедные Ваньки, и вместо того присутствовать при самом зарождении весны, приветствовать обновление природы, подстеречь первый побег молодой травки, вдохнуть полной грудью первое весеннее дуновение, — признаюсь, роскошнее ничего давно не представлялось моему воображению… да, едем теперь же! Я благословляю голову, в которую пришла эта счастливая мысль. Гордись, Грачов! Я решительно утверждаю, что это лучшая твоя тонкость с той поры, как ты пустился в тонкости!
И многое еще говорил Тростников в том нее роде. Постепенно и Грачов стал разговорчивее, — должно быть, бургонское развязало ему язык. Аппетит его также усилился; едва притронувшись к первым трем блюдам, он съел все блюдо жаркого, и к концу обеда приятели уже горячо и дружно толковали о предстоящем путешествии, выпив в ознаменование счастливой мысли Грачова бутылку шампанского.
Нет нужды долго скрывать от читателя, что Грачов к Тростников были именно такие друзья, каких в избытке производит наше время. Дружба их держалась на взаимном щекотании самолюбия, и как они были точно друзья, то это упражнение им почти всегда удавалось. В самом деле, кто лучше друга знает, в которое место должно воткнуть другу булавку так, чтобы она ушла туда и с головкой? Но зато никто лучше того же друга не знает, какая пропорция сахару нужна для приведения вас в сладчайшее состояние духа и в каком виде вам должно поднеся ее. Так поглаживая друг друга то по шерсти, то против шерсти, они не скучали вместе и на этом основании думали, что любят друг друга; а в сущности… но не будем откровенны там, где догадливый читатель не нуждается в нашей откровенности. Как бы то ни было, они не сознавали настоящего источника своей дружбы, и каждый видел в другом образец дружеской преданности. Тростников думал: «Глуповат этот Грачов, да зато добрейший малый и любит меня»; а Грачов думал: «Ух какая заноза этот Тростников! Я вижу его насквозь: завистлив и зол по природе — и притом какое самолюбие! Весь свет бы заставил плясать по своей дудке!.. Да зато честный малый и готов за меня в огонь и в воду…» Итак, они толковали о предстоящей поездке. Надлежало решить вопрос: куда именно ехать? Оба они были столбовые русские дворяне, и судьба, хотя не в ровной степени, наделила их родовыми поместьями. У Грачова были имения в нескольких губерниях. Куда Же ехать? Где природа живописнее? Народ характернее? А главное: где больше дичи? (Праздные друзья наши любили охоту и были данниками петербургских чухонцев, которые, протаскав их целый день по пустым болотам, показывали им под вечер до безумия настреканного бекаса или разбитый выводок куропаток.) Совещание длилось недолго, и тонкий человек остался победителем. Тростников охотно согласился предпочесть его в<ладимирск>ое имение своему малороссийскому, любя природу чисто русскую и, может быть, имея еще некоторые другие соображения. Грачов же твердил одно: «Там сторона глухая и народ так наивен, что бьет одну утку, считая всю остальную дичь недостойною выстрела; какова же охота предстоит нам? Тетеревей, куропаток, вальдшнепов там как ворон, и какую стойку будет выдерживать девственный дупель, которого не тревожили, может быть, двадцать лет! (В пылу увлечения тонкий человек забывал, что дупель, даже самый девственный, едва ли может прожить двадцать лет.) Я не бывал там с детства, но помню, что мой отец привозил дичь корзинами. Дом стоит на возвышении, которое постепенно сливается с низменностию, предшествующей дуговому берегу Оки; Ока видна с балкона, и перед самыми окнами дома чудесное озеро…», и многое другое говорил Грачов, но нам нет нужды исчислять краски, которыми живописал он свое поместье: мы сами будем в Грачеве (так оно называлось). Довольно сказать, что Грачов не щадил их и что не одни девственные дупели, но еще более воспоминания детства, о котором он, как малый солидный и установившийся, редко думал, теперь, внезапно прихлынув, одушевили его и делали красноречивым. По рассказам тонкого человека, Грачово было рай земной, и друзья расстались, горя нетерпением отправиться туда скорее.
Приготовляясь к сложной роли деревенского жителя, отчаянного охотника и гостеприимного хозяина, Грачов сделал бесчисленные закупки, опись которых сохранилась в его бумагах, откуда мы извлекаем важнейшие статьи, касающиеся охоты.
Грачов накупил (всё в большом количестве):
1) Непромокаемых одеяний — каучуковых для господ и клеенчатых для прислуги, каучуковых шапок с ушами и подзатыльниками, каучуковых тюфяков и подушек (в резинковом магазине у Кирштена и в магазине a la Toilette[22]).
2) Егерских вещей — пороховиков, дробовиков, пистонниц, ягдташей (в английском магазине и у Ржецицкого).
3) Свистков на всякую дичь (у Ржецицкого).
4) Болотных сапогов разной длины (под колено, за колено и выше) и всякого рода: кожаных петербургской работы (Людвига и Гренмарка), кожаных английских, с негнущейся несокрушимой подошвой, убитой исполинскими гвоздями (эти богатырские сапоги можно иногда найти в магазине a la Toilette), каучуковых петербургских, каучуковых заграничных (у Кирштена).
5) Английских шерстяных носков и чулок мягких, плотных и во всех отношениях превосходных (в английском магазине).
6) Охотничий погребец, изумительно прочный и укладистый.
7) Пуд персидского порошка от насекомых.
8) Наконец, венцом своих охотничьих приобретений Грачов справедливо почитал превосходное английское ружье Пордэ (Purdey), которое смотрело так, как будто стоило 40 целковых, а било… нечего и говорить, как оно било! и стоило не 40 рублей, а вдесятеро.
Приготовления и по другим частям — по съестной и питейной — были тоже недурны, и, кроме того, грачовскому управляющему послано приказание откормить и отпоить столько телят, поросят, барашков, индюшек, кур и цыплят, сколько найдется в вотчине.
Всё закупленное отправлено в Москву, а оттуда немедленно должно было двинуться далее, чтобы поспеть в Грачово до разлития Оки и других рек.
Но мы забыли самую важную статью, именно: статью о собаках. Друзья имели по собаке (и каждый, по обыкновению, считал свою образцом собачьих совершенств), но пары собак дальновидному Грачову в предстоящей охоте казалось мало; притом в течение зимы собаки их страшно разъелись: друг и фаворит тонкого человека, черный, грудастый, коротконогий и короткошерстый Раппо едва перебирался с своей подушки в обеденный час в столовую и остальную часть дня уже маялся на голом полу, вздыхал, как объевшийся гусь, и словно говорил проходящим: «Посмотрите, как неловко и жестко, — я все бока отлежал! А идти к подушке нет никакого расчету: скоро будет ужин, да еще и проспишь, пожалуй!» Раппо был малый обдуманный.
Кстати мы должны сказать теперь же несколько слов о Раппо, без которого Грачов-охотник не полон и не понятен. Всего лучше выписать отметку самого Грачова, которую находим в его охотничьем журнале; она относится ко времени, с которого начинается наш рассказ.
«Раппо — чистый английский пойнтер, уже не первой молодости, но хорошо сохранившийся, настоящий джентльмен как в домашней жизни, так и на охоте. Он ласков с хозяином, сухо-вежлив с его гостями, не кусает без побудительной причины и никогда ни у кого не лижет рук, чем снискал особенную мою любовь; в лучшем расположении духа он подпрыгивает и легонько стискивает зубами край вашего уха — это его величайшая ласка; в остальное время выражает он свои чувства — благодарность, довольство самим собою и другими, радость свидания — мерным, громким и полным достоинства стуком хвоста. (Хвост у него нерубленый, гладкий, несколько обившийся с конца; лежа на подушке, он обыкновенно растягивает его по полу, как крыса, и каждому идущему дает знать о своей близости троекратным постукиваньем, не столько из дружелюбия, сколько из предосторожности.) Поведения примерного. Случалось, будем беспристрастны, что он даже пропадал иногда (по сердечным делишкам), но всегда являлся домой сам — и прямо к обеду. Час обеда ему отлично известен; он, к сожалению, обжора — страсть, которая его погубит. Таков Раппо дома. На охоте являет он редкое соединение сильного чутья и крепкой стойки с хорошими манерами, что даже реже хорошего чутья: никогда ни в каком случае не горячится, ищет, как долг исполняет, предоставляя остальное судьбе. Не горюет и не радуется; не волнует вас ложными стойками, когда ничего нет, но и не падает духом, подобно тем бездарным собачонкам, которые, попрыгав полчаса по болоту, начинают поминутно останавливаться и, поставив передние ноги на высокую кочку, глядят на вас, как будто говоря: „Я ничего не мог найти, поищи теперь ты“. А как он подводил!»
Но нам придется еще видеть Раппо на самом поприще охоты и потому прекращаем выписку. Собака Тростникова имела также свои хорошие качества, с которыми познакомимся впоследствии. Теперь дело шло о том, чтоб приготовить резерв, так как Раппо не без основания внушал своему хозяину мрачные предчувствия. И тонкий человек поручил приживавшему в его людской бездомному егерю Сидору (специальность которого состояла в сопровождении молодых охотников по болотам) приискать несколько собак. «В отъезд? — выразительно спросил Сидор и, получив утвердительный ответ, объявил: — Можно, и даже недорого будут стоить». С той поры он ежедневно приводил к Грачеву мрачную собаку и не менее мрачного мужика, который именовался хозяином собаки. Но собака так на него глядела, что, спусти он только ее с веревки, она бы наверно показала ему пятки. Раз, когда он зазевался, так и случилось: огромный маркловский пес с красными веками, отвисшими подобно карманам дорожного тарантаса, вышиб двойную раму и бежал в виду торговавших его охотников и мнимого своего владельца. Мужик только икнул. Вообще и собаки, и мужик, и самый Сидор — всё имело вид несколько подозрительный, но тонкость как будто вдруг покинула Грачова: он платил деньги, брал собак и отправлял их с обозами своими, намереваясь на досуге в деревне вникнуть в их качества.
Таким образом превосходно обеспеченные по всем отраслям путешествия, деревенского комфорта и охоты приятели наши двинулись в путь.
Глава IV Ночлег на постоялом дворе, доставивший богатую пищу сатирическому уму тонкого человека
Первое событие, внесенное Грачовым в дневник (которым мы пользуемся), относится к ночлегу путешественников в Гороховце или, точнее, в селе Красном, чрез которое проходит шоссе, оставляя город правее в одной версте. Они прибыли в Красное поздно ночью, взяли особую комнату на постоялом дворе и тотчас же легли спать. Утром тонкий человек был пробужден разговором, происходившим за стеной, около которой помещалась его кровать. Прислушавшись, он нашел разговор столько интересным, что разбудил своего товарища. Оба они стали слушать, и вот в каком виде записано в тетради Грачова то, что они услышали.
За стеной
(Драматическая сцена)
I
Мужской голос
Васильевна! Эй, Васильевна!
(Слышен скрип отворяющейся двери, шаги и старушечий голос.)
Женский голос
Чего, кормилец?
Мужской голос (быстро и с беспокойством)
Ба! Что у те с лицом сделалось?
Женский голос
А разве што сделалось?
Мужской голос
Погляди.
Женский голос
Ничего не вижу, али зеркало фальшит?
Мужской голос
Не зеркало, а глаз, видно, нет. Лицо словно кровь, и нос — туша! А она не видит!
Женский голос
А у печи возилась. Твое же добро берегу, не кухарку нанимать! Сродница всё лучше чужой. Вот и опалило маленько.
Мужской голос
Эх, Васильевна, Васильевна! Ну как теперь в люди покажешься? (Молчание.) Ситчик скроила?
Женский голос (живо)
И скроить скроила, и сшить поспела; спасибо, родной. Вот в Благовещенье в церковь пойду — надену.
Мужской голос
Я тоись не о Благовещенье говорю, наденешь и раньше. Да голову платком повяжи, настоящая купчиха как есть будь.
Женский голос
Так, стало, надумал, кормилец?
Мужской голос
Надумал. Нетто не такая же ты баба, как и другие.
Женский голос
Вестимо: баба всё баба, как одна, так и другая. Справлю не хуже прочих.
Мужской голос
А то еще сваху ищи? Деньги ей плати, а деньги нынче в сапогах ходят. (Молчание.) Да башмаки обуй.
Женский голос
Обую и платок повяжу, надо как есть весь парад соблюсти. Да вот что, Иван Герасимыч: как бы маху не дать.
Мужской голос
А что?
Женский голос
Сама выпить любит, а скупа.
Мужской голос
Ну?
Женский голос
А не подойти ли то есть таким манером: так и так, мол, купила по приказу Ивана Герасимыча, домой несу, да жара больно морит — отдохнуть зашла.
Мужской голос
Понимаю, вишь, у те губа не дура! Ну, вот на… мадерки купи и того… и изюмцу, что ли, фунтик, а то пастилы. Да смотри, попусту не давай… Как увидишь, что дело идет ладно — и попотчуй старуху… да и Евлампия Маркеловна, поди, пьет? Ну и ее…
Женский голос
Как, чай, не пить: кто нынче не пьет? А уж, нече сказать, красавицу подхватишь: чистая да румяная такая, кровь с молоком; только вот зубы белы…
Мужской голос
Зубов словно недостает; я ветрел их намедни у праздника, смотрел всю обедню — молчит либо хихикнет таково скоро, и опять молчок… а, кажись, пары нет.
Женский голос
Это спереди будет, что ли, родимой? А и есть нет, да какой прок в зубах, кормилец? У самого зубы те больно востры. А почернеют, бог даст, так и приметы не будет, что недостает. Только уж плотная да толстенная, нечего сказать…
Мужской голос (смеется недоверчиво)
Полно языком молоть. Говорит, словно видела.
Женский голос
А известно: видно!
Мужской голос
Видно! Дура ты, Васильевна! Видать но видала, а божиться рада! Где у вас ум, у старых людей? Да я вот тоже видел Евлампию Маркеловну, и ты мне ее хоть год еще так показывай… Кругла, кругла, а не побожусь! Нет, я не дурак… Я вот постоялый двор держу, примерно, бойню в городе имею, свою коммерцию произвожу, пятый год без тятеньки остался, а дела не уронил… не токмо, даже люди одобряют лучше тятенькинова… Я теперича к тому говорю: приводят ко мне, примерно, на бойню быка — ну, я и вижу, каков он есть, и знаю доподлинно, что под кожей — всё будет мясо, каково там ни на есть, а мясо. А тут, Васильевна, ты не толкуй, тут статья особенная. Тут дело выходит деликатное…
Женский голос
Как хотите, Иван Герасимыч, а кость говорит…
Мужской голос
Кость! Чего кость! Нынче свет, вишь, каков стал: и в купечестве господские порядки пошли…
Женский голос
Нет уж, Иван Герасимыч, ты меня режь, а хоть побожиться, фунта фальши в ней нет… Евлампия Маркеловна невеста богатеющая, всегда скажу…
Мужской голос
Знаю, не толкуй. Стало, знаю, коли сватьев засылаю… Я уж и Сергей Васильича просил — они хотели братцу Евлампии Маркеловны поговорить… так они теперь, поди, уж знают, в чем, выходит, мое есть желание, и, ежели сами желают того, ты тотчас смекнешь.
Женский голос
Как не смекнуть? Смекну, кормилец, смекну… Так я пойду, Иван Герасимыч, теперь, мадерки да изюмцу куплю, а там уж оденусь да и с богом…
Мужской голос
С богом, Васильевна, да смотри, буде не того — так мадеру не откупоривай, домой тащи — проезжие выпьют; а изюм с уговором бери, коли, мол, не пондравится, так обратно принять.
Женский голос
Ладно, кормилец.
(Слышен скрип дверей.)
Мужской голос
Да смотри, приберись получше — огуречным рассолом, что ли, помойся. Видишь, лицо словно огонь.
Женский голос (усмехаясь)
Э, родимой, не в лице моем дело. (Уходит.)
Мужской голос
Знаю, да, вишь, Маркел Абрамыч человек гордой, скажет: вот де какую сваху прислал, куфарку! Знаю я его — гордец! Что красным товаром торгует, так и нос поднял. Мы вот постоялый дворик держим, да у нас деньги не хуже его! По-моему, так всё равно: кто ни приди, только дело сделай. (Слышен зевок и потом молчание; потом щелканье счетов и отрывочные слова.) Приданого, выходит, тряпья разного рублев тысячи на две… жеребец карий — триста, лавка в шорном ряду — ходит сто двадцать в год… (Слышно щелканье.) Деньгами ничего. (Слышен вздох.) Выходит, взять можно, а свадьбу сыграю рублев на триста, а не то и подешевле… куда чужой народ поить да кормить даром! Я и Сергей Васильичу сказал так, и они говорят, на триста можно управиться… и обо всем обещали переговорить… и будут посаженым отцом. Кто там? Лексеич, ты?
Голос старика
Я, Иван Герасимыч; гостя веду!
II
Гость (входя)
Ивану Герасимовичу.
Хозяин
Федоту Маркелычу. (Молчание.) Чем потчевать дорогого гостя? Теперича у нас всего можно, потому постоялый двор — спрашивают. Чайку? Вода горячая ночь и день не переводится — духом соберем. Лексеич! собери четыре парочки — цветочного и сахарцу, понимаешь? Белого! Молво держим, первейший московский фабрикант, девяносто три копеечки фунт; есть и похуже: второй сорт, семьдесят две, ну, тот маненичко посерей будет, а сладость одна.
Гость
Конечно, кому какой требуется. У вас шавель проезжая пристает: всё больше обозчики — черной народ, так они, конечно, пьют и посерей.
Хозяин
Позвольте, Федот Маркелыч; жирно будет семьдесят две черный народ поштвовать. Вы наших порядков не знаете! Да так и стоялый двор держать нельзя — с кошлем пойдешь. А мы, благодарение богу, наживаем… У нас черному народу подается синец.
Гость
То есть как, Иван Герасимыч, синец?
Хозяин
А сахар такой, выходит — третий сорт.
Гость
Нечего сказать, не слыхал.
Хозяин
Оно вот видите, Федот Маркелыч: в продаже его не находится, так и мудреного нет, что не слыхали, а достал я его случаем. Изволите припомнить, прошлого году Оловянишников, Стратилат Гаврилыч, в Москву ездили, ну вот они и купили там партию сахару. Дешево, что ль, обошлось, только купили они его много… и уж не знаю, сложить, что ли, места не хватило, только часть его лежала так бог знает где: у Стратилата Гаврилыча на дворе флигелечек неражий есть, так вот они и сложили голов сотню туда на чердак, а внизу красильщики нанимали. И развели они однажды большущий чан синей краски — пряжу красить сбирались, а потолок не выдержал — шутка, сто голов: тяга немалая! И посудите вы теперича, Федот Маркелыч, сорок голов как есть в самый чан так вот и угодили да почитай час в нем и кисли. Оказия!
Гость
Подлинно, оказия! (Слышно, что принесли чай.) Вот, я думаю, Оловянишников бороду расчесал!
Хозяин
Э, Федот Маркелыч, такому богачу, как Оловянишников, — плевое дело и не сорок голов! А нашему брату с руки… Откушайте! (Пьют чай.)
Гость
Ну и что же, Иван Герасимыч?
Хозяин
Повытаскали да сушить поскорей. И то чудно, что ничего: просох и такой твердой стал, словно камень, кипяток его не берет, с одним куском десять чашек пей. И сладок. Одно: цвет! Ну, цветом не вышел, так ценой маленичко несходней белого: нам фунт, перед вами, как перед богом, Федот Маркелыч, копеичек по семнадцати, не больше, пришел, да-с!
Гость
Неужели? Да это, выходит, лафа, Иван Герасимыч.
Хозяин
А то как же не лафа? Всё, выходит, надо знать, как деньгу нажить. Я, поверите, Федот Маркелыч, какова есть крошка, другой год сахару не покуп… (быстро поправляясь) конечно, купишь маненичко, для хороших людей; всякие случаи бывают, надо держать…
Гость
Кто говорит, как не купить? И должно купить. Дворянину такого сахару не подашь…
Хозяин
Дело известное. А и тут, открыться по-божески, Федот Маркелыч, сноровка есть, коли плохонький придет — ничего, клади смело, сойдет! Конечно, не первый слой: первый слой синь, словно вот сукно, и отзывает нехорошо. Второй посветлей: этак, вот примерно теперича, как стена. А как разрубишь голову, так в иной, поверите ли, Федот Маркелыч, фунта с три чистейшего рафинаду окажется — и бел как снег! Только так местами синяя полоска словно жилка пройдет… (Наливает чаю.) Откушайте!
Гость
Нет, Иван Герасимыч. Я чаю больше не хочу, сами кушайте.
Хозяин
Что же-с, Федот Маркелыч? Всего три чашечки, да и баста…
Гость (резко)
Да так, не хочу. А я к вам по делу.
Хозяин
Чашечку?
Гость
А у нас, по-нашему, Иван Герасимыч, слово свято: сказано, не хочу…
Хозяин
Да вы, может, подумали… Разрази гром — сахар настоящий: у Варахобина брал, хоть спросите.
Гость
Да я дома много пил.
Хозяин
Ну так водочки. Эй, Лексеич! Бальзамчику графин да рюмки большие, пятнадцатикопеечные.
Гость
К чему большие? Я много пить не буду. Много пить будешь, голову потеряешь.
Хозяин
Со мной ничего, Федот Маркелыч. Я вас так, словно брата родного, уважаю. И не то что чай или водка, всё готов с моим уважением. (Слышно, что принесли водку.) Откушайте! (Пьют и крякают.) А то подумали. Нет, Федот Маркелыч, оловянишниковский сахар у нас весь в продажу идет, верхний слой черному народу идет, второй кому почище, а середним и дворяне не брезгуют.
Гость
Одно удивительно, как теперича цвет, я полагаю, спрашивают. Мужик, мужик, а всё же он видит.
Хозяин
По нашему тракту народ, слава богу, смирен. Мужик богобоязненной, и, чтоб буйство или чего, не слыхать. Иной спросит случаем: что, мол, сахар словно крашеной? «Дурак ты, — скажешь ему, — мужик, так и видно, мужик: не слыхал, что ли, нынче и всё такой сахар?» Ну и ничего, пьет. А иной так еще просит такого. К нам кто не заходит? При всяком его не подашь… иной раз подаем и мужику побелей; так нет, сердится: «Ты, — говорит, — синцу подай, с ним поспорей!» Так и пошло: синец да синец!.. Откушайте!
Гость
Да сами что же, Иван Герасимыч? (Пьют.)
Хозяин
А вот и мы выпьем-с. Так изволите говорить, Федот Маркелыч, дельцо есть?
Гость
А вот видите, Иван Герасимыч: вы приказывали Сергею Васильичу, чтоб поговорить мне, что вы хотите сватать мою сестру?
Хозяин
Было дело.
Гость
Ну-с, Сергей Васильич посылали миня к моим родителям сделать им придлаженье, что вы хотите сватать сестру… и сказал я им на имя Аркадия Васильича и на Ольгу Васильевну и на Каверина, что будто они советуют за вас отдать…
Хозяин
Тэк-с!
Гость
То родитель сказал: когда евти люди об нем заключают, что он хорошего поведенья, то намерены будут отдать…
Хозяин (в восторге)
Уж будто? Так, стало, обделалось… Я тоись, Федот Маркелыч, по гроб слугой буду как тятиньке вашему, так равно и вам. Откушайте! (Пьют.) А поведение? По всей линии иди спрашивай — малый ребенок про нас худа не молвит! Да откушайте еще, Федот Маркелыч, а не то ма-дерки не прикажете ли?
Гость
Позвольте, Иван Герасимыч. Но только в том дело состоит, в каком вы смысле намерены свадьбу играть; если вы думаете так свадьбу сделать, как Сергей Васильич сказали: можно, говорит, на триста рублей сыграть — это значит по-кузнецки…
Хозяин
Тоись как по-кузнецки, Иван Маркелыч?
Гость
А так: купить штоф вина, прийти распить его да прощай! Нету! Этким манером взять вам у нас не придется, да и батюшка отдать по-кузнецки ни сагласится, потому у нас в радне по-кузнецки ни одной нивесты ни отдавали и свадеб кузнецких ни бывала, а она у нас ни худова поведенья или ни дура, чтобы мы согласились ее так отдать; а она у нас из кожновых невест перва красавица.
Хозяин
Тэк-с!
Гость
Если нам ее тах-то отдать, то нам не то свои сродники в глаза наплюют, но даже весь город асмиет, патаму у нас на запое и на сговоре будит публика большая; люди будут хорошие, одних барышниев будит штук до девяти; а угощать нечим будит, и абедов не будет!
Хозяин
Триста рублей деньги, Федот Маркелыч.
Гость
Кто говорит — и гривна деньги. Только нам с гривной делать нечего. Это просто нам проходу не дадут. А если согласны вы будите свадьбу сыграть но купецкому обряду, она вам станет не мене как тысячу рублей, патаму у нас гостей будит много. Во время запою и сговору у нас займется половина хором, а у вас распорядиться некому, как только Васильевне и Лекееову; а евту сволочь родители не допустят, потому они умеют распорядиться только у табатирок, а не у етких делов…
Хозяин
Тэк-с!
Гость
А родители приказали вам поговорить, если вы надумаете: больше тысячи станет, то они согласны у вас взять на всю свадьбу тысячу рублей — на свое распоряженье, на разные вины, и на разные закуски, и на обеды, и меду сварить, и на чай, и на сахар, и за свадьбу священникам отдать, и из посуды совершенно до вас ничего не коснется…
Хозяин
Тэк-с!
Гость
А чего сверх тысячи нидостанет, то они с вас ни копейки не потребуют. А ваше дело только приехать с Федором Васильичем и с ево женою, — сесть подле невесты, а не с евтими людьми, с Васильевной и с Лексеевым! Тогда не стыдно будет пожаловать и Сергею Васильичу: угостим хорошими напитками!
Хозяин
Тэк-с!
(Слышно кряхтенье — он выпил, но уже не потчевал гостя.)
Гость
А и я выпью. (Пьет.) Так вот, Иван Герасимыч. Из платья с вас ничего не потребуем: снарядим сами! Постелю уберем в три перемены отличным манером, положим вас на Кобзев двор в каменные комнаты, а они у нас отделаны важно; постелю вам от нас примут наши сродники, как должно по обряду, и уберут ее. Вот если вы этким манером будете согласны, то приказали мне прийти с вами к родителям и переговорить, и посмотрите при наряде невесту. (Долгое молчание.) Так вот, Иван Герасимыч, можем сделать на Благовещенье запой, и вы не беспокойтесь сваху посылать — вот вам мои слона: если согласны будете, то я вашим буду сватом, а вы моим зятем. (Снова долгое молчание.)
Хозяин
Тысячу рублей — капитал, Федот Маркелыч! (Пьет и крякает.)
Гость
Нетто и мне выпить? Бальзамчик отменный. (Пьет и крякает.) А то поговаривает Васильевна за вас у нас свататься; лучше не посылайте, потому как батюшка на нее посмотрит, на эткую ловасть, да спросит ее, с каково она званья, а она скажет: кухарка, то он евто выведет, и выдет дичь палявая! Подельнее ее приходили, и то носец заворачивал! Етакой ли ходить сватать…
Хозяин
Тэк-с!
Гость
И то батюшка согласится отдать собственно по моей просьбе, потому я желаю вас иметь своим зятем и вы мне известны так, как на руках мои пальцы. (Молчание.) А Васильевна эта думает так, как она усватала Гирина, — так и теперь. Нет! Наша свадьба будет особенная; а на этой свадьбе если согласится она готовить кушанье, то мы ей отрежем платье! Так вот как надумаете?
Хозяин
А думаю.
Гость
Я вечерком побываю. Прощайте-с, наше почтение, Иван Герасимыч.
Хозяин (сухо)
Прощайте!
Гость
А когда не захотите и пожалеете тысячу рублей, то ищите невесту подешевле, а у нас женихи будут. Прощайте-с! (Уходит и возвращается.) А Васильевна эта думаит, так, как усватала она Гирина, так и теперь! Нет! Тут свадьба будет особенная, а тут если согласится она готовить кушанье, то мы ей платье отрежем. (Уходит.)
Хозяин
Думай не думай, а всё одно: не бросать же тысячу рублей на ветер! Нет, Евлампия Маркеловна! Недоросли вы, матушка, до тысячной свадьбы. (Бросается к двери.) Эй, поштенной, поштенной!
Гость (возвращаясь)
Стало, надумали, Иван Герасимыч?
Хозяин
А надумал…
Гость
Так не миновать породниться…
Хозяин (не слушая его)
Что же деньги, поштенной? Куда как прыток! Пить пил, а расплатиться догадки нет. У нас даром ничего не дают; потому — постоялый двор. Много вас, подлипал.
Гость
Какие деньги?
Хозяин
А чай пил, а бальзам?
Гость
Так, стало, так, Иван Герасимыч?
Хозяин
А так, Федот Маркелыч. Еще Евлампия Маркеловна маненичко недоросли-с до тысячной свадьбы. А денежки отдай: чай — полтину, три рюмки бальзаму — сорок пять; всего девяносто пять копеечек.
Гость
Чай? Да с твоего чаю только горло ободрало. Хорош тай — с крашеным сахаром!
Хозяин
А нет, сахар был настоящий.
Гость
Не видал я, что ли? Что ни кусок, то синяя жила, словно синькой выкрашен, да и воняет.
Хозяин
Дудки, поштенной! Ну да чай — бог с ним. Положим, сам пошвовал! А бальзам: три рюмки — сорок пять. Твоя рука наливала…
Гость
Будет с те и гривенника, алтынная душа.
(Слышен звук брошенной монеты. Гость быстро уходит.)
Хозяин (кричит)
Васильевна!
Васильевна
Вот и я, кормилец, совсем при наряде, оделась; гляди — чем не купчиха?
Хозяин
Не ходила еще?
Васильевна
А нет. Только мадерки сходила купить да вот принарядилась.
Хозяин
Ну так и не ходи.
Васильевна
Что так, родимой?
Хозяин
А так, непошто! Не годишься, вишь, говорят, какая ты сваха: не знаешь порядков!
Васильевна
Что-й-то, и господи! Как не знать? И не то, так знаю… да и других поучу. И неужто он так сказал? Али, кормилец, повздорили, стало, с Федотом-то Маркелычем?
Хозяин (сам с собою)
В тысячу рублей, говорит, свадьбу справь да и денежки им в руки дай, вишь, нашли дурака. Нет, я не дурак, дай им тысячу, знаю: распорядятся — любо! Нет, жирно будет — тысячу. Деньги нынче в сапогах ходят! Нас не тому родители учили — деньги бросать.
Васильевна (всплеснув руками)
Тысячу рублей, эва! Что они, стало, с ума спятили. Невеста совсем подошлая, а свадьбу в тысячу играй! Ну, нынче народ! И получше найдем, Иван Герасимыч, и не тужи!
Хозяин
А что тужить! Дурак я тужить. Какая невеста! Только и хорошего было, что лавка шорная: доход теперича верный, да жеребчик карий — масть отменная, отлив больно хорош, словно золоченой!
Васильевна
Найдем, всё найдем, не то золоченого, настоящего золотого найдем! А уж Евлампия Маркеловна, я давеча только говорить не хотела, а правду сказать: какая она невеста такому молодцу да красавцу… Ведь не только зубов, и волос нет: коса-то дареная!
Хозяин
Как дареная?
Васильевна
А так. Вишь, с господами дружество повели, так и переняли. Слыхал, чай, про казначейшу нашу прежнюю: каков есть волос, по всей голове ни одного нет… а в люди выйдет — коса стог стогом, посмотреть любо! Ну вот она таку косу одну и подари Евлампии Маркеловне, и пошла наша купчиха туда же щеголять! Право, я доподлинно слыхала!.. Прибрать, родимой? Чайку больше но будешь пить?
Хозяин
Нет. А бальзаму не тронь. Изюм обратно снеси.
Васильевна
Ладно, снесу, только вот чайку прежде попью…
Хозяин
Мадеру сюда подай. Да платье, смотри, скинь: я, примерно, не к тому его подарил, чтоб ты в нем по товаркам таскалась, а вот, может, посватать придется…
Васильевна
Сниму, сниму, родимой. (Уходит и возвращается.) А вот и мадера. (Уходит.)
(Молчание; потом слышен звук откупоренной бутылки; опять молчание, и потом раздается протяжная песня, напеваемая не совсем трезвым голосом.)
* * *
— Каков разговор? — сказал Грачов своему приятелю, убедившись, что уже не будет продолжения. — Не правда ли, чудо? Если записать, выйдет маленькая комедия; право, я так и сделаю.
— Да, разговор недурен. Но, признаюсь, я не желал бы быть автором такой комедии.
— Почему?
— Да потому, что выйдет… подражание.
— Помилуй! Каким же образом может выйти подражание?
— А бог знает каким! Память легче удерживает слышанное или читанное, а ум безотчетно дает простор чертам, которые ему уже указаны, истолкованы, — вот отчего, я думаю, списывая происходящее, мы невольно подражаем тому, что уже происходило и было списано… разумеется, если нет дарования. А есть ли оно у нас с тобой — еще вопрос не решенный. Или, может быть, уж такая среда, что два-три мастерские снимка исчерпывают ее всю, и, сколько ни списывай потом, всё будет казаться подражанием и повторением. Впрочем, печатай. Такие вещи печатать полезно. Во-первых, потому, что нельзя же считать свой приговор безапелляционным, надо оставить что-нибудь и суду публики: может быть, она и найдет в твоей комедии что-нибудь новое. Во-вторых, потому, что всякий предмет уясняется только тогда, когда перестает быть достоянием ограниченного числа специалистов, как бы получивших на него привилегию, а в-третьих, потому полезно… что никому не вредно.
Громкий и хриплый голос, раздавшийся за стеной: «Васильевна! эй, Васильевна!», прервал разговор.
Пришла Васильевна, и отвергнутый жених потребовал чего-то. Приятели стали одеваться.
Как опасно предаваться честолюбивым снам*
Фарс совершенно неправдоподобный, в стихах, с примесью прозы.
Соч. гг. Пружинина, Зубоскалова, Белопяткина и КR
«Лет за пятьсот и поболе случилось…»
Жуковский («Ундина»)I
Месяц бледный сквозь щели глядит Не притворенных плотно ставней… Петр Иваныч свирепо храпит Подле верной супруги своей. На его оглушительный храп Женин нос деликатно свистит. Снится ей черномазый арап, И она от испуга кричит. Но, не слыша, блаженствует муж, И улыбкой сияет чело: Он помещиком тысячи душ В необъятное въехал село. Шапки снявши, народ перед ним Словно в бурю валы на реке… И подходит один за другим К благосклонной боярской руке. Произносит он краткую речь, За добро обещает добром, А виновных грозит пересечь И уходит в хрустальный свой дом. Там шинель на бобровом меху Он небрежно скидает с плеча… «Заварить на шампанском уху И зажарить в сметане леща! Да живей!.. Я шутить не люблю!» (И ногою значительно топ). . . Всех величьем своим устрашив, На минуту вздремнуть захотел И у зеркала (был он плешив) Снял парик и… как смерть побледнел! Где была лунолицая плешь, Там густые побеги волос, Взгляд убийственно нежен и свеж И короче значительно нос… Постоял, постоял — и бежать Прочь от зеркала, с бледным лицом… Вот, зажмурясь, подкрался опять… Посмотрел… и запел петухом! Ухвативши себя за бока, Чуть касаясь ногами земли, Принялся отдирать трепака… «Ай люли! ай люли! ай люли! Ну, узнай-ка теперича нас! Каково? Каково? Каково?» . . И, грозя проходившей чрез двор Чернобровке, лукаво мигнул И подумал: «У! тонкий ты вор, Петр Иваныч! Куда ты метнул!..» Растворилася дверь, и вошла Чернобровка, свежа и плотна, И на стол накрывать начала, Безотчетного страха полна… Вот уж подан и лакомый лещ, Но не ест он, не ест, трепеща… Лещ, конечно, прекрасная вещь, Но есть вещи и лучше леща… «Как зовут тебя, милая?.. ась?» — «Палагеей». — Зачем же, мой свет, Босиком ты шатаешься в грязь? — «Башмаков у меня, сударь, нет». — «Завтра ж будут тебе башмаки… Сядь… поешь-ка со мною леща… Дай-ка муху сгоню со щеки!.. Как рука у тебя горяча!. Вот на днях я поеду в Москву И гостинец тебе дорогой Привезу…»II
Между тем наяву
Всё обычною шло чередой…
Но события таковы, что их решительно не видится необходимости воспевать стихами. В то время как в спальне не слышалось ничего, кроме носового деликатного свиста и не менее гармонического храпа, на кухне заметно уже было движение: кухарка, она же и горничная супруги Петра Иваныча, проснулась, накинула на себя какую-то красноватую кофту и, удостоверившись через дверную скважину, что господа еще спят, поспешно вышла, затворив за собою дверь задвижкою. Всегда ли она так делала или только на сей раз позабыла прицепить к задвижке замок, — неизвестно. Мрак неизвестности покрывает также причину и цель ее отлучки; известно только, что направилась она в который-то из верхних этажей того же дома. С достоверностию можно еще предположить, что отлучилась она искать соответствующей ее званию и наклонностям компании, потому что хотя был еще весьма ранний час утра, но по всей лестнице уже шныряли взад и вперед кухарки, лакеи и горничные, кто с кувшином воды, кто с коробкой угольев, и на всех этажах слышались громкие голоса, веселый визгливый смех и шарканье сапожных щеток. Черная лестница играет важную роль в жизни петербургского дворового человека: на ней проводит он лучшие часы жизни своей, — часы, в которые пугливый слух его не напрягается беспрестанно: не звонит ли барин? а мысль, что барин может появиться нечаянно и схватить его за вихор прежде, чем успеет он подавить веселую улыбку и придать физиономии своей угрюмо-почтительное выражение, так далека, что он даже забывает, что у него есть барин. Здесь обсуживаются добродетели и недостатки господ; рассуждается о том, что такое барыня, и вольно льется песня про барыню, про которую так любит петь русский человек и про которую знает столько прекрасных песен; производится вслух чтение газетных объявлений. Объявления: «Нужен человек, для комнат, красивой наружности, высокого роста и с хорошим аттестатом», и тому подобные особенно интересуют слушателей и бывают поводом жарких продолжительных прений, иногда не лишенных интереса и для тех, кто не ищет места в лакеи. Наконец, любезность дворового человека, столь ему свойственная, разыгрывается здесь во всем просторе своем.
Но будет об лестницах. Не прошло пяти минут по уходе кухарки, как дверь тихонько скрыпнула и в кухню осторожными шагами вошел человек несколько измятой, но благонамеренной наружности, вроде тех благородно-бедных существ, которые если и просят милостыню, то не иначе, как по документу, напоминающему красноречием своим лучшие страницы тех произведений, которых расходилось по обширному нашему государству по сороку изданий:
«Преданный вам всеми силами души, благоговеющее перед вами человеческое существо, которое в настоящее время от невыносимых страданий, от смерти политики, похоронив себя заживо, без средства удержать за собою былое доброе имя и даже самое право на звание человека… Пав ниц, молит кровавою слезою из гроба отчаяния помочь плачь-доле горького бедовика…»
Несомненные признаки их — семь человек детей (непременно семь, ни больше ни меньше), мать на одре страдания, язык, несколько запинающийся при извещении, что третьи сутки (тоже ни больше ни меньше) не было уже маковой росинки во рту, и других уверениях, и чувство собственного достоинства, стоящее тридцать пять копеек, потому что они непременно обидятся подачей меньше гривенника, на что, впрочем, благородство происхождения дает им полное право. Они очень хорошо знают дорогу к кабаку и могут сказать о себе, что в кабаках их знают
Впрочем, знают они много и других дорог. Если вздумается, входят в квартиру, и колокольчик у вашей двери, приведенный в движение их рукою, издает какой-то особенный, робкий и молящий, звук, как будто у него тоже семь человек детей и мать на одре страдания. Входят, иногда и не позвонив, а просто потрогав сначала ручку не запертой на замок двери, — и тогда входят с особенною осторожностию, и, если не встретят никого в первой комнате, на цыпочках пробираются во вторую, там в третью, — и вздрагивает и бледнеет какой-нибудь задумавшийся или заработавшийся господин, у которого человек ушел в лавочку купить четверку табаку, увидев перед собою как будто с неба упавшую, незнакомую и странную фигуру… Но особенно любят они навещать наезжающих в столицу художников, фокусников, всяких артистов и артисток — московских и заграничных, к которым являются обыкновенно с такими письмами:
«Милостивейший государь!
Есть несчастный сирота, обремененный малолетним многочисленным семейством, участь которого заслуживает сострадание всякого, имеющего душу, способную понимать бедствия ближнего. На расцвете лет он потерял добрую, кроткую мать и вслед за тем чадолюбивого отца — оставившего на его попечение семерых малюток. Перенося все страдания с христианским терпением, возвышающим душевное достоинство, он снискивает пропитание как помощью благотворительных лиц, так и самою работою, которая едва дает возможность поддерживать вверенное ему судьбою семейство. Несчастный этот — податель сего письма. Я же, не имея чести знать вас лично и потому лишаясь права удостоверять преждевременно в истине моего к вам уважения, надеюсь, что вы, как артист, понимающий душу угнетенных судьбою людей, не рассердитесь на меня за то, что я решился доставить вам торжество истинно христианское (крупными буквами): помочь несчастному! Десять, пять или даже рубль серебром пожертвовать семерым для вас ничего не составит, сирот же заставит пролить слезы благодарности как пред образом Христа-спасителя, так и перед общим покровом всех — пресвятой богородицей.
Я был постоянным свидетелем вашего торжества и, соглашаясь с единодушным отголоском просвещенной публики, повторяю еще раз (крупнейшими буквами): вы великий артист! О, признаюсь откровенно, душевно благодарил публику за прием, коим она почтила неожиданного дорогого гостя…
Христианское сострадание — не есть ли удел артистов? Помогите несчастному, и новый, спасительный подвиг увековечит ваше пребывание в Петербурге.
С душевным почтением и таковою же преданностию имею честь быть свидетелем вашего торжества»
и пр.
Кто им пишет такие письма — бог знает. Но под ними обыкновенно читаешь подпись: генерал такой-то или генеральша такая-то, — каких, разумеется, сроду никто не слыхивал и каких не увидит и во сне даже благонамеренный человек, весь вечер, накануне Нового года, продумавший, как бы кого не забыть завтра поздравить?
Такой-то человек появился в кухне. Впрочем, может статься, что он был и не совсем такой человек, о каких мы говорили, а просто такой, каких в Москве называют «ширяло», а в Петербурге «мазурик», то есть малый, с детских лет пристрастившийся к легкому промыслу и голодающий по трое суток, чтоб пополам со страхом и трепетом пропить в каком-нибудь «Полуденном» украденную вещь на четвертые; а может быть, он был просто забулдыга-лакей, два дня пропадавший от барина и чувствующий необходимость пред возвращением к нему хватить для куражу и не имеющий на что хватить, — кто бы он ни был, мы просто будем называть его таинственным незнакомцем.
Итак, по мере того как таинственный незнакомец обозревал кухню и укреплялся в уверенности, что в ней никого нет, лицо его теряло неопределенный оттенок, движения становились резче и самоувереннее… Он смело подошел к двери, ведущей в спальню, и, приложив ухо к скважине, долго и чутко прислушивался; затем он снял с себя рыжие, подбитые вершковыми гвоздями сапоги и поотворил несколько дверь, причем она предательски скрыпнула, что заставило его отшатнуться назад и простоять с минуту в неподвижном оцепенении. Но удостоверившись, что всё спало по-прежнему, он смело нагнулся вперед и, просунув голову в отверстие между дверными сторонками, начал обозревать спальню. Нужно полагать, что ему представилось здесь много привлекающих любопытство предметов, потому что, уже не колеблясь долее, он решительно двинул вперед правую сторонку дверей, переждал, пока скрып, произведенный этим движением, совершенно замолк — и смело вошел в спальню. Здесь он сел на покойные и мягкие кресла, потянулся и начал переодеваться… переодеваться из своего, как легко догадаться, не совсем покойного и красивого платья в платье Петра Ивановича. Нельзя не заметить, что переодевался он с достоинством и спокойствием человека, одевающегося в собственное платье и только несколько поспешающего, из опасения опоздать на службу. Петр Иванович обладал значительной полнотою, какой в известные лета достигает всякий благомыслящий человек: таинственный же незнакомец был очень тощ, — почему, поправив чуб перед зеркалом, он захватил кстати со стола два подсвечника из накладного серебра, которые для лучшего сбережения счел нужным завернуть в платье Федосьи Карповны, после чего так их спрятал, что тотчас же стал походить на Петра Ивановича, ибо очутился с преизрядным солидным брюшком. На возвратном пути от кровати, с поручня которой сдернуто было платье, незнакомец захватил карманные часы (Петр Иванович был человек аккуратный и, опасаясь опоздать на службу, клал обыкновенно подле себя часы) с позолоченной цепочкой, надел их на себя и поспешил к другому зеркалу, где, полюбовавшись на себя, опять мимоходом захватил два подсвечника. Запрятав их в карманы, он начал шарить по всем углам и прибирать с неимоверною быстротою все мелкие вещицы, какие попадались под руку…
III
Сон причудлив и странно жесток. Часто после великолепной перспективы всего, чем со временем должна увенчаться благонамеренность, человеку, как бы он ни был добродетелен, вдруг, ни с того ни с другого, что-нибудь такое приснится, чего он никак не может пропустить, не закричав тотчас же, что он в штрафах и под судом не бывал и никаких мыслей, противных правилам нравственности, в душе своей не питал…
Петру Ивановичу вдруг приснилась какая-то девушка в шапке, под которой (не под шапкой, а под девушкой) были подписаны два стиха:
А девушке в семнадцать лет Какая шапка не пристанет?которые он когда-то услышал, проходя мимо растворенного окна, — откуда валил густыми волнами табачный дым, летели на улицу слова и виднелись веселые и раскрасневшиеся лица каких-то молодых людей, — и которые у него потом целые три месяца не могли выбиться из головы: писал ли он, рассказывал ли, какую верную игру проиграл в преферанс или какую неверную выиграл, шел ли в департамент, из департамента, обедал ли — всё они на уме — так вот и шумят, и вертятся, и егозят-егозят в голове, как будто кроме их уже и нечему прийти в голову. И чем больше старался он от них отделаться, тем упорнее они его преследовали. С ними засыпал он, с ними просыпался, нередко отвечал ими на вопрос совсем не об шапках и девушках, беспрестанно шептал их про себя, даже писал верхними зубами на нижних, даже однажды испортил лист гербовой бумаги рублевого достоинства, включив их совершенно некстати в прошение одной вдовы, приносившей жалобу на какого-то нахлебника-семинариста, похитившего у ней клубок ниток, которые будто бы намотаны были на сторублевую ассигнацию. Словом, от проклятых двух стихов (бывших, между прочим, причиною ненависти его к стихам вообще) ему уже приходилось тошно жить на свете. Но наконец он от них отделался же, и теперь ничего! — девушка в шапке, да притом и не дурная собой, — весьма и весьма ничего! Худо то, что вслед за нею приснился ему какой-то человек с огромными усищами, с решительным выраженьем в лице и в таком непостижимом костюме, какого он не только никогда не видал наяву, но даже потом весьма удивлялся, как подобные костюмы могут сниться порядочным людям во сне.
Испуганный, он поспешил залепетать, что он ничего, человек женатый и в правилах тверд; что, впрочем, он никаким оружием владеть не умеет, потому что французского блестящего образования с фехтованьями, танцами и всякими модными пустыми затеями, развращающими, ко всеобщему прискорбию, нынешних молодых людей, не получил и даже не жалел о том, ибо, благодаря бога, родился в такой стране, где и без шарканья по паркетам, одною благонамеренностию и честным трудом, даже при посредственном достатке, можно приобресть всеобщее уважение; а что, впрочем, он опять-таки ничего, идет своей дорогой и просит только не мешать ему идти своей дорогой, так он и пройдет…
Но вышло, что и странный незнакомец — не беда; напротив, несмотря на невероятные сапоги, он оказался добрейшим малым, предложил сыграть в преферанс и проиграл в одну пулю по копейке восемь рублей серебром, так что Петру Ивановичу даже стало немножко совестно, и только тем мог он себя успокоить, что ведь на то игра, не умеешь играть, не садись, а взялся за гуж, так будь дюж…
Беда в том, что по уходе странного незнакомца, о котором Петр Иваныч остался такого мнения, что навещал его какой-нибудь путешествующий англичанин-чудак, которому некуда девать денег (об англичанах знал он вообще, что они большие чудаки), — беда в том, что по уходе странного незнакомца Петру Иванычу вдруг приснился весь департамент с шинелями, сторожами, половиками, столами, чернилицами, делами и начальником отделения. Вот начальник отделения приподнялся с каким-то делом, подходит к нему и говорит «перепишите» совершенно таким голосом, как говорится простому писцу. «Хорошо-с; я вот дам Ефимову», — отвечает немного изумившийся Петр Иваныч, почтительно нагибаясь. «Какому Ефимову? — говорит сурово начальник, — разве вы забыли, что Ефимову отдано ваше место, а вы за неисполнительность и соблазнительный образ поведения переведены на место Ефимова!..»
В ужасе проснулся Петр Иваныч, открыл глаза и прямо наткнулся ими на таинственного незнакомца, который, нагнувшись, шарил в ящике комода Приняв его за Ефимова, Петр Иванович, озадаченный, переполненный справедливым негодованием, в первую минуту не вскрикнул, не кашлянул, даже не шелохнулся, но, по какой-то особенной остроте чутья, таинственный незнакомец тотчас понял, что время прекратить посещение, и со всех ног кинулся вон… Тут только догадался герой наш, в чем дело…
Пяткой в ногу супругу толкнул, Закричал: «Караул! караул!» — И, вскочивши с постели в чем был, За мошенником вслед поспешил, Пробежал через сени — и вот Незнакомца настиг у ворот. Но тот ловко в калитку шмыгнул, И опять. «Караул! караул!» — Петр Иваныч свирепо кричит И, в калитку ударившись лбом, За злодеем вприскочку бежит, Потирая ушиб кулаком. И бежит он быстрее коня, И босых его ног топотня Отзывается резко кругом, Словно брошенный вскользь по реке Камешек…IV
Петербургские летние ночи светлее петербургских зимних дней. Было еще очень рано, но уже совершенно светло; на улице пусто. Только по другую сторону тротуара шел какой-то парень в шинели, надетой в рукава, из-под которой на целую четверть высовывался пестрядинный халат; парень раскачивался во всю ширину тротуара и, увидев бегущих, радостно закричал: «Держи! держи!»- после чего остановился и долго смотрел на них, произнося по временам ободрительные восклицания: «Ишь как улепетывает!», «Молодца! молодца!», «Вот люблю!» — очевидно относившиеся к таинственному незнакомцу, который, говоря охотничьим термином, ежеминутно отседал от преследователя своего дальше и дальше. Между тем крик Петра Ивановича был услышан еще двумя лицами, которых мы не хотим назвать. Первое, уже давно и таинственным незнакомцем и Петром Иванычем оставленное позади, отошло несколько вперед и, наблюдая за бегущими, говорило: «Ишь шельма! ишь шельма! ишь шельма!» Второе флегматически вышло на средину улицы, постояло с минуту в нерешительности, задумчиво понюхало табаку и с решимостью принялось переходить другую половину улицы, торопясь поспеть на тротуар так, чтоб угодить прямо на переем таинственному незнакомцу. Второе лицо действительно поспело в пору, но бегущий решительно не обратил на него внимания и только, пробегая мимо с криком «Эх-ма!», сильно толкнул его в плечо, отчего оно тотчас повалилось на тротуар, к немалому смеху веселого парня и первого лица, издали наблюдавшего сцену. Через минуту приспел и Петр Иваныч, запнулся за поверженного и тоже упал, но тотчас же вскочил, сгоряча не почувствовав ушиба, и побежал снова. Дважды пораженный приподнялся, взглянул за бегущими и, сказав: «Есть сила», — медленно отправился на старое место… Между тем таинственный незнакомец уже достиг конца улицы и повернул… куда? в которую сторону?.. Петр Иваныч не видал, и потому хотя и продолжал бежать, но уже медленно и нерешительно, как человек, потерявший путеводную звезду свою. Вдруг с конца улицы, до которого не достиг еще Петр Иваныч, показались дрожки, называемые пролетками, то есть такие дрожки, на которые садятся, когда желают сберечь ребра и спину. В дрожках сидел одетый в пальто господин с веселым лицом, доказывавшим, что преферанс, с которого, очевидно, он возвращался, был для него счастлив: лицо просто сияло. Завидев бежавшую встречу ему странную фигуру, господин в пальто рассмеялся, а потом начал пристально вглядываться в нее, и вдруг на лице его выразилось глубокое изумление. Он как будто не верил глазам своим.
— Здравствуйте, Петр Иваныч! — сказал он несколько иронически, когда дрожки подъехали на довольно близкое расстояние к нашему герою.
Петр Иваныч поднял голову, взглянул и, побледнев как полотно, отвернулся в сторону и побежал шибче.
Но сидевший в дрожках снова повторил: «Здравствуйте, Петр Иваныч!», — и в голосе уже не было прежней благосклонной мягкой иронии, он звучал резко, в нем слышалось приказание, — так что Петр Иваныч увидел себя в необходимости остановиться и поспешно понес руку к голове, но, убедившись в невозможности снять с нее что-нибудь, ибо на ней не было даже парика, принужден был ограничиться поклоном. Поклон был такой, какие свидетельствуются только начальникам, из чего и можно с достоверностию заключить, что господин в пальто был его начальник.
— Что это вы… в такую пору… в таком виде… танцуете?..
— Танцую, — мог только проговорить дрожащим голосом дрожащий Петр Иваныч, не привыкший с детских лет противоречить старшим…
Опомнившись, он ничего не слыхал уже, кроме стука удалявшихся дрожек и веселого заливного хохотанья, от которого мороз пробежал у него по жилам…
V
«Клянусь звездою полуночной И генеральскою звездой, Клянуся пряжкой беспорочной И Не безгрешною душой! Клянусь изрядным капитальцем, Который в службе я скопил, И рук усталых каждым пальцем, Клянуся бочкою чернил! Клянуся счастьем скоротечным, Несчастьем в деньгах и в чинах, Клянусь ремизом бесконечным, Клянуся десятью в червях, — Отрекся я соблазнов света, Отрекся я от дев и жен, И в целом мире нет предмета, Которым был бы я пленен!.. Давно душа моя спокойна От страстных бурь, от бурных снов; Лишь ты любви моей достойна — И век любить тебя готов!.. Клянусь, любовию порочной Давно, давно я не пылал И на свиданье в час полночной В дезабилье не выбегал… Кого еще с тобой мне надо?.. Тобой одной доволен я, — Моя любовь! моя отрада! Федосья Карповна моя!..»Он умолк и, «как юный дуб, низринутый грозой», пал к ногам супруги своей.
Но она была неумолима.
— Не поверю! Уж что ты мне ни толкуй, не поверю! Изменник! человеконенавистник! чудовище!
И она зарыдала, а потом впала в совершенное отчаяние и била себя в грудь, повторяя:
— Ах я несчастная! несчастная! несчастная!.. До какого сраму дожила я, несчастная!.
— Я, ей-богу-с, ни в чем не виноват, Федосья Карповна!
Он действительно был ни в чем не виноват, что могут подтвердить и читатели. Намерения его были чисты, даже похвальны: он хотел настичь похитителя и отнять у него свои вещи. Федосья Карповна перетолковала всё совершенно иначе Проснувшись от толчка в ногу и не нашед подле себя супруга, она прежде всего вскричала: «Изменник!» Через минуту, удостоверившись, что и платья на обычном месте не было, — обстоятельство, не оставлявшее ни малейшего сомнения, что изменник ушел на свидание, — с громким воплем упала она на подушку и воскликнула: «Ах я сирота горемычная!» Потом вскочила и бросилась туда, где вечером оставила платье, но его, как мы знаем, там не было; недолго думая, куда бы оно могло деваться, — ибо женщина в припадке ревности, по уверению опытных людей, лишается всякой способности рассуждать, — она с минуту металась по комнате, но, не нашед ничего, во что бы можно одеться, кроме оставленной таинственным незнакомцем шинели, накинула ее на себя и бросилась вон. Руководимая всё тем же инстинктом ревности, она пустилась по тому направлению, по которому таинственный незнакомец увлек за собою Петра Ивановича. Петр Иванович в то время возвращался уже домой, перепуганный, убитый, весь с головы до ног синий от холода и разных ушибов. Встреча их была страшная; было не много сказано, но успела разыграться трагедия.
Они молчали оба… Грустно, грустно Она смотрела. Взор ее глубокий Был полон думы. Он моргал бровями И что-то говорить хотел, казалось, Она же покачала головой И палец наложила в знак молчанья На синие трепещущие губы… Потом пошли домой всё так же молча, И было в их молчаньи больше муки И страшного значенья, чем в рыданьях, С которыми бросаем горсть земли На гроб того, кто был нам дорог в жизни, Кто нас любил, быть может. У ворот Они кухарку встретили. Кухарка Смутилась. В ней, быть может, сжалось сердце. И долго изумленными глазами Она на них смотрела, но ни слова Они ей не сказали… Да! ни слова… И молча продолжали путь… и скрылись…Но как только переступили они порог спальни, Федосья Карповна тотчас повернула ключ в замке, и узнать, что тут происходило в первые минуты, авторы решительно не имели никакой возможности, ибо, к крайнему их сожалению, и самые ставни оставались по-прежнему закрыты, так что нельзя было даже ничего подсмотреть. Впрочем, можно догадываться, что тут происходила драма в пяти или даже в шести актах, с эпилогом, — в какой не дай бог участвовать женатому читателю! Но достоверно известно только, что тщетно уверял Петр Иванович Федосью Карповну в своей невинности. Какие ни приводил он доказательства, все они обращались на его же голову. Федосья Карповна упорно стояла на том, что ее платье и прочие веши стащил Петр Иваныч к мерзавке, своей любовнице, а сам очутился на улице без платья потому, что его раздели мазурики, когда он возвращался от мерзавки, своей любовницы, и что, наконец, лохмотья таинственного незнакомца сам же он, Петр Иваныч, подкинул, купив на рынке, чтоб отвлечь от себя всякое подозрение в случае какой-нибудь неудачи. Как ни нелепо было такое предположение и как ни клялся Петр Иваныч (а он клялся всем дорогим для него в жизни) — ничто не помогло. Не помогло даже и последнее очень сильное доказательство, что парик оставался дома, а невероятно и ни с чем не сообразно, чтоб нуждающийся в парике человек позабыл надеть его, идучи на свидание любовницей. Ничто не помогло! Таково уже было расположение мыслей Федосьи Карповны. Ревность рвала ее душу на части. К тому же и кухарка, обрадовавшись случаю, решительно утверждала, что ни на минуту не выходила и никто к ним не входил и что хоть и слышались ей впросонках из спальни какие-то шаги, но, рассудив, что оттуда некому выходить, кроме барина или барыни, она не сочла нужным встать и посмотреть… Хоть герой наш звался совсем не Макаром, но мы не можем здесь не заметить, что на бедного Макара и шишки валятся!
VI
Вот уже и девять часов, время, в которое, бывало, Петр Иваныч, спокойный и счастливый, хлебнув два-три стакана чайку, поцеловав жену, поцеловав дочь, с портфелем под мышкой, отправлялся, несколько согнувшись, смиренным, никого не оскорбляющим, но и не вовсе чуждым самостоятельности шажком в свой департамент… Но не одевается, не пьет даже чайку, не целует жены и дочери и не идет в департамент растерявшийся Петр Иваныч. Мрачно у него на душе; при одной мысли, что надо идти на службу, мороз пробегает у него по коже, от макушки до пяток. Вся жизнь — от сеченья и греческих спряжений в детстве, голоданья и переписыванья в юности до последнего недавнего распеканья — проходит перед его глазами, — и ничего, кроме смиренномудрия и вечной беспредельной покорности — не видит он в ней; хоть бы слово когда грубое какое сказал, хоть бы недовольную мину выразил на лице — никогда! никогда! Даже покушения на что-нибудь подобное за собой не запомнит! Чист, чист! со всех сторон, как ни поверни, чист! И между тем сердце болезненно съеживается от страха, как будто преступление какое-нибудь совершил человек, как будто начальнику нагрубил! «Что скажет начальник отделения!» — думает Петр Иваныч (несомненно, что господин, ехавший на дрожках, был его начальник отделения). «Что скажет начальник отделения?..» — думает он, большими шагами расхаживая по комнате, и никак не может решить, что скажет начальник отделения, хоть и предчувствует, что он скажет что-то страшное, что-то такое страшное, отчего мало поседеть в один час, отчего мало даже провалиться сквозь землю… И ни убеждение в своей невинности, никакие размышления, никакие доводы ума — ничто не утешает безутешного Петра Иваныча! «Да уж не подать ли мне просто в отставку, — думает он, — так даже и не являться, а просто подать в отставку, и кончено, а покуда выйдет отставка, тиснуть в „Полицейской газете“, что вот так и так, дескать, чиновник с одобрительным аттестатом…» Тут он на минуту запнулся… «Ведь уж мне, верно, дадут аттестат одобрительный? — продолжал он с некоторым смущением, — что ж? служил я не хуже других, не хуже других, сударь ты мой, в штрафах и под судом не бывал, зложелателей, благодаря всевышнего, не имею… подал в отставку… ну, что ж? Вышел случай такой, с кем не случается!.. просто случай вышел такой… Так вот оно хорошо было бы публиковать, что вот де чиновник с одобрительными аттестатами, титулярный советник, — я думаю, даже не худо будет выставить: имеющий такие-то и такие-то знаки отличия… Так вот, мол, такой-то и такой-то чиновник, имеющий такие-то и такие-то знаки отличия, хороший чиновник, дескать, благонадежный чиновник, ищет места управляющего имением, преимущественно в малороссийских губерниях, на выгодных, дескать, для владельца условиях… Да! да! В малороссийских губерниях лучше — климат теплее, да и народ-то попроще… народ-то попроще, вот оно что, главное дело, сударь ты мой, народ-то попроще, вот она штука-то какая! А поди-ка сунься в Костромскую, в Ярославскую… ух! шельма на шельме! Всякий мужик, туда же, грамоте знает и на каждом синий армяк… на каждом, на шельмеце-то, синий армяк, вот оно что, вот она штука-то какая, вот она какая штука-то! Избалованные губернии! Нет, вот бы где-нибудь в малороссийских, примерно в Полтавской; три-четыре тысчонки душ, с мельницами, с фруктовыми садами, со всеми угодьями, с господским строением; а барин-то себе где-нибудь за тридевять земель, в Москве, в Петербурге, в Париже… а барин-то себе в Москве, а барин-то в Петербурге, а барин-то себе в Париже, барин-то себе за тридевять земель, как в сказке говорится, как в русской-то сказке сказывается… Ух! раздолье-то! раздолье…» Тут Петр Иваныч потер руки от удовольствия, потому что уже, в самом деле, почувствовал себя управляющим такого имения, — на что русский человек очень скор… «Да только та беда, — продолжал он, вдруг опомнившись и вновь совершенно опешив, как человек, съевший муху, — да только та беда, что никто не возьмет, за фамилию никто не возьмет… Управляющий! уж в одном слове сейчас слышится немец, какой-нибудь Карл Иваныч Бризенмейстер, или еще помудреней, так, чтоб мужик и подумать не смел выговорить как следует, чтобы у него язык поперек глотки стал. Ведь вот, будь немецкая фамилия, хоть подобие немецкой фамилии будь… а то — Блинов! на вот тебе в самый рот — блинов! горячих блинов! подавись!..» И здесь герой наш в первый раз в жизни пожалел, что у него русская фамилия, чему он сорок лет с лишком постоянно был рад и даже благодарил бога, что и оканчивается она на ов, а не на ский. «Да опять и то, — продолжал размышлять наш герой, — осанки такой не имею, осанки, соответствующей званию управителя, не имею, вот она какая беда, вот она беда-то какая надо мной, горемычным, осанки, соответствующей званию, не имею, не имею осанки, званию управителя соответствующей, совсем осанки такой не имею. Наш брат и смотрит-то, как будто всё чего-то боится, и идет-то, как будто просит прощения у половиков, которые недостойными ногами своими попирает, и в лице такое подобострастие, такое подобострастие, что и сказать нельзя, никак нельзя сказать, недостанет слов, как говорится в хорошем слоге, на языке человеческом… вот оно что! вот оно какое дельце-то! вот оно дельце-то казусное какое! Ну, уж известно: по какой части пойдешь, с тою и степень значения в лице своем соразмеряешь… степень-то значения с положением своим в свете соразмеряешь… А тут надобно, чтобы орлом глядел человек, чтоб па лице было написано, что ему и черт не брат, чтобы действовал смело, решительно, на открытую ногу действовал бы, и умел бы этак с откровенностию, не лишенною благородства, и словцо-то крепкое кстати пригнуть, ну и там что другое… Вот оно что! Чтобы как выйдет да заговорит ломаным своим языком, так чтобы мужик на него и взглянуть не смел, а только бы кланялся в пояс да говорил: „Слушаю, батюшка Карл Иваныч!..“ Нет, где нашему брату!.. Разве уж заняться хождением по делам…» Но и хождение по делам оказалось неудобным. Думал, думал Петр Иваныч и покончил тем, что, как ни вертись, службу оставить невыгодно, розорительно, словом, неблагоразумно во всех отношениях. Итак, скрепя сердце решился он идти в департамент. Будь что будет! Может, и никакой беды нет, может, ему только так показалось, а в сущности ничего! Наконец, он даже дошел до заключения, что, может быть, оно даже и хорошо, что начальник его увидел на улице, пожалуй, чем черт не шутит, примут участие, вспомоществование единовременное дадут. «Да! да! — повторял Петр Иваныч, — оно в самом деле даже и хорошо», — и между тем чувствовал, что мороз подирает по коже. Три дня употреблено было на залечивание разных ушибов и синих пятен и на утверждение себя в благородной решимости не унывать, помнить, что испытания ниспосылаются нам в плачевной юдоли сей для возвышения душевного мужества и что не нужна бы человеку и бессмертная душа, если б он уничтожался и падал перед несчастием. На четвертый день решено было идти на службу. Но здесь на Петра Иваныча напал такой страх, что он буквально не мог сдвинуться с места и несколько часов, совсем готовый, умытый, выбритый, во фраке, с портфелем под мышкой, сидел как прикованный к стулу, бессмысленно смотря на три какие-то головы, державшие компанию у противоположных ворот.
Когда опомнился он, был уже двенадцатый час. «Поздно! — сказал он себе с тайной радостью. — Видно, уже завтра!» — и в ту же минуту схватил шапку, надел шинель, калоши и выбежал на улицу Бежал он чрезвычайно скоро, ни на что не обращая внимания, даже не заглядывая в окна, хотя и любил заглядывать в окна и знал, что, заглянув в окно, иногда можно увидеть много хорошего.
Бежал он на службу…
VII
В десятом часу того дня, утром которого происходило событие, описанное в четвертой главе, Степан Федорыч Фарафонтов, пришед в должность, направился прямо к столу, где обыкновенно сидел Петр Иваныч, чтоб расспросить его о ночном приключении и, по долгу службы, порядком распечь его. Но Петра Иваныча, как мы знаем, там не было. Так как воспоминание вчерашнего выигрыша всё еще держало его в веселом расположении духа, то, подошед к экзекутору и спросив о здоровье, весьма комически рассказал он ему странную встречу с Петром Ивановичем, особенно распространившись насчет удивительного танца, в котором упражнялся Петр Иваныч, и насчет арии, кажется из «Соннамбулы», которою сопровождал он свои живописные па, после чего оба, и рассказчик и слушатель, долго смеялись, пожимая плечами. Степан Федорыч рассказывал не так тихо, чтоб его никто не мог слышать, кроме экзекутора, а потому история Петра Ивановича сделалась тотчас известною и еще двум-трем чиновникам. Те, в свою очередь, передали ее с надлежащими дополнениями соседям своим, и таким образом случилось, что историю Петра Иваныча в полчаса узнало всё присутственное место, где служил наш герой… К вечеру узнал ее и весь город, и несколько дней сряду в Петербурге только и говорили о танцующем чиновнике исполинского роста, с лошадиными копытами вместо обыкновенных человеческих ступней. Нетрудно представить, с каким нетерпением ждали его товарищи, сколько произошло толков и предположений и как выросла, украсилась и изменилась самая история. Но прошел день, прошло два, прошло три, вот уже наступил и четвертый, а Петра Иваныча нет как нет. Любопытство возросло до высочайшей степени.
И вот на четвертый день часу в первом, в минуту всеобщего почтительного молчания, водворившегося по случаю появления самого начальника, который, указывая на дело, толковал что-то с большим жаром Степану Федоровичу, внимавшему начальническим речам с почтительным наклонением головы, — в такую-то торжественную минуту дверь из прихожей вдруг отворилась и появился герой наш. Как ни сильно было уважение подчиненных к начальнику, но естественное движение одолело и прорвалось на всю комнату глухим сдержанным смехом, — как будто вдруг чихнул табун лошадей. Естественно, что начальник с недовольным видом спросил о причине такого неуместного взрыва. Степан Федорыч поднял голову, потому что и сам еще не знал, что бы значила подобная дерзость, но, встретив жалкую фигуру Петра Иваныча, подобно подчиненным своим не мог удержаться от смеха.
Начальник повторил свой вопрос.
Перетрухнувший Степан Федорыч почувствовал необходимость оправдаться и оправдать своих подчиненных. Для такой цели он не нашел ничего лучше, как рассказать в подробности историю Петра Ивановича, II тотчас рассказал ее, постаравшись не столько о строгом соблюдении исторической достоверности, сколько о том, чтоб от нее действительно нельзя было не захохотать, — в чем и успел совершенно, ибо, по мере изложения событий, лицо слушателя прояснялось, а когда дошло до описания странного танца, в котором упражнялся Петр Иванович, и сопровождавших его мотивов из «Лучии», слушатель уже решительно не нашел в себе сил сохранить строгое выражение почтенной своей наружности и сам засмеялся…
Но смех его, как легко догадаться, был непродолжителен. Приняв строго-решительное выражение, он подошел к Петру Иванычу, оцепеневшему у дверей, и сказал медленно, важно, делая ударение на каждом слове:
— А что скажете вы?
Но Петр Иваныч не мог ничего сказать, хотя и заметно было, что он хотел что-то сказать…
Тогда начальник, основательно думая, что к пресечению подобных зол должно принимать меры при самом их зародыше, счел нужным распространиться и показать Петру Иванычу всё неприличие его поступка. Он сказал ему, что звание и самые лета не давали ему права на такое дело; что танцевать, конечно, можно, но в приличном месте, и притом имея на себе одежду, принятую в образованных обществах Европы, которая, по образованию, может вообще почесться первою из всех пяти частей света. Он сказал ему (и, по мере того как он говорил, в голосе его возрастала энергия и наружность более и более одушевлялась), что подобные пассажи простительны только грубым и невежественным дикарям, не знающим употребления огня и одежды, да и те (присовокупил он) прикрывают наготу свою древесными листьями. Наконец, он сказал ему, что подобный поступок срамит не только того, кем сделан, но даже бросает нехорошую тень на всё звание, что звание чиновника почтенно и не должно быть профанировано,
Что чиновники то же, что воинство Для отчизны в гражданском кругу, Посягать на их честь и достоинство Позволительно разве врагу, Что у них все занятья важнейшие — И торги, и финансы, и суд, И что служат все люди умнейшие И себя благородно ведут. Что без них бы невинные плакали, Наслаждался б свободой злодей, Что подчас от единой каракули Участь сотни зависит людей, Что чиновник плохой без амбиции, Что чиновник не шут, не паяц, И не след ему без амуниции Выбегать на какой-нибудь плац. А уж если есть точно желание Не служить, а плясать качучу, Есть на то и приличное звание — Я удерживать вас не хочу!Так заключилась речь, имевшая вообще на присутствующих влияние сильное, но действие ее на Петра Иваныча было таково, что, может быть, ни в какие времена никакая речь не производила такого действия. Пораженный ею, из всех способностей, отпущенных ему богом, сохранил он только одну способность шевелить или, точнее, мямлить губами, да и то делалось с величайшим усилием, и вообще в ту минуту герой наш, страшно синий, походил на умирающего, которому есть сказать нечто важное, но у которого уже отнялся язык…
Только очутившись на улице и глубоко втянув в себя струю свежего воздуха, почувствовал он, что еще жив.
VIII
«Корабль, обуреваемый Волнами — жизнь моя! Судьбою угнетаемый, В отставку подал я, Немало тут утрачено — Убыток — и большой! А впрочем, предназначено Уж видно так судьбой. И есть о чем печалиться. Нашел чего жалеть! Смерть ни над кем не сжалится — Всем должно умереть! Почетные регалии, Доходные места, Награды — и так далее, Всё прах и суета! Мы все корпим, стараемся, Вдаемся в плутовство, Хлопочем, унижаемся, А всё ведь из чего? Умрем, так всё останется! На срок пришли мы в свет… Чем дольше служба тянется, Тем более сует. Успел уж я умаяться В житейском мятеже, Подумать приближается Пора и о душе! Уж лучше здесь быть пешкою, Чем душу погубить… А впрочем, что ж я мешкаю? Уж десять хочет бить! Есть случай к покровительству! Тотчас же полечу К его превосходительству Ивану Кузьмичу — Поздравлю с именинами… Решится, может быть, Под разными причинами Блохова удалить И мне с приличным жительством Его местечко дать… Не нужно покровительством В наш век пренебрегать!..»Комментарии
В седьмой том вошли прозаические повести и рассказы Некрасова, опубликованные при жизни автора. Хронологические границы тома — 1840–1855 гг. — охватывают период жизни писателя от первого неудачного выступления в литературе (поэтический сборник «Мечты и звуки») до несомненного признания, когда имя его утвердилось в истории русской поэзии (выход в свет «Стихотворений» 1856 г.). Таким образом, время большой и упорной работы Некрасова-прозаика стало и временем роста и совершенствования его поэтического таланта.
Чем же объясняется обращение Некрасова к прозе? В статье «Русские второстепенные поэты» (1849) он писал: «…проза, более доступная по форме, представляет более простора <…> уму, взгляду на вещи и наблюдательности <…> писателя» (ПСС[38], т. IX, с. 191). Расцвет русской прозы в 1840-1850-е гг. и заметное ослабление интереса к поэзии имели и социально обусловленные причины. Все более значительную роль в обществе к тому времени начинают играть «средние классы»: разночинцы, купечество, городское мещанство. Эти растущие группы населения состоят в большинстве своем из грамотных людей. Появление массового читателя породило массовую литературу, основным проводником которой стали журнал и газета. Издатели и редакторы периодики, представлявшие разные литературные направления, включились в конкурентную борьбу за подписчиков. Неудивительно поэтому, что в начале 1840-х гг. в журналах господствовала общедоступная по форме занимательно-развлекательная новеллистика, во многом опиравшаяся на традиции романтической школы. Сотрудничая в «Литературной газете» и «Пантеоне», редактируемых Ф. А. Кони, Некрасов в своих «экзотических» повестях («Певица», «В Сардинии») отдал дань уходящему романтизму. В поэтике этих ранних его прозаических произведений заметно влияние поздних романтиков: А. А. Бестужева-Марлинского, Н. А. Полевого, П. В. Кукольника, А. В. Тимофеева и их эпигонов. Оно выразилось в мелодраматичности сюжетов, в искусственной остроте конфликтов, в выспренности «романтической» фразеология.
Одновременно все большее влияние приобретало развивавшееся в русской литературе начиная с В. Т. Нарежного и особенно уверенно заявившее о себе в творчестве Гоголя сатирическое и реалистическое направление — «новая школа в искусстве и литературе» (Белинский, т. VI, с. 212). Эстетическую программу этой школы, впоследствии получившей определение «натуральная школа», теоретически обосновал Белинский. Художественная проницательность Некрасова проявилась в том, что еще до знакомства с Белинским, в процессе самостоятельных творческих поисков, он сумел уловить новые тенденции, что сказалось в ироничности стиля, гротескности портретов, колоритности бытовых картин, социально-определенной очерченности типов, гуманистической направленности его пародийно-юмористических рассказов («Без вести пропавший пиита», «Капитан Кук», «Несчастливец в любви, или Чудные любовные похождения русского Грациозо») и повестей, ставящих своей целью исследование определенной социальной среды: чиновничества («Макар Осипович Случайный», «Двадцать пять рублей»), провинциального дворянства («Опытная женщина»), низов общества («Жизнь Александры Ивановны»).
Опыт скитаний автора по «петербургским углам», жизненные наблюдения, отразившиеся в первых рассказах, станут сюжетообразующими элементами зрелых произведений Некрасова («Петербургские углы» и «Тонкий человек…»). Проза его, таи же как и позднейшие стихи, проникнута сочувствием к беднейшим слоям населения столичного города. Ведущие темы Некрасова в эти годы — противопоставление богатства и нищеты, имущих и неимущих, тема денег и зачастую связанная с ней тема тяжелого литературного труда. Бедствующий литератор — образ, к которому постоянно возвращается Некрасов в своем творчестве. Этот образ автобиографичен, что делает его в глазах читателей и исследователей особенно интересным и ценным. Но вместе с тем литератор-рассказчик из «Без вести пропавшего пииты», поэт-неудачник из «Двадцати пяти рублей», восторженный поэт в «Помещике двадцати трех душ», «задумчивый сотрудник» в «Необыкновенном завтраке» — образы собирательные, в них отразились черты молодых писателей-современников, которых Некрасов хорошо знал и которые, так же как и он, трудно пробивали себе дорогу в большую литературу.
Одна из характерных особенностей некрасовской прозы 1840-х гг. — неоформленность, зыбкость жанровой специфики; границы между очерком, фельетоном, рассказом и даже романом ощущались поэтом и его современниками нечетко. Поэтому в жанровом отношении произведения Некрасова 1840-х гг. трудноопределимы. Очевидно, здесь сказалась и его напряженная, спешная работа в одно и то же время над повестями и рассказами, фельетонами и водевилями. Зачастую глава из романа становилась самостоятельным произведением, как это произошло с «Петербургскими углами» и «Необыкновенным завтраком», анекдот переливался в драматическую форму, а затем вставлялся в роман как диалогическая сцена (эпизод «За стеной» из романа «Тонкий человек…»), отступления от основного сюжета приобретали характер самостоятельных зарисовок в духе физиологического очерка, по своей тональности подчас дисгармонирующих с основным характером повествования (см., например, описание петербургской весны в главе IV «Жизни Александры Ивановны»). Жанровая неопределенность в известной степени обусловила разнородность стиля ранних прозаических произведений Некрасова.
Дружба и сотрудничество с В. Г. Белинским имели решающее значение для развития идейно-художественных взглядов и формирования литературного таланта Некрасова в соответствии с принципами революционно-демократической эстетики. В незавершенном романе «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (начат в 1843 г.) нашли отражение суждения Белинского — пропагандиста гоголевской школы. При жизни Некрасова из этого романа были опубликованы только две главы: «Петербургские углы» и «Необыкновенный завтрак». «Петербургские углы», как известно, стали значительным произведением «натуральной школы». С этим новым направлением Некрасов был связан не только своей писательской работой, но и как издатель явившихся манифестами «натуральной школы» «Физиологии Петербурга» (1844–1845) и «Петербургского сборника» (1846), а затем как редактор журнала «Современник». Благодаря Некрасову «натуральная школа» оформилась как литературное направление, провозгласившее новую эстетику и поэтику. Сам термин «натуральная школа» появился в связи с оценкой очерка Некрасова «Петербургские углы», и это не случайно. «Петербургские углы» — типичный физиологический очерк. Он не только отвечал требованиям этого жанра: рисовать жизнь с натуры, давать детальное, «дагерротипное» описание нравов и быта простонародья — но и выражал суть программы новой школы. Его злободневность, социальная заостренность, высказанный в нем «верный взгляд на общество», по словам Белинского, обусловили то, что само название «Петербургские углы» стало символическим и неизменно ассоциировалось с новым направлением в литературе.
«Поворот к правде, явившийся отчасти от писания прозой» (ПСС, т. XII, с. 23), — так определил Некрасов значение этого периода своей творческой жизни. Обращение к прозе помогло ему овладеть реалистическим методом и наметило пути к освоению эпических жанров в поэзии.
Произведения, вошедшие в настоящий том, печатаются по текстам первых публикаций, с устранением явных опечаток. При жизни Некрасова они не перепечатывались. В автобиографических записях 1877 г., подводя итог своей писательской работы, Некрасов требовательно и сурово оценивал ранние опыты: «Прозы моей надо касаться осторожно. Я писал из хлеба много дряни, особенно повести мои, даже поздние, очень плохи — просто глупы; возобновления их не желаю, исключая „Петербургские углы“ (в „Физиологии Петербурга“) и, разве, „Тонкий человек“ (начало романа в „Современнике“)» (ПСС, т. XII, с. 24).
В советское время некоторые рассказы выходили отдельными изданиями, перепечатывались в литературно-художественных журналах и сборниках.[39] В Собр. соч. 1930 (т. III) были включены: «Без вести пропавший пиита», «Необыкновенный завтрак», «Петербургские углы», «Новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и Ко». Наиболее полно прозаические произведения были представлены в ПСС (т. V), но «Необыкновенный завтрак», «Петербургские углы» и первые четыре главы романа «Тонкий человек…» печатались там в составе незавершенных и неопубликованных романов. В настоящем издании такой перепечатке (см. т. VIII) предшествует отдельная публикация этих произведений (в данном томе), поскольку их самостоятельное значение в литературной жизни 1840-1850-х гг. неоспоримо. Разночтения рукописных редакций этих глав представлены в разделе «Другие редакции и варианты». Коллективный фарс «Как опасно предаваться честолюбивым снам» печатается в полном объеме, об атрибуции отдельных глав Некрасову, Григоровичу и Достоевскому см. ниже, с. 616–617. Повесть «Антон», о которой Некрасов сообщал в письме к Ф. А. Кони от 25 ноября 1841 г.: «Есть у меня готовая повесть „Антон“, но она слишком велика — листов пять печатных <…> разве в будущий год годится», — до сих пор остается ненайденной.[40]
Тексты и варианты подготовили и комментарии к ним написали: В. В. Мельгунов («Макар Осипович Случайный», «Без вести пропавший пиита», «Певица», «Новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и Ко», «Как опасно предаваться честолюбивым снам»); Н. Н. Мостовская («Необыкновенный завтрак», «Петербургские углы», «Очерки литературной жизни», «Психологическая задача», «Тонкий человек, его приключения и наблюдения»); Т. С. Царькова («Двадцать пять рублей», «Ростовщик», «Капитан Кук», «Карета», «Жизнь Александры Ивановны», «Несчастливец в любви, или Чудные любовные похождения русского Грациозо», «Опытная женщина», «В Сардинии», «Помещик двадцати трех душ»),
Макар Осипович Случайный*
Печатается по тексту первой публикации.
Впервые опубликовано: П, 1840, № 5 (ценз, разр. — 5 июля 1840 г.), с. 36–61, с подписью: «Н. Перепельский» (в оглавлении: «Н, А. Перепельский»).
В собрание сочинений впервые включено: ПСС, т. V,
Автограф не найден.
Датируется по первой публикации.
Первое печатное прозаическое произведение Некрасова, опубликованное после поэтического дебюта — сборника «Мечты и звуки». Написано для журнала «Пантеон русского и всех европейских театров». Попробовать свои силы в прозе предложил Некрасову редактор «Пантеона» Ф. А. Кони. «На совет Кони писать прозою, — вспоминал бывший сотрудник „Пантеона“ В. П. Горленко, — Некрасов отвечал, что он решительно не умеет и но знает, о чем писать. „Попробуйте на первый раз рассказать какой-нибудь известный вам из жизни случай, приключение“, — советует ему Кони. Предложение принято, изобретается для прозы псевдоним Перепельский (им подписана большая часть повестей и рассказов Некрасова <…>), и в № 5 „Пантеона“ 1840 г. появляется первый прозаический опыт Некрасова — повесть „Макар Осипович Случайный“, где со всеми заурядными романическими приемами того времени рассказывается действительная история некоего чиновника Сл-ского, наделавшая в то время некоторого шуму в Петербурге» (Горленко, с. 151; см. также: Измайлов А. Беллетристика Н. А. Некрасова. — Биржевые ведомости, 1902, 10 дек., № 345).
В одной из автобиографических заметок Некрасова 1877 г. описан эпизод, имеющий, по-видимому, прямое отношение к творческой истории повести «Макар Осипович Случайный»: «…приятель мой офицер Н. Ф. Фермор помогал мне в работе. Уезжая в Севастополь, он оставил мне кипу своих бумаг, я пользовался ими для моих повестей, но там был списан отрывок из печатного. Думая, что это собственная заметка Фермора, я вклеил эти страницы в одну свою повесть. Жаль, что никто из моих доброжелателей не докопался до этого факта, вот был случай обозвать меня литературным вором» (ПСС, т. XII, с. 22–23). В «Макаре Осиповиче Случайном», действительно, есть текстуальные заимствования из «Маскарада» Н. Ф. Павлова, вошедшего в состав его сборника «Новые повести» (СПб., 1839). Редактор и рецензент «Отечественных записок» А. А. Краевский чрезвычайно высоко оценил книгу Павлова, особо подчеркнув глубину и мастерство психологического портрета (ОЗ, 1839, т. VI, отд. VII, с. 105–118). В противоположность Краевскому Белинский не придал «Новым повестям» серьезного значения (Белинский, т. III, с. 97; т. XI, с. 494). Некрасов, описывая маскарад в Большом театре (гл. II), использовал два весьма удачных психологических портрета из повести Павлова — «худощавого невысокого старичка» и «очаровательной семнадцатилетней девушки» (см. ниже, с. 540–541).
Н. Ф. Фермор в описываемое Некрасовым время не уезжал в Севастополь, так как был тяжело болен и находился на излечении в одной из петербургских больниц (указано Б. Л. Бессоновым). Заимствование же Некрасова из книги Павлова, по-видимому, было достаточно осознанным и более основательным, чем это представляется на первый взгляд.
Из повестей Павлова в «Макаре Осиповиче Случайном» не только бально-маскарадный фон и бальные персонажи. История катастрофического падения Макара Осиповича является зеркальным отражением судьбы Андрея Ивановича — героя повести «Демон» из той же книги Павлова. Андрей Иванович — мелкий петербургский чиновник «лет сорока пяти», проводящий ночи «в жару трудолюбия», при свете сальной свечи в своем кабинете. «Кавалер пряжки за двадцать лет и четвертой степени Станислава», он рядом с более молодыми, образованными и удачливыми сослуживцами чувствует себя несправедливо обойденным вниманием начальства. Особенно же угнетает его то, что девятнадцатилетняя красавица-жена, с которой он, старый, не имеющий аннинского креста, не решается показаться на людях, повторяет во сне имя «его превосходительства», «бредит» им. Мечта Андрея Ивановича — иметь «каменный дом на проспекте», Анну на шее, солидный чин и оклад — сбывается после мучительного объяснения с «его превосходительством». Сначала выгнав вон подчиненного, предъявляющего ему нелепые претензии и обвинения, «его превосходительство» внезапно решает не лишать его благ, которых тот добивается, ибо их можно дать как плату за благосклонность жены Андрея Ивановича.
Однако произведение Некрасова ни в коей мере не может считаться эпигонски-подражательным. Творчески переосмыслив и заострив павловский сюжет (не история возвышения, но история падения чиновника), Некрасов развил едва намеченный Павловым тип молодого, легко ориентирующегося в чиновничьем мире и легко преступающего законы нравственности дельца.
«Макар Осипович Случайный» написан молодым писателем, сознательно преодолевающим шаблоны романтической литературы 1830-1840-х гг. Ироническое упоминание в повести о стиле Марлинского — свидетельство отказа Некрасова от подражания романтическим образцам и авторам, которым он еще недавно поклонялся. Реалистическая тематика, остросатирический взгляд автора на современный ему жизненный уклад, на чиновничество, известная писательская зрелость — все эти особенности комментируемого произведения подтверждают обоснованность мнения А. А. Измайлова о том, что опубликованные после него так называемые «итальянские повести» Некрасова — слабые подражания образцам эпигонской романтической прозы 1830-х гг., на самом деле предшествуют «Макару Осиповичу Случайному» (см. ниже, комментарий к повести «Певица», с. 548). Однако отсутствие рукописных материалов, относящихся к творческой истории комментируемой повести, прямых авторских указаний или свидетельств мемуаристов, подтверждающих предположение Измайлова, вынуждает печатать ранние повести Некрасова в порядке их публикации в «Пантеоне».
Высказывалось мнение о некотором влиянии романтической прозы на автора «Макара Осиповича Случайного». «Образ Зорина дан Некрасовым в романтическом плане, — утверждала А. Н. Зимина, — У него „всклоченные волосы“, „глаза, готовые разрешиться кровавыми слезами“. Встречается он со Случайным в маскараде (романтический шаблон) и мстит ему тем, что соблазняет его жену. (Только что отмеченная ситуация в рассказе Некрасова имеет много общего с „Маскарадным случаем“ Гребенки.)» (Зимина, с. 171; названная повесть Гребенки относится к 1843 г.). В портрете Зорина (см. конец главы 1 повести) могут быть отмечены и другие, не указанные Зиминой романтические детали: «бледное, помертвелое» лицо, «дрожащие и посинелые» губы и пр. Однако этот портрет не может обмануть внимательного читателя явно пародийным романтическим пафосом: он контрастирует с реалистической лексикой всего произведения, уже отмеченного чертами возникающей «натуральной школы»; кроме того, при этом достаточно полно раскрыт характер Зорина — человека мелко честолюбивого, готового снести любые оскорбления «значительного лица» и неспособного на глубокое и сильное чувство (см.: Крошкин, с. 32). Т. А. Беседина справедливо пишет: «Превращение Зорина из романтически настроенного юноши в практичного, умеющего обделывать свои делишки чиновника, с одной стороны, призвано свидетельствовать о непрочности, несостоятельности романтического мировоззрения, романтического подхода к жизни (в данном случае Некрасов предваряет Гончарова как автора „Обыкновенной истории“ и создателя образа Александра Адуева), с другой стороны, развивает и углубляет тему о чиновнике. Примечателен также едва намеченный в этом произведении образ бедного „прохожего“, борющегося с непогодой, — близкий автору» (цит. по: Евгеньев-Максимов, т. I, с. 258–259, где названа и использована неопубликованная работа Т. А. Бесединой).
«Макар Осипович Случайный» вместе с другой ранней повестью Некрасова «Двадцать пять рублей» — вклад молодого прозаика в разработку популярного в 1840-е гг. жанра «чиновничьей» повести (исследователь прозы этого периода зарегистрировал и описал около 150 рассказов и повестей о чиновнике — см.: Цейтлин А. Повести о бедном чиновнике Достоевского. М., 1923). Среди множества произведений такого рода, кроме сочинений Гоголя, некрасовской повести наиболее близки «Бедовик» В. И. Даля (1839), «Лука Прохорович» (1838) Е. П. Гребенки, «История двух калош» (1840) В. А. Соллогуба, водевили Ф. А. Кони «Деловой человек, пли Дело в шляпе» (1840) и «Петербургские квартиры» (1840) (подробнее см.: Крошкин, с. 27–28).
Беспощадная сатира на чиновничество с его «беспорочной службой» выгодно отличает произведение молодого Некрасова от основной массы повестей о чиновничестве и свидетельствует о плодотворном развитии писателем лучших традиций Гоголя-сатирика. «Как у Гоголя, — пишет А. Ф. Крошкин, — „анекдотическая“ основа сюжета некрасовской повести, где большую роль играет случайное, неожиданное, должна была подчеркнуть типизм комических характеров и обстоятельств, способствовать более резкому, динамическому показу бессмысленности чиновно-бюрократической системы, где успех продвижения по службе зависит от того, насколько ловко сумеет каждый „подбиться“ к начальству» (Крошкин, с. 32). «Макар Осипович Случайный» вместе с «Провинциальным подьячим в Петербурге» — поэтическим произведением Некрасова, создававшимся и печатавшимся в ото же время, знаменовали переход молодого писателя к реалистическому сатирическому направлению, представленному творчеством Гоголя и писателей гоголевской школы.
К «Макару Осиповичу Случайному» генетически восходит некрасовская «Повесть о бедном Климе» (не ранее второй половины 1841 г.), где тема бедного чиновника смыкается с более широкой темой городской нищеты. Преодолев литературную традицию анекдота о чиновнике без места, в новом произведении Некрасов создал трагический образ юноши-разночинца, не умеющего и не желающего подчиниться законам чиновничьего мира. Обличение аморальности и паразитизма бюрократических верхов, с который Некрасов впервые выступил в комментируемой повести, позднее получило развитие в таких произведениях его поэтической сатиры, как «Нравственный человек», «Прекрасная партия», «Современники».
Повесть была доброжелательно встречена Белинским: «Рассказ этот не лишен занимательности; жаль только, что автор любят пускаться в отступления, рассуждения и мечтания, которые все очень скучны, и вдается в растянутость» (Белинский, т. IV, с. 290).
Ф. В. Булгарин, оценивая содержание и направление «Пантеона» в первый год его существования, выражал разочарование журналом, который стал помещать «плохие водевили» и «еще более плохие повести». В качестве примера последних приводилась повесть «Макар Осипович Случайный» «какого-то г-на Перепельского» (СП, 1840, 24 дек., № 291).
…табель о рангах… — Речь идет о существовавшей с петровских времен системе чинов государственной службы в царской Россия, по которой все служащие делились на 14 классов.
…играете ли из «Фенеллы», из «Цампы», из «Роберта» или «Нормы»?… — Оперы Д.-Ф.-Э. Обера «Фенелла», Л.-Ж.-Ф. Герольда «Цампа, или Мраморная невеста», Д. Мейербера «Роберт-Дьявол», В. Беллини «Норма» с успехом шли в петербургских театрах во второй половине 1830 — начале 1840-х гг.
…«virtuti military!»… — польский, а с 1815 г. русский орден Военного креста.
…требовал Хлопицкого. — Композитор Хлопицкий не известен. Возможно, имеется в виду мазурка, названная именем польского генерала Григория Иозефа Хлопицкого (1771–1854).
…он в чине 9 класса. — По табели о рангах, в чине титулярного советника, низшем из чипов, дававших дворянские права.
…русые локоны… — Ср. с. 27, где автор упоминает «черные локоны» жены Случайного (отмечено Б. Я. Бухштабом — см.; ПСС, т. V, с, 607).
…токе с перьями… — Ток, женский головной убор, круглый, прямой, без полей.
…со времен Грибоедова известно и ведомо всякому сочувствие московских барышень с гвардейским мундиром… — Ср. монолог Чацкого «А судьи кто?» из комедии Грибоедова «Горе от ума» (д. II, явл. 5):
И в женах, дочерях к мундиру та же страсть! <…> Когда из гвардии, иные от двора Сюда на время приезжали, — Кричали женщины: Ура! И в воздух чепчики бросали!…кричат четырнадцатые классы… — мелкие чиновники, имеющие по табели о рангах (см. комментарий к с. 5) чин коллежского регистратора.
Долго он ехал от Шестилавочного переулка до Обухова моста… — Шестилавочный переулок — впоследствии улица Надеждинская, ныне улица Маяковского в Ленинграде; Обухов (Обуховский) мост — мост через Фонтанку по Царскосельскому (ныне Московскому) проспекту (сохранился под тем же названием).
Справедливо кто-то сказал, что прямой талант везде найдет защитников. — Имеется в виду ст. 51 из «Опасного соседа» В. Л. Пушкина: «Прямой талант везде защитников найдет». Эта поэтическая «шалость» В. Л. Пушкина, написанная в 1811 г. и изданная в 1855 г., могла быть известна Некрасову лишь по спискам.
…он открыл гораздо прежде барона Брамбеуса, что любовь не одна, а много, любвей. — Барон Брамбеус — псевдоним издателя-редактора «Библиотеки для чтения» ориенталиста О. И. Сенковского (1800–1858). Автор имеет в виду напечатанную без подписи статью Сенковского «Есть ли еще нынче женщины?», где говорилось, что есть «два рода любви: одна дочь неба, другая исчадие ада» (БдЧ, 1840, № 4, отд. VII, с. 114).
…раздирали, говоря a la Марлинский, тимпан его слуха. — пародия на вычурный, трескучий стиль романтической прозы А. А. Бестужева-Марлинского (1797–1837).
Сердце девы — кладезь мрачный!.. — измененная строчка из стихотворения К. Н. Батюшкова «Счастливец» (1810): «Сердце наше — кладезь мрачный…»
…люди большие и маленькие ~ Неодинаковые причины привели их в маскерад… — Сцены в маскараде, на котором происходит смешная путаница, завязывается конфликт, приводящий к «драматическим» событиям, — распространеннейший сюжетный элемент русской литературы 1830-1840-х гг., порожденный действительностью той эпохи. Еще с 1770-х гг. дирекцией императорских театров в Петербурге сдавались в аренду помещения для маскарадов. Своей массовостью, пестротой, потенциальной конфликтностью маскарады эти привлекали многих писателей. С начала XIX столетия маскарады в Петербурге регулярно происходили в зимние месяцы (декабрь-февраль) в помещении Большого театра. Так, в 1840 г. маскарады были 7 и 14 января, 14, 18 и 21 февраля, 22 декабря. Над креслами в Большом театре настилался пол на одном уровне со сценой. Образованный таким образом огромный зал вместе с фойе, балконами и ложами вмещал до 12 тысяч участников маскарада. Некрасов, несомненно, бывал на маскарадах в Большом театре, что нашло отражение в комментируемой повести.
Посмотрите, например, на этого худощавого, невысокого старичка ~ Ему весело! — Ср. фрагмент из повести Н. Ф. Павлова «Маскарад»: «…мужчина лет шестидесяти, невысокого роста, худощавый, стоял небрежно, прислонясь к мраморному подножию огромной порфировой вазы. Заботливая судьба очертила около него небольшой магический круг, мимо которого иные проходили с благоговейной робостью и куда никто не осмеливался вступать; но такая оборона от многолюдной толпы, всегда рассеянной, всегда невнимательной, не могла защитить от разных поклонов и приветствий: они тревожили беспрестанно это беспечное положение, этот отдых старика. Он иногда в ответ гостям только что улыбался, только что протягивал руку, а иногда и совсем отделял свое тело от мрамора. Впрочем, блестящая суматоха маскарада, великолепное разнообразие костюмов, женская красота — ничто не отвлекало его внимания от одного предмета, от особенной забавы. Он не вслушивался в пискливые, искаженные голоса, не ловил этих дивных заманчивых слов, брошенных на воздух, прошептанных на ухо, не разгаданных никем, но зароненных в чье-нибудь сердце. Он наслаждался по-своему. Я беру его теперь в любопытную минуту шумного вечера и, может быть, в самую счастливую минуту старости. Разжалованный временем из актеров в зрители, без участия в резвой деятельности бала, без сочувствия к мелочным восторгам, к мелочному отчаянию, к миллионам этих взглядов и надежд, которые сверкали перед ним в вальсе или разгорались в кадрилях, он, верно, вспомнил бы невозвратимые годы, пожалел бы, что нет у него более сердца для всех впечатлений и головы для всякого замысла, если б не нашел тут пищи, необходимой для старческой жизни, утешения, единственного в некоторые лета, если б не знал, куда поместить ему усмешку разочарования и язвительное слово опыта. Невольное равнодушие, благоприобретенную бесчувственность старик должен же употребить в дело, должен же при случае похвастать своим несчастным преимуществом, а потому как он рад, если может кольнуть вас за ошибку, подшутить над опрометчивостью, предсказать неудачу и глядеть на огненные заблуждения молодости. Кто ничего уже не ждет, тот любит доказывать себе, что всякое ожидание — суета, вздор; и старик лелеял эту благосклонную мысль…» (Павлов Н. Ф. Новые повести. СПб., 1839, с. 7–10).
…вот очаровательная семнадцатилетняя девушка. ~ Ей скучно! — Ср. фрагмент из повести Н. Ф. Павлова «Маскарад»: «Она, драгоценный камень в роскошной оправе фантастического наряда, стояла по другую сторону вазы. Тут был центр бального мира, тут был вечерний гений, который метал в толпу цветы поэзии. Около нее теснились маски: то, как История, надоедали ей правдой, то, как Повесть, старались лгать обольстительно. Они сыпали свое беглое красноречие, силились перебить, затереть, перешуметь друг друга; но, странно, никому не удавалось подстрекнуть искреннего любопытства молодой вдовы. Никто не отыскал этого верного звука, который манит за собою воображение женщины, от которого непременно встрепенется она и вдруг увидит только вас, и пойдет, мечтая, за вашим привлекательным звуком, и бросит всех, и посреди непроходимого многолюдства уединится с вами: спрячется за колонной, присядет на незаметный стул, отдаст вам свой слух, свое зрение, свою душу и спросит: кто вы?.. и потеряется весело в лабиринте вашего маскарадного вымысла» (там же, с. 10–11).
…термин девичества… — Термин — здесь: срок, период.
Попробуйте, госпожа Дюдеван! вы представляли пропасть примеров невыгоды и несправедливости нынешнего порядка вещей. — Аврора Дюдеван (1804–1876), печатавшаяся под псевдонимом Жорж Санд, французская писательница, сторонница эмансипации женщин, испытавшая глубокое влияние идей утопического социализма.
Ветер, срывая, как хромоногий бес, крыши старых домов… — В романе А.-Р. Лесажа «Хромой бес» (1707) бес Асмодей приподнимает крыши домов, чтобы увидеть частную жизнь их обитателей.
«Правда всегда странна, страннее выдумки», — говорит Байрон. — См. поэму Д.-Г. Байрона (1788–1824) «Дон-Жуан» (песнь XIV, строфа 101).
…с безумием граничит разуменье. — цитата из стихотворения Е. А. Баратынского «Последняя смерть» (1827).
…не обливали гостей чаем или оршадом… — Оршад (оржад) — прохладительный напиток, миндальное молоко с водой и сахаром.
…в прическе ионического ордера… — Имеется в виду прическа, которая напоминала архитектурное украшение, венчающее ионическую колонну (два большие завитка).
Тальони Мария (1804–1884) — знаменитая итальянская балерина. См. о ней: наст, изд., т. I, с. 667.
Целую ночь, как Нева во время наводнения, он метался на своей постеле… — Реминисценция из «Медного всадника» (часть первая) Пушкина:
Нева металась, как больной В своей постеле беспокойной.…все проести и волокиты, проторы и убытки… — Принятые в тогдашнем делопроизводстве наименования статей расхода, подлежащих материальной компенсации.
Не нужно быть Лафатером, чтоб, взглянув на него, понять в эту минуту его душевные качества. — И.-К. Лафатер (1741–1801) — швейцарский писатель и богослов, автор «Физиогномики», в которой он пытался доказать, что, изучив мышцы лица, можно дать психологическую характеристику данного человека.
Без вести пропавший пиита*
Печатается по первой публикации.
Впервые опубликовано: П, 1840, № 9 (ценз. разр. — 8 окт. 1840 г.), с. 66–84, с подзаголовком: «Рассказ Н. Перепельского» (в оглавлении: «Рассказ Н. А. Перепельского»).
В собрание сочинений впервые включено: Собр. соч. 1930, т. III.
Автограф не найден.
Датируется по первой публикации.
Сотрудник Некрасова по «Пантеону» В. П. Горленко, рассказывая (со слов Ф. А. Кони) о роли редактора журнала в становлении Некрасова-прозаика, пишет: «Первый опыт[41] был сделан и сошел благополучно. О чем писать теперь? „Опишите себя, свое недавнее положение“, — советует тот же издатель, и Некрасов пишет рассказ „Без вести пропавший пиита“, имеющий, по словам Кони, несомненное автобиографическое значение <…> Заметим, что здесь, когда молодому автору приходится описывать лично пережитые и выстраданные невзгоды, у негр является и живость и меткость и что вообще этот и еще другой позднейший рассказ в том же роде значительно выделяется в этом отношении из массы других „сочиненных“ повестей Некрасова той поры».
«Рассказ этот, — продолжает тот же мемуарист, — сопровождавшийся лестным для Перепельского примечанием редакции, прошел еще успешнее. В самом деле, он написан довольно живо. Неудачен в нем только „человек“ рассказчика и язык театральных лакеев-философов, которым он говорит, язык, благополучно процветающий и доныне на наших сценических подмостках, да еще фигура пииты, сделанная карикатурно, во вкусе того времени, т. о. все, что составляет собственно вымысел в рассказе» (Горленко, с. 151, 153–154).
В основу рассказа, действительно, легли «петербургские мытарства» молодого Некрасова. Это подтверждается рядом высказываний автора, зафиксированных в автобиографической прозе (см., например, «Жизнь и похождения Тихона Тростникова»), его биографических заметках и воспоминаниях современников писателя. Особенно близок к содержанию «Без вести пропавшего пииты», как в деталях, так и в передаче атмосферы быта молодого нищенствующего литератора, позднейший рассказ Некрасова, известный в передаче Н. В. Успенского: «Нанимал я квартиру на Васильевском острову, в нижнем этаже. Пошел я в мелочную лавочку попросить в долг чайку, купец оказался моим земляком-ярославцем и большим любителем чтения газет <…> Я <…> так ему понравился, что он с удовольствием отпустил мне чаю и сахару. Но положение мое, однако, нисколько не улучшилось: лежа на полу, на своей шинели, я сделался предметом праздного любопытства уличных зевак, которые с утра до ночи толпились у моих окон. Хозяину дома это пришлось не по праву, и он приказал закрыть окна ставнями. При свете сального огарка я решился описать одного помещика с женою, у которых я был учителем. Так как хозяин отказал мне в чернилах, я соскоблил с своих сапогов ваксу, написал очерк и отнес его в ближайшую редакцию. Это спасло меня от голодной смерти…» (Успенский Н. В. Из прошлого. Воспоминания. М., 1889, с. 4–5; см. также: Панаева, с. 197).
Перечень автобиографических деталей рассказа не исчерпывается отдельными бытовыми подробностями (сапоги, используемые для добывания чернил, ковер на полу вместо постели, где герой лежит, завернувшись в шинель, вещи взамен платы за квартиру (ср. также «Повесть о бедном Климе») и т. д.). В рассказе нашли отражение переживания поэта в связи с неудачей, постигшей его при издании первого поэтического сборника «Мечты и звуки». Так, повествуя об обругавшем печатаю Наума Авраамовича «ничтожнейшем» критике, с которым «стыдно быть в одном обществе», Некрасов имеет в виду В. С. Межевича, выступившего против автора сборника «Мечты и звуки» с рядом оскорбительных выпадов личного характера (см. ниже, с. 546). Это отчасти подтверждается позднейшим признанием Некрасова (1877 г.): «Меня обругали в какой-то газете, я написал ответ, это был единственный случай В моей жизни, что я заступился за себя и свое произведение. Ответ, разумеется, был глупый, глупее самой книги» (ПСС, т. XII, с. 22; ср. также: наст. изд., т. I, с. 644).
В последнее время высказано убедительное предположение о наличии скрытой полемики автора рассказа с В. Г. Белинским — рецензентом сборника «Мечты и звуки», который, в частности, писал: «Если стихи пишет человек, лишенный от природы всякого чувства, чуждый всякой мысли, не умеющий владеть стихом и рифмою, он под веселый час еще может позабавить читателя своею бездарностию и ограниченностию: всякая крайность имеет свою Цену, и потому Василий Кириллович Тредиаковский, „профессор элоквенции, а паче хитростей пиитических“, есть бессмертный поэт, но прочесть целую книгу стихов, встречать в них все знакомые и истертые чувствованьица, общие места, гладкие стишки <…> это <…> работа для рецензентов, а не для публики» (Белинский, т. IV, с. 118–119).
Сопоставив заголовок «трагедии» пииты Грибовникова с приведенным высказыванием Белинского, В. А. Егоров указывает: «…нельзя не увидеть своеобразной автоиронии оскорбленного критиком автора, а может быть, и некоторой полемики против мнения Белинского, поставившего „Мечты и звуки“ ниже творений Тредиаковского» (Егоров В. А. Рассказ Некрасова «Без вести пропавший пиита» в литературной полемике начала 1840-х годов. — Некр. и его вр., вып. IV, с. 135). Пародирование классицистичеитя трагедии, в частности произведений Тредиаковского, не имевшее в 1840-х гг., как считает Б. Я. Бухштаб, «никакой литературной актуальности» (Бухштаб В. Я. Начальный период сатирической поэзии Некрасова. 1840–1845. — Некр. сб., II, с. 104; см. также: Прозоров Ю. М. Н. А. Некрасов после книги «Мечты и звуки». — В кн.: Н. А. Некрасов и русская литература второй половины XIX — начала XX века. Ярославль, 1980, с. 14 (Учен. зап. Ярославского гос. пед. ин-та им. К. Д. Ушинского, вып. 57)), было на самом деле весьма злободневным в борьбе с литературным эпигонством. «Грибовников, — пишет исследователь, — образ бездарного писателя, не ориентирующегося в современном ему литературном процессе, Тредиаковского нового времени» (см.: Егоров В. А. Рассказ Некрасова «Без вести пропавший пиита» в литературной полемике начала 1840-х годов, с. 136). Стихотворение же Грибовникова «Величие души и ничтожность тела» в некрасовском рассказе следует, по-видимому, рассматривать отчасти как автопародию на «Разговор» из сборника «Мечты и звуки». Кроме того, Некрасов пародирует здесь наиболее известных эпигонов романтизма, в частности Н. В. Кукольника, поэзия которого еще недавно служила ему образцом для подражания («Встреча душ»). Объективно Некрасов, высмеивающий в образе пииты Грибовникова эпигонов классицизма и романтизма и вообще литературу, оторванную от действительности, солидаризируется с позицией Белинского. Одновременно с Белинским, восстававшим против засилья лубочной «серобумажной» литературы на книжном рынке, Некрасов средствами пародии и гротеска борется с потоком бессодержательных и безнадежно архаичных по форме произведений (подробнее см.: Крошкин, с. 38–39).
Не исключено также, что отрывки из трагедии «Федотыч» и стихотворения «Величие души и ничтожность тела» и «Жестокодушной» являются переработанными в пародийном ключе юношескими произведениями, которыми Некрасов «грешил» еще в гимназические годы (см. об этом: Евгеньев-Максимов, т. I, с. 264; Бухштаб Б. Я. Указ. соч., с. 104). Таким образом, рассказ Некрасова, приехавшего в 1838 г. в Петербург с далекими от действительности представлениями о жизни и потерпевшего неудачу с первым поэтическим сборником, является своеобразным прощанием писателя с «романтическим» прошлым.
Подчеркивая пустое фразерство Грибовникова, Некрасов противопоставляет его творениям классическую простоту и одухотворенность пушкинской поэзии. Первое обращение Некрасова к жанру поэтической пародии в рассказе «Без вести пропавший пиита» свидетельствует о незаурядном мастерстве молодого сатирика.
Содержание рассказа позволяет говорить об активной гражданской позиции раннего Некрасова, которая впервые в его литературной практике проявляется столь определенно (мысли о благородной роли литературы в обществе; сарказмы о литераторах, использующих свой талант для личного обогащения).
Важной особенностью комментируемого рассказа Некрасова является «отпечаток демократических и народолюбивых тенденций» (Евгеньев-Максимов, т. I, с. 265), проявившихся прежде всего в создании первого в творчестве писателя образа крепостного человека. Однако попытка Некрасова придать этому своему рассказу социальное звучание осталась не до конца реализованной. Объясняется это как недостаточной зрелостью писателя, так я установкой редактора «Пантеона» на чисто юмористический характер издания.
В рассказе ощутимо влияние гоголевской сатиры. Так, диалог между Наумом Авраамовичем и «милостивым государем» очень напоминает соответствующее место из «Ревизора». Некрасов использует также и гоголевский способ выписывания сатирического портрета, насыщенного комически гиперболизированными деталями (бородавки на руках Грибовникова, «расположенные почти в том же порядке, как горы на земной поверхности»).
Автор остался недоволен произведением. В автобиографическом романе «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» он писал: «Я начал было драму, а кончил водевилем <…> глупым дядей, нелепостью.» (ПСС, т. VI, с. 202; имеется в виду спасительное появление в критический момент рассказа богатого дядюшки героя). Примечательно также, что в «Тихоне Тростникове» о стихах героя говорится примерно в том же тоне, что и о стихах Грибовникова в «Без вести пропавшем пиите». Образ напоминающего «пииту» бездарного рифмоплета Тяпушкина (восходит к поэту-самоучке Ф. Н. Слепушкину (1783–1848), творчество которого оценивалось Белинским как псевдонародное) встречается в «Современниках» Некрасова (часть 1, зала 11).
Тип эпигона и графомана Грибовникова не прошел не замеченным читателями и критикой. Рецензируя «Книгу первую Овидиевых „Превращений“. Вольный перевод в стихах С. Дымцова. М., 1841», П. Н. Кудрявцев писал, в частности: «И сколько у нас таких усердных стихокропателей! Уверяем вас, мы знаем одного, пииту из школы Хераскова и Сумарокова, который не задумался перевести стихами а 1а Тредиаковский целую „Энеиду“ и потом написал свою собственную подражательную поэму, истратив на это примерно около пяти лет…» (ОЗ, 1841, т. XIV, отд. VI, с. 39). Кудрявцев имеет, очевидно, в виду сочинения Грибовникова — трагедию «Федотыч», написанную размером «Энеиды», и поэму «Иоанн и Стефанида», сочиненную в «Овидиевом роде». Некоторым влиянием некрасовского рассказа отмечена повесть Е. П. Гребенки «Пиита» (1846). Заслуживает внимания предположение С. А. Рейсера о том, что Н. А. Добролюбов читал «Без вести пропавшего пииту» во время своего пребывания в Нижегородской духовной семинарии. В июле-октябре 1849 г. Добролюбов вел тетрадь, имевшую название: «Стихотворения, стихоплетения, рифмоплетения, пиитические вдохновения, стишищи, стихи, стишки, стишочки, стишонки и стишоночки Николая Добролюбова. Тетрадь 1-ая. NB. В сей[42] тетради заключаются первые опыты, изложенные в стихах ямбо-хорее-дактило-хорее-апапесто-ямбо-ямбо-анапесто-дактило-хорее-ямбо-хорее-ямбо-хореических. Прим. сочинителя». С. А. Рейсер так комментирует это заглавие: «Возможно, что заглавие — подражание „Дактило-амфибрахио-хореи-ямбо-спопдеическим“ стихотворениям поэта И. И. Грибовникова в рассказе Некрасова „Без вести пропавший пиита“, который Добролюбов прочитал в „Пантеоне русского и всех европейских театров“ (1840, № 9) в 1849 г.» (Летопись жизни и деятельности Н. А. Добролюбова. Сост. С. А. Рейсер. М., 1953, с. 27). Еще один литературный образ «пииты-графомана» (Василий Петрович Петров), витийствующего по любому поводу исключительно ради «чистого искусства», встречается в «Двух отрывках из драмы „Петров“» (03, 1843, № 4, «Смесь», с. 122–129), вошедших в «Собрание стихотворений Нового поэта» (СПб., 1855, с. 93–112). Авторами указанного сборника были И. И. Панаев и Некрасов. Образ Грибовникова и его «поэзия» соотносимы также с образом и творчеством Козьмы Пруткова.
«Fiunt oratores, nascuntur poetae», — изрек Гораций… — Афоризм из речи Цицерона, произнесенной в 61 г. до н. э. в защиту греческого поэта Архия.
…из прозаической пиимы Василия Кирилловича Тредиаковского «Езда на Остров Любви»… — «Езда в Остров Любви» — роман французского писателя П. Тальмана в стихах и прозе, переведенный В. К. Тредиаковским в 1730 г. Трагедия «Федотыч» пародирует не именно этот перевод, но высокий, «витийственный», насыщенный церковно-славянизмами стиль вообще. Однако имя Тредиаковского здесь названо не случайно, ибо оно и в 1840-е гг. нередко служило объектом насмешек (см. выше, с. 543). Ср. также использование этого имени как синонима бездарности в стихотворении Некрасова «Он у нас осьмое чудо» и приписываемых ему одах-«подражаниях» Тредиаковскому — «Сон» и «Чай» (наст. изд., т. I, с. 33, 437, 445).
…Симбирской губернии, Самарского уезда… — Самара в то время была уездным городом Симбирской губернии.
Владыке в чем идти, в чемерке иль в тулупе? — Чемерка (чемарка, чемара) — старинная одежда типа сюртука или казакина (у западных славян, на Украине и в некоторых областях России).
Я, сударь, читал свои сочинения ~ как какого-то Тасса… — Здесь пародируется широко известная, идеологически значимая в русской романтической поэзии тема Торквато Тассо (1544–1595), итальянского поэта, гонимого при жизни властями и церковью и увенчанного лаврами после смерти. Легендарный образ Тассо, художника-гения, воплощающего «идею поэта великого и несчастною» (выражение Н. А. Полевого; см.: Моск. телеграф, 1834, ч. 55, No 3, с. 454), привлекал не только многих поэтов и драматургов (К. Н. Батюшков, Н. В. Кукольник, В. Г. Венедиктов и др.), но и, как свидетельствует комментируемый текст, давно уже переместился в массовое сознание. Подробнее см.: Горохова Р. М. Образ Тассо в русской романтической литературе, — В кн.: От романтизма к реализму. Л., 1978, с. 117–188.
О детища мои! о верная жена! ~ корни запускает! — Пародия на романтическую поэзию «ужасов». Ближайший объект этой пародии — стихотворение В. А. Жуковского «Баллада, в которой описывается, как одна старушка ехала на черном коне и кто сидел впереди» (1814). Некрасов использовал метрический рисунок и синтаксическую структуру этой баллады.
…стих из ямбической поэмы «Разбойники»: «Мне душно здесь, — я в лес хочу!», — т. е. из поэмы Пушкина «Братья разбойники».
Это просто пандан-с. — Пандан (франц. pendant) — то, что соответствует, подходит, т. е. подстать.
Парнас — в древнегреческой мифологии — обиталище Аполлона (покровителя искусств) и муз.
Авраам — библейский патриарх.
…и семо и овамо… — здесь и там (церковно-слав.).
Валтасар — согласно библейской легенде, последний вавилонский царь, убитый во время пира, когда на Вавилон напали персы.
Что бедный наш язык? ~ непрерывным звуком. — Некрасов неточно цитирует трагедию Н. В. Кукольника «Торквато Тассо» (1835; акт I, явл. 1). Ср. также: наст. изд., т. I, с. 650–651.
Предположим, что вы издали книгу ~ и мы можем написать так эхе! — В этом эпизоде имеется в виду выступление в «Литературной газете» В. С. Межевича, который, пародируя некоторые стихотворения Некрасова из сборника «Мечты и звуки», в частности, говорил: «…подобные стихи мы беремся писать когда угодно, и не только за бокалом шампанского, а именно в то время, когда нет расположения к какому бы то ни было серьезному занятию» (ЛГ, 1840, 24 февр., № 16).
…напевает известную песню «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан…»… — Романс А. Е. Варламова на слова Н. Г. Цыганова.
Артур В., Мальфиатре во Франции; Генрих Виц в Германии; Камоэнс в Португалии: Ричард Саваж в Англии… — Французский поэт Ж.-Ш.-Л. Мальфиатр (1732–1767), португальский поэт Луис Камоэнс (1524–1580), английский поэт Ричард Савадж (1697–1743) жили в крайней нужде. Артур Б. и Генрих Виц — лица неустановленные.
Кормовых денег не пожалею… — В случаях, когда у заключенного в долговую тюрьму не было средств для пропитания, кредитор, возбудивший судебное дело, вносил деньги («кормовые») на его содержание.
Мне покров ~ постелью! — Ср. «Песню цыган» из оперы А. Н. Верстовского «Пан Твардовский;» (либретто М. Н. Загоскина):
У цыганов круглый год Праздник — новоселье. Им покров небесный свод, А земля постеля.(Цит. по: Новейший песенник, или Собрание русских песен и романсов. СПб., 1838, с. 88–89).
Если отрывки, приведенные здесь из различных сочинений Ивана Ивановича, будут признаны не лишенными достоинства ~ их у меня достанет на девять томов! — К этим словам в публикации «Пантеона» было дано примечание: «Мы благодарим автора за доставление нам этого интересного рассказа и с удовольствием и впредь поместим в „Пантеоне“ опыты Ивана Ивановича, если они все будут так удачны, как этот. Ред.». В № 10 «Пантеона» 1840 г. было напечатано стихотворение Некрасова «К ней!!!!!» с подписью: «Иван Грибовников» и примечанием: «Помещаем это оригинальное стихотворение для того только, чтоб утешить друга нашего Н. А. Перепельского: Грибовников, без вести пропавший пиита, отыскался. Ред.» (с. 37–38). Впоследствии о Грибовникове упоминает один из персонажей водевиля Некрасова «Утро в редакции» (1841), слушая творения стихоплета Трезвонова (см.: наст. изд., т. VI, с. 65).
Певица*
Печатается по тексту первой публикации.
Впервые опубликовано: П, 1840, № 11 (ценз. разр. — 14 дек. 1840 г.), с. 67–90, где под заглавием указано: «Повесть Н. Некрасова».
В собрание сочинений впервые включено: стихотворные тексты — ПССт 1927; полностью — ПСС, т. V.
Автограф не найден.
Датируется по первой публикации.
«„Певица“, — указывает сотрудничавший с Некрасовым в „Пантеоне“ В. П. Горленко, — имеет все признаки вещи, написанной исключительно под влиянием крайности и для денег. Содержание ее невероятно, лица и события искусственны в высшей степени, и вообще вся эта история, в которой героиня носит имя Ангелики (она итальянка), а герои — графы и бароны, вполне невозможна. Молодому автору, без сомнения, лучше, чем кому бы то ни было, известно было это <…>.
По словам Кони, происхождение некоторых <…> повествований было следующее: „А вот что я сегодня начитал“, — говорил девятнадцатилетний писатель, входя к своему издателю и передавая ему содержание прочитанного в какой-нибудь забытой книжке. „Ну вот вам и сюжет, садитесь и пишите“ — говорил ему издатель, и в результате являлись рассказы вроде „Певицы“, „В Сардинии“ и т. п.» (Горленко, с. 154–155).
Когда Некрасов говорил о некоторых своих ранних прозаических опытах как об «очень плохих — просто глупых» (ПСС, т. XII, с. 24), он имел в виду, несомненно, такие произведения, как «Певица» и «В Сардинии». Заслуживает внимания предположение, высказанное одним из первых исследователей прозы Некрасова: «По тому, что повесть, более чем раннейшие, страдает всеми уродливостями старинного письма и подписана настоящим именем поэта, возникает, по-видимому, не лишенная значительного правдоподобия догадка, не есть ли ото первый опыт Некрасова, достаточно, однако, вылежавшийся в редакции, как это сряду и сплошь бывает с начинающими. Во всяком случае, почти странно допустить, что такую повесть с графами и баронами, очаровательными певицами, загадочными слепцами и перелетами из России в Италию, которой никогда в глаза не видел автор, — написал человек, ужо чуявший потребности реального письма в „Без вести пропавшем пиите“» (Измайлов А. Беллетристика Некрасова. — Биржевые ведомости, 1902, 17 дек., № 358). Выдержанность «Певицы» в духе романтических канонов действительно отличает ее от напечатанных ранее повестей «Макар Осипович Случайный» и «Без вести пропавший пинта», где романтические клише прозы 1830-1840-х гг. уже подаются в пародийном, ироническом ключе (см. выше, с. 536–537 и 543–544). В. Е. Евгеньев-Максимов оценивает «Певицу» как «шаг назад в творческом развитии» Некрасова (Евгеньев-Максимов, т. I, с. 267).
Замечание В. П. Горленко о чисто литературной основе «итальянских» повестей Некрасова развито А. Н. Зиминой: «Повести Некрасова навеяны чтением итальянских повестей Кукольника и Тимофеева. Эту зависимость очень легко проследить. Она сказывается в подражании шаблону итальянской повести и распространяется до заимствования отдельных ситуаций и даже имен. Все эти Франчески, Ангелики, Джулио прямо пересажены из повести Тимофеева „Джулио“ <…>, „Антонио“ и „Максим Сазонтович Березовский“ <…> Кукольника» (Зимина, с. 169). Действительно, из «Джулио» (1836) А. В. Тимофеева в некрасовскую повесть перешел образ пылкого юноши, влюбленного в красавицу-вдову, готового драться за ее честь «с целым миром» и карающего ее обидчика, а также образ вероломного любовника (некрасовский барон Р** (синьор Отто) очень напоминает Фердинанда фон Стадергольма (барона фон Нахтигальталя) из «Джулио»). Из названных Зиминой произведений Н. В. Кукольника прежде всего «Антонио» (начало 1840 г.), повесть, по словам В. Г. Белинского, «исполненная драматического интереса» (Белинский, т. III, с. 182), дает основание для сопоставления с «Певицей» Некрасова (сходные образы, имена, сюжетные мотивы и ситуации). Свою аналогию в «Певице» имеет также романтическая история несчастной любви русского крепостного музыканта и итальянской певицы-примадонны, описанная в «Максиме Сазонтовиче Березовском». Однако эта повесть Кукольника написана значительно позднее «Певицы» (1844) и не может рассматриваться как источник произведения Некрасова.
Круг романтических повестей 1820-1840-х гг., творчески переосмысленных автором «Певицы», может быть расширен. По наблюдениям Н. Н. Пайкова, возможна преемственная связь «Певицы» со следующими образами и сюжетными мотивами прозы указанного периода: итальянская певица, оставляющая сцепу ради возлюбленного — русского аристократа и возвращающаяся туда под другим именем («Запорожец» (1824) В. Т. Нарежного); коварный оговор супруга другом с целью обольщения его жены («Замок Нейгаузен» (1824) А. А. Бестужева-Марлинского); доверчивый муж-аристократ и жена, неспособная противостоять коварству близкого семье человека («Калькано» (1831) и «Преступление» (1835) А. В. Тимофеева).
Несомненно эпигонский характер носит и баллада «Клятвою верности с милою связанный», исполняемая Ангеликой. Некрасов подражает здесь В. А. Жуковскому, имея в качестве образца его «Ленору» (1831). В отличие от всех других сюжетных элементов повести песня Франчески «Театр дрожал… восхищена» имеет реальную основу и лишена подражательности. Как убедительно показано Н. И. Куделько, это стихотворение стоит в ряду произведений, посвященных Некрасовым талантливой водевильной и драматической актрисе В. Н. Асенковой (1817–1841) или содержащих упоминания о ней: «Офелия», «Прекрасная партия», «Памяти Асенковой». Не случайно, по-видимому, и имя героини песни: одной из наиболее удачных ролей Асенковой была роль Вероники в пьесе Н. А. Полевого «Уголино».«…в песне Франчески, — пишет исследователь, — он (Некрасов, — Ред.) изобразил но только Асенкову периода ее первых выступлений на сцене, но и Асенкову ее последних выступлений, когда она, еще не вполне оправившись после постигшей ее болезни, снова появилась на сцене. Хотя выступления эти сопровождались привычными овациями, но болезнь уже наложила свой отпечаток и на наружность, и на игру артистки. В заключительной части „Песни Франчески“ Некрасов как бы говорит, что Асенкова своих последних выступлений уже не та, что раньше, и тем дает понять, что ее как артистку могут постигнуть, если уже не постигли, неудачи». Песня Франчески, как доказывает Куделько, является «первоначальным наброском, эскизом» к стихотворению «Памяти Асенковой» (Евгеньев-Максимов В. Е. и др. Некрасов и театр. Л.-М., 1948, с. 63–64; см. также: Чуковский К. Некрасов, Николай I и Асенкова. — Звенья, II. М.-Л., 1933, с. 296–301; Евгеньев-Максимов В. Е. Некрасов и Петербург. Л., 1947, с. 156; наст. изд., т. I, с. 625–626).
Давали новую оперу любимого Донизетти. — Гаэтано Доницетти (1797–1848), итальянский композитор, оперы которого «Любовный напиток» (1832), «Лючия ди Ламмермур» (1835), «Мария ди Рудеиц» (1838) были особенно популярны в 1830-1840-х гг.
Лазарони (лаццарони) — название люмпенпролетарских элементов в Италии.
Клятвою верности с милою связанный… — Ср. балладу В. А. Жуковского «Ленора»:
Но что, когда он сам забыл Любви святое слово, И прежней клятве изменил, И связан клятвой новой?Двадцать пять рублей*
Печатается по тексту первой публикации. Впервые опубликовано: ЛГ, 1841, 21 и 23 янв., № 9 и 10, с. 33–40, с подзаголовком: «Рассказ Н. Некрасова».
В собрание сочинений впервые включено: ПСС, т. V. Автограф не найден.
Анализируя раннюю прозу Некрасова, В. Е. Евгеньев-Максимов отнес это произведение к «повестям о неудачниках и неудачницах». «В этом рассказе, — отмечал исследователь, — чувствуется налет автобиографизма (детство, гимназия, университет, неудачный литературный дебют), но зато социальный мотив выражен очень слабо. Хотя недостаток денег и неумение ими распорядиться играют важную роль в неудачах героя, однако в основном эти неудачи объясняются тем, что герою фатально не везет» (Евгеньев-Максимов, т. I, с. 268–269). А. Ф. Крошкин писал о том, что «в рассказах „Двадцать пять рублей“, „Карета“, „Несчастливец в любви…“, „Помещик двадцати трех душ“ высмеивается тип идеалиста-романтика, осуждаемого автором за его пассивность, неприспособленность к жизни, к борьбе за свое достоинство, пародируется стиль прозаиков реакционно-романтического направления. С другой стороны, для стиля рассказа характерны и романтическое украшательство, тяжеловесные фразеологические обороты и стилистические узоры», гротескный портрет (Крошкин А. Ф. Художественная проза Некрасова 1840-х годов. Автореф. канд. дис. М., 1956, с. 7–8).
Литературные источники — рассказы П. Л. Яковлева «Бедный Макар» (1828) и В. И. Даля «Бедовик» (1839) — установлены В. И. Мельником (см.: Мельник В. И. История одного сюжета (рассказ «Двадцать пять рублей»). — Некр. сб., VII, с. 112–118). 15 своей статье В. И. Мельник намечает и линию развития этого сюжета: рассказ Я. П. Буткова «Сто рублей», повесть М. К. Салтыкова-Щедрина «Запутанное дело», «Двойник» Ф. М. Достоевского. Такую же трагическую развязку — смерть героя от удара в момент крупной удачи в карточной игре — имеет рассказ Л. Н. Андреева «Большой шлем» (1899).
Двадцать пять рублей — среднее месячное жалованье чиновника самого низшего, четырнадцатого класса.
Надворный советник — чиновник седьмого класса по действовавшей в дореволюционной России петровской табели о рангах.
Кацавейка — короткая женская кофточка, подбитая мехом или на вате.
«Северная пчела» — петербургская политическая и литературная газета, в 1825–1830 гг. издававшаяся Ф. В. Булгариным, в 1831–1859 гг. — Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем; была популярна в среде мелких чиновников и обывателей. Тираж газеты доходил до 10 000 экземпляров.
В самом деле, Митенька нисколько не походил ни на отца, ни на мать. — Ср. в «Мертвых душах» (1842) Н. В. Гоголя: «Лицом на них <родителей> он, кажется, не походил: по крайней мере какая-то родственница, находившаяся в их доме по случаю его рождения, выразилась пословицею: родился-де ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца» (Гоголь, т. VI, с. 554),
Четверик — старая русская мера объема сыпучих веществ (26, 239 л.), равная восьмой части четверти (210 л.), а также мера земли — четверть десятины.
Есть в мире, особенно в Петербурге, прекрасные домы ~ Так и сердце человеческое. — Сравнение лица, сердца или души человека с домом часто встречается в произведениях Некрасова. Ср., например, в романе «Мертвое озеро»: «…дом походил на вдову, оплакивающую своего супруга и помытую, нечесаную со дня его кончины» (ПСС, т. VIII, с. 306); в рассказе «Макар Осипович Случайный» (см. выше, с. 26–27); в стихотворении «Прекрасная партия» (наст. изд., т. I, с. 109) и др.
…отвечал довольно хорошо, но получил единицу из древних языков или из математики, не помню, и его не приняли. Он вступил вольным слушателем… — Автобиографическая деталь: при первой попытке в июле 1838 г. поступить в С.-Петербургский университет Некрасов получил четыре единицы, через год — тоже четыре и два нуля из оценок по четырнадцати сдаваемым предметам. Стать студентом Некрасову не удалось, но в сентябре 1839 г. он был принят в университет вольнослушателем (см.: Евгеньев-Максимов, т. I, с. 161–162).
Пунш — крепкий спиртной напиток, приготовляемый из рома с сахаром, кипятком, лимонным соком или фруктами и употребляемый обычно в горячем виде.
…чем-то поменьше коллежского регистратора и побольше недоросля… — Коллежский регистратор — чиновник 14 класса, низший чин гражданской службы. Недоросль — несовершеннолетний дворянин, еще не поступивший на службу.
В земском суде или в уездном? — В ведении земского и уездного судов было исполнение правительственных распоряжений, наблюдение за состоянием дорог и мостов, дела по отбыванию различных повинностей, разбирательство по маловажным проступкам, решение незначительных исков и т. п.
В гражданскую палату? — Гражданская палата — высшая судебная инстанция по гражданскому судопроизводству, включала два департамента, помещалась «в казенном доме на Адмиралтейской площади» (Пушкарев, т. I, с. 483).
Как гнусны, бесполезны, как ничтожны Деянья человека на земле! — цитата из трагедии Шекспира «Гамлет» (д. I, явл. 2) в переводе Н. А. Полевого (1837) (Полевой И. А. Драматические сочинения я переводы, ч. 3. СПб., 1843, с. 24).
Столоначальник — чиновник, управляющий учреждением или отделом в учреждении, занимающимся каким-либо определенным кругом канцелярских дел.
Я в пустыню удаляюсь… — начало старинного романса, популярного в конце XVIII — начале XIX в. Текст приписывался М. В. Зубювой (ум. в 1799 г.). Романс был впервые опубликован в 1770 г., в ряде песенников представлен как «народная песня». По свидетельству С. В. Максимова, одна из любимейших песен арестантов (см.: Песни русских поэтов (XVIII — первая половина XIX века). Л., 1936, с. 579). Упоминается в водевиле Ф. А. Кони «Всякий черт Иван Иваныч»; в рассказе И. С. Тургенева «Контора» (из «Записок охотника»); в романах Ф. М. Достоевского «Подросток», гл. 9; П. И. Мельникова-Печерского «В лесах», ч. I, гл. 1; в записи Р. Волкова народной драмы «Царь Максимилиан» (Рус. филолог, вести., 191,2, № 1–2, 4).
…неподдельная китайская добродетель… — Эпитет «китайский», термин «китаизм» в середине XIX в. употреблялись для определения застоя, догматизма, доходящих до карикатурности. В таком значении эпитет «китайский» неоднократно встречается у Белинского (см., например, статью «<Россия до Петра Великого>» (1841) — Белинский, т. V, с. 91–103), Достоевского (см., например, «Зимние заметки о летних впечатлениях» — Достоевский, т. V, с. 70) и у Некрасова (см., например, с. 189, а также водевиль «Утро в редакции» (наст. изд., т. VI, с. 55) и рецензию на «Стихотворения Николая Молчанова» — ПСС, т. IX, с. 69–74).
Он жил в Ямской… — Ямская (ныне улица Достоевского) — улица в небогатой части города. В этом районе в первые годы пребывания в Петербурге жил Некрасов, он нанимал комнату на Разъезжей улице у отставного унтер-офицера (Евгеньев-Максимов, т. I, с. 170–171).
…у Казанского моста… — Имеется в виду мост через Екатерининский канал (ныне канал Грибоедова) у Казанского собора на Невском проспекте, в то время «один из больших мостов в Петербурге», «на гранитных устоях с каменными сводами» (Пушкарев, т. I, с. 100).
…на котором мосье Гелио расправляет свои произведения! — Парикмахерская Гелио находилась на Невском проспекте, в доме № 39, принадлежавшем титулярному советнику А. Н. Рогову. В том же доме в 1841 г. располагался книжный магазин К. А. Полевого (СП, 1841, № 11) и контора журнала «Репертуар русского театра», в котором Некрасов опубликовал свой первый водевиль «Шила в мешке не утаишь — девушки под замком не удержишь» (1841, № 4).
Впейся поцелуем в ее алебастро-бумажные плечи! — Мотив любви к кукле, автомату часто встречается в литературе романтизма. В Россию он пришел через рассказы немецкого романтика Гофмана (см., например, «Песочный человек» («Der Sandmann»; 1815)). Под влиянием Гофмана А. Погорельский написал «Пагубные последствия необузданного воображения» (1828), а В. ф. Одоевский — «Сказку о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту» (1833). Некрасов шаржировал этот сюжет, заменив автомат манекеном. Стихотворное воплощение этой темы — фельетон «Провинциальный подьячий в Петербурге» (1840; см.: наст. изд., т. I, с. 290–291).
Ломбардный билет — квитанция, выданная в счет денег, помещенных на сохранение в ломбард с выплатой соответствующих процентов.
Это была душа глубокая, как озеро волшебниц, виртуозная, как пальцы Тальберга, как носок Тальони, как голос Пасты… — «Озеро волшебниц» («Le Las des Fees»; 1839) — опера Д.-Ф.-Э. Обера (либретто О.-Э. Скриба), по мотивам которой в Петербурге в 1840–1841 гг. был поставлен балет того же названия с Марией Тальони в главной роли (см. о ней: наст. изд., т. I, с. 667). Носок Тальони назван «виртуозным», вероятно, потому, что она первая стала танцевать на пуантах. Зигизмупд Тальберг (1812–1871) — австрийский пианист, концертировал в России в 1839 г. Его приезда ждали зимою 1841 г. Игра Тальберга славилась певучестью тона и блестящей техникой. Джудитта Паста (урожденная Негри, 1797–1865, по другим данным — 1798–1867) — итальянская оперная певица (сопрано), гастролировала в России в 1840–1841 гг. «Северная пчела» писала о ней: «Музыкальные летописи навсегда сохранят имя г-жи Пасты, которая первая из певиц ввела драматическую игру в оперу и заставила знаменитых композиторов своего времени подчиниться своему таланту» — и приводила слова Тальма, знаменитого французского драматического актера: «У этой женщины и я могу кой-чему поучиться» (СП, 1841, № 39, 78).
…с политипажными рисунками… — Политипажи — клише для печатания гравюр, рисунков, виньеток.
За чашу благ, в которой слито ~ В юдоли плача и сует! — неточная цитата из стихотворения Некрасова «Турчанке» (наст. изд., т. I, с. 221).
Стеариновые плечи ~Обольстительны вы суть! — пародия на куплеты «Стеариновые свечи, самострельный пистолет…» (из водевиля Н. А. Коровкина «Отец, каких мало» (1838) — см.: Репертуар, 1839, кн. I, с. 4) и «Перламутровые зубки, беломраморная грудь…» (из пьесы Ф. А. Кони «Архип Осипов, или Русская крепость» (1841) — см.: Театр Ф. А. Кони, т. I. СПб., 1870, с. 100).
…метался как больной. — Реминисценция из «Медного всадника» Пушкина: «Нева металась как больной…» (часть первая).
Колизей — грандиозный амфитеатр в Риме, построенный в I в.
…зачем не утонул я в Лиговском канале? — По приказу Петра I в 1718 г. от речки Лиговки был прорыт двадцативерстный канал для того, чтобы обеспечить водой фонтаны Летнего сада (Пушкарев, т. I, с. 28). Он находился вблизи мест, где Некрасов поселил своего героя Заедина. Ныне канал не существует.
Несчастный, пиши антикритику ~ люди не без имени! — Возможно, в этом эпизоде и далее (см. с. 122: Издал стихи, плоды вдохновения, порывы к небу, — и меня столкнули в грязь!) комически отразился литературный дебют Некрасова — автора поэтического сборника «Мечты и звуки» (1840) (см. выше, с. 543, рассказ «Без вести пропавший пиита» и комментарий к нему). Кроме того, здесь Некрасов дает ироническую, выдержанную в духе расхожих суждений времени характеристику современной ему литературной критики и антикритики (ср. написанное отнюдь не в юмористическом тоне сочинение Л. Бранта «Опыт библиографического обозрения, или Очерк последнего полугодия русской литературы, с октября 1841 по апрель 1842», СПб., 1842). Брант так определяет свое время: «Для многих авторов, целые годы трудившихся, — может быть, совершенно бескорыстно, с теплой мученической любовью к предмету, — время тяжкого испытания, неумолимых приговоров — справедливых или несправедливых, это другой вопрос, — приговоров, иногда уничтожающих во прах бедное детище ума, чувств и воображения, — приговоров, охлаждающих благороднейшие стремления <…> ни слова уже о надеждах, обманутых, поруганных» (с. 1). Литературный критик для него — «это червь, все подтачивающий и ничему не приносящий пользы; это мокрая черная краска, которая все пачкает и ничего но подкрашивает; это создание, которого пользу и назначение неприятно разгадывать» (с. 16), это «присяжный оценщик» (с. 19).
…как музыка «Роберта-Дьявола»… — Речь идет об опере Дж. Мейорбера (наст. имя и фамилия Якоб Либман Вер; 1791–1864) «Роберт-Дьявол» (1831; либретто Э. Скриба). П. П. Ершов посвятил этой опоре стихотворение «Музыка» (БдЧ, 1840, т. 40);
Как небо южного восхода, Волшебный храм горит в огнях. Бегут, спешат толпы народа — «Роберт! Роберт!» у всех в устах… <. > Вот подан знак. Как моря волны, Как голос мрака гробовой, Звук Мейербера, тайны полный, Прошел над внемлющей толпой…Качуча — испанский народный танец (с кастаньетами), В 1840-1850-е гг. часто исполнялся на театральных сценах Петербурга (М. Тальоии, Ф. Эльслер и др.). Об исполнении Ф. Эльслер качучи см.: наст. изд., т, VI, с. 671.
Жизнь — на что ты дана мне? — возможно, отголосок строк Пушкина (ср. стихотворение «Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана?…»; 1828).
…он был на Исакиевским мосту. — Исаакиевский мост — разводной, составленный из плашкоутов мост, находился напротив Петровской площади (ныне площадь Декабристов) и соединял Адмиралтейскую часть с Васильевским островом. Когда по Неве шел ладожский лед, езда по Исаакиевскому мосту прекращалась.
…быть слугою этой коварной индейки, судьбы! — «Судьба-индейка» — фразеологизм, имеющий тот же смысл, что и выражение «фортуна слепа». Ср. пословицу: «Жизнь копейка — судьба индейка», использованную также М. Ю. Лермонтовым в «Герое нашего времени»: «Натура — дура, судьба — индейка, а жизнь — копейка!» (Лермонтов, т. VI, с. 329).
Повытчик — судебный чиновник.
Статский советник — чиновник пятого класса.
…имеет Анну на шее… — Как статский советник Зрелов мог иметь орден св. Анны 2-й степени, носимый на шее.
Ланскнехт — старинная карточная игра.
Груды золота лежали на столе и переходили от одного к другому. — Ср. в «Пиковой даме» Пушкина: «…ему пригрезились карты, зеленый стол, кипы ассигнаций и груды червонцев» (Пушкин, т. VIII, с. 236).
Ростовщик*
Печатается по тексту первой публикации.
Впервые опубликовано: ЛГ, 1841, 1 и 4 марта, № 25 и 26, с. 97–104, с подзаголовком: «Рассказ Н. Перепельского».
В собрание сочинений впервые включено: ПСС, т. V.
Автограф не найден.
Сюжет, положенный в основу рассказа, — история потерянного (пропавшего) и случайно найденного ребенка. Сюжет этот, известный с древнейших времен, был особенно популярен в литературе романтизма. Некрасов неоднократно использовал его в начале 1840-х гг.: «Сказка о царевне Ясносвете» (1840), «Жизнь Александры Ивановны» (1841), отчасти «Повесть о бедном Климе» (1843). В. Е. Евгеньев-Максимов отмечал: «Образ ростовщика, открывающий длинную галерею подобных же образов в творчестве Некрасова, производит яркое и сугубо отталкивающее впечатление. Чувствуется, что за ним стоит живая натура. Ведь Некрасову тех лет не привыкать стать было пользоваться услугами ростовщиков» (Евгеньев-Максимов, т. I, с. 269). Литературный источник «Ростовщика» — роман Ч. Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби» (рус. пер. — 1840) — установил М. М. Гин (см.: Гин М. М. Диккенсовский сюжет у Некрасова. — В кн.: Страницы истории русской литературы. М., 1971, с. 136–139). Дальнейшую разработку сюжет о ростовщике, разорившем и погубившем своего единственного сына, получил в романе Н. А. Некрасова и А. Я. Панаевой (Н. Станицкого) «Три страша света» (1848–1849). В комедийном плане тема взаимоотношений ростовщика с дочерью раскрыта в водевиле Некрасона «Петербургский ростовщик» (1844).
…книга о переложении ассигнаций на серебро… — В 1841 г. вышли книга У. Карновича «Карманная книжка для скорейшего расчета ассигнаций на серебро, монеты золотой, билетов депозитных и всех российских и иностранных монет на серебро и ассигнации, от полукопейки до миллиона рублей» (четвертым изданием), «Карманные таблицы для легкого переложения и расчета ассигнаций на серебро и серебра на ассигнации…», составленные Щ., «Памятная книжка для бумажника» и другие справочники. Они были необходимы, так как курс ассигнационного (бумажного) рубля колебался. К 1843 г., когда проводилась денежная реформа и ассигнации заменялись кредитными билетами, ассигнационный рубль соответствовал 27 1/2 коп. серебром.
…шинелью горохового цвета… — Фразеологизм «гороховое пальто» иносказательно обозначал лицо, связанное с полицией. Упоминание шинели горохового цвета здесь, возможно, указывает на то, что ростовщик был мелким сыщиком. Ср. у Салтыкова-Щедрина в «Современной идиллии»: «- Извольте повторить, что вы сказали! — Мы обернулись: в дверях стояло гороховое пальто. <…> В одну секунду мы потушили свечу и, шмыгнув мимо непрошеного гостя, очутились на улице» (Салтыков-Щедрин, XV, с. 180).
…медвежьи галоши… — обувь, надеваемая поверх башмаков или сапог от холода, сырости или грязи. В XIX в., до появления резиновых галош, их шили из кожи.
…до чина титулярного советника. — Титулярный советник — чиновник 9 класса по действовавшей в дореволюционной России петровской табели о рангах.
Франц был бледен как полотно… — Поспешность (или небрежность) автора при работе над рассказом проявилась в том, что в газетной публикации герой здесь назван не Францем, а Фрицем (исправлено в настоящем издании).
…я буду платить кормовые деньги. — См. комментарий на с. 547.
…не делаю фальшивых депозитных билетов… — Депозитный билет — бумажный денежный знак, размен которого на звонкую монету обеспечивался особым металлическим фондом.
…чиновника 9 класса… — т. е. титулярного советника (см. выше).
Капитан Кук*
Печатается по тексту первой публикации.
Впервые опубликовано: ЛГ, 1841, 19 апр., № 42, с. 165–168, с подписью: «Наум Перепельский».
В собрание сочинений впервые включено: ПСС, т. V.
Автограф не найден.
Рассказ «Капитан Кук» продолжает тему ростовщичества в творчестве Некрасова. Исследователи его прозы (В. Е. Евгеньев-Максимов, А. Н. Зимина, А. Ф. Крошкин) отмечали юмористически затейливый тон, вычурные каламбуры, водевильную искусственность сюжетных ситуаций, что значительно снижает социальное звучание произведения.
С. 146. …капитан… Кук… — Джеймс Кук (1728–1779), знаменитый английский мореплаватель, совершивший три кругосветных плавания, открывший Новую Зеландию и ряд островов в Тихом океане. Погиб во время экспедиции на Гавайские острова. В России сочинения Кука и книги о нем переводились с конца XVIII в. Наиболее близко ко времени написания рассказа Некрасова «Всеобщее путешествие вокруг света, содержащее извлечения из путешествий известнейших доныне мореплавателей, как-то: Магаллана, Тасмана, Дампиера, Ансона, Байрона, Валлиса, Картерета, Бугенвиля, Кука, Лаперуза <…> и многих других, составленное Дюмон-Дюрвилем, капитаном французского флота…» (М., 1835–1838), в переводе Н. А. Полевого, с портретом Кука, приложенным к изданию, которое получило положительную оценку Белинского (Белинский, т. II, с. 68–70; 120–121); параллельно в Петербурге А. А. Плюшаром издавался другой перевод того же сочинения. В беллетристике того времени имя Кука встречается чаще всего в юмористическом контексте. Так, входящий в «Записки одного молодого человека» (1840) журнал «Патриархальные нравы города Малинова» А. И. Герцен посвящает «памяти Кука и его (вероятно) превосходительству Дюмон-д'Юрвилю, capitaine de vaisseau <капитану первого ранга — франц.>» (Герцен, т. I, с. 287). Упоминается Кук и в повести Е. П. Гребенки «Перстень» (ЛГ, 1841, 25 янв., № 11), в «Селе Степанчикове и его обитателях» Достоевского (1859; Достоевский, т. III, с. 24) и др. Использование этого исторического имени Некрасовым носит каламбурный характер.
Полуштоф — четырехгранный стеклянный сосуд с коротким горлышком, вмещающий полштофа. Штоф — старая русская мера жидкости (обычно вина, водки), равная 1/8 или 1/10 ведра.
Представлен к первому чину. — Вероятно, к чину коллежского регистратора.
…чтоб я был у вас посаженым отцом… — Посаженый отец — заменяющий родителя жениха или невесты на свадьбе.
Где же ты, младость удалая? — восклицание, напоминающее по содержанию многие русские песни, романсы и куплеты. Ср., например: «Ах ты, молодость разудалая! Ах ты, жизнь моя горемычная!» (1844; см.: Григорьев П. И. Дочь русского актера. — В кн.: Театр П. И. Григорьева, т. IV. СПб.-М., 1869); «Ах! ты молодость, моя молодость, ты разгульная и веселая!» (<1796>; см.: Вельяминов П. Л. Ох! вы славные русски кислы щи… — В кн.: Песни и романсы русских поэтов. М.-Л., 1963, с. 172); «Ах, молодость, молодость! Весна моя красная! Ты когда, когда прошла, когда прокатилася?» (неизвестных лет, автор — Н. Г. Цыганов; там же, с. 459); «Где вы, где вы, дни разгульные, Дни былые — весна красная?.. Не видать вас больше молодцу, не нажить ему прошедшего!» (<1833>, «Предчувствие» А. В. Тимофеева; там же, с. 525) и др.
…прибавления к «Губернским ведомостям»… — В 1837 г. был принят закон о повсеместном издании губернских и областных ведомостей, при некоторых «Ведомостях» выходили особые приложения (Лисовский П. М. Библиография русской периодической печати 1703–1900 гг., т. I. Пгр., 1915, с. 94).
Капитан… чин еще, так столбовой буду! — Столбовой — потомственный дворянин. В то время право потомственного дворянства в военной службе давал чин полковника.
…читаю «Северную пчелу»… — См. комментарий на с. 550–551.
…какой гриб съел капитан… — Съесть гриб (идиома) — не получить, не добиться ожидаемого, обмануться.
…ручка… была причиною прыщей, о которых будет говорено впоследствии. — Впоследствии об этом в рассказе не говорится.
Дом надворной советницы… — Надворная советница — вдова надворного советника, чиновника седьмого класса.
— Крови, Степка, крови! — Пародируется возглас Отелло из одноименной трагедии Шекспира: «О, крови, Яго! Крови!» (в переводе И. И. Панаева; 1836). И. И. Панаев вспоминал, что вместо этой фразы знаменитый трагик В. А. Каратыгин произносил: «Крови, Яго, крови жажду я». «Ему казалось, что прибавление слов жажду я придавало большой эффект его реплике и поэтому было необходимо. В противном его нельзя было уверить» (Панаев И. И. Литературные воспоминания. <Л.>, 1950, с. 368). Некрасов неоднократно иронически обыгрывал эту реплику — ср. рецензию на «Мозаистов» Ж. Санд: «Ни одного убийства; ни одного стакана крови» (1841; ПСС, т. IX, с. 11; указано В. А. Егоровым); «Повесть о бедном Климе»: «„Крови, крови!“ — готов был <он> воскликнуть и, подобно дикому мавру, вонзить кинжал в грудь целого мира…» (1843; наст. над., т. VIII); рассказ «Новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и Ко»: «И, грозно молвив: „Крови! крови!..“» (1850; пародии «Ассан сидел, нахмуря брови…» — см. выше, с. 388).
Погибну я, как пламень дымный, Среди полей, среди глуши! — вероятно, пародийные строки, написанные самим Некрасовым.
…ни на земле, ни под землею! — отголосок заключительной строки: «И да земле и под землей» — стихотворения В. Г. Бенедиктова «Пещеры. Кизиль-Коба» из цикла «Путевые заметки и впечатления (в Крыму)» (<1839>) (в кн.: Бенедиктов В. Стихотворения, т. II. СПб., 1856, с. 74).
…где встречаются души любящие и страдающие ~ Там ты найдешь ее! — Тема встречи душ любящих в загробном мире была широко распространена в поэзия и прозе 1830-х гг. Некрасов отдал ей дань в первом своем сборнике (см. стихотворение «Встреча душ» и комментарий к нему: наст. изд., т. I, с. 206–208, 650–651). Но уже в 1841 г. она получает у него ироническое освещение — ср., например, отзыв на повесть К. П. Масальского «Осада Углича» (ПСС, т. IX, с. 21; указано В. А. Егоровым) и рассказ «Несчастливец в любви…» (см. выше, с. 198).
Ужели вечно будем мы бездомны! — каламбур, обыгрывающий имя героини.
…любовь без штрифок!.. — Штрифка (штрипка) — тесьма, пришитая снизу к штанинам брюк и продеваемая под ступню или под обувь.
…с плисовым воротником… — Плис — хлопчатобумажный бархат.
…триковые ноги — т. е. ноги в брюках из ткани трико.
Мрачен и дик сидел капитан, за завтраком ~ его внимания. — Ср. начало главы первой. Начало третьей главы совпадает с началом заключительной подглавки.
Карета*
Печатается по тексту первой публикации.
Впервые опубликовано: ЛГ, 1841, 3 июня, № 60, с. 237–239, с подписью: «П. Перепельский».
В собрание сочинений впервые включено: ПСС, т. V.
Автограф не найден.
В. Е. Евгеньев-Максимов считал этот рассказ одним из наиболее интересных в ранней беллетристике Некрасова и находил в нем общео с «Записками сумасшедшего» Гоголя; подзаголовок «Предсмертные записки дурака» соотносим с названием у Гоголя, в развитии сюжетов обоих рассказов существенную роль играет сцена уличной встречи с любимой девушкой, сходны мысли героев об общественном неравенстве (Евгеньев-Максимов, т. I, с. 270–272). А. Н. Зимина писала о том, что чувства, которые переживает герой «Кареты», Некрасов впоследствии запечатлел в стихотворении «Пьяница» (1845) (Зимина, с. 173). Евгеньев-Максимов, возражая Зиминой, утверждал, что большие основания для сопоставления дает известное стихотворение Н. Л. Добролюбова «Когда среди зимы холодной…» (1856; Добролюбов, т. VIII, с. 44). В целом рассказ рассчитан на комическое впечатление: «…и хотя там, где говорится о лишениях героя, автор преисполнен явного сочувствия к нему, однако в основной части рассказа, где речь идет о безумном стремлении героя „пятнать грязью человечество“, преобладает некрасовская ирония» (Крошкин, с. 46).
…макасарскому маслу их уже не вырастить! — Макасарское масло — средство для ращения волос, введенное англичанином Роуландом.
Есть люди, которые завидуют ~ Шекспиру и Брамбеусу, Крезу и Синебрюхову; есть другие, которые завидуют Палемону и Бавкиде, Петрарку и Лауре, Петру и Ивану, Станиславу и Анне ~ Манфреду и Фаусту… — комический перечень имен. О Брамбеусе см. комментарий на с. 539. Крез (ок. 560–546 до н. э.) — царь Лидии, по древнегреческому преданию, обладавший несметными богатствами. Имя его превратилось в нарицательное для обозначения богача. Синебрюхов — купеческая фамилия. Палемон (Филемон) и Бавкида — герои обработанного, Овидием в «Метаморфозах» древнегреческого мифа, стали синонимом неразлучной четы престарелых супругов. Петрарка (1304–1374) — знаменитый итальянский поэт-гуманист, его сонеты к Лауре — бессмертный образец любовной лирики. Станислав и Анна — русские ордена (по именам святых), орден Станислава был трех степеней (по убывающей), Анны — четырех. Манфред — герой одноименной драматической поамы Байрона. Фауст — герой народного предания и одноименной философской поэмы Гете.
…зависть ~ читающую «Русский инвалид»… — «Русский инвалид, или Военные ведомости» — официальная газета, издававшаяся с 1813 г. П. П. Пезаровиусом, в которой печатались приказы по армии, в том числе приказы о награждениях и повышениях.
…от благородных, но бедных родителей. — Словосочетание, часто употреблявшееся в ироническом значении в литературе того времени. Ср., например, в повести И. И. Панаева «Актеон» (1841): «Волнение Прасковьи Павловны было так велико, что находившаяся при ней с незапамятных времен девушка-сирота лет тридцати шести, дочь бедных, но благородных родителей, в испуге бросилась к Антону и закричала…» (Панаев И. И. Полн. собр. соч., т. II. СПб., 1888, с. 157).
«Сколько людей ездят в каретах!.. — Историк Петербурга И. Пушкарев в 1841 г. писал: „Роскошь экипажей с каждым годом усиливается приметно. Лет за 20 назад можно было перечесть здесь все отличные кареты, коляски и всех дорогих лошадей, которые тогда принадлежали исключительно одним только людям из высшего сословия или первостатейным гражданам. Ныне совсем не то: иметь своих лошадей, коляску, дрожки, карету сделалось необходимости“) почти каждого коренного обывателя Петербурга, несколько побогаче, посметливее другого. Редкий портной и каретник не содержит теперь по четыре и пяти лошадей с экипажами и парадными и вседневными. Пока ремесленник на паре лихих бегунов в пролетных дрожках разъезжает со счетами по городу к своим должникам, жена ого посещает в кабриолете модные магазины, для уплаты старых долгов и для новых заказов. Вечером, в хорошую летнюю погоду, все семейство в прекрасной карете отправляется гулять на острова. Таков быт и потребности житейские ремесленника; что же делать высшему сословию, которое из приличия должно превосходить низшее в предметах внешней роскоши. По достоверным сведениям полиции, всех карет считалось в Петербурге в 1840 году 3 835, колясок 3 442, дрожек 10 533, саней 12 187, едва ли только половина из них извозчичьих, последние принадлежат благородному сословию и ремесленникам! После этого можно ли удивляться дороговизне работы здесь экипажей. Простые, или так называемые пролетные, дрожки стоят от 700 до 1 200 руб. ассиг., коляска самая обыкновенная — 2 000 руб. ассигн., а отличная карета дороже иногда двухэтажного дома в Симбирске» (Пушкарев, т. III, с. 35–36). Тема кареты — признака благополучия, знатности и богатства — обыгрывается в водевиле Ф. А. Кони «Карета, или По платью встречают, по уму провожают» (1836). Заключительные куплеты этого водевиля:
Поглядишь, на белом свете Уж куда народ смешной! Тот уважен, кто в карете Разъезжает четверней…(Театр Ф. А. Кони, т. IV. СПб. — М., 1872, с. 47).
…как шильонский узник… — Шильонский узник — герой одноименной поэмы Байрона, в 1822 г. переведенной на русский язык В. А. Жуковским.
…проклинал, как Байрон… — Романтические мотивы проклятий миру, свету, людям, деньгам часты в поэзии Байрона (см., например, «Дон-Жуан», песнь третья, строфа 55; песнь шестая, строфы 22–23 и др.).
Латинская грамматика Цумпта… — «Латинская грамматика, составленная по Цумпту Д. Поповым, бывшим профессором греческой словесности в С.-Петербургском университете» (СПб., 1839, 860 с.), к тому времени наиболее полная латинская грамматика на русском языке.
Жизнь Александры Ивановны*
Печатается по тексту первой публикации.
Впервые опубликовано: Л Г, 1841, 29 июля, № 84, с. 333–335; 31 июля, № 85, с. 337–340; 2 авг., № 86, с. 341–344; 5 авг., № 87, с. 345–348, с подзаголовком: «Соч. Н. Перепельского».
В собранно сочинений впервые включено; ПСС, т. V.
Автограф не найден,
В повести «Жизнь Александры Ивановны» Некрасов впервые затрагивает проблему положения женщины, изображает ее стремление к независимости, к самостоятельному труду. О героине повести В. Е. Евгеньев-Максимов писал: «Александра Ивановна в глазах общества если не падшая, то опозоренная женщина. Считая себя таковой, она предпочитает умереть от непосильной работы, чем принимать помощь от своей благодетельницы, перед которой она чувствует себя бесконечно виноватой. Однако если говорить по существу, то в моральном отношении она неизмеримо выше и своего соблазнителя, и беспощадно эксплуатирующей ее старухи-мачехи. К этому выводу приводит все содержание повести, в которой Некрасов впервые выступает в роли певца женщины и ее несчастной доли. В рассказе Александры Ивановны об ее жизни в доме ее благодетельницы графини и о том, как резко изменилась ее судьба после отъезда графини за границу, есть черты, позволяющие усмотреть некоторое сюжетное сходство со стихотворением „В дороге“. И там и здесь крепостную девушку воспитывают в барском доме, и там и здесь после смерти ли барина (уж не отец ли он героини?), после отъезда ли барыни (уж не мать ли она героини?) ее возвращают в прежнее состояние. В конечном результате и в том и в другом случае героини гибнут, хотя причины их гибели и неодинаковы» (Евгеньев-Максимов, т. I, с. 270). А. Н. Зимина сопоставила заключительные слова повести с концовками некоторых гоголевских повестей, заметив, что их роднит грустный лиризм автора (Зимина, с. 172).
С. 164. …у английского магазина… — Английский магазин — один из лучших в Петербурге универсальных магазинов. Особенно славился шелковыми, бумажными и шерстяными изделиями, принадлежал Никольсу и Плинке, помещался в нижнем этаже дома Васильчикова (Невский пр., 16) (см.: Нистрем К. М. Книга адресов С.-Петербурга на 1837 год… СПб., 1837, с. 1456).
С. 164. …на Английскую набережную. — Английская набережная — район аристократических особняков, ныне набережная Красного флота.
С. 165. …швейцар с огромной гетманской булавою. — В парадную форму швейцаров, стоявших у входа в крупные учреждения и частные аристократические дома, входила и булава — длинная палка с шаровидным набалдашником. Ср. в поэме «Кому на Руси жить хорошо»: «Надел ливрею шитую, Взял в руки булаву…» (наст. изд., т. V, с. 180).
С. 166. …в Грязной. — Грязная — ныне улица Марата.
С. 168. …на Исакиевской площади около балаганов… — На пространстве от Главного Штаба до Исаакиевского собора, перед Адмиралтейством (на Адмиралтейской площади), два раза в году, на пасху и на масленицу, устраивались народные гулянья, которые длились неделю. Современник Некрасова И. Пушкарев так их описал: «…К этому времени Адмиралтейская площадь застраивается горами, качелями, балаганами. Настанет праздник, и здесь со всех, сторон раздается шумная музыка, слышится говор, смех, пение, визг, хохот, и длинные ряды экипажей, зимних и летних, тянутся вокруг гор. Странно, что постройка балаганов на площади производится всякий год в одном и том же виде, по тем же планам, с прежними фасадами. Также и репертуар балаганов почти без изменений каждый год один и тот же. Легат, Готье, общества волтижеров: Роббы, Клейшнека, Мекгольд со своею ученою корсиканскою лошадкою, кукольный театр, несколько геркулесов и другие банкисты — повторяют всякой год свои представления. Однако же, несмотря на это, гулянье на Адмиралтейской площади, среди балаганов, гор и качелей, всегда многочисленнее прочих гульбищ в Петербурге, особенно если благоприятствует погода» (Пушкарев, т. III, с. 188).
…не Исакиевский мост… — См. комментарий на с. 554.
…в дальней линии Васильевского острова за Средним проспектом… — т. е. на окраине Петербурга.
…даже позволяла мне часто по целым дням проводить вместе с ее дочерью… — Вероятно, поспешностью (или небрежностью) автора следует объяснить логическое противоречие этого замечания героини и признания графини: «детей у меня нет» (см. выше, с. 186).
…без штрипок… — См. комментарий на с. 558.
…у камергера… — Почетное придворное звание камергера могли получить гражданские чиновники, дослужившиеся до V–III класса.
…помахивая палкой из королевского дерева с костяным набалдашником, изображающим голову китайского мандарина пятой степени. — Королевское дерево — торговое название древесины, привозимой из Индии. Из этой древесины, очень плотной и тяжелой, часто изготавливали палки для зонтиков и тросточек. Мандарин (от португальского mandar — командовать) — европейское обозначение китайского чиновника. Гражданские чиновники в Китае разделялись на девять классов, военные — на семь. Каждый класс имел отличительные шарики на шапках, вышитое изображение птицы (у гражданских) или животного (у военных).
Саперлот (от нем. Sackerlot (Sapperlot)) — восклицание, подобное русскому «Черт возьми!».
…я он и пырь мне навстречу… — Пырь (устар.) — междометие от глагола пырять, обозначающее внезапное действие.
Дрожки — легкий открытый двухместный экипаж на рессорах. В 1841 г. «Северная пчела» писала: «Горе тому, кто должен разъезжать на наших извозчиках! Ведь извозчичьи лошади решительно разбиты или запалены и едва влекутся. Извозчичьи дрожки тряски, хуже лихорадки, и притом так коротки, что вас беспрестанно бьет по носу огромным извозчичьим помором, скажите, пожалуйста, что это за публичный экипаж, который по защищает вас ни от пыли, ни от грязи, ни от солнца? А как дороги извозчики летом! Ужас!» (СП, 1841, № 96).
— На Петербургскую сторону. — Петербургскую (ныне Петроградскую) и Выборгскую стороны современный Некрасову историк Петербурга И. Пушкарев называл «предместьями столицы»: «Пустынные зимою, они оживают лишь летом, когда жители из центра города переезжают на дачи <…> В образе жизни, даже в самых нравах, привычках, увеселениях, обитатели Петербургской, Выборгской частей сохраняют провинциальную незатейливость, добродушие, простоту в наружном обхождении и гостеприимство — резкие противоположности с характером жителей в центре столицы» (Пушкарев, т. I, с. 77).
— К Карповке. — Карповка — река в Петербурге.
Ни на земле, ни под землею… — См. комментарий на С. 558.
…в печурке сереньки… — Сереньки (серенки) — спички.
…драдедамовый выношенный салоп… — Драдедам (от франц. drap do dames) — топкое (дамское) сукно. Салоп — верхняя женская одежда в виде широкой накидки с пелериной и прорезями для рук или небольшими рукавами.
Опомнясь — недавно, несколько дней тому назад.
— Дочь моя! — воскликнула Александра Ивановна… — О мотиве тайны, окутывающей рождение ребенка, см. комментарий на с. 555.
…в сером армяке… — Армяк — крестьянская верхняя распашная одежда из толстого сукна в виде халата или прямого кафтана.
…по замысловатому предположению одного китайского студента… — О значении эпитета «китайский» см. комментарий на с. 552.
…время разведения мостов… — Существовавшие тогда плашкоутные мосты при появлении льда осенью и по вскрытии рек весною разводились на несколько дней и заменялись на это время перевозом.
…к церкви Спаса в Бочарной?.. — Спасо-Бочаринская церковь, она же Тихвинская, Происхождения Честных древ (или Древ животворящего креста господня), находилась на пересечении Бочарной улицы (к 1863 г. переименована в Симбирскую, ныне улица Комсомола) и Воскресенского проспекта (ныне проспект Чернышевского).
…в зеленой венгерке… — Венгерка — куртка с нашитыми поперечными шнурами по образцу формы венгерских гусар.
…к Воскресенскому мосту подъехала коляска. — Воскресенский мост — разводной плашкоутный мост через Неву, соединявший Литейную часть города с Выборгской стороной (находился выше современного Литейного моста).
Охтинское кладбище — одно из самых старинных небогатых петербургских кладбищ.
Несчастливец в любви, или чудные любовные похождения русского Грациозо*
Печатается по тексту первой публикации.
Впервые опубликовано: П, 1841, кн. 5, с. 69–82, без подписи, в оглавлении: «Рассказ ***».
В собрание сочинений впервые включено: ПСС, т. V.
Автограф не найден.
Авторство Некрасова установлено на основании его письма от 18 июля 1841 г. к Ф. А. Кони, где он сообщал: «Оригинал для пятой книжки мною подобран и приготовлен. Сверх того, в нем пойдет моя повесть, которая будет более печатного листа…» (ПСС, т. IX, с. 22). Единственная повесть, напечатанная в № 5 «Пантеона», — «Несчастливец в любви…», объем ее соответствует указанному в письме.
В. Е. Евгеньев-Максимов, анализируя этот рассказ в ряду произведений Некрасова о неудачниках, отмечал, однако, что он«…почти лишен социальной тенденции. Только первая неудача героя в любви явилась следствием его бедности…» (Евгеньев-Максимов, т. I, с. 272).
Нарочито ироническая интонация «Несчастливца в любви…», громоздкое заглавие, композиция, представляющая собой цепь отдельных новелл, позволяют рассматривать это произведение как пародийное по отношению к жанру авантюрной повести XVIII — начала XIX в.
Грациозо (Gracioso) — прозвище комического персонажа испанской комедия, хитрого, забавного, притворно наивного (в нарицательном употреблении — шут, весельчак).
Панар — Шарль Франсуа Панар (1694–1765) — французский лирик, автор многочисленных песен, а также эпиграмм, комедий, водевилей и комических опер.
…губернский секретарь… — чиновник двенадцатого класса.
…люби меня идеально и не теряй надежды на соединение если не тут, то там!.. — См. комментарий на с. 558.
…перед брачным налоем… — Налой (или аналой) — в православной церкви высокий покатый столик для книг и икон, перед которым совершался свадебный обряд.
Томский (имя моего друга)… — Вероятно, имя друга главного героя выбрано не без влияния повести Пушкина «Пиковая дама».
…он был ~ рыцарем зеленого поля… — т. е. игроком в карты.
…я был уже прикован к ней неразрывной цепью страсти… — автопародийная реминисценция из стихотворения «Признание» (МиЗ): «Я навек к тебе прикован Цепью страсти роковой» (наст. изд., т. I, с. 266; указано в статье: Вацуро В. Э. Некрасов и К. А. Данненберг. — РЛ, 1976, № 1, с. 140).
Вы не поверите, если я скажу вам, что платок был причиною нового и едва ли не величайшего несчастия в моей жизни… — Вероятно, в пародийно-сниженном тоне Некрасов обыгрывает здесь деталь (платок), давшую развитие трагическому сюжету в драме Шекспира «Отелло».
…стремглав кидался на своем бегуне с утесов в ярящиеся волны Терека… — травестирование сцены, популярной в романтической литературе 1830-х гг.: прыжок всадника на коне со скалы в бурную реку (Вацуро В. Э. Некрасов и К. А. Данненберг, с. 139).
…я решился ~ полюбить дикарку… — В последней главке рассказа дается как бы ироническая вариация сюжета повести М. Ю. Лермонтова «Бэла».
Опытная женщина. Повесть из провинциального быта*
Печатается по тексту первой публикации.
Впервые опубликовано: ОЗ, 1841, № 9, с. 311–345, с подписью: «Н. Некрасов».
В собранно сочинений впервые включено: ПСС, т. V.
Автограф не найден.
25 ноября 1841 г. Некрасов сообщил Ф. А. Кони: «Я послал Краевскому „Опыт<ную> женщ<ину>“, а денег за нее просить совещусь, потому что предварительно об этом не говорил… Не знаю, как он об этом думает».
А. Н. Зимина отнесла «Опытную женщину» к распространенным в 1840-1850-х гг. повестям о «хлыщах» и сравнила это произведение с повестью И. И. Панаева «Львы в провинции» (1852), подчеркнув, что у Некрасова сюжет разворачивается не в морализующем, а в ироническом плане (Зимина, с. 172). Такое сопоставление вызвало возражения В. Е. Евгеньева-Максимова, который считал, что в этой повести юмористически описано провинциальное помещичье общество, «но сатирические ноты звучат еще очень слабо» (Евгеньев-Максимов, т. I, с. 274). Образ Зеницына рассматривался и как попытка Некрасова изобразить положительного героя, однако при этом отмечалось, что «повести вредят натяжки при обрисовке психологических состояний героев, не вполне удачные мотивировки их поступков» (Крошкин А. Ф. Художественная проза Некрасова 1840-х годов. Автореф. канд. дне. М., 1956, с. 8).
Ф. Менцов упомянул это произведение в своем «Обозрении русских газет и журналов за четвертое трехмесячие 1841 года» (Журнал Министерства народного просвещения, 1842, № 5, отд. VI, с. 129).
«Месяцеслов» — календарь.
…до показания годовых праздников и табельных дней. — Годовые праздники — церковные праздники, табельные дни — дни, включенные в табель о праздниках (церковных, государственных, дней рождения царствующих особ) и свободные от службы, учения и т. п.
Андрей Матвеевич не льстил Черницкому. — В тексте первой публикации Черницкий здесь назван Чорницыным (исправлено в настоящем издании).
…«с ученым видом знатока»… — цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (глава 1, строфа V).
Вот только что вышедшая в переводе драма Шекспира «Ромео и Юлия»… — Пьеса Шекспира «Ромео и Джульетта» в переводе М. Н. Каткова под заглавием «Ромео и Юлия» была опубликована в «Пантеоне русского и всех европейских театров» (1841, кн. I, с. 3–64).
Отставной стряпчий, закоренелый подьячий… — Стряпчий — чиновник по судебным делам, подьячий — писец и делопроизводитель в канцелярии. Говорящая фамилия «Бралов», упоминание о «длинных руках» — намеки на взяточничество как устойчивую черту в характеристике подьячих (ср., например, рассказ А. В. Тимофеева «Мой демон»: «Известное дело, чему быть в черепе подьячего, кроме взяток и законов!» (1833; Тимофеев А. Соч. в стихах и прозе. Опыты, ч. 3. СПб., 1837, с. 72–73); см. также стихотворный фельетон Некрасова «Провинциальный подьячий в Петербурге» (1840; наст. изд., т. I, с. 282–291).
…нашему исправнику?.. — Исправник — начальник уездной полиции.
…выпивать по рюмке ерофеичу… — Ерофеич — водка, настоянная на разных пахучих травах.
— Ты думаешь? — перебил Зеницын. — В тексте первой публикации Зевицын здесь (а также ниже: Зеницын задумался.) назван Зеницким. В настоящем издании эта небрежность исправлена. Заметим, что имя Зеницкий носит герой повести В. Несторенко «Мщение женщины» (ЛГ, 1842, 3 мая, № 48).
…для села Вахрушова. — Село Вахрушово упоминается также в пародии Некрасова «Карп Пантелеич и Степанида Кондратьсвна» (1844) (см.: наст. изд., т. I, с. 440).
…вышел в отставку надворным советником… — См. комментарий на с. 550.
…«О, говори, говори, ангел блистательный!» — Эта и другие реплики из драмы Шекспира, приводимые в тексте повести, не имеют точного соответствия переводу М. Н. Каткова.
— Фабры, фабры!.. — Фабра — косметический состав для окраски в черный цвет бороды и усов, а также для придания усам определенной формы.
…точно у Казимода! — Квазимодо — герой романа В. Гюго «Собор Парижской богоматери», имя его стало нарицательным для обозначения физического уродства.
— О, решайте же скорей мою участь… Или умертвите презрением, или подарите любовию!.. — В переводе М. Н. Каткова наиболее соответствуют этим словам следующие стихи (д. II, явл. 2):
Но ежели твоей любовью я Не овладел — то пусть меня найдут: Мне лучше смерть от их мечей, чем жизнь, Лишенная твоей любви!(П. 1841, М 1, с. 20).
…а теперь мне некогда: я пойду в тюрьму подышать свежим воздухом… — Возможно, отголосок реплики Гамлета из одноименной трагедии Шекспира (д. II, явл. 1) в переводе Н. А. Полевого (1837): «Свет просто тюрьма с равными перегородками и отделениями. Дания самое гадкое отделение» (Драматические сочинения и переводы Н. А. Полевого, т. III. СПб., 1843, с. 82).
…точно картинка суздальской живописи. — Имеются в виду аляповатые дешевые иконы суздальских ремесленников.
Да ты настоящий Тальма! — Франсуа Жозеф Тальма (1763–1826) — выдающийся французский актер-трагик эпохи классицизма.
…помни разборчивую невесту. — «Разборчивая невеста» (1806) — басня И. А. Крылова.
…приковать его к себе навеки цепями любви… — См. комментарий на с. 564.
Ему хочется в елисейские… — Идиома: он хочет умереть. Елисейские поля (или Элизий) — блаженная страна (или острова) счастья, куда боги переносят после смерти избранных героев (ср., например, стихотворение Е. А. Баратынского «Элизийские поля» (1824), а также повесть А. А. Бестужева-Марлинского «Испытание»: «…уверен ли ты, что супруг ее убрался в елисейские?» — Бестужев-Марлинский А, А. Соч., т. I. М., 1958, с. 176).
В Сардинии*
Печатается по тексту первой публикации.
Впервые опубликовано: ЛГ, 1842, 8 марта, № 10, с. 193–208, с подзаголовком: «Повесть Н. А. Перопельского».
В собрание сочинений впервые включено: ПСС, т. V.
Автограф не найден.
В 1830-1840-е гг. испанская тема была модной в русской романтической литературе. О «стране кинжальных и балконных страстей» и о самих испанцах, «неистовых и наивных детях южного солнца», писали штампами, пародированными позднее, в 1850-х гг., в стихах Козьмы Пруткова (см., например, «Желание быть испанцем» и «Осада Памбы» (1854)). Наводнившие журналы и альманахи конца 1830-начала 1840-х гг. повести и драмы, действие которых происходит в Италии или Испании, предопределили появление таких произведений Некрасова, как «Певица» и «В Сардинии». Смешение итальянских и испанских реалий нередко во многих этих сочинениях, встречается оно и в повести «В Сардинии» (подробнее об «испанской теме» в русской литературе см. в кн.: Алексеев М. П. Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI–XIX вв. Л., 1964, с. 167–185). Исследователи 1930-1940-х гг. (В. Е. Евгеньев-Максимов, А. Н. Зимина) но считали явно подражательную повесть «В Сардинии» характерной для раннего творчества Некрасова (Евгеньев-Максимов, т. I, с. 275; Зимина, с. 168). В статье «Некрасов и К. А. Данненберг» (РЛ, 1976, № 1, с. 131–144) В. Э. Вацуро называет ряд конкретных обстоятельств, непосредственно повлиявших на создание «испанских» повестей Некрасова. В их числе — литературные произведения и переводы кружка Н. А. Полевого, с которым Некрасов был тесно связан в конце 1830-х гг., замысел оперного либретто «Испанка» на музыку Данненберга (была ли эта работа осуществлена — неизвестно), впечатления от современного Некрасову музыкального театра. Сюжет повести «В Сардинии» В. Э. Вацуро связывает с оперой Обера «Фенелла» («Немая из Портачи», 1828), что подтверждается совпадением некоторых ситуаций и заимствованием имени Фиорелло. Назовем еще два произведения, наиболее созвучные повести Некрасова и близкие к ней по времени написания: «Низида» А. Дюма (пер. с франц. П. Пятерикова — М., 1841, № 8, с. 347–403) и поэма И. С. Тургенева «Стено» (1834). Несомненно также общее влияние романтических «итальянских» повестей А. В. Тимофеева, таких как «Калькано» (1831), «Тейфельсберг» (1834), «Преступление» (1835) и др. Сюжетный мотив безумной сословной и семейной гордости, вероятно, восходит к «Романсам о Сиде», известным Некрасову скорее всего в переводе М. Лихонина («Огорчен Лайнес Диего…» — М, 1841, № 11, с. 6–13; ранее были опубликованы переводы В. А. Жуковского (1831) и П. А. Катенина (1832)). Возможным отечественным источником, обнаруживающим совпадение с некрасовской повестью в указанном плане, следует считать главу X («Заморский принц») части IV романа В. Т. Нарежного «Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова» (1814). Но исключено также влияние на Некрасова повести Нарежного «Запорожец» (1824), действие одного из эпизодов которой разворачивается в Сардинии (наблюдение Н. Н. Пайкова).
Мотив потери или находки перстня как улики был также популярен в романтической литературе и литературе периода зарождения «натуральной школы». В 1840 г. в журнале «Отечественные записки» были опубликованы первые главы романа В. А. Соллогуба «Тарантас», одна из которых, «Перстень», сыграла впоследствии свою роль в творческой истории некрасовского стихотворения «Огородник» (1846) (см. об этом: Вацуро В. Э. Один из источников «Огородника». — Некр. сб., VII, с. 106–111). В 1841 г. появилось сразу несколько повестей с этим сюжетом: «Маргарита Прокофьевна» Г. Ф. Основьяненко (Квитки), «Перстень» Е. П. Гребенки, «Перстень. Предание города Б *» А. А<мади>о. На последнюю книгу Некрасов опубликовал рецензию в «Литературной газете» (1841, № 67).
Время действия повести не поддается точной датировке. Сардиния была под испанским владычеством с XIV в. до 1708 г.
Если б вы могли представить себе во весь рост его родословное дерево… — Тема дворянского родословного дерева иронически обыгрывается Некрасовым в водевиле «Шила в мешке не утаишь — девушки под замком не удержишь» (1841; наст. изд., т. VI, с. 228), позднее — в поэме «Кому на Руси жить хорошо» (часть первая, глава «Помещик»; наст. изд., т. V, с. 72–73).
…повыше Чимборазо и Давалагири… — По представлениям современников Некрасова, высочайшие вершины мира. В элементарном учебном пособии, которым мог пользоваться Некрасов в связи со своей работой в 1840 г. в качество репетитора в пансионе Г. Ф. Бенецкого, отмечалось: «Между рядами высоких гор, простирающихся по всему земному шару, высочайшая гора Давалагири, в Азии, поднимается до 27 540 английских футов. После нее до сих пор считалась высочайшею горою Чимборасо, в Америке, имеющая 20 148 футов вышины…» (Чтения для умственного развития малолетних детей и обогащения их познаниями. Составлены Егором Гугелем… 7-е изд. СПб., 1844, с. 76).
…донья Инезилья… — Инезилья — не испанское имя; вероятно, при выборе имени на Некрасова повлияло стихотворение Пушкина «Я здесь, Инезилья…» (1830).
Да простит тебя Сант-Яго! — Сант-Яго — святой Иаков, один из двенадцати апостолов.
Алгорробы — рожковые деревья (исп. algarrobo).
Баскинья — черная юбка (исп. basquifia).
Достал ли ты хоть тысячу вельонов… — Вельон — монета из сплава серебра и меди (исп. veilon).
…никто не слушает его тоскливой кантилены… — Кантилена — небольшая лироэпическая песня в средневековой западноевропейской поэзии (лат. cantilena).
Если жизнь ослепит блеском счастья глаза… — Печаталось как отдельное некрасовское стихотворение. Впервые включено в собрание сочинений в издании: ПССт 1927.
…молись, чтоб смерть скорей соединила нас… — См. комментарий на с. 558.
…мои сегедильи… — Сегедилья — испанский (андалузский) быстрый народный танец (с кастаньетами), сопровождаемый песнями и игрой на гитаре (исп. seguidilla).
Донья Инезилья отворила шкаф… — Прятанье в шкафу — один из постоянных сюжетных ходов испанской комедии «плаща и шпаги», он часто использовался Кальдероном, Лопе до Вега и другими драматургами «золотого века» испанской комедии.
Не удивляйся наряду Линоры… — Ленора — героиня одноименной баллады Бюргера; Пушкин в «Евгении Онегине» уподобил ей свою музу (глава 8, строфа IV). У Некрасова это условно-поэтическое имя встречается впервые в стихотворении «Смуглянке» (МиЗ): «За Ленору умер я!» (см.: наст. изд., т. I, с. 261).
— Дай задаток, Ханэта, дай задаток! ~ поцеловала его… — Ср. у Ф. А. Кони в «Синьоре и плебеянке. Сцена из итальянской жизни XVII века»:
Бери все это… и остаток, Зарытый в тяжких сундуках. А мне — дай поцелуй в задаток Испить на розовых устах.(П, 1840, ч. I, с. 131).
В том же выпуске «Пантеона» была напечатана первая глава стихотворного фельетона Некрасова «Провинциальный подьячий в Петербурге».
— Крови вашей, идальго, крови! — фраза, восходящая к восклицанию Отелло из одноименной трагедии Шекспира и пародированная Некрасовым в рассказе «Капитан Кук» (см. комментарий на с. 557–558).
…дон Диего желает вас видеть… — Дон Диего — частое имя героев-испанцев. Его носит герой «Романсов о Сиде» (см. выше, с. 568). Доном Диего де Кальвадо называет себя дон Гуан в «Каменном госте» (1826–1830) Пушкина.
Алкад — имеется в виду алькальд — городской судья (исп. alcalde).
Помещик двадцати трех душ*
Печатается по тексту первой публикации.
Впервые опубликовано: ЛГ, 1843, 21 мая, № 12, с. 227–234, с подзаголовком: «Соч. Н. Перепельского».
В собрание сочинений впервые включено: ПСС, т. V.
Автограф не найден.
Рассказ написан в расчете на комическое восприятие романтического образа и стиля героя-идеалиста. А. Ф. Крошкин писал: «…мотив относительной бедности героя (обладателя только двадцати трех душ) выражен слабо; основной заряд направлен против его выспренных мечтаний, далеких от жизни» (Крошкин, с. 46). Незадолго до смерти Некрасов, по словам Суворина, так вспоминал о своей молодости: «Идеалисты сердили меня, жизнь мимо них проходила, они в ней ровно ничего не смыслили, они все были в мечтах, и все их эксплуатировали» (Суворин А. С. Недельные очерки и картинки. — НВ, 1878, 1 янв., № 662). В воспоминаниях Н. В. Успенского приводится эпизод из жизни Некрасова, который мог иметь отношение к истории создания рассказа «Помещик двадцати трех душ»: «В первом своем рассказе Некрасов упоминал о каком-то дворянском семействе, в котором он давал уроки детям и где ему не только не платили денег, но едва не морили голодом; вследствие чего он и принужден был оставить означенное семейство. „Вы не можете себе представить, что это были за уроды! — говорил Некрасов (следовало комическое описание всего семейства). — Я думал, думал да взял всех их и описал… так что уроки мои не пропали даром…“» (Успенский Н. Воспоминание о Н. А. Некрасове (письмо в редакцию). — Иллюстрированная газета, 1878, 5 февр., № 6, с. 47). Так же как и в «Карете», в рассказе «Помещик двадцати трех душ» ощущается сильное влияние «Петербургских повестей» Гоголя, особенно «Записок сумасшедшего». От стиля Гоголя идет и некрасовская манера создания комического портрета (француз Бранказ, немка Шпирх, учитель Поношенский), и способ характеристики героев через выразительные фамилии. В скупо переданной биографии Супонева угадываются черты сходства с историей жизни и «благоприобретений» Чичикова.
…не любил так Тассо свою Элеонору, не любил так Петрарка Лауру свою… — Элеонора — сестра герцога Альфонса Феррарского, в которую был влюблен Тассо (см. о нем комментарий на с. 546). О Петрарке и Лауре — см. комментарий на с. 559.
…сердце мое сильнее билось при взгляде на семерку пик… — возможно, отголосок темы трех карт в «Пиковой даме» Пушкина.
…ради Брегета!.. — А. Л. Бреге (1747–1823) — французский часовой мастер. Часы, изготовленные в его мастерской, отличались большой точностью.
…голова ничего не стоит ~ без головы я не могу идти к ней: неприлично!.. — Ср. в повести Гоголя «Нос»: «…мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично» (Гоголь, т. III, с. 56).
…я схватил «Маяк»… — «Маяк современного просвещения и образованности» (1840–1845), реакционный литературно-политический журнал, выходивший в Петербурге; издателем его к концу 1840 г. стал 10. А. Юнгмейстер, предшественниками которого были В. П. Поляков, а затем П. А. Корсаков и С. А. Бурачок.
Больно за человечество… — возможно, пародийный отголосок заключительных слов из монолога Гамлета: «Страшно, за человека страшно мне» (д. 3, явл. 3) — в переводе Н. А. Полевого (1837). См. также: Белинский, т. II, с. 432.
…надворный советник и кавалер… — чиновник седьмого класса, награжденный орденом.
…в семь лет схватил пять чинов… — По «Правилам о порядке производства в чины по гражданской службе», изданным 25 июня 1834 г., производство в каждый следующий чин устанавливалось строго по выслуге в предыдущем чине и осуществлялось в срок от 3 до 8 лет (Шепелев Л. Е. Отмененные историей чины, звания и титулы в Российской империи. Л., 1977, с. 68).
…выстроил на имя жены дом в Петербурге… — Ср. в стихотворении «Чиновник» (1844): «Но (на жену, как водится) в Галерной Купил давно пятиэтажный дом» (наст. изд., т. I, с. 414).
…23 ревижеских души… — Ревизская душа — при крепостном право единица мужского населения, подлежавшая обложению подушной податью.
…статский советник… — чиновник пятого класса.
…баранью кость он грыз и весело визжал… — Ср. в поэме Лермонтова «Мцыри»: «…Сырую кость Он грыз н весело визжал…» (Лермонтов, т. IV, с. 162).
…я проклинал, как Байрон… — См. комментарий на с. 560.
…сказала, что я «жантиль»… — Жантиль — милый, любезный (от франц. gentil).
…от «ручек» пахло свиным салом и огуречным рассолом. — Ср. в «Мертвых душах»: «Чичиков подошел к ручке Феодулии Ивановны, которую она почти всунула ему в губы, причем он имел случай заметить, что руки были вымыты огуречным рассолом» (Гоголь, т. VI, с. 402).
…целая стая борзовщиков, доезжачих, подъезжих из псарни… — Борзовщик — псарь, управляющий сворою борзых собак, доезжачий — старший псарь, занимающийся обучением борзых и распоряжающийся ими на охоте, подъезжий — помощник доезжачего.
…я увидел в «Сыне отечества» первое мое стихотворение, с примечанием… — Первым опубликованным произведением Некрасова было стихотворение «Мысль» («Сын отечества», 183S, т. V, № 10, отд. I, с. 100), оно сопровождалось примечанием редакции: «Первый опыт юного, 16-летнего поэта».
…забуду вас, балы Американского клуба… — Американский клуб, или Клуб Соединенного общества, основанный в 1783 г., находился в доме Энгельгардта на Невском проспекте у Казанского моста (ныне Невский, 30). Первоначально целью клуба была помощь бедным иностранцам, в его члены принимались крупные чиновники, купцы первой и второй гильдии.
И вас, красотки молодые ~ По петербургской мостовой… — неточная цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (глава 1, строфа XLIII).
….мало сказать, что на ней черт в свайку играл… Свайка — русская народная игра, состоящая в метании большого толстого гвоздя в лежащее на земле кольцо. «На роже черт в свайку играл» — говорят о рябом человеке.
…«съела гриб»… — См. комментарий на с. 557.
…мне пришли на мысль те счастливые времена невозвратной юности, когда, бывало, меня сек учитель в школе… — Ср. в поэме Некрасова «Суд» (1867):
Но живо вспомнил я тогда Счастливой юности года, Когда придешь, бывало, в класс И знаешь: сечь начнут сейчас!(наст. изд., т. III, с. 37).
…направление такое благонамеренное, нравственно-сатирическое… — Намек на Булгарина. В рецензии на «Очерки русских нравов…» Некрасов иронизирует над определением литературного поприща Булгарина как нравственно-юмористического (ПСС, т. IX, с. 89–94).
Каждому в доме и в околодке была у него своя особенная кличка… — Позднее в драматическом произведении Некрасова «Осенняя скука» (1856) этот мотив найдет дальнейшее развитие.
Светило дневное взошло превыше ели. Но мы еще досель ни крошечки не ели! — К. И. Чуковский высказал предположение, что это пародия на каламбуры Ф. А. Кони и что первый стих — отголосок пушкинской строки «Погасло дневное светило» (см. об этом: ПССт 1934–1937, т. I, с. 601–602).
…у Ноя было три сына ~ был отец? — Пример аналогичного согласного грамматического суждения приводится в учебнике логики Г. К. Кизеветтера: «Кай есть отец Тита; Тит есть сын Кая» (Логика для употребления в училищах. Соч. И. Г. К. Кизеветтера. Переведено с нем. Яковом Толмачевым. СПб., 1831, с. 65). Вероятно, Некрасову был знаком этот учебник, так как он упоминается и в ранней пьесе «Феоклист Онуфрич Боб, или Муж не в своей тарелке» (1841) (наст. изд., т. VI, с. 84).
«Абшейлих» — отвратительно (нем. abscheulich).
У семидесяти семи мышей Много ли ног и ушей? — Текст задачи близок фольклорной загадке: «У полусемых мышей Много ли ног да ушей?» (Садовников Д. Загадки русского народа. СПб., 1901, с. 248).
Я не льщу дуракам и голосом бешеной собаки не кричу против тех, кто умнее и даровитее меня. Я не утверждаю, что философия — сказка… — Речь идет о О. И. Сенковском, который в своем журнале «Библиотека для чтения» поместил иронический отзыв о «Мертвых душах» Гоголя (БдЧ, 1842, т. LIII, № 8, отд. VI, с. 24–54) и часто, потворствуя обывательским вкусам, глумился над наукой.
Я даже не хвастаю дружбою с великими людьми, которых уже нет на свете и которые при жизни называли меня негодяем. — Вероятно, намек на Ф. В. Булгарина, который много писал о своей близкой дружбе с Грибоедовым.
Необыкновенный завтрак*
Печатается по тексту первой публикации, с восстановлением цензурных исключений и со следующими исправлениями по черновым автографам: с. 308, строка 9: «17» вместо «37» (по ГБЛ Б); с. 308, строка 21: «рассуждения» вместо «суждения» (по ГБЛ Б); с. 308, строка 24: «неукатанному» вместо «неуклюжему» (по ГБЛ Б); с. 318, строки 7–8: «лунатику, Хапкевичу» вместо «лунатику Хапкевичу» (по ГБЛ А); с. 325, строки 32–33: «неизгладимый» вместо «неохладимый» (по ГБЛ А); с. 325, строки 40–41: «место гувернантки и в крайнем случае горничной» вместо «место горничной» (по ГБЛ А).
Впервые опубликовано: 03, 1843, № 11, отд. I, с. 319–341, с подписью: «Н. Некрасов».
В собрание сочинений впервые включено: Собр. соч. 1930, т. III.
Черновой автограф (ГБЛ А), являющийся одновременно наборной рукописью главы VII части второй романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова», без даты, с заглавием: «Необыкновенный завтрак» и подписью: «Н. Некрасов» — ГБЛ, ф. 195, М5758. 1, л. 86-104 об. Написан на двойных листах большого формата, имеет авторскую нумерацию (л. 5-21), содержит большое количество правки, вычеркнутых мест и дополнений на полях (см.: Другие редакции и варианты, с. 491–505). Обилие исправлений объясняется подготовкой очерка к печати. На листах рукописи есть следы типографской краски, зафиксированы карандашом фамилии наборщиков («Пермогоров 1-й», «Степанов», «Леонтьев», «Мурат<ов> 2-й»). Слева на полях помечено чернилами рукой Некрасова: «Рукопись вернуть обратно автору» (л. 21 об.). На атом же листе была начата и зачеркнута глава VIII романа о Тростникове от слов: «Успех моего водевиля…» — до слов: «Он сам подвизался…» (см.: наст. изд., т. VIII).
Черновой автограф (ГБЛ Б) от слов: «Эпизод из жизни сотрудника газеты…» — до слов: «- Молчите вы, свиньи! — с гневом воскликнул…», 4 л., без даты, с заглавием: «Необыкновенный завтрак» и авторской пометой карандашом (на л. 1): «В I отдел цензуры» — ГБЛ, ф. 195, М5756. Содержит значительные исправления (см.: Другие редакции и варианты, с. 505–508). Следы типографской краски, карандашная помета: «Мурат<ов> 1-й» (фамилия наборщика) свидетельствуют, что рассказ набирался также и по этой черновой рукописи. Очевидно, готовя «Необыкновенный завтрак» к печати, Некрасов заново написал начало, снабдив рассказ традиционным для литературы 1840-х гг. пространным подзаголовком: «Эпизод из жизни сотрудника газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, рассказанный коротким его приятелем». Еще одно название (с подзаголовком) в таком роде — «Бал у писарей, или Дежурство в Новый год. (Фантастический эпизод из жизни чиновника)» (ОЗ, 1843, № 11, отд. VIII, «Смесь», с. 23–34).} Текст обеих черновых (наборных) рукописей в основном совпадает с текстом, напечатанным в «Отечественных записках». По-видимому, по цензурным соображениям в первой публикации были сделаны следующие исключения: «свиньи» (с. 312, строка 36); «господин с крестом» (с. 323, строки 5–7); «два остальные господина без крестов» (с. 323, строки 8–9); «как на святыню» (с. 327, строка 43). В настоящем томе эти купюры восстанавливаются по черновым автографам.
Рассказ датируется предположительно концом 1813 г., не позднее 31 октября, по цензорской помете на «Отечественных записках» (№ 11): «Печатать позволяется. С.-Петербург, 31 октября 1843. Цензоры А. Никитенко, С. Куторга».
«Необыкновенный завтрак» представляет собой главу VII части второй («Похождения русского Жилблаза») по завершенного и не опубликованного при жизни Некрасова романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова». В центре глав V и VI рома на, продолжением которых является «Необыкновенный завтрак», — тема литературно-журнальной борьбы эпохи. Отдельными сюжетными мотивами рассказ близок предшествующим автобиографическим прозаическим произведениям и водевилям Некрасова, посвященным эпизодам из петербургского литературно-журнального и театрального быта 1840-х гг.: «Без вести пропавший пиита» (1840), «Актер» (1841), «Утро в редакции. Водевильные сцены из журнальной жизни» (1841).
Кроме автобиографического материала в нем использованы и литературные источники. Некоторые тематические и стилистические параллели к «Необыкновенному завтраку» прослеживаются у И. И. Панаева («Русский фельетонист. Зоологический очерк» — ОЗ. 1841, № 3; «Тля! (Не повесть)»[43] — ОЗ, 1843, № 2). Прямая ссылка на последнее произведение содержится в «Очерках литературной жизни» (1845) (см. выше, с. 355–356). В этой повести И. И. Панаева описываются бенефис и пирушка; с упоминания подобных эпизодов начинается и «Необыкновенный завтрак» Автор называет своих героев не столько по именам, сколько комическими формулами: «добросовестный» книгопродавец, «отягченный галантерейностями», «издатель какой-то газеты», «литературный сплетник» и т. д. Этот стилистический прием используется и Некрасовым: «сотрудник газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа», «актер, отличавшийся необыкновенной любезностью», «рыжебородый мещанин», «чернобородый мещанин», «драматург-водевилист» (см. об этом: Гуковский Г. Неизданные повести Некрасова в истории русской прозы сороковых годов. — Некрасов. Тростников, с. 371).
Однако система повествования рассказа (обилие диалогов, иронические намеки на реальные факты литературной жизни 1840-х гг., физиологические зарисовки, авторские отступления — рассуждение об удивительно «малообразованном русском журналисте», например) свидетельствовала о поисках Некрасовым своей манеры, которая формировалась в русле «натуральной школы», под влиянием Гоголя (см.: Жук А. А. Сатира натуральной школы. Саратов, 1979, с. 142).
Нелепость происшествия, лежащего в основе рассказа («приключение» с ревельской уроженкой Амалией, излагаемое Некрасовым в пародийном ключе), характерные сюжетные атрибуты произведений «натуральной школы»: отсутствие денег, кредиторы у запертой снаружи квартиры «сотрудника газеты», диалоги «через форточку» — усиливали комическое звучание «Необыкновенного завтрака», сближали его с водевилем.
В статье «Русская литература в 1843 году» (ОЗ, 1844, № 1) Белинский отметил «Необыкновенный завтрак», назвав его в числе «лучших оригинальных повестей в прошлогодних журналах» наряду с «Тлей» И. И. Панаева, «Чайковским» Е. П. Гребенки, «Вакхом Сидоровичем Чайкиным» В. И. Даля (см.: Белинский, т. VIII, с. 95).
Необыкновенный завтрак. — Название могло быть заимствовано Некрасовым из комедии, написанной им в соавторстве с П. И. Григорьевым (1-м) и П. С. Федоровым «Похождения Петра Степанова сына Столбикова» (1841–1842), в которой картина вторая озаглавлена «Необыкновенный обед». Ср. также: Тяжелый завтрак. Сценка из парижской жизни. — ЛГ, 1842, 31 мая, № 21, с. 436–438.
Эпизод из жизни сотрудника газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа… — Имеется в виду «Литературная газета», выходившая в 1840 г. (в период редакторства А. А. Краевского) с эпиграфом: «Журнал добросовестный есть дело великое в благоустроенном государстве. (Из записок журналиста)», а с 1841 г. — с иным: «Сделайте одолжение, читайте!». По поводу последнего эпиграфа неоднократно иронизировала «Северная пчела»: «Три раза в неделю „Литературная газета“ представляет своим читателям одну и ту же картину, занимающую с падающими буквами заглавия ровно осьмую часть всего объема газеты. На этой картинке изображены разные фигуры (в одном углу франт, в другом человек с галунами по всем швам <…>) с листом бумаги в руке, а под картиною находится жалобная и трогательная надпись: „Сделайте одолжение, читайте!“. С величайшим искусством художник выразил ответ в чертах лица каждой фигуры, изображенной на картине: „Рады бы — да, право, нечего“» (СП, 1841, 27 марта, № 67, с. 266–267); «Она так потешна своею важностью <…> что нам весьма жаль, что ее так мало читают, невзирая на нежный эпиграф; „Сделайте одолжение, читайте!“ Замечательно и небывало» (СП, 1841, 15 сент., № 204, с. 827).
…справедливость философской поговорки «Чем ушибся, тем и лечись»… — Пословица, означающая похмелье (см.: Снегирев И. Русские в своих пословицах. Рассуждения и исследования о русских пословицах и поговорках, кн. IV. М., 1834, с. 91).
…каждый этаж имел свой особенный воздух ~ Дом был наполнен подобными мастеровыми… — Ср. описание дома в «Петербургских углах»: «Дом, на двор которого я вошел, был чрезвычайно огромен, ветх и неопрятен; меня обдало нестерпимым запахом и оглушило разнохарактерным криком и стуком: дом был наполнен мастеровыми…» (см. выше, с. 333).
…отставной солдат с корректурами… — Ср. «О погоде» (1858–1865): «рассыльный Минай с корректурами»; рассыльный Минай упоминается и в «Песнях о свободном слове» (1865–1866) (см.: наст. изд., т. II, с. 181, 211).
…скверных прикупках… — В карточной игре — карта или несколько карт, получаемых игроками сверх сданных по правилам игры.
Авторство у нас еще доныне придает ~ где будут смотреть на него как на гения. — Ср. комическую трактовку этой темы в «Без вести пропавшем пиите» (1840) (выше, с. 47–66) и в фельетоне «Хроника петербургского жителя» (1844): «Ремесло сочинителя начинает мне с каждым днем больше нравиться: можно врать что угодно…» (ПСС, т. V, с. 401).
…был неказист; совсем не умел задать тона… — Ср. в «Без вести пропавшем пиите»: «Иван приводил в исполнение то, что, по его словарю, называлось „задавать тону“» (с. 61); в «Актере» (1841): «Я льстить не умею И тон задавать…» (наст. изд., т. VI, с. 562). Этот фразеологизм встречается также в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» (наст. изд., т. VIII).
Приятелем нашим прикинулся. Каждый день в лавку зайдет ~ полфунтика сыру швейцарского в долг… либо осьмушку чайку!.. — Подобный эпизод встречается в рассказе «Без вести пропавший пиита». См. воспоминания М. И. Писарева о Некрасове (Новости, 1902, 25 дек., № 355; а также: Успенский Н. В. Из прошлого. М., 1889, с. 4–5).
…и пойдет рассказывать, и про Асенкову, и про театр, и про ахтеров… — Варвара Николаевна Асенкова (1817–1841) — талантливая актриса петербургского Александрийского театра, ученица И. И. Сосницкого. См. также стихотворения «Прекрасная партия» (1852), «Памяти <Асенков>ой» (1855).
— Все издания Онисима Евстифеича-с. Приказал-с просить — похвалить-с хорошенечко-с. — Отражение автобиографических фактов — по заказам издателей и редакторов (Н. А. Полевого, А. А. Краевского, В. П. Полякова, Ф. А. Кони) Некрасов писал множество рецензий.
Пить чай пошли. ~ Под машину. — В трактир или ресторан с органом.
…в пестром пестредевом халате… — Пестредь (пестрядь) — грубая бумажная ткань из разноцветных ниток.
…общество наше увеличилось издателем газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа… — Имеется в виду Ф. А. Копи (1809–1879), писатель, критик, водевилист, театральный деятель. С 1841 по 1843 г. Кони редактировал «Литературную газету». Об эпиграфе «Литературной газеты» см. выше, с. 575. «Издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа», фигурирует в романе о Тростникове (см.: наст. изд., т. VIII) и в «Очерках литературной жизни» (1845): «издатель Дмитрий Петрович» — см. выше, с. 372–376.
Об отношениях Ф. А. Кони с Некрасовым см.: Евгеньев-Максимов В. Е. Некрасов и Петербург. Л., 1947, с. 31–36; Евгеньев-Максимов, т. I, с. 230–242; Королева Н. В. Н. А. Некрасов. Ф. А. Кони. — В кн.: Очерки истории русской театральной критики. Конец XVIII — первая половина XIX в. Л., 1975, с. 322–345; наст. изд., т. VI, с. 655–656. Ф. А. Кони явился прототипом «издателя какой-то газеты» Александра Петровича Д * в повести И. И. Панаева «Литературная тля» (см. указанную выше статью И. Г. Ямпольского, с. 156). Ср. также комментарий на с. 594–595.
…с очаровательною улыбочкой, которая на устах его обыкновенно служила предвестницею каламбура ~ есть-таки привычка запираться! — Ср. в романе о Тростникове (часть вторая, глава VI): «Рассказ a la Кони, с каламбурами» (см.: наст. изд., т. VIII). В фельетоне «Современные заметки» (1847) Некрасов иронизировал по поводу плоских каламбуров («самородных русских каламбуров»), широко представленных в водевилях (см.: ПСС, т. IX, с. 552–553).
…он метал банк… — Метать банк — сдавать карты игрокам (картежный термин).
…твой джин только держись. — Джин — английская водка.
…загибая угол червонной семерки. (Он понтировал в долг.) — Пять рублей мазу! — Терминология карточной игры. Угол означает четверть ставки (суммы денег, которую игрок ставит на карту), при объявлении которой загибается край, угол карты; понтировать — участвовать в карточной игре в качестве играющего против банка; маз — прибавка к ставке игрока, дающая право на долю в выигрыше.
— Берегите носы, господа, ~ мы ведь все с лишним носом. — Некрасов использует распространенные в литературе 1830-1840-х гг. каламбуры и анекдоты о носе, собранные, в частности, в альманахе «Картины света», изданном А. Вельтманом (М., 1836) (см. также: Невский альманах на 1846 г. СПб., 1846). Шуткой о носе начинается часть вторая цикла стихотворений Некрасова «О погоде» (см.: наст. изд., т. II, с. 187).
Лафит — сорт красного виноградного вина.
Пармезан — итальянский сорт сыра.
…над столом висели портреты Кутузова, Поль де Кока и Гутенберга; над кроватью картинка в рамке… — Ср. в «Петербургском фельетонисте» И. И. Панаева: «На стене висят картиночки и портретцы великих людей» (ФП, ч. 2, с. 246). Поль де Кол (1793–1871) — французский романист-бытописатель, автор романов с запутанной интригой. Русская реакционная критика считала его произведения «грязными». В биографическом очерке о Поль де Коке (ЛГ, 1842, 8 марта, № 10, с. 208–210) Некрасов одобрительно оценивал демократическую тематику его произведений. Иоганн Гутенберг (1400–1468) — немецкий изобретатель, создатель европейского способа книгопечатания. Первоначально в черновой рукописи Некрасовым был назван и портрет Байрона (см.: Другие редакции и варианты, с. 498). Разностильность этих портретов, украшающих квартиру сотрудника, создавала комическое впечатление, намекала на «свободомыслие» литератора.
Стол был завален книгами и рукописями ~ на полу также валялись книги, рукописи и старые корректуры… — Ср. описание кабинета журналиста в «Петербургском фельетонисте» И. И. Панаева: «Груды рукописей, книг, газет и журналов французских и немецких разбросаны по столам, пыльные и в беспорядке; корректуры валяются на полу» (ФП, ч. 2, с. 243).
Представьте себе панораму, в которой виды беспрестанно меняются ~ Старуха с огромным… — Перечень портретных и бытовых зарисовок, характерных для русских «физиологий».
…на голос «Чем тебя я огорчила»… — начальные строки стихотворения А. П. Сумарокова «Чем тебя я оскорбила» <1770>, вошедшего в песенники конца XVIII–XIX в. В первой строке иногда: «огорчила», «досадила». В песенниках первой половины XIX в. песня эта упоминалась как «любовная», «нежная» (см.: Песни и романсы русских поэтов. М.-Л., 1963, с. 75, 979). Цитируется в фарсе-водевиле «Две кормилицы», переделанном с французского Д. Т. Ленским: «Фекла: поет на голос „Чем тебя и огорчила“.» (Репертуар русского театра, 1841, № 8, с. 4).
…В двенадцать часов по ночам Из гроба встает барабанщик… — начальные строки стихотворения В. А. Жуковского «Ночной смотр» (1836).
…сидят за зеленым столом… — т. е. за карточным столом, оклеенным зеленым сукном, на котором мелом записывались взятки (карты, взятые старшей картой или козырем).
…в плисовом архалуке… — т. е. в коротком мужском платье, заменяющем халат, из хлопчатобумажной ткани с ворсом.
…беречь свою честь: она единственное нате сокровище! — Ср. вариант этой же фразы в «Очерках литературной жизни»: «…ведь тут честь — драгоценнейшее сокровище человека» (выше, с. 369).
…как говорится ~ в полицейских публикациях, камер-юнгферы. — Имеютсяв виду объявления в газете «Ведомости С.-Петербургской городской полиции». Камер-юнгфера (нем. Kammerjungfer) — камер-девица (придворный чин). Слово это упоминается также в черновых рукописях частя первой (глава IV «Счастливые») «Кому на Руси жить хорошо» (см.: наст. изд., т. V, с. 316).
…просит рейнвейну… — Рейнвейн — сорт виноградного вина.
Нарядов нет — прекрасный пол ~ Под потолок в восторге скачет, — Некрасов использует здесь куплеты из водевиля «Феоклист Онуфрич Боб, или Муж не в своей тарелке» (1841). Ср. начальные и последние строки:
Вот уж какой каприз нашел… Скакать изволила… и только… А мужа нет, так этот пол Под потолок в восторге скачет(см.: наст. изд., т. VI. с. 112).
Как жаль, — подумал драматург-водевилист ~ что этот необыкновенный человек имеет привычку сам записывать свои каламбуры и помещать в печатных статьях. — Ср. «Очерки литературной жизни», в которых драматург-водевилист намеревается все каламбуры журналиста-издателя поместить в свой водевиль (выше, с. 374).
Мой Санхо-Панчо… — Речь идет о герое «Дон-Кихота» Сервантеса. Первый русский перевод «Дон-Кихота» с испанского был выполнен К. П. Масальским (СПб., 1838).
…пригласить вас к Кулону, к Лерхе, к Леграну… — Имеются в виду петербургские рестораны. Описание их см.: Пыляев М. И. Старое житье. Очерки и рассказы. СПб., 1892, с. 8–9.
…с двухсотенной ассигнацией… — Ассигнации — бумажные деньги, действовавшие в России до 1843 г., когда они были заменены государственными кредитными билетами.
Петербургские углы*
Печатается по тексту первой публикации, с восстановлением цензурных исключений и со следующими исправлениями по авторизованным писарским копиям: с. 337–338, строки 44-1: «выварю» вместо «выпарю» (по АК ГИМ); с. 339, строка 6: «говорят, сердяга» вместо «говорят» (по АК ЦГАЛИ); с. 339, строка 22: «осьмнадцать» вместо «восемнадцать» (по АК ГИМ); с. 340, строка 37: «худенькой» вместо «худенький» (по АК ГИМ и АК ЦГАЛИ); с. 340, строка 37: «тощенькой» вместо «тощенький» (по АК ГИМ и АК ЦГАЛИ); с. 341, строка 29: «совсем дело дрянь» вместо «дело дрянь» (по АК ГИМ и АК ЦГАЛИ); с. 343, строка 25: «страшный» вместо «странный» (но АК ГИМ и АК ЦГАЛИ); с. 343, строка 26: «странным» вместо «страшным» (по АК ГИМ и АК ЦГАЛИ); с. 344, строка 17: «Долго» вместо «долго» (по АК ГИМ и АК ЦГАЛИ); с. 350, строка 36: «сковал» вместо «оковал» (по (АК ЦГАЛИ); с. 351, строка 30: «клубами» вместо «клубом» (по АК ЦГАЛИ).
Впервые опубликовано: ФП, ч. 1, с. 254–303, с подписью: «Н. Некрасов».
В собрание сочинений впервые включено: Собр. соч. 1930, т. III.
Отрывок чернового автографа главы V «О петербургских углах и о почтенных постояльцах, которые в них помещаются» из части первой не завершенного и не опубликованного при жизни Некрасова романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (см.: наст. изд., т. VIII) от слов: «Хороший человек…» — до слов: «…кивала мне головой», с датой: «7 сентября» — ГБЛ, ф. 195, М5758.1, л. 24. Глава романа была написана на л. 21–29 (сдвоенных, большого формата) автографа. Л. 24–28, по-видимому, были извлечены Некрасовым из рукописи для подготовки их к публикации в качестве самостоятельного очерка в первой части «Физиологии Петербурга». Дальнейшая судьба л. 25–28 неизвестна.
Отрывок белового автографа: «…в себе похвалы ~ лучше, чем теперь» — с незначительными карандашными поправками — ГПБ, ф. 608, № 5099, 1 л. (см. о нем: Заборова Р. Б. Из архивных разысканий о Н. А. Некрасове. — РЛ, 1973, № 4, с. 124–125).
Первая авторизованная писарская копия (АК ГИМ) со значительной правкой чернилами и карандашом, с обозначением Некрасовым расположения политипажей, с цензурными и автоцензурными исключениями, с пометами красным карандашом и красными выцветшими чернилами цензора А. И. Фрейгаига (на л. 1 помета, служащая основанием датировки копии: «По решению Комитета нельзя печатать. 4 апреля 1844») — ГИМ, ф. 37, ед. хр. 510, л. 1-46. Текст: «…заключали в себе похвалы ~ было лучше, чем теперь» (л. 33) утрачен (см. с. 347–348, строки 36–30).
Вторая авторизованная писарская копия (АК ЦГАЛИ), очевидно более поздняя (сходство авторских исправлений с первым списком позволяет датировать ее также 1844 г.), в основном соответствующая печатному тексту (за исключением отдельных цензурных и автоцензурных купюр), с авторской правкой чернилами и авторской пометой слева в углу на л. 1: «Рыжов! Перепишите эту статью еще раз хорошенько и поскорее. Некрасов» — ЦГАЛИ, ф. 338, ед. хр. 36, л. 1-23.
Последовательность копий устанавливается на основании следующих соображений. На первом листе копии ГИМ после заглавия «Петербургские углы» рукой Некрасова вписано: «(Из рукописи „Русский Жиль Блас“)». В копии ЦГАЛИ подзаголовок изменен также самим Некрасовым и соответствует имеющемуся в печатном тексте (в первой части «Физиологии Петербурга»): «Петербургские углы (Из записок одного молодого человека)». По сравнению со списком ЦГАЛИ копия ГИМ является более черновой. В ней содержится большее количество авторской правки, зачеркнутых и незачеркнутых вариантов. Описание «петербургских углов» здесь более пространно и сопровождено множеством бытовых деталей, отсутствующих как в копии ЦГАЛИ, так и в тексте первой публикации. После слов: «остальное пространство до двери было завалено разным хламом» — Некрасов вписывает на полях рукописи ГИМ: «в углу [налево] направо и противуположном ему, в углублении, были устроены нары, прикрытые так называемыми постельниками из тростника; четвертый угол был пуст» (см.: Другие редакции и варианты, с. 515). Диалог героя-повествователя с содержательницей «угла» Федотовной в копии ГИМ имеет большее число вариантов, свидетельствующих о поисках Некрасовым окончательных и более точных формулировок (там же, с. 515–516). Значительна авторская правка Здесь и в характеристике отдельных персонажей, в частности «зеленого господина» (там же, с. 519–522). В копии ГИМ содержится ряд карандашных помет, сделанных, очевидно, цензором, рядом со словами, требующими разъяснения. Например, знаки вопроса стоят около просторечных выражений «ерунда» и «побывшился», произносимых дворовым человеком и Кирьянычем, крестьянином, «отпущенным по оброку». В копии ЦГАЛИ к слову «ерунда», еще не бытовавшему в 1840-е гг. в литературе, рукой Некрасова вписано примечание: «Лакейское слово, равнозначительное слову — дрянь» (с. 348).
Все сказанное свидетельствует о том, что копия ЦГАЛИ представлялась Некрасову завершенной и окончательной. Цензорская правка красным карандашом содержится лишь в копии ГИМ; в копии ЦГАЛИ она почти не учтена, что объясняется, очевидно, намерением Некрасова сохранить текст в первоначальном виде. Однако цензорские изъятия в копии ГИМ и в «Петербургских углах», напечатанных в «Физиологии Петербурга», идентичны. Таким образом, сличение обеих авторизованных рукописей с текстом «Физиологии Петербурга» дает возможность выявить цензурные купюры и восстановить их в тексте, публикуемом в настоящем томе.
Цензурной правке в копии ГИМ подверглись главным образом фразы, содержащие намеки антиклерикального содержания, и некоторые «неблагопристойные» выражения. На с. 344 (строки 9-10) цензором вычеркнуто слово «Богоявленский» в надписи «Богоявленский питейный дом», здесь же (строка 30) зачеркнуто: «дьячки и квартальные»; на с. 345 (строка 29) под зачеркнутой фамилией «Яковлев» сверху надписано «Я…», по-видимому, чтобы исключить недопустимый намек на лицо именитое или известное современникам (ср. с. 520, 591); на с. 334 (строки 20–22) отмечена фраза, содержащая намек на грубую пословицу: «Я смекнул, что лучше последовать известной пословице ~ пошел серединою», а на с. 339 (строки 40–41) — слова «перекрестился на образок, висевший над нарами»; на с. 339 (строки 11–12) зачеркнуто: «вы тоже крепостной» и вписано: «дворовый». Некрасов заменил цензорский вариант словом «господский». В рукописи ГИМ изъято ироническое упоминание «Северной пчелы». Название булгаринской газеты заменено нейтральным обозначением «одна газета» (см.: Другие редакции и варианты, с. 523). Цензорская правка в писарской копии ГИМ не коснулась слов «напевая что-то про барыню» (с. 339, строки 31–32). Они есть и в списке ЦГАЛИ. Однако в тексте «Физиологии Петербурга» это место отсутствует. Очевидно, оно было исключено при повторном прохождении «Петербургских углов» через цензуру 11 февраля 1845 г. По-видимому, тогда же были изъяты фразы: «Но уважение к исторической истине заставляет сказать, что при вывеске повивальной бабки изображения никакого не было» (с. 333, строки 25–27) и «У отца родного крест с шеи снимет» (с. 353, строка 29). В обеих писарских копиях эти фразы значились.
Помимо перечисленных исключений, связанных с замечаниями цензора, в тексте «Петербургских углов» прослеживается еще несколько купюр. К ним относятся: «Из избы сору не выношу» (с. 337, строка 13); «А на собаке какой грех» (с. 337, строка 24); «Да денег дай! — сказал дворовый человек, отпущенный по оброку, — Денег у черта просить, — проворчал сердито бородач. Разговор прекратился» (с. 340, строки 11–14); «накапал в стакан сала из ночника, всыпал щепоть табаку и целую горсть соли, долил вином и пальцем всё размешал. Мне стало страшно» (с. 349, строки 24–27); «господь прибыль дает» (с. 353, строки 19–20); «Вчерась в нем в церковь ходила, рублев десятка стоит. Известно, тоже у господ украден: нищему где платок покупать!» (с. 353, строки 38–40).
Все это дает основание предполагать существование еще одной, не дошедшей до нас рукописи «Петербургских углов» (наборной), в которой, очевидно, имелась отмеченная выше правка.
В «Петербургских углах» (ФП) содержится авторское рассуждение (с. 347–348, строки 38–30): «Такие брошюры загромождали русскую литературу в доброе старое время ~ когда, по их словам, все было лучше, чем теперь», заключенное в кавычки. Между тем в обеих авторизованных писарских копиях и в отрывке ГИБ кавычки отсутствуют. Комментаторы (К. И. Чуковский, А. Н. Лурье) находили к этому месту отдельные смысловые параллели в статьях Белинского. Точным цитированием это некрасовское рассуждение не представляется. В настоящем томе кавычки устраняются по обеим копиям, по которым в тексте «Петербургских углов» восстанавливаются и купюры, перечисленные выше.
Начало работы над «Петербургскими углами» (не в качестве самостоятельного произведения, а в составе главы V романа о Тростникове) относится, вероятно, к концу 1843 г. Основанием для такого предположения является некрасовская помета «7 сентября» (без указания года), сделанная в черновой рукописи главы «О петербургских углах и о почтенных постояльцах, которые в них помещаются». Очевидно, эта дата может относиться лишь к 1843 г., так как 4 апреля следующего, 1844, г. «Петербургские углы» были запрещены Петербургским цензурным комитетом.
Как явствует из цензурной истории, первоначально «Петербургские углы» предназначались Некрасовым для «Литературной газеты». На заседании Петербургского цензурного комитета, состоявшемся 4 апреля 1844 г. в присутствии председателя комитета Г. П. Волконского, цензоров А. Л. Крылова, А. В. Никитенко, С. С. Куторги, А. П. Очкина, рассматривались представленные цензором А. И. Фрейгангом «две статьи, назначаемые к помещению в „Литературной газете“: 1. Фантазия Ж. Ж. Гранвиля с политипажем, представляющим человека, нисходящего до животного, и животного, возвышающегося до человека[44], и 2. „Петербургские углы“. Комитет первую статью признал позволительною и разрешил г. цензору одобрить ее к папечатанию; а вторую, на основании ї 3 ст. 3 Устава о цензуре, подверг запрещению» (Журнал заседания С.-Петербургского цензурного комитета 4 апреля 1844 г. — ЦГИА, ф. 777, оп. 27, д. 37, л. 38–41 об.). ї 3 ст. 3 Устава о цензуре препятствовал публикации статей, содержащих «оскорбление добрых нравов и благопристойности».
Вскоре после запрещения «Петербургских углов» Некрасов в качестве редактора начал интенсивную организационную деятельность по подготовке альманаха «Физиология Петербурга». Его основные темы и направление намечены в ряде фельетонов писателя, напечатанных в «Литературной газете»: «Хроника петербургского жителя» (ЛГ, 1844, 2 марта, № 9; 6 апр., № 13; 13 апр., № 14), «Черты из характеристики петербургского народонаселения» (ЛГ, 1844, 10 авг., № 31; 17 авг., № 32) и др.
К 1844 г. относится работа писателя над водевилем «Петербургский ростовщик». В одной из ранних газетных публикаций о первой части «Физиологии Петербурга» (предваряющей ее появление), в «Журнальных отметках» (РИ, 1844, 12 ноября, № 256), возможно принадлежащих Некрасову, приводится перечень статей будущего альманаха, процензурованного 2 ноября 1844 г. В его составе значится «Петербургский ростовщик». Однако при жизни писателя водевиль не был напечатан (см.: наст. изд., т. VI, с. 676–677). По-видимому, когда первая часть сборника уже была набрана (и соответственно на титульном листе первой части была обозначена дата: «1844»), Некрасову благодаря содействию А. В. Никитенко удалось получить цензурное разрешение для «Петербургских углов». На оборотной стороне шмуцтитула «Петербургских углов» помечено: «Печатать позволяется. С.-Петербург, 11 февраля 1845 года. Цензор А. В. Никитенко». Цензурное разрешение очерка определило окончательный состав первой части «Физиологии Петербурга», в которой вместо «Петербургского ростовщика» были опубликованы «Петербургские углы» как произведение, наиболее соответствующее направлению и структуре сборника. Очевидно, вторичное прохождение «Петербургских углов» через цензуру, включение очерка в почти подготовленный альманах явились причиной задержки выхода в свет первой части «Физиологии Петербурга», обещанной читателям в конце декабря 1844 г. (см. об этом: Бухштаб В. Я. Библиографические разыскания по русской литературе XIX века, с. 60–61).
«Петербургские углы» — одно из центральных произведений некрасовского сборника. Его содержание (быт и судьбы низших сословий, людей из народа, обитателей петербургского «дна») и художественная специфика в духе поэтики «натуральиой школы» полностью отвечали задачам создания беллетристики гоголевского направления, сформулированным Белинским в программном «Вступлении» к первой части «Физиологии Петербурга». Здесь же петербургские очерки, в том число и «Петербургские углы», соотносились с предшествующими опытами в подобном жанре, с французскими «физиологиями» и русскими нравоописаниями.
Некрасову — создателю «Петербургских углов» были хорошо известны издания А.-Л. Кюрмера «Французы в их собственном изображении» (1840–1842), физиологические очерки Ж. Жанена, издание А. П. Башуцкого «Наши, списанные с натуры русскими» (1841–1842), «Картинки русских нравов» (1842) и «Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка рода человеческого» (1843) Ф. В. Булгарина и др. К нравоописаниям Булгарина он, так же как и Белинский, относился крайне отрицательно, неоднократно рецензируя их в «Отечественных записках» (1843).
К социальному исследованию петербургского «дна» обращались литературные современники и соратники Некрасова, многие из которых принимали участие в организованных им сборниках. Бедственному положению низших слоев петербургских тружеников были посвящены очерки Д. В. Григоровича («Петербургские шарманщики») и В. И. Даля («Петербургский дворник»); мелкий люд, живущий в Петербурге на положении жильцов у квартирохозяев, описан Е. П. Гребенкой в «Петербургской стороне». Все эти произведения, создававшиеся почти одновременно с «Петербургскими углами», напечатаны Некрасовым в «Физиологии Петербурга». Присущее им сходство тем, мотивов, ситуаций и даже языковых оборотов объясняется идеологической общностью и единством поэтических принципов, характерных для «натуральной школы».
Замысел «Петербургских углов» связан с личными впечатлениями первых лет бедственной петербургской жизни Некрасова. А. Н. Пыпин вспоминал по этому поводу: «„Петербургские углы“, которые Некрасов описывал впоследствии, были известны ему по наглядному собственному опыту» (Пыпин А. Н. Н. А. Некрасов. СПб., 1905, с. 8). Осознание личного жизненного опыта как общественной ценности и воплощение его в художественном творчестве всячески поддерживалось Белинским, теоретиком «натуральной школы».
Хронологически работа над очерком и «Физиологией Петербурга» приходится на годы особенно сильного воздействия идей Белинского на Некрасова. В это же время молодой писатель основательно знакомится с творчеством Гоголя. В 1842-начале 1843 г. выходит в свет четырехтомное собрание сочинений Гоголя, на которое Некрасов откликнулся в рецензии на книгу Ф. В. Булгарина «Очерки русских правов, или Лицевая сторона и изнанка рода человеческого» (03, 1843, № 3), высоко оценив «истинный юмор», «художественное воспроизведение действительности», «живую и одушевленную речь» — черты, присущие гоголевскому творчеству.
Внимание к специфике гоголевской поэтики, творческое усвоение ее принципов отчетливо проявилось в «Петербургских углах». В исследовательской литературе отмечались гоголевские стилистические приемы в повествовании Некрасова: использование гиперболизированных метонимий, характер авторских отступлений, ставшее традиционным для произведений «натуральной школы» перечисление комических вывесок, объявлений (см.: Чуковский, с. 80–81; Крошкин А. Ф. Роман Н. А. Некрасова «Жизнь и похождения Тихона Тростникова».-Некр. сб., III, с. 51). По наблюдениям К. И. Чуковского, трагическую тему социального дна Петербурга «Некрасов излагает с „комическим одушевлением“, с юмором, отчего его повествование кажется еще более трагическим» (Чуковский, с. 80).
В «Петербургских углах» отчетливо прослеживается тяготение Некрасова к фольклору. Очерк изобилует пословицами, поговорками, народными прибаутками, присловьями. «Иные являются по самому своему существу поговорками, окрыленными внутренней рифмой: „побьет, побьет, да не воз навьет“, „мы не из таких, чтобы грабить нагих“, „поклон да и вон“, „на том свете в лазарете сочтемся“ и др.» (Чуковский, с. 560–561). Есть в нем и элементы этнографизма: использование просторечной лексики, диалектизмов.
До начала работы над очерком Некрасов рецензировал «Русские народные сказки» И. Сахарова (ЛГ, 1841, 27 марта, № 35, с. 140), назвав их «неоцененным подарком для русской литературы», а русские песни, предания, пословицы — «хранилищем русской народности» (ПСС, т. IX, с. 10). В то же время им критически оценивались псевдонародные «Воскресные посиделки» В. П. Бурнашева (ЛГ, 1844, 24 февр., № 8, с. 151–153; 11 мая, № 18, с. 311–312). Очевидно, в поле его зрения были и книги И. Снегирева «Русские в своих пословицах. Рассуждения и исследования о русских пословицах и поговорках» (кн. I–IV. М., 1831–1834). Кроме литературных источников молодой Некрасов широко использовал свои наблюдения и знание просторечной лексики различных представителей городской бедноты, приехавших на заработки крестьян, мещан (ср. речь «дворового человека», бывшего учителя, крестьянина Кирьяныча).
Тематически «Петербургские углы» близки ко многим произведениям Некрасова. Отдельные ситуации (изображение мира нищеты, обитателей петербургской ночлежки) встречаются в но опубликованной при жизни поэта «Повести о бедном Климе» (1841–1848). Зарисовки характерных народных типов, представителей петербургского «дна», найдут свое дальнейшее развитие в незавершенном романе о Тростникове (посетители трактира, рыжий печник, дворовый человек Егор Харитоныч Спиночка). История подрядчика Кирьяныча, лишь намеченная в очерке Некрасова, будет раскрыта в этом же романе (глава «История ежовой головы») и найдет аналогию в сюжете стихотворения «Вино» (1858). Автор «записок одного молодого человека», от имени которого ведется повествование в «Петербургских углах», явится центральным героем указанного незавершенного романа и одним из персонажей повести «Тонкий человек, его приключения и наблюдения» (1855).
Сочувственное изображение народа, социальные контрасты Петербурга — темы, ставшие ведущими в творчестве зрелого поэта-демократа, впервые остро прозвучали в «Петербургских углах». Злободневность, социальная заостренность, программность очерка (его соответствие принципам «натуральной школы») обусловили то, что само его название стало в 1840-е гг. своеобразным символом произведений гоголевского направления.
Большинство критических откликов на «Петербургские углы» были связаны с оценкой «Физиологии Петербурга» в целом, с полемикой по поводу «натуральной школы» (см.: Мордовченко Н. И. Белинский и русская литература его времени. М.-Л., 1950, с. 213–283). Вскоре после выхода в свет первой части «Физиологии Петербурга» Некрасов сам выступил в «Литературной газете» со статьей-рецензией (1845, 5 апр., № 13, с. 229–231), явившейся своеобразным комментарием к сборнику. «Добро пожаловать, книга умная, предпринятая с умною и полезного целью!» — писал автор «Петербургских углов», отмечая в ней кроме литературных достоинств «достоинство правды, весьма важное и даже главное в сочинении такого рода» (ПСС, т. IX, с. 143).
Высокая оценка «Петербургских углов» принадлежала Белинскому, который, по свидетельству А. Я. Панаевой, ознакомился с рассказом еще в рукописи (см.: Панаева, с. 97). Рецензируя первую часть «Физиологии Петербурга» (ОЗ, 1845, № 5, отд. VI, с. 16–23), критик назвал лучшими в сборнике «Петербургского дворника» В. И. Даля и «Петербургские углы» Некрасова. «„Петербургские углы“ г-на Некрасова, — писал он, — отличаются необыкновенною наблюдательностью и необыкновенным мастерством изложения. Это живая картина особого мира жизни, который не всем известен, но тем не менее существует, — картина, проникнутая мыслию» (Белинский, т. VIII, с. 383). Это же суждение по поводу очерка Некрасова Белинский повторил в рецензии на вторую часть «Физиологии Петербурга» («Статьи „Дворник“ и „Петербургские углы“ могли бы украсить собою всякое издание») и в статье «Русская литература в 1845 году» («Особенно замечательны <…> в прозе: „Петербургский дворник“ В. И. Луганского, „Петербургские углы“ г-на Некрасова» — Белинский, т. IX, с. 217, 391). К «Петербургским углам» Белинский обращался также в статье «„Тарантас“. Путевые впечатления. Сочинение графа В. Л. Соллогуба» (1845), где упоминается один из персонажей некрасовского очерка, «зеленый господин», и в обзоре «Взгляд на русскую литературу 1847 года» (1848), где обосновывается правомерность реалистического изображения жизни «в наготе страшной истины» и в качестве примера приводятся некрасовские «углы», «убежище нищеты, отчаяния и разврата» (Белинский, т. X, с. 89, 297).
«Современник» откликнулся на первую часть «Физиологии Петербурга» краткой заметкой «Новые сочинения», принадлежавшей, очевидно, П. А. Плетневу. В ней иронически оценивалось направление сборника, обоснованное Белинским во «Вступлении»; помещенные в «Физиологии Петербурга» произведения, в том числе и «Петербургские углы», порицались за отсутствие поэтического таланта и «скромную цель». «Если и чисто ученый труд без художнического в литературном отношении таланта редко что-нибудь стоит, что же без него значит труд чисто литературный?» — писал автор заметки (С, 1845, № 5, с. 250–251).
Славянофильская критика в лице К. С. Аксакова выступила главным образом против установки Белинского на «обыкновенные таланты» и их роль в развитии беллетристики. Не называя автора «Петербургских углов» прямо, по имея в виду его, так же как и Белинского, Аксаков писал: «„Физиология Петербурга“ вполне согласна с требованиями ее издателей — она вполне посредственна…». Всех участников сборника критик оценивал как «писателей посредственных» (М, 1845, № 5 и 6, «Смесь», с. 91–96).
«Библиотека для чтения» О. И. Сенковского не придала серьезного значения «Петербургским углам», охарактеризовав первую часть «Физиологии Петербурга» в целом как «весьма занимательный том юмористических статей с остроумными рисунками Тимма» (БдЧ, 1845, т. 69, № 3–4, «Разные известия», с. 40).
Резким нападкам «Петербургские углы» подверглись со стороны «Северной пчелы». В первом же отклике на «Физиологию Петербурга» (в фельетоне «Журнальная всякая всячина») Булгарин обратил особое внимание на очерк Некрасова, обвинив его в «грязности». Приведя множество обширных выдержек из «Петербургских углов», критик закончил ироническим восклицанием: «Более ужо невозможно выписывать <…> Это эстетика, изящное, характеристика Петербурга и петербургского общества! Имя сочинителя, как сказано во введении, ручается за достоинство описания. Чего же более!» (СП, 1845, 7 аир., № 79, с. 314–315).
Булгарина поддержал сотрудник «Северной пчелы» Л. В. Брант, известный своими систематическими выступлениями против «Отечественных записок», Белинского и писателей гоголевского направления. В большой рецензии на первую и вторую части «Физиологии Петербурга» (за подписью: «Я. Я. Я.») в трех номерах «Северной пчелы» Брант писал по поводу «Петербургских углов»: «Писатель с дарованием, с умом и сердцем, сойдя воображением в это убогое жилище, в этот мрачный нищенский угол, мог бы нарисовать картину грустную, возбуждающую участие, сострадание. Г-н Некрасов, питомец новейшей школы, образованной г-ном Гоголем, школы, которая стыдится чувствительного, патетического, предпочитая сцены грязные, черные, изображает нам другого рода обитателей „углов“: хозяйку, какую-то отвратительную старуху; забулдыгу дворового человека, отпущенного по оброку, который беспрестанно давит пауков; хмельную бабу, одержимую бесом; школьного учителя, выгнанного из службы за пьянство и когда-то в молодости писавшего поздравительные стихи милостивцам своим, и тому подобные лица. Не спорим, что они существуют как неизбежные исключения в низшем слое человеческого общества; но должно ли рисовать подробно их жалкую жизнь, и особенно рисовать так, как рисует г-н Некрасов, поставляющий, по-видимому, торжество искусства в картинах грязных и отвратительных». Здесь Брант резко выступил против Некрасова — редактора и организатора сборника, приписав ему и «введение» и тенденциозно намекнув на знакомство с биографией писателя: «Яркость и милые частности описания не позволяют сомневаться, что автор „записок“ непосредственно знаком с „углами“, изображает их как действователь и очевидец» (СП, 1845, 19 окт., № 236, с. 942, см. также: 17 окт., № 234, с. 934–936; 18 окт., № 235, с. 942–943).
В унисон «Северной пчеле» писал о «Петербургских углах» анонимный критик «Маяка»: «„Петербургские углы“ — это такая статья нечистая и смрадная, что, прочитавши се, если у кого достанет столько терпения, невольно скажет о нашей современной литературе… каковы делатели, такова и работа!..» (Маяк, 1845, т. 22, июль, «Новые книги», с. 7–8).
В защиту «Петербургских углов», как произведения характерного для периода становления «натуральной школы», неоднократно выступал Белинский. В рецензии на первую часть «Физиологии Петербурга» он писал по поводу нападок «Северной пчелы» на очерк Некрасова: «Упомянутая выше газета выписала из этой статьи три строки и всю статью обвинила в грязности; любопытно было бы нам услышать суждение этой газеты о романе „Счастье лучше богатырства“, который сооружен совокупными трудами гг. Полевого и Булгарина и напечатан в „Библиотеке для чтения“ нынешнего года. Там, видно, все чисто — даже и описание подземных тайн винных откупов…» (Белинский, т. VIII, с. 383).
С Белинским солидаризировался анонимный рецензент «Русского инвалида». Сочувственно оценив общественный пафос «Петербургских углов» («Особенно замечательны в этом сборнике „Петербургские углы“, статья, которая произвела самые разноголосые толки»), критик иронизировал по поводу булгаринских обвинений писателей «натуральной школы» в литературной безнравственности: «По какому-то странному противоречию, люди, по-видимому не слишком щекотливые насчет нравственности в своих делах и поступках, в то же время требуют строгой благопристойности от литературы…» (РИ, 1845, 25 апр., № 89, с. 353–355).
В краткой анонимной рецензии на «Физиологию Петербурга» «Финский вестник» также одобрительно отозвался о рассказе Некрасова: «„Петербургские углы“ г-на Некрасова и „Петербургская сторона“ Е. П. Гребенки полны интереса и живых и забавных рассказов» (Финский вестник, 1845, т. Ill, «Смесь», с. 37).
«Петербургские углы» вызвали отклики в современной Некрасову художественной литературе. В водевиле П. А. Каратыгина «Натуральная школа» (СПб., 1847, с. 38–39) от имени одного из героев высмеивались художественные принципы писателей гоголевского направления и иронически обыгрывалось название очерка Некрасова:
Мы, мы натуры прямые поборники, Гении задних дворов! Наши герои бродяги и дворники, Чернь петербургских углов.Влияние «Петербургских углов» прослеживается в некоторых произведениях «натуральной школы». «Фиолетовый человек» в довести Я. П. Буткова «Невский проспект, или Путешествия Нестора Залетаева» (1848) напоминает некрасовских «зеленого господина» и «дворового человека». Отдельные мотивы и детали очерка Некрасова находят соответствие в пьесе К. Д. Ефимовича (псевдоним «И. Ралянч») «Отставной театральный музыкант и княгиня» (1846). В подражание Некрасову написан очерк Н. Полякова «Московские углы» (М. вестн., 1859, № 39, с. 484–490). Возможно, с рассказом Некрасова косвенно было связано название романа В. В. Крестовского «Петербургские трущобы» (1864–1867) (ср. также очерки А. И. Левитова «Московские „комнаты снебилью“» (1863), перепечатанные в сборнике «Московские норы и трущобы» (1866)).
(Из записок одного молодого человека). — Подзаголовок, характерный для повестей и рассказов 1840-х гг. Ср. у Достоевского: «Рассказы бывалого человека. (Из записок неизвестного). I. Отставной. II. Честный вор» (ОЗ, 1848, № 4), «Елка и свадьба. (Из записок неизвестного)» (ОЗ, 1848, № 9). Возможно, он был навеян аналогичным названием автобиографической повести А. И. Герцена «Из записок одного молодого человека» (ОЗ, 1840, № 12; 1841, No 8).
Ат даеца, внаймы угал ~ спрасить квартернай хозяйке Акулины Федотовне. — Ср. с аналогичным объявлением («ярлыком», «билетом», по фразеологии некрасовского времени) в водевиле П. А. Каратыгина «Дом на Петербургской стороне, или, Искусство не платить за квартиру» (переделка французского водевиля Н. Вожьена и П. Деланда; первая постановка в Петербурге — 25 апреля 1838 г.): «Въ сем доме одаеца чистый новый покой, а цена спросить в лавочке, с хозяйскими дровами» (РиП, 1843, № 2). В повести Я. П. Буткова «Темный человек» безграмотность вывески особенно утрируется: «Сдесь атпускают кушинье и нумера сдравами ивадой а каму угодно и! састалом ибесонова! а цене спрасить в Клеопатре Артемовне!» (ОЗ, 1848, No 4, отд. I, с. 228).
Дом, на двор которого я вошел ~ у растворенных окон и пели. — Описание дома ассоциативно связано с гоголевским «домом Зверкова» в «Записках сумасшедшего» (1835). Ср. также с соответственной зарисовкой в рассказе М. Воскресенского «Замоскворецкие Тереза и Фальдони»: «Дом этот снизу доверху набит, как Ноев ковчег, разнородными обитателями. Тут живут по найму и мелкие торговцы, и писари из губернского правления, и модная портниха, и бухарец с походной лавочкой, и чистильщик кружев, и пятновыводчики, одним словом, не перечтешь всех…» (ЛГ, 1843, 14 февр., № 7, с. 128).
…делают троур и гробы и на прокат отпускают; медную и лудят; из иностранцев Трофимов ~ самовар с изломанной ручкой, мундир. — Комические вывески, перекликающиеся с гоголевскими в «Мертвых душах» (1842): «Попадались почти смытые дождем вывески с кренделями и сапогами, кое-где с нарисованными синими брюками и подписью какого-то Аршавского портного; где магазин с картузами, фуражками и надписью: „Иностранец Василий Федоров“; где нарисован был билиярт с двумя игроками во фраках, в какие одеваются у нас на театрах гости, входящие в последнем акте на сцену. Игроки были изображены с прицелившимися киями, несколько вывороченными назад руками и косыми ногами, только что сделавшими на воздухе антраша. Под всем этим было написано: „И вот заведение“» (Гоголь, т. VI, с. И; см. также: Чуковский, с. 80). Ср. в повести Д. В. Григоровича «Капельмейстер Сусликов»: «Госпожа Трутру из Парижа, Modes», с прибавлением внизу русскими буквами: «Нувоте», где упоминается также трактир, на котором была вывеска с надписью: «Trakteur» (С, 1848, № 12, отд. I, с. 267–277). Ассоциацию с «Петербургскими углами» вызывает и описание вывески в повести Я. П. Буткова «Темный человек»: «Трафим Кренделеф грабы делает идроги атпускает сатвечающим трауром» (ОЗ, 1848, № 4, отд. I, с. 228). См. также: Кулешов В. И. Натуральная школа в русской литературе. М., 1965, с. 266–267.
…в самых воротах стояла лужа ~ величественно впадала в помойную яму… — описание, ассоциативно связанное с «миргородской лужей» в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя (1834).
Полно, барыня, не сердись, Вымой рожу, не ленись! — отрывок из русской народной плясовой песни «Барыня», входившей в многочисленные песенники XIX в.
Когда я жила в Данилове… весь Даниловский уезд знает… — Город Данилов Даниловского уезда Ярославской губернии упоминается также в черновой рукописи «Кому на Руси жить хорошо» («Крестьянка», глава «Савелий, богатырь святорусский»): «Потом острог в Данилове…» (см.: наст. изд., т. V, с. 435).
…жаловаться квартальному надзирателю… — т. е. полицейскому, под надзором которого находился городской квартал.
…голицы… — кожаные рукавицы без подкладки.
…я душеньке враг, что ли, своей, — говорит, — паука увижу да не раздавлю. — Народная примета: паука убьешь, сорок грехов простятся.
…механик какой-нибудь… — Здесь в значении: жулик, мошенник.
…здесь и побывшился… — Побывшиться — в восточных великорусских говорах (на владимирщине) в значении; умереть, скончаться, издохнуть, околеть (Даль, т. III, с. 138).
…вышло решение ~ распустить по оброку… — Распустить по оброку — отпустить из деревни на заработки, из которых уплачивался оброк.
…махнул… водой на сомине… — Сомина, соминка — речное судно, управляемое шестами (Даль, т. IV, с. 269).
…бобы разводить… — Здесь: канителиться, вести пустые разговоры.
На полштофчика, разогнать грусть-тоску… — См. комментарий на с. 557.
…голь саратовская?). — Выражение встречается также в «Сказке о царевне Ясносвете» (1840) (см.: наст. изд., т. I, с. 353).
…к кухмистеру сбегать… — Кухмистер — владелец небольшого ресторана.
…и ну по комнате с пугалом прыгать… — Сходный мотив использован Некрасовым в «Говоруне» (1843–1845) (см.: наст. изд., т. I, с. 390).
…частный знакомый и надзиратели приятели… — Частный пристав — начальник полицейского участка; участковые надзиратели — мелкие полицейские чиновники (см. также комментарий на с. 589).
Развязывай мошну-то. — Мошна — кошель, сумка с завязками.
В понедельник Савка мельник ~ В воскресенье Савка пан — Целый день как стелька пьян. — Эти стихи, распеваемые дворовым человеком, могут быть сопоставлены с песней «Пахомушка» из черновой рукописи «Кому на Руси жить хорошо» (глава «Пир на весь мир») — см.: наст. изд., т. V, с. 533. Они имеют фольклорную основу (ср. с юмористическими народными песенками о днях недоли: «В понедельник я влюбился, А весь вторник прострадал…» — Полный новейший песенник в тринадцати частях, собранный М. Гурьяновым, ч. 9. М., 1835, с. 111).
…в комнату вошел полуштоф, заткнутый человеческою головой вместо пробки… — «Заткнутый (в рукописных материалах — „закупоренный“) человеческою головой вместо пробки…» — сатирический троп, имеющий несомненную аналогию в «Записках сумасшедшего» Гоголя: «Он пробка, а не директор. Пробка обыкновенная, простая пробка, больше ничего. Вот которою закупоривают бутылки» (Гоголь, т. III, с. 209). Аналогичное выражение встречается у Некрасова в «Летописи русского театра. Апрель, май (1841)»: «старичок с физиономией, напоминающей пустую бутылку» (ПСС, т. IX, с. 467).
Между людьми, которых зовут пьющими ~ немудрено, что зеленый господин и действительно писал стихи… — Ср. очерк Булгарина «Русская ресторация», герой которого также «был некогда учителем, даже сочинял что-то, но таланта его не уважили, и он с горя спился с кругу… Прежде пивал запоем, а теперь пьет без просыпу!» (Булгарин Ф. В. Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка рода человеческого. СПб., 1843, с. 44). Однако эти внешние совпадения не дают оснований говорить о заимствовании, так как «бывший сочинитель», «спившийся бедняк», деклассированный интеллигент — образы, вообще чрезвычайно характерные для физиологических очерков 1840-х гг. История «зеленого господина» найдет свое дальнейшее развитие в романе о Тростникове (бывший учитель семинарии Григорий Андреевич Огулов) — см.: наст. изд., т. VIII.
Пеперменты — средство от кашля.
…«Богоявленский питейный дом». — Название питейного дома объясняется его местоположением поблизости от Морского Богоявленского Никольского собора, находившегося в Петербурге на Никольской площади (ныне пл. Коммунаров) рядом с Никольским рынком (см.: Пушкарев И. Путеводитель по Санкт-Петербургу и окрестностям его. СПб., 1843, с. 180–182).
Ты, брат, со мной не шути! ~ один палец, брат, восемьсот рублей стоил. — Рассказ «зеленого господина» перекликается с монологом Хлестакова в «Ревизоре»: «С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики… С Пушкиным на дружеской ноге <…> На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз» (Гоголь, т. IV, с. 48–50). См. также: Кулешов В. И. Натуральная школа в русской литературе, с. 268.
Действительный, брат, и кавалер… — Действительный тайный советник — чин первого и второго (высших) классов. См. также комментарий на с. 571.
…с Измайловым был знаком… — А. Е. Измайлов (1779–1831) — баснописец, прозаик, журналист; как баснописец пользовался у современников большой известностью.
У Яковлева на постоянном жительстве проживал… ~ и обедали, и водку-то пили… — Возможно, имеется в виду А. А. Яковлев (1762–1825), в 1803 г. обер-прокурор св. Синода, автор «Записок бывшего в 1803 г. обер-прокурором св. Синода», изданных позднее (М., 1915). Не исключено, что мог упоминаться живший в те годы М. А. Яковлев (1798–1853), литератор, водевилист, театральный рецензент, сотрудник «Северной пчелы», «Литературных прибавлений к „Русскому инвалиду“», «Библиотеки для чтения», с 1841 по 1842 г. редактор «Репертуара русского театра». В водевиле П. А. Каратыгина «Горе без ума» (1831) он был изображен в непривлекательном виде; современникам была известна эпиграмма на него:
Михайло Яковлев без споров Достоин всякой похвалы — Гроза бутылок и актеров И трутень «Северной пчелы»(см.: П. З. Пятидесятилетие со дня смерти первого русского рецензента. — НВ, 1911, 19 июля. № 12697).
…по пяти рублей ~ по пяти пощечин на день… — Цитата из комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль» (1783), слова Еремеевны в ответ на вопрос Кутейкина: «А велика ли благостыня?» (д. II, явл. 6).
…в русском государстве все пишут или писали стихи… — Некрасов иронизировал по поводу «стихотворной горячки» в рецензии «Пять стихотворений Н. Ступина» (ЛГ, 1842, 15 февр., № 7, с. 144–146). Ср. с аналогичным высказыванием В. Г. Белинского в статье «Русская литература в 1845 году»: «Писать стихи, даже порядочные, в наше время ничего не стоит, и в этом отношении „поэтов“ у нас несметные легионы — тьмы тем» (Белинский, т. IX, с. 392).
…русская литература началась с хвалебных гимнов на разные торжественные случаи… — Ср. с аналогичным высказыванием Белинского в статье первой «Сочинения Александра Пушкина» (ОЗ, 1843, № 4): «Идея поэзии была выписана в Россию по почте из Европы и явилась у нас как заморское нововведение. Ее понимали как искусство слагать вирши на разные торжественные случаи. Тредьяковский был привилегированным придворным пиитой и „воспевал“ даже балы и маскарады придворные, словно как государственные события. Ломоносов, первый русский поэт, тоже понимал поэзию как „воспевание“ торжественных случаев, и первая ода его (и в то же время первое русское стихотворение, написанное правильным размером) было песнию на взятие русскими войсками Хотина» (Белинский, т. VII, с. 107).
Известен анекдот о Тредьяковском, которого Волынский собственноручно наказал ~ не изготовил оды на какой-то придворный праздник. — В. К. Тредиаковский (1703–1768) — русский писатель; А. П. Волынский (1689–1740) — государственный деятель, дипломат, с 1738 г. кабинет-министр императрицы Анны Иоанновны, противник «бироновщины». Имеется в виду широко бытовавший в литературных кругах эпизод о наказании, которому подвергся по приказанию А. П. Волынского Тредиаковский за попытку последнего пожаловаться на него Бирону (см.: Пекарский П. П. Жизнеописание В. К. Тредиаковского. — В кн.: Пекарский П. П. История Академии наук в Петербурге, т. 2. СПб., 1873, с. 77–83). Этот эпизод мог быть известен Некрасову из статьи Белинского «Русский театр в Петербурге. „Ломоносов, или Жизнь в поэзии“» (ОЗ, 1843, № 3; Белинский, т. VII, с. 16). Приводится он и в книге Ф. В. Булгарина «Комары. Всякая всячина. Рой первый» (СПб., 1842, с. 16). Анекдот о Тредиаковском Белинский цитирует по «Запискам» Пушкина, опубликованным в «Северных цветах на 1827 год» (с. 112).
Поэт Петров официально состоял при Потемкине ~ в обозе действующей армии. — В. П. Петров (1736–1799), автор хвалебных од и посланий Екатерине II, Г. Г. Орлову, Г. А. Потемкину. За «Оду на карусель» получил от Екатерины II табакерку с 200 червонцами. С 1768 г. находился в дружеских отношениях с фаворитом Екатерины II Г. А. Потемкиным. Во время русско-турецкой войны Потемкин вел переписку с императрицей через В. П. Петрова, исполнявшего должность чтеца и переводчика при Екатерине II (см.: Поэты XVIII века, т. I. Л., 1972, с. 319–320).
В начале XIX столетия этот род литературы начал заметно упадать ~ всё было лучше, чем теперь. — Ср. высказывание Белинского в статье «Русская литература в 1844 году»: «На Руси еще не вывелись люди, которые <…> со вздохом вспоминают о пудре, о косах с кошельками, о висках ala pigeon, о шитых кафтанах, о шляпах-корабликах <…> о пирах, о „Петриаде“ Ломоносова, трагедиях Сумарокова, „Россиаде“ Хераскова, „Душеньке“ Богдановича, одах Петрова и Державина и обо всей этой поэзии, столь плодовитой, столь громкой, столь однообразной, некогда возбуждавшей такое благоговейное удивление, а теперь известной большей частию только по воспоминаниям, по преданию и по слухам» (ОЗ, 1845, № 1; Белинский, т. VIII, с. 431).
…сказал голосом, который очень бы шел Манфреду, просившему у неба забвения… — Ср. драматическую поэму Д.-Г. Байрона «Манфред» (1817, рус. пер. 1828): «Седьмой дух, все семь духов Манфреду: Скажи же, чего ты, сын смертных, хочешь от нас? Манфред: Забвения» (д. I, сцена 1).
Лет пятнадцати не боле ~ He кладите под кровать. — Ср. с песней, входившей в состав рукописных песенников XVIII в. и многочисленных печатных песенников начала XIX в. (см., например: Песни, романсы и куплеты из водевилей. М., 1833; Полный новейший песенник в тринадцати частях, собранный И. Гурьяновым, ч. 12. М., 1835; Карманный песенник. СПб., 1841 и др.):
Лет пятнадцати не боле Лиза погулять пошла, И, гуляя в чистом поле, Птичек гнездышко нашла.«Северная пчела» — см. комментарий на с. 550–551.
Mein lieber Augustin, Allen ist weg! — начальные строки популярного в России в XIX в. немецкого романса в ритме вальса, нередко упоминавшегося как образец пошлых слов и мотива. См., например: Дружинин А. В. Письма иногороднего подписчика о русской журналистике (1850). — В кн.: Дружинин А. В. Собр. соч., т. 6. СПб., 1865, с. 293; ср. «гаденькие звуки», «гаденький вальс» в «Бесах» (1870–1871) (Достоевский, т. XII, с. 251–252).
…пряничная форма! ~ метко выражается русский человек.) — Пряничная форма — доска с вырезными узорами (см.: Даль, т. III, с. 533). Перефразированная цитата из «Мертвых душ» Гоголя: «Выражается сильно русский народ!» (Гоголь, т. VI, с. 108).
Федотовна — баба добрая ~ хоть кого окальячит… — Содержательница «углов» Федотовна встречается в «Повести о бедном Климе», есть подобный персонаж и в романе о Тростникове (Дурандиха). Окальячить, т. е. обмануть, надуть, — слово, бытовавшее во Владимирской губернии (см.: Даль, т. II, с. 661).
Очерки литературной жизни*
Печатается по тексту первой публикации.
Впервые опубликовано: Финский вестник, 1845, т. II, отд. III, с. 25–56, с подписью: «Иван Вихрев».
В собрание сочинений впервые включено: ПСС, т. VI.
Автограф не найден.
Датируется 1845 г. по времени опубликования.
Авторство Некрасова установлено А. М. Гаркави на основании сюжетной и стилистической близости «Очерков» к тексту первой части романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (см.: Гаркави А. М. О новонайденном рассказе Н. А. Некрасова «Очерки литературной жизни». — Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та, 1949, № 122, сер. филол. наук, вып. 16, с. 125–136).
О возможном сотрудничестве Некрасова в «Финском вестнике», издававшемся в 1845–1847 гг. Ф. К. Дершау, приятелем Некрасова, писал в 1878 г. В. Горленко (см.: Горленко В. Литературные дебюты Некрасова. — Ст 1879, т. IV, с. CXIII); ср. также заметку «От редакции» (Финский вестник, 1846, № 7), содержавшую сообщение о том, что в журнале будут опубликованы «повести и нравоописательные статьи <…> Н. А. Некрасова» (обещание это, правда, выполнено не было).
Псевдоним «Иван Вихрев» сходен с другими псевдонимами Некрасова 1840-х гг.: «Иван Бородавкин», «Иван Иванович Грибовников», «Иван Пружинин» (см.: ПСС, т. VI, с. 562).
Судя по отсутствующим в романе о Тростникове (во второй его части) концу главы I и полностью главе II, «Очерки…» являются переработкой соответствующих мест романа (см. об этом указанную выше статью Л. М. Гаркави, а также: Крошкин А. Ф. Роман Н. А. Некрасова «Жизнь и похождения Тихона Тростникова». — Некр. сб., III, с. 45–47). Очевидно, Некрасов работал над «Очерками…» одновременно с романом о Тростникове, не напечатанным при его жизни. В «Очерках…» и второй части романа прослеживаются те же образы, ситуации, подчас текстуальные совпадения: «издатель-журналист» Дмитрий Петрович аналогичен «издателю газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа» (тоже Дмитрий Петрович), поэт Свистов и его приятель водевилист-драматург Посвистов соответствуют персонажам со столь же созвучными фамилиями Кудимов и Анкудимов (в романе и в рассказе «Необыкновенный завтрак»), «любезный и тощий актер», у которого «любезность составляла главную черту характера», — актеру, «отличавшемуся необыкновенной любезностью» (в романе). Сходны также главные герои «Очерков…» и романа: поэт Хлыстов и поэт Тростников (описание квартиры, внешности, поведения).
Многочисленные плоские каламбуры, произносимые издателем Дмитрием Петровичем, по стилю близки каламбурам в «Тихоне Тростникове» и «Необыкновенном завтраке»: «на белом свете черные дни», «мне еще желея <…> не жалея», «так дурно, что <…> может сделаться дурно», «мы прибыли для вашей прибыли» и др. (см. выше, с. 372, 374, 375). А. М. Гаркави (см. указанную выше статью, с. 131–132) отметил текстуальную близость характеристик издателя Дмитрия Петровича (прототипом которою явился Ф. А. Копи) в «Очерках…» и романе о Тростникове. 15 «Очерках…»: «издатель-журналист <…> ораторствовал с тем неподражаемым остроумием, которое так нравилось поклонникам его дарования» (с. 373). В «Тихоне Тростникове»: «Дмитрий Петрович был в моих глазах тем же, чем в глазах всех поклонников своего высокого дарования: я считал его одним, из умнейших и остроумнейших людей XIX столетия и верил слепо в непогрешительность его суждений» (ПСС, т. VI, с. 163).
Некрасов обыгрывает свойственную Ф. А. Кони черту, неоднократно отмечавшуюся его современниками. «Гениальный остряк Кони, — иронически писал А. А. Краевский М. Н. Каткову 11 марта 1841 г.,- аккуратно издает „Литературную газету“ и рассыпается в остротах, перед которыми и Жанен passes» (ЛН, т. 56, с. 154). И. И. Панаев в фельетоне «Петербургская жизнь, наметки Нового поэта» говорил: «Копи, обращавшийся некогда преимущественно к дамам в своих прелестных фельетонах с ловкостью почти светского человека» (С, 1858, № 12, с. 279).
«Очерки…» посвящены теме литературно-журнальной и театральной жизни 1840-х гг., литературному быту второстепенных и третьестепенных писателей, драматургов, фельетонистов, актеров — теме, к которой писатель уже обращался в повести «Без вести пропавший пиита», в водевилях «Утро в редакции. Водевильные сцены из журнальной жизни», «Актер», в стихотворении «Говорун», в романе о Тростникове, в рассказе «Необыкновенный завтрак».
Сатирическое изображение литературной среды привлекало внимание многих современников Некрасова: М. Н. Загоскина («Вечеринка ученых», 1817), В. Ф. Воейкова («Дом сумасшедших», 1838), Ф. А. Кони («Петербургские квартиры», 1840), Ф. В. Булгарина («Кабинет журналиста», 1844), И. И. Панаева («Тля», 1843; «Петербургский фельетонист», 1845) и других.
По содержанию, замыслу, художественной структуре «Очерки…» близки к повести И. И. Панаева «Тля» (ОЗ, 1843, № 2). На этот источник указывает сам Некрасов в начале повествования: «Кто-то из писателей очень метко охарактеризовал известный разряд петербургской пишущей братии названием „тли“» (с. 355). В повести И. И. Панаева в центре изображения — правы литературно-театральной петербургской среды, во многом определяемые журнальной конкуренцией, стремлением приспособиться к низкопробным вкусам публики: «В этот жалкий микроскопический уголок, где копошится литературная тля заднего двора, я введу моего читателя» (ОЗ, 1843, № 2, отд. I, с. 219).
В соответствии с темой повествование в «Очерках…» развертывается в сатирическом, фельетонном ключе. Значение и смысл рассказа не в искусство построения сюжета, а в иронической характеристике выведенных в нем типов мелких сочинителей, преуспевающих издателей, драматургов, фельетонистов, актеров, за которыми угадываются реальные лица (Ф. А. Кони, Ф. В. Булгарин, М. П. Погодин и др.), в прозрачных намеках на злободневные события и факты литературно-журнальной и театральной жизни 1840-х гг.
Мастерство Некрасова-пародиста (поэта и прозаика) раскрылось в «Очерках…» многозначно (см. об этом в указанной выше статье А. М. Гаркави, с. 129, и в его же работе «Некрасов-пародист», опубликованной в кн.: О Некр., вып. II, с. 69). Ярким примером литературной пародии на произведения эпигонов романтизма является отрывок из поэмы «Колыбель человечества», прочитанный поэтом Свистовым, в котором романтическая символика представлена как бессмыслица («Где розы — как девы, а девы — как розы», «…лучи, как червонцы…») и высмеяно традиционное для поздних романтиков пристрастие к восточной теме. Некрасов прокомментировал этот отрывок «значительными» словами фельетониста: «Нельзя не согласиться, что картина варварских восточных обычаев изображена с потрясающим сердце эффектом» (с. 365). Рассказ «туриста, недавно вернувшегося из-за границы», представляет собой сатирическую имитацию некоторых мест «Дорожного дневника» М. П. Погодина «Год в чужих краях» (1844; см. ниже, с. 598–600). В пародийно-комическом тоне воспроизведены облик и стиль поведения Ф. А. Кони — водевилиста и издателя, в сатирическом тоне звучат намеки на издателей «Северной пчелы» Ф. В. Булгарина и Н. И. Греча (см. с. 363).
В присущей «Очеркам…» сатирической фельетонной манере Некрасов развивал тезис Белинского о становлении «натуральной школы»: «Теперь выходят из моды и герои добродетели, и чудовища злодейства, ибо ни те, ни другие не составляют массы общества. Вместо их действуют люди обыкновенные, каких больше всего на свете, — ни злые, ни добрые, ни умные, ни глупые, по большей части положительно необразованные, положительно невежды, по отнюдь не дураки» (Белинский, т. VIII, с. 85).
Высмеивая представителей рептильной журналистики, беспринципных сочинителей (литературных «тлей», являющихся «гласом публики» — мелкого петербургского чиновничества), далеких от острых общественных проблем современности, Некрасов активно включался в борьбу за создание реалистической литературы, которую вел Белинский.
…надеялся своими стихами ~ перевоспитать всё человечество. — Перефразированная автоцитата из стихотворения «Стишки! Стишки! Давно ль и я был гений?..» (1845). Ср.: «„Избранники небес“, мы пели, пели И песнями пересоздать умы, Перевернуть действительность хотели» (наст. изд., т. I, с. 19).
Кто-то из писателей очень метко ~ названием «тли». — Имеется в виду И. И. Панаев, автор «Тли. (Не повести)» (ОЗ, 1843, № 2, отд. I, с. 213–297). Название повести Панаева широко вошло в литературу 1840-х гг., использовано Белинским в статье «Литературные и журнальные заметки» (ОЗ, 1843, № 3), в критическом отзыве «об изделиях драматической „тли“» (по поводу пьесы Н. А. Полевого «Ломоносов») (см.: Белинский, т. VII, с. 17).
В утреннем голубом сюртуке ~ декламируя какие-то стихи своего сочинения. — Описание внешности героя и его кабинета текстуально совпадает с аналогичным эпизодом в главе I части второй романа о Тростникове: «…я прохаживался в франтовском утреннем халате и в малиновой ермолке с золотым ободочком <…> подходил к зеркалу и долго внимательно любовался игрою своей физиономии, которая казалась мне чрезвычайно умной…» (ПСС, т. VI, с. 162). Ср. также с описанием кабинета «издателя какой-то газеты» в повести И. И. Панаева «Тля»: «…он, прохаживаясь по своему будуару в ермолке с золотой кисточкой, с сигаркой во рту <…> говорил <…> бросая порою значительные и довольные взгляды на ту стену, где висел его портрет, окруженный портретами всех гениев, начиная с Сократа до Жюль-Жанена включительно» (ОЗ, 1843, № 2, отд. I, с. 225).
Моншер — мой дорогой (франц. mon cher).
…с пальцем девять-с, с огурцом пятнадцать!.. — приглашение цирюльника с обозначением способа бритья и оплаты за услуги.
…петербургских апраксинцев… — т. с. торговцев Апраксина двора в Петербурге — рынка, где были расположены лавки, в которых, велась торговля галантерейными, суконными, шелковыми, холщовыми, бумажными и другими товарами (см.; Пушкарев И. Путеводитель по Санкт-Петербургу и окрестностям его. СПб., 1843, с. 445).
…фигура в фризовом сюртуке… — Фриз — толстая ворсистая ткань в виде байки. Фризовые шинели и сюртуки носили представители низшего сословия.
…китаец…мандарин пятой степени!.. — См. комментарий на с. 562.
…напевая куплет из недавно разыгранного водевиля: Да, истинно актеры жалки ~ И маску целый век носить. — Куплет из водевиля П. С. Федорова «Хочу быть актрисой, или Двое за шестерых» (1840).
Жан-Поль — псевдоним немецкого писателя Иоганна Пауля Фридриха Рихтера (1763–1825). О прекрасных переводах «некоторых жан-полевых афоризмов» Некрасов писал в рецензии на «Молодик» (1843; ПСС, т. IX, с. 117).
Жена, действительно, как древо Познания добра и зла ~ чудные дела… — цитата из водевиля П. А. Каратыгина «Булочная, или Петербургский немец» (1843). На второе издание этого водевиля (1844) Некрасов написал одобрительную рецензию (ЛГ, 1844, 29 июня, № 25, с. 428).
…издатели «Гремучей змеи»… — Имеются в виду издатели «Северной пчелы» Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч (ср. главу «Почтеннейший» в романе о Тихоне Тростникове — ПСС, т. VI, с. 183–189).
Есть край, где горит беззакатное солнце ~ Усеяно трупами мрачное дно… — Возможным объектом пародии в данном случае является перевод «турецкой повести» Байрона «Невеста абидосская», принадлежавший И. И. Козлову (<1826>):
Кто знает край далекий и прекрасный, Где кипарис и томный мирт цветут И где они как признаки растут Суровых дел и неги сладострастной Где дивно все, вид рощи и полян И девы там свежее роз душистых Тот край Восток, то солнца сторона! В ней все дышит волшебною красою, Но люди там с безжалостной душою: Земля как рай! Увы! Зачем она — Прекрасная, злодеям предана!..В статье В. А. Егорова «Две заметки о пародиях Некрасова» прослежено тематическое, композиционное, фразеологическое соответствие сатирической пародии Некрасова некоторым стихам перевода Козлова (см.: Некр. и его вр., вып. VI, с. 79–83). Первые строки ассоциируются также с «Песнью Миньоны» Гете — «Kennst du das Land…» («Ты знаешь край…»), которую Некрасов пародировал в «Дружеской переписке Москвы с Петербургом» (см.: наст. изд., т. II, с. 53). Последние две строки «Колыбели человечества» стилистически близки к стихам драмы Павлюкова «Навуходоносор» в «Тле» И. И. Панаева (ОЗ, 1843, № 2, отд. I, с. 245):
И бездыханное Амалафриды тело Низвергну со скалы в кровавый океан.Ср. также с переводом Козлова:
Но где ж Зюлейки друг младой; Чьей кровью волны обагрились?О «восторженном поэте» см. в стихотворении «Новости» (18–55): «Рекой лились гремучие стихи, Руками он махал как исступленный» (паст, изд., т. I, с. 29).
— Вроде Дантова ада… — Имеется в виду одна на частей «Божественной комедии» Данте Алигьери.
Задеть мою амбицию Я не позволю вам ~ А вы-то кто такой? — Куплеты из водевиля П. А. Каратыгина «Чиновник но особым поручениям» (1837). Ср. также комментарий на с. 621.
…водевилист-драматург ~ сказал вполголоса: «Помещу в водевиль!». — Часто повторяющаяся в «Очерках…» фраза (ср. аналогичный мотив в водевиле Д. Т. Ленского «Барская спесь, или Анютины глазки»: «Вдруг два прекрасных каламбура. Непременно помещу в водевильчик!» — РиП, 1842, кн. 7, с. 32).
Потом явился турист, недавно возвратившийся из-за границы ~ к какому разряду туристов принадлежал словоохотливый рассказчик. — Пародируемый в этих строках «Дорожный дневник» М. П. Погодина «Год в чужих краях, 1839», публиковавшийся в «Москвитянине» за 1843 г. (отд. изд.: М., 1844), был охарактеризован Некрасовым в рецензия на «Молодик» (1843) кап записки «без связи», состоящие «из множества лоскутков» (ПСС, т. IX, с. 112). Ср. пародию Герцена «Путевые записки г. Вёдрина» (ОЗ, 1843, № 11) и критическую оценку Белинского в статье «Париж в 1838 и 1839 годах, соч. В. Строева»: «…отрывистые отметки, подобные следующим; „ели, легли спать; вчера пошли было в дешевый кабак обедать — на дороге застиг проливной дождь, — писали с женой письма“, напомнили бы собою записки прославленного Гоголем титулярного советника Поприщина» (Белинский, т. VI, с. 61). В романе о Тростниково есть сходный эпизод: «молодой рябоватый человек» «с энтузиастическим жаром рассказывал об удивительном впечатлении парижской и итальянской оперы» (см.: наст. изд., т. VIII).
…дрался с пиренейскими разбойниками ~ несколько ран в Испании от тамошних герильо… — Герилья — название партизанской войны в Испании (исп. guerrilla, от guerre — война). Намок на политические события в Испании после испанской революции 1834–1843 гг. Ср. в рассказе Я. П. Буткова «Ленточка» (1845): «Нынче все рассуждают, даже иной порядочный, или, говоря языком невежественной старины, мальчишка, толкует об испанских <…> делах» (Бутков Я. П. Повести и рассказы. М., 1967, с. 57).
…видел развалины Колизея… — См. у Погодина: «Далее развалины базилики Константиновой, а там вдали, вдали Колизей. Я совершенно обезумел. Глаза перебегали от одного предмета к другому. Долго не хотелось сдвинуться с места» (Погодин М. П. Год в чужих краях. 1839, ч. 2. М., 1844, с. 86). Ср. стихотворение Некрасова «Колизей» (1840).
…ел медвежий окорок с Александром Дюма… — О популярных в 1840-е гг. романах А. Дюма Некрасов критически отзывался в рецензии на «Путевые заметки. Соч. Т. 4.» (1847): «…какой-нибудь калейдоскопический роман Фабрики Дюма» (ПСС, т. IX, с. 189).
…курил сигару с Жорж Санд… — Герой очерка И. И. Панаева «Тля. (Не повесть)» Гребенщиков «о Жорже Сан-де не имел никакого понятия и только слышал от кого-то, что она ходит в мужском платье и курит сигарки» (ОЗ, 1843, № 2, отд. I, с. 231). Ср. также стихотворения Некрасова «И он их не чуждался в годы оны…» (1843–1844) и «Прекрасная партия» (1852).
…ухаживал за мамзель Марс… — Анна Франсуаза Ипполита Марс (1779–1847) — французская актриса.
…играл в экарте с Рубина, Лаблашем и Тамбурини… — Экарте — азартная карточная игра для двух лиц (франц. ecarte — сброшенный). Джованни Баттиста Рубини (1795–1854) — итальянский певец, тенор; Луиджи Лаблаш (1794–1858) — итальянский певец, бас; Антонио Тамбурини (1800–1876), итальянский певец, тенор. О предстоящих в 1844 г. в Петербурге гастролях Рубини и Тамбурини Некрасов писал в «Журнальных отметках» (РИ, 1844, 17 ноября, № 208, с. 830). Лаблаш упоминается в числе «парижских удовольствий» в повести В. А. Соллогуба «Тарантас» (1845).
…читал рукописные записки Шатобриаиа… — Имеются в виду «Замогильные записки» («Les Momoires d'outre-tombe» французского писателя Франсуа Рене де Шатобриаиа (1768–1848), изданные посмертно (1848–1850). См. у Погодина: «На поклон схожу к одному Шатобриану» (Погодин М. П. Год в чужих краях. 1839, ч. 3. М., 1844, с. 24).
Я слушал лекции Кювье и Гумбольдта… — Погодин часто пишет о посещении им лекций в Сорбонне, Коллеж де Франс, в Академии естественных наук и т. д. В парижской Академии наук «в углах и в простенках бюсты. Здесь вы видите Кювье <…> Везде почтены заслуги» (Погодин М. П. Год в чужих краях. 1839, ч. 3, с. 125).
Жорж Кювье (1769–1832) — известный французский естествоиспытатель; Вильгельм Гумбольдт (1767–1835) — немецкий филолог, философ, языковед и государственный деятель.
…видел дом Гете, сидел на том самом стуле ~ погружался в свои глубокие размышления… — Ср. «Кабинет восковых фигур» (1843): «Кто ж это в бархатной скуфейке, С крестом французским на груди, Сидит так смирно на скамейке, На гроб так пристально глядит? То славный Гете современник, Писатель с чувством и умом» (наст. изд., т. I, с. 378).
…примеривал на свою голову колпак «остроумного сумасброда» Вольтера… — Ср. у Погодина: «Наняли коляску побывать в гостях у <…> Вольтера <…> Приемная и спальня Вольтера оставлены в прежнем виде…». Служитель Вольтера «прочел нам выученную речь свою о Вольтере, его привычках <…> показывая его вещи, письма» (Погодин Ж. П. Год в чужих краях. 1839, ч. 4. М., 1844, с. 161–163). Выражение «остроумный сумасброд» — возможно, парафраза слов Пушкина о Ж.-Ж. Руссо: «красноречивый сумасброд» («Евгеий Онегин», глава 1, строфа XXIV).
…заседаниях палаты пэров и депутатов… — Наименование составных частей парламента. Пэр — титул высшего дворянства. Палаты пэров и депутатов — верхняя и нижняя палаты. Ср. у Погодина: «Хотел было зайти в палату депутатов, но опоздал» (Погодин М. П. Год в чужих краях. 1839, ч. 3, с. 47).
…поддержал мадам Лафарж ~ готова была упасть в обморок… — Речь идет о Мари Лафарж, приговоренной парижским судом за отравление мужа к пожизненному заключению. В тюрьме Лафарж написала «Воспоминания», опубликованные в 1841 г., в которых обвиняла судей в пристрастности. Процесс по делу Лафарж, происходивший в Париже в 1840 г., широко обсуждался в русских газетах.
Речь шла о привидениях ~ сомнамбулизме и тому подобном. — Месмеризм, или животный магнетизм, — теория Мессмера (1733–1815), убежденного в существовании «магнитной силы», которую человек черпает из вселенной и истечение которой оказывает влияние на других людей. Теория эта пользовалась популярностью в конце XVIII — начале XIX в. Созданная Парижской академией наук комиссия пришла к заключению, что явления месмеризма в значительной степени сводятся к шарлатанству. Сомнамбулизм — то же, что лунатизм, — хождение во сне.
…из Токсова-то приехали… — Токсово — пригород Петербурга. «Токсово справедливо называют петербургской Швейцарией <…> Любителям уединенных прогулок поездка в Токсово может доставить истинное наслаждение» (Пушкарев И. Путеводитель по Санкт-Петербургу и окрестностям его, с. 466).
…ведь тут честь — драгоценнейшее сокровище человека… — Это выражение употребляется в аналогичном ироническом контексте в «Необыкновенном завтраке» (1843; см. выше, с. 324).
Адмиральский час! — Шуточное выражение, установившееся со времен Петра I и обозначавшее час, когда следует приступить к водке перед обедом.
…для него часто на белом свете черные дни… — Автоцитата из водевиля «Утро в редакции» (1841), куплеты Семячко: «И что на нашем белом свете Мне ежедневно — черный день» (наст. изд., т. VI, с. 71).
…целые тысячи подписчиков ~ всего-то триста осемьдесят один, и с гратисами… — Гратис (лат. gratis) — бесплатно. Бесплатные экземпляры раздавались для поднятия престижа издания. О борьбе журналистов за число подписчиков см. в романе о Тростникове (наст. изд., т. VIII).
…я не какой-нибудь… который наполняет свои фельетоны похвалами лавочкам и кондитерским… — Намек на Ф. В. Булгарина. Ср. аналогичный эпизод в «Петербургском фельетонисте» И. И. Панаева: «Он за сладкий пирожок пишет похвальное слово кондитеру; за десять сигарок восхваляет табачную фабрику; за фунт икры строит комплименты овощной лавочке» (ФП, ч. 2, с. 270).
…соорудил статейку о Задорине ~ по случаю выходки его на статью мою о петербургских гуляньях. — Имеется в виду водевиль Ф. А. Кони «Петербургские квартиры» (1840), в котором в образе журналиста Абдула Фадеича Задарина был высмеян Булгарин. Очевидно, здесь содержится и намек на статью Ф. А. Кони «История балов и маскарадов» (П, 1840, № 1), вызвавшую отрицательную оценку Булгарина в статье «Журнальная мозаика» (СП, 1840, 5 июня, № 124), и ответ Ф. А. Кошт «От редакции» (П, 1840, № 6) — см. об этом статью А. М. Гаркави «О новонайденном рассказе Н. А. Некрасова „Очерки литературной жизни“», с. 132–133. Ср. также выпад Булгарина против Кони в статье «Русская литература. Фельетон литературный»: «…г. Кони писал статейки по указанию редактора литературной части „Пчелы“ для „Смеси“ — о балаганах, штукарях, загородных гуляньях — это входит в состав „Северной пчелы“ не как литература и литературой никто этого не называл, а как городские известия» (СП, 1841, 24 дек., № 289).
Вот, говорю, есть в нашей литературе шмели… — Намек на Ф. В. Булгарина, автора книги «Комары. Всякая всячина. Рой первый» (СПб., 1842). Ср. статью Булгарина «Очерки русской литературы, соч. Н. Полевого»: «Мы еще удивляемся, что литературные осы и шмели так легко пропустили это сочинение!» (СП, 1840, 21 марта, № 65).
…издатель иногда читал свои статьи по пятидесяти раз в сутки ~ не имел обыкновения читать своих статей своему лакею… — Ср. близкую по стилю и содержанию цитату из статьи Белинского «Литературные и журнальные заметки» (ОЗ, 1842, № 1): «Он, бедный, совершенно помешался на литературной славе и статейки свои (которые почитает, разумеется, великими произведениями) еще в рукописи читает не только своим приятелям, но всем наборщикам типографии, в которой печатается его листок, своему лакею и даже привратнику» (Белинский, т. VI, с. 580).
…Литература наша ~ похожа на толкучий рынок… — Ср. авторское отступление о русской журналистике в романе о Тростникове: «Каждый, — почти каждый, — русский журнал той эпохи можно было сравнить с лавочкою толкучего рынка, где развешаны разные приманки и безотходно стоит ловкий парень с широким горлом, зазывающий покупателей, нагло выхваляющий гнилой товар своей лавчонки и осуждающий товар соседа» (ПСС, т. VI, с. 164–165).
…ваши десять в червях! — Карточный термин. Ср. в «Говоруне» (1843): «В червях игру сквернейшую сыграл…» (наст. изд., т. I, с. 395) и в некрасовских стихах коллективного фарса «Как опасно предаваться честолюбивым снам» (1846): «Кляyуся десятью в червях!.» (см. выше, с. 481).
…не жалели нашей наличности ~ влияние только на личности… — Намек на каламбуры в водевилях Ф. А. Кони «Женская натура» (1839): «И курс личной красоты Ниже красоты наличной» — и «Петербургские квартиры» (1840): «Собственной личностью, Звонкой наличностью Действуй вовек…».
Жена да повинуется своему мужу! — Усеченная цитата из Нового завета: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу» (Послание апостола Павла к ефесянам, гл. 5, ст. 22).
Психологическая задача*
Печатается по тексту первой публикации.
Впервые опубликовано: С, 1849, № 11, отд. V, «Смесь», с. 56–60, с подписью: «Н. Н.».
В собрание сочинений впервые включено: ПСС, т. V.
Автограф не найден.
Авторство Некрасова установлено И. Я. Айзенштоком в предисловии к публикации «Давняя быль. Из рассказов Щепкина» (Сов. искусство, 1938, 22 авг., № 111, с. 3); см. также: Айзеншток И. Л. Некрасов — редактор М. С. Щепкина. — ЛН, т. 53–54, с. 67–78.
В завершающей фразе «Психологической задачи» Некрасов сам прокомментировал историю происхождения этого произведения, указав, что в основу его был положен устный рассказ М. С. Щепкина.
В 1840-е гг. к устным рассказам артиста широко обращались многие современники: Гоголь в «Старосветских помещиках» (1835) и во втором томе «Мертвых душ» (1855), В. А. Соллогуб в «Собачке» (1845) и «Воспитаннице» (1845), Герцен в «Сороке-воровке» (1848). О Щепкине-рассказчике см.: Афанасьев А. М. С. Щепкин и его записки. — БдЧ, 1864, № 2, с. 1, 6–7.
По свидетельству Ф. И. Буслаева, «рассказы эти касались и старины, и новых порядков, и театра, и литературы, и серьезного, и пошлого» (Буслаев Ф. И. Мои досуги, ч. II. М., 1886, с. 235); ср. оценку П. С. Тихонравова: «Они рисовали все — пошлость, темную, трагическую сторону жизни» (Тихонравов Н. С. Соч., т. III. СПб., 1898, с. 544).
Рассказ М. С. Щепкина (1788–1863) мог быть услышан Некрасовым во время одной из встреч с актером в период с лета 1845 по октябрь 1849 г. Летом 1845 г. Некрасов и Щепкин были частыми гостями Герцена, жившего на даче в Соколове (см.: Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960, с. 268). 24 июня 1847 г. Щепкин посетил Некрасова в Петербурге (см.: ПСС, т. X, с. 68). 14 октября 1849 г. Некрасов присутствовал на бенефисе Щепкина в Александрийском театре на первой постановке пьесы Тургенева «Холостяк» (см. также: Гриц Т. С. М. С. Щепкин. Летопись жизни и творчества. М., 1966, с. 350, 404, 427).
Отсутствие иных фактических материалов, кроме указания Некрасова на источник, не позволяет судить о мере участия Щепкина в создании рассказа. Структура повествования свидетельствует об имитации сказовой манеры, принадлежащей, очевидно, Щепкину (см. об этом: Айзеншток И. Я. Некрасов — редактор М. С. Щепкина, с. 70). В рассказе использованы фольклорные элементы (сказочный зачин, троекратные повторы). Название «Психологическая задача» могло быть навеяно общим названием серии рассказов М. П. Погодина «Психологические явления» («Убийца», «Возмездие», «Корыстолюбец», «Неистовство», «Искушение»), посвященных патологическим состояниям человеческой психики (см.: Погодин М. П. Повести, ч. I. М., 1832, с. 167–202). Тема губительной власти денег, психология скупца нашли отражение в «Петербургском ростовщике» (1844) и в романе «Три страны света» (1848–1849). Отдельные сюжетные аналогии комментируемому произведению прослеживаются в стихотворениях «Извозчик» (1855) и «Секрет» (1855).
…на свитку… — Род верхней длинной одежды, шитой из домотканого сукна.
…кожух… — шуба, тулуп.
Происшествие, рассказанное здесь, не выдумано ~ Оно рассказано автору известным артистом московской сцены М. С. Щепкиным… — О М. С. Щепкине, который не был украинцем по национальности, С. Т. Аксаков писал, что он «перенес на русскую сцену настоящую малороссийскую народность, со всем ее юмором и комизмом. <…> Щепкин потому мог это сделать, что провел детство и молодость свою на Украине, сроднился с ее обычаями и языком» (Аксаков С. Т. Несколько слов о М. С. Щепкине. По случаю пятидесятилетия его театрального поприща. — В кн.: Аксаков С. Т. Собр. соч., т. 3. М., 1956, с. 618). С высокой оценкой артистической деятельности М. С. Щепкина Некрасов выступал неоднократно. В фельетоне «Петербургские дачи и окрестности» (1844) Щепкин назван «известным и любимым московским комиком» (ПСС, т. V, с. 470–471); в фельетоне «Отчеты по поводу Нового года» (1845) — «знаменитым московским артистом» (ПСС, т. V, с. 522); в статье «Холостяк, комедия в трех действиях Ив. Тургенева» (напечатанной в том же номере «Современника», где опубликована «Психологическая задача») — «одним из любимейших артистов как московской, так и петербургской публики» (ПСС, т. IX, с. 542).
Новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и Ко*
Печатается по тексту первой публикации.
Впервые опубликовано: С, 1850, № 4 (ценз, разр. — 31 марта 1850 г.), отд. I, с. 167–222, с. подписью: «Н. Некрасов».
В собрание сочинений впервые включено: стихотворение «Месть горца» — ПССт 1927; полностью — Собр. соч. 1930, т. III.
Автограф не найден.
Датируется концом 1849 — мартом 1850 г. В основу повести лег анекдот «Золеный любовник», впервые рассказанный в «Северной пчеле»:
«Недавно один немецкий лев волочился за женою красильщика. Муж подметил эти проделки и как-то врасплох застал любовника на коленях перед женою. Мщение было придумано им уже давно. Красильщик был сильный и дородный мужчина. Он притащил волокиту к красильному чану и окунул его в краску; после того поклонился и отпустил его. Кое-как добрался несчастный до дома, сопровождаемый насмешками толпы. Дома начал он мыться и чиститься, но все труды и усилия его были бесполезны: краска была с сильною протравою и лицо льва навсегда останется зеленым» (СП, 1844, 25 апр., № 92).
26 марта 1849 г. А. Н. Плещеев в письме к С. Ф. Дурову в числе других анекдотов, «которые ходят по Москве и делают страшный скандал», рассказал о подобном же случае: «Один гусар-офицер волочился за женой красильщика. Муж, возвратясь однажды из клуба ранее обыкновенного, застает его у себя, пьющего чай с его женой и облаченного в его халат; красильщик не отвечал ни слова на сказку, выдуманную офицером для истолкования такого пассажа, и сам присоединился к чаю. Часа два спустя красильщик зовет офицера посмотреть его фабрику. Офицер, обрадованный, что муж ничего не подозревает, согласился. В красильной в это время стоял огромный чан с синей краской, на изобретение которой красильщик только что получил привилегию. Когда они подошли к чану, оскорбленный супруг схватил офицера за шею и трижды окунул его лицом в краску. По окончании этого процесса офицер был совершенно небесный. „Ну, давайте я вас вытру“, — сказал, рассмеявшись, красильщик и, помочив тряпку в какую-то жидкость, стоявшую на окне в миске, стал вытирать ею лицо офицера. Но это была не вода, а такой состав, после которого краска уже не могла никогда сойти. Офицер в отчаянии бросился в клинику, но, что ни делали доктора, все напрасно. Призвали красильщика, он отвечал, что получил привилегию и не откроет своего секрета никому, но что перекрасить в черную краску может. Теперь бедный офицер лежит облепленный шпанскими мухами и не имея довольно денег, чтобы заплатить красильщику за открытие секрета. Красильщик — французский подданный, и наказать его нельзя. Не правда ли, славная история? Напоминает гоголевского поручика Пирогова, с которым Шиллер и Лессинг[45] также распорядились домашним образом. Этот факт составляет предмет разговоров, куда ни приди» (Дело петрашевцев, т. III. M.-Л., 1951, с. 293–294).
Повесть Некрасова характерна для эпохи «мрачного семилетия» (1848–1854), когда писатель-сатирик часто был вынужден ограничивать свои задачи лишь тем, чтобы забавлять и смешить читателя. «Стоит только сравнить „Краску Дирлинг“ с „Петербургскими углами“, написанными Некрасовым за несколько лет до того, — писал К. И. Чуковский, — чтобы увидеть, какая глубокая пропасть лежит между эпохой „Физиологии Петербурга“, „Петербургского сборника“ и мрачным семилетием, которое сменило ее. Поэт как бы сказал своим новым рассказом: уже нет ни малейшей цензурной возможности следовать за Гоголем в деле обличения ненавистного строя, так что приверженцам Гоголя до времени остается одно: воспроизводить внешние приемы его мастерства, внешнюю литературную форму» (Чуковский, с. 114).
Не исключено, однако, что окончательной редакции произведения предшествовала какая-то другая, не одобренная цензурой. 2 января 1850 г. Некрасов писал цензору «Современника» И. И. Срезневскому: «Препровождаю при сем повесть „Случайность“; г-ну Крылову она не понравилась в первобытном виде; он доложил о ней председателю — и решили они, чтоб ее переделать. Посылаемый оттиск есть уже переделанный, и в этом новом виде г-н Крылов подписал ее. Всё это считаю не лишним довести до Вашего сведения и вместе с тем всепокорнейше Вас прошу выдать поскорее эту повесть…». Произведение с таким названием в «Современнике» не печаталось. Предположение, что в письме речь идет о рассказе Н. Станицкого (А. Я. Панаевой) «Необдуманный шаг», напечатанном в № 1 журнала (см.: Звенья, V. М.-Л., 1935, с. 502–503; ПСС, т. X, с. 139), неосновательно. Январский номер «Современника» за 1850 г. был разрешен цензурой 31 декабря 1849 г. Название «Случайность» по соответствует содержанию упомянутой повести Панаевой. Комментируемая же повесть Некрасова с ее анекдотическим сюжетом вполне могла иметь первоначальное название «Случайность»; этими соображениями мотивируется (предположительно) первая дата при определении хронологических границ работы над повестью.
Явная зависимость автора «Новоизобретенной привилегированной краски…» от Гоголя, в частности от его «Невского проспекта», «как относительно его юмора, так и манеры изображения пошлости, преимущественно в мелочах обыденной жизни», впервые отмечена С. И. Пономаревым (Ст 1879, т. I, с. LXV).
Образ пошлого жуира Хлыщова продолжает галерею гоголевских хлыщей 1830-х гг. (Пирогов, Ковалев, Хлестаков и пр.). С героями «Носа» и «Ревизора» Хлыщова роднит тщательная забота о своей наружности (см., например, эпизод с носом Хлыщова, утратившим в дороге прежний цвет), тщеславие и наклонность к вдохновенной лжи (подробнее об этом см.: Зимина, с. 171–172, а также: Евгеньев-Максимов, т. II, с. 154–155). Образ камердинера Хлыщова, «мыслящего человека», любителя чтения, с удовольствием рассказывающего об образе жизни своего барина, восходит, по-видимому, к Петрушке из «Мертвых душ».
В творчестве самого Некрасова Хлыщову предшествует герой «Опытной женщины» (1841). В 1855 г. сходная с комментируемой повестью история о хлыще, в которой может быть отмечена скрытая цитата из «Невского проспекта», вошла в роман «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (ч. 2, гл. VIII). С «Невским проспектом» связан сюжет приписываемого Некрасову стихотворения «Обыкновенная история», в котором действует герой-хлыщ и эпиграф к которому взят из повести Гоголя (1845; см.: наст. изд., т. I, с. 438).
Поэтический эскиз образа хлыща можно видеть в портрете героя сатирического стихотворения Нового поэта (коллективный псевдоним И. И. Панаева и Некрасова) «Франт» (С, 1849, № 6, «Моды», с. 3–4):
Он молодец и в цвете лет, Он вечно завит, распомажен, К нему лазоревый, жилет Безукоризненно прилажен, А по лазори все цветы; Сюртук с иголочки и брюки Невероятной пестроты; В перчатках стянутые руки И сверх перчатки — бриллиант… Оп в полном смысле слова — франт! Брелоков бездна: рог и ножик, И барабан, и паровоз; Духи — экстре из тюбероз, И фонари у круглых дрожек!.. Сам бодрости своей не рад, В пальто на полосатой байке, В четырехместной таратайке Один оп скачет в Летний сад. Он у Дгоссо как будто дома, Кричит: «Матюшка! поскорей Подай мне коньяку иль рому Да редерер похолодней!» На стороне его все шансы, Оп обольститель легких дам: Всегда собой доволен сам, Оп в их кругу поет романсы, Он врет и хвастает без мер, Как Хлестаков, почти невольно, Всегда твердя самодовольпо: «Diantre, мон шер, ком са пут шер!»[46]Тема хлыщей развивалась и в таких произведениях писателей «натуральной школы», близких к «Современнику», как «Похождения Накатова» (1849) и «Свистулькин» (1855) Д. В. Григоровича; «Львы в провинции» (1852), «Опыты о хлыщах» (1854–1857) И. И. Панаева и др. В их ряду повесть «Новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и Ко» отличается особым мастерством Некрасова — юмориста и создателя комических характеров.
Пародийное стихотворение «Месть горца», по предположению В. Я. Бухштаба, написано ранее и в тексте комментируемой повести производит несколько искусственное впечатление (Некр. сб., II, с. 138).
Известен краткий пренебрежительный отзыв анонимного рецензента «Отечественных записок» о некрасовском произведении, «назначавшемся, вероятно, для другого отдела („Современника“, — Ред.) и по ошибке внесенного в „Словесность“»: «Литературного достоинства оно не имеет никакого, а случай, о котором рассказывает оно, давно все знали» (ОЗ, 1850, № 12, отд. VI, с. 131). Через пять лет В. Р. Зотов в рецензии на роман «Тонкий человек…» писал о «немногочисленных и неблестящих» прозаических опытах Некрасова, среди которых упоминал и «Новоизобретенную привилегированную краску…»: «Еще слабее была повесть, взятая из старинного анекдота о франте, выкрашенном ревнивым красильщиком в зеленую краску» (П, 1855, № 3, отд. IV, с. 6). В рукописном отделе ИРЛИ АН СССР (P. I, on. 20, № 9) хранится водевиль «Секрет красильни братьев Дирлинг», переделанный из произведения Некрасова. Пьеса подписана псевдонимом «Борисфен» и относится к 1920 г. Известна также инсценировка рассказа под заглавием «Зеленый человек» (1952) — см.: ЦГАЛИ, ф. 2679, он. 1, № 1155.
Брик — открытая коляска (от «бричка»).
На заре ты ее не буди ~ ланит… — неточная цитата из первого куплета романса А. Б. Варламова на слова А. А. Фета «На заре ты ее не буди».
Ассан сидел, нахмуря брови ~ выл. — Ср. начало поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан»:
Гирей сидел, потупя взор: Янтарь в устах его дымился.Кальян — у восточных народов курительный прибор, в котором табачный дым охлаждается и очищается, проходя через воду.
И, грозно молвив: «Крови! Крови!»… — См. комментарий на с. 557–558.
Любимым его чтением был «Кавказский пленник», после которого всего выше ставил он «Хаджи-Абрека»… — «Кавказский пленник» (1828) и «Хаджи-Абрек» (1833) — поэмы Лермонтова.
…в гостиницу Шора… — Эта гостиница находилась в Охотном ряду (ныне проспект Карла Маркса).
Фуляр — шелковый платок, в данном случае шейный.
Я, говорит, велел в дикую, а вы перекрасили в серую… — Дикой называлась темно-серая краска.
Вохра (охра) — минеральная краска желтого или красного цвета.
…рассказы о Фреццолини, о Ворси (Гризи и Марио тогда еще не было в Петербурге), о Фанни Эльслер… — Эрминия Фреццолини (1818–1884) и Джулия Борси (1817–1877) — итальянские певицы, гастролировавшие в Петербурге в 1848 г. Певцы-супруги Джованни Марио (1810–1883) и Джулия Гризи (1811–1869) приехали на гастроли в Петербург осенью 1849 г. Фанни Эльслер (1810–1884) — австрийская балерина, выступавшая в Петербурге в 1848–1851 гг. (см. о ней: наст. изд., т. VI, с. 671).
…яркими красками описывал он мнимые победы борсистов над фреццолинистами… — В сезон 1848–1849 гг. в итальянскую оперную труппу Большого театра в Петербурге, где до этого господствовала итальянская примадонна Д. Борси, была ангажирована прославленная Э. Фреццолини, потеснившая Борси. Предметом их соперничества был не только успех у зрителей, но и распределение ролей в спектаклях. Актрисы пользовались поддержкой совершенно различных социальных групп. Любимицей меценатов и аристократической публики, как пишет историк театра, была прославленная Фреццолини. «Верхние же ярусы лож и галереи, где заседали истинные, но неблестящие меломаны, остались верпы Борси и объявили себя врагами Фреццолини, которая отнимала от соперницы лучшие ее роли. <…> Таким образом образовались в зале Большого театра свои гвельфы и гибеллины, ожесточенные друг против друга. Борьба же выказывалась всего более в спектаклях, где участвовали обе примадонны, например в „Роберте“ и в „Дон-Жуане“. Каждая партия старалась вызвать лишний раз свою богиню и кинуть ей как можно более букетов. Борси брала верх числом, а Фреццолини качеством и дороговизною» (Вольф А. И. Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года, ч. 1. СПб., 1877, с. 128). Ср. об этом же «конфликте» театральных «партий» в рассказе Ф. М. Достоевского «Чужая жена и муж под кроватью» (1849) — Достоевский, т. II, с. 62, 481.
Он говор ~ прозябанье. — Слегка измененная цитата из стихотворения Е. А. Баратынского «На смерть Гете» (1832):
И говор древесных листов понимал, И чувствовал трав прозябанье…«Библиотека для чтения» — журнал, издававшийся в 1830-1850-е гг. в Петербурге О. И. Сенковским, постоянный оппонент и соперник некрасовского «Современника» в 1840-е гг.
Он вспомнил зеленые бронзовые головы, привлекавшие некогда толпу зрителей ~ к фокуснику Родольфу… — Выступления фокусника Родольфа в Петербурге в 1843–1844 гг. с автоматами, которые отвечали на вопросы, рисовали, считали, имели большой успех у публики. «В соответствии с автоматом, — писала одна из петербургских газет, — г-н Родольф приготовил две „мемноновы головы“, висящие „на лентах“ <…> и не прикасающиеся к стене. Каждая из этих голов — безделица! — дает ответ на какой угодно вопрос, предложенный вами другой голове тихонько, шепотом, на ухо; не хотите, чтоб ответ на ваш вопрос произнесен был громко, скажите одно слово — и тут же стоящий аппарат Эльфодор, ничем не сообщающийся с этими головами, напишет вам ответ» (РИ, 1844, 11 окт., № 228; см. также: РИ, 1844, 29 окт., № 244; ЛГ, 1844, 16 ноября, № 45).
Ладан — ароматическая смола некоторых тропических деревьев, употребляемая для курения, главным образом при богослужении.
…не двести ассигнациями, а шестьдесят пять тысяч серебром. — О переводе ассигнаций на серебро см. комментарий на с. 555.
…просить привилегию… — Здесь: хлопотать о патенте.
…муаре… — т. е. под муар, ткань, имеющую переливчатую окраску.
Против него стоял его дагерротипный портрет… — Дагерротипные портреты — первоначальное название изобретенных в 1839 г. Л.-Ж. Дагером фотографических снимков.
Полисоны — крахмальные оборки (франц. polisson).
Мабет — недобор взяток в карточной игре, штраф за этот недобор.
Тонкий человек, его приключения и наблюдения*
Печатается по тексту первой публикации.
Впервые опубликовано: С, 1855, № 1, отд. I, с. 171–204, с подписью: «Н. Некрасов».
В собрание сочинений впервые включено: отрывок «За стеной (Драматическая сцена)» — Собр. соч. 1930, т. III; полностью — ПСС, т. VI.
Автограф с полным текстом не найден.
Черновой автограф отрывка главы III и двух отрывков драматической сцены «За стеной» — ГБЛ, ф. 195, М5757.3, карт. 1, ед. хр. 3 (варианты этих отрывков публикуются в составе свода вариантов к роману «Топкий человек, его приключения и наблюдения» — см.: наст. изд., т. VIII).
«Тонкий человек…» создавался, по-видимому, в период между 1853 и 1855 гг. Об этом свидетельствуют отраженные в нем биографические факты. В апреле-августе 1853 г. Некрасов совершил поездку в Алешунино Владимирской губернии, впечатления от которой воплотились в «Тонком человеке…»: Грачов и Тростников (его герои) выезжают из Петербурга во владимирское имение Грачова весной 18 ** года и путешествуют по тем же местам, что и Некрасов; без изменения оставлены названия окрестных городов и деревень (Гороховец, село Красное).
Описание имения Грачова («Дом стоит на возвышении, которое постепенно сливается с низменностию, предшествующей луговому берегу Оки ~ перед самыми окнами дома чудесное озеро…», с. 447) совпадает с описанием дома Некрасова в Алешунине («маленьком именьишке моего отца, которое он передал мне близ города Мурома») в письме к Тургеневу от 6–9 июля 1853 г.
Отмечавшийся исследователями (В. Е. Евгеньевым-Максимовым, К. И. Чуковским) автобиографизм «Тонкого человека…» не является основной его особенностью. Судя по содержанию первых четырех глав, опубликованных в «Современнике» (в автобиографических записях 1877 г. «Тонкий человек…» назван романом), Некрасов обратился к новой для ого прозы теме судеб русской дворянской интеллигенции, воспитывавшейся в кружках, жизнь которых при большой духовной напряженности носила умозрительный характер, была оторвана от практики. В продолжении романа, не завершенного и не опубликованного при жизни писателя, эта тема найдет свое дальнейшее развитие, перерастет в злободневную для середины 1850-х гг. и характерную для творчества Некрасова проблему либерализма и связанную с нею проблему народа (см.: наст. изд., т. VIII).
Название «Тонкий человек…» и часто повторяющиеся в первых главах романа выражения «тонкость», «перетонил» ироничны. По своей смысловой наполненности (фразерство, болезненное самолюбие, склонность к эффектам, эгоизм) понятие «тонкий человек» у Некрасова созвучно тургеневской формуле «лишний человек». Однако в отличие от Тургенева, которого более интересовали психологическая природа данного типа, его философские корни, Некрасов, как и многие другие писатели «натуральной школы» (И. И. Панаев («Родственники», 1847): Я. П. Бутков («Странная история», 1849); А. И. Пальм («Жак Бичовкин», 1849)), делал акцент на социально-политическом факторе, способствующем появлению «тонких людей». «Тонкий человек» Некрасова — разновидность тургеневского «лишнего человека», данная целиком в иронической, развенчивающей интерпретации.
Ориентация Некрасова на тургеневский тип с целью его переосмысления и дискредитации прослеживается в тематических и текстуальных совпадениях ряда эпизодов, мотивов в «Тонком человеке…» и «Гамлете Щигровского уезда» (1849). Оба героя — Грачев (у Некрасова) и Василий Васильевич («Гамлет Щигровского уезда») — представители дворянской интеллигенции, духовно воспитывавшиеся в кружках передовой дворянской молодежи 1830-1840-х гг. (как сказано у Некрасова, «в кружке умников»), «энциклопедисты», фразеры. Обоих «самолюбие гложет» и мучает «постоянное напряжение придумать что-нибудь оригинальное» (с. 441). Для Василия Васильевича («Гамлет Щигровского уезда») поездка в деревню-пройденный этап. В романе же Некрасова повествование начинается с дающего «ключ» к внутреннему миру героя многословного «признания» Грачева, сводящегося к банальному решению — «не лучше ли уехать навсегда в деревню».
К. И. Чуковский, В. Б. Евгеньев-Максимов, А. Н. Зимина отмечали художественную близость «Тонкого человека…» и «Записок охотника» Тургенева. Это наблюдение справедливо лишь по отношению к роману в целом. «Для изображения крестьян и крестьянского быта Некрасов воспользовался формой „Записок охотника“» (см.: Зимина, с. 198). В главах же, опубликованных в «Современнике», эта тема отсутствует.
У истоков «Тонкого человека» стояли и «Мертвые души» (1842) Гоголя, и «Тарантас» (1845) В. А. Соллогуба, в котором «Мертвые души» переосмысливались в духе очерковой «физиологии» (о Соллогубе см.: Логман Л. М. «Натуральная школа» и проча начала 1850-х гг. — В кн.: История русской литературы, т. 2. Л., 1981, с. 607). Если сходство романа Некрасова с «Тарантасом» Соллогуба ограничивается внешним сюжетным совпадением: в тарантасе едут два барина, наблюдающих Россию, то на Гоголя как на литературный источник ссылается сам Некрасов в связи с поставленной в начале «Тонкого человека…» проблемой литературной преемственности и признанием себя учеником и последователем школы Гоголя (о гоголевской традиции в романе см.: Евгеньев-Максимов, т. II, с. 191–192).
«Тонкий человек…» — зрелое прозаическое произведение Некрасова и. по проблематике, и по художественной форме. По наблюдению В. В. Жданова, писатель создал в нем «одну из разновидностей того социального типа, разоблачение которого в дальнейшем станет предметом некрасовской сатиры <…>. Фигура Грачева занимает свое место где-то посредине между помещиком Данковым, бегло обрисованным в „Трех странах света“, и Агариным из поэмы „Саша“, создававшейся в те же годы, что и „Тонкий человек“» (Жданов Б. В. Заметки о Некрасове. — Нов. мир, 1971, № 9, с. 241, см. также: Зимина А. П. Проблема лишнего человека в творчестве Некрасова 50-х годов. (Поэма «Саша», роман «Тонкий человек, его приключения и наблюдения»). — Учен. зап. Удмуртск. гос. пед. ин-та 1956, вып. 10, с. 99–118).
Существенной особенностью «Тонкого человека…» является его жанровое своеобразие. Роман лишь внешне сохраняет сходство с «физиологическими очерками». Традиционная для литературы 1840-1850-х гг. форма повествования («записки, признания, воспоминания, автобиографии») Некрасовым отвергается как устаревшая и не соответствующая его замыслу. Цель автора — раскрытие несостоятельности «тонкого человека» — выясняется в процессе диалога-спора «не только и по столько между приятелями Грачовым и Тростниковым, чьи взгляды <…> не всегда совпадают, сколько между повествователем и „Тонким человеком“» (см.: Карамыслова О. В. О жанре романа Н. А. Некрасова «Тонкий человек, его приключения и наблюдения». — Некр. и его вр., вып. V, с. 46; ср. также ее работу: Образ автора-повествователя в романе Н. А. Некрасова «Тонкий человек, ого приключения и наблюдения». — Некр. и его вр., вып. IV, с. 57–63).
Диалогичность романа позволила Некрасову органически включить в текст четвертой главы драматическую сцену «За стеной», представляющую собой разговор, подслушанный Грачовым и Тростниковым во время их пребывания на постоялом дворе. В основу сцены было положено «Письмо от купца купцу», напечатанное Некрасовым в «Литературной газете» (1845, 1 марта, № 8) (см. об этом: Евгеньев-Максимов, т. II, с. 191). В «Тонком человеке…» полностью сохранен язык и стиль «Письма» (текст его, изредка прерываемый репликами хозяина, произносится гостом), его сюжет — сватовство купца, близкий отдельным мотивам пьес Гоголя («Женитьба») и А. Н. Островского (анализ «За стеной» см. в кн.: Некрасов и театр. Л., 1948, с. 199–200, в главе XII, написанной К. К. Бухмейер).
В романе содержится диалог-рассуждение по поводу возможности использования этого вставного эпизода в качестве самостоятельного драматического произведения: «- Каков разговор? — сказал Грачов своему приятелю <…> Не правда ли, чудо? Если записать, выйдет маленькая комедия <…> — Да, разговор недурен. Но, признаюсь, я не желал бы быть автором такой комедии. — Почему? — Да потому, что выйдет… подражание» (с. 468).
Отказываясь от подражания, но не отвергая его «полезности» («…два-три мастерские снимка исчерпывают ее <среду> всю, и, сколько ни списывай потом, всё будет казаться подражанием и повторением» и далее: «Такие вещи печатать полезно. <…> потому полезно… что никому не вредно» — с. 468), Некрасов еще раз обращался к проблеме литературной преемственности, поставленной в начале романа, к занимавшему Белинского вопросу о соотношении и взаимозависимости гениев и талантов, больших талантов и обыкновенных беллетристов.
На этом эпизоде заканчивается известная современникам часть «Тонкого человека…» (творческую историю последующих глав романа см.: наст. изд., т. VIII).
Роман остался почти не замеченным критиками. В отрицательном отзыве о «Тонком человеке…», Вл. Зотов давал негативную оценку прозе Некрасова в целом, отмечая, однако, его поэтическое дарование: «Прозаические опыты г-на Некрасова до сих пор были немногочисленны и неблестящи. <…> Новое произведение его, судя по началу, немного прибавит к известности г-на Некрасова как повествователя. Оно резко разделяется на две половины: в первой рассказывается история одного Тонкого человека, сильно смахивающего на хлыща; во второй разговор о неудачном сватовстве содержателя постоялого двора за купеческую дочку. В этой части много верно схваченных и комических подробностей, но целое растянуто. Впрочем, подождем окончания похождений Тонкого человека» (П, 1855, № 3, «Петербургский вестник», с. 6). Снисходительно, но очень бегло отозвался о «Тонком человеке…» О. И. Сенковский: «Мы не можем скрыть удовольствия, доставленного нам несколькими страницами „Тонкого человека“ г-на Некрасова и в особенности панегириком Раппо…» (БдЧ, 1855, № 2, с. 46).
Своеобразным откликом на роман Некрасова явилось обилие реминисценций из пего в статье А. А. Григорьева «И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа „Дворянское гнездо“» (1859). «Авторы всех подобных произведений, — писал Григорьев по поводу провинциальных отрицателей „драматических пословиц“ Мюссе и его русских подражателей, имея в виду „Где тонко, там и рвется“ Тургенева, — стремились к тонкостям. Тонкость была повсюду: тонкость стана героинь, тонкость голландского белья и т. д. — тонкость, одним словом, и притом такая, что стан, того и гляди, напомнит жердочку народной песни…» (РСл, 1859, № 5, «Критика», с. 23–25).
Так и Манфред не часто смотрел… — Манфред — герой одноименной трагедии Д.-Г. Байрона, обладал тяжелым, убийственным взглядом. См. также комментарий на с. 593.
…теперь только и пишутся, что записки, признания, воспоминания, автобиографии. — Ср. высказывание А. В. Дружинина в «Письмах иногороднего подписчика» (1849): «Наши журналы теперь очень щедры на жизнеописания. В „Отечественных записках“ кроме „Замогильных записок“ Шатобриана начали помещаться отрывки из „Признаний Ламартина“» (Дружинин А. В. Собр. соч., т. VI. СПб., 1865, с. 99). Многочисленные мемуарные и биографические произведения и отклики на них публиковались и на страницах «Современника». См., например: Поэзия и правда моей жизни. Записки Гете (1849, № 9); <Уваров С. С> Литературные воспоминания А. В. (1851, No. 6); <Гаевский В. П.> Записки В. М. Головнина в плену у японцев… Спб., 1851 (1851, № 11); Дизраэли И. Литературный характер, или История гения, заимствованная из его собственных чувств и признаний (1853, № 5-11); Путешествия, записки, приключения и битвы. Воспоминания из морской жизни Люи Гернерея (Луи Гернсре). М., 1853–1854 (1854, № 2); Ковалевский Е. П. Жизнь и смерть последнего владыки Черногории и последовавшие затем события (1854, № 6); Зиссерман А. Л. Десять лет на Кавказе (1854, № 9) и др.
…жизнь тяжкое бремя? — Перефразированная строка из стихотворения Пушкина «Телега жизни» (1823): «Хоть тяжело подчас в ней бремя..».
…не есть ли вся моя жизнь пошлое повторение одних и тех же пошлостей? — Восходит к гоголевскому выражению «пошлость пошлого человека» из «Четырех писем к разным лицам по поводу „Мертвых душ“». По словам Гоголя, главное свойство его таланта определено Пушкиным: «Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем» (Гоголь, т. VIII. с. 292). Использовано в статье Белинского по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями» (1847) (Белинский, т. X, с. 75).
…тонкий человек — глупая страсть к тонкостям… — Выражение «тонкий человек» с ироническим оттенком встречается в комедии Ф. А. Кони «Деловой человек, или Дело в шляпе» («Жучок: Прощай, тонкий человек», «на тонких экскузациях с ним» — П, 1840, № 6, с. 6–9; указано А. М. Гаркави — см. его картотеку, хранящуюся в ИРЛИ). Иронически использовано А. В. Дружининым в «Письмах иногороднего подписчика»: «Крестовский — писатель тоже весьма умный <…> но <…> нужно признаться, что за прошлый месяц он употребил во зло привилегию поэтов и беллетристов быть тонкими во вред свежести и занимательности взятого ими на себя труда. Тонок, и нечист!». Критикуя современных беллетристов, «потчующих» читателя «психологическими анализами, описанием микроскопических страданий и мельчайших страстей», Дружинин также иронизировал по поводу «тонкости» подобных сюжетов: «Опять тонкость и отсутствие чистоты, то есть ясности» (Дружинин А. В. Собр. соч., т. VI. СПб., 1865, с. 736–737, 810). В «Современнике» за 1854 г. (№ 4, отд. V, с. 69–80) была опубликована статья «Топкие критики» за подписью «Z». Ср., кроме того, эпиграмму П. А. Каратыгина по поводу пьесы Тургенева «Где тонко, там и рвется» (1848): «В комедии своей он так перетончил, что скажешь нехотя: где тонко, там и рвется» (цит. по: Варнеке В. В. История русского театра, т. 2. Казань, 1910, с. 332).
Ждали нового инспектора ~ пьяная фигура с просительным аттестатом. — Ситуация с «просительным аттестатом» используется в «Повести о бедном Климе» и в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» (см.: наст. изд. т. VIII).
Он еще не толст ~ похож на Павла Иваныча Чичикова. — Реминисценция из «Мертвых душ» Гоголя (ср. описание внешности Чичикова в главе I: «ни слишком толст, ни слишком тонок» — и в главе VIII: «Герой наш <…> чувствовал какую-то ловкость необыкновенную: раскланивался направо и налево, по обыкновению своему, несколько набок, по совершенно свободно…» (Гоголь, т. VI, с. 7, 162–163).
…попасть в круг, где любят-таки поговорить о существенных вопросах науки, жизни, современности и проч. ~ постоянное напряжение придумать что-нибудь оригинальное умерщвляет в них последний остаток ума… — Ср. характеристику московских кружков 1830-1840-х гг. в «Гамлете Щигровского уезда» Тургенева: «…кружок — да это гибель всякого самобытного развития; кружок — это безобразная замена общества, женщины, жизни; кружок… о, да постойте; я вам скажу, что такое кружок! <…> кружок заменяет разговор рассуждениями, приучает к бесплодной болтовне <…> прививает вам литературную чесотку; лишает вас, наконец, свежести и девственной крепости души. Кружок — да это пошлость и скука под именем братства и дружбы <…> оденешься и поплетешься к приятелю <…> толковать о немецкой философии, любви, вечном солнце духа и прочих отдаленных предметах» (Тургенев, Соч., т. IV, с. 284–285).
…умного кружка, сношения с которым облекал он, должною таинственности), намекая, будто сам принимал участие в его деятельности. — Возможно, здесь содержится намек на кружок петрашевцев. О пропагандистской деятельности Петрашевского Некрасову могло быть известно через И. В. Павлова, студента Московского университета, с которым он познакомился летом 1845 г. у Герцена в Соколове (см. недатированное письмо И. В. Павлова к А. И. Малышеву — ГБЛ, ф. 135, карт. 60, ед. хр. 06, л. 3; см. также: Анненков П. В. Литературные воспоминания. М., 1960, с. 531).
Тонкий человек — величайший энциклопедист, хоть, может быть, учился плохо и в дрянной школе, ~ Он мог бы написать превосходную книгу о чем угодно ~ не хочет. — Ср. у Тургенева в «Гамлете Щигровского уезда»: «Что мне в том, что у тебя голова велика и уместительна и что понимаешь ты всё, много знаешь, за веком следишь, — да своего-то, особенного, собственного, у тебя ничего нету! <…> я от скуки попытался было пуститься в литературу и даже послал статейку в журнал, если не ошибаюсь, повесть…» (Тургенев, Соч., т. IV, с. 280, 293).
…желчь моя подымается и аппетит пропадает. — Ср. у Тургенева в «Гамлете Щигровского уезда»: «…с негодованием, доходившим до голода…» (Тургенев, Соч., т. IV, с. 276).
…(славное сравнение пришло мне в голову) ~ пошлая мысль, которой я дал, благо готова, форму сравнений Гоголя… — Возможно, имеется в виду лирическое отступление в главе V «Мертвых душ»: «Везде где бы ни было в жизни, среди ли черствых, шероховато-бедных и неопрятно-плеснеющих низменных рядов ее, или среди однообразно-хладных и скучно-опрятных сословий высших, везде хоть раз встретится на пути человеку явленье, не похожее на всё то, что встречалось ему видеть дотоле, которое хоть раз пробудит в нем чувство, непохожее на те, которые суждено ему чувствовать всю жизнь. Везде, поперек каким бы ни было печалям, из которых плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, как иногда блестящий экипаж с золотой упряжью, картинными копями и сверкающим блеском стекол вдруг неожиданно пронесется мимо какой-нибудь заглохнувшей бедной деревушки, не видавшей ничего, кроме сельской телеги, и долго мужики стоят, зевая, с открытыми ртами, не одевая шапок, хотя уже давно унесся и пропал из виду дивный экипаж. Так и блондинка тоже вдруг совершенно неожиданным образом показалась в нашей повести и так же скрылась» (Гоголь, т. VI, с. 92).
…бургонское… — сорт красного вина.
…столбовые русские дворяне… — потомственные дворяне старинного рода.
…в английском магазине… — См. комментарий на с. 561.
…английское ружье Пордэ (Purdey). — Д. Пордей (Purday) — английский оружейник (см.: Романов С. И. Охотничий словарь, вып. I. M., 1876, с. 202–203). В письме к Тургеневу от 5 апреля 1861 г. Некрасов обращался к нему с просьбой купить в Лондоне или Париже ружье этой системы.
«Раппо — чистый английский пойнтер ~ А как он подводил!» — О своей собаке Раппо Некрасов упоминает в письме к Тургеневу от 6–9 июля 1853 г. Отрывок из «Охотничьего журнала» Грачова тематически близок главке «Легавая собака» из «Записок ружейного охотника» (1852) С. Т. Аксакова, по поводу которых Некрасов писал 16 мая 1852 г. Тургеневу, что он «в новом от них восхищении».
…приводил к Грачеву мрачную собаку и не менее мрачного мужика, который именовался хозяином собаки. — Аналогичный эпизод содержится в «Петербургских углах» (см. с. 354).
…в Гороховце или, точнее, в селе Красном… — Гороховец — уездный город Владимирской губернии, расположен на правом берегу Клязьмы, ныне районный центр Владимирской области. Село Красное находилось в Гороховецком уезде той же губернии.
Благовещенье — один из двенадцати религиозных праздников, связан с христианским мифом об архангеле Гаврииле, возвестившем деве Марии о рождении Иисуса Христа; отмечался 25 марта (7 апреля).
…огуречным рассолом, что ли, помойся. — Реминисценция из Гоголя (см. комментарий на с. 571).
…красным товаром торгует… — Красный товар — мануфактура, ткани.
…шавель проезжая пристает: всё больше обозчики… — Слово «шавель» употребляется в Новгородской области в значении: сброд, ничтожный люд, дрянь; обозчики (просторечное) — занимающиеся извозным промыслом.
…на эткую ловасть ~ дичь палявая! — Ловасть — просторечное от ловить, ловец; здесь в значении: сватья. Палявая — просторечное от паленая.
Как опасно предаваться честолюбивым снам*
Печатается по тексту первой публикации.
Впервые опубликовано: НА (ценз. разр. — 5 марта 1846 г.), с. 81–128.
В собрание сочинений Некрасова впервые включено: стихотворные тексты — ПССт 1927; полностью — ПСС, т. V.
Автограф не найден.
Датируется по первой публикации.
Фарс написан Некрасовым (см. его псевдонимы «Дружинин» и «Белопяткин» в подзаголовке) совместно с Д. В. Григоровичем и Ф. М. Достоевским (их коллективный псевдоним — Зубоскалов). Вопрос о степени участия каждого из соавторов, до сих пор остающийся дискуссионным, поставлен впервые К. И. Чуковским (см.: Чуковский К. Неизвестное произведение Ф. М. Достоевского. — Жизнь искусства, 1922, 10 янв., № 2 (825), с. 5–6). В 1916 г. исследователь обнаружил среди некрасовских рукописей на одной порыжелой и шершавой бумажке (относящейся к первоначальной поре его творчества) <…> следующие строки:
Лещ, конечно, отличная вещь, Но есть вещи получше леща… —и справа внизу:
За «Честол<юбивые> сны»:
Григор<овичу> 50
Дост<оевскому> 25
(указ. соч., с. 5).
По мнению Чуковского, высказанному в указанной публикации (см. также: ПССт 1934–1937, г. I, с. 626), Некрасову принадлежат стихотворные фрагменты и главы, Достоевскому — глава VI, остальная часть фарса написана Григоровичем. Не следует, по-видимому, исключать и вероятности соавторства И. И. Панаева: неслучайно стихотворение «Они молчали оба» с цензурным пропуском ст. 14–15 вошло в «Собрание стихотворений Нового поэта» (СПб., 1855, с. 56) и с той же купюрой — в посмертное «Первое полное собрание сочинений Ивана Панаева» (т. 5. СПб., 1889, с. 39–40); мнение Б. Я. Бухштаба о невозможности участия Панаева в сочинении фарса представляется недостаточно аргументированным (см.: Бухштаб В. Я. Некрасов в стихах «Нового поэта». — Некр. сб., II, с. 434–444). Т. 10. Хмельницкая, атрибутировавшая Достоевскому главы III и VI фарса, указала также на то, что решение проблемы авторского участия на уровне глав для небольшого коллективного произведения является упрощенным; в таком случае «можно говорить только о преобладании того или иного из соавторов в разных главах повести» (Фельетоны сороковых годов. М.-Л., 1930, с. 366). «Манеру Достоевского» в главе III фарса обнаруживает и Б. Я. Бухштаб. «Некоторые абзацы ее, — указывает исследователь, — кажутся словно взятыми из „Двойника“, над которым Достоевский работал в ту пору…». Атрибутируя главы III и VI Достоевскому, Б. Я. Бухштаб высказал также предположение о возможности «участия Некрасова в прозаической части фарса» (ПСС, т. V, с. 639). Это предположение встретило поддержку В. Е. Евгеньева-Максимова, склонного атрибутировать Некрасову «некоторое количество прозаических отрывков» произведения. Исследователь обратил внимание на перекличку сцены «разноса» (глава VII) из «Как опасно предаваться…» со сценой с его превосходительством из только что появившихся в печати «Бедных людей» (1846) Достоевского. Сопоставляя отношение к чиновничеству Достоевского — автора романа «Бедные люди» и Некрасова — одного из авторов фарса (и «Колыбельной песни»), Евгеньев-Максимов писал: «…мы вправе заключить, что <…> революционно-демократические элементы мировоззрения Некрасова восторжествовали над либерально-гуманистической точкой зрения Достоевского» (Евгеньев-Максимов, т. II, с. 71). Приведенное суждение нуждается в уточнении: Достоевский и Некрасов подошли к решению темы с различными художественными установками. Достоевский ставил перед собой задачу показать, как существующая иерархия, проникая в сознание человека, держит его в состоянии униженности даже при благожелательном в общем отношении к нему начальника. Некрасов же представил взаимоотношения высшего чиновничества с подчиненными в сатирическом аспекте. Г. М. Фридлендер, соглашаясь с мнением о принадлежности Некрасову не только стихотворных текстов фарса, «но и части прозаического текста», атрибутирует главы II, IV, V и VII Григоровичу, а главы III и VI — Достоевскому (см.: Достоевский, т. I, с. 512). С учетом «момента импровизации», допускающего эпизодическое участие каждого из соавторов в любой главе фарса, основная доля участия авторов в написании глав «Как опасно предаваться…» определяется, по нашему мнению, следующим образом: Григорович — главы II, IV, V; Достоевский — главы III и VI; Некрасов — стихотворные тексты. Глава VII написана, по-видимому, Достоевским и Некрасовым.
В октябре 1845 г. Некрасов совместно с Григоровичем и Достоевским задумал издание юмористического альманаха «Зубоскал», который должен был выходить два раза в месяц. Объявление о «Зубоскале», написанное Достоевским по поручению и, возможно, при некотором участии Некрасова, было напечатано в ноябрьской книжке «Отечественных записок» за 1845 г. Среди прочих материалов, готовившихся для «Зубоскала», был, по-видимому, и фарс «Как опасно предаваться…», герой которого Петр Иваныч эскизно уже обозначен (с тем же именем) в названном объявлении. В объявлении откровенно декларировалось сатирическое направление задуманного издания, «смех над всеми, над всем». Автор объявления обещал высмеивать «весь <…> Петербург, с его блеском и роскошью, громом и стуком, с его бесконечными типами, с его бесконечною деятельностью, задушевными стремлениями, с его господами и сволочью <…> позлащенной и непозлащенной, аферистами, книжниками, ростовщиками» (Достоевский, т. XVIII, с. 7, 8). Эти намерения автора «Зубоскала» и обещание быть «отголоском правды, трубою правды» предопределили решение цензуры: издание не было позволено (см. об этом: Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1961, с. 81–82; см. также письмо Некрасова к Н. X. Кетчеру от 2 декабря 1845 г. и датируемое 1846 г. письмо его в редакцию «Отечественных записок»).
«Первое апреля» — издание, предпринятое Некрасовым вместо запрещенного «Зубоскала», не потребовало больших дополнительных материальных затрат, хотя новый альманах по повторял «Зубоскала». Для иллюстраций к фарсу «Как опасно предаваться…» Некрасов воспользовался отчасти старыми клише некоторых переводных изданий («Девушка в семнадцать лет» и «Человек с огромными усищами и в <…> непостижимом костюме») {Картинки эти, возможно, послужили «сюжетной» основой для иллюстрирующего их текста (см.: Фельетоны сороковых годов, с. 367).}, отчасти рисунками, заказанными специально для «Первого апреля» художницам А. А. Агипу, П. А. Федотову и некоторым другим, имена которых остаются неустановленными. Не исключено, что в составлении «Первого апреля» принимал некоторое участие В. Г. Белинский. Это предположение основывается на том, что в альманах было включено произведение члена кружка Белинского, писателя, переводчика и критика А. Я. Кульчицкого (ум. в 1845 г.), участвовавшего также в «Физиологии Петербурга» (ч. 2. СПб., 1845), «Как играют в новейшее время в преферанс образованнейшие люди Европы». Этот материал является извлечением из юмористической брошюры Кульчицкого «Некоторые великие и полезные истины об игре в преферанс, заимствованные у разных древних и новейших писателей…» (СПб., 1843), написанной по просьбе Белинского и заслужившей одобрительную шутливую рецензию критика (Белинский, т. VII, с. 31–33).
Прохождение «Первого апреля» через цензуру, по-видимому, нанесло альманаху некоторый урон. Так, по обоснованному предположению В. Е. Евгеньева-Максимова, отточия в стихотворной главе I, приоткрывающей один из основных объектов последующего творчества Некрасова — мир крепостников, — «след цензурного карандаша, вычеркнувшего угрозы разгулявшегося барина но адресу крестьян» (Евгеньев-Максимов, т. I, с. 73).
«Как опасно предаваться…» — одна из первых попыток коллективного творчества в сатирическом жанре, получившая дальнейшее развитие в «Свистке», в частности в творчестве Козьмы Пруткова. В фарсе «Как опасно предаваться…», занимающем центральное место в альманахе, наблюдается перекличка с рядом помещенных в нем «Достопримечательных писем», в которых пародируются различные безграмотные послания, прошения, благотворительные и любовные записки (карандашный набросок одного из таких «писем» неизвестной рукой см. на обороте чернового автографа стихотворения Некрасова «Родина» (1845–1846) — ГБЛ, ф. 195, оп. 1, № 23). Можно отметить и перекличку другого рода. Речь идет о «перепевах» — новой для Некрасова особой форме использования стихотворений Лермонтова в целях социального обличения (см. об этом: Гаркави А. М. Некрасов и Лермонтов. — Науч. бюл. Ленингр. гос. ун-та, 1947, № 16–17, с. 46–48; Битюгова И. А. II. А. Некрасов. — В кн.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981, с. 338). Так, «перепев» «Клянусь звездою полуночной», открывающий главу V, несомненно связан с другим некрасовским «перепевом» стихотворения Лермонтова «И скучно и грустно», который помещен как самостоятельное произведение альманаха.
Характернейшая черта фарса, как указано Т. Ю. Хмельницкой, «откровенная установка <…> на Гоголя» (см.: Фельетоны сороковых годов, с. 367). Некоторые эпизоды фарса (ограбление, преследование вора, сцена осмеяния героя в департаменте, тирады Фодосьи Карповны) явно перекликаются с «чиновничьими повестями» Гоголя «Шинель» и «Нос». Вместе с тем фарс обнаруживает черты, роднящие его с одним из излюбленных жанров «натуральной школы» — физиологическим очерком (см., например, описание кухни и черной лестницы в главе II). В стихотворных эпизодах и главах фарса отчетлива водевильная традиция, усвоенная молодым Некрасовым. Эти эпизоды, характерные для стихотворного фельетона и физиологического очерка 1840-х гг. вообще, играют роль своеобразного поэтического комментария в общем связном повествовании. Вместе с тем они, представляя собой своеобразные куплеты-картинки, легко извлекаются из текста фарса и зачастую могут рассматриваться как самостоятельные произведения. В особенности замечателен по силе обобщения стихотворный эпизод «Что чиновники то же, что воинство ~ Я удерживать вас не хочу!», предвещающий зрелого Некрасова-сатирика. Заключительная (VIII) стихотворная глава фарса, как справедливо указывает Б. Я. Бухштаб, «выдержана в <…> форме сказа от лица мелкого чиновника, совпадая с „Провинциальным подьячим“ и „Говоруном“ по тону и манере речи, фразеологии, размеру стиха, рифмам („регалии“ — „и так далее“)» (Бухштаб Б. Я. Начальный период сатирической поэзии Некрасова. 1840–1845. — Некр. сб., II, с. 109).
Первые сообщения о выходе «Первого апреля» появились в «Северной пчеле» (1846, 1 апр., № 73) и «Ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции» (1846, 1 апр., № 73). Сразу по выходе альманах и, в частности, фарс «Как опасно предаваться…» вызвал резкие нападки противников «натуральной школы». «Все статьи в этой книге, — писала о „Первом апреля“ „Северная пчела“, — писаны одним лицом, самородным гением, который но соблаговолил выставить своего имени на заглавном листе». «Чтоб <…> читатели могли удостовериться в гениальности автора», рецензент «Северной пчелы» выписал из альманаха ряд «новых произведений новой русской литературы и так называемой „натуральной школы“», в том числе отрывок из главы IV о Федосье Карповне. Критик увидел в «Первом апреля» «…грубый язык, грязные картины униженного человечества, анатомию чувствования развращенного сердца, выходки бессильной зависти и вообще нравственный и литературный цинизм…». «Весьма желательно, — резюмировал рецензент, — чтоб г-н Некрасов <…> отличающийся своими критиками в „Литературной газете“ <…> превозносимый „Отечественными записками“ <…> разобрал критически-натурально альманах» (СП, 1846, 12 апр., № 80, ср.: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, т. 2. СПб., 1896, с. 851–852). Нападки на «Первое апреля» имеются и в следующем номере булгаринской газеты. Как «грубую шутку от начала до конца» восприняла появление альманаха «Иллюстрация» Н. В. Кукольника. «С искренним сожалением встретили мы, — писал рецензент, — между множеством пошлостей некоторые стихи, которые прочитали с удовольствием. Неужели и стихи и проза написаны одним и тем же человеком? <…> Что, например, может быть общего между „Вступлением“ и стихотворением „Перед дождем“? Между фарсом „Как опасно предаваться честолюбивым снам“ и стихотворением „Женщина, каких много“?» (Иллюстрация, 1846, 4 мая, № 16, с. 251).
Иначе отнесся к «Первому апреля» Белинский, расценив его в целом как «забавный фарс», «веселую шутку», как «болтовню, по болтовню живую и веселую, местами даже лукавую и злую». «Не будем пересчитывать всех пьес этого сборника, больших и малых (которых в нем довольно), — писал критик в заключение обзора, — и укажем только на рассказ „Как опасно предаваться честолюбивым снам“, писанный стихами и прозою» (ОЗ. 1846, № 4; Белинский, т. IX, с. 608). Белинскому резко возражал П. А. Плетнев, охарактеризовавший «Первое апреля» и «Петербургский сборник» как собрание «грязных и отвратительных исчадий праздности»: «Это последняя ступень, до которой могла упасть в литературе шутка, если только не преступление называть шуткою то, что нельзя назвать публично собственным ее именем» (С, 1846, № 5, с. 218).
Наиболее развернутая одобрительная рецензия на «Первое апреля» была напечатана в «Финском вестнике». «Все статьи альманаха, — писал критик этого журнала, — отличаются большим остроумием, забавным вымыслом и легким и игривым языком; иные из рассказов этой небольшой книжки так смешны и при этом изложены так комически важно, что и самый сериозный читатель едва удержится от смеха, в особенности же читая рассказ „Как опасно предаваться честолюбивым снам“…» (Финский вестник, 1846, т. IX, отд. V, с. 86). Большую часть рецензии занимал подробный пересказ содержания фарса с цитацией прозаических и стихотворных отрывков.
Сюжетная ситуация — раздетый чиновник, оказавшийся перед глазами высокого начальства, — впоследствии была использовала А. К. Толстым в «Сне статского советника Попова».
Он помещиком тысячи душ ~ Растворилася дверь, и вошла Чернобровка, свежа и плотна… — Ср. этот «честолюбивый сон» Петра Иваныча с «честолюбивыми мечтами» чиновника Макара Осиповича Случайного из первого прозаического произведения Некрасова (см. выше, с. 24–25).
…от смерти политики… — Слово «политика» употреблено здесь в архаическом значении: вежливое, учтивое обращение.
А девушке ~ не пристанет?.. — цитата из песни 3 поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».
…проиграл в одну пулю по копейке восемь рублей серебром… — Пуля (пулька; франц. poule) — партия игры в преферанс.
…еще двумя лицами, которых мы не хотим назвать. — Имеются в виду постовые полицейские — будочники.
«Клянусь звездою полуночной ~ Федосья Карповна моя!» — «перепев» монолога Демона «Клянусь я первым днем творенья» из главы X части II поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон».
Клянуся пряжкой беспорочной… — Имеется в виду наградной чиновничий знак с надписью «За беспорочную службу».
Клянусь ремизом бесконечным… — Ремиз (франц. remise) — в карточной игре недобор установленного числа взяток, штраф за такой недобор.
В дезабилье не выбегал… — Дезабилье (франц. deshabille) — домашнее платье.
Они молчали оба ~ и скрылись… — пародия на стихотворение Я. П. Полонского «Встреча» (1840), вошедшее в его сборник «Гаммы» (М., 1844).
…тиснуть в «Полицейской газете»… — Имеется в виду газета «Ведомости Санкт-Петербургской городской полиции», в которой, наряду с официальными сообщениями и распоряжениями, печатались частные объявления.
…из «Сомнамбулы»… — «Сомнамбула» (1831) — опера итальянского композитора В. Беллини (1801–1835), в 1840-е гг. не сходившая со сцены Итальянской опоры в Петербурге.
…мотивов из «Лучии»… — «Лючия ди Ламмермур» (1835), опера итальянского композитора Г. Доницетти (1797–1848), в 1840-е гг. также входившая в постоянный репертуар Итальянской оперы в Петербурге.
Что чиновник плохой без амбиции… — Эта особенность чиновничьей психологии обыгрывается и во «Вступлении» к «Первому апреля», и в ряде ранних произведений Ф. М. Достоевского: «Бедные люди», «Двойник», объявление о «Зубоскале», «Петербургская летопись» (см. об этом: Достоевский, т. XVIII, с. 301). Ср. также цитируемые Некрасовым куплеты из водевиля П. А. Каратыгина «Чиновник по особым поручениям» (1837) «Задеть мою амбицию…» в «Очерках литературной жизни» (1845) (см. выше, с. 365). Рифма, к которой Некрасов прибегает в комментируемом фрагменте, впервые использована в одном из куплетов Столбикова в водевиле «Похождения Петра Степанова сына Столбикова» (1841–1842):
Дворянскую амбицию Считая нипочем, С солдата амуницию Надели с тесаком!(наст. изд., т. VI, с. 403).
Она встречается и в главе второй «Говоруна» (1843):
Смирив свою амбицию, За леностью слуги Почистишь амуницию И даже сапоги.(наст. изд., т. I, с. 396).
С. 490. Почетные регалии ~ и так далее… — Эту рифму также находим в главе второй «Говоруна»:
Жилетку и так далее Наденешь, застегнешь, Прицепишь все регалии…(наст. изд., т. I, с. 396).
Примечания
1
Буквально: военная доблесть (лат.).
(обратно)2
до последнего предела (лат.).
(обратно)3
мой дорогой (франц.).
(обратно)4
О я несчастный! Саллюстий (лат.).
5
Ораторами делаются, поэтами рождаются (лат.).
(обратно)6
о времена, о нравы! (лат.).
(обратно)7
Ученым и поэтам всё позволено (лат.).
(обратно)8
Что делают некоторые женщины? Они болтают, одеваются и раздеваются (франц.).
(обратно)9
некоторые (франц.).
(обратно)10
Здесь: все (франц.).
(обратно)11
Мой ангел (франц.).
(обратно)12
наедине (франц.).
(обратно)13
дорогая (франц.).
(обратно)14
О, я грешник! Помоги мне, боже! (исп. искаж.).
(обратно)15
То же, что бандит.
(обратно)16
Здесь рукопись молодого человека писана так неразборчиво, что решительно нельзя понять, о чем идет дело. Ав<тор>.
(обратно)17
Имя лошади.
(обратно)18
То же.
(обратно)19
Лакейское слово, равнозначительное слову — дрянь.
(обратно)20
Мой дорогой Августин,
Всё проходит! (нем.).
(обратно)21
Здравствуй (франц.).
(обратно)22
Всё для нарядов (франц.).
(обратно)23
Далее: [официальное]
24
[больно]
25
Сверху карандашом вписано, затем стерто: домашний праздник
26
Далее: [официально]
27
Сверху карандашом вписано, затем стерто: важных лиц
28
Текст: И теперь эта торжественная поэзия ~ «подлому стихотворству». — зачеркнут красным карандашом.
29
Далее: [на водку].
30
Здесь и далее звездочкой отмечены варианты, совпадающие с авторизованной копией ЦГАЛИ, которые в перечне вариантов последней уже не приводятся.
31
Рядом с текстом: вы тоже дворовый — помета на полях: NB
32
Рядом с зачеркнутыми словами: собак перевешать — помета на полях: NB
33
Рядом с текстом: «Два целковых при оброке вышли за сапоги!» — помета на полях: NB
34
Рядом с зачеркнутым текстом: Господи, по… ми… луй… купи. — помета на полях: NB
35
Рядом с этим текстом помета на полях: NB
36
Конец варианта, начало которого находится в утраченном фрагменте рукописи (с. 347–348, строки 36–30: заключали в себе похвалы ~ было лучше, чем теперь).
37
Далее переписчиком оставлено место для не разобранного им слова.
38
Список условных сокращений см. в т. 1–4, 6, 8 наст. изд.
(обратно)39
«Двадцать пять рублей» (перепечатан сначала в статье: Горбов Д. О новонайденном рассказе Некрасова. — 30 дней, 1926, № 7, с. 44–46; затем в издании: Некрасов Н. А. Двадцать пять рублей. (Неизданные рассказы). М.-Л., 1927 (Б-ка сатиры и юмора)); «Капитан Кук» (перепечатан в последнем из названных изданий); «Макар Осипович Случайный» (отдельное издание: М., «Огонек», 1930); «Как опасно предаваться честолюбивым снам» (перепечатан в издании: Фельетоны сороковых годов. М.-Л., 1930, с. 317–367).
(обратно)40
«Рассказ, который не может не понравиться читателю», опубликованный в «Современнике» (1852, № 10, отд. VI) за подписью: «Н. Н.», неоднократно ошибочно приписывался Некрасову (см.: Некрасовский сборник. Пг., 1918, с. 213; Мустангова Е. [Перечень художественных прозаических произведений Некрасова]. — Собр. соч. 1930, т. III, с. 20; Зимина, с. 183). Рассказ принадлежит Н. Немишевичу (см.: Боград Совр., с. 206, 513).
(обратно)41
Речь идет о повести «Макар Осипович Случайный» (см. выше, с. 535).
(обратно)42
Т. е. в оной, т. е. в таковой, т. е. в сей, т. е. в этой. (Примечание Добролюбова.)
(обратно)43
Журнальное название повести И. И. Панаева «Литературная тля» (см.: Ямпольский И. Г. Из истории литературной борьбы начала 1840-х годов («Петербургский фельетонист» и «Литературная тля» И. И. Панаева). — Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та, 1954, № 173, сер. филол. наук, вып. 20, с. 149).
(обратно)44
Речь шла о работе французского карикатуриста Ж. Гранвиля (1803–1847) (настоящая фамилия Ж. Жерар) «Животные, изображенные ими самими» (1842).
(обратно)45
Ошибка Плещеева, имя второго гоголевского героя Гофман.
(обратно)46
Фельетонист «Сына отечества» Л. В. Брант, регулярно выступавший с нападками на Некрасова и его журнал, безапелляционно «атрибутировал» это стихотворение Некрасову (Сын отечества, 1849, № 5, отд. VII, с. 37). В ответном фельетоне, высмеивавшем Бранта и его «творчество», Некрасов заявил, что «стихотворения Нового поэта, иногда печатающиеся в „Современнике“», ему не принадлежат (С,1849, № 9, «Смесь», с. 171).
(обратно)


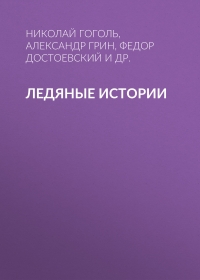

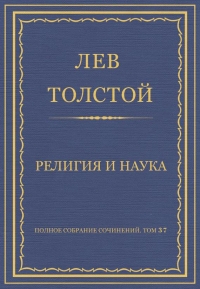
Комментарии к книге «Том 7. Художественная проза 1840-1855», Николай Алексеевич Некрасов
Всего 0 комментариев