Федор Кузьмич Сологуб Собрание сочинений в восьми томах Том 3. Слаще яда
Слаще яда
[текст отсутствует]
Книга превращений
Задор
I
Была война с турками, и было брожение в умах, даже подростки много говорили и волновались. Товарищи Вани Багрецова, гимназисты четвертого класса, на переменах больше толковали о политике, чем о своих школьных интересных делах и делишках. Ваня кипел и горячился и в гимназии, заодно с товарищами, и дома в бесконечных ожесточенных спорах с бабушкой.
Однажды Ваня вернулся из гимназии под впечатлением новых слухов, весь насквозь пропитанный негодованием. Он вознамерился насказать бабушке немало горьких истин. О, конечно, он никогда не трогал бы ее, — старая, где ей понять! — но в последнее время бабушка слишком злобно нападала на молодежь и даже позволяла себе лживые утверждения, которых Ваня не мог оставлять без ответа.
Не нравились и бабушке и матери Ванины новые взгляды и его знакомства. Правда, товарищи заходили к нему редко; но тем было хуже. У Вани, притом, уже давно была привычка по вечерам гулять, и уходил он всегда один; прежде на это не обращали внимания, а теперь его, совершенно, впрочем, невинные прогулки по городским улицам начинали казаться подозрительными и опасными. Их еще пока не запрещали, — не было очевидного повода, — но и не поощряли: косились и ворчали каждый раз.
В воинственном настроении вошел Ваня в столовую, стараясь придать себе независимый вид, но внутренне волнуясь в ожидании предстоящей схватки. Его бойкие серые глаза, немного близорукие, смотрели с задором и сердито.
Бабушка, высокая и худощавая старуха с быстрыми движениями и очень прямым станом, была уже «готова», как Ваня тотчас же подумал, взглянув на нее. Она энергично шагала по комнатам и не обращала ни малейшего внимания на заигрывания серого, сытого кота Коташки, который, таясь за ножкой стула, ждал, когда бабушка пройдет, и бросался на подол ее платья. Бабушкины темно-карие глаза метали молнии, и черные крылья ее кружевной наколки трепетали и развевались. Ваня сообразил, что это сердятся, зачем он опоздал: случилась необходимость зайти из гимназии кое-куда по самонужнейшему делу, и это заняло лишние полчаса.
Бабушка так и набросилась на вошедшего Ваню.
— А, передовой человек, милости просим, здравствуйте! — восклицала она, иронически раскланиваясь.
Ваня счел долгом обидеться на неуважительное обращение со словами, выражающими почтенное понятие.
— Лучше быть передовым человеком, чем задовым, — немедленно же и с достоинством отрезал он.
— Прекрасно! — с сердитым смехом воскликнула бабушка. — Очень прилично! Что же, это я, по-вашему, задовой человек? Как это мило! Продолжайте.
— Что ж мне продолжать! — запальчиво отвечал Ваня. — Если вы считаете, что постыдно быть передовым, значит, вы сами хотите быть задовым человеком.
— Хорошо, хорошо, — говорила бабушка, принимаясь расхаживать по комнате. — На дерзости вы все мастера, а еще материно молоко на губах не обсохло. Недоучки желтогубые, туда же суются учить всех!
Ваня жестоко покраснел; он не выносил намеков на свои годы.
— Возраст здесь ни при чем, — заявил он решительным голосом и с вызывающим видом посмотрел на бабушку.
— Нет, при чем, при чем! — закричала бабушка, приходя в сильное раздражение и опять наступая на Ваню. — Вы сперва научитесь хлеб зарабатывать, а потом уже пофыркивайте.
— Г-м, да, вот что! — пробормотал Ваня, делая чрезвычайно саркастическое лицо:
— В мои лета не должно сметь
Свое суждение иметь.
Ваня имел пристрастие к литературным цитатам, заимствованное им у бабушки; но старуха эти цитаты всегда толковала по-своему. Она сердито говорила, расхаживая из угла в угол:
— Да, мы, старики, не должны своего суждения иметь; так, по-вашему, должно быть, выходит. Только вы, господа недоучки, можете обо всех судить и рядить с плеча, — как же, министры какие, подумаешь!
— Да я совсем не то говорю, вы меня не так поняли, — пробовал оправдаться Ваня.
Но бабушка волновалась и кипела.
— Где уж мне, старой дуре, понимать таких умников! У вас ведь все по-своему, по-новому: что мое, то мое, а что твое, то тоже мое, — так ведь у вас говорится. Прекрасные правила!
— Это вот вы все по-своему перевертываете, — с досадой возражал Ваня. — Никто таких глупостей не говорил, и социалисты вовсе не того желают.
— Социалисты! — презрительно протянула бабушка и посмотрела на Ваню прищуренными глазами — Перевешать бы их всех, этих социалистов, да и друзей их заодно, от Петербурга до Москвы на всех деревьях по десяти на каждое.
— Бодливой корове бог рог не дает! — тихо молвил Ваня дрожащим от негодования голосом.
— Нет, уж лучше ты, батюшка, — опять накинулась бабушка на Ваню, — завиральные идеи брось, а то с ними далеко уйдешь. Незнайка-то себе лежит на печи, а знайка по Владимирке бежит, вот оно что.
Ваня усмехнулся.
«Ведь как все пословицы и примеры коверкает на свой лад», — подумал он и не мог удержаться, чтобы не заметить:
— Завиральные идеи — совсем не в таком смысле у Грибоедова сказано.
— Ну, уж я стара стала учиться по-вашему, — с раздражением говорила бабушка, вставляя папиросу в деревянный мундштук и закуривая ее. — Мы попросту учились. В наше время сходок не было, и уши выше лба не росли. В наше время мальчишки писем не получали бог весть от кого, да на сходки не бегали. Вот заберут на сходке-то вас всех, недоучек желтогубых, да и засадят. То-то будет радость родителям! Ну, да ведь нынче родители — что!
Бабушка скрыла огорченное лицо в густых клубах табачного дыма.
— Какие там сходки! — угрюмо сказал Ваня. — Отчего же нельзя от товарищей получать письма?
— Нынче о родителях вот как рассуждают, — продолжала бабушка, не удостаивая его ответом — Я, мол, не виноват, что ты меня родила; а если бы я тебя родила, то я бы твоя мать была. Вот вы как нынче рассуждаете.
II
Ваня призадумался и перестал спорить. Вчера он, точно, получил письмо. Вопрос: прочли его или нет? Еще в гимназии сегодня утром он вспомнил, что имел неосторожность забыть это письмо дома. Теперь он еще не успел удостовериться, лежит ли оно на месте. Спрятано оно довольно хорошо, но, может быть, искали и нашли. Положим, если бы прочли его, то поняли бы, что дело идет вовсе не о сходке. А и то может быть, что прочесть — прочли, а поняли по-своему, уж очень нелепо и навыворот, «по своей всегдашней глупости», как мысленно выражался теперь Ваня.
Конечно, он раньше не замечал за матерью и бабушкой «таких подлостей» (опять его мысленные слова), подсматриванья за ним и шаренья в его бумагах, но все-таки сердце его было неспокойно. Кто их знает, очень уж они нынче с чего-то кипятятся; притом же, как ни оправдывай содержание письма относительно затеянной будто бы где-то сходки, а все же он счел бы большой неприятностью, если бы это письмо стало им известно.
Замолчала и бабушка и ходила по комнате, распуская за собой дымовые струи и презрительно посматривая на мальчика.
Ваня подошел к окну и тупо глядел на улицу. Темнело быстро. Он, впрочем, и не старался рассмотреть что-нибудь; торопливая побежка немногочисленных прохожих на противоположном тротуаре теперь нисколько не занимала его.
Воинственный пыл его сменился жуткой тоской. Сердце ныло в его груди, хотелось плакать: он чувствовал себя одиноким, непонятным. Гордое сознание своей правоты, — что в нем! От него становилось еще хуже: оно вливало в его тоску отраву безнадежности. Если бы он был неправ, это было бы гораздо лучше! Тогда он решился бы исправиться и теперь надеялся бы, что все забудется, обойдется, «перемелется — мука будет». Но он твердо знает, что прав. Он борется с закоренелыми предрассудками своих домашних. Эта борьба страшно трудна и тягостна его кроткому сердцу, которое так жаждет любви и ласки, и только не умеет, гордое, ласкаться к людям, и даже стыдится чувствительности.
Пришла Ванина мать, робкая пожилая женщина в сереньком платье, зажгли огонь, сели у окна в ожидании обеда и тихо разговаривали. Потом скоро мать снова ушла.
III
Подали, наконец, и обед, а Ваня все стоял у своего окна и хмуро глядел на улицу. Гременье стула, который кто-то двигал по полу, заставило его обернуться. Бабушка тащила к столу тяжелый стул, на котором обыкновенно обедала и который сегодня стоял у стены. Гримаса усилия на ее лице смешивалась с выражением крайнего негодования и самой исступленной злости. Матери еще не было в комнате. Ваня не успел оказать бабушке услугу, и она сама тащила свой стул.
«Вот до чего я доведена!» — так и кричала каждая черточка ее лица; каждая складка черного платья содрогалась от негодования.
Ваня бросился на помощь, но слишком поздно, — стул уже был водворен на место, и Ваня за свое запоздалое усердие получил только толчок по плечу спинкой стула, когда он, тяжко брякнув задними ножками, грузно уставился перед столом. Совершенно уничтоженный, Ваня сел на свое место. Мать, — она только что вошла, — поглядела на Ваню маленькими серыми глазами, как на преступника, с укоризной и с ужасом. Потом она приняла кроткий вид, вздохнула и принялась разливать суп. Бабушка не глядела на Ваню и грозно молчала.
— Мог бы, я думаю, стул подать бабушке, — заговорила мать, подавая Ване тарелку.
— Где уж нам с тобой ждать, Варенька! — злобно возражала бабушка, — скоро он нас бить станет.
— Что это будет, что будет! — вздохнула мать, и ее старенькое и маленькое лицо стало озабоченным.
— Да, к хорошему мы идем!
Бабушка молча съела свой суп и потом опять сердито заговорила, обращаясь к Ване:
— И чего они хотят? Нет, вы скажите мне, чего им нужно?
Ему вообще не очень-то нравился этот вопрос, потому что он и сам не совсем еще ясно понимал кое-что. Например, он очень страдал от того, что не читал еще Писарева. Поэтому перед некоторыми товарищами ему приходилось пасовать. А на днях так он и совсем срезался: оказалось, что есть еще Чернышевский, а такого он даже имени не слышал, и знающие товарищи его пристыдили, — как же можно не знать!
— Вот как, все знают, только мы, старые дуры, не знаем! — насмешливо сказала бабушка.
— Надо, чтоб никого не обижали, — объяснил Ваня.
Бабушка продолжала допрашивать Ваню:
— Ну, отчего же они не выдут прямо, да и не скажут: вот чего мы хотим? Зачем же они подпольно действуют, коли они такие хорошие?
— Если они откроются, их и повесят, и ничего не будет, — волнуясь и краснея, говорил Ваня.
— Ну, так и ты тоже хочешь с ними? — заговорила мать с отчаянием в голосе. — Тоже в подпольные записался? Для того и на сходки к ним бегаешь?
— Ни на какие сходки я не хожу, с чего вы это взяли! — ворчливо говорил Ваня, с презрением посматривая на макароны, которые были принесены после супа и теперь лежали на его тарелке.
«Опять эти слизкие сосульки», — досадливо думал он, и, не разрезывая, захватил целую макарону губами, и стал всасывать ее в рот.
Бабушка этого не любила, но теперь почти не заметила. Она закричала:
— Как ни на какие сходки не ходишь! А вчера вечером где изволил быть? А сегодня после гимназии?
— У больного товарища!
«Тебе-то что за дело», — кончил Ваня мысленно.
«Назло» им, хотя макароны были достаточно посолены, он подвинул к себе солонку, запустил туда пальцы и бросил щепотку соли на свои макароны. Тотчас же он подумал:
«И так гадость, а теперь как я буду их глотать?»
Такого неприличия бабушка уже не могла вынести.
— Постыдись! Точно Иуда Христопродавец! — укоризненно воскликнула она.
— Хорошо, вы Евангелие читали! — возразил Ваня.
— Что такое? — внушительно переспросила бабушка.
А мать только вздохнула удрученно и покачала своей серенькой головой.
Помолчали. Ване бы не следовало возобновлять спора, но он не утерпел и опять начал спорить:
— Там вовсе не про Иуду говорится, что хлеб в солонку обмакнул.
— Ну, извините, от старости забывать стала.
— Вот вы забыли, что прежде сами Трепова ругали, а теперь, как в него Засулич выстрелила, так вы его и хвалить стали.
Бабушка вскипятилась.
— Когда я его ругала? — гневно спрашивала она.
Ваня продолжал запальчиво:
— Да вы и всех ругали, и за то, что от помещиков крестьян отняли, и за новые суды, и за все.
— Да, — злорадно сказала бабушка, — вот вам новые суды и отличились.
— Ну, так вот, — с заносчивостью уличающего говорил Ваня, — вы и ругали прежде правительство; а теперь-то вам чего же волноваться?
— Ты врешь, дерзкий мальчишка! — запальчиво крикнула бабушка, устремляя на Ваню сверкающий взор.
— Нет, я не вру! — резко ответил Ваня.
— Что ж, я, по-твоему, вру?
— Не я вру! — отрезал Ваня и тотчас же сообразил, что этого не следовало говорить.
Да он, кажется, и не хотел ничего такого сказать; просто хотел повторить: я не вру, да впопыхах не то вышло.
— Покорно благодарю! — с ироническим поклоном сказала бабушка и мрачно принялась за свой кофе.
Ваня молчал. Мать вдруг вся покраснела, задрожала и сказала взволнованным голосом:
— Нет, уж это тебе так не сойдет. Наговорил дерзостей, обругал всех, да гоголем сидишь. Проси у бабушки прощенья!
Ваня упрямо молчал. Помолчала и мать.
— Слышишь ты, что я говорю? — спросила она, постукивая по скатерти кусочком сахару. — Сейчас же проси прощенья, говорят тебе!
— Никаких дерзостей я не говорил.
— Ну, хорошо, — сейчас же я тебя высеку.
В стакане на поверхности кофе Ваня увидел свое, мгновенно покрасневшее до синевы, лицо. Он чувствовал, как у него краснеют уши, шея и даже плечи. Это было совсем ново. Так с ним давно не говорили. Ваня имел определенный взгляд на «подобные проявления родительского деспотизма относительно детей». Себя к детям он не причислял, — но тем, конечно, возмутительнее угроза!
— Вы докажете этим только вашу дикость, — проговорил он трепещущими губами.
Сливочник сочувственно вздрагивал в Ваниной руке, но Ваня успел-таки выловить, почти машинально, кусок пенки.
— Так только в старину, при крепостном праве поступали, а теперь это пора оставить.
— Ну вот ты поругаешься еще, подожди немного, — быстрым говорком ответила мать, постукивая ложечкой по блюдечку.
В досаде и в смущении отвернулся Ваня к стене и с трудом глотал кофе. Пенка пристала к стеклу, но он забыл о ней и не заботился смыть ее кофейной волной, чтобы заодно отправить в рот.
— Глядит на стену, — узоры какие на ней нашел! — со злым смехом проговорила бабушка.
— Это уж у него злобная привычка такая, — объяснила мать: — Мы недостойны, чтобы он глядел на нас.
Ваня поставил стакан на стол, — пенка так и осталась, облипши на краю стекла. По обыкновению, он подошел поблагодарить обеих. Ему не дали сделать обычных поцелуев, и он должен был поблагодарить так, — «всухомятку», пронеслось в его голове.
— Вперед чтобы писем не было и чтоб по вечерам Бог знает куда не шляться, — решительно приказала бабушка.
— Я не шляюсь, я хожу гулять, а письма получаю от товарищей и пишу им же, — дрожащим голосом отвечал Ваня.
— И никаких писем не надо!
— Нет, надо!
— Слышишь, чтоб не было писем!
— Нет, будут!
— Будут, будут? Это почему? — крикнула бабушка.
— Потому, что я так хочу!
Бабушка злобно хохотала.
«Ишь ломается!» — подумал Ваня.
Мать закричала обиженным голосом:
— Да как ты смеешь так разговаривать! Нет, видно, одно осталось: сечь и сечь. Марш в свою комнату и жди там.
IV
Ваня стремительно выбежал из столовой и бросился в свою комнату. Сердце спешило биться.
«Пульс-то, пожалуй, теперь сто двадцать будет», — почему-то подумал Ваня, подбегая к своему столу.
Поспешно выдвинул он ящик. Перочинный ножик в белой костяной оправе бросился в глаза, хоть и лежал в стороне, полуприкрытый бумагами. Он не помнил отчетливо, зачем ему нужен ножик, но знал, что именно это нужно. Ваня взял его с чувством горестного недоумения. Жалкая улыбка пробежала по его пересохшим губам. Он торопился. Дрожащими, неловкими от волнения, жаркими пальцами оттянул он и выпрямил лезвие.
«Недавно наточено», — подумал Ваня.
Лезвие блеснуло. Ваня быстро подошел к зеркалу, висевшему рядом с окном. Неверный сумеречный свет падал из окна прямо на Ванино лицо, а зеркало было в тени. На Ваню из темного зеркала глянуло словно чужое, злобное лицо с перекосившимся ртом. Ваня поднял ножик и приставил его концом к горлу с левой стороны.
«Как только войдут», — подумал Ваня и прислушался. Но пока еще никто не шел, и Ваня глядел в зеркало со злобой и отчаянием. В эти минуты ни одно отрадное воспоминание не мелькнуло в голове. Обрывки злых и страшных мыслей сплетались в нелепые вереницы, и с каждым ударом торопливого сердца ударялось в голову, как молот, безусловно-повелительное представление о том, что он неизбежно сделает, когда войдут. Поднявши нож правой рукой, Ваня левой расстегнул пуговицы и обдернул курточку и рубашку книзу. Шея, белая и тонкая, с синеватыми жилками, обнажилась; Ваня поднял голову и слегка провел ножом по тому месту, где будет разрез.
«Так! — сказал он себе и поставил нож на прежнее место. — Надо сразу, с силой, глубоко ткнуть и сейчас же, как можно сильнее, дернуть вправо», — сообразил он и опять прислушался.
Все еще было тихо.
Он передал нож в левую руку, а правой, сжатой в кулак, — как и раньше, когда в ней был нож, — быстро и сильно сделал то движение, которое надо будет сделать тогда с ножом.
«Так! — еще раз сказал он про себя. — Только надо отнести руку подальше», — и он еще раз повторил то же движение с большим размахом.
«Надо бы шведский, — острее, сильнее, да уж некогда искать, — да и все равно».
V
В соседней комнате раздались шаги. Нож мгновенно очутился на своем месте, в правой руке, сжатой в кулак, против назначенного ему места. Ваня стоял, напряженно закинув голову назад и немного вправо. Полные ненавистью и отчаянием глядели на него из зеркала полуприкрытые злые глаза безумного мальчика, который сделает то, чего назвать не хочет Ваня, да, может быть, и не умеет.
«Но чего же не идут?»
Там, рядом, сейчас ходили, теперь ушли. Часы начали бить. Где-то зашумели стулом. Слышен разговор, — далекий, одни только звуки.
Ваня опустил нож, повернулся к двери, постоял немного, потом пошел тихонько, сжимая нож в руке и придерживая другой расстегнутый ворот, осторожно отворил свою дверь и остановился на пороге. Было темно; в следующей комнате, столовой, куда дверь была закрыта, горел огонь: он выдавал себя в узкую щель внизу двери. Осторожно, на цыпочках, Ваня подошел к этой двери. Говорили о нем.
— И где у него письмо это спрятано? — озабоченно рассуждала мать.
«Ага, не нашли», — радостно подумал Ваня.
— Следить за ним, следить хорошенько надо, — авторитетно говорила бабушка.
«Много выследишь, гриб старый», — подумал Ваня, застегивая курточку.
— Право, высечь бы хорошенько, — стал бы шелковым, — отчаянным голосом сказала мать.
— Нет, Варенька, нельзя, — возразила бабушка. — Вот у них дух какой! Ему внушат товарищи, что это он за правду пострадал, а нас в газетах пропечатают. Да и что с ним потом поделаешь: ожесточится, совсем от рук отобьется, подожжет, пожалуй, или убьет нас, старух.
Мать заплакала.
— Господи, Господи, за что такое наказание! Вот дети, — расти их, заботься, а вот благодарность: одно горе.
— Что делать, Варенька, надо терпеть да следить хорошенько. Постращать можно, — авось будет бояться.
VI
Ваня тихо ушел к себе. Ему вдруг стало стыдно, что он подслушивает. «Ну так что ж! — тотчас же оправдался он перед собой. — Зачем же они точно заговорщики! Однако струсили! Эх, бабы!»
Ваня презрительно улыбнулся и швырнул нож на прежнее место.
«Да и я дурака свалял».
Ваня зажег лампу и подошел к зеркалу. Оттуда мальчик с раскрасневшимся и застыдившимся лицом печально улыбнулся ему, высунул язык и сказал:
— Иди, учи уроки.
«И стоило за нож хвататься! — думал Ваня, разбирая тетради. — Если бы и так, что за беда? Многие хорошие люди терпели безвинно. Разве оттого, что меня прибьют какие-то обскуранты, я могу лишить общество своей полезной силы? Надо шире смотреть на вещи. Страдать за убеждения — не постыдно. Это для них было бы стыдно. И зачем у них такие мысли? Все эта старая ворона расстраивает маму: подожгу, убью. Это уж подло так думать. Лучше бы уж высекли. И за что? Что я им сделал? Нет, вперед не буду горячиться с ними. Буду молчать и презирать их отсталость».
Успокоив себя такими рассуждениями, Ваня решил заняться уроками, открыл тетрадь, взял перо, потом вдруг бросил его на стол, подбежал к своей кровати и, уткнув голову в подушку, совершенно неожиданно для себя горько заплакал, всхлипывая, как мальчик.
«За что? За что? Что я им сделал?» — в тоске повторял он.
Глупый мальчуган не мог еще понять, что он сделал тем, которые тоже томились, глядя на его задор и неожиданную грубость.
Соединяющий души
Новогодний рассказ
Гармонов, по своей крайней молодости, еще не знал меры вещей и посещений, — и приходил не вовремя, и не умел уйти вовремя. Наконец он почувствовал, что до одурения надоел Сонпольеву. Спохватился, что отвлек Сонпольева от работы. Вспомнил, что все время Сонпольев был с ним принужденно вежлив, а иногда прорывался резкими словечками. Гармонов мучительно покраснел. Нерешительно приподнялся было. Опять сел, заметив, что Сонпольев хочет сказать что-то.
— Надел маску! — досадливо сказал Сонпольев, продолжая разговор. — Что вы хотите этим сказать?
— Притворяется, — смущенно пробормотал Гармонов. — Конечно, иногда приходится…
— Что вы в этом понимаете? — совсем давая волю своему раздражению говорил Сонпольев, не дослушав ответа своего гостя. — Что вы знаете о масках? Что вы о них можете знать? Нет маски без соответствующей души. Нельзя надеть на лицо маски, не сочетав своей души с ее душою. Иначе маска сваливается.
Он замолчал и хмуро глядел перед собою. Не смотрел на Гармонова. Опять чувствовал к нему ту же, с первого знакомства возникшую странную ненависть. Постоянно старался скрыть эту ненависть под личиною большой ласковости, — усердно звал Гармонова к себе, хвалил всем его стихи, — и время от времени беспричинно говорил Гармонову злые и грубые слова, от которых застенчивый юноша краснел и сжимался. Ненадолго становилось жалко, а потом опять начинал ненавидеть его медлительность, считал его скрытным и хитрым.
Гармонов встал. Простился. Ушел.
Сонпольев остался один. Было досадно, что помешали работать. Теперь уже не было того рабочего настроения. Мучила какая-то темная злоба.
Смуглый, незначительный, по-видимому, юноша Гармонов, — что в нем есть такого, что в такой степени может вызывать раздражение? Большой рот, длинное лицо, очень смуглое, медлительные движения, тягучий голос, — под всем этим чувствовалась какая-то двусмысленность и недоговоренность.
Сонпольев в досаде прошелся по своему кабинету. Остановился перед стеною. Заговорил.
В наши дни много есть людей, которые ведут долгие разговоры со стеною, — собеседник воистину интересный!
Сонпольев говорил:
— Так ненавидеть, так мучительно ненавидеть можно только то, что очень к нам близко. Но в чем же тайна этой дьявольской близости? Какой демон и какими нечистыми чарами связал наши души? Столь несходные души! Мою, человека деятельной жизни, клонящейся к успокоению, и его душу, душу этого большеротого юнца, хитрого, как заговорщик, и медлительного, как трус. И почему в его характере такое странное наблюдается несоответствие с его наружностью? Кто выкрал из этого молокососа самую необходимую, самую лучшую часть его души?
Говорил тихо. Почти бормотал. Потом громко, досадуя, крикнул:
— Кто же сделал это? Человек или враг человека?
И услышал странный ответ:
— Я.
Кто-то крикнул это слово резким, высоким голосом. Точно ржавая сталь прозвенела резко, но тускло.
Сонпольев нервно дрогнул. Огляделся. Никого не было в комнате.
Он сел в кресло, хмуро смотрел на стол, заваленный книгами и бумагами, и ждал.
Ждал чего-то. Стало жутко ожидание. Сказал громко:
— Ну, что же ты прячешься? Уж начал говорить, так явись. Скажи, что ты хочешь сказать. Что тебе надо сказать?
Прислушался. Так напряжены были нервы. Казалось, малейший шум потряс бы, как труба архангела.
И вдруг — смех. Резкий, ржаво-металлический. Точно раскручивалась пружина заводной игрушки, и дрожала, и звенела в тихом безмолвии вечера. Сонпольев схватился ладонями за виски. Облокотился на стол. Прислушался. Смех затихал с механическою ровностью. И было ясно слышно, что он исходит откуда-то близко, как будто даже со стола.
Сонпольев ждал. Напряженными глазами смотрел на бронзовую чернильницу. Спросил насмешливо:
— Чернильная нежить, не твой ли это смех?
Резкий голос отвечал с такою же насмешливостью:
— Нет, ты ошибаешься, и притом довольно неостроумно. Я — не чернильный. Разве ты не знаешь липкого голоса чернильных нежитей? Ты — плохой наблюдатель.
И опять смех, — опять зазвенела, раскручиваясь, ржавая пружина.
Сонпольев сказал:
— Не знаю, кто ты, — и как я могу это знать! Ведь я тебя не вижу. Только думаю, что и ты — такой же, как и вся ваша братия: вы около нас постоянно, и все вы шныряете и наводите на нас тоску и иные злые чары, а на глаза нам не смеете показаться.
Пружинный голосок ответил:
— Я-то затем и пришел, чтобы с тобою поговорить. Люблю говорить с такими, как ты, — с половинными.
Замолк, — и уже Сонпольев ждал смеха. Подумал:
«Должно быть, он каждую свою фразу заливает этим гнусным хохотом».
И не ошибся. Странный посетитель в самом деле усвоил такую манеру разговора: поговорит несколько и зальется ржаво-резким смехом. Казалось, что словами он заводит свою пружинку и уже потом непременно должен расхохотать ее.
И пока звучал, механически правильно затихая, смех, из-за чернильницы выдвинулся гость.
Он был маленький, — весь, с головою и с ногами, ростом с безыменный палец. Серо-стального цвета. Из-за малых размеров и быстрых движений не понять было, тело ли это тускло поблескивает или гладко пригнанная к телу одежда. Но, во всяком случае, что-то очень гладкое, словно нарочно упрощенное. Туловище — в виде тонкого бочонка, в поясе пошире, в плечах и в тазу поуже. Руки и ноги равной длины и толщины и одинаково ловкие и гибкие, так что казалось, что руки слишком длинны и толсты, а ноги несоразмерно коротки и тонки. Шея короткая. Лицо с ноготок. Ноги широко расставлены. Внизу туловища виднелось что-то вроде хвоста или толстой шишки. Такие же наросты видны были с боков, под локтями. Движения быстрые, ловкие и уверенные.
Уродец уселся на перекладину чернильницы. Сбросил ногою тростниковую вставку пера, чтобы поместиться поудобнее. Затих.
Сонпольев рассматривал его лицо. Худое, серое, гладкое. Маленькие, ярко блестящие глаза. Большой рот. Оттопыренные уши, островатые сверху. Сидел, уцепившись за перекладину руками и ногами, как обезьяна.
— Любезный гость, что же ты мне скажешь? — спросил Сонпольев.
И в ответ зазвучал механически-ровный, неприятно-резкий, словно ржавый, голосок:
— Человек с одной головою и с одной душою, вспомни свое прошлое, — свое первоначальное прошлое тех древних дней, когда ты и он жили в одном теле.
И снова смех, сверлящий слух, резкий и звонкий. И пока еще смех звучал, гость механически-ловко перекувырнулся, стал на руки, — и Сонпольев увидел тогда, что утолщенный предмет на месте хвоста был второю головою, — и она ничем не отличалась, по-видимому, от первой. Может быть, малость ли размеров была тому причиною, а может быть, и в самом деле обе головы ничем не отличались, — только Сонпольев не нашел никакой разницы. Руки вывернулись, как на шарнирах, и стали совсем как ноги, и первая голова потускнела и спряталась между этими руками-ногами; и то, что раньше казалось ногами, так же механически повернулось и двигалось, как настоящие руки. С удивлением смотрел Сонпольев на своего странного гостя. Гость кривлялся и плясал. И когда наконец затих, постепенно смолкая, его смех, вторая голова заговорила:
— Сколько у тебя душ, сколько сознаний, знаешь ли ты это? Ты гордишься дивною дифференциациею твоих органов, — вот, думаешь ты, каждый член моего тела исполняет свои, строго определенные функции. Но, глупый человек, скажи мне, чем ты сохраняешь память о своих прежних переживаниях? В той же голове теснится весь твой и прижизненный, и дожизненный опыт. Ты мудришь и хитришь над и под порогом своего жалкого сознания, — но беда твоя в том, что у тебя только одна голова.
Гость залился опять своим ржаво-звонким хохотом, — и на этот раз хохотал особенно долго. Хохотал и в то же время плясал. Кувыркался. Становился кверху одним боком на одну руку и одну ногу, — если еще можно было так различать его четыре конечности, — и они опять механически вывертывались, и тогда обнаруживалось, что наросты на его боках — тоже головы. И каждая в свой черед говорила и хохотала. Гримасничала. Дразнила.
— Замолчи! — в бешенстве крикнул Сонпольев.
Гость плясал, кричал и хохотал.
Сонпольев думал:
«Схватить бы его, раздавить. Или ударом тяжелого пресса размозжить на месте злую гадину».
А гость все хохотал и кривлялся.
«Взять его руками нельзя, — думал Сонпольев, — он, может быть, прожжет или опалит руку. Не разрезать ли его ножом?»
Он открыл перочинный нож. Быстро направил нож острием прямо в середину туловища гостя. Четырехголовое чудовище собралось в комочек, замахало всеми своими четырьмя лапами и залилось пронзительным хохотом. Сонпольев бросил нож на стол.
— Злая гадина! — крикнул он, — Чего ты от меня хочешь?
Гость вскочил на крышку чернильницы, стал там на одной ноге, вытянул руки вверх и закричал пронзительно и гнусаво:
— Человек с одной головою, вспомни свое прошлое, когда ты и он были в одном теле. И когда вы пошли на великий подвиг. Вспомни пляску, пляску в страшный час.
Стало вдруг темно. Хохот звучал, хриплый и гнусный. Голова кружилась…
Из мрака медленно выдвигались легкие колонны, невысокий потолок, тускло горели светочи. Красные в сладком воздухе зыблились их огненные языки. Переливно пела флейта. В легкой пляске мерно двигались ноги, — прекрасные юношеские ноги.
И чудилось Сонпольеву, что он молод и силен, что он пляшет вокруг пиршественного стола. И на него глядит обрюзглое, наглое, пьяное лицо, — пирующий хохочет, — ему весело, ему нравится пляска полуобнаженных юношей.
Чудится Сонпольеву, — бешеная злоба душит его и мешает ему исполнить замысел. И он в быстрой пляске проносится мимо пирующего, и руки его дрожат. Багровый туман ненависти застилает его глаза.
Но в то же время пробуждается его вторая душа, хитрая и ласковая, кошачья душа. И юноша улыбается торжествующему, и снова в плавной пляске проносится мимо него ласковый, нежный отрок. И пирующий хохочет. Ноги юноши и его обнаженный торс веселят хозяина пира.
И снова ненависть, застилающая глаза багровым туманом и сотрясающая руки злою дрожью. И снова хитрая улыбка ласкового юноши.
Кто-то злобно шепчет:
— Долго ли мы будем кружиться напрасно? Пора. Пора. Кончай же.
Усилие дружных воль. Две души сливаются в одну. Ненависть и хитрость. Легкое, плавное движение, — сильный удар, — легкие ноги уже уносят юношу в быстрой и красивой пляске. Хриплый крик. Смятение. Все смешалось…
И снова темно.
И очнулся Сонпольев: тот же уродец пляшет на столе, и кривляется, и хохочет.
Сонпольев спросил:
— Что же это?
Гость сказал:
— В этом юноше две обитали души, и одна из них теперь твоя, душа пламенных чувств и страстных желаний, вечно несытая и дрожащая душа.
И задрожал сверлящий уши смех. И заплясал уродец.
— Стой, плясун! — крикнул Сонпольев. — Ты, кажется, хочешь сказать, что вторая душа того древнего юноши живет в тщедушном теле этого ненавистного смуглого мальчишки?
Гость перестал смеяться и прокричал:
— Человек, ты наконец понял то, что я хочу тебе открыть. Теперь, может быть, ты догадаешься, зачем я пришел к тебе и кто я.
Сонпольев переждал резкое дрожание смеха и ответил своему гостю:
— Ты — соединяющий души. Но отчего же ты не сделал этого при нашем рождении?
Урод зашипел, съежился, завертелся, потом приостановился, выбросил кверху одну из своих боковых голов и прокричал:
— Мы это поправим. Если ты хочешь. Хочешь?
— Хочу, — быстро ответил Сонпольев.
— Позови его к себе в ночь под Новый год и позови меня. А чтобы позвать меня, возьми этот волосок…
Уродец быстро перебежал к лампе, положил на ее плоскую подставку черный тонкий и короткий волос и продолжал:
— И зажги его. И я приду. Но знай, что после того ни ты, ни он не сохраните своего отдельного бытия. И уйдет отсюда только один, совмещающий обе души, но не ты и не он.
И вдруг исчез. Еще звучал, терзая слух, его резкий и ржавый хохот, — но уже никого не видел перед собою Сонпольев. И только черный на плоском подножии лампы волос напоминал об исчезнувшем госте.
Сонпольев взял волос и спрятал его в своем бумажнике.
Уже к полуночи клонился последний в году день.
У Сонпольева сидел опять Гармонов. Говорили тихо, как бы сдерживая голоса. И было жутко.
— Вы не досадуете, что я пригласил вас на эту одинокую беседу? — спросил Сонпольев.
Смуглый юноша широко улыбнулся, и от этого его зубы казались слишком белыми. Он говорил что-то медлительное и скучное, что-то такое внешнее, что Сонпольеву не хотелось его слушать. И он спросил, вне всякой связи с предыдущим разговором:
— Вы помните ваше прежнее существование?
— Очень смутно, — ответил Гармонов, и было видно, что он не понял вопроса и думает, что Сонпольев спрашивает о детских годах.
Сонпольев досадливо нахмурился. Начал объяснять, что он хотел сказать. Чувствовал, что это выходит запутанно и длинно. И от этого еще больше досадовал.
Но Гармонов понял. Обрадовался. Покраснел слегка.
— Да, да, — сказал он поживее обыкновенного, — мне иногда кажется, что я раньше жил. Такое странное ощущение. И как будто та жизнь была полнее, смелее, свободнее. Как будто бы смел делать то, на что теперь не дерзаешь.
— И вам кажется, не правда ли? — с волнением спросил Сонпольев, — что вы как будто что-то потеряли. Как будто бы вам теперь недостает самой значительной части вашего существа.
— Да, да, — сказал Гармонов, — вот именно такое впечатление.
— И вы хотели бы восстановить эту недостающую часть? — продолжал спрашивать Сонпольев. — Опять, как прежде, быть целым и смелым, опять, как в старину, совмещать в одном теле, легком и юношески свободном, всю полноту жизни и дивное соединение и тождество противоречий нашей человеческой природы. Быть более, чем цельным, — слушать в груди своей биение как бы удвоенного сердца, быть таким и иным, быть соединяющим в себе враждующие души, и из пламенной борьбы великих в себе противоречий выносить мужество и твердость великого подвига.
— Да, да, — сказал Гармонов, — я тоже иногда мечтаю об этом.
Сонпольев боялся глядеть на неуверенное и смущенное лицо смуглого юноши. Он смутно боялся, что это лицо будет его расхолаживать. Он торопился.
И уже близка стала ночь.
— Вот, — сказал тихо Сонпольев, — в моих руках есть средство достигнуть этого. Хотите ли вы этого достигнуть?
— Хочу, — нерешительно сказал Гармонов.
Сонпольев поднял глаза. Решительно и настойчиво смотрел на Гармонова, как бы требуя от него чего-то настоятельно необходимого. Неотступно смотрел прямо в черные юношеские глаза, которые, конечно, должны были быть пламенными, но на самом деле были только коварными, холодными глазами маленького человека с половинчатою душою.
И казалось Сонпольеву, что под его пламенным и неотступным взором глаза Гармонова зажигаются восторгом и жгучею злобою. И смуглое лицо юноши стало вдруг значительным и строгим.
— Хотите? — еще раз спросил Сонпольев.
И Гармонов решительно и быстро сказал:
— Хочу.
И словно чей-то чужой, резкий, звонкий голос произнес:
— Человек маленький и лукавый, совершивший, однако, подвиг великого мужества в одном из своих древних переживаний, — совершивший подвиг, ибо сочетал свою лукавую душу с пламенною душою негодующего, — скажи в этот великий и единственный час, твердо ли решился ты соединить свою душу с тою, иною душою.
И еще быстрее и решительней ответил Гармонов:
— Хочу.
Сонпольев прислушивался к резкому голосу вопрошающего. Он узнал его. И не ошибся: «хочу» Гармонова уже тонуло в ржаво-металлическом хохоте того дивного посетителя.
И когда хохот затих, Сонпольев сказал:
— Но знайте, что вы для этого должны отказаться от соблазна и радости отдельного бытия. Вот, я совершу чародейство, — и оба мы погибнем и освободим наши души или сольем их в одну, и уже не будет ни меня, ни тебя, — будет один, пламенный в замысле и холодный в исполнении. Надлежит нам уйти обоим, чтобы дать место ему, в котором мы оба таинственно сольемся. Друг мой, решились ли вы на это страшное дело? Страшное и великое дело.
Гармонов улыбался странно и неопределенно. Но пламенный взор Сонпольева погасил его улыбку, и юноша, голосом неживым и тусклым, как бы покоряясь непреодолимому и роковому повелению, произнес:
— Я решился. Я хочу. Я не боюсь.
Дрожащими пальцами вынул Сонпольев из бумажника чародейный волос. Зажег свечку. За нею таился четырехголовый посетитель. Он был сегодня серый и зыбкий и маячил, как тень от зыблемой пламенной стихии, ласкавшей сожигающими объятиями белое тело покорной свечи.
Гармонов широко раскрытыми глазами, не отрываясь, следил за движениями Сонпольева. Сонпольев поднес волос к огню свечи. Слегка закрутился волосок, зарделся, вспыхнул. Горел очень медленно, с тихим и ритмическим потрескиванием, похожим на смех ночного гостя. И сам дивный уродец, кривляясь и прыгая, выдвинулся из-за свечи. Он стал посредине стола, смотрел то на волосок, то на юношу, что-то шептал, отрывистое и невнятное, и после каждого слова заливался тихим смехом, похожим на потрескивание горящего волоска.
Слова чудного гостя были простые, но страшные. Сначала шли они мимо сознания Сонпольева, — так был Сонпольев взволнован и поглощен горением чародейного волоска, что с простыми, знакомыми словами урода не соединял никакой мысли. И вдруг ему стало страшно. Вслушался. Насмешливо звучали простые, страшно простые слова:
— Душа маленькая, коротенькая, душа боязливая.
И в страхе поднял глаза Сонпольев на Гармонова. Смуглый юноша сидел, странно скорчившись. Лицо его было очень бледно. Капельки пота выступали на лбу. Жалкая, принужденная улыбка кривила его губы. И когда он увидел, что Сонпольев смотрит на него, он скорчился еще больше и как бы против воли зашептал голосом прерывающимся и глухим:
— Мне страшно. Мне больно. Не надо этого.
И вдруг изогнулся, как кошка, хитрая, робкая и злая, метнулся вперед и, нелепо и уродливо вытянув слишком красные губы, дунул на догоравший волосок. Пламя на волоске поднялось узкою струйкой, дрогнуло, погасло. Синий дымок заструился в тихом воздухе. Резкий хохот ночного гостя сверлил слух.
— Не удалось, не удалось, — звенели гнусные слова.
Гармонов сел. Виновато и хитро улыбался. Сонпольев смотрел на него ненавидящими глазами.
В соседней комнате послышался бой часов. И на каждый удар соединяющий души урод отвечал хриплым криком: «Не удалось!» и пружинно-резким хохотом. И кружился, и кривлялся, и казалось, что он тает в желтом озарении неживой электрической лампы.
И когда двенадцатый удар, последний голос уходящего года, замолк, — и замолк с ним гнусный крик: «Не удалось», и замолк гнусный хохот исчезающего урода. Гармонов поднялся, словно радуясь избавлению от роковой беды, и сказал медлительным, тягучим голосом:
— С Новым годом.
Ничего не вышло
I
Сидели мы вечерком на балконе дачки Ивана Степаныча Молодилова, попивали чаек с ромом, и слушали хозяина. В карты не играли. Недурно было бы перекинуться на чистом воздухе, под березками, да уж такая компания подобралась, что никакой игры не вышло. Хозяин наш был говорун, вот мы его и слушали, а он рассказывал нам разные случаи, покручивая свои длинные сивые усы, да сверкая черными, еще зоркими глазами. Он говорил:
— Я — человек русский: я там разных этаких экивоков не понимаю, а по-моему, — задумал дело, и делай, а на попятный двор ни-ни!
— Само собой, — подтвердил плотный сангвиник Сабельников, — хватай быка прямо за рога!
— Именно так, за рога. Да вот я вам расскажу несколько случаев из моей жизни, так вы сами увидите, как мы умели обделывать делишки.
Иван Степаныч призадумался, вытер лысую голову красным платком, и стал рассказывать:
— Выло это в эпоху невинного отрочества. Славное было времечко! Пороли, как сидорову корову, а все-таки, не без приятности бывало.
— Воображаю! — проворчал желчный Ежевикин. Хозяин строго взглянул на него, и продолжал:
— Учился я в Кипрейском кадетском корпусе. Знаменитое было заведение, на всю Россию славилось. Ну и точно, там были мастера своего дела, и директор, да и прочее начальство. И никак ты к ним не приспособишься, — по глазам, шельмецы, видят, чуть что не так, ну и сейчас, известное дело…
— Законное возмездие? — подсказал, подмигивал хозяину, Сабельников.
— Вот именно. Кормили при этом так, что вспомнить не хочется. Но больше всего насолил нам один из учителей, — и не из важных, молоденький: ядовитый был такой, что не приведи Господи. Вызубришь ему урок на совесть, а нет таки, собьет, хоть ты что хочешь! И залепит нуль. Так он аппетитно нуль закручивал, точно рюмку водки выпьет.
— Скотина! — проворчал Ежевикин.
— А чем он больше всего донимал, — продолжал Молодилов, — так это своею тихостью: говорит, каналья, ласково, голоса никогда не возвысит, а после его урока, глядишь, пятерых, не то десятерых из нас выдерут. Ну, мы терпели, терпели, да и решили взбунтоваться. Признаться сказать, зачинщиком-то был я. Ну-с, мы и порешили, на следующем же уроке двери припереть поплотнее, и его, протоканалью, избить на славу. Все, как следует, приготовили, даже репетичку сделали, и ждем. Наступил назначенный час. Сидим мы, можете себе представить, бледные, решительные, на дверь уставились, стало так тихо, как еще никогда не бывало. И вот в коридоре, слышим мы, идет он, — его походочка, легонькая такая. Мы все, поварите ли, дрожим, у всех кулаки сжаты, — вы понимаете, у всех накипало. Вошел он, — фертик этакий, улыбается, сам маленький, фрачек аккуратненький, — мы все в ту же минуту вскочили на ноги, как один человек.
Иван Степаныч остановился и обвел нас гневным взглядом.
— Что ж дальше? — нетерпеливо закричали мы.
— Ну-с, и представьте себе, — воскликнул Иван Степаныч, подымаясь с кресла, и выпрямляясь во весь свой богатырский рост — вскочили мы…
— Ну, ну, — торопил рассказчика любопытный юнец Лабазников, не в меру суетливый.
Иван Степаныч сердито взглянул на него, и с ожесточением сказал:
— Ну, и ничего не вышло. Струсили, мерзавцы!
И Молодилов ударил кулаком по деревянной баллюстраде балкона, сердито сплюнул в сад, и уселся поудобнее в свое кресло.
Мы переглянулись, — и расхохотались.
II
— А то еще вот что было, — рассказывал Иван Степаныч. — Прослужил я несколько лет, и надумал жениться. Ну, я долго думать не люблю, — задумано, сделано. Я и под старость такой, а тогда и тем паче, — кровь-то молодая, горячая, сами знаете.
— Как не знать! — весело сказал Сабельников.
— Стояли мы с полком в городе Бедренце, — пустой городишка, никакой в нем значительности нет. Не знаю, может быть, теперь там что, а тогда совсем было захолустье. Но, однако, невест было достаточно. Вот выбрал я себе одну барышню, Леночку Ручейникову: и сама девица была во всех статьях авантажна, да и прилагательным Бог не обидел.
— Это — главное? — спросил Ежевикин.
— Само собой! а то как же! Ну, я такой человек, — ухаживать там, канителиться, — это не по моей части, — я по-русски, по-простецки решился действовать. Примундирился, припарадился, да и поехал делать предложение. Приехал это я к ним, и думаю сам с собой, с кого тут начать, с папеньки да маменьки, или с девицы. Ба! думаю, — ведь мне не с папенькой да маменькой жить, а с девицей, с неё, значит, и начинать надо. Правильно ли я говорю?
— Совершенно правильно, — единогласно одобрили мы.
— Подхожу я к девице, и без всяких затейливых фигур прямо ей так-таки и брякнул: Осчастливьте, сударыня, будьте моей женою. Ну, и что-же, представьте, — ничего не вышло! Оказалось, что она уже помолвлена с каким-то штафиркой.
Мы засмеялись.
— Смейтесь, смейтесь, — с неудовольствием сказал
Иван Степаныч, — а я зато отделался без всяких этаких финтиклюшек, бильедушек, да рандевушек. Скоро и хорошо.
III
— А то еще такой казус был. Был уже я в отставке, и проживал в городе Жабрице, — уездный городишко не из важных. Одолели нас купцы, за все дерут втридорога, конкуренции никакой. А слышим мы, в других местах потребительные общества заводятся. Собрались мы, потолковали. Только я вижу, дело тянут, а я мямлить не люблю, я живо, по-русски. Выписал я из Питера штуки три уставов этих самых, подобрал человек пять таких же незеваек, как я сам, засели мы за работу, уставчик склеили, и пригласили других сообща обсудить. Ну, само собой, на новинку многие пошли, собралось под сотню желающих всякого звания людей. Было у нас заседаний пять, устав рассмотрели досконально, переписали набело, подписались и послали, куда надо.
— А много ли вас осталось на последнем-то заседании? — спросил Ежевикин.
— Осталось нас не очень много, а все-таки подписали устав тридцать два человека с росчерком.
— Это как с росчерком? — полюбопытствовал Сабельников, улыбаясь сочными губами.
— А это был у нас чиновник акцизный, он так расписывался всегда, — сперва росчерк фигуристый, а потом фамилию влепит, да так, что сам чорт не разберет, где начало, где конец. Мастак был на это. Ну, вот, сделал он росчерк, а сам струсил. Нет, говорит, я подожду, мне, говорит, неудобно, я, говорит, все же по бандерольной части; как бы за это сверху не влетало. Так один росчерк и остался. Ну, ничего, мы отправили, — вышло в роде того, что это верхний залихватски расчеркнулся. Нас долго не томили, — прошло годика два с небольшим, устав мы получили обратно, и пишут нам: так-то и так-то надо изменить, сообразно с местными условиями. Мы снова собрались, изменили, что велено, переписали, подписали и послали.
— А сколько было вас тогда? — спросил Ежевикин.
— Было нас весьма достаточное число: двадцать три человека, — из старых девять, да новых четырнадцать.
— Недурно! — воскликнул Ежевикин.
— Ну что ж такое! Кто умер, кого перевели, кому некогда было. Вот послали мы, и ждем. Дождались, — через три года прислали нам устав, уже совсем утвержденный. Мы ликуем. Соорудили выпивку такую, что потом в неделю еле очухались, а там и собрались. Привалило тридцать девять человек, да еще сомнительных сотни полторы, посмотреть. А после, говорят, и мы примкнем. Выбрали распорядителей, казначея. И вижу я, попал в казначеи такой господин, которому я носового платка не доверил бы. Как это вам понравится? Но я молчу, — выбран законно, воля большинства, — тут нечего растабарывать. Однако, думаю себе: нет, такому господину я постерегусь свои деньги, свой пай давать. Ну, и представьте себе, из всего этого нашего общества…
— Ничего не вышло, — перебил Ежевикин.
— Именно так. Удалось этому господину собрать три пая, да и те он в тот же вечер пропил, — а другие уж не давали денег. Распорядители было туда, сюда, — давайте, говорят, господа, другого казначея выберем. Но только вое отмахиваются: в своем-то, мол, кармане денежки целее будут, авось.
— А вы, Иван Степаныч? — спросил Сабельников.
— А уж я отстранился. Если они не знают, кого выбирать, то и наплевать. Помилуйте, я для них трудился, распинался, хлопотал, а они выбирают не меня, а какого-то, извините за выражение, прохвоста! Сами и виноваты, — без меня у них ничего не вышло.
Превращения
I. С книгой и книжкой
Помню, — нас, детей, нисколько не удивляло двойственное поведение старика, Ивана Петровича. Мы уже применились и знали, как быть, когда дедушка с книгой и когда он с книжкой.
Случалось, в праздничный вечер, уже когда мы наиграемся вдоволь и уже из маленьких кое-кто готов раскапризничаться, приходил к нам дедушка Иван Петрович с громадной книжицей в толстом переплете с тяжелыми застежками. На дедушке был надет черный длинный сюртук, черный галстук, — а сам дедушка был сухой и строгий.
Дедушка вынимал из футляра серебряные очки, надевал их медленно и важно, — словно это был знак особого достоинства, — раскрывал свою книжицу на столе в столовой и громко говорил:
— Дети, успокойтесь! Послушайте!
Тогда мы, дети, собирались и чинно рассаживались вокруг стола. Важные и простодушные рассказы читал нам дедушка, исполненные непонятного смысла и высокой поучительности. Мы слушали, иногда дремали и отходили ко сну с утихомиренными душами.
Иногда приходил к нам Иван Петрович днем в праздник, одетый в легкий серенький пиджачок, с сереньким или пестрым галстучком на шее. В руке он держал маленькую книжку, без переплета, с поотрепавшимися у страниц краями. Дедушка улыбался, — все морщинки на его лице дрожали от сдержанного смеха.
С шумными криками мы, дети, окружали старичка, — и то-то было смеху и радости! Веселые историйки, забавные игры, замысловатые загадки, — чего-чего не было в маленькой книжечке!
Быстро пролетал час, другой, — Иван Петрович уходил, радостная, благодарная толпа ребят провожала его, любовно поглядывая на его доброе, морщинистое, но румяное лицо, в его живые, веселые, совсем еще молодые глаза.
И долго потом вспоминалась детям книжечка.
II. Учитель и конторщик
Андрей Никитич Шагалов, учитель сельской школы, молодой человек, степенный и добродетельный, хотя и холостой, одевался всегда чистенько, прилично званию и положению. Держал себя с достоинством. Любил бывать у батюшки, законоучителя его школы, — и ни разу не ссорился с ним. Нередко заходил к местному земскому фельдшеру, уряднику, волостному писарю и старшине. Каждому оказывал должное почтение и на свою долю получал достаточно такового же. Не гнушался и простыми мужичками, но запанибрата с ними не держался.
В гостях Андрей Никитич вел себя тонко, говорил о том, что могло занимать хозяина, иногда легонечко спорил, но всегда приятно и сдержанно, и никогда не доводил спора до резких пререканий. Если собеседник упрямо говорил что-нибудь такое, с чем никак нельзя было согласиться, Андрей Никитич умел шуточкой или иным ловким оборотом переменить предмет беседы.
Случалось Андрею Никитичу бывать и у местного помещика, отставного действительного статского советника Палицына. И там Андрей Никитич поддерживал себя на должной высоте, приходил в крахмалах, здоровался за руку, был умеренно почтителен и долго не засиживался.
— Заходите, Андрей Никитич, — говорил ему, пожимая на прощанье руку, господин Палицын.
Андрей Никитич вежливо благодарил.
— Покорно благодарю, Владимир Алексеевич, — говорил он, — сочту непременным долгом.
Приятно осклаблялся, уходил и по дороге домой весело помахивал тонкой тросточкой, как человек, довольный судьбой.
Кончались по весне занятия в школе. На лето помещик нанимал лишнего приказчика. Приглашали всегда Андрея Никитича.
Уже он надевал не крахмалы, а чистую вышитую рубашку под пиджак, высокие сапоги и являлся в контору. Барину докладывали. Немного, — но и не мало, — погодя звали учителя в кабинет. Шагалов входил, кланялся низенько, останавливался у порога и легонечко покашливал в руку из скромности. И уже он не осклаблялся, как бывало зимой. Барин слегка кивал ему головой и не вставал с кресла у письменного стола.
— Э… ну что ж, — говорил он с растяжкой, — нам, того… долго разговаривать нечего, — э… по-прошлогоднему?
— Так точно, ваше превосходительство, — отвечал Шагалов, и звук его голоса, и вся его фигура олицетворяли почтительность.
— Так уж ты, Андрей, старайся, — увереннее и быстрее говорил барин, — а ежели я… э… сгоряча скажу что-нибудь… э… лишнее, так уж ты, того, не взыщи.
— Помилуйте, ваше превосходительство, уж это само собой, как же-с иначе, — почтительно говорил Шагалов.
— Ну да, я знаю, ты это понимаешь, — продолжал барин, — со своим приказчиком я не могу нежности разговаривать. Э… там зимой, мы и на вы, и за руку, и все такое, а теперь мне, э… приказчик нужен, дело делать, а не… э… миндальничать.
— Уж я это понимаю, ваше превосходительство, — уверял Шагалов, — уж вы меня знаете, останетесь довольны, не извольте беспокоиться.
Так начиналась летняя служба учителя Шагалова. Барин говорил ему ты, называл Андреем, а иногда, под горячую руку, ругал скотиной и грозил заехать в морду.
Зато платил хорошо, — и не затягивал, — семьдесят пять рублей в лето — деньги!
III. С учеником и с гостем
Инспектор гимназии кончал обед.
Звонок.
— Несет нелегкая кого-то спозаранок, — сердито проворчал инспектор.
В прихожей открыли дверь.
— Да это не гость, — сказала жена, заглядывая со своего места в полутемную прихожую, — гимназист пришел какой-то.
— Гимназист Буров, — доложила горничная.
— Проводите в кабинет, пусть подождет, — недовольным голосом сказал инспектор.
Он нарочно затянул обед.
«Не вовремя приходят, — досадливо думал он, — есть гимназия, я не каторжный».
— Надо вовремя, — сказал он, входя в кабинет. — Нельзя же во всякое время дня и ночи.
Буров, мальчик лет тринадцати, вскочил со стула, ловко шаркнул и навытяжку стал у дверей тесного кабинета. Инспектор сел в кресло, потянулся, строго оглядел гимназиста с ног до головы и сердито сказал:
— Пояс на боку.
Буров покраснел, передвинул у пояса пряжку прямо наперед и снова опустил руки.
— И что вы вахлаком стоите! Одно плечо выше, носки вместе, — тихо говорил инспектор, преувеличивая недостатки в стоянии мальчика.
Буров старательно поправился. Инспектор вздохнул, еще раз потянулся и спросил с сухой, служебной вежливостью:
— Чем могу служить?
Но тотчас же сказал желчно:
— Разве вы не могли в гимназии!
— Извините, Петр Иваныч, — сказал Буров, — я не знал, мама…
Инспектор перебил его.
— Чем могу служить? — резко спросил он.
Буров быстро и отчетливо сказал тоном служебного доклада, как маленький, но уже отлично вымуштрованный чиновник:
— На воскресенье и два праздника позвольте мне, Петр Иваныч, уехать с мамой в имение и не быть в гимназии в церкви.
— К классному наставнику надо, — сердито сказал инспектор, — порядка не знаете. Вы бы еще разлетелись к директору!
— Разрешите вы, Петр Иваныч, — просил Буров, — все равно к Николаю Алексеевичу далеко, а мы сегодня хотим уехать.
— Можете, — сухо сказал инспектор. — Больше ничего не надо?
Буров шаркнул ногой, поблагодарил, перестал вытягиваться, — даже руку на пояс положил, — и сказал совсем другим, домашним тоном:
— Мама велела просить вас, Петр Иваныч, приехать к нам на эти дни погостить.
Инспектор улыбнулся.
— Ну, уж это дело частное, — сказал он, — садитесь, Сережа, гостем будете.
Мальчик опять шаркнул, сел на кушетку, рядом с инспектором, локоть положил на валик, ноги поместил поудобнее.
— Скажите вашей маме, — начал было инспектор.
Сережа перебил его:
— И Анну Владимировну с детьми мама просит.
— Ну, — сказал инспектор, — уж это надо у них спросить, пойдемте.
Он взял Сережу за плечи и повел его к жене.
IV. В сапогах и босиком
Петя Горнилов, дьячков сын, обучался в городском училище. Много шалил, но учился бойко, — шустрый паренек. Держался развязно. Учителю на улице кланялся почтительно, но с достоинством и здоровался за руку, так как учитель водил знакомство с его отцом.
В классе Петя учителю не очень-то уступал, — не давал ему себя слишком притеснять. Если за шалости Петю посылали в угол или ставили на колени, — он становился неохотно, долго оправдывался, спорил даже, случалось, дерзил.
О себе думал Петя высоко. Читал он книжки, — и старался выбирать те, что для взрослых. Хотел учиться дальше и выучиться настолько, чтобы получать хорошее жалованье, больше, чем отец, и жить лучше отца, например, как учителя живут.
Настала весна, и уже снег стаял. Утром, в неучебный день, Петя собрался удить рыбу. Он вышел из дому босой. Так он будет часто ходить, — все лето и осенью долго, пока тепло.
На улице Петя встретил учителя. Петя к сторонке, — покраснел, отошел подальше, чтобы не здороваться с учителем за руку, снял шапку, поклонился издали. Теперь, когда Петя идет босиком, он думает про себя, что еще он простой мальчишка, которому еще далеко до хорошего жалованья. Поэтому, босой, Петя скромный да смирный, особенно вначале, пока еще ноги не загорелые.
Завтра в классе, пошли его учитель в угол хоть ни за что, Петя пойдет послушно, чувствуя в душе почтение к учителю, к его господскому положению, к его казенному жалованью и к его форменной одежде.
V. С подчиненным и с начальником
Начальник спросил столоначальника:
— Ну, что у вас?
Замерший в почтительном склонении столоначальник робко сказал:
— Я должен доложить вашему превосходительству, что приказание, которое изволили отдать ваше превосходительство, относительно сношения с губернским правлением, не могло быть исполнено по неимению у нас достаточных…
— Это у вас обычная история, — резко прервал начальник, — надо заблаговременно. Но, пожалуйста, сократите, — я должен ехать, меня вызывают. Есть еще у вас какие-нибудь дела?
— Не особенно важные, ваше превосходительство, — если позволите, можно отложить.
— У вас, кажется, все дела не особенно важные. Ну-с, до свидания.
Протянул два пальца, — для почтительного пожатия, — подчиненному, взглянул еще раз на часы и торопливо проследовал мимо склонявшихся перед ним чиновников к подъезду.
В карете начальник чувствовал легкое волнение. Сейчас он предстанет и скажет:
— Осмелюсь доложить вашему высокопревосходительству…
А его высокопревосходительство скажет:
— В нашем департаменте, почтеннейший Павел Павлович, всегда неблагополучно. Опять вы меня подвели. Так нельзя-с.
Начальник ответит:
— Извините великодушно, ваше высокопревосходительство, но я уже неоднократно имел честь вам докладывать…
— Ну да, знаю, — сердито прервет «особа», — вы всегда хотите быть правы. Кстати, вы сколько лет изволите быть в чине?
— Семь лет, ваше высокопревосходительство, — трепетными губами ответит начальник.
— Да-с, — задумчиво скажет его высокопревосходительство, — так что при отставке можно и в тайные. Да-с…
Его высокопревосходительство помолчит, пожует губами, вздохнет и скажет:
— Я просил вас, Павел Павлович, пожаловать собственно вот по какому делу…
Так мечтает горестно начальник, сидя в карете, и сердце его сжимается тоскливо.
Призывающий Зверя
I
Было тихо, спокойно, не радостно и не грустно. Стены казались несокрушимыми. Окно скрывалось за тяжелыми, темно-зелеными в тон обоям на стенах, только гораздо темнее их, занавесами. Обе двери, — и большая, в боковой стене, и маленькая, в глубине кабинета, против окна, — были крепко закрыты. Замкнуты. И там, за ними, — хорошо помнил это Гуров, — было темно и пусто, — и в широком коридоре, и в скучной, просторной и холодной зале, где тосковали разлученные с родиною грустные растения.
Гуров лежал на низком диване. В руках была книга. Читал. Медленно. Часто отрывался от чтения. Думал, мечтал, — все о том же.
Все о них.
Они были около него. Это он уже давно замечал. Таились. Неотступно стояли близко. Шелестели тихохонько. Но долго не являлись его глазам.
А на днях, когда Гуров проснулся вялый, тоскующий, бледный и лениво повернул выключатель электрической лампы, чтобы прогнать дикий мрак зимнего раннего утра, — он вдруг увидел одного из них.
Маленький, серенький, зыбкий и легкий, мелькнул вдоль изголовья, пролепетал что-то — и скрылся.
И потом, то утром, то к вечеру, пробегали перед Гуровым маленькие, зыбкие, — домашние нежити.
И уже сегодня он ждал их уверенно.
Временами начинала слабо, едва заметно, болеть голова. Временами становилось вдруг холодно или вдруг жарко. И тогда выбегала из угла длинная, тонкая Лихорадка с некрасивым желтым лицом и костлявыми сухими руками, и ложилась рядом, и обнимала, и принималась целовать и смеяться. Но и эти быстрые поцелуи ласковой хитрой Лихорадки, и эти медленные приступы легкой головной боли были приятны.
Слабость разливалась во всем теле. И усталость.
Гуров уже несколько дней никуда не выходил. Замкнулся дома. И к себе никого не пускал. Сидел один. Думал о них. Ждал их.
Усталость разливалась в теле, — но и она была так же приятна. Казалось, что все буйство жизни отошло далече. Люди стали далеки, не любопытны, не нужны совсем. Хотелось быть с ними, с этими тихими, здешними, с нежитями.
II
Странно и неожиданно прервалось томное ожидание. Стукнула далекая дверь, — и в зале за дверью Гуров услышал неторопливые шаги. Кто-то шел там, приближаясь, ступая уверенно и легко.
Гуров повернул голову к двери. Повеял холод. Перед ним стоял мальчик дикого, странного вида. В полотняном плаще. Полуобнаженный. С голыми ногами. Очень смуглый. Загорелый весь. Черные вьющиеся волосы. Черные, яркие глаза. Дивно правильное, прекрасное лицо. Столь прекрасное, что было страшно смотреть на его красоту. Не доброе, не злое.
Гуров не удивился явлению мальчика. Какое-то властительное чувство захватило его. И было слышно, как притаились, попрятались маленькие домашние нежити.
И сказал отрок:
— Аристомах! Или забыл ты свое обещание? Так ли поступают доблестные люди? Ты ушел от меня, когда я был в смертной опасности, ты обещал мне то, чего, видно, не захотел исполнить. И я так долго искал тебя, и вот нахожу тебя пребывающим в праздности, в роскоши утопающим.
Гуров смотрел в недоумении на отрока, полуобнаженного и прекрасного, и смутные воспоминания пробуждались в его душе. Что-то давно погребенное восставало неясным очерком и томило память, не находящую разгадки странного явления, разгадки, которая казалась, однако, столь близкою и родною.
И где незыблемость стен? Что-то происходило вокруг, — какая-то свершалась перемена. Но Гуров, поглощенный тщетными усилиями вспомнить что-то, и близкое, и ускользающее из цепких объятий древней памяти, еще не успел осознать уже чувствуемой им перемены. И он спросил дивного отрока:
— Милый мальчик, скажи мне ясно и просто, без лишних упреков, что я тебе обещал и когда я оставил тебя в минуту смертной опасности? Я же клянусь тебе всем святым, что моя честь никогда не позволила бы мне такого черного поступка, как тот, в котором ты меня почему-то упрекаешь.
Отрок покачал головой. Звучным голосом, подобным мелодичному рокоту струн, он сказал:
— Аристомах, ты всегда был искусен в словесных упражнениях и столь же искусен в делах, требующих отваги и осторожности. Если я сказал, что ты оставил меня в минуту смертной опасности, то это я сказал не в упрек, и я не понимаю, зачем ты говоришь о твоей чести. Замышленное нами дело трудно и опасно, но кто же нас слышит теперь, перед кем ты мог бы хитросплетенными словами и притворным забвением того, что свершилось сегодня утром, перед солнечным восходом, доказать, что ты не давал никакого мне обещания?
Свет электрической лампы становился тусклым. Потолок казался темным и высоким. Пахло травою, название которой забылось, но было когда-то столь нежно и радостно. Веяло прохладою.
Гуров встал. Спросил:
— Какое же дело мы с тобою замыслили? Милый мальчик, я ничего не отрицаю, — я только не знаю, о чем ты говоришь. Я не помню.
И казалось Гурову, что отрок смотрит на него и не на него. Как будто бы здесь есть кто-то другой, такой же дивный и нездешний, как и этот странный пришлец, — и как будто дивное тело этого другого отчасти совпадает с телом Гурова. Как бы чья-то древняя душа навлекалась на Гурова и облекала его давно утраченною свежестью вешних восприятий.
И темнело вокруг, и становилось свежее и прохладнее в воздухе, — а в душе воздвигалась радость и легкость первоначального существования. И яркие загорались в черном небе звезды.
Говорил отрок:
— Мы должны были убить Зверя. Вот, это я тебе говорю здесь, под многоокими взорами всевидящего неба, если ты сам смутился от страха. И как не быть страху! Воистину, великое и страшное затеяли мы дело, чтобы славою увенчались в далеких поколениях наши имена.
Тихо, однозвучно и робко журчал в ночной тишине ручей. Не видно его было, но отрадно чувствовалась его утешительная близость и свежесть. Под широкою сенью дерева стояли они и продолжали разговор, начатый некогда.
И спросил Гуров:
— Зачем же ты говоришь, что я оставил тебя в минуту смертельной опасности? Кто я такой, чтобы устрашиться и бежать!
Отрок засмеялся. Как музыка звучал его смех, и мелодичны были звуки его ответа, звуки, пронизанные сладким смехом:
— Аристомах, как искусно притворяешься ты забывшим все! Не понимаю, для чего ты это делаешь, и делаешь с таким великим мастерством, что даже сам взводишь на себя упреки, о которых я и не думал. Ты оставил меня в минуту смертной опасности потому, что так же ведь и надо было, и ты не мог помочь мне иначе, как покинув меня в эту минуту. Или ты станешь упорствовать в своем отрицании и тогда, когда я напомню тебе слова оракула?
Гуров сразу вспомнил. Точно яркий свет пролился в темную область забытого. И в диком восторге, громко и радостно воскликнул он:
— Один убьет Зверя!
Отрок смеялся. И спросил Аристомах:
— Ты убил Зверя, Тимарид?
— Чем? — воскликнул Тимарид. — Как ни сильны мои руки, но я не тот, кто мог бы убить Зверя ударом кулака. Мы были неосторожны, Аристомах, и безоружны. Мы играли на прибрежном песке. И Зверь напал на нас внезапно, и на меня наложил свою тяжкую лапу. Мне надлежало принести мою жизнь в сладостную жертву славе и высокому подвигу, а тебе — докончить наше дело. И пока Зверь терзал бы мое тело, беззащитное и незащищающееся, ты мог бы успеть, быстроногий Аристомах, принести свое копье, умертвить пьяного от крови Зверя. Но Зверь не принял моей жертвы. Я лежал перед ним, спокойный и неподвижный, глядя прямо в его налитые кровью глаза. Он держал на моем плече тяжкую свою лапу, дышал горячо и неровно и тихо ворчал. Потом широким жарким языком лизнул мое лицо и отошел.
— Где же он? — спросил Аристомах.
Странно спокойным и странно, в тихой неподвижности влажного воздуха, звучным голосом ответил Тимарид:
— Он шел за мною. Не знаю, как долго мне надо было пройти, пока я нашел тебя. Он шел за мною. Я приманивал его запахом моей крови. Не знаю, почему он до сих пор не тронул меня. Но вот я приманил его к тебе. Достань же оружие, которое так искусно ты спрятал, и убей Зверя, а я в свою очередь уйду от тебя и оставлю тебя одного в минуту смертельной опасности, с глазу на глаз с разъяренным Зверем. Будь счастлив, Аристомах.
И, сказав это, Тимарид бросился бежать. В темноте недолго мелькал его белый плащ. И вот уже он скрылся.
И в тот же миг раздалось страшное рыкание Зверя и послышалась его тяжкая поступь. Раздвигая кусты, показалась в темноте громадная уродливая голова Зверя, сверкнули багровым огнем два огромные пламенные глаза. И на темном молчании ночных дерев, темный и свирепый, приблизился Зверь к Аристомаху.
Ужас наполнил сердце Аристомаха.
«Где же копье?» — краткая мелькнула в голове его мысль.
И в ту же минуту, быстрое почувствовав на лице своем веяние ночного свежего воздуха, догадался Аристомах, что он бежит от Зверя. Тяжелые прыжки Зверя и его прерывистое рыкание раздавались все ближе и ближе за Аристомахом.
И уже когда Зверь настигал его, громкий вопль рассек ночную тишину. И возопил Аристомах. И, вспоминая древние и страшные слова, громко произнес заклятие стен.
И, заклятые, воздвиглись вокруг него стены…
III
Заклятые, незыблемо и светло стояли стены. И неживой отражался на них свет мертвой электрической лампы. И все обставшее Гурова было обычно и просто.
И опять легкая приходила Лихорадка, и целовала желтыми сухими губами, и ласкала сухими костлявыми руками, рассыпающими жар и холод. И опять слегка болела голова. И та же была книга, маленькая и скудная, с белыми страницами, на столике около дивана, на котором по-прежнему спокойно лежал Гуров, нежась в объятиях ласковой Лихорадки, осыпаемый ее быстрыми поцелуями. И опять около него, маленькие, смеялись и шелестели домашние нежити.
Гуров сказал громко и равнодушно:
— Заклятие стен.
И остановился. Но в чем же это заклятие? Забыл слова. Или их и не было?
Маленькие нежити, зыбкие, серенькие, плясали вокруг маленькой книги с мертвенно белыми страницами и шелестинными голосочками повторяли:
— Наши стены крепки. Мы в стенах. Не придет к нам цепкий внешний страх.
Но посреди их стоял один, такой же маленький, но непохожий на них. Он был весь черный. Одежда его струилась дымно-пламенными складками. Глаза его исторгали яркие молнии. И от этих молний острый озноб потрясал тело Гурова. И становилось вдруг страшно и потом опять радостно.
И спросил Гуров:
— Кто ты?
Черный гость ответил:
— Я — Призывающий Зверя. На берегу лесного ручья оставил ты, в давно минувшем переживании твоем, растерзанное тело Тимарида. Зверь насытился прекрасным телом твоего друга, — он сожрал плоть, которая должна была в себе вместить полноту земного счастия; дивное совершенство человеческого, — и более чем человеческого, — образа погибло, чтобы на миг насытить голодного и всегда ненасытного Зверя. И кровь, дивная кровь, божественное вино счастья и веселости, вино блаженств более чем человеческих, — где эта дивная кровь? Увы! — жаждущий, вечно жаждущий Зверь мгновенно упился ею и снова жаждет. Растерзанное Зверем тело Тимарида оставил ты на берегу лесного ручья, — ты забыл обещание, данное тобою твоему доблестному другу, и слова древнего оракула не отогнали страха от твоего сердца. И ты думаешь, что ты спасся, что Зверь не найдет тебя?
Жестоко звучали его слова. И пока он говорил, прекратилась понемногу пляска домашних нежитей, — остановились маленькие, серенькие нежити и слушали Призывающего Зверя. И сказал Гуров:
— Что мне до Зверя! Я заклял навеки мои стены, — и Зверь не проникнет ко мне, в мою ограду.
Серенькие обрадовались и зазвенели, засмеялись, и уже готовились начать снова свою веселую пляску, и уже взялись за руки, и опять стали в кружок, — но Призывающей Зверя заговорил снова, и резки и суровы были звуки его голоса. И он сказал:
— Но вот я здесь. Я здесь, потому что я нашел тебя. Я здесь, потому что умерло заклятие стен. Я здесь, потому что Тимарид ждет и неустанно вопрошает. Слышишь нежный смех доблестного и доверчивого отрока? Слышишь грозное рыкание Зверя?
За стеною раздавалось, приближаясь, грозное рыкание Зверя.
— За стеною рычит Зверь, за незыблемою стеною, — в ужасе восклицал Гуров, — стены мои закляты навеки, и ограда их нерушима.
И сказал Черный, — и повелительно было выражение его слов:
— Говорю тебе, человек, умерло заклятие стен. И если хочешь спасти себя заклятием стен, — ну что же, скажи это заклятие!
Острый озноб вдруг пронизал все тело Гурова. Заклятие! Но забыты слова древнего заклятия. Да и не все ли равно! Умерло, умерло древнее заклятие!
И все предстоящее говорило с неотразимою убедительностью, что умерло древнее заклятие стен, — потому что и стены, и светы, и тени, — все стало мертвым и зыблемым.
Призывающий Зверя говорил страшные слова. И кружилась и болела голова у Гурова, и томила своими жаркими поцелуями неотступно ласкающая Лихорадка. Страшные слова звучали, почти не доходя до сознания, — а Призывающий Зверя становился все больше и больше, — и зноем веяло от него, и страхом. Глаза его метали огонь, — и когда он стал уже такой высокий, что заслонил свет лампы, — вдруг черный плащ упал с его плеч. И узнал его Гуров, — это был отрок Тимарид.
— Ты убьешь Зверя? — спросил Тимарид нежным голосом. — Вот, я призвал его, я привел его к тебе, я разрушил заклятие стен. Древнее заклятие стен, коварный дар враждебного божества, — это обращало в ничто мою жертву, это оно заслоняло от тебя твой подвиг. Но вот умерло древнее заклятие стен, — возьми же скорее свой меч, убей Зверя. Я был только отроком, — я стал ныне Призывающим Зверя, — моею кровью я напоил Зверя, и он жаждет снова, и моею плотью я напитал Зверя, и он опять голоден, ненасытный, жестокий Зверь. И вот, к тебе я призвал его, и ты, во исполнение своего обещания, убей Зверя. Или умри.
Исчез. Страшное рыкание потрясло стены. Холодною повеяло сыростью.
И стена, прямо против того места, где лежал Гуров, разверзлась, и вышел свирепый громадный уродливый Зверь. Со свирепым рычанием подошел он к Гурову, тяжелую на его грудь положил лапу. И прямо в сердце вонзились беспощадные когти. Страшная боль пронизала тело. Сверкая кровавыми глазами, Зверь наклонился к Гурову и, с треском дробя зубами его кости, стал пожирать его трепещущее сердце.
За рекою Мейрур
I
Две недели, проведенные мною и братом моим Сином в великолепной столице, пышной и порочной, промелькнули, как быстрый, смутный сон. Все дивило и поражало взоры жителей стороны, удаленной не одним только расстоянием, но и нравами, от ухищрений и соблазнов этого гордого, царственного, торжественного города. Но слишком поздно понял я, что не только дивен и славен шумный, многолюдный и обширный город, но и страшен он для неискушенного опытом долгой жизни юного сердца. И сам я испытал соблазн и огорчение, ни с чем несравнимое. Но не брать бы мне с собою молодого моего брата!
Друг наш Сарру, у которого мы остановились, хотел отплатить нам за гостеприимство наше во время его странствования в нашей земле. Он неотлучно был с нами, забыв все свои дела, и единственною заботою его было то, чтобы показать нам все достойное внимания в этом дивном и великом городе. Тогда как другие хозяева часто тяготятся гостями, и ждут с нетерпением разлуки, наш добрый друг жалел лишь о том, что мы не можем прожить в его доме долго, чтобы пройти весь годовой цикл торжеств, праздников и жертвоприношений.
Храмы божеств милостивых и свирепых, священные рощи таинственных духов, мрачные башни успокоения, благоуханные сады любострастных наслаждений, приюты расточаемых за деньги ласк, базары с неисчислимыми богатствами роскошных тканей, ковров, оружия, драгоценных камней, благовоний и мастей, забавных птиц и обезьян, отроков и рабынь всех оттенков кожи, от самого нежного розового до самого черного цвета, кофейни и приюты для курений, от которых человек восхищается в невиданные на земле области, и много еще иного, о чем и не упомню, показывал нам Сарру. Но речь веду не о множестве виденного. Одно было нам искушение, и оно привело нас и всю страну нашу к величайшим несчастиям.
И не посещать бы мне этого города! Или, или по крайней мире, не брать бы мне с собою моего юного брата. Едва вышедший из отроческого нежного возраста, как мог он преодолеть искушение, которое и для меня было столь тягостным испытанием!
Однажды утром друг наш Сарру сказал нам:
— Сегодня я покажу вам царский зверинец, — в этом месяце сады зверинца доступны для обозрения не только нам, но и чужеземцам.
Брат мой Син шумными изъявлениями восторга радовал нашего друга. Я же смутился, ибо в ту ночь видел во сне зловещее предзнаменование: зверя непомерной силы и свирепости, рыкание которого было подобно голосу того, кто обитает в чащах за рекою Мейрур. И не идти бы мне в проклятый зверинец! Но не захотел я огорчать любезного нашего хозяина.
II
В саду, который казался нескончаемым, в клетках разной величины и разной формы, сделанных из различных металлов и разнообразного дерева, увидали мы прежде всего чудесное многообразие птиц. Тут были и громадные птицы с сильными крыльями и хищно изогнутым клювом, которым они могли бы захватить и унести самого тучного барана, и птицы, лишенные почти совсем крыльев, но зато одаренные перьями удивительно красивой окраски, напоминавшими самоцветные камни в песке реки Мейрур, которыми играя забавляются наши дети; птицы, голос которых был так приятен, что пение их можно было слушать без конца с великим восхищением; птицы столь малой величины, что они казались красивыми стрекозами; были и такие птицы, которые умели говорить на языке той страны, хотя и не очень хорошо, но все-таки достаточно внятно и громко.
В громадных водовместилищах видели мы великое множество рыб и других речных и морских чудовищ. Далее были помещены громадные, страшные змеи. Они с такою яростью раззевали свои ужасные пасти, высовывая страшные жала, что невольный трепет обнимал всякого. Взгляд свирепых гадин производил такое впечатление, что неосторожный, посмотревший прямо в змеиные очи, лишался способности двигаться; надо было, чтобы кто-нибудь другой увел его от страшного, хотя и безопасного места, — ибо эти гады не только были заключены в клетки с тонко извитыми решетками, но и были обезврежены: у них были вырваны зубы, в которых хранился пагубный яд.
Далее увидали мы неисчислимое множество клеток со зверями хищными и травоядными, — верблюды с одним и двумя горбами, носороги, бегемоты, невиданные звери с ужасными когтями, и чудовища с носами, похожими на змей.
Мой юный брат Син восторгался всем, что он видел. Я же, от множества собранных в одно место чудовищ, из которых многие оглашали воздух противными и страшными звуками, все более и более смущался, и тягостные предчувствия все сильнее томили меня. Друг наш Сарру сказал нам:
— Сейчас вы увидите зверя, поистине царственного.
Но не успел еще Сарру произнести имя зверя, как свершилось дивное явление, повергнувшее меня в неизъяснимый трепет, и заставившее меня в ужасе упасть лицом на землю. Над многообразием звериных криков и людских веселых голосов раздалось внезапно грозное рыкание, — голос обитающего в чаще за рекою Мейрур.
Рыкание, которое в тишине наших ночей наводило ужас на сердца наши, и означало, что обитающий в лесу, алкая новой жертвы, рыщет у околицы нашего селения, — это рыкание раздалось в зверинце великого царя. Повергнувшись на землю, ждал я, кого из присутствующих изберет он для своей трапезы, и таинственным ужасом было полно мое сердце. Мысленно прощался я с жизнью, — никогда в такой близости ко мне не слышал я грозного этого рыкания.
Когда я и брат мой Син лежали, распростертые в прахе, и ждали, вдруг услышали мы громкий, заглушивший даже грозное рыкание, хохот множества людей. Друг наш Сарру, смеясь, как все, старался поднять нас с земли.
— Не бойтесь, — говорил он нам, — этот зверь, точно, страшен, если встретить его на воле. Но он посажен в прочную клетку, и не уйдет из неё, хотя бы и еще сильнее был он. Мастер, строитель клетки, знает свое дело. Да и может ли грозить кому-нибудь опасность в том месте, где бывает сам великий царь, забавляясь заключенными в зверинце чудовищами?
Не поднимая лица, я отвечал другу нашему Сарру:
— Сердце мое не знает страха, и не дрожало оно в минуты смертной опасности. Но я слышал грозное рыкание, и жду дивного и страшного явления. Обитающий в лесу за рекою Мейрур алчет жертвы, — и человеку надлежит лежать во прахе, и ждать, кого возьмет свирепый для своей трапезы.
Смеясь по-прежнему, говорил мне Сарру:
— Это рычит зверь, посаженный в клетку, совершенно безопасный. Вот, смотри, и малые дети теснятся у клетки зверя, и не боятся его, потому что решетка клетки несокрушима. Зверь получит только ту пищу, которую дадут ему приставники зверинца.
Долго не верил я другу нашему, и долго лежал в пыли перед клеткою, потому что рыкания продолжались, такие же грозные и свирепые, как и те, которые ужасали меня по ночам, когда я просыпался в моем шатре, и слышал приближающегося к селению и требующего жертвы.
Но брат мой Син тихо сказал мне наконец:
— Я осмелился взглянуть на клетку. Рыкание исходит от зверя, заключенного там.
И тогда я не знал, что думать, и как мне быть. Коварный ли демон имеет в этом нечестивом городе такую власть, что осмеливается гнусным своим рычанием подражать грозному голосу? Но могут ли быть демоны столь дерзкие и столь сильные? Обитающий ли за рекою Мейрур таится в шкуре зверя, плененного и безопасного, смеется над жалкими в их ослеплении людьми, и выбирает себе между ними жертву? Но может ли великий и грозный снизойти до того, чтобы прятаться в шкуре плененного зверя? Или презренный демон этого нечестивого города, лживый, коварный, покровительствующий хитрым, дерзновенным замыслам, измыслил неведомые чары?
Но не грозит ли неисчислимыми бедствиями для меня и брата моего Сина то, что мы осмеливаемся длить нечестивый восторг развратных жителей этого проклятого города, и лежать, хотя и в смиренном положении, перед отвратительною клеткою, в которой совершается что-то, нам совершенно непонятное, и, может быть, даже и совсем недоступное слабому человеческому разуму, но, несомненно, оскорбительное для заветов нашей благословенной родины?
Рыдая, лежал я во прахе, меж тем, как нечестивцы издевались над нами, и не знал, что делать. И брат мой Син сказал мне:
— Уйдем отсюда.
Я не знал, можно ли уйти, пока он рычит над нами. И как подняться? И как увидеть того, в глаза которого еще никто из нас не смотрел? Если точно он здесь в клетке, то как уйти от него, и как оставить его в унижении и позоре? Но что мы можем сделать? Оставаясь здесь, и слушая насмешки и над нами, и над ним, не совершали ли мы сами гнуснейшего из человеческих грехов? И хотя в первую минуту мысль уйти от грозно рыкающего показалась мне преступною, но скоро я понял, что нам не остается ничего иного.
Но прежде, чем подняться и уходить, я тщательно закрыл плащом лицо моего брата Сина, думая, что, если кому-нибудь из нас надо погибнуть, встретив разъяренный взор, то пусть лучше погибну я, насладившийся долготою дней, а не брат мой, еще не испытавший сладчайших в скоротечной жизни радостей и утешений. Притом же юношеское легкомыслие могло заставить его снова поднять взор на клетку, — он мог подумать, что, если первый взгляд его остался неотомщенным, то столь же счастлив будет он и второй раз. Я же, опытом долгой жизни умудренный, знал уже хорошо, что искушать судьбу безумно.
Ни на что более не глядя, вышли мы из зверинца, провожаемые грубыми насмешками толпы, безумной в своем нечестии. Поистине, грозной кары достойны не только люди, обитающие в этом проклятом городе, но и самые стены, столь хитро воздвигнутые и суетно увенчанные гордыми башнями.
III
В тот же день мы поспешно навьючили верблюдов, и еще до солнечного заката покинули ужасный город.
Во время долгого, трудного пути много было у меня и у брата моего Сина досуга обдумать то, что случилось с нами в зверинце великого царя. Но никак не мог я понять значения того дивного явления, которое было нам.
Не надлежало ли толковать его, как знамение, предвещающее нечто или ужасное или благоприятное? Но согласно ли с истинным знанием, завещанным нам нашими предками, думать, что сильнейшее в Мире является не само для себя, а только для того, чтобы в мире деяний человеческих быть неким вещим знаком? И кто мы такие, чтобы обитающий за рекою Мейрур приходил к нам без воли и могущества пожрать наши распростертые перед ним тела? Притом же никогда не слышали мы, даже и от старейших из старцев наших, чтобы он являлся предзнаменовать и пророчествовать о делах наших, — всегда приходил он, грозно рыкая, чтобы пожрать того из нас, на кого падал его выбор.
Долго шли мы с братом в пустынных местах, направляясь к родным селениям, и ничего не говорили друг с другом. По угрюмому молчанию брата моего понимал я, что и он думает о дивном явлении. Наконец, уже когда до нашего дома оставалось не более трех дней пути, сказал брат мой Син:
— Когда поверглись мы на землю, и лежали долго, а чужие люди издавались над нами, я наконец решился поднять голову. И ясно увидел я разверстую пасть зверя. Клянусь, не было в этом ошибки, — рыкание исходило из пасти зверя. Дикого зверя, пойманного людьми, и посаженного в клетку.
Я сказал брату моему Сину:
— Об этих грозных явлениях надлежит молчать. Такова мудрость, которой научили нас предки. В мире есть много непонятного, — и как ни страшно то, что случилось с нами, мы должны с покорностью преклоняться перед волею приходящего к нам.
Син долго молчал. Когда день клонился к вечеру, и уже солнце было низко, Син сказал мне:
— Это и было то самое рыкание, которое раздавалось у нашей околицы, когда он приходил за жертвою. Тот, которому мы поклонялись с таким смирением, с такою покорностью, тот, который пожирал без счета нежных дев и веселых детей, он оказался диким зверем с глазами зелеными, как у кошки, с желтою шкурою, испещренною черными пятнами. И его можно изловить и посадить в клетку.
Я ужаснулся, и запретил брату моему Сину говорить такие нечестивые слова. Но Син, охваченный неистовством, исходящим от коварного духа, вечно враждующего с обитающим за рекою Мейрур, сказал мне с яростью:
— Я видел, что он — дикий зверь. И я не хочу, чтобы мы и впредь приносили ему такие бесчисленные, дорогие жертвы. Разве мы не можем построить такой для него клетки, которая была бы ему достойным вместилищем? И пусть он живет там мирно, не разоряя наших селений, не внося ужаса и горя в наши семьи, питаясь нашими добровольными приношениями. Я не так безумен, чтобы говорить, что можно жить без него, — но разве он не может питаться мясом баранов и быков? Зачем надо было, чтобы он пожрал в цвете лет твою невесту, прелестнейшую из девушек нашего села? Зачем надо было, чтобы столь многие оплакивали своих детей, когда он превосходно мог бы насытиться от наших стад?
Объятый ужасом, тщетно запрещал я моему брату, тщетно даже я нещадно бичевал его, — его язык продолжал извергать злые и нечестивые слова.
И возвратились мы домой.
IV
Скоро между молодыми людьми начались тайные совещания, — брат мой Син собирал юношей нашего селения, и прельщал их своими безумными рассуждениями. Увы! И сам я принужден был, на прямо обращенные ко мне вопросы, подтвердить, что и в самом деле в царском зверинце слышали мы, я и брат мой Син, грозное рыкание, и что оно исходило из той самой клетки, где заключен был дикий зверь, плененный хитрыми и сильными охотниками, безопасный в крепко слаженном убежище.
Правда, я не уставал объяснять сомневающимся, что обитающий за рекою Мейрур не мог быть там в клетке, и что исходившее из клетки рыкание было одним из тех неизъяснимых явлений, которые не могут быть постигнуты слабым человеческим разумом, и о которых лучше всего хранить молчание. Но меня мало слушали, и более верили злому внушению легкомысленного Сина, уверявшего, что обитающий за рекою Мейрур — зверь, и что его надо посадить в клетку.
Все жители нашей страны разделились на две враждующие между собою стороны. Одни, соблюдая предания старины и заветы мудрых предков наших, сохранили веру в того, кто обитает в непроходимых чащах, недостижимый для людей, кто по ночам выходит из чащ к той или другой деревне, и громким рыканием требует жертвы, — веру в то, что его пребывание в чащах близ селений наших благодетельно для нас, спасает нас от многих бедствий, и дает нам счастье и удачу в охоте и других трудах наших. Другие же с нелепою запальчивостью и настойчивостью, пренебрегая мудрыми речами хранителей отеческого предания, твердили бессмысленную сказку, что тот, которому мы доныне поклонялись, которому мы неисчислимые приносили жертвы, только зверь, таящийся в лесу.
Были многие смуты и раздоры, сопровождаемые даже драками и убийствами, — брат стал на брата, и сын на отца, и во всех семьях нарушен был сладостный мир, и стали распри.
V
Наконец в сердце мудрого Белезиса вошла мысль, лукавая, но прельстившая многих, особенно из тех, которые любят примирять и выбирать во всем средние пути. Так говорил мудрый Белезис:
— Отцы наши преподали нам учение о поклонении обитающему в чаще, и требующему человеческих жертв. Учение предков не должно быть нарушаемо и отвергаемо. Весь строй нашей жизни придет в совершенное замешательство, если из сердец наших исчезнет страх перед тем, огненный взор которого пронизывает непроглядную темноту наших ночей. И если мы, старцы и учители народные, в опыте долгой жизни нашей найдем достаточно научения к тому, чтобы и без него вести достойный предков наших образ жизни, то буйные и своевольные юноши наши, отринув мысль о нем, истребив в себе трепет перед таинственным существом, без сомнения, впадут в самый неистовый разврат.
Старейшины и учители народные громкими хвалами приветствовали мудрые слова. Найдя доступ в сердца лучших людей, мудрый Белезис продолжал говорить так, чтобы угодить и легкомысленным юношам. Так говорил он:
— С другой стороны, мы не можем сомневаться и в правдивости нашего общего друга Мелеха, и в правде повествований юного Сина. Так, в зверинце великого царя видели они дивно изукрашенное помещение, которое они называют клеткою, но которое, по их описанию, столь великолепно, что достойно, без сомнения, быть чертогом обитающего за рекою Мейрур. И слышали они голос, исходящий из этого чудесного чертога. А юный друг наш Син с отвагою, свойственною юношескому возрасту, осмелился даже бросить взор на существо, которое рычало в чертоге в то время, как Мелех и Син воздавали ему поклонение, а распутные жители великого города глупым смехом своим свидетельствовали о глубине своего невежества. И видел Син, что рыкающее существо во всем подобно зверю. Так говорят они, и почему бы нам и не верить их рассказу? И почему бы обитающему за рекою Мейрур не иметь и звериного облика? Пожирающий тела наших юношей чего требует от нас? Не знаем ли мы, что он хочет пить живую кровь и есть живую плоть? Когда он берёт отрока или деву, он не жарит, не коптит и не солит свою пищу, а пожирает её живьем, — но откуда мы знаем, что он хочет непременно человеческого мяса? И если мы создадим ему помещение, столь же изукрашенное, как и то, в котором был заключен зверь великого царя, то не примет ли он благосклонно нашего труда? Может быть, поселившись в созданном нами чертоге, он пожелает изменить закон питания своего, и будет довольствоваться живыми телятами и ягнятами.
Юноши и девы шумными изъявлениями восторга приветствовали коварную речь мудрого Белезиса.
— Создадим ему чертог! — восклицали они.
Более легкомысленные из них даже осмеливались говорить так:
— Построим поскорее клетку для зверя, и загоним его туда. Довольно ему обжираться телами прекраснейших и сильнейших между нами.
Воистину, это были глупые юноши, — они думали, что жизнь есть величайшее благо.
Напрасно старцы, оставшиеся верными вере предков, обличали нечестие замысла хитрого Белезиса, и корили его в том, что он на склоне своей жизни замыслил такое страшное дело. И из старцев многие, любящие своих детей более, чем бы надлежало, присоединились к нему, — и постройка чертога была решена.
VI
Пока строилось здание, называемое чертогом, но которое было, конечно, клеткою для зверя, некоторые из юношей задумали выйти на обитающего за рекою Мейрур со стрелами и копьями. Конечно, они были казнены.
И еще случилось событие, которое повергло в великое смущение всёх благочестивых, и всем легкомысленным прибавило смелости.
Юноша Закир, один из храбрейших и искуснейших охотников, однажды пошел в лес, и долго не возвращался. И уже мы все считали его погибшим, и уже девы пели сладкогласные песни, прославляя отважного Закира.
Но вот через неделю на рассвете Закир вернулся, обессилевший от потери крови, покрытый страшными язвами, но пылающий радостью и отвагою. С неохотою и уклончиво говорил он старейшинам о том, где он был, и что с ним случилось, но мы все заметили, что юноши и девы собирались около него в местах уединенных, и слушали его рассказы. И скоро по селению нашему разнесся слух, что Закир встретил обитающего за рекою Мейрур, и сражался с ним.
Дерзкий мятеж не мог быть терпим. Искусные подслушиватели, пылая ревностью и желанием снискать благосклонность старейшин, вызнали, о чем говорят юноши и девы, сходясь в уединенных местах, и что они скрывают от старейшин. Тогда Закира взяли, и подвергнули пыткам, чтобы выведать от него, что с ним случилось.
Не стерпев жестоких мучений, Закир покаялся в своем грехе. Он говорил так, и мы все внимали ему в ужасе:
— Ночь была тиха и безлунна, когда я подходил к той чаще, что простирается на три дня пути за рекою Мейрур. Кинжал мой был остро наточен, и стрелы отравлены, ибо я твердо решился выследить и умертвить чудовище. Внезапно, так близко от меня, как близко останавливается дева, любуясь на юношу, которого вожделеет, так близко, как близко падает первый камень из руки мальчика, начинающего учиться метанию камней, так близко от меня раздалось рыкание. Движимый силою привычки, вкоренившейся с детских лет, я повергся на землю, и ждал. И тяжкая близко слышна была мне поступь, и треск сухих ветвей под его стопами. Я ждал. Но холодная ящерица скользнула по моей ноге, и её прикосновение напомнило мне все, что я слышал о зверинце великого царя и о чертоге зверя. И уже когда его дыхание горячо и бурно проносилось над моею шеею, я вскочил на ноги, и схватился за мой кинжал. Не знаю, был ли передо мною он, или это было иное существо из породы демонов или диких зверей, — но я видел перед собою зверя, громадного, зеленоглазого, свирепого. Пасть его, разверстая, готовая растерзать меня, страшила огромными, острыми, белыми зубами. Воистину, кто бы он ни был, демон, бог или зверь, это было существо дивное и грозное, и не знаю, как случилось, что я снова не повергся на землю. Какая-то сила, более могущественная, чем мое бедное сознание, принудила меня встретить зверя очи в очи, и принять грозный вызов рока. И я решил вступить в бой с этим чудовищем, кто бы он ни был. Зверь присел, как кошка, готовящаяся к прыжку, и снова ужасное рыкание огласило лес, наполняя меня неизъяснимым ужасом. Но я зорко следил за движениями зверя, и когда он кинулся на меня, я проворно увернулся и спрятался за деревом. Зверь готовился повторить прыжок. Казалось, что неудача досадует и стыдит его, и он прилег и затаился, хитрый, осторожный, злой. Поспешно изготовил я стрелу, и отравленная медь её с тонким звоном метнулась навстречу зверю в одно время с его вторым прыжком. В тот же миг тяжелое, громадное навалилось на меня чудовище. Его когти вонзились в мое тело, но я, преодолевая боль и страх, успел ударить его кинжалом. Не помню, что было потом. Когда я очнулся, ночь приходила к концу. Я лежал окровавленный, слабый. С трудом приподняв голову, я увидел кровавый след, уходящий в глубину леса. Я понял, что раненый мною зверь оставил меня, что он ушел — издыхать, может быть, а может быть, залечивать раны прикладыванием растущих на лесных прогалинах целебных трав.
Долго рассуждали старейшины о преступлены Закира. Наконец хитрый Белезис произнес разумное слово, и все приняли его с многими хвалами. Так говорил Белезис:
— Подождем, когда услышим у околицы нашей рыкание исцеленного дивными травами. Его голос уличит дерзкого, рыкание обитающего за рекою Мейрур покажет его победу над смертью, и тогда мы выведем безумного Закира, обнаженного и связанного, и предадим в жертву тому, кого он столь тяжко оскорбил, возжаждав его смерти.
Радовались юноши и девы. Они говорили:
— Издох зверь, и не придет рычать у нашей околицы.
Цветами венчали они отважного, прекрасного Закира, и плясали вокруг него, и славословили его пением красносложенных гимнов, и восходящими выше облаков звуками флейт и тимпанов.
Но непродолжительна была их радость. Не прошло и недели, как близ нашего селения снова послышалось грозное рыкание.
И вывели Закира, как было решено на суде старшин, связанного и обнаженного, к чащи. На другой день нашли недалеко от того места кости безумного Закира. Юноши и девы плакали неутешно, и неизгладимую в сердцах своих запечатлели память о Закире, а мудрые старцы проклинали дерзкого.
VII
Но вот готов был изукрашенный чертог. Мы поставили чертог на берегу реки Мейрур, на то место, где любил по ночам ходить он, ожидая жертвы. В клетку посадили мы для него, как приятную и последнюю ему человеческую жертву, юную, прекрасную Ханнаи, совлекши с неё одежду, чтобы не утруждать его когтей разрыванием мертвой ткани.
Не долго ждали мы. Он пришел за добычею. Мы вышли навстречу ему с пением торжественных гимнов. Сладостно томились наши души. Нам предстояло наконец в первый раз увидать его лицом к лицу, и воздать ему поклонение не во тьме и тайне, как прежде, а при ярком озарении смоляных факелов.
Праздничные одежды надели мы на себя, дорогими благоуханиями умастили тела и волосы наши, венками из душистых трав и прекрасных цветов увенчали мы наши головы. Никто из нас не взял с собою оружия, — так строго повелели старейшины наши, чтобы не оскорбить его видом вооружения, которое так легкомысленно было поднято на него. Радостные, спокойные и мирные, шли мы, и пели священные гимны. И все ближе и ближе было его рыкание. И вот наконец багровый свет факелов упал на его лик.
Мы стали вкруг изготовленного чертога, стали так, чтобы свободный и широкий открыт был ему путь в чертог. Но он не пожелал исполнить смиренных молений наших. По воле своей пожелал он выбрать себе жертву. Бросился он на толпу отроков и дев, быстрый и свирепый, и поверг на землю дочь мою Лотту.
Когда он с жадным ворчанием терзал милое тело дочери моей Лотты, и, визжа и мяукая от наслаждения, пил горячую кровь из её трепетного горла, отверзлись внезапно глаза мои, и понял я, что тот, кому мы поклонялись, кому приносили мы неисчислимые жертвы, жестокий и свирепый, жаждущий горячей крови, и алчущий живой, расцветающей плоти, есть воистину зверь, дикий и безумный, сильный только нашим бессилием, грозный только нашим перед ним трепетным страхом.
И все мы увидали звериное тело, желтое, с безобразными черными пятнами, и возопили все, и юноши, и девы, и старцы:
— Воистину, дикому и злому поклонялись мы зверю. И ныне видим мы своими глазами, кто обитает в чаще за рекою Мейрур, и видим, что тела отроков и дев наших и великого охотника за зверем Закира пожраны свирепым, немыслящим зверем.
А зверь снова бросился в толпу юношей, и терзал новую жертву. Что могли мы сделать? Без оружия вышли мы, — и встретили зверя. И мы бежали. Зверь гнался за нами, и страшными ударами когтистых лап терзал и крушил многие тела, выбирая самых юных, ибо у лесного зверя тонкое для пищи своей чутье.
В этот день довольно насытился зверь жаркою кровью и нежными телами отроков наших и дев. Мы укрылись в наших шалашах, и оплакивали многих погибших. И оружие готовили мы, и жажда отмщения жгла наши сердца.
VIII
Длились дни. Хитрый зверь таился и нападал внезапно, — и много погибло храбрых и юных. Было и среди нас немало таких, которые сохранили верность зверю, — и они заманивали, а то и силою увлекали в чащу тех, кто слишком громко и смело говорил против зверя и прислужников его. Иные находили выгоду в том, чтобы зверь по-прежнему почитался, ибо гаданиями своими они обольщали многих, и уверяли, что он милостив к ним и к тем, за кого они молят. И много погибло неосторожных и отважных, но немало было истреблено и приверженцев жестокого.
Иные из старейшин говорили так, — и слова их дышали глубокою мудростью:
— Безумные, к чему вы стремитесь? Чего вы хотите? Подумайте, что будет, если вы его убьете! Как можем мы жить без него? Отвергнуть все заветы предков легко, — но на чем же будет основан строй вашей жизни?
Увы! Этого мы не знали, об этом мы даже не хотели думать. Лишь бы избавиться от жестокого зверя!
И вот однажды утром радостные крики пронеслись по селению. Дети и юноши бежали по улицам селения, и кричали:
— Зверь смертельно ранен! Зверь издыхает!
И девы свирельными голосами своими восклицали, ударяя ладонь о ладонь, и пляша на стогнах селения:
— Издыхает, издыхает зверь!
И трубные звуки, и тимпаны, и флейты оглашали распутья окрестных дорог, — и далече раздавались радостные крики:
— Проклятый, проклятый зверь издыхает!
А на берегу реки Мейрур лежал зверь, пораженный отравленною стрелою. Корчась в предсмертных муках, рычал издыхающий зверь. Зеленые глаза его горели бессильною яростью, и ужасные когти рыли землю, а трава вокруг поверженного зверя орошалась его нечистою кровью.
И приспешники зверя плакали, таясь в своих шалашах.
А мы в тот день ликовали.
Мы не думали о том, как мы будем жить.
Мы не думали о том, кто придет на берега реки Мейрур, и поработит нас иною и злейшею властью.
Отрок Лин
Исполнив с большим успехом повеление усмирить непокорных жителей мятежного селения, отказавшегося приносить жертвы и совершать благочестивые поклонения перед изображением божественного императора, отряд всадников возвращался в свой лагерь. Много пролито было крови, много истреблено нечестивцев, и утомленные всадники с нетерпением ждали наступления того отрадного часа, когда они вернутся в свои палатки и без помехи насладятся прекрасными телами взятых ими в мятежном селении жен и дочерей нечестивых безумцев. Эти женщины и девы, уже вкусившие сладостное, но утомительное насилие поспешных всаднических ласк у околицы разрушенного и сожженного селения, возле изуродованных трупов их отцов и мужей, возле измученных тел их матерей, окровавленных ударами палок и бичей, эти женщины и девы, тем более желанные солдатам, чем непокорнее были они сами и чем вынужденнее были их объятия, лежали теперь, крепко связанные, в тяжелых телегах, которые увлекались сильными лошадьми по большой дороге прямо к лагерю. Сами же всадники избрали путь окольный, ибо до сведения старшего центуриона дошло, что некоторые из мятежников успели скрыться и бежали по этому направлению. И хотя уже покрыты кровью и иззубрены были мечи и притупились копья от удалой работы ревностных к славе и достоинству императора воинов, — но меч римского легионера никогда не бывает сыт телами поверженных врагов и вечно жаждет новой и новой горячей крови человеческой.
Был знойный день, и самый жаркий час дня, вскоре после полудня. Небо сверкало безоблачное и беспощадно яркое. Огненно-мглистый небесный Дракон, дрожа от всемирной безумной ярости, изливал из пламенной пасти на безмолвную и унылую равнину потоки знойного гнева. Иссохшая трава приникла к жаждущей и ждущей тщетно влаги земле, и тосковала вместе с нею, и томилась, и никла, и задыхалась от пыли. Из-под лошадиных копыт вздымалась и еле движимым облаком в недвижном воздухе стояла и колыхалась серая пыль. И пыль садилась на доспехи утомленных всадников, и они тускло и багрово мерцали. И сквозь облако серой, неподвижной пыли все окрест являлось взорам утомленных всадников зловещим, мрачным, печальным. Сжигаемая яростным Драконом, покорная, бессильная, лежала земля под тяжкими копытами, окованными железом. Под тяжелыми, железно-окованными копытами гудела, дрожала пустынная, пыльная дорога. И только изредка встречались бедные селения с жалкими лачугами, — но, томимый тяжким зноем, забыл старший центурион свое намерение обшарить всю дорогу, и, мерно качаясь на седле, угрюмо думал о том, что кончится когда-нибудь этот зной, и долгий путь идет к концу, и уведут боевого коня, и возьмут шлем и щит, и под широким полотном походной палатки будет прохлада и тихий свет ночной лампады, и опять заплачет нагая рабыня, и заплачет свирельным голосом, жалуясь и причитая на чужом и смешном языке, и заплачет, но будет целовать. И он ее заласкает, заласкает до смерти, — чтобы не плакала, не причитала, не жаловалась, не говорила свирельным голосом об убитых, о милых ей, о поверженных врагах великого Цезаря…
Юный воин сказал центуриону:
— Вон там, направо, близ дороги, я вижу толпу. Прикажи нам, Марцелл, и мы помчимся на этих людей, и разгоним их, и быстрым движением коней наших разбудим усыпленный тяжким зноем ветер, и он отвеет пыльную истому от тебя и от нас.
Центурион внимательно посмотрел в ту сторону, куда указывал ему юный воин. Зорки были глаза старого центуриона.
— Нет, Люцилий, — сказал он, улыбаясь, — эта толпа — толпа детей, которые играют при дороге. Не стоит разгонять их. Пусть мальчишки смотрят на могучих коней наших и на отважных всадников и с ранних лет запечатлевают в сердцах своих преклонение перед величием римского войска и перед славою нашего непобедимого и божественного Цезаря.
Юный всадник не смел возражать центуриону. Но омрачилось лицо его. Недовольный, отъехал он к своему месту и тихо сказал своему другу, такому же, как он сам, юноше:
— Эти дети, может быть, отродье мятежной сволочи, и я бы с радостью искрошил их в куски. Наш центурион от старости стал слишком чувствителен и утратил свойственную доблестному воину суровую решимость. Но и друг его ответил ему с приметным неудовольствием:
— Зачем же нам сражаться с детьми? Какая в этом слава? Довольно с нас битв с теми, которые могут защищать себя.
И краснея в досаде, замолк юный и запальчивый воин.
Всадники приближались к играющим детям. И остановились дети при дороге, и смотрели на воинов, дивясь их могучим коням, их блистающим доспехам и их мужественным, загорелым лицам.
Дивились, шептались, глядели широко раскрытыми глазами.
И только один из детей, прекрасный отрок Лин смотрел на воинов сумрачно, и черные глаза его сверкали огнем святого гнева. И когда отряд всадников поравнялся с детьми, отрок Лин воскликнул:
— Убийцы!
И, угрожая, поднял и протянул руки к центуриону. И сумрачно глянул на него старый центурион, не расслышал, что кричит мальчишка, и проехал мимо.
Испуганные дети окружили Лина, и запрещали ему кричать, и шептали:
— Бежим, бежим скорее, а то они всех нас убьют.
И девочки уже плакали. Но прекрасный отрок Лин безбоязненно ступил вперед и громко крикнул:
— Палачи! Мучители невинных!
И снова, угрожая, поднялась сжатая в кулак маленькая, бессильная рука отрока Лина. И сверкая гневными, черными очами, весь дрожа, задыхаясь от гнева, Лин кричал все громче и громче:
— Палачи! Палачи! Чем смоете вы с рук ваших кровь убитых вами!
Девочки подняли вопль, заглушая крики отрока Лина, и мальчики схватили его за руки и повлекли прочь от дороги. Но Лин вырвался из их рук, сжигаемый святым гневом, и выкрикивал проклятия воинам великого императора.
Всадники остановились. Юнейшие из них громко восклицали:
— Это — отродье крамольников! Мятежным духом заражены их сердца! Надо их истребить! Нет места под небом тому, кто осмелился оскорбить римского воина!
И старые воины говорили центуриону:
— Дерзость этих негодяев достойна жестокого наказания. Марцелл, прикажи нам догнать и истребить их всех. Надо истребить крамольное племя прежде, чем они вырастут и будут в силах восстать и причинить великий вред божественному Цезарю и миродержавному Риму.
И центурион сказал:
— Догоните их, убейте тех, кто кричал, а остальных накажите так, чтобы они помнили до конца своих дней, что значит оскорбить римского воина.
И все всадники, свернув с пыльной дороги, помчались вслед за убегающими детьми.
Видя погоню, отрок Лин крикнул товарищам своим:
— Оставьте меня! Меня вы не спасете, а если будете бежать, то все погибнете под мечами этого нечестивого и безжалостного воинства. Я пойду к ним навстречу, и пусть они убьют меня одного, — я и не хочу жить в этом презренном мире, где совершаются такие жестокие дела.
И остановился Лин, и не могли увлечь его далее обессилевшие от бега и от испуга товарищи его. И стояли они, и громко плакали, меж тем как всадники быстро окружили их тесным кольцом.
Засверкали на солнце вынутые из ножен мечи, и зыбкие улыбки Дракона побежали, безжалостные, злые, по стальным клинкам. И задрожали дети, и с громким плачем, прижимаясь друг к другу, сбились в тесную кучу. И Дракон, торопящий к убийству, распаляющий жаркую солдатскую кровь, багровым дымом ярости застилающий воспаленные глаза воинов, уже радовался, уже готов был беспощадными лучами змеиных своих очей облобызать невинную детскую кровь и гнойным зноем небесной злобы залить изрубленные жестокими и широкими мечами беззащитные тела. Но смело выступил из толпы отрок Лин и подошел к центуриону. И сказал громко:
— Старик, это я назвал тебя и твоих воинов убийцами и палачами, это я проклинал тебя и всех, кто с тобою, это я призывал гнев праведного божества на ваши нечестивые головы. Смотри, вот они эти дети, плачут и дрожат от страха. Они боятся, что проклятые воины твои по твоему безбожному повелению убьют всех нас, и убьют нас и отцов и матерей наших. Убей одного меня, — ибо эти покорны тебе и пославшему тебя. Убей только меня, если ты не насытился еще убийствами. Я же не боюсь тебя, я ненавижу твою ярость, я презираю твой меч и твою неправую власть, я не хочу жить на той земле, которую топчут кони твоего неистового воинства. Еще руки мои слабы, и я еще так мал ростом, что не достану до твоего горла, чтобы задушить тебя, — убей же меня, убей меня скорее. И с великим удивлением слушал его центурион. И сказал:
— Змееныш, не будет по-твоему, ты умрешь не один. И приказал своим воинам:
— Убивайте их всех. Нельзя оставить в живых это змеиное отродье, потому что слова дерзкого мальчишки запали в их мятежные души. Убивайте их всех без пощады, больших и малых, и даже едва только научившихся лепетать.
И бросились воины на детей, и рубили их беспощадными мечами. Содрогнулась от детского вопля угрюмая долина и пыльная дорога, — и ответным застонали стоном мглистые дали, — свирельно-нежным эхом застонали и замолкли. И раздувая горячие ноздри, нюхали кони дымную кровь и железно-окованными копытами медленно и тяжко топтали детские трупы.
И потом воины вернулись на дорогу, смеясь радостно и жестоко. Торопились к своему лагерю. Весело разговаривали и радовались.
Но длился, длился пыльный тяжкий путь в тоскующей под гневными пламенными очами Дракона долине. И багровый стал склоняться Дракон, но не было окрест прохлады и, завороженный тишиною и страхом, спал ветер. И багровый лик знойного Дракона, склоняясь, глядел в зоркие очи старого центуриона, — улыбался небесный Змей тихою и страшною улыбкою.
И оттого, что было тихо, и знойно, и багряно, и был тяжко ровен шаг мерно-звонких коней, стало тоскливо и страшно старому центуриону. И такая мерная, и такая звонкая была тяжкая конская поступь, и такая тонкая и такая серая была недвижная, безнадежная пыль, и казалось, что не будет конца истоме и страху пустынного пути. И гулким отзвучным гудением на каждый шаг усталого коня откликалась пустынная даль.
И гулкие стоны рождались в пустынной дали.
Гудела земля под копытами.
Кто-то бежал. Догонял.
И голос, подобный голосу убитого отрока, кричал что-то.
Центурион оглянулся на своих воинов. Покрытые пылью лица всадников были искажены не только усталостью. Смутный страх изображался в грубых чертах загорелых солдатских лиц. Сухие губы юного Люцилия двигались, шепча тревожно:
— Поскорей бы добраться до лагеря!
И взглянул пристально старый центурион в усталое лицо Люцилия, и тихо спросил молодого воина:
— Что с тобою, Люцилий?
И так же тихо ответил ему Люций:
— Страшно мне.
И, стыдясь своего страха и своей слабости, сказал погромче:
— Жарко очень.
И опять, не одолев страха, зашептал тихо:
— Проклятый мальчишка гонится за нами. Заколдован он нечистыми чарами ночных колдуний, и не сумели мы зарубить его так, чтобы он не встал.
Центурион внимательно осмотрел окрестность. Ни близко, ни далеко никого не было. И сказал центурион юному Люцилию:
— Разве ты потерял амулет, данный тебе старым жрецом заморского бога? Говорят, что у кого есть такой амулет, против того бессильны чары полуночных и полуденных колдуний.
Люцилий ответил, дрожа от страха:
— Амулет на мне, но он жжет мою грудь. Подземные боги приблизились к нам, и я слышу их темный ропот.
Тяжким гулом стонала долина. Старый центурион, благочестивою речью думая победить свой страх, сказал Люцилию:
— Подземные боги благодарят нас, — мы сегодня довольно для них поработали. Темен и невнятен их голос, и страшен он в знойном молчании пустыни, но не в преодолении ли страха честь доблестного воина?
Но опять сказал юный Люцилий:
— Страшно мне. Я слышу голос настигающего нас отрока.
И в знойном безмолвии долины свирельно-звонкий голос возгласил:
— Проклятие, проклятие убийцам!
Дрогнули воины, и быстро помчались кони. И неведомый голос звучал так близко, так ясно:
— Убийцы! Убийцы невинных! Вам нет прощения, нет пощады!
И быстро мчались погоняемые всадниками кони. Но гнев зажег сердце старого центуриона. И он крикнул, задерживая бег испуганного коня и обращаясь к всадникам:
— Или мы не воины великого и божественного императора? От кого мы бежим? Проклятый мальчишка, не добитый нами или оживленный нечистыми чарами злых колдунов, собирающих кровь в чашу для ночных волхований, продолжает возносить хулы против непобедимого воинства. Но оружию римскому принадлежит превозмочь не только вражью силу, но и темные вражьи чары.
И устыдились воины. Остановили коней. Прислушались. Догонял их кто-то, возглашающий и вопиющий, и в мглистой тишине мрачно вечереющей долины явственно слышался детский крик:
— Убийцы!
Всадники повернули коней в ту сторону, откуда Доносились к ним крики. И увидели они отрока Лина, бегущего к ним в окровавленной и изорванной одежде. И кровь струилась по его лицу и по его рукам, поднятым к воинам в угрожающем движении, как будто бы отрок хотел схватить каждого из них и повергнуть к своим окровавленным, запыленным стопам. И дикою злобою наполнились сердца воинов. Обнажив мечи, разъярив коней быстрыми уколами заостренных стремен, они ринулись стремительно на отрока, и рубили его мечами, и топтали, и насытили над его прахом ярость свою, и потом соскочили с коней, и на куски изорвали тело отрока, и разметали его по дороге и окрест.
Отерев мечи придорожною травою, они сели на коней и помчались дальше, спеша к лагерю. Но снова тяжкий стон огласил мрачную, в лучах склоняющегося Дракона, долину, — и снова рыдающий свирельный голос вознес те же беспощадные слова. И повторялся в ушах убийц звонкий вопль:
— Убийцы!
Тогда, томимые ужасом и злобою, они опять повернули коней, и опять бежал к ним отрок Лин в окровавленной одежде и простирал к ним свои залитые кровью, угрожающие руки. И снова они изрубили его, затоптали и разрезали мечами его тело, и разбросали, и помчались.
Но опять и опять настигал их отрок Лин. И уже они забыли, в какой стороне их лагерь, и в ярости бесконечного убийства, среди воплей несмолкаемого укора, они метались по долине и кружили около того места, где убиты были отрок Лин и другие дети. И весь остаток дня багрово пламенеющий и дымно издыхающий Дракон смотрел ярым, беспощадным взором на страшное томление вечного убийства и нескончаемого укора.
И вечер отгорел, и была ночь, и звезды мерцали, непорочные, невинные, далекие, — и метались воины, и нескончаемым воплем томил их отрок Лин. И метались воины, и убивали, и не могли убить.
Пред восходом солнца, гонимые ужасом и преследуемые вечными стонами отрока Лина, примчались они к морскому берегу. И вспенились волны под бешеным бегом коней.
Так погибли все всадники и с ними центурион Марцелл.
А там на далеком поле, у дороги, где убиты были всадниками отрок Лин и другие дети, лежали тела их, окровавленные и непогребенные. Ночью, трусливо и осторожно, пришли к поверженным телам волки и насытились невинными и сладкими телами детей.
Милый паж
I
В некоторой благословенной и цветущей стране, на высоких берегах у прекрасной реки, текущей с увенчанных вечным снегом южных гор к великому Северному морю, лежали обширные земли, подвластные могучему владельцу. На самой высокой скале, неприступный и господствующий над всеми окрестными путями, гордо стоял графский замок.
Уже граф был в преклонном возрасти, уже он схоронил шестерых жен, молодых и прекрасных, но бесплодных. Древний род его пресекся бы с его смертью, но судьбе угодно было восстановить, хотя и странным способом, блеск и долгоденствие во многих землях прославленного рода.
Граф был богат. Походы в земли неверных и многочисленные набеги на зарубежных близких врагов, в которых любил он в годы юности и зрелого мужества принимать участие, обогатили его многими изящными и дорогими вещами, — тканями, оружием, всякою утварью и одеждами, — и графский замок был украшен на диво пышно.
Из походов на восток вынес граф пристрастие к роскоши и красоте, к сладким винам, к ароматичным курениям и пропитанным пряностями мясам. Ласкать красавиц любил граф, и любил, чтобы взоры его ласкала красота изукрашенных стен и сводов, тонко чеканенных сосудов на пирах, и роскошных одежд на красавцах и красавицах. Только прекрасные лицом, стройные телом и ласковые в обращении отроки с приветливыми взорами удостаивались высокой чести попасть в число пажей к веселому и мудрому старому графу.
Много мужественных оруженосцев, красивых пажей и усердных слуг было у графа, и все они любили своего господина, и служили ему преданно и верно, как подобает добрым слугам, душою и телом и всею крепостью сил. Верные вассалы, и жены их, и дети их исправно несли милостивому графу установленные оброки и дани. Три жирные капеллана прилежно отмаливали каждое утро графские грехи, — так как и деяния знатных господ подчинены отчасти божеским и человеческим законам.
II
В окрестной стране цвело тогда много прекрасных и юных благородных девиц, а потому старый граф, решившейся снова, как для продления рода, так и для своего собственного удовольствия, вступить в брак, невдолге избрал себе по сердцу своему в этом прелестном цветнике достойную его высоких доблестей и славного имени супругу. Та была нежная и скромная Эдвига, дочь одного из соседних баронов, девица, блистающая красотою и разумом, и обученная не только всяким, приличным знатной даме, рукоделиям, но даже и грамоте.
Эдвига была веселого нрава, любила невинный забавы и застольные шутки, и когда старый граф ввел ее к себе женою, в его древнем замке началось еще более роскошное и веселое житье. Ибо старый граф полюбил нежную Эдвигу сильнее, чем прежних жен, и весьма заботился о том, чтобы доставить ей много удовольствий и радостей. Но так как уже телесные силы графа были в упадке, — то графиня Эдвига скоро начала втайне скучать, и лукавые помышления вошли в её сердце. Всему же ведь свету известно, что женщины изменчивы и коварны, и что женская верность требует тщательного присмотра.
Эдвигины взоры стали почасту и подолгу блуждать по лицам пажей, словно нужная Эдвига искала себе утешителя. И наконец, на одном из пажей остановились желания прекрасной госпожи, при чем следует сказать, что и взыскательный к красоте граф одобрил бы графинин выбор, если бы знал, и если бы мог позволить ей измену.
Черноокий, смуглый, тонкий и ловкий паж Адельстан затмевал красотою всех окрестных юношей, подобно тому, как ясно сияющая луна затмевает свет близких к ней звезд. Уже на верхней губе его пробивался пушок, столь радующий сердце отрока, который готов почувствовать себя мужем. Черные глаза его блистали из под длинных ресниц, как в черную ночь разожженные ярко факелы, — и, осененные длинными ресницами, ярко пылали его смуглые щеки, так пылали, что ни одна из окрестных красавиц не могла глядеть на них, не мечтая о том, чтобы осыпать их поцелуями. И так как уже многие из них целовали его, лукавые, говоря, что еще он ребенок, то он приобрел привычку к любезному отхождению, и уверенность в своем превосходстве над другими юношами. И потому он так прямо и гордо держался, и так высоко поднимал свою голову, как будто бы он был королевич, — а ведь отец его был только бедный и незнатный рыцарь. Притом Адельстан умел играть на лютне, и, обладая приятным и сильным голосом, знал много романсов, в которых воспевались красавицы, а также и разных других песен.
Адельстан смотрел на графиню почтительно и нежно, но улыбался иногда так дерзко, что графиня краснела и замирала, и в улыбки прекрасного пажа открывалось ей обещание радостного рая.
Когда однажды граф уехал на несколько дней, графиня пожелала, чтобы Адельстан остался при ней в замке.
— Я этого хочу, — сказала она графу, — потому что он самый скромный из пажей, и у него глаза такие же, как у вас. Глядя на него, я буду вспоминать вас, и не стану так скучать в разлуке с вами.
Граф исполнил желание своей супруги. Он и сам любил Адельстана, и знал, что Адельстан — отрок верный ему во всем и до конца.
III
На высокой башни замка, глядя вслед уезжающему графу, и махая в знак прощального привета своим белым платком, прекрасная Эдвига тихо сказала Адельстану:
— Милый паж, эта ночь наша. Я хочу, чтобы ты пришел ко мне, когда ночная темнота упадет на землю, и покроет сладостным покровом и отдыхающих от трудов, и ожидающих отрадных лобзаний.
Адельстан отвечал Эдвиге:
— Милостивая графиня, сладки лобзания уст твоих, но ты принадлежишь моему и твоему господину, и если откроется наша измена, то могущественный граф сократит список моих и твоих прегрешений, вместе со счетом наших дней и с длиною наших тел.
— Граф ничего не узнает, — сказала веселая Эдвига, — а мы проведем вместе несколько сладких ночей.
— Милостивая госпожа, — сказал Адельстан, — я дал обещание верно служить моему возлюбленному господину, и я боюсь, что изменою погублю свою душу, а потому лучше ты не соблазняй меня.
— Грех мы успеем замолить, — сказала Эдвига, — но ты, может быть, любишь другую, красивее меня?
— Милостивая графиня, — отвечал Адельстан, — я люблю только тебя и моего господина, а на свете нет, конечно, ни в благородном, ни в простом сословии жены или девы прелестнее тебя, и с тобою лишь одна рожденная из морской пены богиня Венус могла бы сравниться красотою, но не превзойти тебя.
Эдвига засмеялась лукаво, и спросила:
— Милый паж, изведал ли ты радости любви? Восходил ли ты на ложе к женам или к девам?
Адельстан из скромности потупил взоры, и ответил Эдвиге так:
— Нет, милостивая госпожа, на ложе к женам и к девам я не восходил.
И на это Эдвига сказала:
— Милый паж, как-же ты отказываешься от того, чего не знаешь? Приди ко мне, и ты увидишь, что игра столь нужная не может обременить совесть. Я обнажу перед тобою свое тело, я положу тебя на свое ложе, я научу тебя всем приятным забавам любви.
И Адельстан не знал, что ответить. В блистающих глазах его загорался тусклый огонь желания, и багряная краска стыда покрыла его смуглые щеки, отчего он сделался еще желаннее для юной Эдвиги.
Но напрасно в эту ночь прелестная Эдвига ожидала Адельстана, — открыв двери в свою опочивальню, удалив своих служанок, лежала она знойная от желаний, и нетерпеливыми взорами пронзала ночную темноту. Каждое легкое шуршание тканей, и каждый звук, столь обычный в ночной тишине, возникающей по неведомой причине — ибо ночью совершается многое, чего мы не можем знать, — каждый звук нужной Эдвиге казался шорохом крадущихся ног Адельстана.
И много раз Эдвига поспешала к дверям, чтобы ласково встретить и ободрить робко-медлящего отрока, — и каждый раз напрасно.
IV
Утомленная бессонною ночью, распаленная неисполненными желаниями, на другой день позвала Эдвига в свои покои Адельстана, осыпала его жестокими упреками, била его по щекам, царапала и щипала его.
Покорно перетерпев её неистовство, хотя и пролив при этом немало слез, Адельстан сказал ей:
— Милостивая госпожа, я должен пребыть верен моему господину, ты же задумала гнусное и непотребное дело. Если мы сотворим по твоему мерзкому желанно, погибнем мы оба лютою смертью от руки палача, и проклятые демоны утащат наши души прямо в ад, в неугасающий огонь, в кипящую вечно смолу.
— Милый паж, — сказала графиня, — да разве за нас некому помолиться? И на то ли оставил тебя граф со мною, чтобы ты оказывал неповиновение госпоже? Вот, и сам ты, глупый мальчик, не насладился, и меня тяжкими в эту ночь измучил муками, и еще устала я, нанося тебе заслуженные тобою удары. Не могу я больше выносить такие муки и труды, — приди ко мне в эту ночь, а если не придешь, то завтра я подвергну тебя жестоким истязаниям.
Ничего не ответил Адельстан.
Но и в эту ночь Эдвига напрасно ожидала его.
V
На другое утро ходила она по замку усталая, злая, и ничто в роскошном замке не веселило её взоров. Вдруг услышала она где-то близко звуки лютни, нежный голос и смех, и быстро пошла, сверкая гневными взорами, туда, где раздавались звуки, веселость которых была столь несогласна с её тоскою, что причиняла её сердцу новые, горчащие муки.
На дворе собрались пажи; Адельстан пел им веселые, забавные песни, как будто уже он и забыл о мольбах и угрозах своей госпожи. Пажи слушали его, смеялись и хвалили песни и певца.
Еще сильнее разгоралась графинина страсть. Все раздражало ее: пленительные звуки его голоса, нежная красота его, и его стройные, нагие ноги: пажи не ждали, что госпожа придет к ним, и не успели обуться, — увлек их своим пением милый паж Адельстан. Эдвига согнала со своего лица внешние признаки гнева, — знатные господа изощрились в искусстве скрывать свои чувства и затемнять зеркало своей души обманчивыми выражениями благосклонности, — подошла к пажам, и сказала:
— Плачу я и тоскую в разлуке с возлюбленным господином моим. Скучно мне, — чем я утешусь, когда господин мой далече? Смех ваш неприятен для меня, слезы ваши были бы мне милее.
Веселый, синеокий Генрих, младший из пажей, а потому и самый смелый в обращении с госпожею, отвечал Эдвиге:
— Милостивая госпожа, господин наш скоро вернется, плакать нам и тебе не о чем, ты лучше послушай вместе с нами, как складно да звонко поет Адельстан, и утешься.
— Нет, — отвечала Эдвига, — песни ваши мне скучны. Разве только песнями вашими должны вы служить графу и мне? До смеха ли только и до веселья ли на пиру простирается ваша верность?
— Милостивая госпожа, — сказал синеокий Генрих, — наша верность господину и тебе до последней капли крови, и до последнего нашего вздоха.
Засмеялась Эдвига, и сказала:
— Вот вы и утешьте меня пролитием вашей крови.
Острым своим кинжалом Эдвига несколько раз уколола выше колен обнаженные Адельстановы ноги, — и после каждого укола слизывала с острого и блестящего лезвия своим лукавым языком сладкие капли Адельстановой крови. И весело было графине Эдвиге смотреть на Адельстановы окровавленные ноги.
Но и в эту ночь не пришел Адельстан к Эдвиге, — а на утро возвратился домой старый граф.
VI
Изнывала графиня Эдвига от страсти, и верность пажа удивляла ее тем более, что она видела, как Адельстан бросает на нее пламенные взоры, полные вожделения. Она замечала, что Адельстан, прислуживая за столом, старается прикоснуться до её нежной руки, или хотя до её платья. Прикосновения Адельстана были ей радостны, но и горьки, ибо еще сильнее распаляли её желания.
Шли недели и месяцы, не было детей у графини. Она тосковала, томилась, и уже словно увядала.
— Пресвятая Дева Мария, — молилась она, — какая моя жизнь! Старый муж ласкает меня, но ненавистны мне его ласки, а тот, кого я люблю, не смеет войти в радость госпожи своей.
Уже и граф приметил её томления, и уже ревность вошла в его сердце. Он заметил страстные взоры графини и пажа, которые скрещивались перед ним, как два кинжала в равном и медлительном бою.
Старый граф одинаково боялся и того, что Эдвига согрешит с пажем, и того, что Адельстан забудет долг верности.
VII
Невдали от графского замка, в месте уединенном и диком, в овраге среди дремучего леса, стояла темная хижина, жилье старого чародея.
Злобились на чародея попы, и грозились сжечь его живого, — ибо нечестивое дело — чары делать и колдовать. Уже и посылали за ним не однажды воинов и стражей городских, взять его на суд, но темными волхвованиями отвращал чародей опасность, затемняя взоры ищущих, сбивая их с дороги, насылая на них бури и лесные нестерпимые страхи. Да и могущественному графу не угодно было, чтобы чародея до времени сожгли, — ибо поблизости еще не было другого, чары же всегда могли пригодиться. Но чародей, зная, что жизнь его рано или поздно все же пресечена будет огнем, усердно собирал деньги, и время от времени отдавал их своей дочери, которая была замужем за пивоваром, и жила в ближнем городе, не причастная наваждениям, в мире с церковью, которой приносила ежегодно немалые дары.
Однажды ночью графиня надела бедные и грубые одежды, закрыла свое лицо плащом, и пошла к чародею босая, чтобы смирением заслужить себе милость таинственной силы, а также и для того, чтобы вернее скрыть свое высокое звание. Но на поясе у неё висел тяжелый кошелек с золотом.
Веял бурный и холодный ветер прямо в лицо трепещущей Эдвиге, яростно рвал её одежды, и затруднял её шаги. Потоки дождя стремительно низвергались с омраченного неба. С треском и грохотом падали порою поперек дороги громадные деревья, сокрушенные беснованием свирепой бури.
Вся измокшая, дрожащая от страха и холода, с ногами, исцарапанными, испачканными в мокрой глине, пришла молодая, прекрасная Эдвига в мрачное логовище чародея. Неприветливы были закоптелые от дыма волхвований стены хижины, и, наводя жуткий на Эдвигу страх, сверкали зеленые глаза громадного кота.
Старик, длинный, тощий, седобородый, с пронзительным взором, спросил Эдвигу:
— Для чего, милостивая госпожа, ты пришла в такую страшную и не для одной тебя ночь в это отверженное место, оставив гордый замок и теплое ложе, и не убоявшись бешенства разъяренной бури?
— Я не госпожа, — сказала Эдвига, — я простая женщина. Я принесла тебе мое тяжкое горе, чтобы ты своими проклятыми чарами обратил его в радость, за что я заплачу тебе так много, как только могу.
— Милостивая госпожа, — ответишь чародей, — ночь темна, буря воет, — но давно сияли для меня следы твоих прелестных ног, и слышал я шорох твоих шагов уже от самых ворот старого замка. Ибо, хотя эта хижина бедна убранством, обитают в ней величия волшебства и неодолимые чары, и незримые вам, непосвященным в тайну, но усердные слуги неустанно охраняют все пути к ней. Скажи мне, милостивая госпожа, чего ты от меня желаешь.
Засмеялась лукавая Эдвига, и сказала:
— Вижу я, что бесполезно мне от тебя скрываться, но, может быть, и желания мои ты сам знаешь, так что и говорить их не надо.
Страшная улыбка, похожая на то, как бы мертвец улыбнулся, искривила иссохшиеся чародеевы губы, и он сказал:
— Милостивая госпожа, не довольно хотеть; не любит моя наука немого очарования. Если хочешь, скажи, чего хочешь, — если не хочешь, иди с миром, я же могу тебе дать только то, чего ты попросишь у меня словами, ибо иначе я мог бы дать тебе слишком много. Темны и многочисленны желания человеческие, самому человеку они не ведомы все, — мои же слуги видят глубоко, в самых тайных изгибах души, и, не оградись только от их усердия пределами слов, они задушат чрезмерностью исполнения.
Тогда повидала ему трепещущая от стыда и страха Эдвига свое горе и свои желания, отдала ему свое золото, и, падши к его ногам, с громкими рыданиями молила его о помощи.
Чародей выслушал ее до конца, взвесил на руке её тяжелый и многоценный дар, и сказал:
— Могучие духи заключены в этом мешке, и, если бы ты умела им повелевать, не пришла бы ты ко мне. Но встань, — все будет, как ты хочешь, — имей терпение, я это сделаю. Иди с миром.
VIII
В ту же ночь, немного позже, и граф постучался в двери чародеевой хижины. Низким поклоном приветствовал его чародей. Граф сказал ему:
— Становлюсь я стар, еще наследника у меня нет, и хотя уже больше года живет у меня молодая жена, но она все еще ходит праздная. И другое мое горе, — возлюбленная жена моя с вожделением смотрит на моего милого пажа, и он на неё так же. Еще не было между ними греха, но боюсь, что будет.
Выслушал его чародей, и сказал:
— Милостивый господин, все будет, как вы хотите, если вы поступите по слову моему. Она — ваша супруга, но и он — ваш слуга. И не должен ли он служить вам душою, и телом, и всею крепостью сил своих?
И затем долго говорил чародей со старым графом, и необычайные наставления дал ему, — и радостен вышел граф из хижины, и весел вернулся домой верхом на своем верном коне.
IX
На заре призвал граф к себе Эдвигу и Адельстана, и велел пажу затворить крепко двери. Адельстан, исполнив повеление господина, стал перед ним, и сказал смело:
— Милостивый граф, если хотите, судите меня, — я был вам верен.
Эдвига трепетала, и, бледная, молчала.
Старый граф сказал им:
— Не бойтесь. Мне и роду моему вы оба послужите, как умеете. Сегодня ночью, когда выла буря, наводя ужас и на храбрых, слышал я вещие и мудрые слова; вы же сделаете мудрое и славное дело, во исполнение вещих сказаний…
Красотою подобная рожденной из морской пены богине, хотя и багроволицая от стыда, стояла перед своим господином Эдвига. Молча смотрел на нее граф, и радостью обладания трепетало его сердце. Адельстан же не смел поднять на графиню взора, но не мог и отвести в сторону глаз…
Омраченные и стыдящиеся, вышли Эдвига и Адельстан от графа, но радость любви все же ликовала в их сердцах.
Сначала оба они были счастливы. Но скоро и Эдвигу и Адельстана утомили ласки по чужой воле, ибо любви ненавистно всякое принуждение, — и утомили даже до взаимной ненависти. И оба они стали помышлять о том, как бы избавиться им от сладких, но тягостных оков любви, повелеваемой господином.
«Убью графиню!» — думал Адельстан.
«Убью пажа!» — думала Эдвига.
И однажды, когда она одевалась, а он по её зову подошел к ней и склонился к её ногам, чтобы обуть ее, она вонзила ему в сердце узкий и острый кинжал. Адельстан упал, захрипел, и тут же умер.
Тело его вынесли, по графскому повелению повесили голое во рву замка, и рядом с ним повесили собаку, чтобы думали вассалы, что смертно наказан паж Адельстан за некий дерзновенный поступок.
Графиня же понесла. И скоро родила сына, наследника славного и могущественного графского рода.
Голодный блеск
Сергей Матвеевич Мошкин пообедал сегодня очень хорошо, — сравнительно, конечно, — как ему, сельскому учителю, лишившемуся места и уже с год околачивающемуся по чужим лестницам в поисках работы, и не к лицу было бы. А все-таки голодный блеск сохранялся в его глазах, грустных и черных, и придавал его худощавому, смуглому лицу выражение какой-то неожиданной значительности. Мошкин истратил на обед последнюю трехрублевку, и теперь в его карманах бренчало только несколько медяков, да в кошельке лежал истертый пятиалтынный. Пировал он на радостях. Хотя и знал, что глупо радоваться, и рано, и нечему. Но так наискался работы и так прожился, что и призрак надежды радовал.
На днях Мошкин поместил в «Новом Времени» объявление. Он рекламировал себя, как педагога, владеющего пером, — на том основании, что корреспондировал в местную приволжскую газету. За это он и слетел с места: доискались, кто писал злые корреспонденции в «левую» газету; земский начальник обратил внимание инспектора народных училищ, а инспектор, конечно, не потерпел.
— Нам таких не надо, — сказал ему инспектор при личном объяснении.
Мошкин спросил:
— А каких же вам надо?
Но инспектор, не отвечая на неуместный вопрос, сухо сказал:
— Прощайте, до свиданья. Надеюсь увидеться на том свете…
Дальше в своем объявлении Мошкин заявляет, что хочет быть секретарем, постоянным сотрудником газеты, репетитором, воспитателем, сопровождать на Кавказ или в Крым, быть полезным в доме и т. п. Уверял, что не имеет претензий и что не стесняется расстоянием.
Ждал. Пришла одна открытка. Странно, что с ней у него вдруг связались какие-то надежды.
Это было утром. Мошкин пил чай. Вошла сама хозяйка. Сверкнула черными змеиными глазками и сказала язвительно:
— Корреспонденция Сергею Матвеевичу господину Мошкину.
И, пока он читал, гладила свои черные над желтым треугольником лба волосы и шипела:
— Чем письма получать, платил бы деньги за стол, за комнату. Письмом сыт не будешь, а ты в люди походи, поищи, не боронься на испанский фасон.
Читал:
«Будьте любезны пожаловать для переговоров от 6 до 7 вечера, 6 рота, д. 78, кв. 57».
Без подписи.
Злобно глянул Мошкин на хозяйку. Она стояла у двери, прямая, широкая, с опущенными руками, спокойная, как кукла, и холодно-злая, и прямо на него смотрела неподвижными, наводящими жуть глазами.
Мошкин крикнул:
— Баста!
Стукнул кулаком по столу. Встал. Заходил по комнате взад-вперед. И все твердил:
— Баста!
Хозяйка тихо и злобно спрашивала:
— Платить-то будешь, корреспондент казанский и астраханский? а? сознательная твоя харя?
Мошкин остановился перед ней, протянул к ней пустую ладонь и сказал:
— Все, что имею.
Умолчал о последней трехрублевке. Хозяйка шипела:
— Я тебе не гусарская офицерша, мне деньги надобны. Дрова семь целковых, откуда я возьму? Сам себя не прокормишь, — заведи платящую воздахторшу. Ты — молодой человек со способностями, и наружность у тебя достаточно восхитительная. Какая ни есть дура найдется. А мне разве возможно? Куда ни вертыхнись, деньги вынь да положь. Дунь — руб, плюнь — руб, поколей — полтораста.
Мошкин приостановился. Сказал:
— Не беспокойтесь, Прасковья Петровна, сегодня вечером получаю место и рассчитаюсь.
И опять принялся ходить, шлепая туфлями.
Еще долго хозяйка шипела, торча у двери. Наконец ушла, крикнув:
— У меня стальная грудь! Другая бы иная на моем месте давно бы глаза под лоб закатила, сказала бы: живите без меня, околачивайтесь, как знаете, а я вам не крепостная.
Ушла, и в его памяти осталась ее странная фигура, прямая, с опущенными руками, с желтым широким треугольником лба под черными, гладко примасленными волосами, с усеченным узким треугольником затасканной желтой юбки, с крохотным треугольником красного нюхающего носа. Три треугольника.
Весь день Мошкин был голоден, весел и зол. Ходил без цели по улицам. Засматривался на девушек, и все они казались ему милыми, веселыми и доступными, — доступными для богатых. Останавливался перед окнами магазинов, где выставлены дорогие вещи. Все острее становился голодный блеск в глазах.
Купил газету. Прочел ее на скамейке в сквере, где смеялись и бегали дети, где модничали няньки, где пахло пылью и чахлыми деревьями, — и запах улицы и сада неприятно смешивался и напоминал запах гуттаперчи. В газете поразил Мошкина рассказ об исступленном, голодающем безумце, который в музее изрезал картину знаменитого художника.
— Вот это я понимаю!
Мошкин зашагал по аллее. Повторял:
— Вот это я понимаю!
И потом, ходя по улицам, смотря на великолепные громады богатых домов, на выставленную роскошь магазинов, на элегантные наряды прогуливающихся господ и дам, на быстро проносящиеся экипажи, на всю эту красоту и утешительность жизни, доступные для всякого, у кого есть деньги, и недоступные для него, — рассматривая, наблюдая, завидуя, испытывал все более определяющееся чувство разрушительной ненависти. И повторялись в уме все те же слова:
— Вот это я понимаю!
Подошел к толстому, ленивому и важному швейцару. Крикнул:
— Вот это я понимаю!
Швейцар молча и презрительно покосился на него. Мошкин радостно захихикал. Сказал:
— Молодцы анархисты!
— Проваливай! — сердито крикнул швейцар. — Не проедайся.
Мошкин отошел. Вдруг стало страшно. Городовой стоял близко.
Так резко выделялись его белые перчатки. Досадливо думал Мошкин:
«Вот бы вам бомбу сюда».
Швейцар сердито сплюнул вслед ему и отвернулся. Мошкин долго ходил. В шестом часу зашел в ресторан среднего разбора. Сел к столу близ окна. Выпил водки, закусил анчоусами. Взял обед в семьдесят пять копеек. Пил «Шабли во льду». После обеда выпил ликеру. Слегка охмелел. Под звуки органа кружилась голова. Сдачи не взял. Ушел, слегка пошатываясь, и почтительно провожаемый швейцаром, — и швейцару сунул в руку двугривенный.
Посмотрел на свои никелированные часы, — был седьмой вначале. Пора. Как бы не опоздать! Не наняли бы другого! Стремительно пошагал в Измайловский полк.
Очень мешали:
разрытые мостовые;
оголтелые, вечно сонные извозчики на переходах через улицу;
прохожие, в особенности мужики и дамы:
встречные или не сторонились вовсе, или сторонились чаще влево, чем вправо,—
а те, кого приходилось обгонять, зачем-то шатались по тротуару, и не угадать было сразу, с какой стороны обгонять их;
нищие, — они и к нему приставали,—
и самый механизм хождения.
Так трудно одолевать пространство и время, когда торопишься! Земля точно присасывает к себе, каждый шаг покупаешь усилием и усталостью. До боли и ломоты в икрах. От этого возрастала злоба и усиливался голодный блеск в глазах. Мошкин думал:
«Тарарахнуть бы все это к черту! Ко всем чертям!»
Наконец добрался.
Вот рота, а вот и дом № 78. Дом четырехэтажный, обшарпанный: два подъезда, мрачные с виду; посередине — разинутая пасть ворот. Посмотрел таблички над подъездами, — первые номера, а № 57 нет, никого не видно. У ворот белая пуговка, и над нею на медяшке заросшая грязью надпись «к дворнику».
Нажал пуговку и вошел в пасть, поискать табличку жильцов. Но прежде чем достиг таблицы, уже навстречу ему шел дворник, очень внушительного вида и с черной бородой.
— А где квартира пятьдесят семь?
Мошкин спрашивал с небрежной манерой, заимствованной от того земского начальника, из-за которого «слетел» с места. Знал уже по опыту, что с дворниками надо грворить так-то и нельзя говорить вот так-то. Скитания по чужим подворотням и лестницам тоже придают человеку известный лоск.
Дворник спросил несколько подозрительно:
— А вам кого?
С простодушной небрежностью, растягивая слова, Мошкин отвечал:
— А я и сам не знаю. Я по объявлению. Получил письмо, а кто пишет, не написано. Только адрес написали. Кто же там живет, в номере пятьдесят семь?
— Госпожа Энгельгардова, — сказал дворник.
— Энгельгардт? — переспросил Мошкин.
Дворник повторил:
— Энгельгардова.
Мошкин усмехнулся:
— Русификация?
— Елена Петровна, — отвечал дворник.
— Чертова перечница? — почему-то спросил Мошкин.
Дворник ухмыльнулся.
— Нет-с, молодая барышня. По парадному пожалуйте, из ворот направо.
— Да там над дверями табличка, только первые номера, — сказал Мошкин.
Дворник говорил:
— Нет, там и пятьдесят семь. В самом низу.
Мошкин спрашивал:
— А чем она занимается? Есть у них какое-нибудь заведение? Школа? Или редакция?
Нет; оказалось, у госпожи Энгельгардовой не было ни школы, ни редакции.
— Живут своим капиталом, — пояснил дворник.
В квартире госпожи Энгельгардовой горничная очень деревенского вида провела его в гостиную направо от темной передней и просила подождать.
Ждал. Скучал и томился. Рассматривал вещи. Было нагорожено много мебели, — кресла, столы, стулья, ширмы, экраны, этажерки, столбики, на них бюсты, лампы, безделушки, на стенах зеркала, картины, литографии, часы, на окнах занавески, цветы. От всего этого было тесно, душно, темно. Мошкин шагал в тесноте по коврам. Со злобой смотрел на картины, на статуи.
«Тарарахнуть бы все это к черту! Ко всем чертям!» — думал Мошкин.
Но, когда хозяйка вдруг вошла, он спрятал свой голодный блеск, опустил глаза.
Она была молодая, румяная, высокая и, кажется, красивая. Шагала быстро и решительно, как хозяйка в деревне, и при этом неловко помахивала сильными, красивыми, белыми, голыми выше локтя, руками.
Подошла. Подала руку, — полувысоко, — хочешь, пожми, хочешь, поцелуй. Поцеловал. Нарочно, — со злости и для штуки. Быстро, громко чмокнул и зубом царапнул, — аж дрогнула. Но ничего не сказала. Пошагала к дивану. Залезла за стол, засела на диван, а ему показала на кресло. Сел. Спросила:
— Это ваше объявление было вчера?
Буркнул:
— Мое.
Подумал и сказал повежливее:
— Мое-с.
И стало досадно. И опять подумал:
«Тарарахнуть бы».
Говорила, — спрашивала, что он может, где он учился, где работал. Так осторожненько подходила, точно боялась раньше времени проговориться и надавать больше.
Оказалось, что хочет издавать журнал. Какой? Еще не решила. Какой-нибудь. Маленький. Ведет переговоры о покупке одного издания. О направлении журнала умолчала.
Он ей может понадобиться для конторы. Но так как в объявлении сказано — педагог, — то она думала, что он учил в гимназии.
Впрочем, если он может вести конторские книги…
Принимать подписку…
Вести переписку по делам конторы и редакции…
Получать деньги с почты…
Заделывать номера в бандероли…
Сдавать их на почту…
Держать корректуру…
Еще что-то…
И еще что-то…
Барышня говорила с полчаса. Довольно бестолково перечисляла разные обязанности.
— Для этих дел надо несколько человек, — сурово сказал Мошкин.
Барышня досадливо покраснела. По ее лицу пробежали жадные гримаски. Она сказала:
— Журнал маленький. Специальный. Для такого маленького предприятия если взять несколько, то им нечего будет делать.
Усмехнулся. Согласился.
— Пожалуй, что и так. У вас не соскучишься.
Спросил:
— А сколько времени я у вас буду занят ежедневно?
— Ну, часов с девяти утра, — это не поздно? — часов до семи вечера, — это не рано? Иногда, если спешная работа, можно и попозже посидеть или прийти в праздник, — ведь вы свободны?
— Сколько же вы думаете платить?
— Рублей восемнадцать в месяц вам будет достаточно?
Подумал. Засмеялся.
— Мало-с.
— Больше двадцати двух не могу.
— Хорошо-с.
И с внезапным порывом злости встал, сунул руку в карман, вытащил оттуда ключ от своей квартиры и тихо, но решительно сказал:
— Руки вверх!
— Ах! — произнесла барышня и немедленно же подняла руки.
Она сидела на диване, очень бледная. Дрожала. Она была большая и сильная. А он — маленький и тощий.
Рукава ее одежды отвисли к плечам, и две протянутые вверх белые, голые руки казались толстыми, как ноги акробатки, упражняющейся дома. И видно было, что у нее хватит силы долго держать руки вверх. И сквозь испуг на ее лице пробивалось выражение значительности переживаемого.
Наслаждаясь ее смущением, Мошкин произнес медленно и внушительно:
— Только двинься! Только пикни!
Подошел к картине.
— Сколько стоит?
— Двести двадцать, без рамы, — дрожащим голосом произнесла барышня.
Порылся в кармане, достал перочинный нож. Разрезал картину сверху вниз и справа налево.
— Ах! — вскрикнула барышня.
Подошел к мраморной головке.
— Что стоит?
— Триста.
Ключом отбил ухо, оббил нос, щеки пооббил. Барышня тихонько ахала. И приятно было слушать ее тихое аханье.
Порвал еще несколько картин, порезал обивку кресел, сломал несколько хрупких вещичек.
Подошел к барышне. Крикнул:
— Лезь под диван!
Исполнила.
— Лежи смирно, пока не придут. Не то бомбой тарарахну.
Ушел. Никого не встретил ни в передней, ни на лестнице.
У ворот стоял тот же дворник. Мошкин подошел к нему. Сказал:
— Что у вас барышня-то странная какая?
— А что?
— Да нехорошо себя ведет. Скандалит очень. Вы бы к ней пошли.
— Коли они не зовут, как же я могу?
— Ну, как знаете.
Ушел. Голодный блеск в его глазах тускнел.
Мошкин долго ходил по улицам. Тупо и медленно вспоминал эту гостиную, и разрезанные картины, и барышню под диваном.
Тусклые воды канала манили к себе. Скользящий свет заходящего солнца делал их поверхность красивой и печальной, как музыка безумного композитора. Такие были жесткие плиты набережной, и такие пыльные камни мостовой, и такие глупые и грязные шли навстречу дети! Все было замкнуто и враждебно.
А зеленовато-золотистая вода канала манила.
И погас, погас голодный блеск в глазах.
Так звучен был мгновенный всплеск воды.
И побежали, кольцо за кольцом, матово-черные кольца, разрезая зеленовато-золотистые воды канала.
Конный стражник
I
Во втором часу ночи ранней и еще теплой осени инспектор гимназии Сергей Ппатонович Переяшин возвращался из гостей домой по тихим и темным улицам Ковыляк.
Необходимое примечание для позабывших географию и для учивших ее не очень подробно: Ковыляки — большой губернский город. Стоит на обоих берегах реки Пропойцы. Имеет университет. Ведет большую торговлю. Славится окороками. Не следует смешивать с другими Ковыляками, уездным городом на реке Негодяйке, в котором нет ничего примечательного, кроме острога в древнем городище, где некогда жил удельный князь.
Переяшин хорошо поужинал, немало выпил вина, играл в приятной компании и выиграл. От этого мысли его во время одинокой дороги были приятны, — для него, — и понемногу приняли несколько легкомысленное направление. Он замечтался.
Сначала мечтал о девицах: там, откуда он возвращался, их было немало. Многие из них были с ним любезны: он был холост, нестар, высок, строен, ловок и силен. И даже имел свой капиталец, хотя и небольшой.
Потом мысли и мечтания его, по обычному для него сцеплению идей, обратились к его ученикам, гимназистам, и преимущественно к тем, которые жили во вверенном его попечению пансионе при гимназии. Теперь они, конечно, все спали, и в пансионе было тихо и полутемно. Стриженые головы на белых подушках, тихое дыхание спящих, сползающие с иных одеяла… Привычная картина, всегда будившая в Переяшине странные и жестокие волнения.
Вспоминал: были симпатичные мальчики, были и неприятные. И уже брожение с улиц заползало в гимназию, и настроение становилось неспокойным. Переяшин думал, что для успокоения мальчиков полезны были бы строгие меры. Самые строгие меры. В сущности и многие родители были бы довольны, если бы к их мальчикам применялись самые строгие меры. Не дальше как сегодня вечером сестра одного из живущих в пансионе гимназистов говорила Переяшину:
— Валя мог бы учиться гораздо лучше. Он такой способный. Ему все так легко дается. Но он ленится. Он вовсе не думает о том, что после смерти отца нам так стало трудно жить. Я очень боюсь, что он начнет засиживаться в классах. Ему так еще долго учиться. Хоть бы секли их там у вас. Только шалят. И никого не боятся.
Переяшин отчетливо вспомнил Валю Заглядимова. Сначала — канцелярское воспоминание: в списке учеников строчка — Заглядимов Валентин. Потом топографическое: во втором классе, во втором ряду, около стены против окон. Потом — зрительное: невысокий, плотный, черноглазый мальчик, веселый и шаловливый. Но всегда вежливый. Потом — историческое: сегодня Заглядимов Валентин получил единицу.
Это не было само по себе приятно, но у Переяшина сладко защемило сердце. И вдруг сложилось и созрело странно-жестокое решение.
II
У гимназистов в спальне, — которая почему-то носила дурацкое название дортуара, словно соответственное русское слово не годилось, — было, как и ожидал Переяшин, тихо и сонно. Все было как всегда, — все те же звуки и запахи. Из открытых форток слабо веяло внешнею прохладою, лишние лампы были погашены. В комнате для дежурного воспитателя было совсем темно и тихо. Переяшин заглянул в стеклянный верх двери в эту комнату и ничего не увидел. Подумал, припоминая: «Кто нынче дежурит? Кажется, Чечурин». И пошел дальше, почему-то утешенный соображением, что Чечурин спит крепко, и уж если залег спать и свет погасил, то не проснется до звонка, если сторож не догадается разбудить его раньше.
Валина кровать стояла недалеко от входа, в спальне младшего возраста. Валя лежал, скорчившись от холода, потому что одеяло наполовину сползало. Не догадывался проснуться и закрыться и белел в смутной полутьме перемятым комочком. Тихонько посапывал носом, уткнувшись в подушку, и лицо его имело выражение невинное и значительное, как будто снились ему небесные ангелы, играющее золотыми мячиками на изумрудно-зеленых райских полях. И невинное, и важное выражение этого лица раздражало Переяшина. Он думал: «Спит себе, как путный. Ручки на груди сложил, как ангел, а сам единицу получил, а сам, как только от него отвернешься, только о том и думает, как бы нашалить. Бровки сдвинул, хоть сейчас в живую картину ставь у ног Мадонны. А вот я тебе сейчас задам отличную живую картину».
Весь охваченный тупою злостью, Переяшин схватил мальчика за плечо и потряс его довольно неласково. Валя, сопя и вздыхая, заворочался на постели. Но все еще не мог проснуться. Переяшин повторял торопливо и тихо:
— Вставай, вставай живее, Заглядимов Валентин.
Валя попытался было опять ткнуться в подушку, — и несколько раз пришлось Переяшину брать его за плечи и раскачивать.
Вдруг Валя сообразил, что его будит инспектор. Испуганно вскочил. Хватился за одежду.
— Не надо, — хрипло шепнул Переяшин, — не надо одеваться, — повторил он погромче. — Иди так.
— Куда? — спросил Валя.
Переяшин не отвечал. Молча накинул одеяло на Валины плечи, взял его за руку и повел.
Все спали. Валя с удивлением оглядывался на Переяшина. И путался босыми ногами в складках своего одеяла. Переяшин вел его по лестницам и коридорам в свою квартиру. Смотрел, как на темном полу белели красивые Валины ноги.
III
Через полчаса Валя возвращался на свою постель. У него было хмурое и красное лицо и заплаканные глаза. Он уткнулся носом в подушку, всхлипнул, потом засмеялся потихоньку, потом вдруг заснул.
Утром ему казалось, что он видел во сне, как Переяшин привел его в свой кабинет и выпорол ремнем. Было, — во сне, — больно и стыдно и потом смешно. Валя рассказал своему другу, Шурке Скворцову, какой смешной видел сон. Смеялись оба. Валя вспоминал подробности. Смеялись. Шурка выдумывал подробности. Опять смеялись. Вдруг Шурка спросил:
— А отчего же у тебя кожа на этом месте стала полосатая?
— Врешь? — спросил Валя.
— Ей-богу, не вру. Посмотрись в зеркало. А вот тут на боку два синяка. Точно от пряжки.
Стали серьезны. Внимательно исследовали. Удивлялись и смеялись.
— Должно быть, он тебя и вправду выпорол, — сказал Шурка.
Валя опять спросил сомневающимся голосом:
— Врешь?
Шурка засмеялся. Сказал:
— Мне-то с чего врать? Ведь не меня. Да разве ты сам не помнишь, во сне это было или наяву?
Валя подумал.
— Заспал, — сказал он неуверенно. — Я крепко сплю. Может быть, и в самом деле выпорол. За единицу. А я об ней и думать-то позабыл.
Шурка сказал со смехом:
— Так вот вспомни. Ты к нему самому сходи спроси.
— Ну да, выдумаешь! — сказал Валя.
И тоже засмеялся.
— Право, — настаивал Шурка. — А то сестру пошли.
— Ты знаешь что? — сказал Валя смущенно. — Ты афиши-то не расклеивай об этом.
Но Шурка засмеялся еще веселее. Кричал:
— А вот и расклею! Что за секрет?
IV
В тот же день «афиши были расклеены». В маленьких классах смеялись. Приставали к Вале.
— Правда? — спрашивали его. — Переяшка тебя выпорол? Больно? Чем порол? Где порол? Сам порол?
— Ерунда! — сердито возражал Валя. — И ничего не выпорол. Просто это мне во сне приснилось. А пороть-то я еще и не дамся никому.
Не верили. Смеялись. Говорили:
— А откуда у тебя синяки на этом самом месте?
— Просто я о кровать ушибся, — объяснил Валя. Но уже этому совсем не верили и смеялись. В средних классах отнеслись к слуху безразлично. Ведь это же у маленьких. Иные даже говорили:
— Маленьких пороть — разлюбезное дело. Им еще не стыдно, а вперед бояться будут. Вот нас — нельзя.
В старших классах негодовали. Шумели, кричали, спорили, — о способах выражения протеста. Позвали к себе Валю. Долго и основательно расспрашивали его. Осмотрели его тело, сосчитали красные полоски и синие пятна от ушибов.
Когда Валя вернулся в «занятную» своего возраста, то лицо у него было тоже, как ночью, красное, но уже не смущенное, а гордое. Он посматривал на товарищей свысока. Одного надоедалу отшил презрительным окриком:
— Ну ты, нестеганый! Туда же!
И тот отошел сконфуженный. Проворчал только:
— Заважничал! Во сне-то всякий сумеет.
Шурке Валя шепнул по секрету:
— Старший возраст письмо в газету пишут. Ловко расписали все дело. Пропечатают нас с инспектором. Скандал будет грандиозный. Инспектор с места слетит, а директору большая неприятность будет.
Шурка слушал, замирая от сладкого ужаса, и делал большие глаза. Валя посмотрел на него опасливо и сказал:
— Только ты не болтай по своей привычке. Это не такое дело, чтобы рассказывать. Это такое дело, что тут надо молчать да и молчать.
— Ей-богу, никому не скажу, — уверял Шурка. — Разве же я сам не понимаю? Слава Богу, не маленький!
Но уже утром все знали, и в младших, и в средних классах. И все ходили, как заговорщики, и настроение было важное и торжественное. Мальчишки посматривали на учителей с лукавым простодушием и делали такой вид, точно они ничего не знают, да и знать-то нечего. Старшие были мрачны и важны.
V
Прогуливаясь в городском саду после обеда, Переяшин встретил Валину сестру. Почему-то почувствовал себя неловко. Она улыбалась ему приветливо. Сказала:
— Большое вам спасибо. Мы все очень вам благодарны.
— За что? — с деланным недоумением спросил ее Переяшин.
— Мы все, — повторила она, пожимая его руку, — вам очень благодарны за то, что вы наказали Валю. Его давно следовало высечь.
— Ну что вы! — сказал Переяшин. — Я и не думал его сечь. Это ему приснилось.
Валина сестра улыбнулась. На ее щеках запрыгали умильные ямочки, и Переяшин вспомнил стихи своего вновь любимого современного поэта (у него каждый год был новый любимый поэт, из самых молодых, чувствительных и фривольных):
Посреди ее ланит Ямочки отверсты; Там шалун Эрот сидит, Сложа нежны персты.И, пока ямочки прыгали на румяных и полных щеках одетой в полутраур барышни, ее глаза приняли лукавое и понимающее выражение, и она сказала, горячо пожимая опять теплыми и тонкими пальцами сильную руку Переяшина:
— Ах да, конечно, для него полезно видеть такие сны! Авось теперь будет учиться получше, чтобы опять не приснилось что-нибудь еще более неприятное.
Поговорив еще немного о разных других вещах, барышня простилась. А Переяшин отправился домой, сдержанно усмехаясь. И уже думал что Валя наверное скоро опять получит плохую отметку или нашалит, и тогда опять можно будет посечь его. И сказать, что опять видел во сне. «Привычка к нехорошим снам».
Только уже надо будет не ремень взять, а припасти настоящие розги. Так будет гораздо лучше. И сладко размечтался Переяшин о том, как будет сечь мальчика, как его белая кожа станет покрываться полосами и краснеть. Что ж делать! — если нет своих мальчиков, так хоть чужих постегать. Переяшину всегда хотелось иметь своих детей. Да как-то так случилось, что не женился…
VI
Однако мечтам Переяшина не суждено было осуществиться. В местной газете «Ковыляцкие вопли» появилось письмо в редакцию, подписанное так: «Сознательные гимназисты старших курсов второй Ковыляцкой гимназии». В этом письме рассказывалось, что инспектор гимназии Переятин (опечатка, не замеченная корректором) подверг телесному наказанию гимназиста второго класса Ваню З. (было набрано «Валю», но корректор исправил, не веря, что может быть и такое имя). «Прискорбный инцидент» был рассказан довольно подробно и красноречиво. Выражалось энергичное негодование.
Город заговорил об этой истории. Переяшин стал популярным. Уличные мальчишки кричали ему издали:
— Дяденька, выдери этого мальчишку, — чего он ко мне пристает?
Через день в той же газете было напечатано опровержение от «начальства» гимназии: по тщательном расследовании оказалось, что во второй Ковыляцкой гимназии ничего подобного не было; никакого Ивана З. во втором классе этой гимназии нет, а есть Валентин З., который воспитывается в гимназическом пансионе на казенный счет и отличается замеченною еще его домашними наклонностью фантазировать, что, по всей вероятности, и было причиною возникновения невероятного слуха. Инспектор гимназии — превосходный педагог, и относится к воспитанникам гуманно (газета напечатала «туманно»).
Это казенное опровержение мало кого убедило. Особенно неудачным оказалось упоминание о казенном счете. Говорили:
— На казенный счет учится, значит, бедный мальчик; родители не посмеют жаловаться. Этим и пользуются, чтобы обижать ребенка безнаказанно.
Еще через день «Ковыляцкие вопли» сообщили, что их сотрудник был в гимназии, произвел дознание, и факт сечения гимназиста инспектором подтвердился. И уже тогда скандал принял серьезные размеры. В местном клубе возник вопрос об исключении из числа членов не только Переяшина, но даже и директора гимназии. Вопрос вызвал страстные прения. Остался нерешенным. Из-за него междy двумя старшинами произошло маленькое столкновение («форменная драка» — уверяли некоторые очевидцы). Впрочем, их в тот же день помирили.
VII
В гимназию приехал попечитель учебного округа, — явление редкое. Ему некогда было разъезжать по училищам: все время уходило на канцелярскую работу.
«Из-за меня», — думал Валя, видя, какой переполох происходит в гимназии.
Валю позвали в директорский кабинет. Ни директора, ни инспектора там не было. Попечитель один сидел в кресле у письменного стола и смотрел на вошедшего в кабинет Валю с видом человека, не привыкшего разговаривать с детьми. На Валю наводили страх его угрюмые глаза, растрепанные полуседые волосы и тучное тело.
Попечитель сказал, притворяясь ласковым:
— Ну-с, молодой человек, рассказывайте, что тут с вами было. Я слышал, что вы распускаете слух, будто бы вас здесь высекли. Так как же? Может быть, и в самом деле был такой грех?
Валя исподлобья смотрел на синий вицмундир тучного, старого, важного человека, на его серебряную звезду, выглядывающую скромным углом из-за лацкана, — и молчал. Попечитель повторил:
— Ну-с? Да ты не стесняйся, — никто не услышит. Кто тебя высек?
Валя покраснел.
— Никто, — тихо сказал он.
— Никто? — тоном вопроса повторил попечитель, и на его желтом, морщинистом лице заиграла довольная улыбка. — Так что же вы болтаете? — спросил он с привычным выражением начальнической строгости.
Валя тоненьким дискантом, робея и стыдясь своей робости, объяснял:
— Я во сне видел. Я так и говорил, что во сне. Это они сами придумали.
— А письмо в газету кто писал? — быстро и строго спросил попечитель.
— Не знаю, — сказал Валя.
— Так, — недоверчиво сказал попечитель. Помолчал, посмотрел на Валю внимательно и с любопытством и отрывисто приказал. — Иди.
Валя вышел, и навстречу ему вошли директор, инспектор и еще кто-то, — мундирные педагоги. И, пока еще дверь была открыта, Валя слушал сухой и уверенный голос попечителя:
— Как и следовало ожидать, газетные писатели подняли шум из ничего. Он говорит…
И дверь закрылась. Валю окружили. И вдруг он сообразил, что пропустил такой удобный и, может быть, единственный случай. Стало досадно на себя самого. И товарищи дразнили и укоряли Валю.
А дома бранили, зачем проболтался о сне. Боялись, как бы Валя, в отместку за эту неприятную для начальства историю, не вылетел из пансиона.
И опять было опровержение, на этот раз от учебного округа. Газета опять возражала. Печатала, пользуясь этим случаем, целый ряд статей и писем в редакцию, — и все это были вещи, неприятные учебному ведомству. В городе кто верил газете, кто не верил, кто думал, что так мальчишке и надо.
Унять бы газету, — да тогда были не такие времена.
VIII
События, между тем, шли быстро и бурно. Волнения на окраинах города. Собрания, митинги. Забастовки. Казаки. Уличные процессии. Избиения. Красные флаги, — и багряная кровь многих.
Бастовали и гимназисты. Устраивали химическую обструкцию. Переяшину задали кошачий концерт. В его квартире побили стекла.
Уже и попечитель был недоволен Переяшиным. Вызывал его. Было неприятное объяснение. Переяшин понял, что им собираются пожертвовать. Попечитель намекнул, что лучше бы перевестись в другой город. И злость томила Переяшина. Уже все гимназисты казались ему врагами. Было неприятно встречаться с ними на улице. Вообще неприятно стало выходить: популярность не радовала Переяшина.
Был морозный, ясный день. Переяшин стоял у окна своей казенной квартиры в гимназии и с тупою злобою смотрел на площадь. Зрелище народной демонстрации было противно ему. Веяли красные флаги. Весело звучали молодые голоса, и сквозь двойные рамы отчетливо слышались смелые слова песен. Шли толпа за толпою, — пестрое смешение лохмотьев и нарядов, молодых и старых лиц. Вот мелькнули знакомые лица, гимназисты.
«Даже и не скрываются, негодяи», — злобно думал Переяшин.
Вдруг все смешалось, дрогнуло, побежало. Вопли ужаса пронеслись в толпе. Переяшин с радостным волнением торопливо подошел к угловому окну. Он увидел, как по улице мчался прямо на толпу отряд казаков. Смотрел с жадным любопытством.
Свалка. Мелькание нагаек. Лошади теснились в толпу. Визг, вопли. Клочья одежды. Бегство. Давка. Чьи-то полуобнажившиеся от быстрых ударов, окровавленные спины…
Переяшин радостно смеялся, взвизгивая и топочась за своим безопасным окном.
IX
Через полчаса Переяшин вышел на площадь. Было пусто. Только патрули медленно кружили по площади и по улицам, да кое-где виднелись конные жандармы и казаки. У подъезда гимназии сидел на красивой лошади казак. Лошадь под ним стояла спокойно и сторожко, словно прислушиваясь к чему-то. У казака было странно равнодушное, красное лицо.
— Поработали, казачки? — заискивающим голосом спросил Переяшин.
Казак молча глянул на него равнодушными глазами. Отвернулся. Презрительно сплюнул. Переяшин вытащил кошелек. Порылся в нем, — и казак стал внимателен. И уже веселая улыбка заиграла на его молодом, простоватом лице.
Переяшин достал серебряный рубль. Сказал казаку:
— Вот, казачок, возьми целковый на обновление плетки. Твоя-то пообтрепалась об этих мерзавцев, — так ты новую купи да лупи их хорошенько.
Казак слушал, радостно улыбаясь.
Слушал не один казак. Площадь была не так пуста, как Переяшину казалось.
X
В тот же день в городе уже говорили, что Переяшин дал рубль казаку на подновление плети. Передавали просьбу Переяшина «лупить хорошенько». Возмущались. «Ковыляцкие вопли» поместили по этому поводу язвительный фельетон. Положение Переяшина стало невозможным. При встречах на улицах от него отвертывались. Ему не подавали руки. Из клуба его исключили уже без споров. Попечитель решил убрать его из Ковыляк в другой город. Пригласил сначала для объяснений и чтобы предупредить.
С таким же скучающим и угрюмым лицом смотрел попечитель на вошедшего к нему Переяшина, как раньше смотрел на Валю. Холодно и сухо объявил Переяшину, что здесь его не оставит.
— Я — патриот, — хриплым голосом сказал Переяшин, покачиваясь на стуле.
Попечитель с досадою и отвращением смотрел на Переяшина, и уже видно было, что Переяшин пьян. Он бормотал:
— Я ему дал, движимый… побуждаемый… так как он есть страж и, значит, опора.
— Не будем вдаваться в подробности, — осторожно сказал попечитель. — Вы, в сущности, ничего не потеряете, а в нравственном отношении даже выиграете. Мы дадим вам такое же место.
— Не желаю, — возразил Переяшин. — Я намерен постоять за порядок.
Попечитель усмехнулся. Сказал:
— Это уже решено.
Переяшин вытащил из бокового кармана сложенный вчетверо лист бумаги.
— Вот, — сказал он, — прошение. В чистую выхожу. Поступаю в конные стражники. Я уже ходил наниматься. И уже у меня есть вся амуниция. И нагаечка.
На лице попечителя изображался ужас…
XI
Прошло несколько дней. С городского кладбища расходилась толпа молодежи. Везде за углами было много казаков и конных стражников. В числе стражников гарцевал и Переяшин.
Из уважения к его чину ему дали самую хорошую, какая только нашлась в Ковыляках, лошадь. И вся амуниция на нем красовалась новенькая и чистенькая, и особенно хороша была нагайка. Так приятно было сжимать ее в руке и помахивать ею. И потому лицо у него было красное и веселое. Сегодня для обновления формы он и сам выпил изрядно, и своих новых сослуживцев хорошо угостил. Нарочно стал на самом видном месте и ругался:
— Молокососы! Бунтовать вздумали! Пороть вас хорошенько! Вешать вас!
Пересыпал свои слова площадною руганью. Его вид и его слова возбуждали в толпе смех и презрение. Несколько комков грязного снега шлепнулись в его лицо. Он заругался еще неистовее.
Кто-то бросил камень. Попал ему в руку. Переяшин взвизгнул, пришпорил коня, взмахнул нагайкою и ринулся в толпу.
За ним и другие.
Перина
I
Наборщик Демьян Степаныч Проходимцев и его жена Наталья Петровна ужинали. Они только на прошлой неделе повенчались и теперь устраивали свое хозяйство. Наталья Петровна говорила:
— Я удивляюсь на мамашу, что они будучи при таких деньгах, не только не пускают их в оборот, но даже не положат в банк, а держат их под собою. Хоть бы вы им посоветовали, Демьян Степаныч.
— Это я могу, — ответил Проходимцев, тощий черноволосый человек с очень серьезным лицом, — я им разъясню их невежество. Но я не понимаю того, Наталья Петровна, что вы говорите, что маменька свой капитал под собой содержат. В каких собственно смыслах это следует понимать?
Наталья Петровна оглянулась вокруг опасливо и, понизив голос, хотя слушать было некому, сказала:
— Это собственно, Демьян Степаныч, секрет, но как говорится, что муж да жена — одна сатана, то, и надеясь на вашу скромность, что вы никому не расскажете, я вам открою, что маменька держат свои капиталы в перине, на которой они спят.
Проходимцев ничего не ответил. Уже когда прошло много времени, и уже Наталья Петровна начала стлать постель, он все еще думал. Наконец сказал:
— Мнение мое об этом предмете такое, что надо маменьку пригласить к нам на постоянное пребывание, а то их там при их одиночестве всякий может ограбить и даже лишить возможности жизни.
— Маменька к нам не поедут, — сказала Наталья Петровна, — они очень берегут свою перину и не решатся ее перевозить.
Но Проходимцев, как бы не слушая, продолжал:
— И даже я так полагаю, что надо маменьку пригласить сегодня же, а то нынче ночью их могут ограбить и порешить, а это нам с вами будет неприятно и даже невыгодно. А что маменька откажутся, это я и сам знаю, но только я их приглашу так, что и с отказом они к нам переедут. Согласитесь сами, Наталья Петровна, что нам надобно не согласие маменькино, а маменькина перина.
И с этими словами Проходимцев аккуратно оделся, сказал жене:
— До приятного со мною свиданья.
И ушел. Жена равнодушно посмотрела за ним, зевнула и села у окна, сложа руки, ждать мужа.
II
Проходимцев, пройдя улицы две, постучался в окошко маленького одноэтажного домика. Взлохмаченная голова высунулась в окно, и хриплый тенорок проговорил:
— А, Проходимцев, друг любезный, что так поздно?
— Господину Раскосову почтение, — ответил Проходимцев, — и прошу выйти на улицу по важному и неотложному делу.
— Немедленно? — с некоторым удивлением спросил господин Раскосов.
Проходимцев отвечал:
— Немедленно, и даже сию секунду.
Господин Раскосов зевнул, подумал, скрылся и скоро вышел из ворот. Это был рослый, дюжий молодец с пухлым рябым лицом и светлою трепаною бородкою лопатой. Он был одет в синюю блузу и пиджак.
— Друг ты мне или нет? — спросил Проходимцев.
Раскосов воскликнул:
— Демьян, мне ли не поверишь!
— И сверх того рубль целковый заработать желаешь? — продолжал Проходимцев.
Раскосов просиял и воскликнул:
— Это очень даже можно. Руб целковый — монета уважительная. Это я могу.
— Ноньче ночью мне надо важное дело сделать, — объяснил Проходимцев, — тещу к себе домой водворить желаю, а как она своего согласия не даст, то я намереваюсь переселить ее к любезной дочери, а моей законной жене, на жительство скорым манером. Но как для такого дела нужен товарищ, то я и приглашаю господина Раскосова.
— А в полицию не возьмут? — осведомился Раскосов.
Проходимцев покачал головою.
— Возлагаю надежду на крепость рук и скорость ног.
И приятели отправились, соблюдая молчание.
III
Было тихо и тепло; в садах за изгородями пахло свежо и нежно, луна подымалась на восток, за домами звучно и скоро лепетала река у плотины, — город спал.
Тещин дом стоял у выгона, второй от конца улицы. Проходимцев и Раскосов остановились под окнами. Проходимцев рассудительно сказал:
— Теперь главное затруднение состоит в том, как попасть, никого не обеспокоив.
Потрогал рамы, — все окна заперты, толкнул калитку, — задвинута. Постоял, подумал и полез через забор. За ним Раскосов.
В будке у ворот яростно залаяла собака, но узнала Проходимцева и успокоилась, — свой. Проходимцев подошел к дому, заглянул в кухню.
— Марфушка спит, — сказал он, — надо ее вызвать.
И принялся громко мяукать и скрести пальцами стекло окна. Кто-то зашевелился за окном. Проходимцев спрягался за угол, Раскосов последовал его примеру.
Окно открылось. Марфа, молодая девица, в одной рубашке, высунулась в окно и сказала, зевая:
— Машка подлая, чего ты скребешься?
Проходимцев выглянул из-за угла.
— Марфуше наше почтение, — сказал он.
За ним высунулся и Раскосов. Марфа вздрогнула.
— О, леший, испугал! — крикнула она. — Что вам тут надо, полуночники?
Свежо и молодо во влажной темноте ночной прозвучал ее голос.
— Мы к вам по делу, прекрасная девица Марфа, — сказал Проходимцев. — Потому, как ваша барыня, а наша любезнейшая маменька желает переехать к нам на жительство, но опасается огласки, чтобы соседи не помешали, а кроме того у нашей маменьки причуды, как у малого ребенка, то маменька нам ноньче и говорят: «Не хочу я к вам ни пешом идти, ни конью ехать, а несите вы меня, как Ольга премудрая Игоревых послов, на моей собственной трехспальной перине». Вот мы и пожаловали, а вы, Марфа прекрасная, извольте отворить нам двери.
Марфа засмеялась.
— Придумаете тоже, — сказала она, — нашли дуру! Так я вам и отворила.
— Известное дело, нашли, — отвечал Проходимцев, — известное дело, отворишь, — семьдесят пять копеек получишь желаешь?
— Обманете? — живо спросила Марфа.
Проходимцев вынул кошелек, отсчитал семьдесят пять копеек, подал Марфе и укоризненно сказал:
— У нас деньги верные, как в казначействе. Мы не затем, чтобы обманывать.
Марфа сосчитала деньги.
— Да мне что ж, — сказала она, — я, пожалуй, и отворю. Мне-то что же!
Она отошла от окна и, звучно-тяжело ступая, пошла к двери. Звякнул запор, с тихим скрипом раскрылась дверь, и, вся белая на ее зияющей темноте, выглянула Марфа.
Проходимцев и Раскосов вошли.
Марфа захохотала, пряча лицо в платок. Все трое отправились в спальню к старухе.
IV
Анна Прохоровна спала, свернувшись комочком на своей широкой перине. Приятели взяли перину, Раскосов в головах, Проходимцев в ногах, и понесли. Старуха проснулась. Забеспокоилась.
— Что такое? — закричала она. — Марфушка, подлая, куда меня волокут? Нешто пожар?
— Ничего, маменька, не беспокойтесь, — ответил Проходимцев, — мы с нашею супругою приглашаем вас к нам на пребывание.
Проворно, почти бегом, вынесли старуху на двор, а потом на улицу. Она кричала:
— Озорники, да что вы делаете? Пустите меня, я домой пойду.
— Никак невозможно, маменька, — говорил Проходимцев, — потому как ваш костюмчик дома остался, и кроме того не извольте кричать, а то соседи увидят вас в беспорядке, и вам будет зазорно.
Старуха захныкала:
— Разбойник ты, креста у тебя на вороту нет.
Но приятели не слушали и быстро мчались со своею ношею по тихим улицам безмолвного городка. Скоро принесли и положили перину со старухою на пол.
— За вашим костюмчиком, маменька, пойду, — объявил Проходимцев.
Рассчитался с Раскосовым и пошел за старухиною одеждою. Старуха плакала. Дочь говорила ей:
— Так как мы вас, маменька, очень любим, то и нет нашего желания жить с вами отдельно. Вам у нас будет, как у Христа за пазухой.
Обыск
I
Приятное в жизни переплетается с неприятным. Приятно быть учеником первого класса, — это создает известное положение в свете. Но и в жизни ученика первого класса случаются неприятности.
Рассвело. Заходили, заговорили. Шура проснулся, и первое его ощущение было то, что на нем что-то рвется. Это было неприятно. Что-то комкается под боком, — и потом возникло более отчетливое представление разорванной и скомканной рубашки. Под мышками разорвалось, и чувствуется, что прореха почти до самого низа.
Шуре стало досадно. Он вспомнил, что еще вчера говорил маме:
— Мама, дай мне чистую рубашку; у этой рубашки прорешка под мышками.
А мама ответила:
— Завтра еще поноси, Шурочка.
Шура поморщился, как любил это делать, когда что было не по нем, и сказал досадливо:
— Мама, да она завтра совсем разорвется. Что ж, мне оборванцем ходить!
Но мама, не отрываясь от работы, — и охота ей самой все шить! — сказала недовольным голосом:
— Отстань, Шурка, не до тебя, некогда мне. Моду какую завел приставать к матери! Сказано, завтра вечером переменишь. Шалил бы меньше, вот и одежда была бы целее. На тебе горит, — не напасешься.
Шура же был совсем не шалун. Он заворчал:
— Как еще поменьше шалить? Меньше нельзя. Я совсем мало шалю. Только если и шалю, так уж самое, самое необходимое, без чего никак нельзя.
Так мама и не дала рубашки. Ну вот, что же вышло! Рубашка разорвалась до самого подола. Теперь ее бросить надо. Вот какая нерасчетливая мама!
Было слышно за стеной, как мама проворно ходила, торопясь выбраться из дому. Шура вспомнил, что у мамы есть хорошая практика, — такая, на которую надо ходить долго и за которую дадут много денег. Это, конечно, хорошо, — но вот сейчас мама уйдет, и Шуре придется отправляться в рваной рубашке, — и во что же она тогда обратится к вечеру?
Шура проворно вскочил, бросил одеяло на пол и побежал к маме, громко стуча по холодному полу голыми ногами. Закричал:
— Вот, мама, полюбуйся! Говорил ведь я тебе вчера, что надо мне дать другую рубашку, а ты не хотела дать, — ну вот, видишь, что с ней сделалось!
Мама сердито поглядела на Шуру. Досадливо покраснела. Заворчала:
— Еще бы ты голый выбежал! Что за срам! Никакого нет сладу с мальчишкой, до того набалован.
Схватила Шуру за плечи, повела к себе в спальню. У Шуры опасливо дрогнуло сердце. Мама говорила:
— Ведь знаешь, что я тороплюсь, а все-таки лезешь.
Но уж видела, что в этой рубашке нельзя оставить мальчика. Пришлось идти в комод, доставать новую рубашку, еще не надеванную, потому что те рубашки, из которых мама хотела дать сегодня, были еще в стирке, — принесут их только к вечеру.
Шура обрадовался. Очень приятно было ему надевать новое платье, — оно такое жесткое и холодное и так забавно щекочет кожу. Одеваясь, он смеялся и шалил, но маме уже совсем некогда было побыть с ним, и она торопливо ушла.
II
В училище было, как всегда, странно: весело и скучно, живо и неестественно. Весело было, когда приходили перемены между уроками, и скучно, когда был самый урок.
Предметы, которыми приходилось заниматься на уроках, были странные и совсем ненужные: Люди, которые давно умерли и ничего хорошего не сделали, но о которых надо было после стольких столетий все еще зачем-то помнить, хотя некоторых из них, может быть, и на свете никогда не бывало, — Глаголы, которые с чем-то спрягались, и Имена, которые куда-то склонялись, но для которых не находилось живого места в живой речи, — Фигуры, о которых так трудно было доказывать то, чего совсем и не надо было доказывать, — и Многое Иное, столь же нелепое и чуждое. И не было одного во всем этом необходимого, — не было Связи Соотношений, не было прямого ответа на вечный вопрос: Что, к Чему и Откуда.
III
Утром в зале перед молитвой к Шуре подошел Митя Крынин. Спросил:
— Ну что, принес?
Шура вспомнил, что обещал вчера принести Крынину книжку с современными песенками. Сунул руку в карман, — там книжки не было. Сказал:
— Ну, в пальто оставил. Сейчас принесу.
Побежал в шинельную. В это время сторож надавил пружинки электрических звонков, и по всему обширному и скучному зданию училища затрещали резкие голоса колокольчиков. Пора было идти на молитву, — без этого нельзя было начаться учению.
Шура заторопился. Сунулся в карман пальто, ничего не нашел, потом вдруг увидел, что это чужое пальто, крикнул досадливо:
— Ну, вот история, в чужое пальто залез!
И принялся отыскивать свое.
Рядом с ним раздался насмешливый хохот. Неприятный голос шалуна Дутикова заставил Шуру вздрогнуть от неожиданности. Дутиков, опоздавший в училище и пришедший только сейчас, кричал:
— Что, брат, по чужим карманам лазишь?
Шура проворчал сердито:
— А тебе что за дело, Дутька? Не в твой карман.
Нашел книжку и побежал в зал, где уже строились ученики к молитве, выравниваясь длинными шеренгами по росту, так что маленькие стали впереди, ближе к иконам, большие сзади, и в каждой шеренге справа были мальчики повыше, слева — пониже. Учителя считали, что молиться надо по росту и в шеренгах, иначе ничего не выйдет. Кроме того, в сторонке стали мальчики, которые навострились в церковном пении, и один из них перед каждым разом, как надо было запеть, тихонько подвывал на разные голоса, что называлось — задавать тон. Пели громко, быстро и безвыразительно, как в барабаны били. Дежурный ученик читал по молитвеннику те молитвы, которые полагалось не петь, а читать, — и читать так же громко, так же безвыразительно. Словом, все было как всегда.
А после молитвы случилось происшествие.
IV
У Епифанова из второго класса пропал перочинный ножик и серебряный рубль. Краснощекий бутуз, обнаружив покражу, поднял плач: ножик был красивый, в перламутровой оправе, а рубль был нужен на самые неотложные дела. Пошел жаловаться.
Начался разбор дела.
Дутиков рассказал, что видел в шинельной, как Шура Долинин шарил по карманам в чужих пальто. Шуру позвали в кабинет инспектора.
Сергей Иванович, инспектор, подозрительными глазами уставился на мальчика. Старому учителю было приятно думать, что вот он сейчас уличит воришку. Потом будет экстренное заседание педагогического совета, потом воришку исключат.
Казалось бы, во всем этом нет ничего хорошего. Но уж очень насолили шаловливые и непослушные мальчуганы старому учителю, — со злорадством сыщика смотрел он на смущенного, раскрасневшегося мальчика и медленно задавал ему вопросы:
— Зачем ты был в шинельной во время молитвы?
— До молитвы, Сергей Иванович, — тоненьким от испуга голосом пищал Шура.
— Допустим, что до молитвы, — с иронией в тоне голоса соглашался инспектор. — Однако я спрашиваю, зачем?
Шура объяснил зачем. Инспектор продолжал:
— Допустим, что за книжкой. А в чужой карман зачем лазил?
— По ошибке, — горестно сказал Шура.
— Прискорбная ошибка, — заметил инспектор, укоризненно качая головой. — А скажи-ка ты лучше, не взял ли ты по ошибке ножик и рубль? По ошибке, а? Посмотри-ка в своих карманах.
Шура заплакал и говорил сквозь слезы:
— Я ничего не воровал.
Инспектор улыбался. Приятно довести до слез. На румяных щеках такие красивые и частые катятся детские слезы, и непременно в три ручья: из одного глаза две струйки слез, а из другого — одна.
— Если не воровал, так чего же плакать? — издевающимся тоном говорил инспектор. — Я и не говорю, что ты украл. Я предполагаю, что ты ошибся. Захватил, что в руку попало, а потом и сам забыл. Пошарь-ка в карманах.
Шура поспешно вытащил из кармана весь тот детский вздор, какому полагается быть у мальчишек, — а потом и оба кармана вывернул.
— Ничего нет, — сказал он досадливо.
Инспектор смотрел на него пытливо.
— А не завалилось ли куда-нибудь за одежду, а? В сапоги, может быть, ножик-то провалился, а?
Позвонил. Пришел сторож.
Шура плакал. И все вокруг плыло в розовом тумане, в безумном обмороке унижения. Шуру повертывали, ощупывали, обыскивали. Понемножку раздевали: заставили снять сапоги и вытряхивали их, стащили, на всякий случай, и чулки; сняли пояс, блузу, брюки. Все вытряхивали и осматривали.
И сквозь все томление стыда, сквозь обиду унизительного и ненужного обряда яркая пронизывала радость: рваная рубашка осталась дома, и под грубыми руками усердного педагога шуршала новенькая, чистенькая рубашка.
Стоял Шурка в одной рубашке и плакал. За дверью послышались шумные голоса, веселые крики.
Стукнула дверь, вошел поспешно кто-то маленький, румяный, улыбающийся. И сквозь стыд, и сквозь слезы, и сквозь радость о новой рубашке Шура услышал чей-то не то веселый, не то смущенный голос, слегка запыхавшийся от бега:
— Нашлось, Сергей Иванович. У самого Епифанова. У него дыра была в кармане, — ножик и рубль провалились в сапог. Теперь он почувствовал, что неловко, и нашел.
Тогда вдруг стали ласковы с Шурою. Гладили по голове, утешали и помогали одеваться.
V
То плакал, то смеялся. Дома опять и плакал, и смеялся. Рассказывал маме. Жаловался:
— Совсем раздели. Хорош бы я был в рваной рубашке.
Потом… что же потом? Мама ходила к инспектору. Хотела сделать ему сцену. Хотела потом на него жаловаться. Но на улице вспомнила, что мальчик освобожден от платы за учение. Сцены не вышло. Притом же инспектор принял ее очень любезно. Извинился очень. Чего же еще?
Унизительное ощущение обыска осталось в мальчике. Так врезалось это ощущение: заподозрен в воровстве, обыскан, и стой полуголый, поворачивайся в руках усердного человека. Стыдно? Но ведь это — опыт, полезный для жизни.
И мама сказала, плача:
— Кто знает, — вырастешь, не то еще будет. У нас все бывает.
Отравленный сад
Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила.
А. Пушкин
— Прекрасный Юноша, о чем ты задумался так глубоко? — спросила Старуха, у которой Юноша снимал комнату.
Она тихо вошла вечером в его полутемную комнату и, еле слышно шелестя по крашеному буро-красною краскою неровному полу мягкими туфлями, приблизилась к Юноше и стала у его плеча. Он вздрогнул от неожиданности, — уже с полчаса стоял он у единственного окна своего тесного покойчика в верхнем жилье старого дома и, не отрываясь, смотрел на лежащий перед ним прекрасный Сад, где цвело множество растений, благоухающих нежно, сладко и странно.
Отвечая Старухе, Юноша сказал:
— Нет, Старая, я ни о чем не думаю. Я стою, смотрю и жду.
Старуха укоризненно покачала седою головою, и узлы ее темного платка закачались, как два остро-поднятые кверху, настороженные уха. Ее морщинистое лицо, более желтое и сухое, чем у других старых женщин, живших на той же улице, на окраине громадного Старого Города, выражало теперь озабоченность и тревогу. Старуха молвила тихо и печально:
— Жаль мне тебя, милый Юноша.
Голос ее, хотя уже и старчески хриплый, звучал такою печалью, таким искренним состраданием, и ее уже бесцветные от старости глаза глядели так скорбно, что Юноше, в полумраке его покоя вдруг, на одно короткое мгновение, показалось, что эти внешние признаки старости — только удачно надетая личина, и за нею скрывается молодая и прекрасная Жена, еще недавно только испытавшая пронзающую сердце скорбь Матери, оплакавшей погибшего Сына. Но прошло это странное мгновение, и Юноша улыбнулся своей чудной мечте. Он спросил:
— Почему тебе жаль меня, Старая?
Старуха стала рядом с ним, посмотрела в окно на Сад, прекрасный и цветущий, и весь осиянный лучами заходящего солнца, и сказала:
— Мне жаль тебя, милый Юноша, потому что я знаю, куда ты смотришь и чего ты ждешь. Мне жаль тебя и твоей матери.
Может быть, от этих слов, а может быть, от чего-нибудь иного, что-то изменилось в настроении Юноши. Сад, цветущий и благоухающий за высоким забором под его окном, вдруг показался ему почему-то странным, и темное чувство, похожее на внезапный страх, жутким замиранием остановилось у его сердца, точно рожденное пряными и томными ароматами, исходящими от ярких внизу цветов.
«Что же это?» — подумал он в недоумении. Он не хотел поддаваться темному очарованию вечерней тоски, — сделал над собою усилие, улыбнулся весело, быстрым движением сильной руки откинул с высокого лба прядь черных волос и спросил:
— Что же, Старая, страшного и нехорошего в том, на что я смотрю и чего я жду? И почем ты знаешь, чего я жду?
И в эту минуту он был веселый, смелый, прекрасный, и черные глаза его пылали, и румяные щеки его рдели, и алые, яркие губы его казались сейчас только поцелованными, и из-за них сверкали крепкие, белые зубы, веселые, злые.
Старуха говорила:
— Вот, милый Юноша, ты смотришь на Сад и не знаешь, что это — злой Сад. Вот ты ожидаешь Красавицу и не знаешь, что красота ее пагубна. Два года прожил ты в моей комнате и ни разу не засматривался так, как сегодня. Видно, и твой черед настал. Пока еще не поздно, отойди от окна, не дыши злым дыханием этих коварных цветов и не жди, чтобы под окно твое пришла чаровать Красавица. Она придет, она зачарует, и ты пойдешь за нею, куда не хочешь.
Говоря так, Старуха зажгла две свечи на столе, где лежали книги, захлопнула окно и задернула у окна занавеску. С легким скрежетом провлеклись по медному пруту кольца, заколыхалось и легло опять спокойно желтое полотно занавески, — и в комнате стало весело, уютно и спокойно. И казалось, что нет за окном Сада, и нет в мире очарований, и все просто, обычно, установлено раз навсегда.
— А и правда, — сказал Юноша, — я никогда не обращал внимания на этот Сад и сегодня только в первый раз увидел Красавицу.
— Уже увидел, — печально сказала Старуха. — Уже упало в твою душу злое семя очарования.
А Юноша говорил не то Старухе, не то рассуждая сам с собою:
— Да раньше и некогда было. Днем — на лекциях в университете, вечером — за книгами или с веселыми товарищами и милыми девушками на вечеринке или в театре, где-нибудь на галерке, а то так и в партере по студенческой контрамарке, когда платной публики мало: антрепренеры нас любят, мы хлопаем усердно и кричим, вызывая актрис, пока не погасят всех огней. Летом уедешь к родителям. Так, только слышал, что рядом великолепный Сад нашего профессора, знаменитого Ботаника.
— Потому и знаменитый, что черту душу продал, — сердито сказала Старуха.
Студент рассмеялся весело.
— А все-таки, — сказал он, — мне странно, что я никогда до сегодняшнего вечера не видел его дочери, хотя и слышал много об ее дивной красоте и о том, что многие знатные юноши Старого Города и из других мест, близких и дальних, добивались ее любви, и надеялись, и обманывались, а иные и умирали, не стерпев ее холодности.
— Она — коварная, — сказала Старуха. — Она знает цену своим чарам и показывается не всем. Нищему студенту трудно свести с нею знакомство. Отец обучил ее многому, чего и ученые не знают, но на ваши сходки она не ходит. Она больше с богатыми, от которых можно ждать многих подарков.
— Старая, сегодня я хорошо видел ее, и мне кажется, — возражал Юноша, — что девица с таким прекрасным лицом, с такими непорочно-ясными глазами, с такими изысканно-грациозными манерами и одетая так красиво не может быть коварною и корыстною и гнаться за подарками. Я твердо решил, что познакомлюсь с нею. Сегодня же пойду к Ботанику.
— Ботаник тебя и на порог не пустит. Его слуга о тебе и докладывать не пойдет, как увидит твою поношенную одежонку.
— Что ему за дело до моей одежды! — с досадою сказал Юноша.
— Да вот, разве если бы ты на крылатом змее приехал, так, пожалуй, пустили бы, и на твои заплаты не поглядели бы.
Юноша засмеялся и воскликнул весело:
— Что ж, Старая, и крылатого змея оседлаю, коли иначе туда не попасть будет!
Старуха ворчала:
— Да уж от ваших забастовок добра не ждать. Учились бы смирно, и все было бы хорошо. И тебе бы не было никакой печали до этой хитрой Красавицы и до ее страшного Сада.
— Что страшного в ее Саду? — спросил Юноша. — А не бастовать нам никак нельзя было: наши права и права университета нарушены, — неужели же мы смиренно подчинимся?
— Юноши должны учиться, — ворчала Старуха, — а не права разбирать. А ты, милый Юноша, прежде чем с Красавицей знакомиться, в ее Сад вглядись хорошенько из окошка, завтра утром, при свете солнца, когда все видно ясно и верно. Ты увидишь, что в этом саду нет цветов, которые здесь всем знакомы, а цветов, какие там есть, никто у нас в Городе не знает. Подумай-ка об этом хорошенько, ведь это неспроста. Бес коварен, не его ли это создания на пагубу людям?
— Это — растения чужестранные, — сказал Юноша, — они привезены из жарких стран, где все иначе.
Но уже Старуха не хотела больше разговаривать. Она досадливо махнула рукою и, шамая туфлями, сердито и неразборчиво бормоча неласковые слова, вышла из комнаты.
Первым побуждением Юноши было подойти к окну, отдернуть желтое полотно занавески и опять смотреть в очаровательный сад и ждать. Но помешали: пришел Товарищ, шумный, нескладный молодой человек, и позвал Юношу идти в место, где они часто собирались, чтобы говорить много, спорить, и шуметь, и смеяться. По дороге Товарищ, смеясь, негодуя, размахивая руками больше, чем бы следовало, рассказывал Юноше о том, что происходило сегодня утром в аудиториях и в университетских коридорах, как были сорваны все лекции, как были посрамлены противники забастовки, какие прекрасные слова говорили любимые хорошие профессоры, и как смешно вели себя профессоры нелюбимые, и значит, нехорошие.
Юноша провел интересный вечер. Говорил, волнуясь, как все. Слушал искренние и горячие речи. Смотрел на товарищей, лица которых выражали и беззаботную смелость молодости, и ее пламенное негодование. Видел девушек, милых, умных, скромных, и мечтал о том, что из их веселого круга изберет себе подругу. И почти забыл о Красавице в очаровательном Саду.
Вернулся домой поздно и заснул крепко.
Утром, когда он открыл глаза и когда взор его упал на желтое полотно занавески у окна, показалось ему, что ее желтизна окрашена багрянцем темного желания и что в ней есть какая-то странная и жуткая напряженность. Казалось, что солнце настойчиво и страстно упирает свои жгучие и горькие лучи в это пронизанное золотым светом полотно, и зовет, и требует, и волнует. И в ответ этой удивительной внешней напряженности золота и багрянца огненною живостью наполнились жилы Юноши, упругою силою налились его мускулы, и сердце его стало, как родник ярых пожаров. Пронизанный сладко миллионами живящих, и горящих, и возбуждающих игол, вскочил он с постели и с ребяческим веселым хохотом, не одеваясь, принялся прыгать и плясать по комнате.
Привлеченная необычным шумом, заглянула в дверь Старая хозяйка. Покачала укоризненно головою и ворчливо сказала:
— Милый Юноша, пляшешь и радуешься, и всех беспокоишь, а чему рад, и сам не знаешь, и не ведаешь, кто стоит под твоим окошком и что она тебе готовит.
Юноша смутился и стал тих и скромен, как раньше, что и согласно было с его характером, и соответствовало прекрасному воспитанию, полученному им дома. Он умылся старательнее обычного, оттого, может быть, что не надо было сегодня спешить на лекции, а может быть, и по иной причине, и с таким же тщанием оделся, причем долго чистил свою изрядно уже поношенную одежду: новой у него не было, так как родители его были небогаты и не могли присылать ему много денег.
Потом подошел он к окну. Сердце его забилось тревожно, когда он отдернул желтое полотно занавески.
Очаровательно-прекрасное зрелище открылось перед ним, — хотя сегодня он сразу заметил, что есть что-то странное во всем виде этого обширного, превосходно расположенного Сада. Что именно его удивляло, еще он сразу не понял и внимательно стал рассматривать Сад.
Что же было неприятного в его красоте? Отчего так больно замирало сердце Юноши?
То ли, что все в очаровательном Саду было слишком правильно? Дорожки разбиты прямо, все одинаковой ширины и однообразно усыпаны ровным слоем желтого песку; растения рассажены с тщательною порядливостью; деревья подрезаны в виде шаров, конусов и цилиндров; цветы подобраны по тонам, так что сочетание их ласкало глаз, но почему-то ранило душу.
Но, рассуждая здраво, что же неприятного в том порядке, который свидетельствует, что кто-то неусыпно заботится о Саде?
Нет, не в этом, конечно, была причина странного беспокойства, томившего Юношу. В чем-то другом, еще непонятном Юноше.
Одно было несомненно, что этот Сад не был похож ни на один из тех садов, которые довелось на своем веку повидать Юноше. Он видел здесь цветы громадные и слишком яркой окраски, — порою казалось, что разноцветные огни пылали среди буйной зелени, — бурые и черные стебли ползучих растений, толстые, как тропические змеи, — листья странной формы и непомерной величины, зелень которых казалась неестественно яркою. Пряные и томные ароматы легкими волнами вливались в открытое окно, вздохи ванили, и ладана, и горького миндаля, сладкие и горькие, торжественные и печальные, как ликующая погребальная мистерия.
Юноша чувствовал на своем лице нежные, но бодрящие прикосновения легкого ветра. В саду же, казалось, ветер не имел силы и в изнеможении улегся на спокойно зеленой траве и в тени под кустами странных насаждений. И оттого, что деревья и травы странного Сада были бездыханно тихи, и не слышали тихо веющего над ними ветра, и ничем не отвечали ему, они казались неживыми. А потому лживыми, злыми, враждебными человеку.
Впрочем, одно из растений шевелилось. Но, вглядевшись, Юноша засмеялся. То, что он принял за безлиственный ствол странного растения, был человек небольшого роста, тощий, одетый весь в черном. Он стоял перед кустом с ярко-пурпурными цветами, потом медленно пошел по дорожке, опираясь на толстую палку и приближаясь к тому окну, из которого глядел Юноша.
Не столько по лицу, которое, будучи прикрыто широкими полями черной шляпы, только отчасти было видно сверху, сколько по манерам и походке Юноша узнал Ботаника. Не желая показаться нескромным, Юноша немного отодвинулся от окна в глубину комнаты. Но вдруг увидел он, что навстречу Ботанику шла Красавица, его юная дочь.
Ее нагие руки были подняты к сложенным на голове черным косам, потому что в это время она вкалывала в волосы ярко-пунцовый цветок. Ее легкое, короткое, открытое платье было застегнуто на одном плече золотою пряжкою. Стройные, белые ноги были обуты в золоченые сандалии и обвиты широкими розовыми лентами.
Сердце Юноши забилось, он забыл всякую осторожность и скромность, опять бросился к окну и жадно глядел на милое видение. Красавица кинула в его сторону быстрый, пламенный взгляд, — синие из-под черных ровных бровей сверкнули очи, — и улыбнулась нежно и лукаво.
Если бывают люди счастливы, если светит им порою безумное солнце радости, сладким кружением восторга унося в запредельные страны, — то где слова, чтобы сказать об этом? И если есть на свете красота для очарований, то как описать ее?
Но вот остановилась Красавица, пристально посмотрела на Юношу и засмеялась радостно и весело, — и в несказанном кружении восторга забыл Юноша о всем, что есть на свете, стремительно наклонился из окна и закричал голосом, звонким от волнения:
— Милая! Прекрасная! Божественная! Приди ко мне! Люби меня!
Красавица подошла близко, и Юноша услышал тихо-звенящий, ясный голос, каждый звук которого сладкою мукою ранил его сердце:
— Милый Юноша, знаешь ли ты цену моей любви?
— Хотя бы ценою жизни! — восклицал Юноша. — Хотя бы у темных ворот Смерти!
Ее лицо было бело, ее щеки были румяны, ее глаза были сини, ее уста были алы, — зарею пылающею и смеющеюся стояла она перед Юношею и простирала к нему стройные, обнаженные руки. И говорила, и веял от ее слов аромат обольстительный и томный, как вздохи нежной туберозы:
— О, милый Юноша, мудрый и страстный, ты знаешь, ты видишь, ты дождешься. Многие любили меня, многие жаждали обладать мною, прекрасные, юные, сильные, многим улыбалась я улыбкою обаятельною, как улыбка последней утешительницы, но никогда никому до тебя не говорила я сладких и страшных слов: люблю тебя. Теперь хочу и жду.
Страстью и желанием звенел ее голос. Она отвязала от пояса шелковый черный шнурок с бронзовым на нем ключом и уже взмахнула рукою, чтобы бросить ключ Юноше, но не успела. Отец уже спешил к ней, заметив еще издали, что она заговорила с незнакомым Юношею. Он грубо схватил ее за руку, отнял от нее ключ и закричал хриплым старческим голосом, противным, как тяжелое карканье старого ворона на кладбище:
— Безумная, что ты хочешь сделать? Не о чем тебе с ним говорить. Этот Юноша не из рода тех, для кого взрастили мы наш Сад, смешав соки этих растений с ядовитою смолою Анчара. Не для таких, как этот голяк, погиб наш предок, надышавшись тлетворным ароматом страшной смолы. Иди, иди домой и не смей говорить с ним.
Старик повлек дочь к дому, видневшемуся в глубине Сада, крепко сжимая ее руки, обе захватив одною своею рукою. Красавица покорно шла за отцом и смеялась. И был смех ее ясен, звонок, сладок, и жалил тысячами острых жал пламенеющее сердце Юноши.
Он еще долго стоял у окна, долго всматривался напряженными глазами в расчисленные и расчищенные дали очарованного Сада. Но уже Красавица больше не показывалась. Все тихо и недвижно было в дивном Саду, и бездыханными казались чудовищно-яркие цветы, и от них доходил до Юноши аромат, кружащий голову и жутким томлением сжимающий сердце, — аромат, напоминающий темные, стремительные, жадные вздохи ванили, цикламена, датуры и тубероз, злых несчастных цветов, умирающих умерщвляя, чарующих смертною тайною.
Юноша твердо решился проникнуть в дивный Сад, надышаться таинственными ароматами, которыми дышит Красавица, и добиться ее любви, хотя бы ценою за нее была жизнь, хотя бы путем к ней был путь смертный, путь безвозвратный. Но кто бы помог ему проникнуть в дом старого Ботаника?
Юноша ушел из дому. Долго ходил он по Городу и всех, кого знал, расспрашивал о Красавице, дочери Ботаника. Одни не могли, другие не хотели ввести его в дом старого Ботаника, и о Красавице все говорили недоброжелательно.
Товарищ ему сказал:
— Все молодые Оптиматы Города влюбляются в нее и хвалят ее изысканную и утонченную красоту. Нам же, Пролетариям, ее красота ненавистна и не нужна: ее мертвая улыбка нас раздражает, и безумие, затаившееся в синеве ее глаз, нам противно.
Девушка, вторя ему, говорила:
— Ее красота, о которой говорят много праздные и богатые юноши, вовсе даже и не красота на наш взгляд. Это — мертвая красивость разложения и упадка. Я думаю даже, что она румянится и белится. От нее пахнет, как от ядовитого цветка; даже дыхание у нее ароматно, и это противно.
Популярный Профессор говорил:
— Коллега Ботаник — знаменитый и ученый человек; но он не хочет подчинять свою науку высоким интересам гуманности. Его дочь, говорят, очаровательна; некоторые говорят об оригинальности ее костюмов и манер; впрочем, я не имел случая беседовать с нею более или менее обстоятельно; притом же в нашем кругу ее редко можно встретить. Думаю, однако, что ее очарования заключают в себе нечто вредное для здоровья, — до меня дошли странные слухи, за достоверность которых, конечно, я не ручаюсь, слухи о том, что процент смертности среди посещающих этот дом молодых аристократов выше среднего.
Аббат, с тонкою улыбкою на бритом бледном лице, сказал:
— Когда Красавица приходит ко мне в церковь, она молится слишком усердно. Можно подумать, что она замаливает тяжелые грехи. Но я уверен, что нам не доведется увидеть ее в шерстяной сорочке кающейся грешницы.
Мать, выславши из комнаты всех дочерей, сказала:
— Я не понимаю, что в ней находят привлекательного. На нее разоряются, она кокетничает, разбивает сердца юношей, отнимает женихов от невест, а сама никого не любит. Я не позволяю моим милым дочкам, Миночке, Линочке, Диночке, Ниночке, Риночке, Тиночке и Зиночке, вести с нею знакомство. Они у меня такие скромные, милые, любезные, веселые, приветливые, прилежные, такие хозяйки, такие рукодельницы. И как мне ни жаль расставаться с ними, но, так и быть, старшенькую я выдала бы замуж за такого скромного юношу, как вы.
Юноша ушел поспешно. Семь сестриц улыбались ему из окна, теснясь одна за другою. Это было зрелище милое и приятное, но сердце Юноши полно было сладкими, жуткими мечтами о Красавице.
* * *
Старый Ботаник привел свою дочь в дом. Его гнев смягчился, и хотя он до самого порога не выпускал из своей руки с большими костлявыми пальцами сложенных вместе тонких рук весело улыбающейся Красавицы, но уже он не жал их так больно и не толкал ее так грубо. Его лицо было печально. Он выпустил руки своей дочери, и она сама послушно вошла за ним в его кабинет — огромную, мрачную комнату, стены которой были загромождены полками с множеством книг, громадных, запыленных.
Ботаник сел в обитое темною кожею кресло у своего тяжелого дубового стола. Он казался усталым. Прикрыл глаза, еще юношески блестящие, пергаментно-желтою, дрожащею рукою и укоризненно смотрел из-под руки на дочь. Красавица стала на колени у его ног, и смотрела снизу в лицо старого Ботаника, и улыбалась нежно и покорно. Она стояла прямо, с опущенными руками, и в позе ее была смиренная покорность, и в улыбке обольстительных уст было нежное упрямство. Лицо ее казалось побледневшим, и казалось, что на губах ее зыбко пламенеет безумие смеха и что в синеве ее глаз затаилось безумие тоски. Молчала и ждала, что скажет отец.
И он сказал медленно, словно с трудом находя слова:
— Милая, что же я слышал? Не ждал я от тебя этого. Зачем ты это сделала?
Красавица склонила голову и сказала тихо и печально:
— Отец, рано или поздно это же должно совершиться.
— Рано или поздно? — спросил отец, как бы с удивлением. И продолжал: — так пусть это лучше совершится поздно, чем рано.
— Я пламенею, — тихо сказала Красавица.
И улыбка на ее устах была как отблеск знойного пылания, и в глазах ее затаились синие молнии, и ее обнаженные плечи и руки были как тонкий алебастровый сосуд, наполненный расплавленным металлом. Порывисто дышала высокая грудь, и две белые волны рвались из тесных объятий ее платья, нежный цвет которого напоминал желтоватую розовость персика. Из-под складок недлинной одежды были видны трепетно лежащие на темно-зеленом бархате ковра стройные ноги, обвитые розовыми лентами золоченых сандалий.
Отец тихо покачал головою и сказал печально и строго:
— Ты, милая дочь, столь опытная и столь искусная в дивном умении чаровать, оставаясь непорочною, должна знать, что еще рано тебе отходить от меня и бросать недовершенный мой замысел.
— Но ведь этому не будет конца? — возразила Красавица. — Они приходят вновь и вновь.
— Никто не знает, — сказал Ботаник, — будет ли этому конец и увидим ли мы завершение нашего замысла или передадим его иным поколениям. Но мы сделаем, что можем. Вспомни, что сейчас должен прийти к тебе молодой Граф. Ты поцелуешь его, — но не более, — и дашь ему отравленный цветок по его выбору. И он уйдет, полный сладких надежд и трепетных ожиданий, — и опять свершится и над ним неизбежное.
Выражение покорности и скуки легло на лицо Красавицы.
— Иди, — сказал отец.
Наклонился, поцеловал ее в лоб. Красавица прильнула знойно-алыми губами к его морщинистой желтой руке, прижалась к его сухим коленям белою полуобнаженною грудью, вздохнула и встала. И вздох ее был как свирельный стон.
Через полчаса Красавица, нежно улыбаясь, говорила молодому, красивому, надменному Графу, стоя перед ним среди Сада, у круглой клумбы с яркими, громадными цветами, от которых исходил одуряющий аромат:
— Милый Граф, вы хотите очень многого. Желания ваши слишком пылки и слишком нетерпеливы.
Улыбка ее была так же нежна и лукава, и непорочно-ясные взоры ее с ласковым любованием скользили по стройной фигуре молодого Графа и по его богатому наряду, сшитому модно и красиво из самых дорогих тканей и украшенному золотом и самоцветными камнями.
— Милая очаровательница, — говорил Граф, — я знаю, что вы были холодны ко многим, искавшим вашей благосклонности. Но ко мне вы будете более ласковы. Я сумею добиться вашей любви. Клянусь честью, я заставлю потемнеть от страсти холодную синеву ваших глаз.
— Чем же вы стяжаете мою любовь? — спросила Красавица.
Непроницаемо было выражение ее прекрасного лица, и ее голос не обличал того волнения, которое легко овладевает девами, когда они слышат знойный голос внушенной ими страсти.
Но самоуверенный, надменный Граф не смутился. Он говорил:
— От предков моих досталось мне немало сокровищ, и я сам, золотом и отвагою, приумножил их. Много у меня драгоценных камней, перстней, ожерелий, запястий, восточных тканей и ароматов, арабских коней, шелковых и атласных одежд, редкого оружия, и другого много, чего и перечислить скоро не сумею, чего даже не сразу и вспомню. Все я рассыплю у твоих ног, очаровательница, — рубинами оплачу я твои улыбки, жемчугами — твои слезы, золотом — твои ароматные вздохи, алмазами — твои поцелуи и ударом верного кинжала — твою лукавую измену.
Красавица засмеялась. Сказала:
— Еще я не ваша, а уже вы боитесь моей измены и угрожаете мне. Ведь я могу и рассердиться на это.
Граф порывисто склонил перед Красавицею колени и осыпал поцелуями ее руки, гибкие и стройные, от нежной кожи которых подымалось легкое, жуткое благоухание.
— Простите моему безумию, очаровательная Красавица, — молил он, вдруг забывши всю свою надменность, — любовь к вам лишает меня покоя и подсказывает мне дикие поступки и странные слова. Но что же мне делать! Я люблю вас больше, чем мою душу, и за обладание вами готов заплатить не только моими сокровищами, не только моею жизнью, но и тем, что дороже мне жизни и спасения души, — моею честью!
Красавица сказала очаровательно ласково:
— Ваши слова тронули меня, милый Граф. Встаньте. Я не возьму с вас непомерно большой платы за мою любовь, — она не покупается и не продается. Но кто любит, тот должен уметь подождать немного. Истинная, верная любовь всегда найдет путь к сердцу возлюбленной.
Граф поднялся. Изысканным жестом он оправил кружевные манжеты своего атласного зеленого кафтана и устремил на Красавицу долгий, восторженный взор. Глаза их встретились, и непроницаемо по-прежнему было выражение непорочно светлых глаз Красавицы.
Охваченный смутною тревогою, которая в минуты смертной опасности одолевает даже надменных и самоуверенных, Граф отошел от Красавицы. На скамье недалеко лежал красиво изукрашенный дубовый ларец. Граф открыл его и с почтительным поклоном поднес Красавице.
Солнечные лучи веселым смехом задрожали на бриллиантах и рубинах диадемы. И казалось надменному Графу, что сияние и смех падают на многоценные камни от рдеющих уст Красавицы. Но улыбка ее была такая же, как и раньше, и она любовалась подарком как малоценным, хотя и приятным знаком внимания. Потом на миг опечалилась легко, отуманилась и сказала:
— Мои предки были рабами, а ты даришь мне диадему, от которой не отказалась бы и царица.
— Очаровательница! — воскликнул Граф, — ты достойна и еще более блистающей диадемы.
Красавица улыбнулась ему приветливо и опять опечалилась легко, отуманилась и говорила тихо:
— Доля моих предков — горячие капли крови под бичами жестоких, а мне — торжественные рубины увенчанной радости.
И совсем, совсем тихо шепнула:
— Но не забуду.
— Что же вспоминать о давно минувшем! — воскликнул Граф. — Радостны дни светлой юности, а печаль воспоминаний оставим старости.
Красавица засмеялась, отгоняя смехом грусть, мгновенную, как тучка, тающая на летнем солнце. Сказала Графу:
— За ваш прекрасный подарок, милый Граф, я дам вам сегодня один цветок по вашему выбору и один поцелуй. Только один.
Молодой Граф пришел в такой восторг и выражал его так стремительно и шумно, что Красавица повторила нежно и строго:
— Только один, не более.
И спросила Графа:
— Какой цветок хотите вы, милый Граф, получить от меня?
Граф ответил:
— Прекрасная обольстительница, что вы мне ни дадите, за все я буду вам несказанно благодарен.
Улыбаясь, говорила Красавица:
— Все цветы, которые вы здесь видите, милый Граф, привезены издалека. Они собраны с большим трудом и даже с опасностями. Прилежным уходом отец мой улучшил их форму, и окраску, и аромат. Долго изучал он их свойства, пересаживал их, скрещивал, прививал и наконец достиг того, что из бедных, диких, некрасивых полевых и лесных цветочков образовались эти очаровательные, благоуханные цветы.
— И самый очаровательный цветок — вы, милая Красавица! — воскликнул Граф.
Красавица легко вздохнула и продолжала:
— Аромат их многие находят слишком крепким и одуряющим. И я замечаю, что вы, милый Граф, бледнеете, — мы с вами слишком долго пробыли среди этих знойных ароматов. Я-то привыкла, я с детства надышалась ими, и самая кровь моя пропитана их сладкими испарениями. А вам не следует слишком долго стоять здесь. Выбирайте скорее, какой цветок вы хотите взять от меня.
Но молодой Граф настаивал, чтобы Красавица сама выбрала ему цветок, — он ждал с нетерпением ее второго подарка, обещанного поцелуя — первого ее поцелуя. Красавица посмотрела на цветы. Лицо ее омрачилось опять легкою тенью печали. Вдруг быстро, словно движимая чужою волею, она протянула руку, столь прекрасную в своей обнаженной стройности, и сорвала белый махровый цветок. Замедлила руку, склонила голову и наконец с выражением застенчивой нерешительности приблизилась к Графу и вложила цветок в петлицу его кафтана.
Аромат сильный и резкий пахнул в побледневшее лицо молодого Графа, и в томном бессилии закружилась его голова. Равнодушие и усталость овладели им. Едва помнил себя, едва чувствовал, как взяла его Красавица под руку и увела в дом, от ароматов дивного Сада.
В одной из комнат дома, где все было светло, бело и розово, Граф очнулся. Юношеская свежесть вернулась на его лицо, черные глаза его зажглись опять страстью, и он снова почувствовал радость жизни и буйство желаний. Но уже подстерегало его неизбежное. Белая рука, нагая, стройная, легла на его шею, и ароматный поцелуй Красавицы был нежен, сладок, долог. Две синие молнии ее глаз блеснули близко перед его глазами и призакрылись тихою тайною длинных ресниц. Жуткие огни сладкой боли вихрем закружились вокруг сердца молодого Графа. Он поднял руки обнять Красавицу, — но с легким криком она отшатнулась и, легкая, тихая, убежала, оставив его одного. Граф бросился было за нею. Но в дверях розовой горницы встретил его старый Ботаник. Язвительна была улыбка его тонких губ, алою чертою разрезавших пергаментно-желтое лицо. Граф смутился. С несвойственным ему замешательством, чувствуя во всем теле странную слабость, простился он со старым Ботаником и ушел.
Жуткие вихри сладкой боли все быстрее кружились вокруг сердца молодого Графа, когда он ехал домой верхом на вороном арабском скакуне, еле слыша звонкий стук подков о камни.
Все бледнее становилось его лицо. Вдруг глаза его сомкнулись, рука опустила поводья, и он тяжело склонился, падая с седла. Испуганный конь взвился на дыбы, сбросил седока и помчался. Графа подняли уже мертвым, с разбитою о камни головою. И не знали, отчего он умер. Дивились, — такой был искусный наездник.
* * *
Настала ночь. Сладко и тревожно светила полная луна, ворожа и чаруя лучами холодными, могильно-тихими. Смутным страхом полно было сердце Юноши, когда он подошел к своему окну. Рука его, захватив край желтой занавески, долго медлила и колебалась, прежде чем он решился не спеша отвести в сторону занавеску. Медленно свиваясь, шуршало желтое полотно, и шелест его сходен был со змеиным еле слышным свистом в лесной заросли; и тихо звенели и скрежетали о медный прут медные легкие кольца.
Красавица стояла под окном, и смотрела на окно, и ждала. И сердце Юноши дрогнуло, и не мог он понять, страхом или восторгом томилось его сердце.
Черные косы Красавицы были распущены и падали на ее нагие плечи. Резкая тень лежала на земле рядом с нею. Освещенная сбоку луною, стояла она, подобная резкому, отчетливому видению. Та половина ее лица, которая была освещена луною, и ее плеча, ее руки были мертвенно-белы, как белый цвет ее туники. Складки белой туники были строги и темны. Темна была синева глаз Красавицы, загадочна была ее неподвижная улыбка. На странной успокоенности ее тела и ее одежды тускло поблескивала гладкая матовая пряжка, застегнутая на плече.
Заговорила тихо, и амброю, мускусом и туберозою благоухали ее слова, звенящие, как тонкие серебряные цепи у зажженного кадила.
— Милый Юноша, я люблю тебя. Повинуясь твоему призыву, я нарушила волю моего отца и пришла к тебе, чтобы сказать: бойся меня и моих чар, беги от этого Старого Города далеко, а меня оставь моей темной судьбе, меня, упоенную злым дыханием Анчара.
— О, прекрасная! — отвечал ей Юноша, — ты, которую я едва узнал и которая уже для меня дороже моей жизни и моей души, — зачем говоришь ты мне эти жестокие слова? Или ты не веришь моей любви, которая зажглась внезапно, но уже не погаснет?
— Я люблю тебя, — повторила Красавица, — и не хочу тебя погубить. Дыхание мое напитано ядом, и прекрасный Сад мой отравлен. Тебе первому я говорю это, потому что я люблю тебя. Торопись же оставить этот Город, беги от этого Сада с его тлетворною красотою, беги далеко и забудь обо мне.
Упоенный восторгом и печалью, сладчайшею всех земных радостей, Юноша воскликнул:
— Возлюбленная моя! Что же мне от тебя надо? Не одного ли мгновения жаждет моя душа! Сгореть в блаженном пламени восторга и любви и у сладчайших ног твоих умереть!
Легкий трепет пробежал по телу Красавицы, и вся она стала как ясная радость зари за белым туманом. Торжественным, широким движением подняла она свои белые нагие руки, и вся стремилась к Юноше, и говорила:
— О, возлюбленный мой! Так будет, как ты хочешь, и с тобою умереть мне сладко. Иди же ко мне, в мой страшный Сад, и я расскажу тебе мою темную повесть.
Опять, как утром, в руке ее блеснул бронзовый ключ на розовой ленте. Засмеялась, — резво, как мальчик, отбежала назад, мелькая на желтом песке дорожки белизною стройных ног, — размахнулась быстро и ловко, — и метнула ключ в окно. Юноша протянул руки и на лету схватил ключ.
— Милый, я жду, я жду! — повторяла Красавица.
* * *
Там, в отравленном Саду, под сенью таинственных растений, где неживая луна смешивала отраву своей тоски с ядовитым дыханием земных злых цветов, стояли они, Юноша и Красавица, упоенные восторгом и печалью. Они глядели в глаза друг другу, и Красавица голосом, звенящим, как хрупкий голос клавесина, говорила:
— Мои предки были рабами, — но и рабы жаждут свободы. Повинуясь повелению господина, один из моих предков совершил утомительно долгий путь, чтобы достигнуть пустыни, где растет Анчар. Он собрал ядовитую смолу Анчара и принес ее господину. Отравленные стрелы доставили господину немало побед. А мой предок, надышавшийся злых благоуханий, умер. Его вдова задумала отомстить злому роду победителей. Она воровала отравленные стрелы, мочила их в воде и, как многоценное вино, прятала эти настои в глубоких подвалах. Каплю настоя вливала она в бочку воды и этою водою поливала пустырь на краю Старого Города, где теперь наш дом и этот Сад. Потом брала каплю воды со дна этой бочки, вмешивала ее в хлеб и кормила им своего сына. И стала почва этого Сада отравленною, и сыну своему привила она яд. И с того времени весь род наш, из поколения в поколение, питался ядом. И ныне в жилах наших течет пламенеющая ядом кровь, и дыхание наше ароматно, но пагубно, и кто целует нас, тот умирает. И не слабеет сила нашего яда, пока живем мы в этом отравленном Саду, пока мы дышим ароматами этих чудовищных цветов. Семена их привезены издалека, — мой дед и мой отец были везде, где можно достать злые и вредные людям растения, — и здесь, в этой издавна отравленной почве, эти злые, эти пагубные цветы раскрыли всю свою гневную силу. Благоухая так сладко, так радостно, они, коварные, и росу, падающую с неба, претворяют в гибельную отраву.
Так говорила Красавица, и радостно звенел ее голос, и лицо ее пылало великим ликованием. Кончила рассказ и засмеялась тихо и невесело. Юноша склонился перед нею и молча целовал ее руки, вдыхая томительное благоухание мирры, алоэ и мускуса, веявшее от ее тела и от ее тонкой одежды. Красавица заговорила опять:
— Приходят ко мне потомки угнетателей, потому что чарует их моя злая, моя отравленная красота. Я улыбаюсь им, обреченным смерти, и каждого из них мне жаль, а иных я почти любила, но не отдавалась никогда никому. Только одним поцелуем дарила я каждого, — поцелуи мои были невинны, как поцелуи нежной сестры. И тот, кого я целовала, умирал.
Ужасом смерти и несказанным восторгом, одновременно двумя столь несходными страстями томилась душа смущенного Юноши. Но любовь, побеждающая все, преодолевающая даже и томления предсмертной тоски, победила и ныне. Восторженно простирая к нежной и страшной Красавице трепетные руки, воскликнул Юноша:
— Если в поцелуе твоем смерть, о, возлюбленная, дай мне упиться неисчислимостью смертей! Прильни ко мне, целуй меня, люби меня, обвей меня сладостным ароматом твоего отравленного дыхания, смерть за смертью вливай в мое тело и в мою душу, пока не разрушишь все, что было мною!
— Ты хочешь! Ты не боишься! — воскликнула Красавица.
Бледное в лучах неживой луны лицо Красавицы стало как матовый светоч, и были трепетны и сини молнии ее печальных и радостных глаз. Движением доверчивым, нежным, страстным она прильнула к Юноше, и ее нагие, стройные руки обвились вокруг его шеи.
— Мы умрем вместе! — шептала она. — Мы умрем вместе. Весь яд моего сердца пламенеет, и огненные струи стремятся по моим жилам, и я вся как объятый великим пламенем костер.
— Я пламенею! — шептал Юноша. — Я сгораю в твоих объятиях, и мы с тобою — два пламенные костра, пылающие великим восторгом отравленной любви.
Тускнела и падала печальная, неживая луна, — и черная ночь пришла и стала на страже. Тайну любви и поцелуев, ароматных и отравленных, осенила она мраком и тишиною. И слушала согласный стук двух замирающих сердец, и в чутком молчании сторожила последние легкие вздохи.
Так в отравленном Саду, надышавшись ароматами, которыми дышала Красавица, и упившись сладкою ее любовью, жалящею нежно и смертельно, умер прекрасный Юноша, — и на груди его умерла Красавица, сладким очарованиям ночи и любви предав свою отравленную, но благоухающую душу.
Претворившая воду в вино
Легенда
Молва предшествовала ему, пророку и учителю. Народ ждал чуда. Рассказы о чудесах передавались из уст в уста. Верили. Мудрые же молчали. Они знали, что народ не мог жить дальше без чуда.
Мал и беден был город, куда пришел учитель в утро того дня, когда молодая чета праздновала свою свадьбу. Друзья и знакомые сошлись на пир. Был зван и учитель, и его мать. Грустен был учитель, и не веселил его пиршественный шум. Печально смотрели на молодых его очи, потому что он знал, что дом их будет пуст.
Он знал, что дом их будет пуст…
Уста Невесты дрогнули сладкою негою, когда упал на них поцелуй Жениха…
Он знал, что дом их будет пуст… Куст алых роз начал осыпаться, пламенея усталым цветом у бедного порога. И, смеясь, шептал коварный искуситель:
— Срывающий розы, бойся острых шипов!
Молодые и прекрасные сидели новобрачные во главе стола, и земная веселость горела в их темных глазах. Тихо сказала невеста учителю, — он сидел рядом:
— Учитель, для моей радости сотвори на свадьбе моей хорошее и не очень страшное чудо.
— У своего сердца проси чудес, — отвечал ей учитель.
Не поняла. Ждала и молящими глазами, улыбаясь невинною улыбкою счастливицы, просила о чуде. И шептала учителю:
— Ведь мы знаем, что ты делал чудеса для других и даже, когда был маленьким, для своей забавы. Ты лепил птиц из глины, и они пели слаще и звонче соловья, и потом ты отпускал их на волю, и они улетали.
— Так, милая, — сказал ей учитель, — мгновенно чудесное явление. Вот была глина, во тьме и молчании лежащая, — и возникла красно поющая птица, — и уже нет ее. И твоя радость придет к тебе.
Опять ждала.
Длился пир, шумны были гости и веселы, и уже все вино было выпито. Требовали вина, и не было его. Мать учителя сказала ему:
— У них нет вина. Они бедные люди. Нехорошо будет, если осудят их гости и скажут: вот была свадьба, и вина не хватило.
Все взоры обратились к учителю. Он встал и вышел тихо на двор к водоему. Омытый дождем, влажен был мощеный камнем двор. Вода в водоеме была высока. Последние, редкие капли дождя рябили ее поверхность. Дымно-тусклый свет смоляного факела делал блестяще-багровыми каменные края водоема, а вода казалась тяжелою и черною.
Учитель молчал. Из дома доносились шумные крики и буйный смех упившихся, но все еще жаждущих гостей. Распорядитель пира стоял рядом с учителем у водоема, и там же были родители жениха и несколько девушек, подруг новобрачной. Девушки, из скромности, почти совсем не пили вина: они много плясали, и головы их кружились от их пляски и от чужого опьянения.
— Воды здесь много, — сказал распорядитель пира, — вина же у них нет. Но если ты, учитель, захочешь, эта вода обратится в вино.
— А если я не захочу захотеть? — спросил учитель.
Омрачилось лицо у распорядителя пира, и в глазах его было такое выражение, словно он услышал странные и ненужные слова. А юные девы, подруги новобрачной, восклицали ласково-звенящими голосами:
— Ты захочешь, учитель!
— Покажи нам чудо!
— Мы еще никогда не видели чуда.
— Обрати эту воду в самое хорошее вино.
И с жадным любопытством смотрели они на учителя и на воду и ждали нетерпеливо, захочет ли учитель показать им чудо и удастся ли оно. И они были похожи на курсисток, ждущих эксперимента. Учитель медленно и как бы с неохотою погрузил руку в воду. Тяжело заколебалась вода, и красные отсветы от колеблющегося пламени факельного побежали по ее поверхности. Казалось, что от руки учителя изливается сила, окрашивающая воду, претворяющая ее в вино.
Зарадовались девы и засмеялись весело. Распорядитель пира зачерпнул воду ковшом, отведал ее и сказал:
— Как была вода, так и осталась водою.
Девы смутились. Учитель спокойно сказал:
— Друг мой, вели слугам наполнить чаши этою водою и нести ее гостям. Пусть пьют.
Так и сделал распорядитель пира. Девы же не знали, что им думать, и не могли понять, удалось чудо или нет, или еще надо ждать его. Смущенные, вернулись в дом и ждали, что будет.
Сидящие за столом радостно закричали:
— Вот несут новое вино!
— Его много, — хватит пить до нового дня.
— Будем пить за новобрачных это вино, и за учителя.
И более трезвые тихо передавали друг другу весть, что учитель выходил к водоему, чтобы из воды сделать вино.
Пили. Иные хвалили и думали, что это вино лучше того, которое было в начале пира. Другие говорили, что вино слишком разбавлено водою. И еще иные смеялись и говорили, что это простая вода.
Учитель сидел и молчал.
И вот одна из юных дев налила в свой кубок этой воды, подошла к учителю и сказала:
— Учитель, скажи мне, вино это или вода?
— Смотри сама и пей, если хочешь, — ответил ей учитель.
— Что же мои глаза! и что же я! — говорила дева. — Ангелы стоят вокруг тебя и оберегают тебя, а я их не вижу. Звезды, кружась в небе, поют над тобою, а я не слышу их гимна. Силы четырех стихий стекаются к тебе и опять из тебя истекают дивным потоком, а я его не ощущаю. Что же я! Но скажи, и поверю.
Учитель сказал:
— Пей эту воду с невинною верою, и твое сердце, творящее чудеса, претворит ее в живое вино, крепче которого нет на свете.
Юная дева выпила чашу воды до дна, и великою радостью осветилось ее лицо. Пьяная водою, как вином, крепким и сладким, она плакала от восторга, и восклицала, хваля учителя и пророка, и плясала, кружась и ударяя в ладони. Упившиеся тупо смотрели на ее пляски и хлопали кое-как ладонями, не успевая за быстрым темпом ее кружений. И говорили они:
— Да, славное винцо. Учитель таки знает толк в вине.
Распорядитель пира и старые трезвые гости не понимали, чему радуется упившаяся этою простою водою девушка, и улыбались ее слезам и ее восклицаниям. Новобрачные, выпившие немало, дремали и посматривали на тяжелый темный занавес над входом в опочивальню: он, молодой муж, уже почти ничего не видел и не слышал, она, молодая жена, была в досаде на то, что учитель не сделал для нее чуда, и на то, что юная подруга ее веселится чему-то в час, когда вся веселость должна принадлежать только ей.
Она не видела чуда, и дом ее будет пуст…
Учитель тихо оставил пиршество и с матерью своею удалился в тот дом, где его приняли на ночь. Восторженная дева шла за ними, и пела, и восклицала, и плясала, и, забегая перед учителем, падала лицом на землю и целовала учителю ноги, и опять плясала, и смеялась, и плакала. Когда закрылась за учителем дверь дома, восторженная дева с воплями радости выбежала из города, и всю ночь лежала на мокрой и теплой траве у ручья, и плакала от несказанной радости. Сладко и звонко пел над нею соловей, и благоухали белые и алые розы, и звезды вели над нею свой вечный хоровод под музыку высоких сфер.
Утром вернулась в свой дом, навеки обрадованная и навеки опечаленная радостью и скорбью, широкими, как небесные высокие сферы. Пророчествовала об учителе и пророке, смеясь и плача. Говорили о ней:
— Безумная!
Жалели. Но и завидовали, — знали, что она видела великие тайны и дивные чудеса, что перед нею открывалось небо, что с нею говорил Бог.
Алчущий и жаждущий
«Иные верили и спаслись, иные не верили и погибли, — раньше же всех погиб сам очарователь».
Ночной гость, роман леди Эвелины Варвик.За несколько переходов от города Дамаска крестоносцы разделились на несколько отрядов. Они хотели достигнуть Дамаска с разных сторон, чтобы таким образом легче и безопаснее овладеть этим богатым, крепким городом. Кроме того, разделиться на отряды, идущие отдельно, побуждало их и то обстоятельство, что громадное полчище их на одном пути терпело недостаток в съестных припасах. Было также признано необходимым исследовать во всех направлениях местность, по которой, внезапно проявляясь и также внезапно исчезая, рыскали отважные и коварные сарацины.
Благочестивый Ромуальд из Турени и с ним шесть тысяч шестьсот рыцарей, монахов и смелых горожан из той же области и из других, близких к ней, отошли далее всех других на восток. Шли долго, — дольше, чем рассчитывали, — и все еще не видели конца своего пути.
Далеко вокруг простерлась бесплодная, безводная пустыня. Под ногами крестоносцев хрустел мелкий, плотный песок, тонким серым слоем покрывающий твердую, смешанную с известью, глину. Известковые и меловые скалы кое-где выставляли из-под песчаного слоя свои острые ребра. Ни травки вокруг. Безоблачное небо, яркое солнце.
Были съедены все взятые с собою запасы, была выпита вся вода, — и стали томиться люди голодом и жаждою.
— Хоть бы орла в небе подстрелить! — сказал рыцарь Гвидо, всматриваясь в пустынную синеву небес.
— Да нет в небе орлов, — сказал зоркий юноша Теобальд, — уже давно не видел я ни в небе, ни на земли окрест ничего живого.
И вдруг вскрикнул юный Теобальд:
— Смотрите, сарацин!
Далеко, еле видный среди серой пустыни, маячил на светлом коне сарацин в сером плаще. И вдруг опять вскрикнул юный Теобальд от внезапной боли: стрела пробила его горло — Теобальд упал, корчась в предсмертных судорогах.
Сарацин исчез, скрытый грядою далеких скал.
Юный Теобальд хрипел, умирая, — и лицо его, за немногие минуты перед тем прекрасное и веселое, стало серым, как безжизненные пески окрестной мертвой пустыни.
Крестоносцы оплакивали недолго смерть юного Теобальда, — нельзя было медлить в этой скудной, зловещей пустыне, надо было искать верного пути к вожделенному Дамаску, или хотя таких мест, где есть вода и пища, хотя бы и ржавая вода болот, хотя бы и скудная пища из мяса зверей и птиц, подстреленных на бегу и на лету, или из небольшой на каждого горсти риса или пшена.
Юного Теобальда зарыли в неприветливой почве чахлой пустыни, монахи торопливо отпели над ним погребальные песни, — и дальше наугад пошли благочестивый Ромуальд из Турени и бывшие с ним.
Дальше, от могилы юного Теобальда. Но куда идти? Бесследная лежала окрест пустыня, легкою покрытая по краям мглою, вся безжизненная и серая, — и ничто не возникало в её немом просторе: ни движение, ни звук. Только порою, вдруг являясь из-за серой скалы, маячил далеко быстрый на легком кони сарацин, выпускал стрелу, и скрывался так же быстро, недостижимый для рыцарских стрел, зыбкий, лукавый, как бы порожденный одним из тех злобных демонов, которые всегда обитают в пустынных местах, подстерегая неосторожных или слишком отважных путников. И каждый раз стрела сарацина, пущенная с дьявольскою меткостью, поражала насмерть кого-нибудь из бывших с благочестивым Ромуальдом из Турени.
Шли долго, изнемогая от усталости, голода и жажды. Когда останавливались где-нибудь у гряды неприветливых скал, нерадостен был отдых, и не восстановлял утомленных сил.
Стали путники роптать на благочестивого Ромуальда. Говорили ему с горькою укоризною:
— Что же твое благочестие и твои воинские знания? Сутану ты носишь, и доспехи воина одновременно, рыцарь и монах, книгам и ратному делу обучавшийся много, — что же все это, если завел ты нас в безводную пустыню, где скоро уже дьяволы порадуются погибели многих, подъявших подвиг освобождения великой святыни!
Уговаривал и утешал их Ромуальд, как мог, но ропот возрастал.
Когда уже совсем истомлены были голодом и жаждою, злой демон той пустыни стал мучить и дразнить их лживыми видениями. Вдруг возникали перед путниками невдалеке пальмовые рощи, и зеленая, сочная виднелась трава, и разливалась весело зыбкою, серебрящеюся на солнце полосою радостная вода, и даже казалось путникам, что слышно щебетанье птиц, снующих между зелеными пальмами. С воплями восторга, с молитвенными славословиями бежали путники к зеленеющей роще, — и вдруг исчезало очаровавшее их видение. Там, где только что радовались их очи блеску солнца в воде, и радовались ряби прохладных её струй по ветру, опять только сухой, мелкий песок рассыпался под их ногами, взвеянный в воздух тяжестью их бега, — и легкая песочная пыль, пахнувшая горько и сухо, делала трудным их горячее дыхание, и траурною пеленою печали заволакивала все окрест.
Другой раз путники увидели город. За серою мглою блестела белизна стен и позолота на возвышенных кровлях и на узких башнях, тусклою свинцового синевою мерцала ширь полноводной реки, и медленно скользили по ней тяжелые барки и многовесельные, узкие, длинные галеры. Перед крепкими городскими стенами пестротою ярких красок переливалось суетливое торжище базара. Казалось путникам, что слышат они смутный многоголосый гул гортанного, трескучего говора сарацин, сирийцев и евреев.
— Дамаск, Дамаск! — радостно восклицали путники.
И бросались они вперед, забывая усталость, голод и жажду. А иные при этом в изнеможении падали побледневшим лицом в сухой, хрупкий песок, и умирали, полные восторга, как бы уже достигнувшие вожделенного города, и насладившиеся всеми его обильными утехами и радостями.
Но опять исчезало в пыльной мгле очаровавшее измученных путников явление, — и снова мрачное уныние овладевало их сердцами.
И уже изнемогали слабые, и многие отставали в пути, и были многие убиты, как из числа отстававших, так и из числа тех, которые еще шли за Ромуальдом из Турени. И умирали многие от усталости, голода и жажды. Утром, когда багровым дымом из-за мглистых скал медленно подымалось солнце, и когда еще гора небес была тускло-голубою, собрались около благочестивого Ромуальда спутники его, и было их шесть тысяч триста. Роптали, и говорили ему:
— Завел нас в пустыню, где мы умираем.
— Мы голодны.
— Мы жаждем.
И говорили ему монахи:
— Все считают тебя благочестивым, но за чей же грех карает нас Господь? Вот, молились бы мы, но ослабели руки наши, и не подымаются к небу, а память наша помутилась, разроняла по пустынным пескам слова святых молитв. В пустыню, где господствуют демоны, завел ты нас, отважный Ромуальд.
И рыцари говорили ему:
— Победитель на многих турнирах, вождь искусный, ты вел нас, куда хотел, и мы шли за тобою, и верили в тебя. Но вот в пустыню завел ты нас, где господствуют демоны и сарацины. Таится враждебная сила, не смеет вступить с нами в открытый бой, — бесславно погубят нас коварные враги наши, демоны и сарацины. Что же твое искусство и твоя доблесть, благочестивый Ромуальд?
И возопило к нему все множество собравшихся:
— Накорми нас!
— Напои нас!
— Покажи нам дорогу!
Хриплы были голоса вопиющих, и бессильная была в них угроза, и жалкая, изнемогающая мольба.
Поник головою благочестивый Ромуальд из Турени, и думал долго. Затихли голоса его спутников, и трепетно ждало все множество их, что скажет им вождь.
И сказал Ромуальд:
— Что же вы от меня хотите? Что же я могу? Не из этого ли песка, попираемого ногами вашими, сотворю я вам пшено?
Концом своего посоха он быстро провел по песку, и серовато-белая поднялась пыль, и покатились, шелестя сухо, легкие песчинки.
В толпе тогда раздались радостные восклицания:
— Из песку сотворил Ромуальд нам пшено!
— Посрамлены Ромуальдом демоны пустыни!
Бросились люди на пересыпающиеся под их ногами песчинки, и проглатывали их, как пшено. Так обмануло их нестерпимое томление голода, и казалось им, что они насыщаются.
Другие же видели в пустыне только песок и камни, и угрюмо молчали, но не унимали тех, кто принимал песок за пшено, и не спорили с ними. И опять приступили к Ромуальду, и говорили ему:
— Нас томит жажда, — как дикий коршун, раздирает она внутренности наши. Скорей дай нам воды, или погибнем мы все до одного.
И сказал Ромуальд:
— Где же я найду для вас воды? Окружают нас только голые скалы. Не ударом ли посоха по камню изведу я для вас источник воды? Но вот, видите, скала не источает воды.
И ударил по скале концом своего посоха. Тогда люди, обманувшие свой голод небывалым пшеном, закричали громко:
— Из камня извел Ромуальд ударом своего посоха источник холодной воды!
— Снова посрамлены Ромуальдом коварные джины пустыни!
Толпясь и толкаясь, приникли к скале, сухой и серой, — и опять обманули их томления жажды, и казалось им, что они пьют воду. А другие стояли поодаль, и знали, что нет воды, но не спорили с теми, кто небывалою освежал запекшиеся уста водою.
И потом обманувшие свой голод и свою жажду приступили снова к Ромуальду, и говорили ему:
— Теперь мы готовы идти к Дамаску, — веди нас, указывай нам дорогу.
Опечаленный сказал им Ромуальд:
— Я не знаю дороги. Или вы хотите, чтобы посох мой сам показывал вам путь, которого я не знаю?
Дрожащею от слабости рукою бросил он прочь от себя свой посох, а сам сел под скалою, усталые закрыв глаза.
И спутники его радостно говорили между собою:
— Посох благочестивого Ромуальда из Турени укажет нам дорогу.
— Снова посрамлены будут Ромуальдом злые демоны пустыни.
Юный рыцарь Бертран, искусный в разведывании дорог, чуткий к далеким звукам, взял Ромуальдов посох, и пошел впереди путников, — тех, которые желанием чуда обманули свой голод и свою жажду. Скоро из мглистой дали сверкнули им в глаза золоченые иглы дамасских минаретов, — и под стенами этого славного города соединились они с другими отрядами крестоносцев.
А благочестивый Ромуальд из Турени и с ним три тысячи триста остались в пустыне, где господствуют демоны и сарацины. И умерли Ромуальд и с ним три тысячи триста от голода и жажды. Ночью на их трупы пришли шакалы, привлеченные запахом мертвых тел. Яркое солнце пустыни потом выбелило кости погибших. Потом демоны пустыни, вея сухими ветрами, долго играли грудою костей, — и стучала кость о кость, и песок пересыпался вокруг них и над ними.
Снегурочка
I
Просят дети:
— Снегурочка, побудь с нами.
Говорит Снегурочка:
— Хорошо. Я побуду.
Побыла с ними. Тает.
Спрашивают дети:
— Снегурочка, ты таешь?
Отвечает Снегурочка:
— Таю.
Плачут дети.
— Милая, краткое время побыла ты с нами, — что же с тобою?
Тихо говорит Снегурочка:
— Позвали, — пришла. И умираю.
Плачут дети. Говорит добрый:
— И уж нет Снегурочки? Только слезы.
Злой говорит:
— Лужа на полу, — нет и не было Снегурочки.
И говорит нам тот, кто знает:
— Тает Снегурочка у наших очагов, под кровлею нашего семейного дома. Там, на высокой горе, где только чистое веет и холодное дыхание свободы, живет она, белоснежная.
Дети просятся:
— Пойдем к ней, туда, на высокую гору.
Улыбается мать и плачет.
II
Опять, опять мы были дети!
Ждали елки, праздника, радости, подарков, снега, огоньков, коньков, салазок. Ждали, сверкая глазами. Ждали.
Нас было двое: мальчик и девочка. Мальчика звали Шуркою, а девочку — Нюркою.
Шурка и Нюрка были маленькие оба, красивые, румяные, всегда веселые, — всегда, когда не плакали; а плакали они не часто, только когда уж очень надо было поплакать. Были они лицом в мать.
Хотя их мать звали просто-напросто Анною Ивановною, но она была мечтательная и нежная в душе, а по убеждениям была феминистка. Кротко и твердо верила она, что женщины не плоше мужчин способны посещать университет и ходить на службу во всякий департамент.
С дамами безыдейными Анна Ивановна не зналась. Ее подруги, феминистки, считали ее умницею; другие ее подруги, пролетарки, смотрели на нее, как на кислую дурочку. Но те и другие любили ее.
Ее муж, Николай Алексеевич Кушалков, был учитель гимназии. Очень аккуратный. Верил только в то, что знал и видел. К остальному был равнодушен. Считал себя добрым, потому что никогда не подсиживал никого из сослуживцев. Отлично играл в винт.
Ученики побаивались Николая Алексеевича, потому что он был необыкновенно систематичен и последователен. Поэтому, хотя он преподавал русский язык, гимназисты называли его немчурою (немецкого учителя называли короче — немец).
Приближались святки. Дни были морозны и снежны. Шурочка и Нюрочка бегали в саду около их дома, на окраине большого города. Дорожки были расчищены, а там, где летом трава и кусты, снег лежал высокий.
Мать из окна в гостиной видела иногда из-за высокого снега только красные, пушистые шапочки на детях. Смотрела на детей, улыбалась, любовалась их раскрасневшимися лицами, прислушивалась к звонким взрывам их смеха и думала нежно и радостно: «Какие у меня красивые, милые дети!»
Солнце, красное солнце хорошего зимнего дня светило ярко и весело, радуясь недолгому своему торжеству. Оно поднялось невысоко, — и не подняться ему выше, — стояло близко к земле и к людям и казалось ласковым, добрым и светло-задумчивым. Розовые улыбки его лежали, тихие, не слишком веселые, на снегу по земле, на пушистых от снега ветках, на заваленных мягким снегом кровлях. От этого казалось, что весь снег улыбается и радуется. И такие забавные с кровли свешивались розоватые на солнце ледяные сосульки.
Забавный мир детской игры, маленький сад, был огорожен с улицы невысоким досчатым забором. Слышались за этим забором порою шаги прохожих по захолодавшим мосткам, но дети не слушали их, — своя была у них игра.
Им было тепло, — горячая кровь грела их тела, и мама одела их заботливо, — отороченные мехом курточки, меховые рукавички, сапожки на меху, шапочки из мягкого, как пух, меха.
Бегали долго, крича как стрижи. Но одним беганьем весел не будешь. Играть!
И придумали игру.
III
Сперва недолго поиграли в снежки. Потом вдруг сказала Нюрочка:
— Я знаешь что, Шурка? Знаешь, что мы сделаем?
Шурочка спросил:
— Ну что?
— Мы сделаем Снегурочку, — сказала Нюрка, — понимаешь, из снега. Скатаем и сделаем.
Шурочка опять спросил:
— Снежную бабу?
— Нет, нет, зачем бабу! — кричала Нюрочка, — мы сделаем маленькую девочку, такую маленькую, как моя большая кукла, знаешь, Лизавета Степановна. Мы назовем ее Снегурочкой, и она будет играть с нами.
Шурка спросил недоверчиво:
— Будет? А как же она будет бегать?
— А мы ей ноги сделаем, — сказала Нюрка.
— Да ведь она из снега! — говорил Шурка.
— А день-то сегодня какой? — спросила Нюрка.
— Какой? — спросил Шурка.
— Сегодня сочельник, — объяснила Нюрка. — Для такого дня она вдруг побежит с нами и будет играть. Вот увидишь.
— А и правда, — сказал Шурка, — сегодня сочельник.
И вдруг поверил. Но все еще спрашивал:
— А на другой день Снегурочка останется?
Нюрка ответила решительно:
— Конечно, останется на всю зиму и будет бегать и играть с нами.
— А весной? — спросил Шурочка.
Нюрочка призадумалась. Долго смотрела на брата, приоткрыв недоуменно ротик. Вдруг засмеялась и сказала весело, — догадалась:
— Ну что ж весной! Весной Снегурочка уйдет на высокую гору и будет жить там, где вечный снег лежит, все лето будет жить там, а зимой опять к нам спустится.
И зарадовались, засмеялись веселые дети.
Шурочка радостно кричал:
— Всю зиму будем бегать с нею! И маме ее покажем. Мама будет рада?
Нюрочка сказала серьезно:
— Еще бы! Только не надо будет водить ее в дом, а то она в тепле растает.
Шурка опять спросил:
— А где же ей спать?
Он был мальчик практичный и рассудительный, весь в отца. Нюрочка решила:
— Я спать она будет в беседке.
IV
Дети принялись за дело. Притихли.
Мать даже обеспокоилась, — что такое, не слышно криков и смеха. Тревожно глянула в окно, — да нет, ничего, ребятишки снежную бабу лепят. Успокоилась. Опять села на диван, продолжала читать книжку Эллен-Кей, — очень хорошую книжку.
И уж как они только ухитрились, — уж не помогал ли им какой-нибудь добрый или злой дух, искусный в созидании тел, особенно там, где замысел жадно ищет возможности воплощения? — но Снегурочка под их быстрыми пальцами вырастала, как живая. И все черты, самые тонкие, возникали точно, словно лепилась из снега живая человекоподобная душа. Нежные снежные комья лепились один к другому в сплошное нежное снежное тело.
Дочитала главу Анна Ивановна, посмотрела в окно, — посреди площадки перед окнами, где летом цвел алый шиповник, стояла почти совсем готовая маленькая снежная кукла.
«Ловкие у меня детишки, — подумала радостно Анна Ивановна, — кукла выходит у них прехорошенькая».
И ей было приятно вспомнить, что те новые приемы воспитания и обучения, которых она придерживалась, дают превосходные результаты.
«Искусство в жизни ребенка играет, несомненно, важную роль, и родители, — думала Анна Ивановна, — должны это помнить и всячески развивать детскую самодеятельность».
V
В саду Нюрка говорила Шурке:
— Как хорошо, что мы взяли самый чистый снег! Вот она какая славная выходит!
Шурочка говорил рассудительно:
— Еще бы! Ведь этот снег прямо с неба упал; он чистый.
С восторгом говорила Нюрочка:
— Ах, какая она хорошенькая!
Шурочка сказал:
— У нее мордочка похожа на твою рожицу.
Нюрочка весело засмеялась. Сказала скромно:
— На маму похожа наша Снегурочка.
— И ты похожа на маму, — сказал Шурочка.
— И ты, — сказала Нюрочка.
Шурочка принахмурился.
— Я больше на папу похож, — объявил он.
Засмеялась Нюрочка, говорит:
— Выдумал! Мы оба в маму. И Снегурочка у нас в маму.
Смотрели, любовались.
— Знаешь, — сказала Нюрочка, — уж очень она мягкая. Потряси-ка эту яблоню, — вот те ледышки-висюлечки свалятся, мы из них сделаем ей ребрышки. А из тех, что посветлей, глаза.
Сказано — сделано. Вот у Снегурочки твердые ребрышки. Вот у Снегурочки ясные глазки. А вот у Снегурочки и белое платьице. А вот у Снегурочки и белые башмачки. А вот у Снегурочки и белая шапочка.
Готова Снегурочка!
Подбежали к окну, в стекло стукнули, спрашивают:
— Мама, хороша наша Снегурочка?
Мама отвечает из форточки:
— Хороша. Только у вас руки зазябли, идите погрейтесь.
Дети засмеялись. Но мама зовет, надо идти.
— Я как же Снегурочка? — спросил Шурка.
— А ей еще рано, — сказала Нюрка, — она еще постоит, подумает. Мы придем к ней вечером, позовем ее, поиграем с нею.
Побежали дети домой. Говорили маме:
— Мама, сегодня вечером у тебя будет новая дочка Снегурочка.
Смеялась мама, Анна Ивановна. Улыбался папа, Николай Алексеевич: в сочельник он не ходил в гимназию; он сидел дома и читал последнюю книжку «Русского богатства».
VI
Свечерело и вызвездило. Дети опять убежали в сад. Снегурочка стояла. Улыбалась. Ждала их.
Дети подошли к ней тихо.
— Надо ее позвать! — сказал Шурочка.
Помолчали. Вдруг стали робкими.
— Поцелуй ее! — сказал Шурочка.
— Сначала ты, — сказала Нюрочка.
Шурка посмотрел на сестру сердито. Сказал:
— Вообразила, что я боюсь. А нисколечки.
Подошел к Снегурочке и поцеловал ее прямо в бледные, красивые губы.
Оттого ли, что это был сочельник, ночь святая и таинственная, — оттого ли, что крепко верили дети в то, что они сами придумали, — оттого ли, что чародейная сказка обвеяла тихий сад тайными очарованиями и влила в излепленный детскими руками мягкий и нежный снег непреклонную волю к жизни, творимой по творческой свободной и радостной воле, — но вот небывалое совершилось, исполнилось детское неразумное желание, — ожила белая Снегурочка и ответила Шурке нежным, хотя и очень холодным поцелуем.
Тихо сказал Шурка:
— Здравствуй, Снегурочка.
Ответила Снегурочка:
— Здравствуй.
Пошевелила тоненькими плечиками, вздохнула легонечко и сама подошла к Нюрке. И Нюрочка поцеловала ее прямо в губы.
— О, какая ты холодная! — сказала Нюрочка.
Снегурочка тихо улыбалась. Сказала:
— На то же я и Снегурка.
Шурочка спросил:
— Хочешь с нами играть, Снегурочка?
Снегурочка сказала спокойно:
— Ладно, давайте играть.
И побежали все трое по дорожкам сада. Играли долго. И всем трем было весело, как никогда раньше.
VII
Накрыли на стол вечером, — пить чай. Дети заигрались в саду. Мама позвала их, — не шли. Только веселые слышались в саду голоса. Тогда Николай Алексеевич сказал:
— Пойду-ка я сам, возьму да и приведу их.
— Надень пальто, — сказала Анна Ивановна.
— Ну, я в одну минуту, — сказал Николай Алексеевич, — разве только шарф.
Укутал шею шарфом, надел теплую меховую шапку, всунул ноги в глубокие калоши и вышел в сад. С крыльца крикнул:
— Ребятишки, где вы? Чай пить, живо!
С веселым смехом бежали дети по дорожке. Разбежались, промахали мимо, и было их трое.
Николай Алексеевич сошел в сад. Крикнул:
— Дети, это вы с кем играете?
Дети повернули обратно; подбежали к нему. Николай Алексеевич увидел прелестную маленькую девочку, беленькую, с легким румянцем на щеках, — и удивился ее легкому, не по сезону костюму: юбочка легонькая и коротенькая, башмаки легкие, чулочки коротенькие, коленочки голенькие.
Николай Алексеевич спросил:
— Откуда эта девочка? Дети, ведите ее скорее домой, вы ее совсем заморозите.
Дети, перебивая друг друга, звонкими радостными голосами кричали:
— Это — Снегурочка.
— Это — наша Снегурочка, папа.
— Наша сестреночка.
— Мы ее сами сделали.
— Из снега.
— Из самого чистого снега.
— Она будет играть с нами.
— Всю зиму!
— А весной уйдет на высокую гору!
Николай Алексеевич слушал их с недоумением и досадою. Ворчал:
— Глупые фантазии.
Сказал:
— Ну, живо в комнаты. Ты совсем озябла, малюточка? Да ты откуда?
Белая девочка сказала:
— Я — Снегурка. Я из снега.
Нетерпеливо сказал Николай Алексеевич:
— Пойдемте же греться.
Взял Снегурочку за руку.
— Совсем заморозили вашу гостью, — говорил он, — и откуда вы ее взяли? Руки у нее, как лед.
Повел Снегурочку.
Тихо сказала Снегурочка, упираясь:
— Мне туда нельзя.
И дети кричали:
— Папа, оставь ее здесь.
— Она переночует в беседке.
— В комнате она растает.
Но Николай Алексеевич не слушал детей. Он взял холодную Снегурочку на руки и внес в комнаты.
VIII
— Смотри-ка сюда, Нюточка! — крикнул Николай Алексеевич жене, входя в столовую, — какая-то девочка в одном платьице. Наши сорванцы совсем ее заморозили.
Анна Ивановна воскликнула:
— Боже мой! Девочка! Вся холодная. Скорее к камину.
Дети в ужасе кричали:
— Мамочка! Папочка! Что вы делаете! Снегурочка растает! Это — наша Снегурочка.
Но взрослые всегда воображают, что они все знают лучше. Посадили Снегурочку в широкое мягкое кресло перед камином, где весело и жарко пылали дрова.
Николай Алексеевич спрашивал:
— У нас есть гусиное сало?
— Нет, — сказала Анна Ивановна.
— Я схожу в аптеку, — сказал Николай Алексеевич, — надо потереть ей нос и уши, они совсем побелели от мороза. А ты, Нюточка, закутай ее пока потеплее.
Ушел. Анна Ивановна отправилась в свою спальню за теплым чем-нибудь, — закутать Снегурочку.
Шурка и Нюрка стояли, и растерянно глядели на Снегурочку. А Снегурочка?
Что ж, Снегурочке понравилось. Она сидела на кресле, глядела в огонь, и улыбалась, и таяла.
Нюрка кричала:
— Снегурочка, Снегурочка! Спрыгни с кресла, мы отворим тебе двери, беги скорее на мороз!
Тихонько говорила Снегурочка:
— Я таю. Уже не могу я уйти отсюда, я вся истаяла, я умираю.
Текли потоки воды по полу. В глубоком кресле, быстро тая, оседала маленьким снежным комочком белая, нежная Снегурочка. И где ее ручки? Растаяли. И где ее ножки? Растаяли. — Слабый еще раз раздался нежный голос:
— Я умираю!
И уже только груда тающего снега лежала на кресле.
IX
Заплакали ребятишки, — громкий подняли вой. Пришла Анна Ивановна с теплым одеялом. Спросила:
— Где же девочка?
Плача говорили дети:
— Растаяла наша Снегурочка.
Вернулся Николай Алексеевич с гусиным салом. Спросил:
— Где же девочка?
Плача говорили дети:
— Растаяла.
Сердито говорил Николай Алексеевич:
— Зачем вы ее отпустили!
Уверяли дети:
— Она сама растаяла.
Большие и малые смотрели на остатки талого снега и на потоки воды, и не понимали друг друга, и упрекали друг друга:
— Зачем посадил к огню Снегурочку?
— Зачем отпустили девочку, не согревши?
— Злой папа, погубил нашу Снегурочку!
— Глупые дети, что вы говорите нелепые сказки!
— Растаяла Снегурочка!
— Снегу-то сколько натащили!
Плакали маленькие, а большие то сердились, то смеялись.
И не было Снегурочки.
Книга стремлений
Белая березка
I
— Миленькая моя! Беленькая моя!
На белую березку залюбовался, сидит на скамеечке в своем саду, шепчет, — сам маленький, тоненький, бледный мальчик-подросток. В светлой коломянковой блузе.
Слегка согнулся. Руки чуть-чуть загорелые, на колени положил, — и лежат они, дремлют.
Подошла сзади тихохонько девочка, и вдруг засмеялась, звонко так, — на румяном лице смех разливается, и в карих глазах нет ничего иного, кроме того, что на лице. Присела на скамейке рядом с братом, сказала:
— На березку смотрит, сам о Любочке сладко мечтает. Дурак ты, Сережка! У неё — жених.
Сережа смотрел на сестру с выражением неопределенным и смутным, — словно прислушивался к тому, что она говорит, и не совсем понимал её слова. Вздохнул. Протянул тихонько:
— Придумала тоже! Что мне Любка твоя! Очень мне интересно! Приблизительно в три раза красивее самой грациозной из болотных жаб.
С громким смехом отвечала девочка:
— Фу, дурак! Разве о девицах так можно?
Сережа спокойно посмотрел на нее, и сказал:
— Ты, Зинка, ничего не понимаешь, а ругаться научилась. Если ты меня еще раз дураком назовешь, я тебя опять в воду окуну.
Хмурясь полусердито, полупритворно, возразила Зина:
— Кто кого еще окунет!
Встала, тряхнула черными косичками, и отошла. Небрежно бросила брату:
— И разговаривать с тобою не желаю.
Когда она совсем ушла, и уже не стало слышно по дорожкам жалобного скрипа песчинок под её каблучками, Сережа подошел к березке, прижался к ней ласково, и поцеловал её тонкую, розовато-белую кору. Легкое трепетание пробежало по тонкому телу березы, зашелестели веселые, невинные листочки нарядного деревца, и туманящий голову запах, сладкий запах северной белой березы нежно обвеял мальчика. Сережа тихо обнял ствол березы, и прижался порозовевшею щекою к легко щекочущим кожу лица гладким пластинкам её коры.
II
Была ночь, северная, легкая, прозрачная, призрачная ночь. Барышни сидели в саду. Никуда не пошли, — устали за день. И смеялись. Шум их голосов неприятен был Сереже. Он ушел в свою тесную каморку наверху, сел у окна, и глядел на розоватое, странное, милое небо, такое пустое и такое значительное, и ждал. Когда уйдут.
Дождался. Все затихло. Мальчик спустился в сад, и подошел к своей березке.
Дача стояла на высоком берегу. Внизу шумела река, переливаясь по камням. Все шумела, тихо, упрямо, однозвучно. Шумела, плескалась. Туманом прикрылась, и журчала, шурша о камни, о берег.
Тоненькая, тоненькая, как хворостинка, с зеленоватым легким телом и с зелеными светлыми глазами, поднялась из воды русалка. Сквозь тонкое её тело предметы слабо просвечивали, и глаза её смотрели любопытно и странно, — неживые, не наши очи нежити, зачем-то таящейся около.
И тонкая, с зеленовато-белым телом, березка тихонько вздрагивала и лепетала что-то своими клейкими, сладко-душистыми листочками. Лепетала, шептала. Вздрагивала.
Из-за кустов пробиралась нездешняя, звала:
— Ко мне иди лучше. Со мною веселее. Она молчит. Я тебе сказок наскажу.
Сережа сказал сердито:
— Пошла! Нужны мне твои сказки! Сказки Гауфа читала? Нет? И Афанасьева не знаешь? То-то! Уходи.
Стеклянным, тонким, звонким засмеялась смехом… Засмеялась, ушла, легкая, прозрачная, призрачная. Где-то в камышах долго лепетала что-то быстрое, неразборчивое… Не то смеялась, не то плакала, — и жаловалась, и смеялась. Русалочий смех — тонки слезы. Русалочий смех. Лепет воды по каменьям.
И о чем лепечет? И о чем смеется? И на что жалуется?
III
Жарко было каждый день. Еще начало лета, и еще зеленая трава, и светленькая листва у березки, а уже торопит, торопит знойное лето.
Надо что-то сделать, поскорее, пока же пожелтели клейкие листочки на белой березыньке. Белая, кудрявая, милая березка!
Сережа на скамеечку под березкою лег, — и стоит над ним березка, стоит, качается по ветру, тихохонько свежими листочками шелестит. Так весело и так томно…
А вот подошла кузина Лиза, веселая, румянощекая, черноглазая, черноволосая красавица, недавно овдовевшая, но уже опять веселая, обворожительная по-прежнему. Подошла, стала над Сережею, запахла противными, сильными, нескладными духами, так не идущими к зеленому саду и нежно-пахучим, клейким листочкам на веточках у белой березке, — и принялась дразнить Сережу. Такая уж у неё привычка.
Позвала тихонько и даже ласково, как-будто с умильными пришла к нему словами:
— Сереженька!
А сама таит, хитрая, злые усмешечки, лукавые насмешечки.
Сережа отвечает сердито:
— Ну, чего тебе?
Уже он предчувствует, что не с добром Лиза пришла. И когда же с добром приходит она, румяная и дебелая?
«Бабища!» — сердито бранится про себя Сережа.
Нахмурился сердито, лег на живот, и ногами болтает преувеличенно развязно.
Ласково спрашивает Лиза:
— Милый! лежишь, встать не можешь?
— Что такое? — не понимая, но уже досадуя, спрашивает Сережа.
И спрашивает Лиза:
— Лежишь под березкою, о Зиночке мечтаешь, что же ты к ней не пойдешь?
Сережа ворчит:
— Глупости!
— Может быть, у тебя животик разболелся? — опять спрашивает Лиза.
И тихонько смеется.
— Глупые глупости. — сердито отвечает Сережа.
— Ты Зиночкиною помадою объелся? — очень ласково спрашивает Лиза. И гладит его по голове рукою мягкою и нежною, но слишком сильною.
Сережа кричит сердито:
— Какие глупые глупости! У Зиночки и помады нет, она не помадится.
— А ты откуда знаешь? — спрашивает Лиза, и смеется. — Ты у неё шарил? Но это нехорошо! И стянул ленточку на память. Где она?
Полезла в Сережин карман.
— Не в кармане ли носишь?
Сережа вскакивает, и проворно убегает. Отбежав на приличное расстояние, он останавливается и звенящим от обиды голосом кричит:
— Вдова очень нахальная!
Лиза смеется весело и уходит к большим, таким же грубым и злым, как и она. Для неё было только маленькое развлечение, и о нем сейчас же успела забыть, — а Сереже она испортила весь день.
Весь день настойчиво вспоминалась противная Зиночкина помада, которой и не было никогда у Зиночки, но от которой все-таки у Сережи весь день был скверный вкус на языке, точно он и в самом деле объелся этою небывалою помадою.
Все очарования, и высокие, и низкие, из одной и той же темной восходят области, из зыбкой мглы небытия.
IV
Опять ночь. Влажная, тихая, говорящая миллионами молчаний, роями неисчислимых тишин. Ночь.
Стали так спокойно все деревья в саду, и заслушались. Заслушались. Замечтались.
И она одна шептала им. Прошептала тихонько, и тоже замолчала…
Слушали, что тихо говорил им задумчивый, бледный мальчик.
Тихий, теплый туман надвигался с полей, — постоять, помолчать, послушать, помечтать. В белом и тихом забыться молчании.
Тихим шопотом говорил Сережа:
— Люблю тебя, милая, белая березка. Только тебя люблю.
Чей-то голос, тихий и печальный, как легкий вздох, как сладкий звон свирели, спросил:
— За что?
И отвечая говорил Сережа:
— Люблю тебя за то, что ты — весенняя, что ты молчишь, не смеешься, не дразнишь. За то, что ты выросла мне на радость. На сладкую вешнюю радость.
Печальным шопотом спросила тихая, таящаяся:
— Только на радость?
— Не знаю, — говорил Сережа. — Ты выросла, стоишь, и молчишь. И ничего не хочешь, и никого не ждешь, никого не зовешь. Не хочешь, — и хочешь. И хочешь так сладко, и так верно. И что ты хочешь, то и сбудется. Веточки раскрылись, в простор потянулись, листочками покрылись. Вся белая, вся тихая, березынька моя милая. Ты меня приласкаешь, ты меня поцелуешь, ты мне на радость.
— На радость, а не на муку? — печально, спросила опять близкая, таящаяся.
— А если на муку, — тихо говорил Сережа, — пусть и так. Вот приникну к тебе, вот будет мне и тебе сладко и нежно.
— Сладко и нежно, — шепнула березка так тихо, так ласково. — Ты хочешь? ты можешь? — тихо шептала она.
Прильнул к ней Сережа. Обнял руками её тонкий ствол, прижался головой к её нежной коре, замер в сладком восторге.
Желания томили, и была тоска и печаль. Кто-то плакал так близко и так грустно, — прозрачный и хрупкий звенел плач ревнивой русалки с зеленою пеною кос, и из-за зеленых ресниц, затаившихся в её очах, падали холодные слезы.
Сад был весь полон туманною вешнею печалью. Бессильны были белые пришлецы из влажных долин, потерявшие свои древние личины, и новых ликов еще не нашедшие. В бесформенный туман сливаясь, стояли они, и томились, и вздыхали холодными вздохами ночной бессильной тоски.
Неживой и печальный лик поднялся высоко, — но бессильно было и его очарование.
Безнадежность и любовь…
Колыхался холодный туман, и неживою тоскою томились деревья в саду над рекою, в тумане, под луною холодною, ворожащею, но бессильною.
Две жизни сплелись и трепетали, и пылали пламенем любви и восторга, — и вкушали они горькую безнадежность ласк.
Такие же две безнадежно далекие одна от другой, как и всякие две души в их жизненном союзе, — вот соединили они свои трепеты и свои устремления, отдали друг другу все, что было у той и у другой, — и изнемогали они в бессильном дрожании двух тонких, трепетных, холодеющих тел.
Таящаяся, не показывающая никогда своего земного лица людям подошла близко, и ждала, — и веяло от неё на них очарованием, сильнейшим всех очарований и восторгов жизни.
И спросила она:
— Дитя неразумное, чего же ты хочешь?
Истекая сладким соком, шептала белая березка:
— Только мгновения! Темен быт, и тяжки оковы существования, — о, дай мне только одно пламенное мгновение.
Мгновенною молниею восторга вспыхнуло все тонкое тело белой березки. И с воплем безумного счастья упали на землю, умирая, два тонкие, два трепетно холодеющие тела.
Сон утешающий
I
Сережа умирал.
Была страстная неделя. В доме, как всегда, готовились к празднику, радостному для детей и приятному для взрослых, — красили яйца кошенилью, распускали в кипятке шафран для кулича, месили творог и сметану для пасхи.
Пахло ванилью и кардамоном.
Паркет был натерт с мастикою, пыль и грязь отовсюду были заботливо убраны, окна вымыты. Прислуга сбилась с ног. Барышни, Сережины сестры, мечтали о приятных поцелуях, и морщились при мысли о том, что придется целоваться и с противными.
А Сережа лежал в своей комнате, просторной, нарочно пустынной, чтобы мебель не отнимала воздуха, в комнате, где слащаво пахло салолом, и умирал.
Ему было только пятнадцать лет. Он был умный и веселый. В семьи его любили. Начиналась весна. Близок был праздник Светлого Воскресения. Сережины сестры хотели радости, и боялись думать о смерти.
И то, что Сережа умирал, так не вязалось с предпраздничною суетою, что хотелось всем обмануть себя, и думать, что он вдруг для такого праздника почувствует себя лучше.
Давно прихварывал. Решили увезти куда-нибудь. Но как-то промедлили, не сумели выбрать быстро, куда именно везти. И вдруг, неизвестно почему, процесс в легких пошел так быстро, и Сережа так ослабел, что везти его стало невозможно: дорога будет утомительна, и теплый климат все равно уже не спасет.
Молодой доктор говорил растерявшемуся Сережиному отцу:
— Не более месяца.
Старый доктор сказал равнодушно и устало:
— Да, или недель шесть.
Сережин отец суетливо провожал их. Лицо у него, было красное и сконфуженное, и движения неловкие. То, что Сережа должен умереть, как-то не вмещалось в его сознание. И мысли его были медленны и тупы.
Перед зеркалом над камином в столовой он остановился, и зачем-то смотрел долго на свое лицо, поправлял сползающей на бок галстук, черный на белой манишке, и приглаживал дрожащими пальцами начинающие седеть усы.
Как-то неловко, точно виноватый, подошел он к столу, где его жена вынимала из теплой воды миндалины, с которых разбухшая сваливалась кожура. Засунув руки в карман коротенького домашнего пиджака, он постоял за её спиною, и вдруг, по каким-то едва уловимым признаками — по её непривычной сутуловатости, по легкому, как от заглушаемого усилием воли телесного тайного страдания, вздрагиванию её покрасневшей щеки, по неловкости её всегда проворных прежде пальцев, — он понял, что она все знает.
Его поразило больно, что она не плачет, не бьется головою в мягких подушках постели, а сидит здесь, с младшими мальчиками, по-видимому спокойная, но так жестоко страдающая, и мальчики, помогая матери, болтают, и смеются беспечно.
Острое ощущение её одинокого страдания вдруг пронизало его неожиданно яркою болью. Как-то странно и нелепо сопя, он пошел быстрыми, мелкими шагами от жены, рассыпая на скользкий паркет дробный, сухой стук своих башмаков с невысокими каблуками. Серенький, маленький, бежал он по гулкому коридору в свой кабинет, — броситься на диван, лицом к его высокой спинке, метаться по его темно-зеленой коже, томиться и вздыхать.
Услышав за спиною дробный стук его шагов, жена его покраснела еще сильнее, и что-то билось и дрожало в её лице. Но она сидела прямая и спокойная. Кончила с миндалем. Вытерла полотенцем мягкие, белые руки. Неторопливо пошла в его кабинет.
И там они сидели рядом, и плакали оба, и не знали никакого себе утешения, и тосковали…
II
Была Великая Суббота. Сережа заснул. И увидел сон, странный, но утешительный.
Был знойный день. Перед Сережиными глазами простерлась долина, выжженная ярким блистанием солнца. Сережа сидел на пороге бедной хаты. Широкие листья двух пальм бросали сквозную тень на его загорелые ноги и на белую ткань грубой его одежды.
Сережа чувствовал себя маленьким, как десять лет тому назад, и очень радостным. Маленькое тело, едва прикрытое бедною тканью, было легким, как тело ангела, рожденного на земле. Все веселило, — земля, такая плотная и горячая под голыми ногами, — воздух, такой знойный, но легкий, — небо, такое синее, высокое, но и такое близкое, словно оно начиналось здесь, на земле, — быстрые полеты птиц, — визги ребятишек около соседних хат, — гортанный, совсем неожиданно новый голос матери у колодца, где и другие стояли женщины, в белых одеждах, смуглые, босые, весело-разговорчивые, как и его мать.
Вот она возвращается домой. На её плече длинный, узкогорлый кувшин. Высоко поднялась, придерживая его, смуглая, обнаженная рука. Яркими зорями пылают её щеки; ярким пурпуром приоткрытые улыбаются уста, на смуглом лице её черные под широкою тенью длинных ресниц сияют и радуются на ребёнка глаза. Гордая ликует мать о своем сыне, — и он тянется к ней радостно и смеется.
В его руке игрушка, сделанная им самим из красной глины, размоченной в ручье, — птица, глиняная, но совсем как живая.
Дивный маленький ваятель лепил ее из косной глины, — и пальцы его были живы и быстры, и глина хотела ожить, и дивно изваянное из глины птичье тело трепетало в жарких детских пальчиках напряжением воли, творящей жизнь.
Мать проходила мимо, торопясь освободиться от своей ноши. Улыбаясь, не сгибая стройной шеи, не склоняя головы, она косила на сына смеющийся радостно взор знойно-черных глаз.
Мальчик протянул левую руку к матери, схватил кончик её загорелой стопы, и закричал:
— Смотри, мама!
Слабо удивился было чуждому звуку своих слов на ином наречии, но сейчас же забыл, что говорит на чужом языке и перестал дивиться тому, что понимает эти гортанные слова.
Мать засмеялась и остановилась. Спросила:
— Ну что, сынок?
Мальчик поднял руку с глиняною птицею, и весело говорил:
— Вот, мама, птица, я сам ее сделал, и она поет, как живая.
Он приложил к губам хвост глиняной птицы, где было отверстие для свистульки, дунул в него, — и из глиняного клюва птички вырвался легкий свист. Ослабляя и усиливая дыхание, мальчик дул в свою глиняную свистульку, рождая в ней переливные, звонкие звуки. Мать смеялась и говорила:
— Сынок-то у меня какой искусный! Какую птичку сделал! Смотри за нею, держи ее крепче, как бы она у тебя не улетела.
И ушла себе в хату, занялась своим делом. А мальчик на пороге задумчиво смотрел на свою птичку, тонкими пальчиками гладя её перья. Спросил ее тихо:
— Хочешь лететь?
И всколыхнулись крылышки у птички.
Опять спросил птичку мальчик:
— Хочешь лететь?
И забилось сердце в груди у птички.
В третий раз спросил мальчик:
— Хочешь лететь?
И затрепетало все птичье легкое тельце, поднялись перья, и забились крылышки, — защебетала птичка, поворачивая головку вправо и влево.
Мальчик раскрыл руку. Полетела птичка. И слышен был в яркой синеве воздушной её радостный щебет. Все дальше. Все тише. Все выше знойное солнце. Все душнее неподвижный воздух.
III
Сережа проснулся, весь облитый липким потом.
Мучительная боль в груди, и дышать тяжело, — но где же ты, милая птичка? Та, которую я создал? Вот, она за окном щебечет, трепещет крылышками, и улетает.
Моя птичка!
А кто же я?
Приподнялся Сережа, и опять упал на подушку. Бредит, шепчет:
— А кто же я?
Мать наклонилась над ним. — не видит её Сережа. Не видит стен своей комнаты, — опять отошло обставшее его сегодня.
IV
Он на горе один.
Широкие простерлись перед ним просторы, осиянные знойным полуднем. Изношенная бедна его одежда, усталые ноги его покрыты дорожною пылью, и серая в короткой, золотистой бороде его пыль.
Спутники его остались далеко внизу, в тени олив, и спят, усталые.
А вокруг него все ярче свет, и все торжественнее сияние широких небес. Прозрачно рея в воздухе, и небесную прохладу неся в широко взвеваемых складках своих одежд, два светозарные мужа предстали и беседуют с ним.
И спрашивает он:
— А кто же я?
— Не бойся, — говорят ему светозарные мужи, — ты в третий день воскреснешь.
И уже пламенно белы его одежды, и уже огненный нимб над его головою, и огнем вся в теле пламенеет его кровь, и несказанный восторг исторгает из его груди громкий вопль.
V
Очнулся. Сбежались на его крик, испуганные стоят у его постели.
Тонкая струйка крови течет из его рта, выливаясь из левого края побледневших губ. Лицо его мертвенно-бело, глаза испуганно смотрят выше милых своих, собравшихся у его смертного ложа, — широкие глаза, неподвижный ужас.
Черная, безглазая, только страшными, белыми сверкая зубами, подходит к нему неумолимая, вея вечным холодом и вечною тьмою. Она громадная, она весь выпила Сережин воздух, и, как черная туча, колыша тяжелые складки своих одежд, стремится она прямо на Сережу.
Но слышен голос светозарного мужа, подобный грому:
— В третий день воскреснешь.
И за черною мантиею мертвой гостьи загораются золотые молнии воскресного дня, радуя Сережины очи. Сережино бледное лицо озаряется радостью золотых молний, и в глазах его тихий восторг. Он шепчет, задыхаясь:
— В третий день воскресну.
И умирает…
VI
В третий день его хоронили.
Иван Иванович воскрес
I
Иван Иванович Завидонский, чиновник очень усердный, служил постоянно в столице, где родился и вырос.
Родители его давно умерли. Близких родственников у него не было. С дальними виделся он редко и крохотно. Друзей и приятелей постоянных он себе не завел. Перевалило уже ему за тридцать пять лет, а он все еще жил холостяком. Снимал комнату у хозяйки, — нынче здесь, а на следующий год в другом жесте
Жизнь Ивана Ивановича проходила скучно и однообразно. Видя это, его случайные приятели порою говорили ему за откровенною бутылкою вина или за бесцеремонною парою пива где-нибудь в шумном, тесном ресторанчике, облюбованном служащими в разных казенных и частных учреждениях — чиновниками, бухгалтерами, приказчиками:
— Хороший ты человек, Иван Иванович, а живешь ты не по-людски. Не живешь, а киснешь, точно мертвый.
Иван Иванович в недоумении спрашивал:
— Почему?
Бледное лицо его наклонялось над не слишком чистою скатертью, и мутные от водки глаза вопросительно обводили собеседников.
Те смеялись, и один из них говорил:.
— А потому, Иван Иванович, что ты не женишься.
Иван Иванович спорил:
— А что хорошего жениться? То ли дело холостая жизнь. Что хочу, то и делаю; куда хочу, туда и пойду.
Приятели говорили:
— Зато у тебя неуютно, неряшливо.
Иван Иванович возражал:
— А мне и так хорошо. Главное — свобода.
Но, говоря так, Иван Иванович все-таки чувствовал, что жизни его чего-то не хватает. Как-то сухо, неприветливо протекала она, и порою сам себе казался он мертвым.
Хотелось бы воскреснуть. Да как воскреснешь?
II
Затягивает Ивана Ивановича однообразным своим ходом скучная машина жизни. Встанет он не рано. Голова тяжелая. Мысли неприятные. Надо идти на службу.
Встает, собирается. Платье чищено кое-как. На белье не хватает пуговок. То там, то сям прорехи.
Самовара пока дозвонишься. Посуда сборная. Скатерть в пятнах. Пьет Иван Иванович, а в комнате еще ночной беспорядок.
На службе работа спустя рукава, скучная, неинтересная, медленная. Больше на показ. А нет вблизи начальника, — говорят, курят. Рассказывают анекдоты, конечно, неприличные, но зато веселые. Кое-как досиживают, — и разбегаются.
Обед в ресторане. Водка. Разговоры со случайными соседями о случайных предметах. Чаще всего о внешней политике. Если обедает с сослуживцами, то говорят о своих департаментских интересах, о строгостях нового министра, о наградных, о перемещениях и повышениях ожидаемых и чаемых.
Потом — пустыня вечера, которую надо чем-нибудь наполнить.
В гости, — карты, флирт, вино, болтовня.
В театр, — фарс, оперетка.
Потом опять ресторан. Попойка.
Случайные женщины, крикливые и жадные. С ними поездки в какие-то притоны, то шикарные и дорогие, то попроще и подешевле. Но всегда одинаково противные и насквозь гнусные.
Напряженная, шумная веселость, а на дне души — липкая, тусклая, вечная скука. И никуда от неё не уйти.
Зато Иван Иванович везде бывает на премьерах, открытиях, чтениях, слушает и смотрит всех приезжих знаменитостей, интересуется борьбою, слегка играет на тотализаторе, записан членом двух клубов. В игре довольно счастлив.
Только дома у него грязно. Ни принять кого, ни угостить.
III
Наконец, когда жалованье Ивану Ивановичу прибавили, нанял он свою квартиру в четыре комнаты, и завел обстановку. Квартира на Петербургской стороне, но близ линии трамвая. Комнаты маленькие, обстановка не Бог весть какая, но для холостяка чего же больше? Живет!
На полу в кабинете Иван Иванович ковер разостлал. На стену в гостиной повесить купил гравюр и фотографий, и заказал к ним красивые рамочки, — все вроде тех гравюр, фотографий и рамок, который видел он у своих семейных знакомых. Провел электрическое освещение.
В кабинете на столе Иван Иванович телефон поставил. Как же, нельзя без телефона! У всех есть. Чуть что, сейчас позвонишь, соединят, спросишь:
— Это дирекция итальянской оперы?
— Да.
— Билеты на Таису есть?
— Сколько угодно.
Или к знакомым:
— Петр Петрович дома?
— Его нет. А кто говорит?
— Это я говорю, Завидонский.
— А, Иван Иванович, здравствуйте. Узнаете по голосу?
— Как же! Здравствуйте, Анна Алексеевна. Вечером собираетесь в оперу?
— Нет, сегодня мы дома. Приходите. Свободны?
— О, да, благодарю очень. С большим удовольствием.
— Кстати, я еще кое к кому позвоню.
Вот и позвали. Вот вечер и наполнен.
IV
А все-таки скука! В квартире пусто и холодно. Скучно, что о всех мелочах надо самому распоряжаться.
Кухарка, правда, попалась хорошая, и готовит отлично, так что и пригласить порою кое-кого можно. Но когда его спрашивают:
— А сколько у вас выходит на хозяйство?
И он говорит цифру, то дамы смеются. Спрашивают насмешливо:
— Это на одного?
Барышни смотрят с сожалением на Ивана Ивановича, но ничего не говорят. Или заводят нарочно разговор о другом, чтобы вывести Ивана Ивановича из неловкого положения.
И догадывается Иван Иванович, что кухарка обкрадывает его беззастенчиво. Но как же быть? Не ходить же ему самому за мясом, за рыбою, за дичью? Горничная тоже попалась ему очень приличная, красивая, видная, знающая свое дело. Но она, очевидно, рассчитывает на что-то. Она иногда подходит к Ивану Ивановичу ближе, чем надо, а то вдруг вспыхивает и убегает слишком быстро. Порою у неё расстегнется невзначай кофточка, обнажая кусочек белой, высокой груди. Порою, перемывая чайную посуду, руки откроет слишком высоко, и так зайдет за чем-нибудь в кабинет к Ивану Ивановичу.
Порою ночью встанет и бродит по комнатам босая. Иван Иванович выглянет из двери, досадливо спросит:
— Что вы, Наташа?
Она улыбается, смотрит на Ивана Ивановича долго, и не спеша говорит:
— Простите, барин. Кошка мяучит где-то. Хочу ее на кухню выгнать, чтобы вам спать не мешала.
Постоит еще немного, играя глазами, потом вздохнет, и уходит, белея в темном коридоре из-под серого платка низом рубашки и мягко ступающими ногами.
Всё это возбуждает Ивана Ивановича. Но он не хочет заводить связи с горничною. Чувствует, что это опасно, липко, и потому ведет себя очень осторожно, — как бы не въехать!
V
Все чаще и чаще повторяют Ивану Ивановичу знакомые и случайные, сегодняшние приятели:
— Женитесь, Иван Иванович, воскреснете.
Все чаще и чаще повторяет себе Иван Иванович:
— Женюсь — воскресну.
Нелегко было Ивану Ивановичу решиться на это. Привычки холостой жизни были ему сладки, и страшила неизвестность.
Но счастье подстерегает человека на всех путях его. Как ни бежит от него человек, оно таки раскидывает над ним, как мальчик над бабочкою, свою радужную сетку, и ловит упрямого, и сажает его в коллекцию счастливых.
И особенно, если это человек зрелого возраста, но еще без единого седого волоска, на хорошем счету у своего начальства, первый кандидат на должность начальника отделения, да и сам кое с какими средствами.
VI
И вот, нашлась барышня, Марья Ивановна Краснолесская, генеральская дочка, — и она очаровала Ивана Ивановича. И сама очарована была его прекрасными достоинствами, и восхитительною внешностью.
Нет никакой надобности рассказывать подробно о том, как Иван Иванович и Марья Ивановна познакомились на танцевальном вечере у одного директора департамента, какое они произвели впечатление друг на друга, как родители Марьи Ивановны покровительствовали их зарождающейся любви, как они хлопотали о быстрейшей карьере Ивана Ивановича, как некто влюбленный и коварный строил козни, и был посрамлен, и о многом еще интересном. Все это давно уж рассказано в старых романах. Значительны только последние страницы романа: в них говорится о том, чем дело кончится, и на чем сердце успокоится.
Когда Марья Ивановна услышала трепетное признание и роковой вопрос, она, красная очень и улыбаясь смущенно, но не колеблясь ничуть и не раздумывая ни минуты, сказала:
— Да. Поговорите с мамашей.
Иван Иванович, за мгновение до этого еще томившийся неизвестностью и страхом отказа, вдруг просиял. Целуя руки своей невесты, он воскликнул:
— Марья Ивановна, теперь я воскрес!
Но он ошибался. Какое же это воскресение, когда человек еще холост. По-настоящему воскрес Иван Иванович только тогда, когда обвенчался с Марьею Ивановною.
VII
И точно, — теперь жизнь Ивана Ивановича ровна и спокойна. В квартире его уютно и светло. Слышны милые голоса Марусиных подруг.
Женины родственники любят Ивана Ивановича, и стараются делать ему маленькие и большие приятности.
Кухарка, обсчитывавшая Ивана Ивановича, уличена и уволена. На её место взята другая. Она готовит не хуже, а красть не может, потому что Марья Ивановна строго и внимательно контролирует её счета.
Горничная осталась та же. Но уже она знает свое место и не имеет никаких претензий на благосклонность Ивана Ивановича.
Хорошо теперь живется Ивану Ивановичу! Уже он не засиживается по кабачкам и по ресторанам. Когда сослуживцы соблазняют его закатиться куда-нибудь, он говорит:
— Извините, сегодня я не могу. Сегодня мы с Марусею едем к её бабушке.
— Ну, завтра.
— Простите, и завтра не могу. У нас ужинают завтра Марусины папа и мама.
— Ну, послезавтра.
— Послезавтра, пожалуй. Только знаете ли, иногда хочется и дома посидеть, отдохнуть.
Лицо у Ивана Ивановича румяное и веселое. Глаза его поблескивают. Брюшко приятно округляется. Жизнь его наполнена и успокоена. Уж он не кажется сам себе мертвым, как некогда прежде.
Иван Иванович счастлив, Иван Иванович воскрес.
Путь в Еммаус
I
На Страстной неделе в семье Синегоровых, как в прошлый год, как и всегда, было предпраздничное оживление. Особенно веселы были младшие члены семьи, гимназист Володя, двенадцатилетний мальчик, и десятилетняя Леночка.
Интересно очень было им участвовать в раскрашивании яиц разноцветными шелковыми тряпочками, обрывочками лент и переводными картинками. Да и традиционная в их семье кошениль распускала в горячей воде свою красную кровь так забавно. Так же очень приятно было попробовать пасху, — она сладкая и вкусная, и хотя еще сырая, еще не была под прессом, а прямо из горшка зачерпнутая деревянного большою ложкою, но так, конечно, интереснее.
Мама озабочена была подарками для родных и для прислуги, — чтобы все остались довольны, и чтобы не потратиться слишком. Отец шелестел кредитными бумажками, и досадливо морщился. Ворчал:
— Ох, уж мне эти праздники! Вот где они у меня сидят, — говорил он, потирая свой красный под седыми волосами затылок. — Я очень рад, что заговорили о сокращении праздников. Что там Никон вологодский ни пиши, а сократить положительно необходимо.
Гимназист Володя деловито возражал:
— Ну, уж Пасху-то нам не сократят. Уж этот праздник во всяком случае останется.
Александр Галактионович Синегоров сердито говорил, с невольною завистью глядя на беззаботно-румяное лицо и на мальчишески-лукавую улыбку своего сынишки:
— Нет, я бы вот именно этот-то праздник первым делом сократил. Ни в какой другой день так много денег не выходит.
Его жена, Екатерина Константиновна, останавливала его:
— Саша, побойся Бога! При детях, что ты говоришь! И совсем на тебя не похоже, — вовсе ты не такой скупой. И ты сам прежде всегда так любил этот праздник.
II
В это время вошла в комнату Нина Александровна, старшая дочь Синегоровых, бледная, высокая, черноглазая девушка, Вслушавшись в разговор, она усмехнулась невесело и сказала тихо:
— Да, я в этом совершенно согласна с папою. Какой же нам праздник! Какая же у нас Пасха! Кому же мы скажем Христос воскрес! Кого же мы с любовью обнимем!
Екатерина Константиновна с ужасом воскликнула:
— Ниночка, Ниночка, что ты говоришь! Как же это спрашивать, кому! Ну, конечно, своим, родным, друзьям, знакомым.
Тихо и печально говорила Нина:
— Ах, мама милая! Что же родным, знакомым! Ведь это всемирный праздник, для всех. В церкви были, причащались, при этом же всем врагам своим должны были простить, всем, всем, кто причинил нам зло. А я как же? Вот, жениха моего казнили, и теперь уже в сердце моем нет злобы, и я простила. И судья, и палач — Бог с ними! Но как открою мои объятия, как поцелую?
Мама сказала строго:
— Нина, Христос все-таки воскрес, и если бы ты веровала, то нашла бы утешение.
Нина улыбнулась. Она знала, что ни мать и никто другой не могут сказать ей утешающих слов, которых бы и она сама не знала. И она молча ушла к себе.
III
Древняя, мудрая вера, не оправданная разумом, но торжествующая над ним, что же ты меня не утешаешь?
Вот, друга моего умертвили, и он шел на смерть, на позорную казнь, полный гордыми надеждами, как и до него многие в веках шли умирать в надежде воскресения. Но в сердце моем темное уныние и тоска, и одна ли я тоскую бессильно?
Старые, детские воспоминания пробуждались в бездейственно-тоскующем уме. Вдруг захотелось прочитать страницу из Евангелия.
Нина нашла маленькую книжку… Открыла Евангелие от Луки. Прочла рассказ о явлении Христа двум ученикам по дороге из Иерусалима в Еммаус, — простодушный и трогательный рассказ.
«Не горело ли в нас сердце наше?»
Нина закрыла книгу. Сладким и смутным томимая беспокойством, надела весеннюю шляпу, демисезонное пальто и вышла на улицу.
IV
Была Великая Суббота, и уже вечерело. Два молодых человека, очень сильно напомаженные, чрезмерно завитые, вышли из парикмахерской, и им было весело. Дворники развешивали на проволоках от одного фонарного столба до другого разноцветные шкалики для иллюминации. Хихикали молоденькие швейки, пробегая торопливо. Извозчики были уже пьяны и красны.
Молодой телеграфист провожал куда-то двух барышень, которым было холодно в их нарядных платьицах. Он их уверял:
— В нашей церкви гораздо лучше, как можно сравнивать, помилуйте!
Барышни говорили что-то, обе вместе, но ветер относил их слова, и Нина их не расслышала.
И все было как-то обычно празднично. Заведенный исстари праздник приготовлялись справлять люди, праздник среди праздников, — и день, которому должно было быть праздником из праздников, торжеством из торжеств, будет, конечно, только табельным днем, одною из неизбежных принадлежностей скучного быта.
Но разве сердце мое не горит во мне?
V
Вот на перекрестке двух шумных улиц подходит к Нине кто-то, как-будто бы знакомый ей. Но туман лежит на её памяти, и на глазах её — незримая, но тяжелая пелена. И воля её окована унынием и тоскою, и даже не хочется ей припоминать, где видела она своего неожиданного спутника.
В нем нет ничего особенного, что выделяло бы его из числа многих знакомых, — обычная городская одежда, интеллигентное лицо. Только глубокий взор черных глаз так пытлив, что кажется Нине — в самую глубину души её смотрит он. И сердце её горит.
Тихо спрашивает он Нину:
— О чем вы так задумались? Отчего вы так печальны?
И говорит ему Нина:
— Что же вас удивляет моя печаль! Неужели вы не знаете, что происходит у нас в эти годы?
Он спрашивает:
— Что же происходит?
Говорит ему Нина долго, и жалуется, и плачет. Точно с собою говорит. Глаза её смотрят в израненную красными огнями тьму шумных улиц. Сердце её трепещет и горит.
Когда Нина замолчала, он говорит ей тихо, но с такою силою в голосе, как имеющий власть:
— Разве это не малодушие? Так надлежит прийти в мир нашей правде, так, — в страданиях, нестерпимых для слабого, в подвигах, превышающих меру человеческих сил. Или приятного и легкого вы ожидали, когда внимали словам наставников и мудрецов ваших? И разве не научили они вас той истине, что нет силы на земле, которая могла бы отвратить роковой ход событий, предсказанный в мудрых книгах?
И говорил, цитируя слова мудрых книг, и поясняя их. И сердце её горело в ней. Несмело спросила она:
— А он? Жених мой возлюбленный, которого казнили? Где он?
И услышала кроткий голос:
— Он с тобою.
Подняла удивленный взор на своего спутника, и услышала опять:
— Я с тобою всегда, невеста моя милая, — утешься! Или ты меня не узнала — меня, приходящего в тайне?
Радостно взволнованная, спросила Нина:
— Но кто же ты?
И уже не было никого возле Нины. В суетливой толпе, в смутной и тревожной полутьме шумных улиц исчез её спутник. Только студент с черною коротенькою бородкою оглянулся, усмехаясь, на Нину, услышав её восторженное восклицание, и прошел равнодушно, попыхивая папироскою.
Но в сердце у Нины была радость, и черные глаза её горели восторгом. Он с нею, он всегда с нею. В её сердце, в её мыслях, в её поступках, везде он, возлюбленный её, с нею! Не надо бояться и унывать, надо верить и делать то, что и он делает, любить то же, что и он любил, — с ним делить печали поражений и радости побед. С ним, всегда с ним!
VI
Нина возвращалась домой, под веселый звон колоколов пасхальных, и вся пламенела восторгом, и плакала от счастья и от сладостной печали. И светлым праздничным огням, и ветру, веющему вешними утехами, шептала счастливые, безумные шептала слова:
— О, я счастливая! И я была на пути в мой Еммаус, и на моем омраченном пути со мною беседовал он, пришедший ко мне в тишине и в тайне, и в моем Еммаусе я, счастливая, счастливая невеста, обрела его!
Старый дом
Памяти Михаила Чеботаревского.
I
Дом был старый, большой, деревянный, одноэтажный, с мезонином. Стоял он в деревне, в одиннадцати верстах от станции железной дороги, и в полусотне верст от уездного города. Вокруг этого дома дремотно-зеленеющий сад раскинулся, и просторы бесконечно-плоских, нескончаемо-скучных полей.
Когда-то этот дом был выкрашен в лиловый цвет, и уже давно полинял. Его крыша, когда-то красная, стала темно-бурою. Но столбы террасы были еще совсем крепки, и беседки в саду целы, и Афродита в кустах. А пруд ряскою затянуло.
Казалось, что старый дом полон воспоминаниями: стоит, дремлет, вспоминает, опечалится порою, когда грустные нахлынут вдруг вереницы воспоминаний.
В этом старом доме все было по-прежнему, как в те дни, когда вся семья была летом вместе, когда еще Боря был жив.
Теперь в усадьбе жили только женщины: бабушка Борина, Елена Кирилловна Водоленская, — Борина мать, Софья Александровна Озорева, — и Борина сестра, Наталья Васильевна. И старуха-бабушка, и мать, и молоденькая девушка казались очень спокойными, порою веселыми. Жили они уже второй год в старом доме, и ждали младшего в семье Бориса. Того самого Бориса, которого уже нет в живых.
Они почти не говорили о нем друг с другом, но мыслями, воспоминаниями, мечтами о нем наполнены были их дни. Порою в ровную ткань этих дум и грез вплетались черные нити печали, и падали тяжелые, горькие зерна слез.
Когда злое солнце стояло в притине, — когда грустная луна ворожила, — когда заря холодом по утру розовым веяла, — когда на закате заря смехом кровавым полыхала, — в четыре темпа был размах качелей от заревой радости к притинной высокой печали. На тех качелях стремительно качаясь, они все трое переживали попеременно симпатию и антипатию предметов и времен.
Заревая радость, — раз, — яркая дневная печаль, — два, — заревая радость, — три — белая ночная тоска, — четыре! Качели, подвешенные высоко, выше, выше тех качелей, на которых качался, кончался он.
II
По заре бледно-розовой, когда влажные никнут ветки на березках, весело-зеленых, стройно-белых, в саду перед окнами, за песочною площадкою, за круглою куртиною, — по заре бледно-розовой, когда с речки от купаленки повеет прохладою, — первая из трех просыпается Наташа.
Как весело проснуться на заре бледно-розовой! Откинуть полог, кисейно-легкий, сквозной, — на локоток опереться, повернуться на бок, — и глянуть в окошко черными, широкими, жуткими глазами.
За окошком небо видно, низкое над далекими белыми березками. На небе заря бледно-алая, веселая, горит матовым огнем сквозь транспарант простертого над землею покрова. В её тихом, бледно-радостном разгорании есть такое напряжение юных страстей и полусознанных желаний, такое напряжение, такое счастье, и такая печаль! Улыбчивая сквозь росу легких, утренних слез над белыми ландышами, над синими фиалками широких полей!
Да о чем же слезы! К чему же ночная тоска!
Вот, за окном привешенная, качается ветка отгоняющего всякое зло аира. Повесила ее бабушка, и няня снимать не велит, старая. Зеленая, качается ветка аира, улыбается сухою зеленою улыбкою.
Улыбается Наташа тихою розовою улыбкою.
Земля просыпается в утренней свежей бодрости. Доносятся до Наташи голоса пробудившейся жизни. Вот, гомозясь в упруго-влажных ветках, чирикают шумливо проворные птицы. Вот за окном слышен издалека переливно-долгий звук рожка. Вот близко-близко, по песочной дорожке под окошком звуки чьих-то тяжело и твердо ступающих ног. Слышно веселое ржание жеребенка, и протяжное мычание недовольных чем-то коров.
III
Наташа встает, улыбается чему-то, подходит поспешно к окну. Её окно высоко над землею, в мезонине, широкое в три просвета. Наташа не задергивает его на ночь занавесками, чтобы не застить от засыпающих глаз прохладного мерцания звезд и ворожащего лика луны.
Весело Наташе открыть окно, распахнуть его сильною рукою. В горящее сном лицо нежная веет от речки утренняя прохлада. За березками сада, и за его кустарниками видны широкие поля, такие милые с детства. На полях пологие пригорки, полосатые пашни, зеленые рощицы, отдельные кустики.
Вьется речка прихотливо-брошенными на зеленое извивами. Еще колышутся над нею белые клочки изорванной к утру туманной фаты. Речка видна кое-где, а чаще закрыта изгибами невысокого берега, но далеко-далеко означила она свой извилистый путь купами верб, темно-зеленых на светло-зеленой траве.
Наташа проворно умылась, — и было приятно лить на плечи и на шею холодную воду. Потом по-детски прилежно молилась, ставши на колени перед темным в сумрачном углу образом, не на коврик, а прямо на пол, — так угоднее Богу.
Повторила ежедневную свою молитву:
— Господи, сотвори чудо!
И приникла лицом к полу.
Встала. Потом проворно надела легкое светленькое платьице с широкими лямками на плечах, с прямоугольным вырезом на груди, и кожаный пояс, перетянутый сзади широкою пряжкою. Наскоро заплела и сложила кое-как вокруг головы тяжелые черные косы. С размаху всунула в них роговые гребенки и шпильки, какие нашлись под руками. Набросила на плечи серый вязаный платок, такой приятно-мягкий, и торопилась выйти на террасу старого дома.
Ступеньки неширокой внутренней лестницы из мезонина вниз тихо скрипели под легкими Наташиными ногами. Жесткое ощущение досчатого холодного пола под теплыми ногами было забавно-веселым.
Когда Наташа спустилась вниз и шла по коридору и по столовой, она ступала тихохонько, чтобы ни мать, ни бабушка не слышали, и не проснулись бы, и не встали. И на лице было милое выражение веселой озабоченности, и складка меж бровей. Как сложилась в те дни, так и осталась складочка.
Еще задернуты были занавески в столовой. Комната казалась сумрачною и печальною. Скорее хотелось пробежать по ней, мимо широко раздвинутого стола. Не было охоты остановиться у буфета, что-нибудь взять, съесть.
Скорее, скорее! На волю, на воздух, к улыбкам беззаботной зари, позабывшей все свои докучные вчера.
IV
На террасе было светло, свежо. Светлая Наташина одежда вдруг загоралась бледно-розовыми заревыми улыбками. Веселый холодок набегал из сада. Ласкаясь, лобзал он Наташины ноги.
Опершись розовыми, тонкими локтями обнаженных рук о широкий парапет террасы, Наташа садилась на легкий плетеный стул. Она принималась смотреть в ту сторону, где виднелась из-за кустов калитка в садовой изгороди, и за нею часть серой дороги, безмолвной, но, по заре бледно-розовой, такой счастливо-успокоенной.
Наташа смотрела долго, пристально, немигающим, жутким взором черных глаз. Какая-то жилка дрожала в левом углу рта. Едва заметно вздрагивало левое веко. Все определеннее намечалась резкая вертикальная складочка между глаз. Подобно напряженно-трепетно и ало полыхающей заре было напряженное внимание слишком пристальных, слишком неподвижных глаз.
Если бы всмотреться долго в сидящую так на заре утренней Наташу, то показалось бы, что не видит она того, на что смотрит, и что на что-то иное, что не здесь, устремлен её слишком далекий взор.
Словно хочет увидеть того, кого нет, — того, кого ждет, — того, кто придет, — придет сегодня. Если свершится чудо. А как же без чуда!
V
А перед Наташею серая и докучная влеклась повседневная обычность. Предметы все те же, все на тех же местах. И те же, как вчера, как завтра, как всегда, люди. Вечные присно люди.
Стремительно и тупо шел мужик, гулко стуча о глину дороги подкованными подошвами тяжелых сапог. Верткая баба проходила, мягко шурша по росистой траве придорожной мельканием высоко-приоткрытых загорелых ног. Пугливо озираясь на старый дом, пробегали темные от загара, милые, чумазые, белоголовые ребятишки.
Мимо, да мимо. Никто не останавливался у калитки. Никто и не видел молодой девушки из-за точеного столбика террасы.
Шиповник цвел у ограды. Он ронял первые бледно-розовые лепестки на розоватую желтизну песочной дорожки, лепестки, райски-невинные и в самом падении своем.
В саду благоухали сладко, страстно и наивно розы. У самой террасы возносили они к озарениям с неба свои напряженно-алые улыбки, ароматную нестыдливость своих мечтаний и желаний, невинных, как все было невинно в первозданном раю, невинных, как невинны на земле только благоухания роз.
На куртине пестрым ковром раскинулись белые табаки и алые маки. За куртиною в зелени белел мрамор Афродиты, как вечное пророчество красоты, среди зеленой и влажной, благоуханной, звучной жизни этого мгновенного дня.
Тихо сама себе сказала Наташа:
— Он, должно быть, переменился очень. И не узнаешь, поди, как вернется.
Тихо, сама себе отвечая, сказала Наташа:
— Но я бы его узнала сразу по голосу и по глазам.
И точно вслушиваясь, услышала его голос, звучный, глубокий. И точно всматриваясь, увидала его черные глаза, — пламенный, властный, юношески-дерзкий взор. И еще вслушивалась во что-то, всматривалась в далекое. Слегка пригнулась, склонила к чему-то тихому чуткое ухо, неподвижный и жуткий приковала к чему-то взор. Словно застыла в напряжении, несколько диком.
Розовая улыбка разгорающейся зари несмело играла на побледневшем Наташином лице.
VI
Кто-то крикнул вдали, длинно и гулко.
Наташа вздрогнула. Встрепенулась. Вздохнула. Встала. По шатким, широким ступенькам спустилась в сад, на песчаную площадку. Хрустели песчинки под ногами. Легкие, тонкие на мелком сером песке отпечатывались следы узких маленьких ног.
Наташа подошла к белому мрамору.
Долго всматривалась она в безмятежно-прекрасное лицо богини, все еще далекой от нашей скучной, чахлой жизни, и в её вечно-юное тело, нестыдливо обнаженное, неложную сулящее радость освобождения. Розы алели у строгого пьедестала. Они примешивали очарование своих недолгих алых благоуханий к очарованию вечной красоты.
Тихо, тихо сказала Афродите Наташа:
— Если он придет сегодня, я вложу в петлицу его тужурки самую алую, самую милую розу. Он смуглый, и глаза у него черные, — о, самую алую из твоих роз!
Улыбалась вечная, придерживая дивными руками края ниспадающего на колени тихими складками покрова, и говорила беззвучно, но внятно:
— Да.
Вечное да всякому сказыванию жизни, улыбка вечной иронии, улыбка прекраснейшей из богинь, и самой страшной из них.
И опять сказала Наташа:
— И сплету себе венок из алых роз, и косы распущу, мои черные, мои длинные косы, и венок надену, и буду плясать, и кружиться, и смеяться, и пить. Чтобы утешить его, чтобы обрадовать его.
И опять говорила ей вечная:
— Да.
Сказала Наташа:
— Ты его помнишь. Ты его узнаешь. Вы, боги, все помните. Только мы, люди, забываем. Чтобы разрушать и творить, — себя и вас.
И в молчании белого мрамора вечное, внятное было — да. Ответ, всегда утешающий. Да.
Вздохнула Наташа, и от мрамора отвела глаза.
Заря разгоралась, и весь радостный сад улыбался переливами заревого, вечно-юного, вечно-торжественного смеха.
VII
Потом Наташа тихо шла к садовой калитке. Там она опять долго смотрела на дорогу. Так напряженно держалась она за верх калитки, точно готовая вот-вот распахнуть ее перед тем, кто придет, перед тем, кого ждут.
Вздымая серую дорожную пыль, предрассветный влажный ветер тихо веял в Наташино лицо, и шептал ей в уши что-то настойчивое, злое, вещее. Точно завидовал её ожиданию, её напряженному покою.
Ветер, всюду веющий, ты все знаешь, ты хочешь, ты встаешь и падаешь, и влечешься в нескончаемые дали. Печалью и радостью вея, влечешься ты к недосягаемым далям.
Ветер, всюду веющий, залетал ли ты в те страны, где он? Весточку от него принес ли? Принесешь ли?
Хоть бы вздох один принес ты от него или к нему, хоть бы легкий, бледный призрак слова!
От предрассветного ветра краснеет лицо, глаза краснеют, румяные губы морщатся, на черных глазах слезы выступают, и гнется тонкий стан, — оттого, что веет ветер, прохладный, пустынный, безучастный, мудрый ветер. Веет, как веяние невозвратного, быстролетного времени. Веет, жалит, печалит, и не жалеет, и уносится прочь.
Уносится прочь, и бессильная падает серовато-розовая по заре, но все же тусклая, бледная дорожная пыль. Спутала все свои следы, забыла прошедших над нею, — и лежит, по заре слабо-розовея.
Ноет сердце от сладкой печали ожидания.
Говорит кто-то близкий, тихо говорит на ухо Наташе:
— Он приедет. Он на дороге. Встретила бы.
VIII
Наташа открыла калитку, и быстро пошла по дороге, в ту сторону, где, за одиннадцать верст от старого дома, стоит железнодорожная станция. Дойдет Наташа до пригорка над рекою, за полторы версты от дома, остановится, и будет смотреть.
С этого пригорка видна вся дорога. Откуда-то снизу, с поля, слышен резкий крик кулика. Пряно и влажно пахнет трава.
Восходит солнце. Вдруг все становится белым, ярким, ясным. Радостная смеется широкая даль. Утренний ветер на пригорке сильнее, крепче и слаще. Кажется, что забыл он пустынную свою грусть.
Трава такая мокрая от росы. Так нежно приникает она к ногам. По ней яркие, многоцветные переливаются рассыпанными алмазами слезинки росы.
Красное солнце с торжественною медленностью поднимается над синею мглою горизонта. В красном, ярком горении солнца затаилось предчувствие тихой грусти.
Наташа опускает взор к орошенным травам. Цветочки милые! Узнает Наташа цветок верности, лазоревый барвинок.
Но что это! Тут же, близко, напоминанием о смерти, черная белена. Ну что же! Он везде. Утешайте, утешайте, лазоревые цветочки!
— Ни одного из вас не сорву, и не из вас, лазоревые, венок сплету.
Ждет, стоит, смотрит.
Показался бы по дороге, увидала бы, узнала бы его еще издали. Но нет, — никого нет. Дорога пустынна, и немы влажные просторы.
IX
Постояла Наташа, подождала, пошла назад. Ноги её тонули в мокрых травах. Стебли высоких трав путались около тонких ног, и шуршали, зеленые, о край светлого платья. Наташины руки были опущены, покорные, прикрытые серым вязаным платком, стройные с розовыми локтями руки. А глаза уже утратили напряженность выражения, и перебегали рассеянные взгляды с предмета на предмет.
Сколько раз ходили по этой дороге, все вместе, и сестренки, и Боря! Было весело и шумно. О чем ни говорили! Как спорили! Какие гордые гимны пели! Теперь одна, и Боря все не возвращается.
Не знает, что его ждут. Не знает, как его ждут. Ничего не знает. И не узнает?
В Наташином сердце просыпается предчувствие горьких воспоминаний. В темноте усталой памяти уже с тяжелым шорохом шевелится злая змея.
Медленно и скучно Наташа возвращается домой. Глаза её дремотны, и блуждают тоскливо, и никнут утомленные взоры. Трава кажется ей неприятно-сырою, ветер надоедливым, ногам её мокро, и край тонкого платья отяжелел от сырости. Новый свет нового дня, ярко-солнечного, сияющего переливами смеющихся рос, птичьих гамов и людских голосов, для Наташи по-старому назойливо ярок.
Ах, не всходить бы новому дню! Не звать бы к недостижимому!
Все слышнее робкий шепот беспощадных воспоминаний. Тяжелый груз неодолимой тоски наваливается аспидно-серою горою на сердце. Гордо сжимается томительно-жестким предчувствием слез.
Чем ближе к дому, тем торопливее становится Наташин шаг. Все скорее, скорее, под ускоряющиеся стук тоскующего сердца бежит Наташа по сухим глинам дороги, по мокрым травам придорожной, протоптанной пешеходами, тропинки, по влажно-хрупким песчинкам садовых дорожек, еще хранящим её предрассветные нежные следочки. Бежит Наташа по теплым доскам еще неметеного пола, с пылью и соринками, и уже не старается ступать легко и неслышно. Наталкивается на удивленную, зевающую Глашу. Взбегает стремительно и шумно наверх, к себе, и бросается в постель. С головою укутывается в одеяло. Засыпает.
X
Борина бабушка, Елена Кирилловна, спит внизу. Она старая, и не спится ей утром, но за всю жизнь она никогда не вставала рано, а потому и теперь просыпается только немного позже, чем Наташа. Долго лежит Елена Кирилловна, прямая, худенькая, неподвижная, словно влипнув затылком в подушки и ждет, когда придет горничная с чашкою кофе, — она издавна привыкла пить кофе в постели.
У Елены Кирилловны худое, желтое лицо, все в разбегающихся морщинках, а глаза еще блестящие, и волосы еще черные, особенно днем, когда уже она их смажет черным фиксатуаром.
Горничная Глаша обыкновенно запаздывает. Утром ей сладко спится: с вечера она любить уходить к деревне на мост. Там скрипит гармоника, и по праздникам поют и пляшут, бывают веселые молодые люди и бойкие девицы из деревни, — словом, весело.
Елена Кирилловна звонит несколько раз. Наконец, безответность тишины за дверью начинает сердить ее. Она досадливо ворочается, ворчит. Напряженно сгибая в локте сухую, желтую руку, долго и с усилием нажимает костлявым пальцем на белую пуговку электрического звонка, лежащего на круглом столике возле её изголовья.
Тогда, наконец, Глаша слышит над собою продолжительный, дребезжащий звон. Она соскакивает с постели. Суетливо мечется по своей тесной каморке под лестницею в мезонин. Ищет что-то. Набрасывает на себя юбку. Бежит к старой барыне и на бегу кое-как оправляет рассыпающиеся космы перепутанных волос.
Лицо у Глаши сердитое и сонное. Еще недоспанный сон шатает ее. Пока она добежит до дверей барыниной спальни, утренняя прохлада немного освежает ее. Когда Глаша входит к барыне, у неё уже не такое смятое лицо.
На Глаше розовая юбка и белая рубашка. В полусумраке занавёшенных окон её загорелые руки и стремительные ноги кажутся тоже белыми. Вся она, молодая, крепкая, грубая и внезапная, вдруг вырастает перед постелью старой барыни, слегка всколыхнув тяжелою поступью барынину металлическую, грузную кровать с никелированными столбиками и шариками, и круглый столик, на котором слегка звякнет стакан о флакон.
XI
Елена Кирилловна встречает Глашу все тем же изо дня в день негодующим восклицанием:
— Глаша, когда же мне будет кофе? Я звоню, звоню, никто не идет. Ты, мать моя, спишь, как убитая.
Глаша делает притворно-подавленное и притворно-испуганное лицо. Поправляет, невольно позевывая, старенький истертый коврик у кровати. Выдвигает мятые, стоптанные туфли. Говорит тем усиленно ласковым, почтительным тоном, который так нравился в прислугах старым барыням:
— Простите, барыня, сию минуту все будет. Господи, да как вы сегодня рано проснулись, барыня! Не поспалось вам, барыня, штой-то-ли?
Елена Кирилловна говорит:
— В мои годы уж какой сон! Дай ты мне кофейку поскорее, Глашенька, да и вставать я уж стану.
Уже она говорит спокойно, хота и звучат в её голосе капризные ноты.
Глаша отвечает усердно-радостным голосом:
— Сию секундочку, барыня. Я живым духом.
И повертывается уходить.
Но Елена Кирилловна останавливает ее гневным окриком:
— Глаша, куда ты? Ничего не помнишь, сколько раз ни говори! Занавески открой.
Глаша проворно отдергивает темно-зеленые занавески у двух окон в барыниной спальни, и вылетает из комнаты. Она невысокая и тоненькая, и по её лицу видно, что она читает книжки, но звук её быстрых ног отчетлив и тяжек, точно бежит кто-то большой, сильный, тяжелый, умеющий делать все, кроме легкого.
Барыня ворчит, сердито глядя за нею:
— Боже мой! Как она топает! Ни пола, ни пяток своих не жалеет!
XII
Но вот звуки Глашина бега затихают в гулкой тишине длинного коридора. Барыня лежит, ждет и думает. Она опять прямая, неподвижная, вся закрытая одеялом, такая желтая и тихая. Кажется, что вся жизнь её сосредоточилась в ярком блеске зорких глаз.
Солнце, еще невысокое, неярко и розово освещает стену перед барыниными глазами. Светло в спальне и тихо. Пляшут в воздухе быстрые пылинки. Блестят стекла развешанных на стене фотографических портретов и узкие золоченые полоски их черных рамок.
Елена Кирилловна смотрит на портреты, её по-молодому блестящие и всё ещё зоркие глаза отчетливо различают милые лица. Многих уже нет на свете.
Борин портрет — большой, в широкой темной раме. Совсем еще юношеское лицо, лицо семнадцатилетнего мальчика. Смуглый. Черноглазый. На губе уже усики, довольно густые. Губы упрямо сжатые. Во всем складе лица выражение настойчивой воли.
Елена Кирилловна долго смотрит на портрет, и вспоминает Борю. Изо всех своих внуков больше она любила его. И вот вспоминает.
Она помнит, какой он был. Каким-то он теперь стал?
Вот Боря вернется. Бабушка обрадуется, насмотрится на него. Скоро ли?
Думает успокоенно старая женщина:
«Теперь уж увидимся скоро».
Кто-то пробежал под окошком. Чей-то послышался звонкий крик.
Елена Кирилловна повернулась на постели. Смотрит в окно.
Белые акации под окном, зелено и радостно шелестя, улыбаются по-детски наивно и весело. За ними сплошная купа зеленолиственных широких крон, березки теснятся да липки. Ветки совсем близко тянутся к окошку. Упругий их шелест напоминает что-то Елене Кирилловне.
Вот так бы крикнул под окошком Боря. Он любил этот сад. И любил белые цветы акации. И полевые любил цветочки собирать. И ей приносил. Особенно васильки ему всегда нравились.
XIII
Наконец Глаша принесла кофе. Поставила на круглый столь около кровати серебряный поднос. Над фарфоровою широкою синею с золотом чашкою дымится легкий пар, слегка синеватый.
Елена Кирилловна подбирается всем своим худеньким тельцем повыше, к подушкам, и усаживается в постели, прямая, сухонькая, тоненькая, в белой ночной кофточке. Суетливо поправляет дрожащими руками затянувшиеся за ночь завязки белого гофрированного чепчика.
Глаша заботливо и ловко подсовывает под её спину подушки, сложив их высокою, мягкою, такою уютною горкою.
Звенит хрупким смехом серебряная ложечка в сухих старухиных руках, размешивая в чашке сахар. Потом из маленького молочника льется густою струею молоко, и падает слегка желтоватыми хлопьями тяжелая жирная пенка.
А Глаша, повертевшись еще немного в сторонке, поглядевшись украдкою, мимоходом, в барынино зеркало, уходит.
Елена Кирилловна, не торопясь, принимается пить кофе. Она ломает пополам сладкий, обсыпанный сахаром сухарик, бросает половинку в кофе, и долго держит его там. Потом, уже когда он совсем размякнет и пропитается кофеем, она осторожно вынимает его ложечкою.
Зубы у Елены Кирилловны еще совсем крепкие. Она этим очень гордится, но все-таки в последнее время она гораздо больше любит есть то, что помягче. Она жует измокший сухарик. На её лице выражается удовольствие. Маленькие зоркие глаза весело поблескивают.
Когда кофе выпит, Елена Кирилловна ложится еще полежать. Дремлет с полчаса, вытянувшись на спине под одеялом. Потом она опять звонит, и ждет.
XIV
Приходит Глаша. Уже она причесалась, и надела розовую кофточку. Оттого она кажется еще более тоненькою, чем первый раз. Но так как теперь она вовсе не торопится, то шаги её кажутся еще более тяжелыми.
Глаша подходит к барыниной кровати. Молча откидывает одеяло. Помогает Елене Кирилловне сесть на постели, ловко поддерживая ее под локоть. Потом, опустившись на колени, натягивает ей на ноги длинные черные чулки, и надевает ей мягкие серенькие туфли.
Елена Кирилловна держится за Глашино плечо слабыми, вздрагивающими нервно и неровно руками. Она завидует Глашиной молодости, силе и наивной простой. Будируя втихомолку против своей барской, но все же несладкой судьбы, Елена Кирилловна думает уныло, что охотно пожертвовала бы всем своим комфортом, и согласилась бы стать такою же, как и эта Глаша, простою девушкою служанкою, с грубою кожею на руках и с покрасневшими от утренней сырой свежести стопами необутых ног, только бы ей молодость, веселость, беззаботность и счастье, доступное на земле нашей только неразумным.
Брюзжит часто на судьбу старая, — а сама ни от одной барской привычечки не могла бы отказаться!
Глаша говорит:
— Готово, барыня.
Елена Кирилловна встает. Говорит:
— Теперь капот мне, Глаша.
Но Глаша уже и сама знает, что надо подать. Надевает на Елену Кирилловну белый фланелевый капот. Проворно застегивает его.
Елена Кирилловна говорит:
— Ну, иди, Глашенька. Ужо я позвоню, если что понадобится.
XV
Глаша уходит. Бежит на заднее крыльцо.
Там она второй раз моется из подвешенной к столбикам крыльца на веревочке глиняной кувыркалки, — давеча только наскоро ополоснула лицо и руки похолодевшею за ночь водою. Брызжет воду далеко на зеленую траву двора, на лиловато-серые доски крыльца, и на свои ноги порозовелые от свежести ранней, утренней и от нежных прикосновений росистых трав на огороде. Смеется сама с собою — так, оттого, что вокруг неё светло, не жарко, весело, — оттого, что она молодая, здоровая девушка — оттого, что утренняя свежесть бодрыми холодками пробегает по всему крепкому, быстрому телу, — оттого наконец, что недалеко от неё на деревне живет бойкий, как она, красивый молодчик, которой на нее заглядывается, и который ей нравится.
Правда, за него мать бранит ее, — молодой человек беден.
А Глаше-то что-ж? Недаром сложилась поговорочка:
«Пусть бы хлеба ни куска, был бы парень без уска».
Смеется Глаша весело и звонко.
Из окна кухни Степанида кричит ей:
— Глаш, а Глаш! Что ты ржешь?
Глаша смеется, не отвечает, и уходит.
Степанида высовывает из окна простодушное, румяное лицо. Спрашивает:
— Чегой-то она?
Никто ей не отвечает. Некому отвечать. На дворе пусто. Только где-то за сараями слышны лениво переговаривающиеся голоса работников.
XVI
Меж тем Елена Кирилловна в своей спальне кряхтя опускается на колени перед образом. Она молится долго. Добросовестно перечитывает все молитвы, какие знает. Сухие, малинового цвета губы шевелятся. На лице строгое, сосредоточенное выражение. Все морщинки тоже кажутся строгими, усталыми, равнодушными.
Молитвенных слов много. Все они святы, воздушны, возвышенны или трогательны. Но то, о чем в них говорится, от частого повторения как-то словно закостенело, стало обычным и простым, только привычно выжимает на глаза слезинки старческого умиления, и не имеет никакого отношения к тому тайному трепету невозможных надежд, которым в последнее время пронизано сердце старой женщины.
Уста её прилежно шепчут все те же каждый день мольбы о прощении грехов вольных и невольных, сотворенных словом, или делом, или помышлением, — мольбы об очищении душ наших от всякой скверны, — и опять слова о беззакониях наших, о лукавых наших деяниях, о нечестии нечестивых, о всеобщем нашем недостоинстве, о мирских злых вещах и о дьявольском поспешении, — об окаянной душе и окаянном теле, и о страстной жизни, — все только об этом всеобщем зле и об этой всемирной порочности. Точно сложены эти молитвы для титанов, созданных переустроить вселенную, но из постыдной лености делающих это важное дело спустя рукава.
И ни слова о своем, личном, задушевном.
Шепчут старые, иссохшие уста о милосердии, о щедротах, о человеколюбии, об истинном свете, — обо всех этих верховных благах, изливаемых извне на все творение. И ни слова о чуде, жадно и трепетно чаемом.
Да и разве чудо не нарушило бы молимого установленными словами заученных из детства молитв тихого и безмолвного жития?
Да, воистину, подъемлет бунт всякий, кто дерзновенно молит о чуде.
Но вот и слова о находящихся в темницах и в заточениях, мольба об их освобождении, об их избавлении.
Вот, наконец, это о Боре.
Свободу и избавление…
Но дальше, все дальше бежит молитвенная речь, о чужих, о далеких, о всеобщем; только на миг, только слегка остановилась на своем, на родном, на чаемом.
Потом об усопших, — о тех, других, давно оплаканных, почти позабытых, оживающих в слове только в часы этих общих, по всему душевному аиру быстро скользящих молений.
Окончены молитвы. Елена Кирилловна с минуту медлит. Словно еще что-то забыто необходимое.
Что же еще? Или это и всё?
«Всё», — говорит кто-то тихий, равнодушный и непреклонный.
Тогда Елена Кирилловна поднимается с колен. Подходит к окну. Душа её спокойна и равнодушна. Молитва не оставила в ней молитвенного настроения, а только на краткое время вынула из утомленной души всякое конкретное, особенное, будничное переживание.
XVII
Елена Кирилловна смотрит в окно. Она словно опять возвращается из какого-то темного, отвлеченного мира к ярким, красочным, многозвучным впечатлениям грубой, веселой, немножко милой жизни.
На небе высоко, среди светлой, светлой синевы, медленно тая, плыли белые с розовым легкие тучки. Казалось, что у них сквозь холодные, белые тела просвечивает пламенная, алая, как раскаленный ярко уголь, душа, и, пламенея, сжигая белые тела туч, сгорает и сама, и тает, и тонет в холодном, высоком, голубом. Солнце, еще невидное из-за левого угла дома, уже обливало весь сад теплою и радостною волною веселья, смеха и света, в которой купались суетливые стайки птиц.
Елена Кирилловна думает:
«Ну, что-ж, одеваться пора».
И звонит.
Скоро на звонок является Глаша. Елена Кирилловна одевается.
Наконец она готова. Бросает на себя последний взгляд в зеркало, — все ли в порядке.
Волосы у Елены Кирилловны причесаны тщательно, волосок к волоску, и слегка проглажены черным фиксатуаром. От этого они блестят и кажутся склеенными. При каждом движении Елены Кирилловны по ним против света передвигается вправо и влево узкая серебристая ниточка, — световой рефлекс на перегибе заглаженной прически. На лице немножко, чуть-чуть, пудры.
Платье на Елене Кирилловне всегда какого-нибудь светлого цвета, если не совсем белое, и самого простого покроя. Мягкая, мелкая плойка широкого воротника скрывает шею и подбородок. Туфли уже заменены легкими летними башмаками без каблуков.
XVIII
Елена Кирилловна выходит в столовую. Смотрит, как накрывают на стол к утреннему раннему завтраку. Всегда заметит какой-нибудь беспорядок. Тихо брюзжа, сама переставит с места на место что-нибудь на столе.
Потом она идет в переднюю, пустую и просторную, с запертою дверью на крыльцо переднего фасада. Проходит коридором в сени и на заднее крыльцо. Стоит на высоком крыльце, щурится от солнца, и смотрит, что делается на дворе. Маленькая, совсем прямая, как молоденькая институтка, сухонькая, с желтым морщинистым лицом, на котором изображается строгая хозяйственная внимательность, — стоит, смотрит и молчит, никому здесь ни для чего ненужная. Никто не обращает на неё никакого внимания.
Елена Кирилловна говорит:
— Здравствуй, Степанида!
Степанида, дебелая румяная молодка в ярко-красной юбке, из под которой виден белый подол рубахи и загорелые толстые ноги, возится на дворе у крыльца с самоваром, и старательно раздувает его. На её голове зеленый платочек порядливо подтыкан, закрывая сложенные косы словно повойником.
Пузатые бока самовара красно горят на солнце. Над его напрасно изогнутою трубкою клубится в мреющем воздухе синий дым, от которого резко, едко и слащаво пахнет можжевельником и смолою.
На привет старой барыни Степанида поворачивает к ней широкоскулое озабоченно-веселое лицо с крохотными изюминками темно-карих глаз, и певучим, ласковым голосом протяжно говорит:
— Здравствуйте, матушка барыня, с добрым утречком вас! Рано сегодня встать изволили, матушка барыня. Теплынь то какая стоит, милость то Божья!
Слова её точно медовые, и точно на эти медвяные слова летит с густым жужжанием ранняя мохнатая пчела, золотясь трепетно в прозрачном жидком золоте утреннего еще не злого солнца. Но Степанида уже замолкла, и опять возится со своим самоваром, — и пчела разочарованно улетает, медленно затихая за изгородью огорода.
Елена Кирилловна морщится от резкого смолистого запаха, и говорит:
— Что это, как можжевельником сильно пахнет! Ты бы, Степанида, отошла, а то у тебя голова закружится.
Степанида, не оборачиваясь, отвечает лениво и равнодушно:
— Ништо, барыня. Мы привычны. От него дух легкий, от можжевельника-то.
Сквозь синий, кудрявый дым можжевельника её сладкий голос кажется приторным, горьким. В горле у Елены Кирилловны начинает першить, её голова слегка томно кружится. Елена Кирилловна торопится уйти, испускается с крыльца, в свой обычный утренний путь.
XIX
В это время выбегает за нею Глаша. Она преувеличенно-громко топочет по гулко сбегающим ступенькам быстрым мельканием крепких ног, розовеющих словно крылатыми стопами из-под взвиваемой её бегом розовой юбки, и звонко кричит озабоченно-радостным голосом:
— Барыня, чтой-то вы пошли без ничего! Еще вам солнцем напечет. Вот извольте вашу шляпку.
Соломенная шляпа, желтая, с темно-лиловою лентою, в Глашиных руках мелькает, как странная, порхающая низко птица.
Елена Кирилловна надевает шляпу, и говорит Глаше:
— Что ты растрепою бегаешь! Приоделась бы, — знаешь, кого мы ждем.
Глаша молчит, и на её лице появляется жалостливое выражение. Она долго смотрит за уходящею барынею, покачивает головою, потом улыбается и идет домой.
Степанида громким полушепотом спрашивает ее:
— Что, все внучка ждет?
Глаша отвечает жалостливо:
— Да уж и не говори! Просто смотреть то на них, жалость берет, столько времени изводятся.
А Елена Кирилловна идет по двору, в огород, мимо служб и людских на скотный двор, и потом в поле. Вдоль садовой ограды она выходит на дорогу.
Там, недалеко от сада, под тенью старой развесистой липы стоит скамейка, — когда-то покрашенная в зеленый цвет доска на двух столбиках. Отсюда видна дорога, и речка, и сад, и дом.
Елена Кирилловна садится на скамейку. Смотрит на дорогу. Сидит тихо, маленькая, худенькая, прямая. Ждет долго. Потом начинает дремать.
Сквозь тонкую дрему порою улыбнется вдруг милое смуглое лицо, и зовет тихонько родной голос:
— Бабуся!
Она встрепенется, откроет глаза. Нет никого. Но она ждет. Верит и ждет.
XX
Воздух земной жизни легок. Дорога светла и тиха, ветер легкий и отрадный веет мимо, мимо. Солнце греет старые кости, сквозь платье лаская худенькую спину. Все вокруг ликует в зеленом, золотом и голубом. Листва берез, ив и лип медленно шелестит, зелено и влажно. В полях медвяно пахнет клевер.
Ах, как легок, ах, как сладок воздух земной нашей жизни!
Как ты прекрасна, моя земля, изумрудная, сапфирная, золотая! Кто из рожденных на тебе захотел бы умереть? Захотел бы закрыть глаза на твои тихие прелести и на твои великолепные просторы? Кто из почивающих в тебе, мать земля сырая, не захотел бы встать, не захотел бы вернуться к твоим очарованиям и усладам?
И пламенеющего жаждою жизни кто, жестокий, прогонит в смертную синь?
По дороге, где он ходил, он опять пройдет. По земле, еще его следы хранящей, он опять пройдет. Боря, милый бабушкин Боря вернется.
Вот, пролетая, пчела золотая жужжит. Говорит золотая, что Боря вернется в тишину старого дома, отведает душистого меда, — сладкого дара мудрых пчел, жужжащих под солнцем земной, милой жизни. И пчелиного ярого воска свечу затеплит бабушка радостно перед иконою Приснодевы, — дар мудрых пчел, жужжащих в золоте дневных лучей, — дар человеку и дар Богу.
Вот проходят по дороге деревенские женщины и девушки с обветренными румяными лицами. Кланяются старой барыне, и жалостливо смотрят на нее. Елена Кирилловна улыбается им, и говорит привычно-ласковым голосом:
— Здравствуйте, милые!
Они проходят. Их крикливые голоса замирают вдали, и забывает о них Елена Кирилловна. Они опять пройдут здесь еще сегодня, когда настанет их час. Пройдут. Вернутся. По дороге, где косно лежат их пыльные, скучные следы, пройдут они опять.
XXI
Елена Кирилловна очнулась вдруг от своей полудремы. Обвела недоумевающим взором всё, предстоящее здесь ей.
Всё было ясно, светло, беззаботно, — и беспощадно. Неуклонное, все выше поднималось на гору небес торжественное светило. Уже видно было, что оно злое, мудрое, яркое, равнодушное к земной тягостной печали и к сладким радостям земным. И смех его высок, безрадостен и беспечален.
Все, как и раньше, было зеленое, голубое и золотое, многотонно и ярко окрашено, словно для светлого праздника все окрест предметы в природе показали истинный цвет своей души. Но уже легкая пыль на безмолвной дороге потеряла розовые заревые оттенки и вздымалась теперь по ветру серою, скучною фатою. Когда же утихал ветер, и пыль никла не вдруг, то словно серая змея безглазая влеклась тучным призрачным чревом, и обессилев падала, распластывалась и издыхала.
Скучною стала вся обычность. Эта липкая скука ясных повторений начинала томить Елену Кирилловну серым предчувствием тоски, горьких слез, отчаянных молений, безнадежности.
XXII
Из калитки в сад показалась Глаша. Весело глянула она по дороге в обе стороны. Замедляя шаги, чинно подошла к Елене Кирилловне.
Глаша теперь уже была обыкновенная, дневная, скучная. Уже нечему было в ней завидовать. И уже одета она по-дневному. На голове у неё косы сложены, как у барышни, и заколоты тремя прозрачно-рыжими гребенками. Кофточка светлая, — по белому розовые полоски и лиловые цветочки, — с короткими рукавами до локтя. Прямая синяя юбка. Белый передник.
Елена Кирилловна спросила:
— Ну, что, Глашенька? Сонюшка-то вышла?
Глаша ответила почтительно:
— Софья Александровна встают. Сейчас выйдут. Приказали спросить, можно на террасе накрывать?
— Да, да, на террасе. А что Наташенька? — спрашивала Елена Кирилловна, тревожно глядя на Глашу.
— Барышня спят, — отвечала Глаша. — Сегодня опять утром бегали гулять прямо с постели, ничего даже не покушавши. Юбочка вся в росе. Как бы не простудились. Теперь спят. Хоть бы вы им сказали.
Елена Кирилловна говорит неопределенно:
— Ну, ну. Пойду уж я. Иди себе, Глашенька.
Глаша уходит. Елена Кирилловна медленно поднимается со скамейки, точно жалея расстаться с тем местом, где в легкой дреме пригрезился ей Боря. Медленно идет она к дому.
Возле калитки она останавливается, и еще смотрит недолго на дорогу, в ту сторону, где станция.
Телега гулко тарахтит по укатанной дороге. Мужик еле держит вожжи, и покачивается сонно. Чалая лошаденка машет хвостом и головою. Беловолосый мальчуган, свесив с края телеги коричневые ноженки в широких синих штанишках, таращит васильковые светлые глазенки на собаку. А собака, тощая, злая, бежит и хрипло лает.
Елена Кирилловна вздыхает, — Бори все еще нет, — и уходит в сад.
На террасе мелькает светлая Глашина кофточка. Звенит посуда. Слышен ворчливый говор старой Бориной няньки.
XXIII
Позже всех, когда уже солнце на небе высоко и греет жарко, просыпается Борина мать, Софья Александровна. Сквозь легкие светлые занавески, которыми задернуты у неё на ночь окна, уже ясным светом облита вся её спальня.
Софья Александровна просыпается вдруг, точно разбуженная толчком каким-то, или чьим-то зовом. Правою рукою она порывисто и сильно отбрасывает легкое белое одеяло. Быстро садится на постели, согнувши колени, и охватывает их руками. Потом с минуту смотрит прямо перед собою, в какое-то пустое место среди легкого узора светло-зеленых обоев.
Глаза у Софьи Александровны черные, широко открытые, с черными пламенниками, затаившимися в бездонной глубине жуткого взора. Лицо бледное, продолговатое, с ровною матовою кожею, совсем свежее, почти без морщин. Губы ярко пылают.
Софья Александровна смотрит, словно пораженная каким-то ужасным внезапным видением. Покачивается вперед и назад.
Потом она порывисто, одним прыжком, соскакивает с постели. Бежит к умывальнику, — белый мрамор и красное дерево. Моется быстро, точно торопится куда-то. Бежит к окну. Отдергивает занавески. Смотрит тревожно, какая погода, не ходят ли в небе тучи, из которых пойдет дождь, и тогда будет грязно по дороге, где поедет, возвращаясь домой, Боря.
Небо тревожно-радостное. Березки шелестят хрупким шелестом. Воробьи воровато и торопливо чирикают. Все зелено, ярко, страстно, во всем дышит напряжение надежд и ожиданий. Голоса слышны, — перекликаются звонко.
Софья Александровна отрывисто говорит:
— Глаша, скорее, одеваться!
И нетерпеливо смотрит, как Глаша освобождается от своей ноши.
Торопливо совершается обычный обряд. Софья Александровна одевается сама. Глаша только застегивает ей башмаки и крючки платья сзади.
Скоро Софья Александровна совсем готова. Рассеянно и коротко глядится она в зеркало.
Её бледное лицо кажется еще молодым и красивым. Она тонкая, как и её мать, и невысокая. На ней белое, узкое платье с широкими, короткими рукавами. Прическа греческим узлом, перетянута двойным обхватом красной ленты. На маленьких, стройных, с высоким подъемом ногах цветные шелковые чулки, белые башмаки, на них серебряные пряжки.
XXV
Софья Александровна быстро идет в столовую. Там на столе стоит белый кувшин с парным молоком. Она сама наливает себе стакан молока. Стоя выпивает его, и съедает кусочек черного хлеба.
В то же время она заказывает обед. Все такие выбирает блюда, которые любит Боря. Напоминает, что Боря любит, чтобы вот это было сделано так-то, и не любит вот того-то.
Степанида слушает ее уныло, и плачущим голосом повторяет:
— Да уж знаю! Да уж что там! Не первый раз.
Что-то спрашивает Глаша. О чем-то многословно толкует дряхлая няня. Машинально, торопливо отвечает им Софья Александровна. И кажется, что она прислушивается, не гремит ли дальний колокольчик, не стучат ли по дороге колеса. Торопится уйти. И уже не слушает, что еще ей говорят. Уходит.
Идет в Борин кабинет. Там все по-старому, и все прибрано. Когда Боря вернется, то найдет все на месте.
Софья Александровна заботливо и торопливо обходит комнату. Она смотрит, всё ли на месте, стерта ли пыль, положен ли коврик перед кроватью, налиты ли чернила в чернильницу. Сама переменяет воду в вазе с васильками. Если что не в порядке, досадливо плачет, звонит, и горько упрекает Глашу.
У Глаши тогда становится испуганное, жалостливое лицо. Она смиренно просит прощения.
Софья Александровна выговаривает ей:
— Как это ты так, Глаша! Ведь ты знаешь, мы ждем его с минуты на минуту. Вдруг он войдет, и такой беспорядок.
Глаша говорит смиренно:
— Простите, барыня. Уж вы себя не расстраивайте, я живым духом.
Выходит, и роняет на белый передник две-три слезинки жалости.
XXVI
А Софья Александровна уже идет торопливо в сад. Ни на что не глядя, ни белой Афродиты не видя, ни её алых роз, идет в ту беседку, высоко над углом забора, из которой видна дорога. Над беседкою кровелька в четыре ската зеленеет железная, от солнца, а от любопытных глаз суровое полотно занавесок с красною обшивочкою.
Софья Александровна смотрит на дорогу жадными черными глазами. Ждет нетерпеливо, прислушиваясь к быстрому, неровному стуку сердца, — ждет, вот покажется Боря.
Ветер веет ей в лицо, и задевает его краем занавески, — но лицо у неё бледное, и глаза у неё сухие. Солнце жарко целует её тонкие руки, — но они лежат неподвижно на широком лиловато-сером парапете беседки. Ярко, зелено и многоцветно все в полях, — но её глаза прикованы к серой пыльной змее, разлегшейся на просторе полей.
Если так ждут, неужели Боря не придет?
Но его нет. И напрасно пронзают жадные взоры пустынный простор, — Бори нет.
Все напряженнее, все неотступнее прикован к дороге её безумно-тоскующий взор, — но Бори нет.
Все только то же, что вчера, что всегда. Мирно, безмятежно, — беспощадно.
XXVII
Был час первого, раннего завтрака. Сидели все трое на террасе у накрытого стола. Был поставлен и четвертый прибор, и стоял четвертый стул, на всякий случай, — может быть, Боря подъедет к завтраку.
Солнце было уже высоко. День становился зноен. Алые розы у пьедестала богини благоухали все жарче. Еще яснее и безмятежнее улыбалась мраморно-белая Афродита, вечным движением роняя дивные складки одежды. В ярком сверкании солнца песок на дорожках казался желтовато-белым. Тени от деревьев были резки и черны. Казалось, что от них исходит земляной, сочный, теплый запах.
Женщины сидели так, что каждой из трех видна была за раскрытыми занавесками террасы и за кустами неширокой и недлинной аллеи садовая калитка и за нею часть дороги, — и видели они всякого прохожего и проезжего.
Но в этот час дня почти никто не проходил и не проезжал мимо старого дома.
За столом служа, Глаша надевала на круто сложенные косы свежевыглаженный чепчик с подкрахмаленными бантами и с плоеною сквозною оборочкою. Забавно мелькал этот снежно-белый чепчик над свежею загорелостью Глашина лица.
В саду под террасою на скамеечке, на открытом месте сидела старенькая Борина нянька, в темно-лиловой кофточке, черном платье и темно-синем платке. Она грела на жарком солнце старые косточки, прислушивалась к разговору на террасе, ворчала что-то, а то дремала.
Она ширококостая, полная. Лицо у неё круглое, приятное, и даже сквозь мелкую сеть морщин видно, что когда-то было красивое. Глаза еще ясные. Волосы седые, гладко причесанные. На лице и во всей фигуре застывшее выражение унылого добродушия.
XXVIII
Как всегда, ели и пили, и разговаривали весело и дружно. Иногда говорили сразу двое. Если бы послушать из сада, то казалось, что на террасе сидит большое общество.
В разговоре часто слышится Борино имя:
— Как бы не забыть, Боря любит…
— Может быть, Боря привезет…
— Что-то Бори еще не видно…
— Я думаю, Боря приедет с вечерним…
— Надо спросить Борю, читал ли он…
— Может быть, Боря это знает…
А внизу под террасою старая нянька всякий раз, как только услышит Борино имя, крестится и шепчет:
— Упокой, Господи, душу раба твоего Бориса.
Сначала шепчет тихо, потом все громче и громче.
Наконец сидящие за столом на террасе женщины слышат эти слова. Тогда они вздрагивают, и тревожно переглядываются. На их лицах изображается смутный страх. Но они сейчас же опять начинают разговаривать еще громче, и смеются еще веселее. Говорят без перерыва, и за шумом их голосов и смеха не слышат пока нянькина бормотания в зеленеющем весело саду.
Но упадут случайно голоса после того, как названо милое имя, — и опять слышатся тихие, страшные слова:
— Упокой, Господи…
За завтраком сидят долго, больше говорят, чем едят. Тревожно посматривают на калитку. Кажется, что им страшно встать из-за стола и куда-нибудь идти, пока нет еще с ними Бори.
XXIX
К концу завтрака приходит почта. За нею каждый день ездит на станцию четырнадцатилетний паренек Гриша верхом на гнедой, смирной лошадке. Он бойко скачет мимо калитки, подымает облака серой пыли и отчаянно болтает в воздухе локтями. При этом его пыльные ноги колотятся пятками в бока его кобылки, а на ремне через плечо болтается черная сумка.
Гриша оставляет лошадку на дворе, а сам с кожаною сумкою идет через сад, и чему-то широко ухмыляется. Поднимаясь по ступенькам террасы, он объявляет громко и радостно:
— Почту привез!
Он веселый, загорелый, потный. От него пахнет солнцем, землею, пылью и дегтем. Пясти рук и стопы ног у него крупные, как у взрослого. Губы мягкие и пухлые, как у добродушного жеребенка. У косого ворота его рубахи не хватает пуговок, видна сквозь ворот полоска загорелой груди да серый кусочек гайтана.
Софья Александровна порывисто поднимается со своего места. Отбирает от Гриши сумку. Быстро опрокидывает её на стол. На белую скатерть сыплется груда бандеролей. Все три женщины склоняются над столом, и ищут писем. Но письма бывают редко.
Наташа хмуро смотрит на ухмыляющегося паренька. Спрашивает:
— Писем нет, Гриша?
Гриша переступает по ступеньке лестницы большими ногами, кирпично-красными от солнца, ухмыляется и отвечает всегда одними и теми же словами:
— Письма еще пишут, барышня.
Софья Александровна говорит нетерпеливо:
— Ну, иди, Гриша.
Гриша уходит. Женщины принимаются читать газеты.
Софья Александровна берет «Речь». Читает ее быстро. Часто говорит то, что остановило в газете её внимание.
Наташа раскрывает «Слово». Читает молча, медленно и внимательно.
Елена Кирилловна берет «Русские Ведомости». Неспешно разрывает бандероль. Раскрывает на столе весь лист. Читает, быстро бегая глазами по строчкам.
XXX
Няня, кряхтя, медленно поднимается по ступенькам. Софья Александровна отрывается на минуту от газеты и смотрит на старуху испуганно. Наташа нервно вздрагивает и отвертывается. Елена Кирилловна читает спокойно, не глядя на няньку.
Нянька вздыхает, садится на скамейку у входа, и спрашивает монотонно, — один и тот же вопрос каждый день.
— Казненных-то нынче сколько пропечатано? Повешено-то сколько?
Софья Александровна роняет газету, вскакивает и вся бледная, смотрит на старую. Все её тело дрожит мелкою дрожью. Елена Кирилловна складывает газету, отодвигает ее, и смотрит прямо перед собою остановившимися глазами. Наташа встает, повертывается внезапно побледневшим лицом к старухе, и говорит каким-то не своим, деревянным голосом:
— В Екатеринославе — семь, в Москве — один.
Или другие города и другие цифры, — то, что принесли свежие газетные листы. То, что они приносят нам каждый день.
Нянька поднимается со скамейки, и крестится истово.
Говорит:
— Упокой, Господи, души рабов твоих! И сотвори им вечную память!
Тогда Софья Александровна вскрикивает отчаянно:
— Боря, Боря, Боря мой!
Лицо её так бледно, что кажется, как будто бы ни одной кровинки не осталось под матовою, эластичною кожею. Судорожным движением сжимая руки, она с ужасом смотрит на Елену Кирилловну и на дочь. Елена Кирилловна отводит глаза в сторону, и, глядя на старую няньку, качает укоризненно головою. Голова её трясется, как и у старенькой няньки, а на глазах проступают, как ранние росинки вечером, скупые слезы.
Наташа упрямо смотрит на мать, и говорит побледневшими, трясущимися губами:
— Мама, успокойся.
Вдруг голос её опять становится холодным и деревянным, — и точно кто-то чужой и злой заставляет ее медленно, отчетливо произносить все те же каждый день слова.
— Ведь ты же знаешь, мама, что Борю повесили еще в прошлом году!
Смотрит на мать неподвижным, жутким взором слишком черных глаз, и повторяет:
— Ты же это знаешь, мама!
Глаза у Софьи Александровны широко открыты, сухи, в них ужас, и глубокие пламенники в их слишком черной глубине горят безумно. Она повторяет беззвучно, глядя прямо в Наташины глаза:
— Повесили!
Садится на свое место, смотрит жуткими глазами на белую Афродиту и на алые розы у её ног, и молчит. У неё белое лицо и алые губы, лицо неподвижное, и губы крепко сжатые, в немигающем взоре её черных глаз затаилось безумие.
Перед изваянием вечной красоты, перед благоуханием мгновенно-торжественных роз она каменеет образом вечной скорби неутешной матери.
XXXI
Елена Кирилловна тихо уходит по боковой узкой лесенке в сад. Садится на дальнюю скамейку. Смотрит на затянутую зеленою ряскою гладь пруда, и плачет.
Наташа поднимается к себе в мезонин. Открывает книгу. Старается читать. Не читается Наташе. Она откладывает книгу, и смотрит в окно, и глаза её мертвеют.
Над старым домом все выше и выше поднимается беспощадно-ясный Дракон. Радостным смеющимся кольцом веселого простора замыкает, как в пламенный круг, омраченную тоскою тишину старого дома. Жесткие мечет лучи, как острые, оперенные стрелы, и дрожит от вечного, неистощимого гнева.
В старом доме тихо и тоскливо. Никого не ждут, никто не приедет. Боря умер. Беспощадное колесо времени не знает поворота назад.
Так ясно, так светло свершается течение дня! Слитный белый свет говорит, что не на что надеяться.
XXXII
Наташа сидит в своей комнате у открытого окна. Книга лежит на подоконнике. Не хочется читать.
Каждая строка в книге напоминает о нем, о нескончаемых разговорах, о жарких спорах. О том, что было. О том, чего нет.
Воспоминания все ярче, и, наконец, достигают ясности и полноты видения, представшего, чтобы очаровать душу.
Меркнет в небе ярый Дракон, — затмился свинцовой тучею. Меркнет и память о нем. Кажется, что в небе ходит холодная, ясная, безмятежно-тихая луна. Лик её бледен, но не от печали. Лучи её чаруют заснувшую землю и недостижимо-высокое небо.
Лунные чары в полях, в отуманенных долах. Матовым светом мерцают на спящих травах тихие, прохладные росы.
В их призрачном мерцании воскресает то, что погибло, — былая нежность и любовь, бросающая на подвиги сверх меры человеческих сил. К устам опять восходят давно уже не петые, гордые гимны и обеты подвига и верности.
И что же из того, что подстерегает подстрекающий злой взор, и с пылкими речами юности смешалась речь предателя! Горение любви дерзающей не угасят и воды холодных океанов, не отравят все зельные лукавые отравы.
Очарованный лунною тайною лес чуток, мглисто темен и молчалив. Непонятны и недоступны людям его медленные, неуклонные переживания и тайна его скованных желаний.
В его лунную тишину принесли люди буйство юной жизни, говора и смеха, — но, очарованные лунною тайною, вдруг примолкли и призадумались.
Полянка в лесу, завороженная зеленым, холодным лунным мерцанием, кажется белою. Обступившая полянку по краям тени деревьев такие неверные, и мглистые, и таинственно-тихие.
Луна медленно, словно крадучись, поднимается все выше по бледно-лазурному склону небес. Круглая, холодная, вся обернувшись в тонкую пелену молочно-белого тумана, она раздвигает своим бесстрастным ликом туманно-тихие вершины заснувших деревьев, и смотрит на поляну немигающим любопытным взором белых глаз.
Матовая россыпь тихой росы на холодных травах поляны тает, — выпивает ее жадно белый ночной туман. Воздух сладок и томен. На край полянки выступает несколько тоненьких, стройных, белоствольных березок, сонно застывших, невинных, как девственные причастницы в зеленых с белым платьицах.
XXXIII
Под тонкими березками на поляне расположились несколько девушек, юношей, подростков. Кто сидит на пенечке срубленного дерева, на поваленном грозою стволе старой березы, кто улегся на разостланном по траве пальто, а кто к стволику березки прислонился спиною. Бегает одинокий, слабый огонек папироски и скоро гаснет.
В светлом, грезовом тумане все кажется белым, призрачным, сказочно-очаровательным. И кажется, березки на поляне и луна на небе ждут чего-то.
Здесь Наташа. Подруга Наташина, московская курсистка, с остренькою беленькою мордочкою хорошенького, веселенького зверька. Боря и его товарищ, — два мальчика, оба худенькие, и почему-то похожие один на другого, в полотняных курточках, с неживыми лицами Несторовских отроков, с горящими кругами темных глаз.
И еще один, высокий, плотный, в темной блузе. Он смотрит самоуверенно, и кажется самым знающим, опытным и бывалым.
Его обступили подростки и девушки, и упрашивают. Простодушно-радостные, нетерпеливые звенят голоса:
— Спойте, спойте нам Интернационал.
Боря, мальчик с бледным, нахмуренным лбом, с иссиня-черными кругами около глаз, смотрит ему в глаза, и упрашивает усерднее всех.
Высокий, плечистый Михаил Львович смотрит исподлобья, и упрямо отказывается, не хочет петь.
— Не могу, — говорит он угрюмо. — Я сегодня что-то не в голосе.
Боря и Наташа настаивают.
Михаил Львович машет рукою, и так же угрюмо говорит:
— Да ну, уж ладно.
Все рады.
Михаил Львович становится на колени. Над туманно-белою поляною, над белолицыми мальчиками, над белым туманом поднимаются к луне, тихо в небе ворожащей, слова гордого, страстного гимна:
«Восстань, проклятьем заклейменный!»Михаил Львович поет. Глаза его упрямо смотрят в землю, на холодные травы, белые в жутком свете полной, ясной луны. Точно он не хочет или не может посмотреть прямо в глаза этим девочкам и мальчикам, в эти доверчивые, чистые глаза.
А вокруг него столпились, — так близко, близко к нему приникли невинно-дышащие молодые девушки, мальчики стоят около него на траве на коленях, наивно смотрят ему прямо в рот и тихонько подпевают. Растет, ширится гордая, отважная мелодия. Торжественным пророчеством звучат вещие слова:
— «В Интернационале Объединится род людской»XXXIV
Михаил Львович допел до конца. Была минута молчания. Потом растроганные, взволнованные голоса, — все вместе зазвучали, колыша влажную лесную тишину.
Ясные девичьи глаза смотрят, не отрываясь, на угрюмо склоненное лицо Михаила Львовича. Звонкий девичий голосок молит настойчиво и нежно:
— Еще пропойте, пожалуйста, милый. Повторите еще раз. Я запомню слова. Я хочу выучить их наизусть.
Наташа подходит и говорит тихо:
— Мы все выучим эти слова и будем петь их каждый день, как молитву. С верою будем петь.
Михаил Львович, наконец, поднимает глаза. Маленькие, блестящие, умные. Теперь они строго и пытливо уставились на вдруг смутившуюся от этого змеиного взора Наташу.
Михаил Львович говорит ей угрюмо:
— Ну, петь-то в лесу, втихомолку, не большая нужна храбрость. Всякий сумеет.
Наташа багряно вспыхивает. В глазах её зажигаются черные огни недетской решительности. Она говорит слегка вздрагивающим голосом:
— Мы выучим слова, и споем их там, где это будет надо. Боже мой, да разве одни у нас слова, только слова! Мы готовы на дело.
Боря повторяет за нею:
— Мы готовы. Мы исполним все, что надо. И, если понадобится, умрем.
Михаил Львович говорит со спокойною уверенностью:
— Ну, я знаю.
В глазах его, упрямо прикованных к земле, горит тусклый огонек.
XXXV
Минута молчания. И опять звонит тоненький голосок. Говорит тоненькая, как березка, двушка с остреньким веселеньким личиком:
— Боже мой! Какая сила! Какой пафос!
Михаил Львович неторопливо поворачивает к ней лицо. Угрюмо улыбается и молчит.
Девушка заломила на коленях руки, её поза удивительно красива. Лицо её вдруг становится значительным и дышит усердною мольбою и пламенною решительностью. Она горячо восклицает:
— Давайте петь все хором! Все! Михаил Львович нас поучит. Правда, Михаил Львович? Поучите?
Михаил Львович с угрюмою важностью соглашается:
— Ладно.
Он обводит тесный круг восторженных детей тусклым, тяжелым взором. Он один сидит спиною к поляне и чарующей в небе луне. Его лицо кажется темным, и оттого еще более значительными. Все, что исходит от него, носит теперь печать особой угрюмой торжественности.
А лица детей в лунном свете белы. Одежды их лунно-светлы. Голоса их лунно-прозрачны. В их простодушной доверчивости есть нечто обреченное.
Тоненькая девушка, волнуясь, восклицает:
— Ну, начинаем!
Михаил Львович торжественным, тяжелым движением поднимает руку, и начинает:
«Восстань, проклятьем заклейменный!»Девушки и мальчики благоговейно поют, сливая свои звонкие, чистые голоса с гудящим низко голосом Михаила Львовича. Жарким восторгом восстания и освобождения пылают их юные голоса. Выше, выше, выше белых туманов и темного леса, к облакам серебристым, к мерцающим тихо звездам, к луне ворожащей восходят призывные звуки гимна.
И белоствольные кудрявые березки, и молочно-белая застывшая в холодном небе луна, и белая, серебрящаяся, примятая детскими колонками трава, — все тихо, все молчит и слушает чутко. Все окрест чутко и торжественно слушает, как эти дети, светлые, облитые прозрачным серебром холодного лунного мерцания, склонив на траву колени, подняв к пустынно-ясному небу горящие темными кругами на бледных лицах глаза, поют, повторяя слова вслед за высоким, слишком полным молодым человеком, лицо которого темно, и взоры упрямо прикованы к земле. Повторяют:
«В Интернационале Объединился род людской!»Чужестранное, нерусским звуком взятое слово звучит, как высокое, святое наименование обетованной земли. Новой земли под новыми небесами. Земли, в которую верят, земли, без благочестивой мечте о которой и жить нельзя.
Когда замолк гимн, от земли до небес простерлось молчание, святое и торжественное. Как в храме нового, неведомого культа, в таинственный миг жертвоприношения.
XXXVI
Михаил Львович первый нарушает тишину. Он говорит медленно, ни на кого не глядя, устремив тяжелый взор поверх детских бледных лиц, за пламенный круг их взоров:
— Друзья, вы знаете, какое теперь время. Каждый из нас может понадобиться. Если кого-нибудь из нас пошлют, то, надеюсь, никто из нас не будет дрожать за свою драгоценную жизнь, никто не разжалобится мыслью о маменькином горе.
Дети восклицают:
— Никто! Никто! Только бы послали!
И Наташа думает гордо:
«Что же горе одной матери в сравнении со страданиями целого народа!»
На мгновение встает в памяти матово-бледное лицо матери, и её слишком черные, вещие глаза. Острая боль мгновенно пронзает сердце. Но что ж, ведь это только один миг слабости. Гордая воля победит это малое страдание об одной близкой великою любовью ко многим далеким, но тяжко страдающим.
Что же горе одной матери! Пусть Ниобея вечно плачет о детях своих, умерщвленных жгучими, отравленными стрелами высокого Дракона, пусть Рахиль никогда не утешится, — что же горе бедной матери! Безоблачен Аполлонов лик, светел Аполлонов сон.
Но больно, больно! Меркнет милая мечта, словно темный лик рокового человека, запевавшего гордый гимн, затмил ворожащую в небе луну, и на самое сердце бросил угрюмую тень.
И нет луны, и нет ночи, и нет белой полянки в тумане в лесу. Снова ясный день перед Наташею, и она у окна, и перед нею книга, и старый дом молчит опять тоскливо. Разорялась туча, снова небо ясно, — брызнули пламенные стрелы злого Дракона, снова о торжестве своем говорит победитель!
Навстречу тоске беспощадной! Жаль, жги, мучь, проклятый Дракон! Торжествуй, победитель! О, скоро и ты склонишься к закату, и обольешь опять полнеба жаркою кровью, умирая на закате!
XXXVII
Наташа надевает соломенную желтую шляпу и идет в поле. Земля горяча, небо сине, воздух зноен, ветер спит, нивы желты, травы зеленеют. И опять, утопая в ярком зное, Наташа будит в себе сладкую истому воспоминаний, радующих забвением этого темного дня.
Идет, — и перед нею, как и тогда, то же раскинулось колеблемое жарким ветром золотое, жаркое поле. Воскрес давно пережитый, душный, знойный полдень.
Воскрес…
То было в дни, когда еще Наташа так любила это милое светило, земное, наше солнце, источник жизни и радости, вечный, неутомимый зов к трудам и подвигам, к подвигам свыше сил человека.
О, предательская речь искусителя Змея! Дурманит, и манит, и сказочною страною кажет бедную землю нашу. Зачем?
Зыбкое опять перед Наташею стелется море застывших от жары колосьев и синеньких, миленьких цветочков, застенчиво склонивших перед беспощадным Драконом свои сладко-затуманенные знойными грезами головки.
Наташа и её брат Борис идут вдвоем. Межа тесна. Это их радует почему-то. Не потому ли, что межу обступили золотые волны ржи?
Такая высокая рожь! Из-за её колосьев едва виднеется вправо зеленая кровля старого дома и полукруглое окно в мезонине, и слева маленькие деревенские избы, серенькие, мохнатые.
Наташа и Борис идут друг за другом. Колышутся вокруг них шуршащие сухо стебли ржи, колышутся васильки синеглазые. Колышутся во ржи два тоненьких, хрупких силуэта.
Наташа идет впереди. Борис отстал. Наташа оглядывается.
Мальчик, смуглый, тоненький, с горящими кругами глаз, в полотняной курточке, рвет синие цветочки. И уже большой сноп их едва держится в его руках.
XXXVIII
Наташа смеется и говорит брату:
— Довольно, милый, довольно. Я их не смогу и в руках держать.
Весело отвечает Борис:
— Удержишь, ничего!
Наташа протягивает свою загорелую руку, и берет от него цветы. Она тоненькая, и сноп синеньких васильков раскинулся на её груди, совсем закрыл ее, — такая тоненькая с этим громадным снопом в руках!
Весело спрашивает Борис:
— Ну, что, тяжело?
Наташа смеется. Лицо её светится благодарною радостью и веселою, детскою решительностью. Говорит:
— Уж донесу эти-то, но и довольно.
Борис говорит упрямо:
— Я хочу нарвать тебе как можно больше. Ведь мы может быть, не скоро увидимся.
Голос его при этих словах печально вздрагивает. Наташа говорит задумчиво:
— Может быть, никогда.
Их лица становятся печальны и озабочены.
Борис, хмурясь, смотрит в сторону, и спрашивает:
— Наташа, ты с ним едешь?
Наташа знает, что Борис спрашивает ее о Михаиле Львовиче, — о том человеке, который теперь посылает её на опасное дело, который потом пошлет и Бориса на безумно дерзкий подвиг… Что-ж! Безумство храбрых!
И Наташа отвечает:
— Нет, одна. Он только потом проводит меня до места.
Борис смотрит на Наташу грустными, завидующими глазами, и осторожно спрашивает:
— Страшно, Наташа?
Наташа улыбается. Такая гордость в её улыбке! Говорит спокойно:
— Нет, Борис. Радостно.
Борис видит, что лицо её радостно, и глаза, черные пламенные, веселы. Он смотрит на нее, и её спокойствие сообщается и ему, — спокойная уверенность в себе и в деле.
Безумство храбрых!
Дети идут дальше. Борис опять рвет васильки. Наташа мечтает о чем-то, — сорвала колосок, задумчиво жует зернышко.
XXXIX
Длится жаркий, знойный день. Неумолимый равнодушно глядит на детей Дракон. Он мечет без устали свои острые, багровые стрелы на смуглолицего отрока с пламенными кругами глаз, и на девушку, стройную, тоненькую, черноглазую. Жгучие стрелы его метки и злы, и свет его беспощадно ровен, — но она идет, и в глазах её надежда, и в глазах её решительность, и в черных глазах её горит огонь, на котором пламенеет душа к подвигу свыше сил человека.
Наташа вдруг останавливается в конце межи у пыльной дороги. С нежным любованием смотрит на Бориса. Словно хочет она запомнить покрепче все эти милые черты родного смуглого лица, — излом густых бровей, упрямую сжатость румяных губ, твердый очерк подбородка, строгий профиль.
Вздыхает Наташа легонько. И говорит Борису нежно и весело:
— Довольно, милый. А то меня с таким ворохом, пожалуй, и в вагон не впустят. Скажут, сдавайте в багаж.
Смеются оба беззаботно. А Борис все-таки не может оторваться от васильков.
Говорит:
— Еще, еще только немножко. Я хочу, чтобы у тебя букет был гигантский.
Шутит Наташа:
— Тебе бы все гигантское!
Но уже не смеется. Знает, как это в нем глубоко и значительно.
Борис смотрит на нее, и отвечает, повторяя любимую, задушевную свою мысль:
— Да, это правда, я люблю все такое огромное, чрезмерное. Во всем, во всем! Если бы мы всегда поступали так! Так отдавались бы всецело! О, как иначе сложилась бы тогда вся жизнь!
Наташа задумчиво повторяет:
— Чрезмерно, свыше сил человека, расточать, расточать жизнь. Только бы не скупость, только бы не дрожать над своим, — лучше умереть, всю жизнь собрать в один узелок, и бросить!
— Да, да! — говорит Борис, и глаза его, черные, как ночь, пылают далекою грозою. — Не жалеть жизней, расточать их, расточать без конца, только так можно достигнуть высокой нашей цели!
Перешли через дорогу, опять идут тихо по узкой меже, и одежды их белы среди золотых волн. Наташа протягивает тонкую руку, — шуршат сухо колосья, и тяжелые в загорелую руку падают зерна спелой ржи.
Реют над детьми багровые стрелы неумолимого Дракона.
Дети идут, обреченные оба. Доверчиво идут, и не знают они, что посылающий их — предатель, и что цена их крови ничтожна.
XL
Что же это шуршит вокруг так хрупко? Сегодняшняя рожь. А где же васильки и Борис? Васильки во ржи, синеокие, а Борис повешен.
— А я? — в странном, тяжелом недоумении спрашивает сама себя Наташа.
Озирается кругом, как разбуженная.
— Как же я?
Сама себе отвечает:
— А я уцелела. Меня счастливый случай спас.
Так тяжело Наташе думать об этом. Как можно пережить!
— Лучше бы я погибла!
Так просто это вышло. Наташу поставили третьим номером, у самого вокзала, на случай неудачи первого и второго. Но справился первый, хотя и сам погиб от взрыва.
Второй, услышавши невдалеке от себя взрыв, совсем растерялся. Бросился спасаться. Сел на извозчика. Доехал до реки. Нанял лодку. На середине реки — бросил бомбу в реку. Лодочник догадался, что дело неладно. Да и увидали с казенного парохода и с берега. «Второго» взяли, судили и повесили.
Наташа ничем не выдала себя. Ушла спокойно, — не торопясь, — со своею опасною ношею, никем не замеченная. Вмешалась в общий поток прохожих, озабоченных каждый своим делом. Сдала бомбу, куда было назначено.
Через несколько дней она уехала домой. За нею не следили.
Наташа ждала другого поручения.
И вдруг как-то отошла от этого дела, потому что погибла вера в него.
Это случилось еще до того, как Борю повесили. Разрешилось окончательно в те кошмарные дни, когда неожиданно и быстро была оборвана его жизнь.
Ужасные дни.
Но нет, не надо о них думать, не надо их вспоминать. Вспоминая, казнишь себя.
Лучше будить память о другом, безоблачном, прошлом.
XLI
Волшебное зеркало памяти, в тебе отражено так много! Мелькают милые картины.
Цветы, за которыми они сами ухаживали. Грядка, над которою возились так любовно. Свежий, томный, вечерний дух левкоя. Влажный по заре от росы куст жасмина, от которого пахнет так сладко, — так нежно, что хочется плакать, как плачет росою трава по заре золотой!
Площадка в саду. Столб, гигантские шаги. Как быстро, как высоко взлетали они с Борисом!
Милые детскому сердцу праздники. Сочельник, — елка со свечами на зеленых веточках, с разноцветным блеском золотых орехов, красных, зеленых, голубых подвесок, фольги, белого ватного снега; подарки, всегда неожиданно-радостные. Днем, — снег настоящий, хрупкий, блестящий, как соль; мороз щиплет щеки, солнце красно, рукавички пушисты, шапочки белы и мягки, салазки мчатся с горки, — ух!
А вот наступает Пасха. Торжественная ночь. Заутреня. Радостное пение. Огоньки свеч, огоньки без конца. Пахнет куличами. Разноцветно-расписанные яички. Поцелуи со всеми. Все рады.
— Христос воскрес!
— Воистину воскрес!
А дорогие сердцу покойники мертвы.
Нет. Милые, наивные воспоминания не перебьют рокового круга, воскрешения тех же смутных, отрывочных, страшных воспоминаний. Неудержимо влечется мечта к страшным, последним минутам.
XLII
Жили в столице зимою. Борис учился в последнем классе гимназии. На святках уехал в другой город. Сказал, к родственникам.
Наташа догадалась было. Но он не сказал правды.
— Право ничего, — отвечал он на все расспросы. — Никто меня не посылает. Сам еду. К тете Любе…
Да Наташа и не настаивала.
И вот несколько дней не было от него писем. Но дома не беспокоились. Борис не любил писать. Думали, что веселится и некогда.
Был вечер в начале января. Мать и бабушка были в гостях, Наташа осталась дома. Сказала, голова болит.
— Полежу на диване. Пройдет.
А настоящая была причина, — не хотелось ехать в этот скучный дом к чопорным светским родственникам.
Прислуга тоже отпросилась в гости. Наташа осталась в квартире одна. Легла у себя на диване. Взяла новую, интересную книжку. Читает.
После нескольких дней праздничного веселья и всякой иной суеты Наташа чувствует себя славно. Уютно, спокойно, легко. Занавески на окнах непроницаемо-плотны. Лампа горит весело и ровно, под бисерною бахромою абажура скрывая от глаз ярко-раскаленные, молочно-белые перегибы своих тонких в стеклянной груше ниточек. Вся небольшая комната тонет в светлой зелено-розовой тени.
Страница за страницею, — ровные строки, ровная речь, — утомляют, наконец, Наташино внимание. Наташа дремлет. И засыпает. Раскрытая книга с мягким шумом падает на ковер, и в неровной измятости страниц забывает, где была раскрыта.
XLIII
Вдруг звонок. Наташа встрепенулась.
Наши? Нет. Звонок прозвенел так неуверенно, так робко. Казалось, что это во сне услышала звонок, не наяву, или кто-то маленький и проказливый шалит несмелою рукою.
Или послышалось?
Так дремлется. Лень встать. Пусть звонят.
Но вот и второй звонок, настойчивее, громче.
Наташа вскакивает и бежит в переднюю, оправляя на бегу смявшуюся на валике дивана прическу.
Двери не открывает, вспомнив, что она в квартире одна, и спрашивает:
— Кто там?
Из-за двери слышится негромкий, сиплый голос, словно простуженный, — почтальонский голос:
— Телеграмма.
Забилось сердце боязливо. Так страшно всегда получать телеграммы. Не торопятся только хорошие вести, — злые спешат.
Наташа вложила в узкое железное ложе плоский конец дверной цепочки. Приоткрыла дверь, смотрит. Посыльный с телеграфа, — башлык, бляха на фуражке, заледенелые, обвислые усы, высокий, сутулый, тощий. Сует телеграмму. Просит:
— Расписочку, барышня.
В Наташиной руке дрожит крохотный сверточек серовато-белой бумаги. Наташино сердце вдруг упало, захолонуло. Наташа говорит бессвязно:
— Что там? Боже мой! Расписку?
Бежит к столу. Руки дрожат. Едва вывела фамилию «Озорева» на серой бумаге, по которой скребет и царапает перо.
— Возьмите, вот расписка.
Сунула через цепочку в руки посыльного расписку и на чай. Захлопнула за ним дверь. Бежит к лампе. Что такое?
Разорвала с боку ленточку, читает. Страшные слова. Такие простые, и такие непонятные. Потому что о Борисе.
«Борис стрелял. Арестован вместе с товарищами. Завтра военный суд. Грозит смертная казнь».
XLIV
Наташа перечитывает телеграмму. Быстрый ужас, странно похожий на стыд, мгновенно сжимает её сердце. Она слышит тяжелое стучание крови в своих висках. Точно давит что-то со всех сторон, и тяжело дышать, и словно железные воздвиглись отовсюду вокруг неё стены, и все сдвигаются, — торопливые, бледные, карандашом брошенные на серую бумагу строчки.
Вот медленно, одна за другою, втесняются в Наташино тусклое сознание мысли, тяжелые, злые, беспощадные.
Тупо думает Наташа о том, как сказать об этом маме. Замечает, что дрожат руки. Вспоминает номер телефона Лареевых, где теперь должна быть мама.
Вдруг снова ужас, как лихорадочный озноб, потрясает ее всю с ног до головы. В голове яркая сумятица мыслей.
Нет, это ошибка! Этого не может быть! Безумная, жестокая ошибка! Чья-то бессмысленная, грубая шутка.
Борис, наш милый мальчик, с такими правдивыми глазами, — его повесят! Он захрипит, задыхаясь, качаясь в петле. Тугою острою болью сожмется детская нежная шея, побагровеет смуглое лицо, и, весь в пене, изо рта выползет распухший язык, и широко раскрытые глаза отразят ужас жестокого умирания.
Нет, нет, этого не может быть! Это ошибка! Но кто же так злобно ошибается?
И где же Борис?
Холодное сознание говорит, что это так, что нет никакой ошибки. Слова ясны, адрес верен, — да, да! Ведь этого и надо было ждать. Вот, это же и есть то расточение жизни, о котором он мечтал, — о котором мечтали они оба.
— Люблю все безмерное. Расточать жизнь, — только так достигнем высокой нашей цели.
Ноги дрожат. Все тело точно опустелое. Наташа садится на диван.
Господи, что же это? Как же сказать об этом ужасе маме?
Или скрыть? Самой сделать, что можно? Да нет, что она может сделать одна!
Надо сказать. Скорее, скорее, и нельзя медлить ни минуты. Может быть, еще можно спасти Бориса, ехать, просить.
Что же она сидит! Надо действовать, скорее.
XLV
Наташа бросилась к телефону. Как долго не отвечает станция!
Наконец соединили. Слышна музыка, шум голосов. Веселый знакомый голос спрашивает:
— Кто у телефона?
— Это я, Наташа Озорева.
— А, здравствуй, Наташа, — болтает звонко Маруся Лареева. — Как жаль, что ты не пришла. У нас превесело.
— Здравствуй, милая Маруся. Мама у вас?
— Да, да, у нас. Позвать ее?
— Нет, нет, ради Бога. Скажите ей кто-нибудь, осторожнее…
— Что-нибудь случилось?
— Маруся, у нас страшное несчастье. Нашего Бориса арестовали.
— Боже мой! Да за что же?
— Не знаю. Военный суд. Я в отчаянии. Такой ужас! Ради Бога, не испугайте сразу маму. Пусть она едет домой, скорее, пожалуйста.
— Ах, Боже мой, какое горе!
— Маруся, милая, ради Бога, скорее.
— Сейчас, я скажу своей маме. Подожди, Наташа, не отходи от телефона.
Стоит Наташа с телефонною трубкою, прижатою к уху, ждет. Слышит шум шагов. Кто-то запел.
Опять тот же голос, взволнованный очень:
— Наташа, ты слушаешь? Твоя мама сама хочет с тобою говорить.
Наташа дрожит от страха. Мама, Боже мой!
Переспрашивает:
— Что? Сама хочет говорить?
— Да, да. Я передаю трубку твоей маме.
XLVI
Слышен голос Софьи Александровны, весь разорванный страшным беспокойством:
— Наташа, это ты? Ради Бога, что случилось?
Наташа отвечает:
— Да, мама, это я. Пришла телеграмма. Мама, ты не бойся, это, должно быть, какое-то недоразумение.
Слышен упавший голос:
— Прочти мне сейчас телеграмму.
— Сейчас принесу, — говорит Наташа.
Принесла телеграмму, прочла.
— Что? Военный суд?
— Да, военный.
— Завтра?
— Да, да, завтра.
— Казнят его?
— Мама, ради Бога, не волнуйся. Может быть, можно что сделать.
— Мы туда едем. Наташа, собирайся. Сейчас мы с мамою вернемся домой, и выедем с первым поездом.
Отбой.
Наташа одна. Мечется по пустой квартире. Собирает что-то, роняя вещи в чуткой тишине. Возится с чемоданами, с подушками.
Да, надо посмотреть, когда поезд. Половина первого. Ну, еще успеем на ночной.
Звонок, испугавший еще больше того, первого. Это приехали мама и бабушка, обезумевшая от бледного ужаса.
XLVII
Бессонная, томительная ночь в вагоне. Стук колес, — скрежещущий, мерный. Остановки. Так все медленно! Такая тоска! О, скорее, скорее!
Или желать лучше, чтобы застыло время? чтобы окоченели его распростертые над миром мохнатые крылья? Чтобы немигающим навеки остановился его совиный взор на том мгновении, когда еще не сказано страшного слова?
Приехали, наконец, днем. На вокзале, унылом и грязном их встретил Наташин двоюродный брат, молодой присяжный поверенный. По его бледному, растерянному лицу поняли, догадались, что все кончено.
Говорит много, но бессвязно. Утешает надеждами, в которые сам не верит.
Суд уже был, рано утром. Борис и оба его товарища, — все такая же зеленая молодежь, — приговорены к смертной казни через повешение. Кассационная жалоба не будет допущена. Вся надежда на местного генерала. Он, в сущности, не злой человек. Может быть, удастся вымолить у него облегчение участи, — каторгу без срока.
Бедные матери, о чем они молят!
XLVIII
Поехали к генералу Софья Александровна и Наташа. Долго ждали в пустынном, тихом зале, где блестел лощеный паркет, висели портреты в золотых рамах, и гулки были осторожные шаги мужчин в мундирах, выходивших время от времени из огромной белой двери.
Наконец приняли. Генерал любезно выслушал, и решительно отказал. Встал, звякая шпорами, вытянулся во весь рост, — стройный, высокий, с грудью, увешанною орденами, с седыми волосами, красным лицом, черными бровями и широким носом.
Напрасны унизительные мольбы.
Мама, бледная, гордая мама стояла на коленях перед генералом, целовала, плача горько, его руки, в ногах валялась, — напрасно.
Холодный ответ:
— Простите, сударыня, не нахожу возможным. Понимаю вашу скорбь, вполне сочувствую вашему горю, но что ж я могу? Кто же в этом виноват? На мне лежит тяжелая ответственность перед Престолом и отечеством. Долг службы — ничего не могу. Пеняйте сами на себя — вырастили.
Что же слезы бедной матери! Бейся на холодном паркете головою о черный блеск его сапог, или уйди гордо и молча, — все равно, он ничего не может. Твои слезы и мольбы его не тронут, твои проклятия его не оскорбят. Он — добрый человек, он — любящий отец семейства, но его прямая солдатская душа не трепещет перед словом смерть. На войне он дерзко бросал свою жизнь навстречу смертным опасностям, — что же ему смерть крамольника?
— Но ведь он совсем мальчик!
— Нет, сударыня, это не детская шалость. Простите. Уходите.
Мирно звякают шпоры. Паркет смутно отражает высокую, стройную фигуру.
— Генерал, сжальтесь!
Холодная, белая дверь захлопнулась. Тихий, любезный говор молодого офицера. Поднимает, и помогает уйти.
XLIX
Дали свидание. Несколько минут промчались в сумятице вопросов, ответов, объятий, слез. Борис почти ничего не говорил.
— Ты, мама, не плачь. Я не боюсь. Ну, они иначе не могут. Кормят здесь не дурно. Кланяйтесь родным. А ты, Наташа, береги маму. С нашей семьи довольно. Ну, прощайте.
Какой-то был равнодушный и далекий. Казалось, что думал о чем-то ином, о чем не говорят никому, и звучали его слова, как внешние, так, для разговора.
Ночью перед рассветом Бориса повысили. Казнили его в тюремной ограде. Неведомо где зарыли.
Мать молила на другой день:
— Покажите мне хоть могилу!
— Какая-ж могила! В гроб положили, в землю зарыли, насыпь с землею сравняли, — известно, как казненных хоронят.
— Хоть скажите, как умер.
— Что-ж, молодцом. Спокойно, серьезно. А вот от священника отказался. И креста не целовал.
Так и вернулись домой. Туман тоски навис над ними. А под ним безумная зажглась надежда, — нет, Боря не умер, Боря вернется.
L
Мысль о том, что Бориса повесили, не могла войти в круг будничных, привычных мыслей. Только в зенитный солнечный час да еще в лунную полночь она острым кинжалом врезывалась вдруг в разбуженное сознание. И опять пронзала душу острою, нестерпимою болью, и опять по заре с тупым туманом тусклой тоски уходила прочь. И опять возникала безумная уверенность.
Нет, Боря вернется. Вот звякнет звонок, откроют дверь.
— А, Боря! Где ты пропадал?
Как мы его расцелуем! Новостей сколько!
— Где пропадал, там нету. Пропадал, и нашелся, как блудный сын.
Сколько радости будет!
А старенькая нянька плачет неутешно. Причитает:
— Борюшка, Борюшка, ненаглядненький мой! Я ему говорю: я, Борюшка, в богадельню пойду. А он мне: не хочу, говорит, нянечка, не пущу тебя в богадельню, я тебя, говорит, возьму к себе, старенькая, дай мне только вырасти, живи, говорит, у меня. Борюшка, да что же это!
Утром пошла старая няня в переднюю. Видит, — чье это серое пальто на вешалке? Борино, гимназическое. Разве он сегодня не пошел в гимназию?
Идет в столовую, шамая мягкими туфлями.
— Наташенька, да что это, Борюшка дома? Смотрю, пальто на вешалке. Или болен?
— Нянечка! — восклицает Наташа.
И с испугом смотрит на мать.
Вспомнила старенькая няня. Плачет. Трясется седая голова в черной повязке. Причитает старая:
— Пошла, смотрю, пальто на вешалке. Борюшкино пальто, в гимназию ходил Борюшка, думаю, с чего дома? Не праздник. Борюшка, — нет Борюшки моего!
Все громче вопли. Упала старая, бьется на полу.
— Боречка, Боречка, родненький! Господи, меня бы, старую, прибрал вместо него. На что мне жизнь! Брожу, — ни себе ни людям радости.
Наташа бледная шепчет слова:
— Нянечка, милая, успокойся.
— Успокой меня ты, Господи! Господи, чуяло мое сердце, Сны все снились нехорошие. Сбылись черные сны! Боречка, родной!
Бьется, плачет старая. Наташа просит мать:
— Мамочка, ради Бога, — вели убрать с вешалки Борино пальто.
Софья Александровна смотрит на нее пламенно-черными глазами, и говорит угрюмо:
— Зачем? Пусть висит. Вдруг оно ему понадобится.
О, ненавистные воспоминания! Пока царит на небе злой Дракон, никуда не уйдешь от них.
Наташа мечется, не находит себе места. В лес пойдет, — о Борисе думает, о том, что он повешен. К реке пойдет, — о Борисе думает, о том, что его нет. Вернется домой, — и стены старого дома о Борисе напоминают, о том, что он не вернется.
Бледною тенью ходит по аллеям сада мать, выбирая места, где гуще тень. Сидит на скамеечке бабушка, прямая, как молоденькая институтка, и дочитывает газеты. Все то же каждый день.
LI
Но вот уже вечереет. Солнце низко и багрово. Она смотрит людям прямо в глаза, словно, издыхая, о жалости молит. От речки веет прохладою и смехом белых русалок.
Развеваются весело подолы рубашек у мальчишек, бегающих шумною толпою, и пузырями надуваются их рукава. Где-то вдали пиликает хриплая гармоника, и песня льется развеселая. В поле громко скрипит коростель, и скрип его похож на зычный генеральский храп.
Старый дом опять расправляет и раскидывает далеко свои смятые грубым днем темные тени. Окна его загораются заревою алою радостью.
Томно пахнут в далеких аллеях левкои. Розы на заре еще розовее и благоуханнее. Вечная, розовая нагим мрамором дивного тела, снова улыбается Афродита, роняя одежды движением, пленительным, как прежде.
И все опять, как прежде, к мечтам, безумным надеждам устремлено. Изнеможенная в пылании дня, тоскою ясного дня измученная душа истощила всю свою волю к страданиям, и падает из железных объятий тоски на темную, милую землю былой жизни, вновь орошенную мечтательно-прохладною росою.
И опять, как по заре утром, ждут своего Бориса три женщины в старом доме, на краткое время счастливые в своем безумии.
Ждут и говорят о нем, пока из-за деревьев темного леса не поднимет своего вечно-опечаленного лика холодная луна. Мертвая луна над белым саваном тумана.
Тогда они опять, все трое, вспоминают о том, что Боря повешен, и сходятся к затянутому ряскою пруду плакать о нем.
LII
Прежде всех выходит из дому Наташа. На ней белое платье и черный плащ, её черные волосы прикрыты легким черным платком. В её слишком черных глазах затаились глубокие пламенники. Она стоит, обратив к луне бледное лицо. Ждет остальных двух.
Елена Кирилловна и Софья Александровна приходят вместе.
Елена Кирилловна выходит из дому раньше, но Софья Александровна бежит за нею, и уже у самого пруда ее догоняет. На них черные плащи, черные платки на головах, и черные башмаки.
Наташа говорит:
— В ночь перед казнью он не спал. Луна, такая же ясная, как теперь, смотрела в узкое окно его камеры. На полу его камеры она печально чертила зеленый ромб, пересеченный вдоль и поперек узкими черными чертами. Борис ходил по камере, глядел то на луну, то на зеленый ромб, и думал. Я бы хотела знать, о чем он думал в эту ночь?
Так спокойно звучит её вопрос. Как о чужом.
Софья Александровна порывисто ломает руки, и говорит, и голос её трепетен и напоен тоскою:
— Что можно думать в такие минуты! Вот луна светит, давно уже мертвая. Пять шагов от двери до окна, четыре шага поперек. Мысль прыгает лихорадочно с предмета на предмет. О том, что завтра утром казнь, стараешься не думать. Упрямо гонишь эту мысль. А она стоит, не отходит, давит душу тяжким, уродливым кошмаром. Тоска томит неодолимая. Но не надо, чтобы мои тюремщики и все эти чиновники, которые придут, заметили мою тоску. Буду спокоен. Такая тоска, — завыл бы, к бледной луне поднимая бледное лицо!
Елена Кирилловна шепчет тихо:
— Страшно, Сонюшка.
В её голосе слезы, — простодушные, старухины, бабушкины слезы.
LIII
Софья Александровна, не слушая, продолжаете
— Зачем-то надо, чтобы я шел на казнь смело и решительно. Но не все ли равно? Казнят за оградою, в темной ночи. Умру ли я смело, буду ли малодушно рыдать, молить пощады, отбиваться от палача, — не все ли равно.
Никто не узнает, как я умер. Перед лицом моей смерти я один. Зачем же терпеть мне эту дикую тоску? Завою, зарыдаю, всю тюрьму переполошу моим отчаянным воплем, и город разбужу, свободный, но так же скованный, как и моя тюрьма, — чтобы не один я томился, чтобы и другие сообщились к моему предсмертному томлению, к последнему ужасу моему. Но нет, не надо. Моя судьба, — умру один.
Наташа встает, дрожит, сжимает своею рукою холодную руку матери, и говорит:
— Мама, мама, это ужасно, если один. Не надо, чтобы он чувствовал себя одиноким. Будем с ним.
Елена Кирилловна шепчет:
— Да, Сонюшка, это страшно, если один. В такие минуты!
— Мы с ним, — настойчиво повторяет Наташа. — Мы уже с ним.
На губах Софьи Александровны улыбка, подобная той, которою умирающий встречает свое последнее утешение.
Софья Александровна говорит:
— Последнее утешение, мысль, что я не один. Он со мною. Эти стены призрачны, эта тюрьма — воздвигнутая людьми ложь. Не ложно и не призрачно страдание мое, и в тоске моей я соединен с ними. Бедное утешение! Все-таки я, вот этот я, особенный, сам для себя родившийся Борис, я умираю.
— Я умираю, — повторяет Наташа.
Её голос темен и звучит отчаянием. И все трое молчат недолго, объятые очарованием трогательных слов.
LIV
Опять говорит Софья Александровна. Голос её кажется спокойным, и звучит неторопливо, мирно:
— Нет никакого утешения для умирающего. Тоска его неодолима. Холодная луна мучительно томит его. Из его горла рвется стон, подобный дикому вою плененного зверя.
Тоскливо говорит Наташа:
— Но он не один, не один. Мы же с ним в его тоске.
Её глаза, — они чернее черной ночи, — поднимаются к неживой в небесах луне, и зеленая чародейка отражается в них, и томно мучит.
Софья Александровна улыбается, — и улыбка её мертва, — и голосом неутолимого горя говорит опять медленно и тихо:
— Мы с ним только в его безнадежности, в его жалкой безутешности, в его темном одиночестве. Один, один, он был задушен рукою наемного палача, задушен за страшною оградою, которой нам не разрушить. И мертвая луна томила его, как она и нас томит. Искушала она его безумною жаждою диких воплей, звериного предсмертного воя. А мы теперь, в этот час, под этою луною, разве мы не томимся тою же безумною жаждою — бежать, бежать далеко от людей, и стонать, и рыдать, и метаться от невыносимой тоски!
Она встает порывисто, и идет, ломая прекрасные белые руки. Идет быстро, почти бежит, словно гонимая чужою бешеною волею. Наташа идет за нею неторопливо, но быстро, отчетливо-мертвою походкою автомата. А за ними торопится, роняя скупые слезинки на черный плащ, Елена Кирилловна.
Луна внимательно и равнодушно смотрит на их поспешное шествие через сад, через поле, в тот лес, на ту тихую полянку, где когда-то дети пели гордый гимн, где когда-то к безумным подвигам звал их тот, кто собирался продать их за сходную цену, — юная кровь за золото.
В полях росисты травы. Над речкою бел туман. В небе луна ясна и холодна. Так везде тихо, точно в мертвом лунном свете потонули все земные шорохи и шумы.
LV
Вот и поляна. Наташа, помнишь? Как дружно пели! «Восстань, проклятьем заклейменный». Наташа, споешь? Не страшно?
— Спою, — кому-то тихо отвечает Наташа.
Поет тихонько, почти про себя. Слушает мать, и бабушка слушает, — а березкам, и травам, и ясной луне какое дело до людских песен!
«В Интернационале Объединится род людской!»Замолкла. Тихо в лесу. Луна ждет. Туман задумчив. Березки чутки. Небо ясно.
Ах, вся эта жизнь для кого? Кто зовет? Кто отзовется? Или все это — мертвая игра?
Громким воплем зовет мать:
— Боря, Боря!
Заливаясь слезами, отвечает Елена Кирилловна:
— Боря не придет. Его нет.
Наташа протягивает руки к неживой луне, и кричит:
— Бориса повесили!
Они все трое становятся рядом и смотрят на луну, и плачут. Все громче и отчаяннее звучат их рыдания.
Их стенящие вопли переходят наконец в протяжный, дикий вой, слышный далеко окрест.
Собака у избушки лесника настораживается. Дрожит всем худым телом, подняла ухо, взъерошила редкую шерсть. Встала, вытянулась на сухих лапах. Острая морда с оскаленными зубами поднята к мучительной луне. Глаза горят тоскливыми огнями. Собака воет, вторя далекому плачу женщин в лесу.
Люди спят.
Золотая лестница
I
Со времени смерти своей матери Леонид не мог и не хотел утешиться. Над ним тяготила неотступная печаль, такая несвойственная его возрасту, — ему только на днях исполнилось пятнадцать лет. Прошло уже несколько месяцев с того дня, когда по талому снегу истлевающей зимы погребальная колесница двигалась медленно от большой лестницы старого прадедовского дома по старой березовой аллее, сопровождаемая толпою родных, друзей и знакомых, колесница черная с белым, матовая и страшная, увозя бездыханное в тесном гробу тело его милой мамы, — и все еще, как первый день смертной скорби, смутен и грустен был Леонид, и ничему не улыбнулся, и не обрадовался ни разу ничему. Ничему!
Каждый день рано утром спускался он в сад по каменной широкой лестнице, и садился на скамье, поставленной на её нижней площадке. Смотрел на эту высокую серую лестницу, по которой так медленно и печально несли тогда черные люди белый гроб, — смотрел, вспоминал, мечтал о чем-то грустном. Когда было необходимо заняться чем-нибудь, он с тоскою и неохотою оставлял свое любимое место, и потом опять торопился к подножию высокой лестницы.
В полугоре стоял старый, большой дом, — он теперь, вместе со всем этим имением, принадлежал Леониду. Каменная, длинная лестница вела от него вниз, к аллее старых берез и к весело зеленеющему саду. Из серого камня были вытесаны столбики её перил, и она лежала на горе, холодная и печальная. Там, наверху, где была терраса у входа в дом, еще не кончалась она, загибала на левую сторону дома, и поднималась снаружи к высокой башне, с которой далекие видны были окрестные просторы. В сравнении с домом лестница казалась слишком большою, и каменная, холодная печаль её, казалось, тяготела над обоими жильями старого дома, и восходила к высокой башни, небесам открывая, безмолвным и высоким, свои высокие, холодные томления, свои тусклые, вечные вздохи.
Когда багряная на радостном небе играла вечерняя заря, недолгою радостью алели холодные, каменные ступени, — и бессильно погасали опять.
Но ясны ли были небеса над лестницею и над башнею, омрачались ли они печалью темных туч, — Леониду всегда казалось, что невидимые вестники печали нисходят к нему по каменному холоду ступеней. И у них крылья остры, длинны и черны, и в глазах у них пламенная тьма, и в нежных руках у них до краев наполненные слезницы. Взоры их упадали глубоко в душу Леониду, — и не улыбался он дню и солнцу, и не радовался веселью и смеху, закипавшим в просторах старого сада.
Напрасно благоухали и пестрели перед Леонидом цветы, оберегаемые заботливостью опытного, искусного садовника, — напрасно небеса над Леонидом голубели в высокой ясности безоблачного дня, — напрасно звенели над ним быстрые вскрики легкокрылых птиц и забавно-радостные их щебетания, — напрасно приходили к Леониду говорить с ним, утешать его и забавить его многочисленные родственницы, — сестры, тети, — и подруги их, и улыбались ему карминно-алою прелестью беззаботных улыбок, — напрасно! Леонида не радовало ничто, и ничто не вызывало на его устах улыбки.
II
Сестра его Елена говорила ему:
— Мы все любили маму…
И темно-карие глаза её становились влажными.
— Мы все не можем забыть ее…
И легкою печалью омрачалось её милое лицо, — милое лицо чистой сердцем семнадцатилетней девушки.
— Но разве мама, наша милая мама, была бы довольна, если бы видела, что мы тоскуем и плачем без конца?
И отвечал ей Леонид:
— Когда я закрою глаза, мне представляется, что по этим ступеням идут ко мне из нашего дома один за другим вестники печали. И подходят ко мне один за другим, и я вижу острый излом черных крыльев, и — слышу, — каждый говорит мне горькое слово. И в словах их — укор неправедной жизни и хвала утешающей смерти. И проходят. Когда я прихожу сюда ночью, я опять вижу их на холодных ступенях, под холодною луною, и одежды их смутно белеют, и очи их темны, и речи их горьки, — ах, горьки, но и радостны, радостны радостью, смертельно жалящею мое сердце!
И говорила ему Елена:
— Они говорят неправду. Что-ж из того, что они приходят к тебе из нашего старого дома! Ты не должен им верить. Они злые послы злого духа, и обманчивы их скорбные взоры, и печальные речи их — ложь. Разве ты не знаешь, что уже давно обличена неправда их злых, коварных внушений?
— Кем обличена? Когда? — грустно спрашивал Леонид.
Прислушивался к её ответу, и надеялся услышать что-то несомненное, что победило бы его тоску. Но не мог поверить тому, что говорила, отвечая ему, Елена.
Говорила:
— Разве ты забыл сладчайшее имя Того, Кто родился, чтобы оправдать жизнь и победить смерть?
И отвечал ей Леонид:
— Он родился, и мы его убили. Он рождается, и мы его убиваем. Ах, знаю, — явлены были чудеса и слава, но нам-то что! Коснеем мы во тьме жизни нелепой и безобразной. И как же не поверить мне милым вестникам нескончаемой скорби, нисходящим ко мне по холоду этой серой лестницы!
Молчали долго.
И спросила Елена:
— Разве мы только убиваем? Страдая творим и, творческим подвигом радуя, радуемся.
— Не знаю радости, — говорил Леонид. — Тяжелые камни на моей душе.
— Я сниму их, — говорила Елена.
— Не хочу, — отвечал Леонид. — Горька печаль моя, но путь мой прав, и не к жизни ведет он. Умру от печали, здесь, у этих серых плит, здесь, у ног непрерывно нисходящих вестников скорби.
И вот выражение непреклонной воли легло на Еленино прекрасное лицо, и черные брови её упрямо сдвинулись, и темные глаза её с угрозою поднялись к старому дому и к серым ступеням, по которым нисходили незримые. Она сказала:
— Нет, так не будет! Если даже и правы они, злые и безрадостные, то все же воля моя преобразит мир скорби в светлый мир восторга. Зачарую вестью радости серые ступени этой тяжелой лестницы, и золотую на её месте ты увидишь лестницу, и по этой золотой лестнице низведу к тебе радостных вестниц, легкую вереницу вестниц обрадованных и радующих. Тогда ты, Леонид, поверишь ли им и мне? Тогда утешишься ли? Тогда благословишь ли легкий, сладкий воздух земного, милого бытия?
— Да, — тихо отвечал Леонид, — тогда поверю, и утешусь, и благословлю. Но нет, Елена, — эта лестница такая высокая, такая тяжелая, такая холодная, — как же ей быть золотою лестницею! По её ли жестким ступеням пройдут нежные ноги тихо радующихся дев?
Ничего не сказала ему на это Елена. Ушла. И оставила его одного с его печалью. К сестрам и подругам ушла, и говорила с ними о чем-то долго, и уговаривала их, склоняя к чему-то.
III
Приходили к Леониду и друзья, и утешая говорили с ним. Сестрица Лиза, влюбленная красавица, готова была без конца говорить о своем женихе. И вдруг, перебивая сама себя, говорила:
— Милый Леонид, поверь мне, — жизнь так хороша, так сладко жить! Только ты один наводишь на всех нас уныние. Перестань тужить и печалиться. Будь, как все добрые люди.
Леонид отвечал ей спокойно:
— Ты счастливая и веселая, иди к таким же веселым и счастливым, а меня оставь.
Она легонько вздыхала и уходила.
IV
Приходила Анна Петровна, фельдшерица. Она садилась рядом с Леонидом, тонкая, прямая, улыбалась сухими, тонкими губами большого рта, закуривала папироску, и говорила:
— Очень вредно скучать так долго. Это может скверно отразиться на вашем здоровье, Леонид.
Леонид мельком взглядывал на туго сложенный на затылке узел черных волос Анны Петровны, и молчал. Анна Петровна продолжала:
— Необходимо принять меры. Лучше всего обратиться к врачу. Но и до прибытия врача можно кое-что предпринять. Гимнастика, игры, купанье, — все это может изменить ваше настроение в хорошую сторону. Вы сегодня купались, Леонид?
— Нет еще, — отвечал Леонид.
— Я бы советовала вам сейчас же выкупаться.
Она вытаскивала длинными, тонкими пальцами из-за черного с узкою пряжкою пояса свои маленькие часики, смотрела внимательно на их матово-белый циферблат, задумывалась на минуту, и говорила:
— Да, теперь как раз самое удобное время. Идите же, Леонид, не пропускайте удобного времени, когда еще солнце не очень высоко.
— Хорошо, — говорил Леонид.
Он шел купаться. Неширокая и неглубокая, тихая река огибала длинною лукою сад старого дома. Даль полей зеленела за нею, тихая, грустная, тая в своем молчании далекие голоса.
Леонид входил в прохладу вод, и плыл к противоположному берегу и обратно. Отраден был глубинный холод вод, и не о жизни говорил он Леониду. О смерти холодной, спокойной, утешающей, уводящей от злых томлений под очами безумно пламенеющего в пустыне высоких небес Дракона.
Леонид неторопливо одевался. По влажному песку берега, по теплым травам лужаек, по мелкому сухому песку аллей проходил он тихо, и земля приникала к его нагим стопам, родная, милая земля, та, в которой спит его мама, и влажная росою трава обвивалась нежно вокруг его открытых до колен ног.
Милая земля, не из тебя ли возникла вся жизнь земная? Но, приникая к стопам тоскующего отрока, не о жизни напоминаешь ты, к утешительному зовешь ты успокоению в тишине и во тьме твоей глубины.
V
Леонид возвращался к скамейке у подножия серой лестницы. И к ногам его льнул холод каменных ступеней, и смеялся кто-то незримый, повторяя:
— Где же золотая лестница?
Легкое облачко табачного дыма синело, расплываясь в теплом утреннем летнем воздухе, — как дым ладана синело дымное облачко. Анна Петровна курила, сидя на скамейке и, улыбаясь навстречу Леониду, смотрела на его покрытые росою ранних трав ноги.
— Вот так-то лучше, — говорила она. — Теперь займитесь-ка гимнастикой. После купанья это очень полезно. Ну-с, сделаемте вот что.
Она хмурила брови, и все её сухое лицо выражало строгую деловую озабоченность; задумывалась на минутку, и наконец называла какое-нибудь гимнастическое упражнение. Леонид послушно исполнял её команду, и проделывал одно за другим несколько упражнений. Телу было удобно двигаться в легкой, короткой летней одежде, грудь легко дышала под тонким белым полотном, — но лицо его оставалось спокойным и нерадостным, и улыбки не цвели на нем, и потому со стороны странно было смотреть на этот урок гимнастики в саду, на песчаной площадке у подножия высокой серой лестницы, ведущей в старый дом и выше, на его башню.
Но Анна Петровна была довольна. Она серьезно отсчитывала темп движений:
— Раз! Два! Три! Четыре!
Когда, по её мнению, было довольно, она вместо «четыре» говорила:
— Стой!
И придумывала новое упражнение. В промежутках между двумя движениями приговаривала:
— Главное, дышите свободно и глубоко. Нормальное дыхание — очень важное условие хорошего самочувствия.
Леонид смотрел на её серьезное лицо, на её худощавые смуглые щеки с выдающимися монгольскими скулами, и думал, что она вся механическая, как кукла, заряженная чужими словами, и что она сама по себе никогда ничего не думает, и ничего в мире ни разу по-своему не почувствовала. И он думал, что уж если надо жить на этой земле, то хорошо быть вот таким «организмом».
И Анна Петровна говорила:
— Человеческий организм для своего правильного развития требует известных условий, которые более или менее точно установлены наукою. Ну-с, вольных упражнений достаточно. Теперь мы займемся бегом. Я бегу, вы меня догоняете. Вы помните, надеюсь, как следует держать туловище при беге? Главное, дышите свободно и глубоко.
Анна Петровна бросала докуренную папироску, вставала, оправляла скученные складки своей строгой лиловой юбки, и, хлопая в ладоши, мирно считала:
— Раз! Два! Три!
Со словом «три» она срывалась с места, и мчалась по березовой аллей, прижимая локти к бокам и отводя плечи назад, чтобы грудь дышала свободнее. Но лицо её оставалось озабоченным, и тонкие губы её слабо и неверно улыбались, точно по заказу.
Леонид бежал за нею не тихо и не скоро, не догоняя её, и не отставая. Движения высоко открытых ног его были легки и красивы, и руки его двигались, как у бегущего юного полубога, но лицо его оставалось печальным, и улыбки не было на его алых, на его нежных губах. И сердце билось в его груди, и сжималось томлением тоски и печали, и ритмичный бег его был точно бег увлекаемого в стремительное кружение последнего, смертного пути. Лиловое на зеленых радостях листвы и трав веяние строгой юбки было перед ним, как веемый незримо цвет безнадежной печали, влекущей стремительно в смертный путь.
Добежав до речного берега, Анна Петровна останавливалась и говорила:
— Вы, Леонид, опять не могли догнать меня. Положим, я хорошо бегаю. Но я довольна. И я надеюсь, что сегодняшние упражнения благоприятно отразятся на общем состоянии вашего организма, а следовательно, и на вашем настроении.
Леонид благодарил Анну Петровну, и уходил на свою скамейку, к подножию вечно-серой лестницы. И, глядя на её высокие, строгие ступени, и на строгий очерк её тяжелых перил, он думал с безнадежною грустью:
«Умру от печали, а так никогда не будешь золотою лестницею, и не сойдут ко мне очаровательные вестницы восторга, уносящего душу, и побеждающего тоску и смерть.»
Закрывал глаза, и проходили перед ним вестники печали. И одежды их были белы, и крылья их были черны и остры, и горькие с их строгих уст падали слова.
Вот раздавались снова чьи-то робкие голоса — девичьи голоса звучали смущенно и весело.
Леонид открывал глаза. Перед ним стояли поповны, румяные, смущенно-веселые девушки, Алевтина, Антонина, Валентина и Зинаида. Они подталкивали одна другую, перешептывались, и наконец старшая, Алевтина, говорила Леониду:
— Составьте нам, Леонид, компанию в саду вашем погулять.
— Мне гулять не хочется, — отвечал Леонид.
— А посидеть здесь с вами можно, дозволите, Леонид? — спрашивала Антонина.
— Пожалуйста, посидите — отвечал Леонид спокойно и невесело.
Сестры усаживались рядышком. Их светлые платьица при этом почему-то шумели, точно слегка подкрахмаленные. Они хихикали, переглядывались, и разговор заводила уже третья, по порядку.
— Мне очень нравится ваш сад — говорила Валентина.
И младшая, Зинаида, говорила за нею:
— Очень красивая лестница, а сверху, — с башни, удивительно восхитительный вид на всю окрестность.
— Я не понимаю, — говорила Алевтина, — как можно скучать, когда имеешь такой шикарный дом с такою упоительною лестницею, и такую великолепную башню с таким отличным видом.
Антонина говорила:
— Сделайте нам такое большое удовольствие, поднимемся с вами на башню полюбоваться видами окрестности.
— Пойдемте, — равнодушно говорил Леонид.
Поповны радостно устремлялись вверх, а за ними шел Леонид. О, скучное восхождение по серому камню ступеней! И каменный холод у ног, и жесткие под ногами камни!
На каждой из трех площадок до верху и на террасе у входа в дом поповны останавливались, восхищались и ахали.
И наконец на башне. Поповны замирали от восторга.
Ах, милые земные дали! Вы зеленеете и цветете, и вольный проносится над вами ветер, взвивая сизые пыльные вихри, — но вся ваша цветущая радость отравлена истомою смерти!
И нет радости Леониду, и нет улыбки на его губах. Поповны сходят с башни, и глядят на его печальное лицо. Они добрые, и хочется им развлечь Леонида, и обрадовать, но не знают они утешающих слов, и вздыхают, и уходят.
VII
Иногда приходит к Леониду здешняя сельская учительница, Марья Николаевна, молодая девушка. У неё очень умное лицо, мягкие, как у лошадки, губы, и кроткие серые глаза. Она постоянно таскает с собою какую-нибудь тоненькую, но умную книжку, и пользуется всякою свободною минуткою, что бы почитать. Она говорит:
— Нехорошо, что вы ничем серьезно не займетесь, Леонид.
— Я учусь не плохо, — отвечает ей Леонид.
— Я это знаю, — говорит Марья Николаевна, — но я посоветовала бы вам заняться самостоятельным чтением. Есть очень умные и очень полезные книги.
Она говорит долго и умно. Леонид смотрит на её лицо, и думает, что её мягкие губы и её кроткие глаза не идут к умному выражению её лица, и что потому она вся нескладная. Миленькая, недурная, стройненькая, ничего себе к лицу причесана, ничего себе к лицу одета, хотя и скромненько, — а все-таки нескладная какая-то. И что она лепечет о книжках, — ах, глупая! Что скажут книги ему, тоскующему на диком холоде серой каменной лестницы?
Много жило в доме молодых девушек и молодых женщин, — много приходило в дом молодых к ним подруг, — и все они заводили с Леонидом добрые, утешающие речи, — и ни одна из них не умела утешить его.
VIII
Собрала Елена своих молодых родственниц и подруг, и сказала им:
— Всем нам жаль нашего милого Леонида, который не хочет утешиться. Он настойчиво возвращается на скамью на нижней площадке большой лестницы, и смотрит на её серые, холодные ступени. Ему кажется, что по лестнице спускаются незримые вестники печали; нескончаемою вереницею проходят они перед ним, и говорят ему горькие слова, — хулят жизнь, и славят смерть. Но мы изгоним злых вестников. Во имя Того, кто родился, чтобы оправдать жизнь и победить смерть, мы изгоним их. Серую лестницу печали мы преобразим в золотую лестницу красоты и восторга.
— Как же это сделать? — спросили ее сестры и подруги.
И рассказала им Елена свой замысел. Некоторые из них, — правда, немногие, — согласились сразу, другие же спорили и отказывались. Им казалось неловко и стыдно исполнить то, о чем говорила Елена. Они боялись, что их осудят соседи, и что на них рассердятся их родители. Спорила и уговаривала их остальных долго, — несколько дней прошло в этих совещаниях, — и наконец все согласились. И было много их, молодых женщин и девушек, родственниц Леонида, и подруг их; когда Елена сосчитала всех, готовых прийти к Леониду вестницами восторга, то число их было двадцать семь.
IX
Знойный день опять склонялся к падению, и было тихо окрест безмолвного старого дома. Тени берез, как утомленные долгою дорогою путницы, легли устало на нижние ступени серой лестницы. Леонид сидел на своем обычном месте. Он знал, что скоро солнце, падающее к закату, станет в просвет березовой аллеи, и короткою нежно-алою надеждою затеплятся серые ступени, чтобы через несколько минуть опять охолодеть и окаменеть в тусклой, серой своей безнадежности, С настойчивою печалью говорили ему тихо скользящие мимо вестники скорби:
— Обманами радости и смеха прельщает жизнь, — не верь её прельщениям.
— Многообразны пути пленительных заблуждений и соблазнов, но правый путь один.
— Смертный путь.
— Смеется жизнь над теми, кто мечтает оправдать ее.
— Только в смерти истина, только смерти принадлежит правая победа.
И приходили один за другим.
X
Но вот пришла Елена. Она сказала Леониду, — и голос её слегка вздрагивал от волнения:
— Пройдут краткие минуты, и по золотой лестнице пройдут вестницы восторга, хвалящие милую жизнь. И ты обрадуешься им, Леонид?
— Да, — сказал Леонид, — если бы они пришли! Но вот все передо мною тусклая обычность и холод серого камня, и взвеянная на ступени ветром серая пыль.
— Жди, — сказала Елена.
Она медленно поднялась по ступеням, и долго следил Леонид за мельканием её легко розовеющего на солнце белого платья.
Она скрылась в дверях старого дома. И никого не было в саду, и все окрест томилось странною тишиною. Где-то на востоке за деревьями чутко замолкнувшего сада было лиловое, свинцовое предчувствие грозы.
Отодвинулись от серых ступеней тени берез, и тихий свет упал к ногам Леонида. Тогда вдруг среди спускавшихся по лестнице вестников печали произошло странное смятение, и на лицах их отразился чрезвычайный испуг. С резкими воплями, подобными крикам встревоженных птиц, они распростерли в воздухе тихо алеющего вечера свои острые, черные крылья, и быстрою, длинною вереницею устремились к небесам. В пронизанной вечернею алостью и зеленоватою янтарностью голубизне высот они стали, как сливающиеся в одну тучу облака, и голоса их были тогда подобны отголоскам далекого грома.
Удивился Леонид, и поднял глаза к высокой башне своего старого дома. Чудное зрелище представилось его глазам.
XI
Вереница радостных жен и дев спускалась неторопливо с высокой башни по ступеням лестницы. В лучах зари вечереющей невинною алостью радовались, золотясь, оживляя вдруг под нежными, обнаженными стопами милых вестниц ступени. Легкие туники облекали стройные тела радостно идущих и смеющихся вестниц, — и цвета их туник были, как переливы струящихся алых огней и пламенеющих розово, янтарно и зелено зорь. Милые плечи их радовались поцелуям ветра и солнца, и обнаженные руки их ликовали, алея алостью смеющейся зари, и веселы были их высоко открытые в легком, легком движении ноги. И под радостно нагими стопами вестниц, радостно смеющихся, преобразились холодные ступени, — и золотая стала перед глазами Леонида лестница, лестница красоты, радости и восторга.
Елена шла впереди своих сестер и подруг. Когда она достигла середины лестницы, она движением легким и радостным сбросила свою тунику на озаренные ступени золотой лестницы, — и остальные девы и жены одна за другою уронили свои туники. Золотая, лестница покрылась радостною многоцветностью тканей, — и нагие вестницы ликующею вереницею приближались к Леониду, предавая лобзаниям напоенного зарею воздуха светлую, легкую обрадованность своих тел.
— Милые вестницы — говорил Леонид, простирая к ним руки, — о, милые вестницы радости!
Проходили веселые, легкие, мимо Леонида, и целовали, его, и говорили ему слова утешения и радости.
— Творя красоту, радуемся, — говорила Елена, — и скорбь нашу преображаем в легкую радость.
— Жаждем любви, и любим, и радуемся, — говорила Елизавета.
— Как радостно дышать милым воздухом земли! — говорила Анна. — Как радостно отдавать свое тело сурово-нежным лобзаниям стихии!
— Какая милая, родная земля под нашими ногами! — говорила Алевтина.
— Какие веселые открывает земля перед нами дали, бесконечные дали! — говорила Антонина.
— Какие сладкие ароматы у цветов! — говорила Валентина. — Какою радостью дышат земные травы!
— Какая радость — восходить высоко, высоко, любоваться небом и звездами! — говорила Зинаида.
— Так много радостей на земле! — говорила Мария, — и радостен труд, и мудрые утешительны книги.
И все двадцать семь жен и дев, радостные и нагие, прошли перед Леонидом, хваля жизнь, и ликуя о ней.
И потом окружили его, закружились в легком беге, увлекли его в радостное, легкое кружение восторга, и на влажной вечернею росою траве завели веселый, буйный хоровод.
А в высоте над ними громыхали тяжелые тучи, и быстро темнело небо, и было смятение и гнев, и голоса разъяренных вестников печали. И грому, и блистанию молний, и голосам бурь, и потокам холодного ливня отвечали буйные, ликующие голоса неразумного земного восторга.
О себе радовалась ликующая юность, преображая обычное земное в необычайность прекрасного и восторгающего душу.
Красногубая гостья
I
Хочу ныне рассказать о том, как спасен был в наши дни некто, хотя и малодостойный, но все-таки брат наш, спасен от злых чар ночного волхвования словами непорочного Отрока. Темной вражьей силе дана бывает власть на дни и часы, — но побеждает всегда Тот, Кто родился, чтобы оправдать жизнь и развенчать смерть.
II
Эта зима была для Николая Аркадьевича Варгольского тяжелая и томная.
Он все больше и больше отдалялся от всех своих друзей, родственников и знакомых. Все охотнее просиживал он короткие темные дни и длинные черные вечера в унылом великолепии своего старого особняка, и ограничивался только недолгими прогулками по всегда тщательно выметенным аллеям тенистого небольшого сада при его доме.
Николай Аркадьевич даже не принимал почти никого, кроме своей недавней знакомой Лидии Ротштейн, бледнолицей, прекрасной молодой девушки, с жутко-громадными глазами и чрезмерно-яркими губами.
Прежде Николай Аркадьевич любил все прелести веселой, рассеянной жизни. Он любил светское общество, зрелище, музыку, спорта. Бывал везде, где бывают обыкновенно все. Живо интересовался всем тем, чем все в его кругу интересуются, чем принято интересоваться. Был он молод, независим, богат, в меру окружен, и в меру одинок и свободен, весел, счастлив и здоров.
А теперь вдруг все это странно и нелепо изменилось. Многокрасочная прелесть жизни потеряла свою над ним власть. Забылась пестрота впечатлений и ощущений разнообразной, веселой жизни. Ни к чему не тянуло. Ничего не хотелось.
Все, что прежде перед его глазами стояло ярко и живо, теперь заслонилось бледным, жутко-прекрасным лицом его красногубой гостьи.
И только хотелось ему смотреть в бездонную глубину этих странных, точно неживых, точно навеки завороженных тишиною и тайною, зеленоватых глаз. И только хотелось ему видеть эту безумно-алую на бледном лице улыбку, видеть этот большой, прямо разрезанный рот с такими яркими губами, точно сейчас только разрезан этот рот, и еще словно свежею дымится он кровью. И только хотелось ему все слушать да слушать тихие, злые слова, неторопливо падающие с этих странных и очаровательных уст.
Такое все стало скучное, что вне этих стен! Такою докучною, ненужною казалась ему вся эта жизнь, внешняя, шумная, которою он жил до сих пор.
Вялая леность развивалась в его теле, прежде таком бодром и радостном. Голова стала часто болеть и томно кружиться, полная глухих, безумных шумов и звонов. Лицо его бледнело, точно яркие губы Лидии Ротштейн выпивали всю его жизнь.
III
С чего это началось? Теперь это как-то смутно и неохотно припоминалось ему.
Познакомилась где-то в сумеречном холодном свете осеннего вечера. Кажется, говорили что-то незначительное. Николай Аркадьевич был чем-то в тот день занят и увлечен; Она была бледна, малоразговорчива и неинтересна. Поговорили с минуту, не больше. Разошлись, и Николай Аркадьевич забыл о ней, как забывают всегда о случайных, ненужных встречах.
IV
Прошло несколько дней. Николай Аркадьевич кончал свой завтрак. Ему сказали, что его желает видеть госпожа Лидия Ротштейн.
Николай Аркадьевич слегка удивился. Это имя не сказало ему ничего. Забыл совсем. Досадливо поморщился. Спросил лакея:
— Кто такая? Просительница? Так дома нет. Молодой, красивый лакей Виктор, тщательно подражавший своему барину в манерах и модах, усмехнулся такою же ленивою и самоуверенною, как и у Николая Аркадьевича, улыбкою бритых, холеных губ и сказал с такою же, как и у барина, растяжечкою:
— Не похожи на просительницу. Скорее будут из стилизованных барышень. Где-нибудь на пляже вы изволили с ними познакомиться.
Уже весело улыбаясь, спросил Николай Аркадьевич:
— Ну, почему же непременно на пляже? Виктор отвечал:
— Да так-с мне по всему сдается. По общему впечатлению. Первое впечатление почти никогда не обманывает. Притом же из городских словно бы такой не припомню.
Николай Аркадьевич спросил, продолжая соображать, кто бы такая могла быть эта стилизованная барышня Ротштейн:
— А какая она из себя? Виктор принялся рассказывать:
— Туалет черный, парижский, в стиле танагр, очень изящный и дорогой. Духи необыкновенные. Лицо чрезвычайно бледное. Волосы черные, причесаны, как у Клео де Мерод. Губы до невозможности алого цвета, так что даже удивительно смотреть. Притом же невозможно предположить, чтобы употреблена была губная помада.
— А, вот кто это!
Николай Аркадьевич вспомнил. Оживился очень. Сказал почти радостно:
— Хорошо. Сейчас я к ней выду. Проводите ее в зеленую гостиную, и попросите подождать минутку.
Он наскоро кончил свой завтрак. Прошел в ту комнату, где ожидала его гостья.
V
Лидия Ротштейн стояла у окна. Смотрела на великолепные переливы осенней, багряно-желтой, словно опаленной листвы. Стройная, длинная, вся в изысканно черном, она стояла так тихо и спокойно, как неживая. Казалось, что грудь ее не дышит, что ни одна складка ее строгого платья не шевельнется.
Очерк ее лица сбоку был строг и тонок. Лицо было так же спокойно, безжизненно, как и ее застывшее в неподвижности тело. Только на бледном лице чрезмерная алость губ была живою.
С жестокою нежностью чему-то улыбались эти губы, и трепетно радовались чему-то.
Заслышав отчетливый звук легких шагов Николая Аркадьевича по холодному паркету этой строго-красивой гостиной, в которой преобладал зеленоватый камень малахит, Лидия Ротштейн повернулась лицом к Варгольскому.
С нежною жестокостью чему-то улыбались ее чрезмерно-алые губы, ее губы прекрасного вампира, и трепетно радовались чему-то. Радость их была злая и победительная.
Взором, неотразимо берущим душу в нерасторжимый плен, она смотрела прямо в глубину глаз Николая Аркадьевича. И было в нем странное смущение и непривычная ему неуверенность, когда он услышал ее первые слова, сказанные золотозвенящим голосом.
VI
Она говорила:
— Я к вам пришла, потому что это необходимо. Для меня и для вас необходимо. Вернее, неизбежно. Пути наши встретились. Мы должны покорно принять то, что неотвратимо должно случиться с нами.
Николай Аркадьевич с привычною, почти машинальною любезностью пригласил ее сесть.
Привычный скептицизм человека светского и очень городского подсказывал ему, что его красноустая гостья — просто экзальтированная особа, и что слова ее высокопарны и нелепы. Но в душе своей он чувствовал неодолимое обаяние, наводимое на него холодным мерцанием ее слишком спокойных, зеленоватых глаз. И не было в душе его того спокойствия, которое до того времени было ее постоянным и естественным состоянием во всяких обстоятельствах его жизни, хотя бы самых экстравагантных.
Лидия Ротштейн села в подставленное ей Николаем Аркадьевичем кресло. Медленно снимая перчатки, она медленным взором обводила комнату-ее стены с малахитовыми колоннами-ее потолок, расписанный каким-то лукаво-мудрым художником конца позапрошлого столетия, — ее старинную мебель, все эти очаровательные вещи, соединившие в себе прелесть умной старины и слегка развращенного, изысканного вкуса той далекой эпохи напудренных париков, жеманной любезности и холодной жестокости, эпохи, созданием которой был старый дом Варгольских.
VII
Тихо говорила Лидия Ротштейн:
— Как очаровательно все это, что вас здесь окружает! Этот дом имеет, конечно, свои легенды. По ночам, быть может, здесь иногда ходят призраки ваших предков.
Николай Аркадьевич отвечал:
— Да, в детстве я слышал кое-что об этом. Но мне самому не доводилось видеть здесь призраки. Люди нашего века скептически настроены. Призраки боятся показываться нам, слишком живым и слишком насмешливым. Лидия спросила:
— Чего же им бояться?
Николай Аркадьевич отвечал, стараясь придерживаться тона легкой шутки:
— Электрический свет вреден для них, а наша улыбка для них смертельна.
Тихо повторила Лидия:
— Электрический свет! Самые страшные для людей призраки-это те, которые приходят днем. Днем, как я пришла. Не кажется ли вам и в самом деле, что я похожа на такой призрак, приходящий днем? Я так бледна.
Николай Аркадьевич сказал:
— Это к вам идет. Вы очаровательны. Ему хотелось быть слегка насмешливым. Но его слова против его воли звучали нежно, как слова любви. Лидия говорила:
— Может быть, и я пройду перед вами, как один из призраков вашего старого дома, и исчезну, изгнанная вашею скептическою улыбкою, как те призраки, которых вы уже изгнали отсюда. Если изгнали. Впрочем, Бог с ними, с этими призраками. Я могу пробыть с вами сегодня только недолгое время, а мне надо многое сказать вам. Или, может быть, вы не захотите меня выслушать?
— Пожалуйста, я весь к вашим услугам, — сказал Николай Аркадьевич.
VIII
Лидия помолчала немного и продолжала:
— Меня зовут Лидиею, но мне больше нравится, когда меня называют Лилит. Так назвал меня мечтательный юноша, один из тех, кого я любила. Он умер. Умер, как все, кого я любила. Любовь моя смертельна — и мне хорошо, потому что любовь моя и смерть моя радостнее жизни и слаще яда.
Николай Аркадьевич заметил:
Если яд сладок.
Он старался легко и шутливо улыбаться, но чувствовал, что улыбка его бледна и бессильна.
С холодною, почти безжизненною настойчивостью повторила Лидия:
— Слаще яда. Во мне душа Лилит, лунная, холодная душа первой эдемской девы, первой жены Адама. Земное, дневное, грубое солнце мне, бледной Лилит, ненавистно. Не люблю я дневной жизни и безобразных ее достижений. К холодным успокоениям зову я тех, кого полюбила. К восторгам безмерной и невозможной любви зову я их. Пеленою мечтаний, которые слаще ароматнейших из земных благоуханных отрав, я застилаю безобразный, дикий мир дневного бытия. Многоцветною, яркою пеленою застилаю я этот тусклый мир перед глазами возлюбленных моих. Крепки объятия мои, и сладостны мои лобзания. И у того, кого я полюблю, я прошу в награду за безмерность и невозможность моих утешений только малого дара, скудного дара. Только каплю его жаркой крови для моих холодеющих вен, только каплю крови прошу я у того, кого полюбила.
Очарованием великой печали и тоски безмерной звучали золотые звоны ее отравленных странным и страшным желанием речей. В холодной глубине ее глаз разгоралось холодное, зеленое пламя-и мерцание этого пламени чаровало и обезволивало Николая Аркадьевича. Он сидел и молчал и слушал тихие, золотом звенящие слова свой зеленоокой, красногубой гостьи.
IX
И она говорила:
— Только одну каплю крови. Моими устами приникну я к телу возлюбленного моего. Моими жаждущими вечно устами я, как вставший из могилы вампир, вопьюсь в это милое, горячее место между горлом и плечом, между горлом, где трепещет дыхание жизни, и белым склоном плеча, где напряженная дремлет сила жизни. Вопьюсь, вопьюсь в сладостную плоть возлюбленного моего, и выпью каплю его жаркой крови. Одну каплю, — ну, может быть, две, три или даже четыре. Ах, возлюбленный мой не считает! Возлюбленному моему и всей своей крови не жалко, — только бы оживить меня, холодную, жарким трепетом своей жизни, — только бы я не ушла от него, не исчезла, подобная бледному, безжизненному призраку, исчезающему при раннем крике петуха.
Стараясь улыбнуться, Николай Аркадьевич сказал:
— Все это, что вы говорите, конечно, очень интересно и оригинально, — но я не понимаю, какое отношение я имею ко всему этому.
Но он сейчас же почувствовал всю ненужность и неправду своего жалкого ответа. И потому, по мере того, как он говорил, голос его становился глуше и слабее, и последние слова он сказал совсем тихо, почти прошептал.
X
Лилит встала. Подошла к нему. В движениях ее не было той порывистой страстности, с какою земные женщины произносят свои признания.
Стоя перед Варгольским и глядя прямо в его глаза холодным взором жутких глаз, в которых разгорался зеленый, мертвый огонь, она сказала:
— Я люблю тебя. Тебя избрала я, возлюбленный мой. Подчиняясь золотым звонам ее голоса, он встал со своего места. И стояли они друг против друга, — она, бледноликая, зеленоокая, с чрезмерно яркими, как у вампира, устами, и вся холодная, как неживая, лунная Лилит, — и он, зачарованный и словно всю свою утративший волю.
Лилит сказала:
— Люби меня, возлюбленный мой. Больше и сильнее, чем любил ты дневную свою жизнь, люби меня, лунную, холодную твою Лилит.
Упала минута молчания. Казалось тогда, что не было сказано ни одного слова.
И вот спросила его Лилит:
— Возлюбленный мой, любишь ли ты меня? Любишь ли?
Варгольский тихо ответил ей:
— Люблю.
И чувствовал, как душа его тонет в зеленой прозрачности ее тихих глаз.
И опять спросила его Лилит:
— Возлюбленный мой, любишь ли ты меня сильнее, чем все очарования и прелести дневной жизни, меня, твою лунную, твою холодную Лилит?
Отвечал ей Варгольский — и холод великого успокоения был в звуке его тихих слов:
— Моя лунная, моя холодная Лилит, я люблю тебя сильнее, чем все очарования дневной жизни. И уже отрекаюсь от них, и отвергаю их все за один твой холодный поцелуй.
Радостно улыбнулась Лилит, но радостно-холодная улыбка ее была коварная и злая. И спросила Лилит:
— Отдашь ли ты мне каплю твоей многоцветной крови?
Чувствуя, как в душе его возникают и сплетаются в дивном борении ужас и восторг, Варгольский сказал, простирая к ней руки:
— Отдам тебе, моя Лилит, всю мою кровь, потому что люблю тебя безмерно и навсегда.
И она прильнула к его устам поцелуем долгим и томным. Темное и томное самозабвение осенило Варгольского, и того, что было с ним потом, он никогда не мог отчетливо вспомнить.
XI
С того дня Лидия Ротштейн приходила к Николаю Аркадьевичу в неопределенные сроки, то чаще, то реже, почти всегда неожиданно, в разное время, то днем, то вечером, то позднею ночью. Она как-то ухитрялась всегда заставать его дома. А потом это стало и нетрудно, когда он почти совсем прекратил сношения с людьми.
Всегда эти свидания с Лилит были окутаны в сознании Варгольского густою пеленою странного, почти досадного ему забвения. Одно знал он несомненно-как ни крепки были объятия Лилит, как ни безумно дики были ее поцелуи, все же их связь оставалась чуждою грубых земных достижений, и ни разу не отдалась ему эта странная, красноустая гостья с неживыми глазами и с апокрифическим именем.
Когда она приникала к его плечу, легкая острая боль пронизывала все тело Варгольского — и тогда становилось ему сладко и томно. В теле чередовались жуткие ощущения зноя и холода, точно била его лихорадка.
Знойные, жадные губы Лилит, только одни живые в холоде ее тела, впивались в его кожу. Поцелуй их был подобен холодному бешенству укуса. И казалось ему тогда, что кровь его сочится капля за каплей.
XII
Лилит исчезала незаметно.
Долго после ее ухода Варгольский лежал, погруженный в томное бессилие, ни о чем не думая, ничего не вспоминая, не мечтая ни о чем. Даже о Лилит не мечтал и не вспоминал он тогда. Самые черты ее лица припоминались ему неясно и неопределенно.
Иногда он думал о ней потом, когда проходило то оцепенение, в которое погружали его ее ласки. Он думал иногда, что она не человек, а вампир, сосущий его кровь, что она его погубит, что надо ему оградиться от нее. Но эти короткие, вялые мысли не зажигали его обессилевшей воли. Ему было все равно.
Иногда он спрашивал себя, любит ли он Лилит. Но, прислушиваясь внимательно к темным голосам своей души, он не находил в них ответа на этот вопрос. И было в нем равнодушие, холодное и спокойное. Любит, не любит-не все ли равно!
XIII
Лакей Николая Аркадьевича, Виктор, был женат. Однажды, незадолго до святок, он пришел к Николаю Аркадьевичу не в урочное время, и сказал ему:
— Жена моя, Наталья Ивановна, разрешившись на днях от бремени, просит вас, Николай Аркадьевич, сделать нам большую честь и удостоить быть восприемником от купели нашего первого сына, новорожденного младенца Николая.
Виктор старался держаться своего всегдашнего спокойного, солидного тона, но при последних словах, вспомнив со всею остротою новизны, что он уже отец, покраснел от радости и гордости и засмеялся с неожиданным, почти деревенским, простосердечием. Но, впрочем, тотчас же сдержался и опять стал вести себя чинно и степенно. Сказал со всегдашним своим достоинством:
— И я со своей стороны осмеливаюсь присоединиться к просьбе моей жены. Сочтем за великую для себя честь и будем чрезвычайно рады.
Николай Аркадьевич поздравил счастливого отца. Согласился немедленно, — не потому, что хотел согласиться, а просто потому, что вялое равнодушие давно уже угнездилось в нем.
И странное дело, — это обстоятельство, такое, по-видимому, незначительное в его жизни, с какою-то неожиданною силою внесло резкую перемену в его отношение к Лилит.
Первый же раз, когда он увидел младенца Николая, которого ему надо было назвать своим крестником, он почувствовал нежное умиление к этому слабопопискивающему, красному, сморщенному комочку мяса, завернутому в мягкие, нарядные пеленки. Глаза малютки еще не умели останавливаться на здешних предметах — но земная, вновь сотворенная из темного земного томления душа, радостно мерцая в них, трепетала жаждою новой жизни.
Николаю Аркадьевичу вспомнились зеленые, жуткие пламенники неживых глаз его белолицей гостьи с чрезмерно-красными губами. Сердце его вдруг сжалось ужасом и страстною тоскою по шумной, радостной, многоцветной, многообразной жизни.
XIV
Когда после веселого обряда крестин, в котором он принял недолгое участие, он вернулся к себе в мерцающую тишину высоких покоев, он опять почувствовал себя слабым и равнодушным ко всему.
Там, у Виктора, ему напомнили, что сегодня сочельник.
Где же он встретит праздник? Как его проведет? Уже давно, больше месяца, он упрямо не принимал никого, и сам ни у кого не был.
Над холодным его равнодушием возникали то тихо поблескивающие глазенки его крестника, то слабый его писк. И напоминали ему Младенца в яслях, и звезду над дивным вертепом, и волхвов, принесших дары. Все, что было забыто, что было овеяно холодным дыханием рассеянной, светской жизни, припомнилось опять, и опять томило душу сладким предчувствием восторга.
Варгольский взял книгу, которую не открывал уже много лет. Прочитал трогательные, простые и мудрые рассказы о рождении и детстве Того, Кто пришел к нам, чтобы нашу бедную земную, дневную жизнь оправдать и обрадовать. Кто родился для того, чтобы развенчать и победить смерть.
Трепетна была душа, и слезы подступали к глазам.
Злые обольщения его коварной гостьи вдруг вспомнились Варгольскому. Как мог он поддаться их лживому обаянию! Когда цветут на земле милые, невинные улыбки, когда смеются и радуются милые, невинные детские глаза!
Но ведь она, лунная, неживая, лживая Лилит, опять придет. И опять зачарует обаянием смертной тишины!
Кто же поможет? Кто спасет?
Книга бессильно выпала из рук Николая Аркадьевича. Молитва не рождалась в его обессилевшей душе.
И как бы он стал молиться? Кому и о чем?
Как молиться, если она, лунная, холодная Лилит, уже здесь, за дверью?
XV
Вот чувствует он, что она стоит там, за дверью, в странной нерешительности, и медлит, колеблясь на страшном ему и ей пороге.
Лицо ее бледно как всегда. В глазах ее холодное пламя. Губы ее цветут страшною яркостью, как яростные губы упившегося жаркою кровью выходца из темной могилы, губы вампира.
Но вот Лилит преодолела страх, в первый раз остановивший ее у этого порога. Быстрым, как никогда раньше, движением она распахнула высокую дверь и вошла. От ее черного платья повеяло страшным ароматом туберозы, веянием благоуханного, холодного тления.
Лилит сказала:
— Возлюбленный мой, вот я опять с тобою. Встречай меня, люби меня, целуй меня — подари мне еще одну каплю твоей многоцветной крови.
Николай Аркадьевич протянул к ней руки угрожающим и запрещающим движением. Он сделал над собой страшное усилие, чтобы сказать:
— Уйди, Лилит, уйди. Я не люблю тебя, Лилит. Уйди навсегда.
Лилит смеялась. Был страшен и жалок трепет ее чрезмерно алых губ, обреченных томиться вечною жаждою. И говорила она:
— Милый мой, возлюбленный мой, ты болен. Кто говорит твоими устами? Ты говоришь то, чего не думаешь, чего не хочешь сказать. Но я возьму тебя в мои объятия, я, твоя лунная Лилит. Я опять прижму тебя к моей груди, которая так спокойно дышит. Я опять прильну к твоему плечу моими алыми, моими жаждущими устами, я, твоя лунная, твоя холодная Лилит.
Медленно приближалась к нему Лилит. Было неотразимо очарование ее смеющихся алых губ. И был слышен золотой звон ее слов:
— Целованием последним прильну я к тебе сегодня. Я навеки уведу тебя от лживых очарований жизни. В моих объятиях ты найдешь ныне блаженный покой вечного самозабвения.
И приближалась медленно, неотразимо. Как судьба. Как смерть.
XVI
Уже когда ее протянутые руки почти касались его плеч, вот между ними дивный затеплился тихо свет. Отрок в белом хитоне стал между ними. От его головы струился дивный свет, как бы излучаемый его кудрявыми волосами. Очи его были благостны и строги, и лик его прекрасен.
Отрок поднял руку, повелительно отстранил Лилит и сказал ей:
— Бедная, заклятая душа, вечно жаждущая, холодная, лунная Лилит, уйди. Еще не настали времена, не исполнились сроки, — уйди, Лилит, уйди. Еще нет мира между тобою и детьми Евы, — уйди, Лилит, уйди. Исчезни, Лилит, уйди отсюда навсегда.
Легкий стон был слышен, и свирельно-тихий плач. Бледная в сумраке полуосвещенного покоя, медленно тая, тихо исчезла Лилит.
Краткие прошли минуты, — и уже не было здесь дивного Отрока, и все было, как всегда, обыкновенно, просто, на месте. Как будто бы только легкою грезою в полутьме было злое явление Лилит, и как будто и не приходил дивный Отрок.
Только ликующая радость звенела и пела в душе измученного, усталого человека. Она говорила ему, что никогда не вернется к нему бледноликая, холодная, лунная Лилит, злая чаровница с чрезмерною алостью безумно жаждущих губ. Никогда!
Путь в Дамаск
I
От буйного распутства неистовой жизни к тихому союзу любви и смерти, — милый путь в Дамаск…
Вечером весеннего тихого дня, когда на весело шумных улицах громыхали дрожки, когда свирепые оборванцы и увядшие женщины продавали наивные ландыши, Клавдия Андреевна Кружинина вышла от доктора, красная и дрожащая от стыда и отчаяния, совершенно подавленная тем, что ей, молодой девушке, пришлось услышать. Казалось ей, что все и дожидающиеся в гостиной больные, и горничная в передней смотрят на нее с насмешкою, жалящею сердце змеиными укусами.
Кто же возьмет ее, такую некрасивую и совсем неинтересную, застенчивую, неловкую, теряющуюся всегда при мужчинах?
Уже давно зеркало приводило ее в отчаяние, — противное правдивое стекло, отражающее беспощадно только то, что есть, — лицо, не только некрасивое, но и лишенное всякого очарования. Некрасивость лица не скрашивалась даже несколькими отдельными приятными и милыми чертами. Глаза, живо отражающие всякое движение, глубокие и умные, — умильные ямочки на щеках и на подбородке, — густые волны черных, как осенняя ночь, волос, — все эти разрозненные прекрасности печально дисгармонировали с общим серым тоном лица и всей неграциозной фигуры.
Кто же ее возьмет? Кто назовет ее женою?
С беспощадною откровенностью циника, каким сделала его профессия, доктор бросил ей беспощадные слова.
Клавдия Андреевна сконфуженно лепетала:
— Но, доктор, как же это? Разве это от меня зависит? У меня нет жениха.
Доктор пожал плечами.
— С природою не заспоришь, — равнодушно сказал он, — никакое лекарство вам не поможет.
II
В том состоянии растерянности и стыда, когда дрожат и подкашиваются ноги, и не знаешь, что делать, Клавдия Андреевна шла по улицам. Знакомые перекрестки и переходы привели ее в квартиру в четвертом этаже, со двора. Там жила ее подруга, Наталья Ильинична Опричина, девица волоокая, полногрудая, энергичная, славный человек и отличный товарищ.
Клавдия Андреевна все ей рассказала. Если бы прошло хоть сколько-нибудь времени, хоть один только день, тогда, может быть, стало бы стыдно даже и подруге сказать об этом. Но теперь вышло как-то само собою. Тем более, что Опричина сразу, по несчастному, опрокинутому лицу Клавдии Андреевны поняла, что случилось неожиданное что-то и очень неприятное, — и стала расспрашивать. Клавдия Андреевна села, улыбнулась растерянно и стыдливо, и принялась рассказывать, подробно и добросовестно, как твердо заученный урок.
Рассказала и заплакала. Опричина ходила по комнате шагами грузными, от которых легонько позвякивали на столе стеклышки подсвечников, — и думала.
— По-моему, — сказала она, — плакать тут нечего, а надо действовать. У тебя нет никого на примете?
Клавдия Андреевна жалобным голосом призналась:
— Нет никого. Опричина говорила:
— Они скверные, все эти наши мужчины, и это возмутительно и несправедливо, что за всякую смазливою рожицею ухаживают охотно, будь она глупа, как набитый осел, а на некрасивых никто не хочет смотреть.
Она внезапно остановилась и подошла к Клавдии Андреевне с таким видом, точно вдруг придумала что-то очень удачное и остроумное.
— Знаешь, я тебе могу помочь. У меня как раз есть подходящий… Ну, одним словом, это — один мой очень хороший знакомый. Он любит иметь дело с невинными девушками. Я тебе это устрою.
III
Через несколько дней Клавдия Андреевна сидела в отдельном кабинете дорогого ресторана с изысканно одетым господином лет сорока с чем-то. Разговор плохо вязался. Был сервирован легкий, но дорогой ужин, — были устрицы, шампанское. Клавдия Андреевна была смущена, но храбро старалась скрыть это. Сергей Григорьевич Ташев, ее собеседник, говорил комплименты ее уму, остроумию, образованности.
— Давно уже я не проводил такого приятного вечера. Вы — самая умная из всех женщин, которых я знаю в Петербурге.
Клавдия Андреевна смотрела на его подозрительно черные волосы, на его слишком прямой стан, на неприятный очерк прямо разрезанного рта с коротко подстриженными над ним черными, жесткими усами. Чувствовала она, что все это говорится потому, что невозможно похвалить ее наружность, и все-таки необходимо говорить приятные, сближающие слова.
Иногда вдруг казалось ей все это сном, выдумкою. Она — некрасивая, сутуловатая, в своем вечном черном, убого прикрашенном ради «случая» голубым галстучком, платье, никогда не посещавшая ресторанов, не знавшая, как держать себя, как открыть электричество и управиться с артишоками. И эта странно-чуждая комната с красными раздражающими обоями, с традиционными зеркалами, с пианино в углу и с бархатною гранатовою портьерою, за которою укрывается еще что-то, — что? умывальник? постель? И элегантный господин с крупными, точно миндалины, желто-белыми зубами, с тщательным пробором над помятым лицом, со складками вокруг рта и глаз, и его чрезмерно, на ее взгляд, изысканный костюм, и удивительный темно-гранатовый пластрон на батистовой сорочке.
Что свело их здесь? Почему они с ним, такие чужие, далекие, вчера еще незнакомые, сидят здесь одни, вдвоем, отделенные тяжелыми гранатовыми портьерами от улицы, от города, от всего внешнего, всегдашнего, привычного?
Эта пряно-странная обстановка действовала на Клавдию Андреевну, как кружащее голову наваждение. Белые нарциссы и багряные гвоздики в хрустальной чаше среди стола благоухали в нагретом воздухе. Вино, играющее так приятно, благодарно согревающее и поднимающее, золотое, радостное, в высоких шарообразных рюмках.
Забыла всю нелепицу спутанной связи событий, и зачем сюда пришла, забыла, потеряла память об этом, уронила ее в золотые слезы в рюмках, — и сидела радостная, отвечала, говорила, даже засмеялась на смешной рассказ о знакомом профессоре.
Ташев говорил, заканчивая анекдот;
— Не знаю, как могут интеллигентные люди посещать подобные места. Я, например, могу похвастаться, если уж на то пошло, что ни разу не обладал женщиной без любви.
Клавдия Андреевна вздрогнула, может быть, от слишком холодного вина, в котором плавали кусочки нерастаявшего льда. Ташев продолжал:
— Женщина, в которую мы влюблены, может быть некрасивою, да и что такое красота, как не условное понятие? Но она должна сохранять в себе нежные чары, обаяние вечно-женственного, таинственного и безотчетного. Тонкие, неуловимые нити должны протянуться между нею и мужчиною, прежде чем их соединит то, что мы называем любовью.
Лицо его, желтовато-бледное, оживилось и окрасилось. Глаза заиграли, и неприятно-крупные зубы чаще сверкали из-под верхней выпяченной, ярко-карминового цвета губы.
IV
Устрицы, холодные и скользкие, на большом круглом блюде. Клавдия Андреевна робко свернула себе на тарелку две штуки, и в замешательстве выжидала, пока ее собеседник тоже вооружится ножом и покажет ей, что делать с этим невиданным ею блюдом.
— С лимоном или так? — спросил он, услужливо протягивая ей хрустальную тарелочку с желтыми кружками и золоченою вилочкою.
Вдруг она почувствовала, что краснеет, от корней волос до плеч, как краснеют, сознавая безвыходность положения. Он, должно быть, понял, взял нож, ловко раскрыл им створку, и быстро опрокинул в рот скользкий комок.
Клавдия Андреевна почувствовала к нему благодарность и даже нечто вроде расположения. Он избавил ее от первых мучительных минут. Но что будет дальше?
Было жутко и любопытно, и все время, как во сне, как в тумане. Потом снова вино, золотистые бокалы, золотые ломтики ананаса на хрустальной тарелке, и снова, тусклые сквозь туман, разговоры о красоте, о женщинах, о любви.
— Что такое красота, — никто из нас не знает, но только стремится познать. И притом ведь не в этом дело.
«Ты сегодня совсем не красива, Но особенно как-то мила», —продекламировал Ташев, любивший щегольнуть знанием новых поэтов, иностранной литературы, бывавший на всех первых представлениях и парадных спектаклях. Как только он успевал! Студентам читать лекции, председательствовать на всевозможных ученых и полуученых собраниях, ездить в заграничные командировки, писать книгу.
V
Рядом в большом кабинете шло настоящее веселье. Слышались звуки матчиша, кек-уока, отрывки цыганских и опереточных мотивов. Разбитый истерический голос порою пытался вытянуть на высоких тонах:
«Я поцелуями покрою…»,но каждый раз срывался на одном и том же месте, и горестно взвизгивал:
— Не могу, не могу!
Кто-то на что-то жаловался уже совсем пьяным голосом, кого-то утешали, кто-то звучно целовался, стараясь заглушить поцелуи взрывами хохота. Шалая, пестрая и пьяная, должно быть, была компания!
Ташев сказал, наливая вино в бокал Клавдии Андреевны:
— Вот как люди веселятся, а мы с вами еще и первой бутылки шампанского не распили. Я пью за женщин интересных, умных, с такими прекрасными глазами, как у моей очаровательной собеседницы.
И неожиданным движением, быстро наклонившись, поцеловал у Клавдии Андреевны руку.
Неожиданность смутила, но не поразила ее. Ведь этого она и ждала, к этому и готовилась, подымаясь еще два часа тому назад с бьющимся сердцем по обитой ковром под бронзою прутьев лестнице первоклассного ресторана. И у нее так редко целовали руку! От этого поцелуя, беглого и неожиданного, трепетно сияющая протянулась нить от него к ней, нить невидимая, но значительная.
Он пододвинулся к ней, так что на узком диванчике уже не было между ними места, положил свою руку, желтоватую, с темными, резко выделяющимися волосами, на ее небольшую смуглую пясть, и говорил уже интимным тоном, которому старался придать оттенок задушевности:
— Единственный недостаток наших эмансипированных женщин — это то, что они все же, несмотря на свободу мысли, не хотят такой же свободы для тела. По-моему, гармоническое развитие личности должно соединять в себе и то и другое.
Клавдия Андреевна смотрела на смуглое чужое лицо, слушала эти пыльные слова, знакомые по романам, в как-то перестала чувствовать странность своего положения и своей близости к этому, совсем ей чужому, второй раз в жизни виденному ею человеку. Равнодушие, тупое и безразличное, овладело ею.
«Все равно, все равно», — мелькало в ее утомленной отуманенной голове.
Жизнь, такая серая, такая безжалостная, не сегодня завтра все равно придавит. И перед Клавдиею Андреевною мелькнула унылая полоса безрадостных годов, молодость, проходящая без увлечении, в докучных заботах о заработке, в мелких огорчениях и в тщетных попытках полюбить, найти «человека» — друга, мужа.
VI
Пьяный гул рядом ей вдруг напомнил, как в прошлом году на масленице она ехала в вагоне третьего класса ночью, вызванная телеграммою в Калугу, где застрелился младший ее брат, студент. На соседней с нею полке рядом в вагоне примостилась пьяная развеселая пара, мастеровой с гармоникою и женщина, может быть, проститутка, его подруга на эту ночь.
Всю эту ужасную ночь Клавдия Андреевна, точно в тяжком чаду, оцепенев, не сомкнула глаз, и всю ночь взвизгивала гармоника, лихо гаркал мастеровой, и орала пьяные песни пьяная проститутка.
Клавдия Андреевна ехала к себе, в семью. Эта семья собиралась только тогда, когда с кем-нибудь из членов ее случалось несчастье — смерть, ссылка, проводы на войну. Теперь готовились хоронить младшего брата. Так, в эти печальные мгновения жизни собирались они все, некрасивые, неудачники, каждый со своею отравою в душе, молча толпились возле гроба или возле поезда, не знали и не умели сказать ничего утешительного друг другу. Толпою химер, серых и унылых, стояли они, обмениваясь тусклыми взглядами и серыми словами.
В эту истомную ночь она позабыла обо всем этом, и в тупом оцепенении слушала пьяный визг, брань, поцелуи, визгливую гармонику. Не все ли равно, — казалось и тогда, — не сегодня завтра жизнь придушит, не все ли равно?
Повернулась на жесткой скамейке и вдруг закашлялась от чада махорки. За невысокою стенкою хрипло смеялась проститутка.
— Дохает кто-то, барышня, кажись, — раздался ее противно-простуженный голос.
Тощий парень с зеленым лицом и колючим взором серых глаз высунулся на минуту из-за перегородки. Уколол взором Клавдию Андреевну, и вдруг лицо его стало презрительно скучным. Отвернулся.
Из-за перегородки слышался его пьяный, наглый голос:
— Морда отпетая, дохает туда же, ни как красавица.
— Мордолизация! — хрипло взвизгнула проститутка.
Острое жало обиды прокололо насквозь бедное сердце тоскующей девушки.
VII
Вспоминала теперь эту ночь, и эту обиду, и опять стыдною болью заныло сердце. Такою болью, что словно разлилась боль по всему телу, по всему вдруг закрасневшемуся телу, и вдруг ударила по нерву болевшего на днях зуба, который собиралась, да так и не успела запломбировать.
Ташев участливо глянул на ее вдруг исказившееся болью лицо.
— Что с вами? — спросил он, нагибаясь к ней и обдавая ее легким ароматом вина.
— Зуб разболелся, — сказала она.
И брызнули жалкие, мелкие слезы. Невольно. Лепетала:
— Ничего. Это сейчас пройдет.
Что-то говорил Ташев, — едва слышала сквозь багровый туман, кружащий голову, едва понимала, что слышала.
— Возьмите воды, пополощите зубы.
Едва сознавала, что, повинуясь ему, идет куда-то, и он поддерживает ее ласково и бережно под локоть левой руки. Перед самыми глазами заколебались багрово-тяжелые складки портьеры.
— Здесь есть вода. Позвольте, я вам помогу.
Откинул тяжелые складки. Повернул выключатель, — и вдруг неярким светом электрической лампочки в потолке озарился тесный альков, — серый мрамор умывальника с медными, красивыми кранами, и громоздкая, нагло громадная кровать.
Так стыдно было стоять около этой кровати. Налил ей воды. Взяла ее в рот, на больной зуб. Боль утихла. Клавдия Андреевна лепетала несвязно:
— Благодарю вас. Мне легче. Прошло. Повернулась, — уйти из алькова. Навстречу ей — улыбка в блестящие, неприятно крупные зубы.
— Подождите, успокойтесь, не торопитесь, — говорил Ташев. Слегка задыхался, и глаза его блестели лукавыми и страстными огоньками. Клавдия Андреевна почувствовала на своей талии прикосновенье его жаркой руки. Он шептал:
— Вы устали. Прилягте. Отдохните. Это вас лучше всего успокоит.
Совсем близко наклонился к ней. Ласковыми, но настойчивыми движениями подвигал ее к мягким успокоениям слишком нарядной кровати.
Стыдливый ужас вдруг охватил ее. Диким порывом оттолкнула Ташева и бросилась из алькова, вся красная, вся трепетная.
Схватилась за шляпку. Ташев растерянно повторял:
— Клавдия Андреевна, да что же это? Да что с вами? Да вы успокойтесь. Я же, право, не понимаю. Кажется, я…
Дрожащими руками, не попадая куда надо, Клавдия Андреевна пыталась приколоть шляпку. Шпилька выпала из ее дрожащих рук, в на паркет звякнула и заблестела ее крупная, стеклянно-синяя головка.
Ташев, бормоча что-то и, видимо, сердясь, подходил к Клавдии Андреевне. Она испуганно взвизгнула, схватила свою легкую накидку в бросилась вон из кабинета. Слышала за собою обрывки восклицаний Ташева:
— Я не понимаю! Это Бог знает что! Зачем же!
Ресторанные лакеи с удивлением смотрели на стремительно бегущую мимо них барышню.
VIII
Клавдия Андреевна быстро шла, почти бежала, по шумным городским улицам. Привычною дорогою добежала до того дома, где живет Опричина, и уже поднялась до половины лестницы, и вдруг так же стремительно повернула обратно, и опять очутилась на улице.
То шла, то останавливалась. Поправила свалившуюся шляпку, заколов ее единственною оставшеюся шпилькою. Села в первый попавшийся трамвай и сидела там, тупо, без мыслей, красная, несчастная на вид, пока все не стали выходить и кто-то в темноте не сказал скучным, злым голосом:
— Приехали. Дальше не пойдет.
Вышла. Осмотрелась.
Городская окраина. Маленькие серые домишки. Сбитые плиты узкого тротуара. Чахлая, но весело зеленеющая и сквозь вечернюю мглу травка меж камней в мостовой.
Пошла наудачу. Шла усталая, тихая, безмолвная. Ночь была кругом, и тишина, и полутемно, и печаль на земле, и пустынная синева над землею.
Казалось, что плачет кто-то, забытый и ненужный. Влажный вешний воздух был тих и печален. Пахло водою. Свирельный в ночной тишине доносился откуда-то не издалека стон.
Вдруг Клавдия Андреевна различила, что это — звуки скрипки. Играл кто-то, точно плакала скрипка над милым, успокоенным прахом. Клавдия Андреевна пошла по тому направлению, откуда к ней доносились эти звуки.
Вот, — бедный, тихий дом, весь темный. Калитка. Со двора доносился тонкий плач тоскующей скрипки.
Клавдия Андреевна вошла во двор. Слабый свет виднелся сквозь занавеску окна в глубине двора. По шатким доскам узких мостков Клавдия Андреевна подошла к окну. Стояла и слушала долго у открытого окна.
На высокой, долгой, стенящей ноте замерли свирельные вопли. Слышно было, как с тихим стуком легла скрипка на стоя, и слышны были быстрые, неровные шаги взад и вперед.
Что это было, легкий ли ветер отдернул край занавески, сама ли Клавдия Андреевна слегка отвела ее кончиками вздрагивающих пальцев, — но она увидела музыканта.
Это был молодой человек в студенческой тужурке, с нервным, бледным, измученным лицом, с густыми, вьющимися круто и упрямо волосами, торчащими спутанной копною над крутизною упрямо выпуклого лба, с порывистыми движениями и с угловатым, резким жестом сухих рук, быстро ерошащих волосы. Студент ходил, метался по комнате, — и в движениях его была тоска, и в лице его дрожало томление, тягостное до смерти.
Бездонно-черный взор его глаз остановился на минуту на лице Клавдии Андреевны, — но было ясно, что студент не увидел ее, ночной, случайной, неведомо как сюда пришедшей девушки. И в бездонно-черном взоре его глаз таилось томление, безумное, последнее томление человека.
IX
Во всей обстановке бедной комнаты, заурядного логовища для одинокого от хозяев, было что-то неуловимо-значительное. Какой-то внезапный, странный, тоскливый беспорядок места, где есть умирающие.
На столе, среди книг и всякого обычного скарба, между коробкою папирос и недопитым стаканом чая, лежала слишком прямо положенная и, видимо, только что написанная записка. Ящик в столе был слегка выдвинут, и это почему-то особенно бросалось в глаза, словно в этом было что-то значительное.
А может быть, так показалось Клавдии Андреевне потому, что едва она увидела этот слегка выдвинутый ящик, как уже студент подошел к нему и, неловко сутулясь, стал шарить в нем.
Клавдия Андреевна с жадным любопытством ждала, что он вынет из ящика. Настойчиво, как злое внушение, вместе с тяжелым стучанием крови в ее висках, повторялось одно, улично-обычное слово:
— Револьвер, револьвер.
О, оправдалось злое внушение, злое предчувствие. Студент отошел от стола, и в его руке Клавдия Андреевна увидела стальной блеск маленького, изящного, как детская игрушка, оружия.
Резким жестом свободной руки студент взъерошил свои упрямые кудри, и поднял револьвер к виску.
Глаза у него расширились. Рука странно колебалась в воздухе, устанавливая дуло револьвера на удобное положение.
Потом опустил руку, глянул в дуло револьвера, еще раз размашисто взъерошил волосы, крикнул отрывисто и громко:
— Баста!
И решительным движением взмахнул револьвером к голове.
Внезапный женский вопль заставил его дрогнуть. Всмотрелся.
X
Порывистым движением обеих рук раздернув занавеску, Клавдия Андреевна отчаянно крикнула:
— Милый, милый! Зачем? Не надо!
Студент увидел, что незнакомая, некрасивая девушка лезет к нему в окно, неловко цепляясь руками за раму, задевая за что-то платьем, — неловкая, с кое-как сидящею на растрепанных волосах шляпкою, с лицом красным, взволнованным, несчастным, облитым слезами, искаженным рыдающими гримасами.
Лезет, такая смешная, забавная, заплаканная, и повторяет слезливо и жалобно:
— Миленький, не надо, не надо!
Студент сунул револьвер в ящик стола, бросился к окну и, бормоча что-то несвязное, помог нежданной гостье перелезть подоконник.
Полная возбуждениями последних дней, она бросилась к нему, обняла его и, плача, повторяла без конца:
— Милый, хороший, не надо, — живи, люби меня, живи, я тоже несчастная.
— Извините, — сказал студент, — вы успокойтесь. Может быть, чаю?
Клавдия Андреевна засмеялась, все еще плача. Говорила:
— Не надо, не надо, ничего не надо. И этой игрушки не надо. Вот, если вы дошли до того, что уже нечем жить, — душевно нечем, — то вот, и я тоже, и если мы захотим, разве нельзя, разве так уж совсем нельзя сотворить жизнь по нашей воле, и жизнь, и любовь, и смерть? Вот послушайте.
Рассказывала ему о себе долго, сбивчиво, подробно, откровенно по-детски. Все рассказала. И опять вернулась к обидам, жгущим сердце уколами тысячи пчелиных жал. Смеясь и плача говорила:
— Он говорит, — морда, дохает туда же, — это, что я закашлялась от его махорки. А она говорит, — мордолизация. И оба смеются. Морда! Ну и пусть, и пусть!
Студент взъерошил свои лохмы, резким, привычным жестом вскинув руки как-то слишком вверх, и сказал утешающим голосом:
— Ну, это наплевать. Я тоже морда порядочная.
И вдруг засмеялись оба. И не было уже смертного томления в его глазах и в ее душе. Он подошел к ней близко, и обнял ее порывисто, и поцеловал звучно, весело и молодо в ее радостно дрогнувшие губы. Сказал:
— Эту ерунду к черту!
И сердито захлопнул ящик стола.
И она целовала его и повторяла:
— Милый, милый мой! Люби меня, люби меня, целуй меня, — будем жить вместе, и умрем вместе.
«Легче вдвоём. Если не сможем идти, Вместе умрём на пути, Вместе умрём».Так, убежав от буйного неистовства неправой жизни, пришли они к вожделенному Дамаску в союзе любви, сильной, как смерть, и смерти, сладостной, как любовь.
Благополучный Иуда
I
Дела инженера Генриха Зонненберга были теперь в очень сложном и деликатном положении. Вся его судьба висела на волоске. Очень обширные, смелые предприятия, начатые Генрихом Зонненбергом, оказывались такой природы и такого свойства, для которых готовится, по выражению Некрасовской поэмы о современниках, «в результате миллион или коническая пуля». Широта, быть может, гениальная, его замыслов граничила с преступностью дерзкой воли.
В настоящий момент вся судьба и предприятия Генриха Зонненберга и самой его жизни зависела от того, какое слово напишет на одном, уже изготовленном, но еще не пущенном в ход докладе одно весьма влиятельное, высокопоставленное лицо.
Может быть, оно начертает на полях ослепительно-белой и умопомрачительно-аккуратно написанной на ремингтоне официальной бумаги быстрыми и отрывочными движениями своего остро-отточенного карандаша вожделенный буквы «со св. ст. не н. пр.», что обозначает «со своей стороны не нахожу препятствий». Тогда Генрих Зонненберг вздохнет свободно. В карманы его польются чужие миллионы. Безумно дорогая вилла на Ривьере, которую он уже присмотрел, будет принадлежать ему.
Но может случиться и совсем иначе. Быть может, на пергаментно-желтом лице старого сановника мелькнет презрительно-суровая усмешка, в его маленьких, еще по-молодому ярких глазах затеплятся злые огоньки, и маленькая сухая рука, энергично сжимая карандаш, бросит на бумагу крупные, страшные буквы «откл.» — что будет обозначать «отклонить».
Тогда наступит полный крах. Будут предъявлены ко взысканию какие-то нелепые векселя. Потом делами Генриха Зонненберга заинтересуются прокуроры и судебные следователи. Эти люди одержимы маниею видеть признаки преступления там, где есть только ловкие и смелые, хотя и рискованные, конечно, комбинации. На неделикатном языке юристов заговорят о подлогах, мошенничествах и растратах, вовлечениях в невыгодные сделки, и еще Бог весть о чем.
Деньги иссякнут. Зизи выгонит Зонненберга. Милая графиня Мими не только изгонит его из своего сердца, но и не станет узнавать его при встречах на улицах или в собраниях.
Но нет, до этого, конечно, не дойдет. Генрих Зонненберг не из тех, кто терпит унижения. В ящике его письменного стола лежит револьвер. На случай же внезапного ареста он носит при себе, в хорошо скрытом хранилище, две-три капли быстро и верно действующего яда.
Дерзкая решимость покончить с собою наполняет душу Генриха Зонненберга незаконным подобием храбрости. Но его красивое, смуглое лицо нравящегося женщинам брюнета становится часто мечтательным, и глаза вдруг начинают глядеть рассеянно.
II
Генрих Зонненберг сидел со своими приятелями в общей зале одного дорогого кабачка. На столе перед ними в вазе со льдом стояла бутылка шампанского, уже не первая.
На эстраде выкрикивала что-то безголосая певичка в кургузом платье нелепого золотого цвета. Она показывала публике свои толстые икры, обтянутые ярко-голубыми чулками, и порою свою голую набеленную спину. Никто её не слушал. Почти никто и не смотрел на нее.
Приятели подшучивали над рассеянностью и мечтательностью Генриха Зонненберга. Говорили:
— Наш Генрих влюблен опять.
— И ревнует.
— Нет, он не ревнив. Он боится сцены ревности.
— Вернее, сцен: будет ревновать Зизи и еще другая.
— А кто другая?
— О, это его секрет.
Генрих Зонненберг улыбался лениво, и кое-как отшучивался, Его любовные приключения были общеизвестны, — кроме, конечно, его отношений к графине Мими, о которых не знал никто.
Подшучивали. Не знали настоящей причины. Генрих Зонненберг вел свои дела так, что еще никто не догадывался о его настоящем положении. А если бы они знали!
Генрих Зонненберг даже вздрогнул слегка, когда ему пришла в голову мысль о том, какие злорадные лица были бы у этих его милых друзей, если бы они знали хоть только часть истины.
III
Чтобы перевести разговор на другие темы, Генрих Зонненберг спросил вполголоса одного из своих собутыльников, Сержа Котелянского, который знал всех в городе, почти со всеми был хорош, или, по крайней мере знаком, и был вхож в неисчислимое количество домов:
— Кто это?
И показал легким, едва заметным движением головы на пробиравшегося между рядами столиков к оставленному для него месту близ эстрады очень моложавого господина, элегантно одетого и как-то странно красивого.
Красота его лица была несомненна, но было в ней что-то противное и даже как-будто позорное. Цвет его лица был чрезмерно нежен, бел и румян. Золотистые волосы его вились так круто, словно были завиты. Глаза его глядели томно и нагло, и маслянистый блеск их казался неприличным. Черты лица его были чрезвычайно правильны, и античный профиль его отличался изысканною строгостью очертаний. Рыжеватая, коротко подстриженная бородка нарушала чистоту этих строгих линий, но зато она как бы подчеркивала лукавый, порочный характер этого противоречивого лица. В сладкой упитанности его тела было что-то бесстыдное и притом волнующее.
Серж Котелянский поклонился новому посетителю с очень почтительным выражением. Тот ответил ему дружеским кивком и любезною улыбкою. Потом сел к своему столику. Там уже его ждали две сильно накрашенные наглые женщины и потертый, но бойкий господин во фраке.
Серж Котелянский сказал Генриху Зонненбергу:
— Вот! Неужели ты его не знаешь?
Генрих Зонненберг с легкою улыбкою отвечал:
— Правда, не знаю.
Серж Котелянский сказал внушительно:
— Ну, я тебе скажу, это — человек, которого надо знать.
Генрих Зонненберг возразил недоверчиво:
— Вот как! Даже надо!
Серж Котелянский настаивал оживленно:
— Да, да, именно надо. У него связи и влияние прямо-таки удивительные. Это — Иуда Искариот.
Генрих Зонненберг жадно всматривался в знаменитого человека. Серж Котелянский рассказывал с обычною своею развязанностью:
— Я как-то его спрашиваю, знаешь, во время откровенной болтовни: послушай, говорю, Иуда, с чего ты взял себе такой странный и страшный псевдоним? Разве, говорю, ты не мог бы подписывать своих статеек более благозвучным именем? Да ведь ты, говорю, наконец, даже вовсе и не Иуда.
Генрих Зонненберг спросил:
— А как его настоящее имя?
Серж Котелянский ответил:
— Его зовут Иосиф Аристархович Эдельвейс. Не правда ли, звучное имя?
С легкою усмешкою сказал Генрих Зонненберг:
— Слишком звучное.
Серж Котелянский возразил:
— Ну, вовсе не слишком. Да не в том дело. А можете вы себе вообразить, что он мне ответил?
— А что? — спросил Генрих Зонненберг.
Серж Котелянский рассказывал:
— Представьте себе, — это прямо бесподобно, — он мне говорит: я и есть Иуда Искариот. Я его спрашиваю, — тот самый? А он мне самым спокойным тоном говорит: да, тот самый. И совершенно серьезно.
Генрих Зонненберг предположил:
— Он шутил, может быть?
Один из друзей сказал:
— Или ты, Серж, шутишь.
Серж Котелянский обидчиво сказал:
— Ну, вот, с чего мне врать! Потом я узнал, что это у него нечто вроде мании, — воображать, что он — второй раз родившийся Иуда.
IV
Генрих Зонненберг задумался. Потом сказал таким тоном, что нельзя было понять, шутит он, или говорит серьезно:
— Да, с ним не мешает быть знакомым. Это именно тот, кто нужен.
Друзья стали подшучивать над Генрихом Зонненбергом. Говорили, что Иуда Искариот, пожалуй, и не возьмется за устройство любовных дел.
Генрих Зонненберг, не смущаясь, возразил спокойно:
— Мое дело, может быть, его заинтересует. Я сумею его заинтересовать. Серж, ты можешь меня с ним познакомить?
Серж Котелянский слегка покраснел от гордости, и сказал:
— Ну, конечно. Мы с ним очень хороши.
Генрих Зонненберг сказал:
— И если можно, сегодня же.
— Можно и сегодня. Только…
Серж Котелянский сделал серьезное лицо, и продолжал:
— Я должен тебе вот что сказать, если ты хочешь чего-нибудь через него добиться. Это все знают, что он умеет провести всякое дело. Чорт его знает, как он это делает. Но, чтобы воспользоваться его услугами, надо выполнить одно, несколько, как бы тебе сказать, ну, скажем, щекотливое условие.
Генрих Зонненберг нетерпеливо спросил:
— А именно?
Серж Котелянский нагнулся к самому его уху, и зашептал:
— Надо совершить маленькую нескромность, — выдать ему чей-нибудь секрет, принести какое-нибудь важное секретное письмо, ну, или что-нибудь в этом же роде. Понимаешь? На это, понятно, не всякий пойдет, потому что не у всякого есть что-нибудь такое, чем можно кого-нибудь выдать, — но он не брезгает и маленькими секретами, интрижками какими-нибудь.
Потом, отодвинувшись от Генриха Зонненберга, уже обыкновенным тоном, — потому что в общей зале ресторана неудобно и непрактично секретничать так долго, чтобы все обратили внимание, — Серж Котелянский сказал:
— Не правда ли, это чорт знает, что такое! Но, может быть, он таким способом именно и приобретает способность влиять.
Генрих Зонненберг спокойно ответил:
— Весьма возможно.
Серж Котелянский сказал наставительно:
— Так вот видишь, если хочешь иметь с ним дела, так его надо заинтересовывать, а это не так то легко, не правда ли?
Генрих Зонненберг холодно усмехнулся и спокойно сказал:
— Я его заинтересую.
Серж Котелянский посмотрел на Генриха Зонненберга с уважением.
V
В тот же вечер знакомство состоялось. «С места в карьер». Генрих Зонненберг стал делать Иуде Искариоту кое-какие «авансы». Иуда Искариот относился к этому благосклонно.
Иуда Искариот со всеми всегда был любезен и мил. Теперь он чувствовал, как опытный психолог, что Генриху Зонненбергу что-то от него нужно, что ценою крупной услуги будет и достаточно крупное предательство.
На другой вечер Генрих Зонненберг опять встретился с Иудою Искариотом в другом таком же увеселительном заведении. Угостил Иуду Искариота ужином, и этот ужин вскочил ему в копеечку.
Во время ужина Генрих Зонненберг улучил минуту шепнуть Иуде Искариоту, что у него есть к нему интересное дело. Подчеркнул выражением слово интересное. Прибавлял для большой ясности:
— И еще мне хочется принести вам кое-что. Надеюсь, что это вам будет хоть немножко интересно.
Иуда Искариот переспросил:
— Ничто интимное?
Генрих Зонненберг ответил:
— Да, весьма интимное.
Иуда Искариот засмеялся весело. Генрих Зонненберг невольно вздрогнул от какого-то жуткого, противного чувства. Иуда Искариот не обратил, по-видимому, на это никакого внимания.
Иуда Искариот привык к тому, что его собеседники иногда не могли скрыть по отношению к нему своего брезгливого чувства. Он находил это очень глупым, но не обижался. Ему было все равно, что о нем думают люди. Сам же он считал их подлыми и на все способными.
Иуда Искариот назначил Генриху Зонненбергу день и час для свидания.
VI
Этот час настал. Генрих Зонненберг приехал к Иуде Искариоту. В кармане сюртука Генриха Зонненберга лежали пачка писем графини Мими, и пачка бумаг, украденных ею по его просьбе из кабинета её мужа.
Подъезжая к подъеду двухэтажного белого особняка очень красивой архитектуры, где жил Иуда Искариот, Генрих Зонненберг подумал:
«Предатели живут недурно!»
Да, Искариот жил превосходно. Но описывать обстановку его палат не стоит. Все вещи были дорогие, и все было устроено с большим вкусом приглашенными для этого дела за большие деньги мастерами. Но слишком чувствовалось, что все это куплено за деньги. Ни на чем не было отпечатка живой души, того соответствия с характером хозяев и их домочадцев, которое бывает во всех настоящих жилищах человеческих, дворцах так же, как и в нищенских лачугах.
Всю душу свою Иуда Искариот носил с собою, и не расточал ее на вещи.
Был уют просторного кабинета, и сигары дымились. Мраморный Мефистофель, согнувшись в три погибели, неустанно демонстрировал свою пустынно-злобную улыбку, свои тощие ребра, и диковинные изломы своего голого дьявольски-непорочного тела.
VII
Генрих Зонненберг подробно и ясно, со свойственным ему талантом убедительного, врывающегося в память изложения, рассказал свои обстоятельства. Был откровенен. В сущности, ему теперь нечего было терять, а выиграть он мог очень много.
Иуда Искариот выслушал внимательно. Сказал, глядя прямо в глаза Генриха Зонненберга своими противно-ясными глазами:
— Возможно, что я что-нибудь и смогу для вас сделать. Но мое правило: услуга за услугу.
Генрих Зонненберг поспешно сказал:
— Я готов.
Иуда Искариот усмехнулся отвратительно-любезно, остановил Генриха Зонненберга легким движением руки, на пальце которой переливным многоцветным блеском зыбко засмеялся крупный бриллиант, и сказал:
— Услуга за услугу, и откровенность за откровенность. Видите ли, я не даром принял исторически-известное имя взамен моего мещански-благопристойного прозвища.
Серый пепел падал с его сигары, потому что Иуда Искариот чертил её пламенеющим концом в безмолвном воздухе какой-то запутанный узор. Петли этого узора гипнотизировали Генриха Зонненберга, глаза его приковались к красному глазу сигары, и отвратительно звучный голос Иуды Искариота доносился до его слуха как будто издалека, но с беспощадною, бичующею ясностью.
Иуда Искариот говорил, развалясь в своем покойном кресле:
— Некоторые думают, что это — только моя странная причуда. Но я — истинный Иуда Искариот, тот самый, который когда-то копил жалкие гроши, торговался с почтенными старцами синедриона, предал Учителя за тридцать сребреников, потом удавился. О, это очень тяжелый вид смерти! До сих пор помню резкое ощущение веревки, обвившейся вокруг моей шеи. Я тогда был наивен и глуп.
Иуда Искариот засмеялся. Говорил:
— Подумать, какие-то жалкие тридцать сребреников! Как бы то ни было, эти века, которые я томился в области, неведомой людям, не прошли для меня даром. Я вдруг почувствовал, что созрела пора более совершенных предательства. И вот я родился вторично.
Генрих Зонненберг спросил:
— Зачем?
Иуда Искариот ответил со спокойною, деловитою обстоятельностью:
— Чтобы развить великое дело предательств на рациональных основаниях. Вы, конечно, согласитесь со мною, что и история, и наблюдения над современностью учат нас этой простой истине: человечество нуждается в предателях. Предательство — не случайное преступление, совершаемое какими-то исключительными злодеями, а совершенно необходимый во многих обстоятельствах и вполне естественный акт. Только животные могут быть правдивы и верны, потому что они не одарены речью, а речь обладает способностью чрезвычайною ко лжи. Помните у Тютчева?
Генрих Зонненберг припомнил:
— «Мысль изреченная есть ложь».
— Вот именно, — сказал Иуда Искариот. — Животное только действует. Стало быть, оно обладает только одним способом выражения своей духовной жизни, и потому поневоле правдиво. Человек не только действует, но и говорит. У него, следовательно, два способа выражения: одно он делает, другое он говорит. Так естественно в человеке, особенно культурном, что его слово расходится с его делом, так естественно, что он лжет, обманывает, клевещет, предает. И заметьте, чем человек культурнее, тем более ему приходится лгать. Вы согласны со мною, не правда ли?
IX
Генрих Зонненберг сказал:
— Все, что выговорите, очень остроумно и, может быть, отчасти верно.
Иуда Искариот возразил:
— Скажите вполне верно, и вы будете совершенно правы. Человек не может не лгать, потому что странно было бы ему не пользоваться этим превосходным средством борьбы, — иногда даже единственным средством слабого против сильного. Припомните, хотя бы ваше собственное детство. Каково то вам было бы при некоторых неприятных обстоятельствах если бы вы строго держались тогда прекрасного и одобряемого всеми сильными правила всегда говорить правду вашим почтенным родителям? Ведь они, конечно, и вас уверяли, что руководствуются только желанием вам добра?
Генрих Зонненберг засмеялся. Сказал:
— Да, и так влетало достаточно.
Иуда Искариот продолжал:
— Итак, иная ложь во спасете. Но, впадая в крайность, когда уже ею начинают злоупотреблять, ложь вызывает и наилучшее средство для борьбы с нею, средство такого же точно происхождения и такой же природы, предательство всех видов, начиная с невинных детских проявлений наушничества и фискальства. Опять обращаюсь к воспоминаниям из золотой, невозвратной поры детства, этого святого, невинного возраста. Может быть, и вам случалось иногда испытывать высокое удовлетворение, когда вам удавалось более или менее ловко подвести обидчика под чувствительное наказание?
Генрих Зонненберг сказал:
— Да, это не лишено приятности.
На лице его отразилось злорадство старых воспоминаний.
Иуда Искариот посмотрел на него с удовольствием. Сказал:
— Впрочем, эту тему можно развивать без конца. Будем кончать. Повторю вкратце: я поумнел, исправился; на пустяки, как тогда, не польщусь, и за тридцать целковых в петлю не полезу. Да и вообще ни за что и ни за кого своей жизни не отдам. Живу только для себя, люблю только себя, верен только себе, и предать готов каждого, кого только могу, но не иначе, как за весьма приличную плату. А предать я могу очень многих, потому что владею многими тайнами. Я мог бы продать даже и такие ценности, на которые пока еще нет покупателей. И потому я богат, меня уважают, жизнь моя легка и приятна, и умру я, — если, конечно, умру, — не качаясь в петле на осине, и не под пулями стражников, как разбойник Варрава, а «под пленительным небом Сицилии, в благовонной древесной тени, созерцая, как солнце пурпурное-погружается в море лазурное», ну и так далее, — помните?
— Как не помнить!
— Так вот, перейдем, если вам угодно, к делу. Вы ждете от меня вполне определенной услуги, а именно, чтобы на докладе о вашем деле была поставлена благоприятная резолюция. Так?
Генрих Зонненберг молча наклонил голову.
Иуда Искариот продолжал:
— Что же вы дадите мне за это? Конечно, вы понимаете, что денег я не беру. Я жду от вас большего и лучшего, жду того, что составляет смысл и цель всей моей жизни, поэзию моего существования, жду того, для чего я восстал из мертвых, преодолев тяготение многовекового могильного сна, — словом, жду предательства. Кого же вы мне сегодня предадите?
Генрих Зонненберг слегка побледнел, но ответил без малейшего колебания:
— Графиню Марию Картомину и её мужа.
Иуда Искариот радостно улыбнулся и сказал:
— Признаться, я так и думал. Ваша любовница и её чванный супруг. Хорошо. Ну-с?
Он протянул руку к Генриху Зонненбергу. Казалось, что уже он видит эти письма и эти бумаги сквозь черную ткань сюртука.
Генрих Зонненберг быстро вытащил из кармана обе пачки, и подал их Иуде Искариоту. И уже после того слабо удивился этой почти самовольной быстроте.
X
Прошла едва минута, и Генрих Зонненберг уже пожалел, что отдал письма прежде, чем гарантировал себе чего-нибудь. Почти с ненавистью смотрел он на Иуду Искариота. С ненавистью, страхом и надеждою.
Иуда Искариот читал письмо за письмом. Не видно было по его лицу, доволен ли он новым своим приобретением. Он сказал наконец очень спокойно:
— Мими вас очень любит.
Генрих Зонненберг сказал:
— Да, она для меня готова на всё.
Гуда Искариот спросил с неискренним любопытством:
— Правда? И эта бумага?
И он принялся перелистывать похищенные графинею Мими бумаги.
Генрих Зонненберг слегка смутился, но, пряча смущение под развязностью тона, сказал:
— Да, это её рук дело.
Иуда Искариот внимательно прочитывал бумагу за бумагою. Наконец, он сказал:
— Здесь есть кое-что очень ценное. Ценное, конечно, только для меня, в связи с тем, что я уже имею. Из писем графини Мими действительно интересно только одно. Остальные, впрочем, я тоже оставлю себе на всякий случай. Что касается вашего дела, я постараюсь его устроить.
Иуда Искариот улыбался. Смотрел прямо в глаза Генриху Зонненбергу своими омерзительно-ясными глазами.
Вдруг Генрих Зонненберг почувствовал, что голова его кружится, и ему показалось, что пол качается под его ногами.
Страшная мысль внезапно поразила его:
«Где же ручательство в том, что Иуда Искариот исполнит свое обещание? Предать меня, как и других, что стоит предателю?»
Но, словно читая его мысли, Иуда Искариот сказал ему:
— Вы можете не сомневаться. На этот раз я, по всей вероятности, вас не обману. Едва ли мне представится расчет предать вас. Я даже рассчитываю, что вы еще будете мне полезны. Конечно, вы в моих руках, — для этого вы мне достаточно рассказали, — и продать вас я не постеснялся бы, — продали же и вы женщину, которая вас так любит, — но кто же вас купит? Итак, до приятного свидания. Вернее всего, что уже дня через три ваше дело будет решено.
Наивные встречи
I
Только он и она. Конечно, Он старше. Она очень молода. Но не все ли равно, сколько им лет? В его памяти неизгладимы навеки несколько мгновений, две-три встречи.
Навеки остался в памяти у Него ярко-солнечный миг морозного дня на перекрестке туманных улиц громадного северного города и встреча с Нею.
Одна в толпе равнодушно закутанных и спешащих прохожих шла Она, вся раскрасневшаяся от мороза, в легких светло-серых мехах. Ярким румянцем пылали ее щеки, и горели ее черные глаза так ярко, так юно, так весело! И губы ее, нежно-алые на морозе, улыбались — морозу, солнцу, толпе, молодости своей и веселью. Она шла и улыбалась, счастливая, опьяненная счастьем бессознательно юным, — нет, еще не счастьем даже, а его радостным предчувствием.
Как на одесском портрете Монье лицо Елисаветы, ее прекрасное лицо было обвеяно упоением сладостно-легкой жизни, восторгом пробуждающегося бытия.
Она шла в дивном восторге мимо Него, и уже почти прошла, не заметив, — и вдруг взор ее черных, радостно смеющихся глаз упал на Него. И зарадовались оба, — и весь внешний шум и свет погас для Него, и только одно было ее лицо, раскрасневшееся на морозе, с нежно-алыми губами, обвеянное восторгом, опьяненное радостным предчувствием неведомого счастья.
Он подошел к Ней, пожал ее тонкую руку в мягкой теплой перчатке. Он и Она говорили что-то незначительное. Не все ли равно, что!
Он спросил Ее:
— Вам весело? Вы рады?
Она ответила Ему звенящим от радости голосом:
— Так хочу радости и смеха в этот день! Если бы даже горе было и слезы, я бы радовалась и смеялась. Он тихо спросил:
— Чему?
Уж в душе его редкою и недолгою гостьею бывала радость, и усталость все чаще томила, и суровыми укорами уже была в его глазах развенчана прекрасная, но злая царица Жизнь, щедрая подательница бед.
Она смотрела на Него, широко открыв удивленные, радостные глаза. Он повторил вопрос:
— Чему бы радовались?
— Я не знаю, — сказала Она. — Я хочу радости, — разве этого мало? Мне весело. А вам? Вы не рады?
— Я рад тому, что вас встретил, — ответил Он. Она засмеялась и сказала:
— Вы все шутите. Нет, вы серьезно скажите, — вам не хочется смеяться и радоваться?
— Мало ли что нам захочется, — сказал Он. — Вам легко, у вас нет ни забот, ни огорчений.
— Ну вот, почему нет! — воскликнула Она. — И плачешь иногда. Так что ж!
— О чем же вы последний раз плакали? — спросил Он.
Она сказала с радостным укором:
— Стоит ли вспоминать! Так, с мамою что-то. У нее нервы расстроены. У нее неприятности, она так раздражительна. Ну да что, стоит ли вспоминать!
Шли, разговаривали. Он, обрадованный только Ею, Она, вся обвеянная восторгом произвольной радости, по воле творимого ликования.
II
Прошли дни. Была весна. Другая встреча. Поля слегка туманились. Перед забором сада было тихо. Тонкая сосенка на дороге перед калиткою сладко дремала, погруженная навеки в милую свою бессознательность. Слезы прозрачного смолистого сока застывали на ее коре, — слезы, Бог весть о чем. Серела пыль на дороге, и мягки были в вечерней мгле очертания дорожных колей.
Заря вечерняя уже погасла, но весь мглистый воздух был пропитан мечтанием о тихой заре вечерней. И над ними, над двумя, в безмолвном воздухе вечернем трепетал вешнею радостью тихий лепет мечты.
Они сидели на скамейке у забора. На Нем была светло-серая одежда; под белою полоскою крахмального воротничка краснел узкий галстук; темным пятном нависла над лицом желтая соломенная шляпа.
Она была в легком белом платье. Ее стройные руки были открыты, еще не было загара на ее прекрасном лице, и белы были ее босые ноги.
Он и Она говорили о чем-то. И молчали. И прислушивались к далекому плеску речки на порожистом русле о покрытые пеною камни.
— Пора домой, — сказала она.
— Посидите еще немного, — просил Он.
— Ну, еще пять минут, — сказала Она.
Нежно глядя на ее белые босые ноги, спросил Он:
— Вам не холодно?
Слегка краснея, Она спрятала ноги под платье и сказала:
— Немножко сыро ногам еще с непривычки. Мама бранится иногда, а я ни за что не хочу надеть башмаков. Так весело ходить босиком. И немножко стыдно. И это тоже весело и забавно. Такая мягкая земля под голыми ногами, такая нежная под ногами пыль.
— А песок? — спросил Он.
— С непривычки немножко больно, — сказала Она. — Так щекочет. Но я непременно хочу, чтобы привыкнуть.
— А зачем вам это? — спросил Он. Такой городской, так привыкший к асфальтам и камням столицы.
Она улыбалась и говорила:
— Так. Так хочу. Люблю, люблю мою землю. Она темная и нежная, и суровая. Как мать, суровая и нежная. Лелеет, ласкает — и не балует, и мучит иногда. И все, что от нее, радостно.
Он тихо сказал:
— Да ведь от нее и смерть! Она сказала с восторгом:
— Ах, все от нее радостно! Я такая городская, а здесь я точно нашла сама себя, и от радости и счастья словно пьянею. Так тороплюсь насытиться воздухом и светом, и так радостно погружаться в холодную воду в реке, и так весело приникнуть к земле обнаженными ногами. Так хочу быть радостною и простою, как девушка дикого племени где-нибудь на острове среди далекого океана.
Она замолчала. И ясное выражение счастья было на ее лице.
Он смотрел на Нее, любовался Ею. Она откинулась на спинку скамейки, мечтательно глядела прямо перед собою и из-под края ее платья опять стали видны положенные одна на другую легкие, тонкие стопы ее белых ног.
Он слегка дотронулся до ее рук, скрещенных на коленях, и тихо спросил:
— Отчего же вы не хотели сегодня днем идти со мною гулять?
Она улыбнулась и тихо сказала:
— Так.
— А завтра пойдете? — спросил Он.
— Нет, еще не завтра, потом, — сказала Она.
— А почему не завтра? — спрашивал Он.
С милым выражением откровенности Она говорила:
— Мне еще пока стыдно, что у меня такие белые ноги. Глупые, бедные, белые ноги. И я жду, когда они хоть слегка покроются загаром. А надеть башмаки ни за что не хочу. Люблю мою землю.
И тихо повторяла Она:
— Люблю мою темную землю. Люблю. Люблю. Радостное волнение охватило Ее. Грудь ее дышала трепетно и неровно. Легкая дрожь пробегала по ее телу. С мечтательным восторгом смотрели во мглу ее черные глаза, и нежно-алые уста повторяли сладкое слово:
— Люблю. Люблю.
Свирельно звенящим звуком трепетало это вечно радостное слово, и каждый раз оно звучало все новым волнением и все иным, все более сладостным восторгом. И уже Она словно задыхалась от восторга и сладостной печали, и свирельными стонами и вздохами перемежалось вечно ликующее слово:
— Люблю, ах, люблю!
Он подвинулся к Ней. Она доверчиво прижалась к Нему. Он смотрел на ее лицо. Оно было бледно. Из ее глаз текли слезы. Она плакала и улыбалась — и слезы ее были слезы юного восторга и сладостной, вешней печали. Он обнял Ее, и поцеловал ее нежную щеку, и повторял:
— Милая, милая!
И ощущал трепет ее тела, и слышал ее замирающие стоны:
— Люблю.
И тогда спросил:
— А меня ты любишь?
— Ах! — воскликнула Она.
И вся занялась радостью, и задрожала, и целовала Его нежно, повторяя:
— Люблю тебя, люблю!
И вдруг легким и быстрым движением Она освободилась из его объятий. Шепнула:
— Милый, прощай! До завтра.
С тихим скрипом калитка раскрылась и опять закрылась. И уже Она в саду. В густой тени молчаливых деревьев слабо белеет ее платье. На темном и сыром песке дорожек мелькают ее белые босые ноги. И вот Она скрылась за поворотом дороги, там, где из-за деревьев едва виден огонь лампы на террасе.
Он долго стоял у калитки. Глядел на деревья в саду, которые осеняли Ее сегодня. Глядел на дорожки, хранящие следы ее милых ног. Мечтал о чем-то. Был счастлив и печален. И счастьем и печалью были напоены его мечты.
Потом привычным движением горожанина Он вынул из жилетного кармана часы, взглянул на них, подумал, что уже поздно, что уже пора спать, и пошел домой.
Закурил папиросу. Помахивал тросточкою.
Поля были туманны и теплы. На реке кто-то неуемно-шаловливый плескался струйками вечно бегущей воды.
Он тихо шел, о Ней мечтая. Каблуки его сапог мягко вдавливались в серую пыль проселка. Красный кончик его папироски чертил в мглистом воздухе неровный огненный путь.
Человеку в серой удобной и красивой одежде захотелось быть таким же, как Она, радостным и простодушным, — но где же взять наивности и простоты?
У природы научиться?
Но природа молчала, и томилась вечным ожиданием того, кто должен прийти, и кто все еще не приходит.
III
Прошли дни. Был день ясный и знойный. Он и Она шли в полях. Он опять в том же светло-сером костюме и в соломенной шляпе. Она в легком белом платье. У Нее на голове пестрый шелковый платочек; босые ноги слегка загорели.
И опять радостный смех на ее алых губах, и восторг в черных глазах, и щеки рдеют. И говорят о чем-то-не все ли равно о чем!
И опять вопрос:
— Ты меня любишь?
И тот же все сладостный ответ:
— Люблю тебя, люблю.
Она смеется, — ясному небу, зеленым травам, тихо вьющемуся Ей навстречу ветру, птичкам и тучкам, всему, всему, и говорит — и свирельно звонок ее легкий голос:
— Люблю мою землю, и камешки, и серенькую пыль под моими ногами, и траву, и цветы полевые, кашки и ромашки.
Смеется и говорит:
— Милые кашки и ромашки, я вас люблю. А вы меня любите?
Зыбкий бежит по лугу ветер, и колышутся полевые цветочки, кивают ей глупыми своими головками.
— Все тебя любит, — говорит Он Ей. — Ты идешь, как воздушная царица радостных стран, и земля приникла к твоим ногам, и лобзает их нежно.
Она смеется и сияет ликующею радостью, и идет среди трав и колосьев, как царица радостной страны, далекой. И зыбкий ветер целует ее ноги, и солнце, милое солнце ясного дня, рассыпает у ее ног золото своих горячих лучей.
Потом… а не все ли равно, что потом было? Была жизнь, и события случались, и будут случаться. Дни за днями идут, и будут идти. В докучном шуме злых дней померкнет радостное сияние простодушной мечты, и ликованию безмятежной радости положен будет предел. Но что же такое! А все в памяти неизгладимы эти наивные часы, эти радостные встречи, и этот милый лепет мечты и счастья.
Счастья, творимого по воле.
Одно слово
I
Никогда с такою приятностью не вспоминается нам лето, как в самые темные зимние дни. И еще если при этом переживаешь одиночество, разлуку с любимым, томишься печалью о быстро-промелькнувших, невозвратных годах молодости!
Константин Михайлович Сладимов, человек почти богатый, малозанятый и еще не старый, начинал свой декабрьский день только после полудня.
В обширной, красиво обставленной квартире Сладимова было безлюдно и тихо. Прошло уже четыре года с того дня, как жена Константина Михайловича ушла от него, их единственного ребенка, мальчика Сергунчика, — он отдал ей.
Теперь Константин Михайлович жил один, странною, нелепою жизнью обеспеченного, ничем особенно не занятого и уже начинающего стареть человека.
Проснувшись поздно утром, часто с головою тяжелою от излишне выпитого вчера вина, Константин Михайлович еще долго лежал в постели.
Ни одного внешнего звука не доносилось к нему из-за тяжелых, бесшумно-мягких портьер и занавесей тёмной спальни. Тусклые, раздавленные мокрою мглою лучи серо-облачного дня не пробивались сквозь эти строгие занавеси. Только потому, что уже не хотелось ему спать, знал Константин Михайлович, что там, где-то, влечется день трудов и злости. Константин Михайлович повертывал один из бронзовых выключателей у постели, — вспыхивали тонкие, молочно-белые ниточки в стеклянной груше под потолком, и возникала необычайная опять в своей замкнутости обычность, неподвижная жизнь зеркал, бронзы, мрамора, красного дерева и пышных тканей.
Константин Михайлович не торопился вставать. Он вспоминал.
Обыкновенно вспоминались ему вчерашние встречи в театре, на улице, у знакомых, в клубе, на бегах, на скетинг-ринге. И вот перед ним проходила яркая, цепкая вереница ненужных, надоевших давно лиц, — любезно-улыбавшиеся дамы, — развязно-неловкие девицы, — молодые люди, облеченные в черные смокинги и фраки, те вылощенные юноши, молодость которых всегда кажется преувеличенною, — и люди пожилые с такими достойными манерами, что все они казались послами великих держав или отдыхающими министрами.
О каждом из таких людей Константин Михайлович знал какой-нибудь пакостный случай, анекдот, сплетню, по секрету рассказанное, но всем известное приключение. И хотя Константин Михайлович знал и то, что и о нем самом говорят многое, столь же пакостное, — одно бегство жены сколько дало пищи злым языкам! — он все же не мог отказать себе в удовольствии презирать этих людей его общества.
Людей из другого общества Константин Михайлович почти никогда не вспоминал, не потому, что не любил их, и не потому, что брезгливо сторонился от них, а только потому, что с детства не привык думать об этих людях иначе, как только слегка и недолго. Он совершенно искренно считал себя человеком особой, высшей расы, одним из носителей утонченной культуры.
Иногда Константину Михайловичу вспоминалась его жена Татьяна Алексеевна. Особенно часто почему-то он стал вспоминать ее в последнее время. Вместе с её образом в душе Константина Михайловича бурно поднимались острые, смешанные чувства вновь оживающей любви, жалости, ревности и безумного гнева.
Константин Михайлович пытался покрыть эту бешеную смуту чувств холодным презрением, — но не было холода презрения в его души, и воспоминания жгли и жалили его тем больнее, чем светлее были милые образы воспоминаний, образы нежной идиллии. Тогда Константин Михайлович звонил, — шустрый сероглазый мальчуган-казачок в серенькой узкой одежде и в сереньких мягких башмаках приносил газеты, — новости, сплетни, болтовня, суета и смута наших дней…
II
Константин Михайлович, в английском синем, мягком халатике выходил поздно из своей спальни, приближался неторопливо к среднему окну своего обширного, опрятно-холодного кабинета с очень строгою обстановкою, и долго смотрел на улицу.
Был декабрь, а погода в тот год стояла еще осенняя. Люди, которые всегда все знают, говорили, что это из-за той самой кометы, которая прошла мимо земли весною, рассыпясь от дряхлости.
На сирой, тусклой улице мостовая темнила, мокрая и грязная. Некрасивые дома пялили на улицу мокрые глаза снежных окон, и некрасивые вывески грузно свешивались над унылыми стеклами магазинов. Хрупали о камни копыта дымящихся извозчичьих лошаденок, и, упруго дрожа на резинках, проносились дрожки с поднятыми верхами, кожа которых тускло поблескивала сквозь серую пасмурность мокрого дня.
По мокрым, скользким тротуарам шли неуклюжие, измокшие люди в тяжелых, грубых одеждах. Кувалды-барыни топырили над собою черные зонтики, и тыкали ими в котелки встречных чиновников.
Через дорогу перебиралась девочка в коротком синем платьице, кутаясь в большой темно-серый платок, и осторожно ставя на верхи камешков тонкие ножки в забрызганных ботинках и видных до колен черных чулках. Прямо на нее, тяжело грохоча и покачивая грязно-зеленою дугою с черными разводами, катилась телега с серыми кулями, — но девочка запрыгала поживее, и перебежала под самою мордою смиренного ломовика.
Была скука разлита в сером воздухе, и серою скукою отравлены были прохожие и проезжие, да и стены тусклых домов, и плиты докучных тротуаров, и ржавое железо вывесок, — все это неподвижное и бездыханное переняло у человека его скуку, и томилось, скучая, тоскуя.
Тогда опять вспоминал Константин Михайлович лето в далекой деревне, где встретился он с милою своею Таточкою, где над тяжелою запутанностью его нечистой, угарной, слишком городской жизни возникла нежная очаровательница, невинная, легкая, простодушная любовь.
В мечте снова вставали навсегда милые места: длинная аллея таких веселых, празднично-нарядных, зеленолистных и белостволых берез; мелкие камешки на дороге и легкоозначенные на ней колеи; старый помещичий дом с просторными залами, с уютными покойчиками, с укромными, темными переходами; старый, широко разросшийся сад, где были такие тенистые дорожки и такие милые скамейки и беседки; причудливо-вьющаяся реченька у самого сада, и к ней спускающийся глубокий овраг, заросший ломким кустарником. И милое Таточкино лицо, улыбка милая, и летний, звонкий смех, и ручки маленькие и загорелые.
Три-четыре образа особенно часто повторялись в памяти Константина Михайловича.
Вот в зале за старым роялем сидит Таточка. По клавишам быстро бегают тонкие пальчики. И такие нежные, звенящие сладостно звуки льются в легкий сумрак предвечерний, что плакать хочется и смеяться от счастья и печали, и смотреть, смотреть на её тонкие плечики.
Вот на реке вечереющей в лодке легкой и зыбкой они двое, — он гребет, Таточка на руле. Заслушалась его рассказов, и лодка тянет к берегу, и шуршит бортом о зеленый камыш. Смеется Таточка:
— Чуть на мель не сели!
Вот утром Таточка идет с реки по тропинке мимо рощи домой. Она только что купалась. Волосы её влажны, лицо нежно румянится, веселыми кажутся быстро мелькающие босые ножки. Увидала идущего навстречу Константина Михайловича, застыдилась легко, прикрыла зардевшееся лицо свернутым полотенцем, убежать хотела, да передумала, и улыбаясь подошла к нему… Такая милая, зардевшаяся стоит перед ним, и говорит веселые слова.
III
А впрочем, чего же вспоминать! Ничего особенного не случилось. Все было, как у всех, — Константин Михайлович и Таточка влюбились друг в друга, потом поженились.
Родные его и её были довольны. Все находили, что Сладимов и Таточка, как нельзя лучше подходят друг к другу.
Несколько лет жили они мирно, счастливо, беспечно. Родился скоро мальчик. Больше детей у них не было.
Первая, нежная влюбленность прошла, сменилась тихою любовью. Потом как-то уж очень скоро привыкли они друг к другу. Те радостные, золотистые нимбы, которые чудились ему над головою милой и ей над головою милого, мало-помалу полиняли, а там и вовсе смылись. И все в их жизни, пока еще согласной, понемногу стало обычным, докучным и пресным.
Но Константин Михайлович остался верен своей Таточке, а вот Таточка ему изменила. Увлеклась красивым инженером, холодным и пустым фразером, и ушла с ним от Сладимова. Ушла, а сына себе выпросила, — и Константин Михайлович с нею не спорил.
С тягостным злорадством думал теперь Константин Михайлович о том, что счастья не было Таточке. Инженер скоро ее бросил, — завел более выгодную связь.
Константин Михайлович, конечно посылал Татьяне Алексеевне денег на воспитание сына… Этих денег едва хватало. К своим родным Татьяна Алексеевна стыдилась обращаться. Константин Михайлович знал, что его Таточке живется не сладко.
«Ну и пусть!» — досадливо думал он.
Иногда приходила ему в голову мысль, что надо бы денег посылать побольше Таточке… Но он гнал от себя эту мысль.
«Пусть работает», — думал он.
И Татьяна Алексеевна работала, как умела.
В толпе торопящихся к трудам людей, снующих под окнами этой дорогой квартиры, проходила иногда, может быть, и она. Может быть, взглядывала торопливо и робко на эти окна, и спешила пройти поскорее.
Иногда Константину Михайловичу хотелось узнать все еще милые черты своей Таточки в лице одной из быстро проходивших женщин; иногда что-то в походке, в манере держать зонтик напоминало ему Татьяну Алексеевну. Всматривался, и убеждался, что ошибся.
Константин Михайлович отходил не спеша от окна, и одевался, как всегда, тщательно. На улице же его ждал экипаж.
Спускаясь по темно-красному ковру красивой и светлой лестницы, и потом проходя широкую зеркальную дверь подъезда мимо почтительно изгибавшегося швейцара, Константин Михайлович думал почему-то, что есть в городе лестницы со двора, темные, с истертыми ступеньками, лестницы, где пахнет кухонным чадом и кошками, где за каждою обшарпанною дверью таится кто-то бледный, с усилием старающийся свести какие-то концы с какими-то концами, и его милая Таточка ходит по такой лестнице, ходит в старенькой жакетке и в старомодной шляпке, и тоже думает об этих концах.
Константин Михайлович усмехался злорадно, и думал:
«Ничего, ходит, — привыкла!»
IV
Ходит Татьяна Алексеевна Сладимова по грязной лестнице, где пахнет кошками, — ничего, привыкла.
Но как-то часто и Татьяне Алексеевне стало припоминаться то лето, и та её любовь, первая. И полинявший нимб над головою милого зажигался снова, и новая была в нем прелесть, — заманчивая прелесть недоступности.
В серой, темной и тошной будничности, к которой Татьяна Алексеевна уже привыкла, возникали опять волнения прежней, казалось, навсегда погребенной любви. И все чаще и чаще томило ее сознание недоступности того маленького рая на земле, который она сама отвергла, сознание невозвратности былого, милого счастья.
Недоступное, невозвратное! Но так ли это? Так хочется сердцу верить! И разве есть невозможное? Разве упорная всегда воля человека уже не творит и в наши дни чудес?
Чудо из чудес, — рождение и воскрешение любви, ты воле человека, тебя жаждущего, разве не подчинишься?
V
Однажды вечером, когда скучная лампа горела над белою скатертью стола, и маленький румяный гимназист-второклассник Сергунчик с озабоченно-скучающим лицом учил скучные на завтра уроки, Татьяна Алексеевна вздохнула и сказала негромко:
— Сергунчик!
Мальчик, хмуря брови, взглянул на мать, положил палец на необходимую ему строчку, и спросил:
— А? Что, мама?
— Не написать ли нам отцу? — спросила Татьяна Алексеевна. — Может быть и он нас опять к себе возьмет.
Сергунчик оживился, а Татьяна Алексеевна уже упрекала себя, зачем сказала это мальчику. Надо было написать, не говоря Сергунчику. Ведь еще неизвестно, что ответит Константин Михайлович.
А Сергунчик болтал оживленно, забывая о своих уроках, и торопил ее:
— Пиши же, мама, скорее. А то мы не успеем на елку переехать к папе.
Татьяна Алексеевна писала, а Сергунчик стоял нагибаясь за её плечом, повторял шопотом каждое слово, и плакал от умиления и восторга.
Свет от лампы был холоден и тих, — белая штора на окне висела неподвижная, неживая, — от железной в углу печки слабо веяло приторным, неживым теплом, — тень от стола лежала на полу широкая, тупая и холодная, — все вокруг враждебное было, и неживое. Только в лампадке перед образами мерцал живой, таинственный огонек, — но жизнь, которая была в нем, иная была, нездешняя.
Татьяна Алексеевна писала:
«Милый Константин Михайлович, тяжело и грустно живется мне. Тот, с которым ушла я от вас, меня оставил, — и поняла я, что между нами никогда и не было настоящей любви. Когда прошли первые дни этого внезапного и безумного увлечения, мы оба увидели ясно, что ничто прекрасное и высшее не соединяет нас. Мы расстались, — и теперь только со стыдом и отвращением я вспоминаю угарные минуты нашего сближения.
Вот живу я с моим Сергунчиком, жизнь моя наполнена заботами о нем, работою для него, а сама я точно не живая, — живу не живу. Точно и нет жизни, точно только и есть заботы, что забота о каждой копейке, дума о том, как бы концы с концами свести. Но не стала бы я писать вам обо всем этом, если бы опять в душе моей не проснулось то, что когда-то мы с вами переживали вместе так хорошо, так молодо, так искренне.
Помните ли вы то лето, навсегда для меня милое, когда вы мне сказали, что полюбили меня? Милый мой, любимый, любите ли вы меня еще хоть сколько-нибудь? Можете ли вы когда-нибудь простить мне то злое, что я вам сделала?
Если бы вы знали, как устала я в моей печальной и трудной жизни, вы, конечно, пожалели бы меня. Вот я пишу вам, я прошу вас, как просит у чужого порога голодная, озябшая на дороге нищенка, — пустите меня к себе, возьмите меня. Даже не прошу, чтобы вы меня простили теперь же, — будьте со мною неласковы и строги, очень строги, — только бы мне видеть вас иногда, быть около вас, слышать звук ваших слов, хотя бы и не мне сказанных.
Вам трудно, может быть, неприятно найти для меня слова привета, — ответьте мне хоть кратко. Хоть одно только слово напишите мне, чтобы я знала, могу ли я прийти к вам. А если и нет вы мне скажете, вы будете правы.
Ваша Татьяна.
Я хотела подписаться Таточка, и почему-то не посмела. Боюсь вас, мой милый, любимый, желанный мой.»
VI
Туман стоял на тусклых улицах, и не было дня; темное утро, не одолевшее мглистого тумана, сменялось сырым, дождливым, быстро темнеющим вечером. Равнодушный свет электрической лампы мертво лежал на зеленом сукне стола в кабинете Сладимова и на белой бумаге Таточкина письма.
Константин Михайлович читал и перечитывал это письмо. Радость и злоба жили в нём, любовь и ненависть одновременно.
Таточка, милая Таточка, та самая, чей смех звенел, такой чистый, в аллеях старого сада, чей взор, такой ясный, там, на озаренных лучами ясного заката просторах сладостно очаровывал его душу, Таточка опять придет к нему. Таточка, чьи тонкие ручки наполняли сумрак предвечерий звенящим благоуханием звуков, чьи легкие ножки погружались в прохладные росы утренних трав!
Жена, его обманувшая, ему изменившая, покинувшая его, замкнувшая вокруг него тяжелую черту одиночества и злорадства, — эта ненавистная женщина опять стучится в его двери.
И он пустит ее?
Коварно-улыбающаяся, лживая, она опять будет с ним, на его ложе и за его столом? Властная, войдет в его жизнь госпожою, хозяйкою войдет в его дом?
Милая, придет, поцелует, и будет ласкать его, как тогда, в первые дни и в первые ночи.
Будет ласкать его, как ласкала своего любовника!
Теперь униженная и робкая, она скоро поднимет голову.
Ну пусть придет, пусть! И будет плакать, и просить…
Злые желания и жестокие томили Константина Михайловича. Бросить ей в лицо все слова, рожденные в тоске одиноких дней и ночей, все беспощадные слова! Унизить, измучить прекрасную, все еще милую, — тем больнее измучить, чем жалче будет мучить ее!
Или простить, забыть? И сладко будет помириться?
Она просит от него теперь только одного слова, — она получит это слово, одно слово, которого она ждет, и которое всё же будет неожиданным для неё.
Решительными движениями Константин Михайлович достал лист бумаги, написал одно слово, только одно, быстро заклеил конверт, написал адрес, позвонил, отдал письмо пришедшей на звонок стройной, миловидной Глаше, и сказал:
— Опустите в почтовый ящик сейчас же.
VII
Пришло письмо вечером. Дрожали пальцы у Татьяны Алексеевны, когда она разрывала конверт. Сергунчик смотрел с любопытством, и спрашивал:
— От отца? да? от отца?
Татьяна Алексеевна молчала. Раскрыла письмо. Вот оно, — одно слово, холодное, суровое. Только одно, но зато какое слово!
Лицо Татьяны Алексеевны багряно вспыхнуло. Как-то странно замрежили очертания предметов — сквозь слезы.
Ни одного не нашел для неё ласкового слова. Такая жестокость!
Но не сама ли она этого хотела? И в самом деле, разве надо, чтобы душа у человека была, как из гуттаперчи, и чтобы все шло гладко, как ни в чем не бывало?
Так ей и надо. Или не надо? Должна ли она идти к нему, должна ли она перенести это жестокое, подчиниться тому, что сказано этим одним словом?
Должна. Для себя, для Сергунчика. Или не должна? Так страшно ей стало и стыдно, — но иначе как же быть? Вот суровое одно слово, — но это слово от него, от милого, от любимого. Или и от любимого нельзя этого стерпеть?
Пусть решит Сергунчик. Ведь этого же она не для себя только захотела, а и для Сергунчика. Чтобы у него была елка, был дом, был отец. Ну вот, пусть Сергунчик и решает.
Татьяна Алексеевна медленно сказала:
— Вот, Сергунчик, прочти, что написал отец. Прочти и скажи, что мне делать, идти к нему, или уж лучше здесь остаться. Как ты скажешь, так я и сделаю.
Отдала письмо Сергунчику, и смотрит на него глазами, полными слез. Прекрасные глаза, полные слез!
Как покраснел Сергунчик! Звенящим странно голосом сказал:
— Только одно слово!
И заплакал.
Ласкала своего Сергунчика Татьяна Алексеевна и спрашивала:
— Что же мне делать, Сергунчик?
И улыбалась. И уже не было печали и смуты в её душе. Как скажет Сергунчик, так и будет. Долго плакал Сергунчик, и наконец сказал:
— Что ж, мама, уж если ты захотела вернуться к папе, так пусть так и будет. Пойдем к отцу, милая мама, — и ничего не бойся, — это пройдет, и опять будет хорошо.
Татьяна Алексеевна вздохнула, и сказала спокойно:
— Хорошо, Сергунчик. Завтра пойдем.
И уже не стыдилась, не боялась. Пусть будет, что будет, — вернутся счастливые дни, и венцы счастья и радости засияют снова.
VIII
На другой день к вечеру Татьяна Алексеевна и Сергунчик поднимались по широкой с цветами и с зеркалами лестнице в бельэтаж, к дверям квартиры Сладимова. У Татьяны Алексеевны щеки, все еще такие нежные и прекрасные, горели от стыда, и тяжело билось в груди сердце. И Сергунчик был взволнован, и тревожно посматривал на мать.
Завидя знакомую дверь, еще ярче зарделась Татьяна Алексеевна, — остановилась на одной из верхних ступенек, — и уже готова была повернуться и бежать. Но уже на звонок, данный швейцаром, открылась бесшумная дверь, и на пороге показалась в белом передничке и в гофрированном чепчике Глаша — та же горничная, которая еще при Татьяне Алексеевне была взята. Глаша весело говорила:
— Пожалуйте, барыня! Мы все так рады были, когда барин нам сказали, что вы вернетесь. Мы все так о вас жалели.
Веселая улыбка была на Глашином лице, но казалась она Татьяне Алексеевне насмешливою. С неловкостью, разлитою во всем теле, исполосованная бичами стыда, Татьяна Алексеевна вошла в переднюю.
Все, как при ней было, стояло и теперь, здесь, и в зале, видном из дверей передней. И было тихо там, в глубине безмолвных комнат, там, где затаилось то, что будет.
Что-то говорила Сергунчику и Глаше Татьяна Алексеевна, сама не слыша своих слов. Что-то отвечала ей Глаша.
Сергунчик нерешительно вошел в залу, и с любопытством рассматривал полузабытые предметы. Ждал, когда отец к нему выйдет. Давно не видел отца!
Глаша, улыбаясь, сказала Татьяне Алексеевне:
— Пожалуйте, барыня, уже все для вас приготовлено.
И пошла в ту сторону, где и прежде были комнаты Татьяны Алексеевны. И за Глашею тихо и робко шла смущенная Таточка, — и не знала, радоваться ей или плакать.
Земной рай
I
— Хандришь?
— Хандрю.
— И все валяешься на этом диване?
— Ну, и валяюсь.
Спрашивал гость, веселый молодой человек, Павел Павлович Елисейский. Отвечал хозяин, молчаливый и ленивый холостяк среднего возраста, Андрей Сергеевич Ласточкин. Гость ходил по мрачному кабинету, хозяин лежал, книга валялась на темно-зеленом ковре рядом с диваном.
У гостя блестели белые зубы (одоль), черные волосы на голове, усах стрелками и коротко-постриженной бородке (ориантин) и веселые темно-карие большие глаза (атропин). У хозяина все было тускло и уныло. Только ногти были длинны и вылощены.
Елисейский сказал:
— Знаешь что? Тебя надо вытащить, а то ты совсем закиснешь.
Ласточкин хмуро усмехнулся и сказал лениво:
— Вытаскивай.
Елисейский оживленно говорил:
— Я повезу тебя в Земной Рай.
— Это что же такое? — спросил Ласточкин.
Елисейский воскликнул с удивлением:
— Да неужели ты не слышал? Да ведь об этом милом учреждении весь город говорит.
Ласточкин спокойно возразил:
— Я не слышал. Я сижу дома, газет не читаю, никого к себе не пускаю, и удивляюсь, как это тебя сегодня ко мне пустили.
Елисейский махнул рукою.
— Оригинал! — сказал он примирительно. — Ну, слушай, я тебе расскажу.
И он, сверкая белыми зубами, принялся с восторгом описывать Земной Рай, обширный сад за городом.
Там всякий чувствовал себя так легко и приятно, словно в раю. Были увеселения там, и музыка, и несколько театров, и все для спорта. Главная же прелесть этого сада заключалась в том, что воздух в саду был напоен какими-то неведомыми ароматами, состав которых оставался пока тайною изобретателя. Под влиянием этих ароматов посетители становились невинно-веселыми, как дети, и спадали с них тягостные узы городских-условностей.
Разнеженность смутных мечтаний возникла над туманною нестройностью в душе Ласточкина. Жажда невинных радостей прельстила его. Он встал с этого постылого и в то же время милого дивана, на котором так лениво дремалось, на котором такие тоскливые и унылые рождались в его голове мысли.
Сказал гостю:
— Ну что-ж, я, пожалуй, поехал бы. Только лень одеваться.
Елисейский сказал:
— Ну, вот, я подожду.
Ласточкин подошел к зеркалу. Всмотрелся в свое желтое лицо. Сказал досадливо:
— А что надеть надо?
— Да просто фрак, — сказал Елисейский таким тоном, как будто фрак был для него самою простою формою одежды.
II
Через полчаса Ласточкин был готов. Вышли на улицу.
Мостовые были непривычно сухи и обнажены. Поэтому улицы стали громкими, и говорить с извозчиками было трудно. Впрочем, эту обязанность взял на себя Елисейский. Ласточкин заметил только, что извозчик запросил пять рублей, и согласился ехать за три.
Ласточкин спросил:
— Что-ж, это очень далеко?
Елисейский молча усмехнулся. Сказал:
— Ты не беспокойся. Я такого извозчика нанял, что он живо домчит.
Ласточкин замолчал. Всю дорогу ограничивался только редкими и краткими репликами на болтовню Елисейского. А Елисейский говорил непрерывно. Ласточкин думал о своем.
Всегда возвращение весны в этом громадном северном городе, на эти великолепные граниты, приводило его в мечтательное, элегическое настроение. Смирялась в душе его та злость, которая осенью и зимою всегда томила его в шумном многолюдстве центральных улиц и популярных сборищ. Уже толпа на улицах и в ярко освещенных залах не казалась его тоскующим очам сборищем нагальванизированных трупов.
По тротуарам людных улиц шли милые девушки, и улыбались розовеющему на их румяных щеках закатному солнцу с просторно-голубых небес. Элегантные дамы в бесшумно-несущихся экипажах казались царицами радостных стран; легкому трепету белых перьев на их шляпах отвечал тонкий трепет легко веемых теплым с моря ветром вуалей и лент. Черные цилиндры и черные квадратные бороды самодовольных рыцарей индустрии и биржи красиво вмешивались в блистательную пестроту гвардейских мундиров.
Там, на гулких тротуарах, где мелькали котелки, фуражки с кокардами, мягкие шляпы, была густая мешанина всякого сорта людей. Для этой публики дюжие, небритые парни охрипшими с перепоя голосами предлагали букетики невинных беленьких цветочков; спрашивали за букетик по двугривенному, уступали за пятачок два букетика.
III
Наконец Ласточкин и Елисейский выбрались из шумной городской тесноты. Долго еще ехали они тусклыми улицами заречной стороны.
Здесь все было серо и просто, но тоже очень мило. Рваные ребятишки были веселы. На окнах деревянных домишек пестрели в горшках незамысловатые комнатные растеньица.
Деревянная настилка моста упруго звучала под колесами. Была река, широкая, милая и еще по весеннему пустынная. А за рекою, на том берегу, виднелся длинный деревянный забор, и прямо против моста в заборе массивные, вычурные ворота. Над воротами вывеска — на белом поле зелеными крупными буквами надпись ЗЕМНОЙ РАЙ.
Стояло много экипажей в стороне. Вереница экипажей подъезжала к вычурно украшенным воротам.
Елисейский сказал:
— Ну вот и приехали.
Ласточкин с тупым недоумением, согнувшись на своем месте, осматривался вокруг. Что-то ему вдруг не понравилось, а что именно, он еще не мог понять.
Захотелось опять, по зимнему, спорить. Ворчливым тоном он сказал, не глядя на Елисейского:
— Стоило такую даль тащится!
Елисейский уверенно возразил:
— А вот войдешь, так увидишь, стоило ли.
И видно было по его спокойно-радостному лицу, что он совершенно уверен в том, что Земной Рай очарует Ласточкина.
А Ласточкин ворчал:
— По-моему, ужасно некрасиво все это, — и эта нелепая вывеска, и этот идиотский забор, и эти глупые ворота.
Елисейский мельком глянул на него, усмехнулся и сказал:
— Об этом я не стану с тобою спорить. Снаружи это, действительно, не производит хорошего впечатления. Но ведь это все наскоро и пока. У них все внимание было обращено на то, что внутри, и тут им, действительно, удалось достигнуть…
IV
В это время извозчик повернул к седокам обросшее рыжею щетиною лицо и промолвил угрюмо:
— Барин, деньги приготовьте. Полиция гонит, потому съезд большой.
Елисейский сказал:
— Готово, готово.
И сунул извозчику трехрублевую бумажку. Когда уже вышли, Ласточкин понял вдруг, что его раздражает. Он крикнул Елисейскому:
— Прощай, чорт с тобою, я не пойду!
И сердито зашагал по желтой песчаной дорожке, проложенной вдоль забора.
Елисейский, уже вставши было в хвост перед кассою брать билеты, с растерянным и удивленным видом пустился догонять его. Говорил, слегка запыхавшись от неожиданности и торопливости:
— Послушай, Андрей Сергеевич, да что с тобою? С чего это ты? Уверяю же тебя, что там все очень прилично, и если ты думаешь, что что-нибудь такое, то уверяю тебя, что все как следует, и ничего шокирующего нет.
Ласточкин спросил отрывисто:
— Что стоит вход?
Елисейский говорил:
— Собственно вход пустяки, всего три рубля. Там, конечно, есть еще разные местечки, но уж это по желанию, ну, и там различная плата, в зависимости от того…
Так же сурово спросил Ласточкин:
— А у кого нет трех рублей?
Елисейский сказал с некоторым даже неудовольствием:
— Ну, у кого нет! Понятно, туда всякую шантрапу не пускают. Там все очень призрачно, и рассчитано на самую избранную публику.
Ласточкин едко переспросил:
— Да? На избранную публику? На ту самую, которая платит бешеные деньги прославленным гастролерам, хотя ни уха, ни рыла не смыслит в искусстве?
Елисейский пробормотал смущенно:
— Ну, зачем же так резко! Вовсе уж мы не такие профаны.
Ласточкин, не слушая его говорил:
— Земной рай! Смотри, вот перед тобою берега прекрасной реки. Воды её сияют в лучах заката. Небеса пустынно-торжественны над нею. Деревья на её берегах томятся сладкою грустью бессознательного счастья. Влажные травы облелеяны тишиною и тайною вешнего вечера. Вот, уже меркнет заря. Уже над рекою поднимаются легкие, прозрачные предвестники тумана. Сладостною завесою забвения закутается бедный мир придуманного людьми города. Нежными вздохами счастья и печали донесутся сюда из города отголоски людской суеты. Преображенный мир предстанет перед нами, чаруя нас опять и опять мечтательным предвещанием земного рая, рая без оград и без замкнутых ворот, без платы за вход, рая, доступного для всех. Видишь, там, на траве, на росе белые мелькают пляшущие ноги отроков и див, и свирель стонет нежно, и прозрачно-легко колышется смех, трепетно-звенящий в очарованном смелою волею человека воздухе свободного навеки мира. Ты хочешь, несчастный, чтобы предвещательные мои мечтания я променял на утехи твоего придуманного ароматического сада за решеткой! Оставь меня, иди туда один, забавляйся, как умеешь, а меня оставь моей задумчивой печали и легкому томлению моих мечтаний.
И расстались они, — своею дорогою пошел каждый.
Помнишь, не забудешь
Предпраздничная весёлая, но все же всем надоевшая, шумная суета кончилась. В квартире Скоромыслиных стало наконец тихо и по-праздничному легко. Запахи куличей, только что испеченных, вкусные, но тяжелые, смешались с легким, как сказка, ароматом духов.
Торжественные звоны, пушечные выстрелы, легкие гулы веселых голосов и стук колес и копыт по торцам мостовой слабо доносились в тишину и уют просторного кабинета, полузаглушенные тяжелыми складками портьер.
Николай Алексеевич Скоромыслин не пошел к пасхальной заутрене. Он всегда ходил в эту ночь в церковь вместе с женою и с детьми, а сегодня ему что-то занездоровилось. И настроение было тоскливое, совсем не праздничное.
Впрочем, в последнее время это с Николаем Алексеевичем нередко случалось, такое несоответствие его настроений с тем, что чувствуют и переживают все другие. Вокруг веселые люди смеются и шутят, — а Николай Алексеевич грустен, задумчив, ему скучно, он готов говорить всем неприятные слова. И наоборот бывает — все вокруг волнуются, негодуют, плачут, — а он спокоен, даже иногда весел. Стали даже говорить знакомые, что у Скоромыслина тяжелый характер.
Николаю Алексеевичу просто не хотелось сегодня идти в церковь; недомогание было только предлогом, чтобы не сказать коротко и просто:
— Потому, между прочим, не хотелось идти, что будет много знакомых в той церкви, — домовой, — куда они ходят потому, что имеют кое-какие связи с людьми, причастными к тому ведомству. Если пойти, то надо будет всем знакомым улыбаться, делать беззаботное лицо и говорить что-то легкое и никому не нужное, но совершенно обязательное в эту ночь. И вообще, как всегда со знакомыми, надевать маску общепринятого образца.
Ах, эти скучные маски! Отчего нельзя всегда быть самим собою!
Самим собою можно быть только тогда, когда остаешься один, совсем один, когда знаешь, что никто не постучится в дверь, когда можешь положить трубку телефона, чтобы не услышать докучного звонка. Только тогда спокойно можно отдаться мечтам и воспоминаниям, погрузиться в ту легкую задумчивость, которая слаще всего на свете.
Вот этого утешения захотелось теперь Николаю Алексеевичу.
II
Перед заутренею жена вошла к Николаю Алексеевичу в кабинет, шурша белым шелком нового платья, поправляя холодный, матовый жемчуг на теплой белизне стройной шеи, и сказала:
— Пора нам ехать. Неудобно приходить слишком поздно. А ты, Коля, поедешь?
Николай Алексеевич встретил жену привычно-ласковою улыбкою, поцеловал ее белую, стройную руку с кольцами, сияющими многоцветным блеском камней на длинных, тонких пальцах, от которых пахло сладко и нежно, и сказал:
— Нет, я лучше останусь дома. Подожду вас. Полежу здесь. Голова у меня все еще побаливает.
— Да, конечно, — сказала жена, — раз ты неважно себя чувствуешь, так лучше останься дома. А то еще простудишься. На улице холодно, и ветер такой холодный. Ты много работал в последнее время, — и это не хорошо. Не надо так утомляться.
Николай Алексеевич лениво усмехнулся и вяло возразил:
— Ну, где там! Какая теперь моя работа! В городе совсем нет времени заняться как следует.
— Да, — сказала жена, — уж эта городская жизнь! Но ведь ты знаешь, Коля, для детей приходится. А я и сама очень не люблю города. Я бы и зимою охотно жила в деревне.
Николай Алексеевич тоже любит повторять, что не любит города, где так много пустых развлечений, встреч и разговоров, мешающих работе, где так поздно ложатся спать и так поздно начинают день. Городские жители, отравленные милым ядом городской жизни и очень влюбленные в соблазны этой шумной жизни, любят хулить нелепость и суету жизни большого города.
— Я дам тебе хинину, — сказала жена, — это тебе отлично поможет.
Николай Алексеевич попытался возражать:
— Ну вот, зачем! Ничего мне теперь не надо. Пожалуйста, не беспокойся. Я полежу спокойно, и все пройдет.
Но жена уже не слушала его. Она исчезла за темно-синею портьерою двери, легкая, как девочка, совсем не похожая на сорокалетнюю даму, на мать пятерых детей.
Через минуту она уже вернулась и легко, шурша недлинным шлейфом по синему затянувшему пол сукну, пробежала через комнату. Она держала в одной руке на блюдечке с розовым рисунком на фарфоре коробочку с облатками хинина и высокую рюмку с темною мадерою-запить горький порошок.
Веселая, нарядная в своем белом, шитом тяжелым тусклым золотом платье, с полными белыми плечами и с полными стройными руками, открытыми по локоть, все еще красивая, с пылающими от безотчетной веселости щеками и с порозовевшими раковинками тонких, маленьких ушей, полузакрытых завитыми локонами, благоухающая какими-то легкими, как сладостная райская мечта, духами, она стояла перед Николаем Алексеевичем и требовала с ласковою настойчивостью, чтобы он принял эту ненужную для него пакость.
Николай Алексеевич шутливо вздохнул и развел руками, покоряясь неизбежному. Сказал:
— Ах, милая, я все еще тебе во всем послушен. Жена улыбалась весело, обрадованная его шуткою. Николай Алексеевич с легкою гримасою усилия проглотил облатку. Запил ее мадерою. Лег на диван и с удовольствием протянулся на его широком, упругом ложе, ощущая левою рукою холодноватую мягкую кожу его высокой, прямой спинки с полочкою наверху, где стояло несколько фотографических портретов, и со шкафчиками по бокам.
Жена неторопливыми, ловкими движениями приятных, полуобнаженных рук поправила под головою Николая Алексеевича шитую зелеными и розовыми шелками — венок из роз, — атласную подушку и покрыла Николая Алексеевича мягким клетчатым пледом, под которым сразу стало тепло, приятно и спокойно, и таким милым стал легкий озноб в спине.
— Ну что, Коля, теперь удобно тебе? — спросила жена.
— Очень. Спасибо, милая, — ответил Николай Алексеевич. — Уж ты не возись со мною, иди себе. Дети ждут, должно быть.
Но прежде чем уйти, жена переставила с письменного стола на столик у дивана наполовину отпитый стакан с кисловато-сладким зеленоватым питьем и раскрытую книгу, новый роман. Потом она простилась с Николаем Алексеевичем нежным поцелуем, сказала:
— Постарайся поспать до нашего прихода. И ушла, легкая, веселая, благоуханная, — по сукну прошуршала шлейфом, портьеру колыхнула у двери, — ушла.
Николай Алексеевич смотрел за нею, и глаза его благодарили, и губы улыбались ласково. Лихорадка мучила и нежила его, меняя ознобы и зной. Она напоминала ему о другой, которой с ним уже нет, — и губы его улыбались и шептали:
— Помнишь, не забудешь? Милая Иринушка, не забудешь?
Были слышны недолго слабые из-за дверей отзвуки веселых голосов в зале и в передней, донесся издали стук закрытой на лестницу двери, — и стало тихо.
III
Николай Алексеевич остался один.
Он взял книгу. Пробежал несколько страниц. Но скучно было читать и казалось неудобно держать книгу руками из-под пледа, который при этом сползал с плеч и комкался под правым боком.
Николай Алексеевич положил книгу на столик и повернул выключатель стоявшей на столике легкой лампы-качалки. Теперь кабинет был освещен только рассеянным, отраженным от лепного потолка светом двух лампочек люстры, прикрытой снизу тяжелым, темным щитом.
Николай Алексеевич закутался пледом и погрузился в смутное, приятное состояние полудремы.
Бывало, Николай Алексеевич любил мечтать о будущем. Признак юности и скованной еще силы — мечта о будущем. Мечты о будущем утешали, когда настоящее было темно.
Теперь Николай Алексеевич больше любил вспоминать былое. Старость ли надвигалась, слишком ли яркие мечты утомили душу, или милого много накопилось в былом, — к былому с каждым годом все чаще обращались мысли.
Воспоминания как мечты иногда. А иногда они как проза. Иногда в них странное сплетение прозы и мечты, милого и постылого.
Что же эти дни, о которых вспоминается так сладко и так горько? Дни, когда было молодо, бедно, трудно и радостно, — что же эти дни?
И горе в них было, и тусклость бедной, скудной жизни.
Очень трудна была жизнь, — только молодость все скрашивала, и еще более, несравненно более, ее любовь. Любовь милой Иринушки, первой жены Николая Алексеевича.
Иринушкина любовь чудеса делала и на убогий мир
действительности надевала для Николая Алексеевича пышный наряд царственной мечты. Милая Иринушка, явленная ему в обличий простодушной Альдонсы, преображалась перед ним торжественною Дульцинеею, прекраснейшею из прекрасных, и преображала для него мир.
Это было давно, так давно!
А теперь?
Теперь Николаю Алексеевичу идет — и уже давно идет, — пятый десяток. И все в жизни его изменилось. Бледная, скучная бедность отошла. Жизнь полна, легка, приятна. Хорошо теперь Николаю Алексеевичу живется.
Хорошо?
Да, конечно, хорошо.
Только иногда странно как-то. Бедность и достаток, — откуда они? Зачем они так пытают человека? Зачем то немудрое, чего добивается человек, приходит так поздно?
Вот были годы, когда, едва начав свою самостоятельную трудовую жизнь, бедный учитель в уездном городишке, женился Николай Алексеевич на своей милой Иринушке. Женился потому, что любил Иринушку, потому, что она любила его. Женился, хотя оба они были бедны и одиноки.
Жена молоденькая в его доме, и свирепая в его доме бедность. Душа просит радостей и смеха, а жизнь грозит напастями и бедами, и утомляет трудами, и не дает отдыха.
Работали они оба очень много, а денег у них в доме было очень мало. Порою и совсем не было денег. И очень мало было вещей. Да и те вещи, которые были, были плохи.
Но разве деньги и вещи сильнее человека?
Город, где они жили, был скверный, маленький, ветхий городишко, обнищавший вдали от сильных людей и от больших дорог. И люди в этом городе жили жалкие, угрюмые, злые, завистливые, нищие духом люди. А те, в ком теплилась живая душа, томились там, и тосковали, и рвались убежать из этого постылого города, от этой тусклой жизни; и, если не могли убежать, умирали рано, или убивали сами себя, или спивались.
А вот теперь у Николая Алексеевича дорогая, красивая, хорошо обставленная квартира на одной из лучших улиц большого города. В этой квартире с Николаем Алексеевичем живут жена его, дети, у детей гувернантка, студент-репетитор, бонна и целый штат прислуги. В этой квартире часто бывают гости, милые, любезные, просвещенные люди; смеется и плачет рояль, кто-то поет нежные и страстные романсы; танцуют весело и оживленно; говорят обо всем, что в широком мире случается, волнуя сердца, и что в искусствах живет живою жизнью. Когда нет гостей, вечер занят театром, концертом, маскарадом, посещением знакомых, ужином в ресторане.
Николай Алексеевич работает много, но все-таки гораздо меньше, чем в те юные годы, его первые годы жизни с милою Иринушкою. Имя его довольно известно, — книги, которые пишет Николай Скоромыслин, раскупаются неплохо, — в обществе о нем иногда говорят, — газеты бранят его с достаточною свирепостью, — словом, известность несет ему свои дани.
Николаю Алексеевичу, конечно, кажется, что у него мало денег. Никому из живущих в городах не довольно того, что есть. Николай Алексеевич в этом не составляет исключения.
А все-таки получает Николай Алексеевич за иной месяц в двадцать раз больше, чем он получал за то же время в те давние годы, за иной месяц в тридцать раз больше, а то иногда и в сорок раз. Бывают и еще более удачные месяцы, но редко.
Когда Николай Алексеевич получит в сорок раз больше, чем прежде получал за месяц, то часть этих денег откладывается; если в тридцать раз-концы с концами кое-как сводятся; если только в двадцать, тогда тратятся и те деньги, которые были отложены в удачливые месяцы. Но в конце концов денег на все хватает — и на скромный образ жизни, и на книги и картины, и на заграничные ежегодные поездки, без которых никак нельзя обойтись, потому что все знакомые за границу ездят и много об этом говорят и потому, что за границею жить легко, приятно и удобно. Приятнее, чем в России, где газеты каждый день приносят такие странные, неожиданные новости.
IV
Николай Алексеевич скучающими глазами обвел знакомые, приятно-привычные предметы своего кабинета. Все здесь было дорого, просто, прочно и красиво, в строгом скандинавском духе. Преобладал спокойный, холодный темно-синий цвет.
На громадном письменном столе были расположены в педантичном порядке бумаги, конверты, чернильницы, карандаши, рамки с портретами, часы, лампа, подсвечники, вазы с цветами, бронзовые фигурки для надавливания на разрозненные бумажки и еще какие-то красивые вещицы без определенного назначения. По стенам стояли шкафы американской системы, набитые книгами в переплетах и без переплетов, и все эти книги были расставлены строго по форматам-маленькие повыше, — и в каждом формате по алфавиту.
В углу близ окна стояла очень странная, но дорогая скульптура, — словно ножом или долотом наспех вырезанная из липового чурбана фигура неуклюжего, некрасивого, голого увальня, опирающегося на палку и согнувшего для чего-то толстые, мягкие колени. Но это было не дерево, а мрамор, и непонятно было, зачем так безжалостно изуродован кусок прекрасного камня талантливым скульптором. А что скульптор был талантлив, это было несомненно при первом же взгляде на эту диковинную статую, — столько в ней было силы и незабываемой выразительности.
В таком же странном роде были и несколько висевших по стенам картин в гладких серебристо-серого цвета рамах. Краски этих картин были непомерно ярки, а фигуры написаны были так, что долго надо было всматриваться, чтобы что-нибудь понять. И все же это были картины, отмеченные печатью несомненного таланта, сильного, яркого, необузданно-смелого, хотя, к сожалению, слишком модного. А все модное в искусстве, как и в жизни, имеет тот прискорбный недостаток, что рано или поздно выходит из моды и забывается. Иное, впрочем, воскресает в поздних поколениях; иное же забывается и погибает навсегда.
На синей скатерти круглого стола под люстрою видны были газеты, книжки новых журналов и несколько горшков с белыми гиацинтами.
Много простора, света и книг было в этой комнате, а Николаю Алексеевичу припоминалась та убогая квартиренка, которую он и его Иринушка снимали за три рубля в месяц. Ведь их было тогда только двое, — куда ж бы им была большая квартира? Да и что бы они стали делать с большою квартирою?
Иринушка даже не соглашалась взять прислугу. Жалованье и содержание прислуги составили бы слишком обременительную статью в их более чем скромном бюджете. Иринушка сама справлялась со всеми работами по хозяйству и храбро делала все то, чему ее не учили ни в гимназии, ни дома, — пищу стряпала, полы мыла.
Помнишь, милая, не забудешь? Иринушка, милая, помнишь?
Помнишь, Иринушка, этот маленький, захолустный городишко, грязный, тусклый, ленивый, сонный, этот злой город, осатанелый от лени, водки и сплетен?
Пришлось прожить в нем несколько лет. И особенно тяжело было в первый год.
Николаю Алексеевичу еще ничего было, — он был постарше. А его шестнадцатилетней Иринушке, должно быть, круто приходилось. Но она не жаловалась и всегда очень была весела. Сама смеялась и Николая Алексеевича забавила. Звонким, зыбким смехом заслоняла от него уродливый лик темной жизни. Разгоняла злые чары жизни, как умела, как могла, — смехом, песнею, пляскою.
Иринушка, милая, помнишь, не забудешь?
Помнишь, Иринушка, эту первую осень, беспросветную, холодную, мокрую, злую?
V
Серые тучи облекли все небо, и серый, холодный, скупой сеялся сквозь них свет осеннего, скудного дня. Тоска разлита была в тяжелых, мокрых тучах и в воздухе холодном и сыром, — и от земли, от этих немощеных улиц, поднималась неизбывная тоска.
Весь день шел дождь, мелкий, упрямый, маленький и злой дождичек, гнусный спутник маленькой, тусклой жизни серого захолустья. Стекла маленьких окон были от этого дождика слезливо мокры, и жидкая, липкая, черная грязь лежала на улицах, а на мостках, гнилых и грязных, пухли и зябли рябые лужицы, и мокры были давно уже голые ветки берез и осин в садах и огородах за серыми заборами.
Ветер проносился порывами, воя злобно и жалобно, сырой и холодный, и с мелкою яростью трепал эти голые ветки мокрых, растрепанных деревьев. И в тонких визгах ветра все та же слышалась безумная тоска.
По улице медленно тащилась телега с какими-то серыми кулями, колесами увязая в грязи. Пегая лошаденка тяжело ступала, звучно хлюпая в грязи ногами и тяжело дыша, вся мокрая, понурая, жалкая. И была она такая же тихая, с плачущими глазами, с растрепанными ветром мокрыми космами седой гривы и жалкая такая же, как бредущий по грязи рядом с телегою мокрый мужик в каком-то сером, заскорузлом кожане.
Через улицу медленно и лениво зачем-то перебирался босоногий мальчишка, высоко засучив ветхие штанишки и утопая в жидкой грязи до покрасневших голых коленок. На нем был надет рваный кафтанишко; его трепаные светлые волосенки прикрывала помятая шапка с расколотым козырьком; шею обматывал пухлый, грязно-красного цвета платок; голые худые ножонки были сини от холода и грязи. Остановившись посредине улицы, мальчишка засунул грязные пальцы в рот и пронзительно засвистал, посматривая направо и налево по улице, словно поджидая кого-то. Но никого не было, и мальчишка побрел себе дальше, по-видимому, наслаждаясь этим купаньем в грязи под дождиком.
Ворона одним глазом смотрела на него, усевшись на высоком заборе, и пронзительно каркала.
Николай Алексеевич вышел по шатким ступенькам крыльца на двор, чтобы помочь Иринушке донести ведра с водою. Брызги холодного дождя настойчиво бились в его лицо, и сырой ветер тяжело колыхал на его лбу прядку отбившихся волос.
Под мелким дождиком, по узким, брошенным через грязь на дворе дощечкам, осторожно переступая мокрыми босыми ногами, тихо шла от огорода Иринушка, — через огород на речку за водою ходила. Тяжелое коромысло грузно лежало на Иринушкииом плече. Два ведра с легким скрипом колыхались, плеща порою воду на покрасневшие от холода стопы Иринушкиных легких ног. Ветер трепал подол ее подобранной высоко синей юбки.
Иринушка, придерживая обеими маленькими, покрасневшими, мокрыми от дождя руками коромысло, гнулась под его тяжестью. Горячо рдели ее щеки, и выражение усилия было на ее лице. Темные, густые Иринушкины брови слегка хмурились, а ее нежные, алые губы весело улыбались ему, вышедшему ей помочь.
Помнишь, милая, не забудешь? Иринушка, помнишь?
Старое, рваное платьишко, похолодевшие маленькие руки, и эта кроткая улыбка, и покрасневшие от холода, глиною запачканные ноги.
Николай Алексеевич снял с коромысла ведра, внес их в сени, ласково Иринушку стал упрекать.
— Иринушка, Иринушка, разве же так можно! На дворе так холодно, а ты ножек не обула. Иринушка улыбается и оправдывается:
— Такая глина липкая и вязкая, так башмаки пачкает, потом бьешься, бьешься, не отчистить. А ноги в воду опущу, сойдет глина.
— Так ведь холодно! — говорит Николай Алексеевич.
— Так что ж, что холодно! — весело отвечает Иринушка, смеется и, легкая, взбегает по шатким ступеням, нарочно громко стуча по ним ногами, чтобы согреться поскорее, — Согреюсь, — говорит она весело.
Помнишь, милая, не забудешь? Эту тесную, угрюмую квартирку, Иринушка милая, не забудешь?
Как забыть! Не забудешь. И хочешь забыть, да не забудешь.
Полусгнившее крыльцо гнулось набок. Балясины перил пообломались, упали иные, кто-то сжег их в печке.
Старая крыша дала течь. Подстилали на чердак тряпки какие-то, корыто ставили, — а все же иногда и в комнате капало с потолка.
Доски пола шатались под ногами и скрипели жалобно и противно. От окон дуло. В одном из окон разбитое пополам стекло было склеено замазкою, чтобы не вставлять нового.
— Некрасиво, Иринушка, — говорил Николай Алексеевич. — Купим новое.
— Некрасиво, да спасибо, — отвечала Иринушка.
И смеялась.
Милая Иринушка! Хоть бы раз ты его упрекнула! Хоть бы словечко укора ему или судьбе промолвила когда-нибудь! Хоть бы заплакала когда, хоть бы, плача, пожаловалась, пороптала бы хоть немножко!
Никогда, ни разу не видел Николай Алексеевич Иринушкиных слез, не слышал ее жалоб и ропота, — никогда!
VI
Был вечер. Усталые оба, они сидели у стола, при свете керосиновой лампы, прикрытой зеленым стеклянным абажуром. На вязаной белой скатерти лежала раскрытая книга. Иринушка читала вслух, Николай Алексеевич слушал.
Он смотрел на склонившуюся над книгою голову, на ровный пробор в темно-русых волосах, слушал Ирину-шкин ровный голос, так отчетливо произносивший слова рассказа о далеком, о чужом. Потом Николай Алексеевич переводил глаза на зеленый узор обоев, на стул с прямою спинкою, стоявший у стены, на темную этажерку в углу близ окна, на железную печь в другом углу. Бедные предметы скучного обихода с докучною ясностью метались в глаза. Николаю Алексеевичу было грустно.
Иринушка кончила читать, закрыла книгу, сказала:
— Будет на сегодня. Завтра дочитаем. Посмотрела на Николая Алексеевича, улыбнулась и спросила:
— Коля, что ты невесел, голову повесил? Улыбалась, и Николай Алексеевич улыбался ей в ответ, но улыбкою тоскливою, как дождь осенний за коленкоровою шторою, за мокрым окном, на улице, где темно и уныло.
Спрашивала Иринушка:
— Хочешь, Коля, я для тебя буду танцевать? Хочешь? И танцевала, тоненькая, легонькая, едва касаясь жестких досок пола розовыми пальчиками легких босых ног, красивым жестом маленьких рук приподнимая юбочку свою синюю.
Николай Алексеевич улыбался невесело и говорил:
— Милая Иринушка, отчего ты меня никогда не упрекаешь?
Иринушка поднимала брови милым движением удивленной маленькой женщины и спрашивала:
— Коля, да за что мне тебя упрекать? Что же ты мне сделал худого?
И говорила:
— Я с тобою счастлива, милый мой Коля, милый! И, присев к нему на колени, обнимала его жаркими тонкими руками и целовала его нежно и долго. Николай Алексеевич говорил:
— Милая Иринушка, не на радость ты меня полюбила. Я так беден, и тебе со мною так трудно.
— О, бедность! — беспечно говорила Иринушка. — Да разве это такая большая беда? Разве надо жить в роскошных палатах? Только надо быть веселым и сильным и хотеть счастия.
И спрашивала Иринушка Николая Алексеевича, обвив руками его шею и заглядывая в его грустные глаза своими синими счастливыми глазами:
— Ты хочешь со мною счастия, Коля? Хочешь? Николай Алексеевич говорил, невесело улыбаясь:
— Кто же, Иринушка, не хочет счастия! Все его хотят. Иринушка весело говорила:
— Ну вот, и я хочу, — и уже я счастлива. Я с тобою, Коля милый, больше мне ничего и не надо.
Потом Иринушка задумывалась ненадолго и говорила:
Надо сохранить в себе волю к жизни, — вот только это надо. Все остальное дастся.
Николай Алексеевич спрашивал:
— А ты знаешь, Иринушка, как сохранить эту волю? Иринушка улыбалась уверенно, как озаренная высокою мудростью, и говорила:
— Знаю. Чтобы сохранить волю к жизни, надо питать ее жаждою счастия. Тогда и жизнь, и счастие будут наши.
Опять смеялась Иринушка радостно и громко, и плясала по тесной комнате, и был весел на шатких досках пола легкий плеск ее быстро мелькающих из-под синей юбочки ног. И казалась она тогда легкою девою высот, сошедшею на землю, чтобы утешить тоскующего в долине бед человека.
Николай Алексеевич был утешен и силы вновь чувствовал в себе великие на труд, на достижения.
VII
Вот и прошли они, эти тяжелые годы.
Иринушка, милая, ты помнишь их? Ты их не забудешь?
Иринушка милая, где ты?
Прошли тяжелые годы. Успокоенная жизнь катится легко и мирно. У Николая Алексеевича жена и дети, и весь удобный, обеспеченный обиход.
И жену Николай Алексеевич любит, и жена его любит. Ему кажется иногда, что он любит жену за пережитые Иринушкою тяжелые годы. И когда он думает об этом, он сам дивится, дивится тому, что он любит эту, вторую, за Иринушкин труд жизни, сохраненный жаждою счастия. Счастия, которое не Иринушке улыбнулось.
Не странно ли это! Правда ли, что за одну любит Николай Алексеевич другую?
Да и как же иначе? «Нельзя любить два раза, — думает иногда Николай Алексеевич. — Кого полюбил однажды, того полюбил навеки».
Но навеки полюбил он Иринушку.
Милая Иринушка, где ты?
Там, в городе постылом и ненавистном, на далеком кладбище, в тесной и темной могиле истлевая, спит Иринушка. Руки на груди сложила, синие глаза плотно сомкнула, успокоилась рано.
В первое время после Иринушкиной смерти был неутешен Николай Алексеевич. Но забудется всякое на земле горе, и всякая скорбь земная смирится.
Любит Николай Алексеевич свою вторую жену, любит нежно, и дети от нее милы ему. Но порою, в последнее время все чаще, Иринушка ему вспомнится, — и тогда эта, вторая, чужою кажется ему и далекою. И тогда вдруг все, что вокруг, становится для Николая Алексеевича чужим и ненужным. И только одного хочет сердце-хочет невозможного, хочет вернуть невозвратное. Иринушка, Иринушка, где ты?
Вот, кажется, подходит она тихо к его ложу, — и в глазах ее кроткий упрек, в глазах Иринушкиных, синих, как ночное небо. Покачивает головою, сказать что-то хочет, и не может.
VIII
Вот и вернулись. Из церкви. В передней голоса и шум, — веселые голоса, легкий шум. За дверью быстрые шаги, легкий стук, милый голос второй жены:
— Коля, ты спишь? Мы уж вернулись. К тебе можно? Николай Алексеевич тихо отвечает:
— Войди.
А встать ему не хочется, и не хочется видеть людей, и пасмурное лицо повернуто к спинке дивана.
Шелест нарядного платья слышится, и приближаются легкие по сукну шаги и тихий голос, говорящий веселое что-то.
Присела на диван к Николаю Алексеевичу, к его груди приникла, — веселая, радостная, все еще такая молодая, милая, — вторая жена, не Иринушка.
Иринушка, милая Иринушка, где же ты?
Милая Иринушка, помнишь, не забудешь?
Где же ты? Душа моя тебя жаждет!
Тихие слышны слова, ответом на страстные зовы:
— Христос воскрес.
И так же тихо ответил Николай Алексеевич:
— Воистину воскрес.
Он повернулся, протянул руки, обнял милую, целует. И близко, близко в его глаза глядят глаза иные, милые глаза.
Кто же это? Неужели чужая?
Иринушка, это ты?
Тихо отвечает она, прильнувшая к его груди, отдавшаяся его объятиям:
— Это — я. Разве ты не узнал меня, приходящую тайно в полуночи? Ты зовешь меня второю женою, ты любишь меня, не зная, кто я, ты называешь меня, как называли меня дома, бедным, чужим именем, Наташею. Но узнай, узнай в эту святую ночь, что я — я, что я — твоя, что я — та, которую ты не забыл, которую ты зовешь, Ирина твоя, вечная твоя спутница, вечно с тобою. Похоронил ты бедное тело маленькой твоей Иринушки, но любовь ее сильнее смерти, и душа ее жаждет счастия, и жизни хочет, и расторгает оковы тления, и во мне живет. Узнай меня, целуй меня, люби меня.
Радостно обнял Николай Алексеевич свою вторую жену, и смотрел в ее глаза, и узнавал в них Иринушкин привет, — и лобзал ее губы, и узнавал в них ласку, негу и зной Иринушкиных уст, жаждущих счастия, жизни и любви.
Николай Алексеевич повторял, плача от счастия, сладчайшего всех земных утех:
— Милая, ты помнишь? Ты не забудешь, милая? А она ему отвечала:
— Коля, милый, у тебя совсем расстроены нервы. Я же тебе говорила, что не надо так много работать. Прими брому.
Приложение
Александр Блок. Творчество Фёдора Сологуба
Совсем отдельно стоят в современной литературе произведения Сологуба. У него свои приемы, свой язык, свои литературные формы. Он отличается ровностью творчества, проза его не слабее его поэзии, и в обеих областях он плодовит. Еще трудно приложить к нему мерку литературной теории. К его произведениям можно подойти со многих точек зрения. Читатель найдет здесь и нравоучение, и забаву, и легкое, и трагичное чтение, и, наконец, просто — красивый слог и красивый стих.
Романы и рассказы Сологуба большей частью раскрашены в пестрые цвета жизни. Тонко владея приемами реалистической повести, он позволяет читателю жить простыми бытовыми сценами и умными житейскими наблюдениями. Печать своеобычности лежит на всем — и на манере наблюдений, и на трактовке сюжета, и на эпическом языке, который богат, плавен и гибок. По силе выразительности он близится к гоголевскому языку. В нем нет следа книжности или выдумки; малознакомые народные слова сразу стройно ложатся в раму повествования и приобретают все права привычных слов, так что даже дивишься, как мало эти слова до сих пор употреблялись.
Но разгадка своеобычности произведений Сологуба — не в одном языке. Скорее всего, она коренится в его любимом приеме; этот прием, часто повторяемый и все-таки всегда новый, — состоит в следующем: читая простые реальные сцены, начинаешь чувствовать мало-помалу, что писатель к чему-то готовится. Как будто все прочитанное недавно мы наблюдали сквозь прозрачную завесу, которая смягчала слишком жесткие черты; теперь же автор приподнимает завесу, и за нею нам открывается, всегда ненадолго, чудовищное жизни.
Этот хаос, исказивший гармонию, требует немедленного оформливанья, как жгучий жидкий металл, грозящий перелиться через край. Опытный мастер сейчас же направляет свои усилия на устройство этого хаоса. Задача показать читателю нечто чудовищно-нелепое, так, однако, чтобы его можно было рассматривать беспрепятственно, как животное в клетке. Животное это — человеческая пошлость, а клетка — прием стилизации, симметрии. В симметричных и стилизованных формах мы наблюдаем нечто безобразное и бесформенное само по себе. Оттого оно веет на нас чем-то потусторонним и реальным — и за ним мы видим небытие, дьявольский лик, хаос преисподней. Но это — только высшая, обнаженная реальность, мгновение, которое вспыхивает и запечатлевается всего ярче в памяти; так точно в жизни нам всего памятнее те бешеные, огненные минуты зла ли, добра ли, — от которых кружилась и болела голова.
В тяжелых снах[1], после многих страниц ярких изображений уродливой жизни провинциального городка, — автор рассказывает, как герой его попадает в гостиную предводителя дворянства, отставного генерала. Наружность генерала, разговор, обстановка — все одинаково пошло, и вот атмосфера пошлости достигает точки кипения, нелепость становится острой и ужасной: генерал заставляет своих детей, «с тупыми и беспокойными глазами, с румяными и трепетными губами», — падать навзничь, грохаясь затылками о пол, чихать, плакать, плясать, — все по команде. Когда унижение забитых детей принимает чудовищные размеры, герой замечает генералу:
— Да, послушание необыкновенное. Этак они по вашей команде съедят друг друга.
— Да и съедят! — восклицает генерал. — И косточек не оставят. И будет что есть — я их не морю: упитаны, кажись, достаточно по-русски — и гречневой и березовой кашей, и не боятся, на воздухе много.
Разбушевавшаяся пошлость утихает, и быт входит в обычную колею. Яркое мгновение хаоса становится у Сологуба образом, залетевшим из мира преисподней, и, наконец, воплощается в какое-то полусущество. Перед героем другого его романа[2] — инспектором гимназии Передоновым, грязным и глупым животным, «мелким бесом», — уже вертится в дорожной пыли воплощенный ужас, когда он едет на свою свадьбу. Это — и существо и нет, если можно так выразиться, — «ни два ни полтора»; если угодно — это ужас житейской пошлости и обыденщины, а если угодно, угрожающий знак страха, уныния, отчаянья, бессилия. Этот ужас Сологуб окрестил «Недотыкомкой» и так говорит о нем в стихах:
Недотыкомка серая Предо мною все вьется да вертится… Истомила коварной улыбкою, Истомила присядкою зыбкою…Если в прозе Сологубу чаще свойственно воплощать чудовищное жизни, то в стихах он говорит чаще о жизни прекрасной, о красоте, о тишине. Муза его печальна или безумна. Предмет его поэзии — скорее, душа, преломляющая в себе мир, а не мир, преломленный в душе. Но личная поэзия уступает место внеличной, особенно когда ее предметом становится политика. В последние годы Сологуб написал много политических стихов; иные из них слабее всего им написанного, отзывают плохой аллегорией на неглубокую тему; многие зато, бесспорно, принадлежат к лучшему, что дала русская революционная поэзия. Таково большинство стихов в маленьком сборнике «Родине».
Всему творчеству Сологуба свойствен трагический юмор, который вылился с особенной яркостью в том роде произведений, который создан самим поэтом. Это — «сказочники»[3] — краткие, красивые стихотворения в прозе, почти всегда — с моралью в шутливом тоне. В них поэт говорит и о вечном, и о злобе дня. Это — удачный опыт сатиры, как бы легкие ядовитые стрелы с краткими надписями о том, как тоскует или радуется душа.
Вячеслав Иванов. Рассказы тайновидца
[текст отсутствует]
Примечания
1
Имеется в виду роман Ф. Сологуба «Тяжелые сны»
(обратно)2
«Мелкий бес»
(обратно)3
Кроме разбросанных по разным изданиям, собраны в отдельной книге, под заглавием: «Книга сказок». Книгоизд-во «Гриф». Москва, 1905.
(обратно)

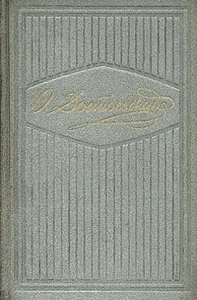

Комментарии к книге «Том 3. Слаще яда», Фёдор Сологуб
Всего 0 комментариев