Александр Степанович Грин Собрание сочинений в пяти томах Том 1. Рассказы 1906-1912
В. Ковский. Блистающий мир Александра Грина
[текст отсутствует]
Слон и Моська
I
Моська зажмурил глаза и спустил курок. На мишени показался белый четырехугольник, и в то же мгновение он почувствовал сильный удар в шею…
Всякий раз, когда Моська выходил на плац, прикладывал по команде ружье к плечу, целился в мишень и, ожидая команды «пли», судорожно прижимал палец к спуску, на него нападал непобедимый страх. Моська — самый плохой солдат и стрелок роты — служил вот уже больше года, но ни свирепая дисциплина ***ского батальона, ни бесчисленные побои, наносимые ему всеми из начальства, ни «отеческие» увещевания — ничто не могло сделать из него солдата «как все»…
И когда наконец раздавалась команда «пли!», он весь обмирал и, зажмурив глаза, посылал пулю в пространство, где она начинала благополучно визжать, как будто совершенно не замечая мишеней, в которые Моська целился так долго, упорно и безнадежно…
Когда махальный[1] после пятого, и последнего, выстрела снова прикладывал к Моськиной мишени белый четырехугольник, а затем комически взмахивал им кверху, давая понять, что пулю можно искать где угодно, только не в мишени, Моська чувствовал, что к нему сзади подбегает фельдфебель[2] и с размаху бьет его в шею — раз и два! От таких ударов шапка у Моськи падала на землю, а сам он, вытянувшись и замерев в жалкой принужденной позе, смотрел вперед широко раскрытыми глазами и ничего не видел от слез, застлавших все поле и эти ненавистные глупые мишени, которые как будто смеялись над ним.
Несмотря на свое ничтожество в специальном «боевом» значении, Моська играл громадную роль в жизни первой роты.
— Это господь наказывает за грехи наши, — говорил какой-нибудь офицер, проходя мимо Моськи и с ненавистью глядя на его неуклюжую, обдерганную фигуру.
«Не было печали, так черти накачали», — думали его фельдфебель, взводный и подвзводный.
— Не было бы Моськи — хоть топись, — говорили солдаты.
И действительно, не будь Мосея, или Моськи, как звали его все, роте жилось бы еще хуже. В военной среде существует неизвестно на чем основанное убеждение, что первая по счету в батальоне рота должна быть также первой в смысле служебного превосходства. Если бы так было всегда на самом деле, то можно думать, что вторая, третья, четвертая, пятая шестая роты постоянно уступают все больше и больше друг другу в служебном рвении и что шестая, например, должна явиться чуть ли не сборищем самых плохих и ленивых солдат. На деле бывает, однако, часто наоборот. Хотя в первую роту и назначают по возможности более рослых солдат, но рослость еще не служит как известно, признаком особой способности к воинской «науке». Если же прибавить к этому, что офицерство заведующее первой ротой, точно такое же, как и в остальных, ни хуже, ни лучше, то будет понятно, почему сплошь и рядом на смотрах какая-нибудь пятая или шестая рота, которой раньше как-то и незаметно было на казарменном дворе, вдруг получает разные «спасибо» и прочее, а первая рота при гробовом молчании генерала отправляется восвояси домой.
Моська служил в первой роте. Его рост и ширина плеч так понравились уездному воинскому начальнику что Моська был назначен в первую роту. Трудность и бессмысленность солдатской службы и жизни подействовали на него ошеломляюще. После двухнедельных испытаний, когда начальство убедилось, что в ближайшем будущем разве только сверхъестественное вмешательство может помочь Моське сделаться солдатом «как все», — он стал козлом отпущения. Его били, гоняли немилосердно, ставили «под ранец», и он молчал и безропотно переносил эти гонения, как будто сам считал себя ответственным за свою неспособность к военной службе.
Не проходило дня, чтоб Моська не повергал в уныние своего «фитьфебеля». То он повертывался не в ту сторону, куда нужно; то, вскидывая на плечо винтовку, так ударял штыком о штык соседа, что тот ронял ружье; то приходил на ученье в нечищеных сапогах, или надевал шапку без кокарды, или забывал патронташ, или свертывал шинель так, что она на ходу развертывалась и Моське надо было выходить из строя под градом ругательств, то… Но всего не пересчитаешь… Достаточно сказать, что если бы проследить шаг за шагом всю солдатскую жизнь Моськи, не нашлось бы, пожалуй, ни одного из преступлений, караемых дисциплинарными взысканиями, которых не совершал бы Моська по нескольку раз.
Вся ненависть начальства к солдату как к чему-то живому, которая обращает его в слепую, покорную машину, — сосредоточилась на Моське… Моська портит роту. Моська растлевающим образом действует на солдат, Моська глуп более, чем полагается быть глупым солдату.
Правда, было много способов отделаться от неудобного солдата… Можно было послать его в «комиссию», объявить больным и отпустить домой… Можно было перевести в другую роту… Можно было, наконец, просто прогнать Моську со службы…
Но там, где человек превращает другого человека в послушную машину, где сделаться машиной считается доблестью и где не всякий, даже при желании, может упрятать свою натуру в железные рамки дисциплины, — там таких решений быть не могло… Первая и главная обязанность начальства — из сырого деревенского материала сделать чистенькие, щеголеватые машинки, способные двигаться и стрелять по приказанию. Моська не мог сделаться такой машинкой — значит, его нужно сделать таким, закон дисциплины не должен терпеть ни исключений, ни поражений… А быть может, Моська не желал сделаться «хорошим» солдатом? Быть может, он не глуп, а умен, как змий, ловок, как кошка, меток, как Немврод,[3] и храбр, как тысяча чертей, и только намеренно уклоняется от солдатской службы, разыгрывая дурака в расчете на освобождение? А если не так, если он действительно никуда не годится, — не послужит ли его освобождение причиной того, что другие нарочно станут прикидываться неумелыми? Перевести в другую роту? Но это, во-первых, значило бы признать свое бессилие. Перед кем? Каким-то Моськой… Во-вторых, это была бы уступка человеческой природе, которая на солдатской службе в расчет не принимается.
Итак, Моська служил в первой роте.
II
А между тем никто не мог бы положа руку на сердце сказать, что Моська глуп. И сам он, вспоминая иногда в редкие минуты отдыха все, что ему приходится выносить, вспоминая все ругательства: «Осел! Остолоп! Скотина! Дубина!» — и прочее, недоумевал; чем он уж так очень глуп? Жизнь в деревне, где он вырос и жил до солдатчины, казалась ему гораздо более сложной, требующей более толкового отношения к себе, чем здесь, и, однако, там, в деревне, никто не называл его дураком, не глумился и не ругался над ним.
И он вспоминал большое, зеленое, освещенное горячим светом солнца поле… А сам он, Моська, в посконной рубахе, босиком, мерными взмахами косы кладет ряд за рядом темно-зеленую упругую траву… Коса шуршит чуть слышно, и в каждом ее взмахе чувствуется сила и сноровка. Ни один корень, ни один камень не задержит ее. Как живая, обходит она все препятствия выстригая пригорки и ложбинки, кружась возле кустов с чуть слышным легким звоном.
А вот весна… Блестят лужи, темные, грязные, в белых рамках еще не везде растаявшего снега… Свежо, но к полудню начинает припекать. Моська ворочает дюжими, одетыми в желтые кожаные рукавицы руками большие, белые, свежеобтесанные бревна… От ловких ударов остро отточенного топора летят щепки, ряд за рядом вырастает сруб…
И вся крестьянская жизнь, полная непрестанных забот, хлопот, труда и усилия, начинает развертываться перед ним… Особенно любил вспоминать Моська, как зимой, вставши чуть свет и поев при огне горячих блинов, он запрягал кобылу и ехал на станцию отвозить в город пассажиров… Стужа, ветер; зипунишко то и дело пропускает холодные струйки морозного воздуха… Но Моська молод, два-три удара кнута — и тарантасик летит во весь опор, подбрасывая злополучного пассажира…
Если только вздох самого Моськи, вспоминающего подчас голодную, но более свободную и милую жизнь, не прерывал его размышлений, то эти размышления обыкновенно нарушал грубый окрик взводного:
— Э-эй, Моська! Что шары-то уставил? Ступай почисть сапоги!
Моська берет сапоги и начинает их чистить. Но в блеске сапожного носка он уже опять видит блестящие струи деревенской вертлявой речки, маленького мальчишку Моську, который, задрав рубаху до плеч, упорно старается схватить руками быстрых, скользких вьюнов.
Когда наступил срок и Моське надо было тянуть жребий, он не испытал особенной грусти… Напротив, когда его, голого, ощупали, как лошадь, в воинском присутствии и плотный мужчина с бакенбардами громко сказал: «Годен!» — он испытал даже некоторое удовольствие при мысли, что в его, Моськиной, жизни начинается какая-то новая полоса, совершенно отличная от прежнего времяпрепровождения. Ему, силачу и здоровяку, шутя разгибающему подкову и кулаком ломавшему кирпичи, служба казалась игрушкой — веселой, занятной и почетной. «Ну што такое ружо! — думал он. — Эка невидаль — девять фунтов!» А солдатские мундиры, в которых приезжали на побывку в деревню его земляки, приводили Моську в наивное восхищение.
«Чай, все царское», — думал он, с почтением поглядывая на соседа Гришку или Петьку, который, ухарски заломив шапку на затылок, рассыпался мелким бесом перед деревенскими красавицами.
«Ишь царь-то он, гляди, как наряжат! Мне бы эдакое!» — и смущенно вздыхал, оглядывая свою неказистую деревенскую одежонку.
А теперь он сам будет такой!
Увы! Когда их, новобранцев, в количестве сто с лишним человек представили на казарменный двор — тут впервые Моська почувствовал, что как будто — «не тово»… Когда прошли первые два-три дня приемки, разбивки, выдачи разных мундиров, заплатанных и перезаплатанных штанов, галстуков, винтовок, сумок и прочей солдатской упряжки, когда впервые Моську поставили в шеренгу и сказала ему уже не как новичку, а как солдату: «Эй, ты, рыло! Подтяни брюхо! Брюхо убери!» — тогда он начал подумывать, что, конечно, трудность солдатской службы не только в том, что винтовка весит девять фунтов. На этих девяти фунтах нависла, цепляясь одно за другое, вся страшная тяжесть солдатчины, всей убийственно бессмысленной жизни для убийства… Каждый раз, как Моська становился в ряды и, весь замирая, напрягая все внимание и «поедая начальство глазами», старался не пропустить мимо ушей ни команды, ни ее смысла, — он неизбежно терялся и делал ошибку за ошибкой… И быть может, эта вечная боязнь ошибиться и недоверие к себе, воспитанное постоянными заушениями и окриками: «Осел! Олух!» — и т. п. делали то, что здоровый и неглупый по натуре парень превращался в запуганное животное, не всегда понимающее своего дрессировщика.
Пока Моська числился еще «молодым солдатом», то есть проходил первые четыре месяца службы, с него, как и с других, спрашивалось все же меньше, чем с так называемых «старых солдат». Но когда эти четыре месяца прошли, когда «молодые» приняли вторую присягу, тут Моське стало плохо. Он почти решительно ничего не знал. Когда весной перед началом стрельбы ротный командир сделал смотр своей роте, он был так поражен поведением Моськи, что вывел его из строя и произвел «экзамен» отдельно.
— Стой! — закричал он Моське, испуганному и растерявшемуся. — Я тебя научу! Смирно!
Солдат застыл.
— Слуша-ай! По-ефрейторски на кра-а-ул![4]
Моська, пропустив слова «по-ефрейторски», — взял «на краул» обыкновенным приемом, то есть подняв винтовку и прижав ее к животу.
— Отставить! — заорал взбешенный штабс-капитан[5]. — Ты что это, сволочь?! Этого не знаешь? Дубина стоеросовая!.. Фельдфебель!
— Я! — Бледный, трепещущий фельдфебель предстал перед начальством.
— Что знают мои солдаты? Что они знают, я спр-рашиваю! — кричал ротный на фельдфебеля, стоявшего навытяжку и взявшего под козырек. — Ничего они не знают! Как тебя зовут? — обратился он к Моське.
— Мосей Сидоров Щеглов, вашбродь!
— Скажи мне, Щеглов… Гм… гм… что такое… что такое… гм… что такое знамя?
— Это… знамя — это такое… как вроде свяченная хоругвь[6], как вроде…
Моська окончательно сбился и стоял, беспомощно шевеля губами. Штабс-капитан подбежал к нему, и звонкая пощечина раздалась в воздухе.
— Фельдфебель! — кричал он. — Под ранец его, собаку, на два часа!.. С кирпичом! С кирпичом!
По окончании ученья Моська надел полное боевое снаряжение: шинель, сумки, ранец, наполненный кирпичами, и с винтовкой на плече был поставлен отбыть свои два часа. Вся эта тяжесть для него, силача, не имела никакого значения, но стоять на жаре, не смея переступить с ноги на ногу, обливаясь потом, было очень мучительно. Хотелось пить, в ушах звенело, в глазах прыгали красные огненные точки…
И еще хуже стало для него жить с этого дня… Правда, «подтягиваясь» все больше и больше, он начинал выходить и на утренний осмотр, и на занятия иногда в таком же аккуратном виде, как и другие, то есть не хуже, но и тогда ему не прощалось ни малейшего пятнышка. Обыкновенно фельдфебель, злой на Моську за нагоняй, полученный от ротного, подходил к нему в строю и, запуская большой палец за пояс Моськи, кричал:
— Рохля! Это что?! Что это?! У тебя за ремень быка можно спрятать! Я тебе что говорил: чтобы палец туго проходил! Как в старину служили — знаешь? Обвернут пояс вокруг головы да в тую же меру брюхо подтянут — в рюмочку! О, несчастье ты мое! На голову ты мою уродился!
Следовал поток непечатной брани, и Моська уже мог быть уверенным, что сегодняшний день не пройдет ему даром. И действительно, после обеда уже обыкновенно перед фельдфебелем торчала фигура Моськи в полном боевом снаряжении, тоскливо посматривающего на товарищей, имеющих возможность с часок-другой поваляться на траве…
III
Итак, Моська получил удар в шею… Он растерянно и жалко встряхнул головой, поднял плечи, ожидая второго удара, и сейчас же почувствовал его. Этот был еще сильнее первого, и у солдата слегка захватило дух, но все же он вздохнул облегченно, зная, что фельдфебель бьет только два раза. Это не то что взводный… Тот затащит солдата в угол и долго, с наслаждением отвешивает пощечины своей жертве, пока у нее не пойдет кровь носом.
Стрельба кончилась, и солдаты стали собираться лагерь, надевая шинели и поправляя сумки… Всякой воинской части, когда она шла куда-нибудь, непременно полагалось петь в силу того соображения, что солдат всегда должен быть бодр и весел. Поэтому фельдфебель окинул роту зорким взглядом своих маленьких рысьих глаз и скомандовал:
— Ну… Эй вы, песенники!
Несколько секунд еще слышался мертвый, тяжелы топот десятков ног, и вдруг высокий, металлически тенор запевалы вывел:
Ге-нера-ал-майор, майор Алхаза Бы-ы-ыл все вре-е-мя впере-ди-и… И тотчас же вся рота грянула вслед: Он ко-ман-до-вал войска-ми Са-а-ам и пушки д'заряжал…Протяжный, заунывный напев, полный затаенно тоски и грусти, понесся, подхваченный ветерком…
Идут все полки, полки могучи Идут весело на бой… Как один солдат, солдат не весел Он из дальней стороны… — Кабы знал да знал бы я — не ездил Я на родину свою… Лучше б в поле, в поле помереть мне, В чистом поле со врагом… В чистом поле, поле со врагом Да под ракитовым кустом…Моська не поет — он слушает… Вот идут блестящие, красивые полки, гремит музыка, развеваются знамена… Впереди едет на коне седой генерал-майор Алхаза… Солдаты кричат «ура!» — горят желанием сразиться с таинственным, коварным врагом… И только один молодой солдатик идет, понурив голову… Не веселит его ни музыка, ни знамена… Лежит у него на сердце горе. Какое горе?.. Моська не знает, но ему смертельно жаль молодого солдата…
— Ты у меня будешь идти в ногу или нет? — вдруг гремит грозный оклик взводного, сопровождаемый площадной бранью.
И Моська, вздрогнув, торопливо переменяет ногу, опять путается, опять переменяет и, наконец, не видит перед собой ни генерала Алхаза, ни убитого горем солдатика…
— Раз-два! Раз-два! Левой, правой! Ать-два!
— Ну, Моська, сколько пуль попал сегодня? — спрашивает его сосед, ярославец Быстров. — Дивлюсь я на тебя: или тебя господь глаз на стрельбу лишает? И что это с тобой такое? Право, когда смех, а когда жалость берет, на тебя глядя…
— А разве я знаю? Ты поди спроси меня, когда я и сам не знаю… Кто ее знат! Али спуску крепко нажмешь, али…
Но Моська просто стыдится сознаться в том, что он боится. Почему это так, почему он не может до сих пор освоиться с ружьем, он и сам не знает… А главное — никак не может он удержаться от того, чтобы в момент выстрела не закрыть глаз. Это выходит как-то само собой, а между тем прицел пропадает…
Но он вовсе не трус. Он помнит, как, бывало, еще в деревне случалось ходить ему на посиделки и в чужую деревню, частенько кончавшиеся жестокой свалкой. Он не боялся, напротив, было даже очень приятно драться и чувствовать свою силу… Случалось ему и на пожаре лазить в самый огонь и выскакивать с опаленными волосами и почерневшим лицом, держа в объятиях какую-нибудь телку…
Но здесь — чужое, здесь каждая мелочь тесно сплетается с другой, одна ответственность влечет за собой другую… А когда приходится стрелять в цель, Моська знает, что этому придается особо важное значение. Заранее волнуясь, он уже уверен, что даст промах, и боязнь промаха, а не выстрела заставляет его невольно закрыть глаза на мгновение… Но этого он не сознает… Так иногда человек при одном воспоминании, что он покраснел когда-то, краснеет снова…
Между тем рота подошла к палаткам, песни смолкли, и солдаты, сбросив шинели и сумки, пошли в столовую обедать.
Горячий пар валил уже из кухни, расстилаясь клубами под потолком. В дымном, насыщенном кухонными испарениями воздухе мелькали белые рубахи, желтые деревянные чашки, носился раздражающий голодного человека запах гороха и пригорелой гречневой каши. Пища бралась повзводно, одна громадная чашка — «бак» — обслуживала восемь — одиннадцать человек. Стояло настоящее столпотворение; в отворенную дверь кухни было видно, как повар с засученными рукавами взгромоздившись на край котла, длинным черпаком безостановочно поливал в подставляемые со всех сторон чашки мутный жидкий горох.
Моська в числе других усердно работал челюстями вставая каждый раз, когда нужно было зачерпнуть, ибо он сидел с краю стола. Шел довольно оживленный раз говор на злободневные темы, и главным образом о распространившемся в последнее время слухе, что скоро будет назначен новый ротный командир специально для того, чтобы «подтянуть» распущенных солдат и сделать роту «образцовой». Про личность предполагаемого ротного командира ходили самые фантастические рассказы…
— Эхма! — говорил один солдат, торопливо жуя черный, как смола, хлеб. — И не сидится же ихнему брату… Вот, к слову сказать: служим мы в этом треклятом месте — кажись, какой черт здесь узнает, как служба? Хорошо ли, плохо ли идет? А поди ж ты: сичас это пущают тилиграмм — и гляди, через месяц али два беспременно какого-нибудь хахаля пришлют… А чему — не все одно? Нашу роту как ни правь, а знай пословицу: «Горбатого могила исправит». Да и то сказать, какого нам рожна еще нужно, когда у нас вон этакие гренадеры[7] служат! — Солдат скосил глаза на Моську и подмигнул компании. — Отдай все, да и мало! Уж наверно начальство так порешило: «А что-де, мол, у нас в первой роте офицер-то хуже Моськи? Никак, мол, этого сраму допустить невозможно… Пришел, значит, ему под пару, для кумпании…»
Взрыв хохота был ответом на выходку солдата. Ободренный успехом, тот не спеша обтер усы, заправил в рот новую ложку гороха и продолжал:
— Вот приедет новый-то: «А что, — скажет, — где у вас этот самый Моська-то? Я, мол, таких солдат очинно уважаю, потому я сам ему сродни, племянником довожусь… Наградить, — скажет, — Моську за храбрость и сметку по голому пузу пузырем с горохом!..»[8]
— Ха-ха-ха! — покатывались солдаты. — Ну и Козлов! Вот уж, братцы мои!..
Моське стало грустно. Он знал, что солдаты смеются над ним без всякого злого умысла, но быть постоянной мишенью для шуток и насмешек ему было обидно. Он встал, обтер ложку и сказал:
— Ну и набил же я свой барабан! Ажно расперло!
— Смотри не открой стрельбу! — сострил кто-то, но Моська не обратил на это внимание.
— Скальте, скальте зубы, ребята, — сказал он. — А вот ежели дивствительно пришлют нового-то, да протчим не в пример со строгостями еще пуще… Вот тогда не больно смеяться будешь…
— А потому же и смеемся, что опосля не до смеху будет! — сказал кто-то. — Этот, что к нам будет, новый-то, сказывают… — Солдат оглянулся и вполголоса докончил: — Новый-то, сказывают… убивец!
Со всех сторон посыпались восклицания:
— Пошел ты!
— Чего зря мелешь!
— Какой такой убивец?
— А вот убивец — поди ж ты! Я сперва и сам этому-то не ахти как верил, так, болтали как-то… А намедни мне батальонного командира повар сказывал… Он в офицерском собрании ейной жене, батальонного-то, на именины обед готовил, ну и промежду офицеров, значит, разговоры об этом самом ротном и были… А повар-то, значит, и подслушай!..
— Ну! Ну! — послышались любопытные возгласы. Рассказчик перевел дух, откусил кусок хлеба и продолжал:
— Сам-то он, ротный-то этот, из немцев… А служил он перво-наперво в западном краю, в Польше…
— Ну, жуй скорее!..
— Ну и говорит же, ребята, как нищего за нос тащит!..
— Ну… И служил он, значит, в Польше; уж в каком там полку — запамятовал… А в Польше у мужиков с помещиками тяжба давнишняя идет… Из-за земли, ну вот как у нас… Ну, ждали, ждали мужики — видят, никаких пользительных манихвестов нет, а от тех манихвестов, что выходят, — одно огорчение… А теснота большая — хоть с голоду помирай… Да окромя того, тамошнее начальство совсем озверело, значит, тянет с мужиков последнюю копейку — прямо беда… Бьют, в холодную сажают… Ну, значит, терпели, терпели мужики — как ни кинь, все клин! Ни от бога, ни от начальства никакой помощи нет, а одно разорение только…
— Это мы и без тебя знаем!
— Каку новость сказал!
— А ты, брат, короче сказывай! Вишь, кашу несут!
— Н-ну… Терпели, терпели, значит, да возьми и выйди из всякого то есть терпения и повиновения… «Долго ли, говорят, мучиться будем?» Взяли да и пошли на помещиков… Земля, говорят, божья, а мы-де той земли прямые хозяева, потому кто на ней не работает, тому и владеть ей закону нет… Н-ну… Пошли, экономии сожгли, амбары, риги, хлевы, лес — все дочиста разорили, а хлеб себе увезли — год-от был неурожайный…
— Тэ-э-эк!
— Т-э-к! Ну… выслали, значит, супротив них батальон пехоты. А в первой роте того батальона и был, значит, энтот самый ротный… Приходит на село, согнали мужиков… «Так и так, говорит, сказывайте, сукины дети, где хлеб?» Ну, те, известно, молчат… Тут выходит энтот ротный и подает команду: «Пли!» — стреляй то ись по крестьянам. А только ен, значит, сказал: «Пли!» — как вся рота, как один человек, взяла «к ноге!»… Увидел ен это — аж побледнел и затрясся весь… Одначе только зубами заскрипел — снова командует: «Прямо по толпе пальба ротою — рота, пли!» Хучь бы што! Стоят, молчат, ружья к ноге… И сделался тут, братцы мои, самый энтот ротный вроде как мертвец…
Все затаили дыхание… Ложки, протянутые за кашей, застыли в воздухе.
— Ударил ногой о землю и говорит: «Ежели сейчас не будет послушания, всем плохо будет!» Н-ничего!.. Отошел он на правый фланг, опять командует: «Так-то, так и так, рота, пли!» Куда тебе… Никто и не пошевелился «Ну, грит, с вами, стало быть, иначе нужно разговаривать! Налево кругом марш! В казармы!..»
Приходят в казармы… Пообедали, значит, вроде вот как мы теперь… Дело к вечеру… И приходит, братцы мои, на поверку энтот самый ротный… Пьяный-распьяный, пьянее вина… Вошел дневальный[9] к нему с рапортом: «Ваше благородие, в первой роте такого-то батальона…» А он на него: «Пшел прочь, мерзавец, пока жив! — Кричит: — Построиться!» Построились… Вынимает он левольверт, подходит к правофланговому… «Ты, грит, какое такое полное право имеешь моих приказаний ослушаться? Сказывай, кто у вас в роте ичинщик и бунтовщик, а то вот тебе смерть!..» — «Не могу, грит, знать, ваше благородие!» Поставил он ему на висок левольверт — раз! — наповал… Даже не пикнул… Кровища тут побежала… Подходит к следующему. «А ну, грит, сказывай, кто у вас в роте солдат смущает?» А тот, значит, стоит белый как бумага, однако насупротив ему отвечает: «Не могу знать, ваше благородие, а только что никто нас не смущает…»
Наставил он ему левольверт к самому сердцу — раз! Повалился тот возле первого… А ротный, значит, опять курок взвел, подходит к третьему. «А ну, грит, сказывай, кто у вас в роте первый смутьян и зачинщик?»
А солдат — тот, к которому ротный подошел, видит — дело плохо: зверь стал офицер, всю роту перебьет… И говорит он ему, ротному, значит: «Я, ваше благородие, есть первый смутьян и зачинщик!» — «Врешь, грит, ты!» — «Никак нет, ваше благородие!» — «А вот, грит, как?! Когда так… Фельдфебель, взять его, мерзавца, на гауптвахту!»
Посадили солдата в карцер, мертвых похоронили… Сидит он месяц, другой и третий, и выходит ему решение суда: в ссылку, на вечное поселение в сибирские края…
Рассказчик умолк и потянулся к чашке с кашей. Наступило молчание. Кто-то громко вздохнул. Моська утер невольную слезу и перекрестился.
— Чего крестишься! Али кашу приступом взять хочешь? — засмеялся Козлов.
Но на шутку его никто не обратил внимания. Все ели некоторое время молча.
— Ну, уж, ей-богу, братцы, и дурак этот самый солдат! — заявил Моська.
— Какой солдат?
— Как дурак?
— Сам ты дурак!
— Человек, значит, себя не пощадил, а он его дураком обзывает!
— А вот и дурак… Ну уж, пришлось бы, к примеру, мне, никогда бы я на себя напраслину взводить не стал.
— Мели, Емеля: твоя неделя! Ну а что бы ты сделал?
— Што? — Моська остановился с поднятой ложкой, и лицо его осклабилось широкой улыбкой. — Ты говоришь — што?
— Ну да, што?
— Што?
— Ну?
— Што?! А вот взял бы его, лешего, под микитки[10], скрутил бы ему лопатки, да так бы его унавозил, что — ах ты ну!..
— Ха-ха-ха! Ну и Моська!
— Ай да Аника-воин!
— Ой, уморил!
— Ха-ха-ха-ха-ха-ха!
Солдаты развеселились. Моська, неожиданно сделавшийся опять центром насмешек и прибауток, поспешил снова облизать свою ложку и вылезть из-за стола. Обед кончился. Солдаты крестились и выходили из столовой.
— Однако ты, Моська, держи язык за зубами, — заметил один солдат. — По глупости мелешь, а смотри… Всякий народ есть!..
А глядя на фигуру и комплекцию Моськи, нельзя было не согласиться с тем, что этот дюжий и неуклюжий мужик способен так «унавозить» и «разуважить», что тошно станет…
IV
Однажды в жаркий июльский полдень солдаты, только что возвратившись со стрельбы, чистили винтовки под широким дощатым навесом. Моська, по обыкновению, пустив свои пять пуль гулять по белу свету, был тут же и, навертев на шомпол паклю и тряпку, усердно протирал ствол винтовки… Пот с него катился градом, и шомпол свистал в могучих руках.
Чистка винтовок — одно из наказаний и мучений солдатской жизни. Бывали случаи, что солдат шел под суд и был наказываем розгами до полусмерти за то только, что где-нибудь на штыке его ружья находили незначительные пятна.
Моська остановился, вытащил шомпол с тряпкой, нa которой уже нигде не оставалось ни малейшего следа грязи и копоти, и посмотрел в дуло на солнце, как трубку. Солнечные лучи ударили в отполированную поверхность стали и вонзились ему в глаза тысячью искр… Довольный своей работой, Моська подошел к взводному.
— Господин взводный, извольте посмотреть!
Взводный, бывший расторопный официант, слез со стола, на котором сидел, вынул руки из карманов и, небрежно посвистывая, взял у солдата ствол. Трудно было найти какие-нибудь недостатки в старательной чистке Моськи. Однако последний в роте солдат должен быть везде плох. Поэтому унтер сморщил нос и, повертев ствол в руках, подал его Моське обратно.
— Чисть еще! — процедил он сквозь зубы. — Кто ж так чистит? Ишь что раковин в ем!
Моська думал как раз наоборот, но тем не менее, глубоко вздохнув, отошел и принялся с прежним остервенением тереть и обтирать сложную механику ружья.
Едва только он приступил к смазыванию маслом своего оружия, как под навес вошел Козлов.
— Поздравляю! — сказал он, комически сдвигая шапку на бровь и опершись руками о стол.
Солдаты взглянули на него и ничего не ответили.
— Поздравляю! — еще громче крикнул Козлов. — Оглохли вы, а? Слышите, поздр-равляю!
— Ну и поздравляй! — буркнул кто-то.
— А ты спросил, с чем?
— А мне какое дело?
— Вот те и на! Смотрите, люди добрые: приходишь к этому свинопасу вроде как будто курьера с телеграфным сообщением, а он рыло воротит! То есть сразу видно, дикий и необразованный народ!
— Ты-то уж образован!
— Я-то? А пожалуй, что так! Вы, кислая солдатская шерсть, тут что знаете?! А я по крайней мере чичас в городе был…
— Ну!
— Ну… И поздравляю!
— О, леший! — возмутился один из чистивших и в сердцах бросил даже на стол затвор, который держал в руках. — И какая же, братцы, у этого Козлова анафемская привычка: придет — нет чтобы сразу сказать, а всю душу наперво из тебя выволокнет… У, живодер! — замахнулся он притворно на хохотавшего Козлова.
— Не балуй, Козел, — сказал взводный Моськи Задвижкин. — Чего людям работать мешаешь?
— Ну, скатал валенки!
— Отдал пушку![11]
— Пушкарь и есть![12]
— Черти вы полосатые! — обиделся Козлов. — Когда я сичас от денщика нашего ротного! А новый у него сичас сидит, коньяк пьет за мое почтение!..
— С кем пьют, с денщиком?
— Ну! Конечно, с ротным!
— То-то!
— Сам видел, — продолжал Козлов. — Толщины, можно сказать, необъятной.
— Ты что, Козлов, вместе детей, што ль, с начальством крестишь, что так язык распустил? — строго заметил Задвижкин. — Смотри!
Мелкое начальство побаивалось Козлова. Еще в бытность новобранцем он во всеуслышание заявил, что всадит штык всякому, кто осмелится его ударить. И, зная его вспыльчивый характер, этому верить было можно. Поэтому там, где другой попал бы в карцер или на дежурство не в очередь, Козлов отделывался только окриками и замечаниями.
— Никак господин взводный, — отчеканил Козлов. — Известно, правда глаза режет! Виноват-с, не 6yду больше!
— Чай, скоро к нам объявится, — заметил кто-то, — Приехал, так сидеть не будет.
— А не слышал ты, Козлов, какие у них разговоры были? — спросил Задвижкин.
— Нет, собственно… А так, одним краем уха… Да што: все наш ротный жалится… Интригуют уж, говоря очень… Все по службе неприятности… Все ножку-де подставляют, где ж тут, грит, служить станешь… А только что, говорит, с моим народом надо ухо востро держать! Только из-под палки, грит, и слушают!
Солдаты внимательно слушали. В жизни первой роты происходило историческое, так сказать, событие: перемена командира. Как ни строг и ни бестолков был прежний ротный, но солдаты его знали. Его привычки, система наказаний, слабости, недостатки, все, что он любит и не любит, было известно. К новому же предстояло еще привыкать и на собственной шкуре тяжелым опытом доходить до познания: что такое новый командир и как можно с ним жить.
— Ну, а он, новый-то? — спросил Моська и тотчас же спохватился, испугавшись своего вопроса в присутствии взводного.
— Новый? — рассеянно процедил Козлов, обводя глазами присутствующих. — Новый ничего… Сидит, молчит… Молчит да думает… Думает, да вдруг и спросит: «Вы, грит, так думаете! Неужели?»
— Охо-хо-хо! — протянул Задвижкин. — А може, и впрямь сегодня придет, коли приехал… Пойду-ко я там посмотрю…
Рыльце у него было в пушку, и надо было кое-что уладить. Задвижкин встал и вышел из-под навеса, торопясь к каптенармусу[13] сообщить новость в предупреждение могущих быть неприятностей. А неприятности могли произойти оттого, что у каптенармуса далеко не все было в порядке как в цейхгаузе[14], так и в амбарах…
Как только он скрылся, Козлов вскочил на скамье и сказал:
— Ну, ребята, держись теперь! Съест!
— Бог не выдаст — свинья не съест.
— Ой, съест! — заговорил молодой тщедушный парень с быстрыми, испуганными глазами. — Ведь и энтот-то живодер! А тот, сказывают, прямо людоед!
— Ну, не каркай, ворона! Поживем — увидим, — сказал другой солдат. — А что новая метла чисто метет, да недолго живет — так и это верно. Попервоначалу сегда так: наедет, накричит, нашумит. То неладно, другое нехорошо, а прошел месяц, надоест, пойдет по-прежнему… А и то сказать, чем наша рота остальных хуже? Так, придирка одна!..
Моська слушал все эти разговоры, и в нем рождалось уныние. Сердце говорило ему, что для него теперь настанет очень плохое житье. Он слыхал много рассказов о том, как расправляется начальство с негодными солдатами, и знал, что бывали такие случаи, когда придирались к пустякам, судили и отправляли в дисциплинарный батальон.
«Хоть бы в конвойную команду отправили! — думал он. — Все легче… Нет тебе этого ученья да емнастики… Вольготно. Когда и трудно бывает, а все же лучше…» Козлов готовился привести еще какие-то соображения по поводу нового командира, как вдруг под навес прибежал, запыхавшись, фельдфебель — низенький бритый старик с жесткими и хитрыми глазами, которые обладали способностью видеть во все стороны даже тогда, когда он, по-видимому, смотрел вниз.
— Бросай чистку! Собирай винтовки и марш на ученье. Живо!
Солдаты зашевелились. Ротное ученье в такой ранний час. Дело ясно: их будут «представлять» новому начальству.
Все кинулись в палатки…
V
Яркое полуденное солнце немилосердно жжет и палит. Ни ветерка, ни облачка; огромное зеленое поле, где сотни раз выводили живых людей и, как лошадей в цирке, заставляли выделывать разные кунстштюки[15], пусто. Далеко, на другом берегу реки, густо порошей ивняком, синеет гряда леса, уходя в бесконечную даль. С другого края круглой зеленой площади белыми зубчатыми линиями раскинулись лагеря. Издали маленькие четырехугольные палатки кажутся карточными домиками, готовыми разлететься от легкого дуновения. Там и сям между ними зеленеют тощие тополя и акации. Везде пусто — в поле и небе… Все, кажется, спит, очарованное жарким, ослепительным светом.
В первом ряду маленьких белых палаток заметно движение… Мелькают, шевелясь, исчезая и появляясь вновь, белые точки… Их все больше и больше, и вот, заслоняя очертания палаток, около лагеря начинает извиваться маленькая белая змейка, сверкая длинными блестящими искрами… Слегка подаваясь то влево, то вправо, она растет, приближается… То тут, то там показываются красные точки околышей и погонов, штыки сверкают все гуще и гуще… Слышен далекий равномерный топот, в такт которому волнуется белая колонна. Еще несколько минут, и вы видите, что маленькая белая змейка превратилась в первую роту *** батальона, мерным, торопливым шагом выходящую в учебное поле «представляться» своему новому ротному командиру.
Отойдя от лагерей сажень на сто, рота остановилась. Раздалось одновременное бряцание, и штыки, сверкнув еще раз, опустились. Фельдфебель вышел вперед, молодцевато крикнул, метнул глазами направо и налево и скомандовал:
— Р-ряды-ы-… стр-р-ройся!
Раз-два-три! Рота из четырехвзводной вытянулась в двухвзводную колонну.
— Р-ряды-ы… стр-р-ройся!
Раз-два-три! Теперь шеренги слились в одну и вытянулись длинной прямой линией.
— Равняйсь! Смирно!
На дороге, ведущей из лагерей к батальонной церкви, показалось облачко пыли… Пара вороных лошадей мчала легкую коляску с тремя офицерами. Перед фронтом коляска остановилась, и двое из них — батальонный командир, полковник, седой стройный старик, и прежний ротный, худощавый блондин, — с строгим и усталым видом быстро выскочили из коляски на землю.
Третий, казалось, был нарочно создан для того, чтобы его возили в экипажах. Он не сразу вылез, но, двигаясь осторожно и степенно — причем коляска чуть-чуть не опрокинулась, — поставил на подножку одну ногу, а другую на землю и слез. Затем так же степенно, по-солдатски повернулся всем корпусом и выпрямился.
Солдаты с удивлением глядели на его фигуру. Был он страшно толст, непомерно. Казалось, все в этом круглом шарообразном теле кричало о том, что тесен божий мир и негде повернуться. Трудно было сказать, где кончалась голова и начиналась шея: то и другое было красно и непомерно широко. Он был маленького роста, и поэтому ноги его, толстые, короткие обрубки, одетые в широченные шаровары, казались продолжением туловища.
Трудно было ожидать от такого субъекта поворотливости. Каково же было изумление солдат, когда толстяк быстро и легко вместе с полковником и бывшим ротным направился к фронту.
— Смирно! — прокричал фельдфебель, прикладывая руку к козырьку.
— Здорово, ребята! — сказал полковник.
— Здрав-жлам-вашскобродь!
— Это ваш новый ротный командир, — продолжал полковник. — Слушайтесь и любите его!
Он сказал что-то прежнему ротному, и они, простившись с толстяком, сели и покатили обратно. Толстяк помолчал немного, затем, вытянувшись и приподнявшись на носках, крикнул тонким бабьим голосом:
— 3-здоро, молодцы, первая рота!
— Здрав-жлам-вшбродь! — рявкнули «молодцы».
— Я ваш новый начальник! — продолжал толстяк. — Никаких послаблений от меня не ждите! Инструкцию исполнять неукоснительно! Словесность[16] знать назубок. Нос не вешать. Будете хороши — и я буду хорош. Нянчиться с вами я не стану. Мои приказания святы! Издохни, да сделай!
И он помчался вдоль фронта, тяжело дыша, обтирая мокрое лицо батистовым платком и внимательно всматриваясь в лица солдат. Те почтительно провожали глазами начальство, и в лицах их можно было прочитать одно — оторопь!
Моська стоял четвертым с правого фланга, и дыхание у него спирало в груди. Он не мог оторвать глаз от этого красного, белобрысого, толстого человека с белыми ресницами и голубыми глазами, и, видя, как он подвигается к нему все ближе и ближе, Моська испытывал точно такое же чувство, какое испытывает человек при виде жабы. Теперь он мог хорошо его разглядеть. Маленький подбородок, утонувший в толстых складках шеи, придавал его лицу смешное, бабье выражение. Но в низких желтоватых бровях и далеко ушедших внутрь голубых глазках таилось что-то бесконечно упрямое, высокомерное и жестокое. Он подошел к Моське и быстро мимоходом впился острым злорадным взглядом в испуганное лицо солдата.
«Убивец!» — вдруг подумал Моська, и острый холод пронизал его с ног до головы. И, провожая взглядом широкий затылок ротного, он испытывал какое-то смешанное чувство удивления и боязливой ненависти при мысли, что этот грузный, короткий и широкий офицер хладнокровно убивал себе подобных. Но сейчас же это чувство прошло, так как Моська вспомнил, что теперь надо быть начеку и не сделать какого-нибудь промаха. И он еще крепче сжал винтовку в руке.
Пробежав фронт, ротный несколькими быстрыми прыжками отскочил задом от фронта и выкрикнул:
— Слуша-ай! С колена, по колонне — восемьсо-от па-альба… р-ротою!
Шеренга роты разом упала на одно колено и ощетинилась острым гребнем штыков. Торопливо защелкали затворы.
— Р-рота!
Приклады у плеча…
— Пли!
Треск курков.
Толстяк подумал несколько мгновений и вдруг пошел сзади шеренги, внимательно осматривая постановку ног. Дойдя до Моськи, он остановился — и сердце солдата упало.
— Фельдфебель! — услышал сзади себя Моська визгливый тенорок ротного. — Дай-ка этому псу по шее и научи его ставить ноги!
Секунда-другая — и у Моськи в глазах земля заходила ходуном и все завертелось. Опомнившись от удара, он слышал, как толстяк сказал фельдфебелю:
— На три дневательства не в очередь и неделю без отпуска!
«Новый» начинал, по-видимому, оживляться: то тут, то там слышался его визгливый крик, и его нога в широком лакированном сапоге то и дело толкала солдат, то и дело поправляя ноги и руки. Наконец он скомандовал:
— Встать. Солдаты встали.
— Плохо! Вижу сразу, что все плохо! — кричал ротный. — Но я вас буду учить! Я многих, многих учил!
Началось бесконечное ротное ученье — с маршировками, с беглым шагом, поворотами и построениями, в течение которого ни на минуту не смолкал голос, бранчливый и визгливый, толстяка. Глаза его моментально обегали роту и вспыхивали, когда он замечал оплошность или ошибку.
Через два часа солдаты, разбитые и усталые, шли к палаткам. В воздухе неслась бессмысленная, трактирно-солдатская песня:
Крутится, вертится шар голубой, Крутится, вертится над головой, Крутится, вертится, хочет упасть…
VI
Для первой роты наступили тяжелые времена. Все подтянулось. Ничто не ускользало от внимания и зоркого взгляда маленьких голубых глаз нового командира. Он проявил поистине какую-то чудовищную неутомимость и, раз решив, очевидно, поставить роту на «образцовую» ногу, не давал никому покоя. Он лично осматривал одеяла, матрацы, мундиры, брюки, галстуки, пуговицы, пояса, винтовки, сумки — все, что только имело отношение к солдату и к чему имел отношение солдат. Ночью он являлся неожиданно, когда все спали, и, выслушав рапорт дежурного по роте, молча обходил палатки, прислушиваясь к дыханию спящих, стараясь определить, спит ли человек или только притворяется.
На ученье он выходил из себя, если случайно вздрагивал штык у кого-нибудь в рядах… Он даже похудел и побледнел, если только можно назвать худобой увеличившееся количество складок на шее и менее красный цвет лица. В течение какой-нибудь недели он устроил два обыска в солдатских сундуках, ища запрещенных книг и прокламаций, «потому что, — как выразился он однажды, — солдат насчет этого не дурак…». В гимнастике он требовал безукоризненной отчетливости, и солдат, перескочивший, например, яму так, что одна нога его была впереди другой на два вершка, — должен был прыгать до тех пор, пока не делал прыжок удовлетворительно или не сваливался от изнеможения.
Зайдя однажды на кухню, он приказал посадить на трое суток под арест артельщика и повара за то только, что те вздумали сварить вместо надоевшей капусты макароны.
— Это что такое? — визжал он. — Что за Италия? Зачем это? Макароны? Баловство! Щи и каша — каша и щи! Вот солдатская еда. Если вы, сукины дети, еще купите макарон, я вас самих заставлю сожрать весь котел.
Каждый день кто-нибудь сидел в карцере. Сажал он за всякие пустяки: за недостаточно молодцеватое отдание чести, оторванную пуговицу, плохо смазанную винтовку. Все ходили на цыпочках. Даже развеселый Козлов приуныл после того, как постоял под ранцем шесть часов и едва не слег после этого в лазарет.
Фамилия нового ротного была Миллер. Тупой, злопамятный и ограниченный, он ненавидел солдат, как своих личных врагов, и не без основания: редко кто из рядовых, увидев где-либо между палатками широкий, собачий затылок Миллера, не посылал ему проклятие. В пьяном виде он бывал очень чувствителен; тогда он собирал солдат вокруг себя и, засучив руки в карманы, икал и, нелепо двигая бровями, пояснял им, что он их «отец» и прочее. Но горе тому, кто во время этих крокодиловых слез не умел изобразить в лице достаточного внимания к словам немца: слащаво-нахальное лицо Миллера мгновенно принимало жесткий и угрюмый вид, глазки суживались, и «отец» уже совершенно другим тоном, с угрозами и ругательствами набрасывался на тех, кто, по его мнению, недостаточно близко принимал к сердцу его слова.
— Тебе, Федоров, я вижу, трудно меня слушать, — начинал он в таких случаях. — Так чего же ты, братец, здесь стоишь? Тебе не нравится, да? Не нравится, я вижу, не нравится, что я говорю? Ты, может быть, лучше на сходку пошел бы, к разным социалам? А? Ну что же, ступай и ступай, братец!.. Насильно мил не будешь!.. Ах ты, бродяга! — неожиданно накидывался он на оторопевшего Федорова. — Да ты знаешь, кто я? Как ты с-смеешь, мерзавец? — и взгляд, полный ненависти, казалось, хотел пробить насквозь и пригвоздить к земле ни в чем не повинного Федорова.
— Ну и слон, братцы! — сказал однажды Козлов в своей компании, играя «в три листика». — Этакого слона ни в сказке сказать, ни пером описать. Хоть западню на него ставь…
— Кто это — слон? — спросил партнер, убивая козырного валета.
— А он — Миллер, едят его мухи! Иду я давеча — глядь, он катит по дорожке, все место занял — не пройдешь… Чисто слон…
Кличка Слон так и осталась за Миллером. Слово, пущенное случайно за карточной игрой, крепко пристало к новому ротному и даже среди офицеров, узнавших, как зовут Миллера солдаты, получило право гражданства.
Легко представить, во что обратилась теперь жизнь для Моськи. Два раза фельдфебель докладывал Миллеру, что Моська — никуда не годный солдат, и два раза Слон категорически, с пеной у рта, заявлял, что плохих солдат у него быть не должно.
— Бей! Плох — бей! Под ранец! В карцер! Все, что хочешь! Или сгони в могилу, или сделай солдата!
Мелкое солдатское начальство: ефрейтора, унтера, фельдфебель, — подгоняемые сверху, окончательно осточертели и походя срывали злобу на более робких и забитых. Особенно невыносимой жизнь сделалась для Моськи.
Парень похудел, осунулся, и в глазах его, больших и недоумевающих, появилось какое-то новое, небывалое выражение затаенной тоски и безграничного отчаяния. Как затравленный зверь, вздрагивая при виде офицерских погон, бродил он по казарме, грязный, оборванный и жалкий, сторонясь товарищей и неохотно вступая в разговоры… Только когда осень позолотила листву деревьев и желтое жниво ощетинилось в полях, взгляд его как будто прояснился и стал мягче: парень вспомнил дом, домашние работы, уборку хлеба и родную ниву, далекую от его холодной, мрачной казармы…
VII
Батальонная канцелярия помещалась возле офицерского собрания, на большой лужайке, затейливо украшенной живой изгородью и цветочными клумбами. Смеркалось. В окнах дежурной комнаты вспыхнул огонь и осветил два окна. Это Моська, назначенный сегодня вестовым к дежурному по батальону, ротному командиру первой роты капитану Миллеру, зажег огонь.
Миллер еще не приходил. Моська, свободный пока от несения служебных обязанностей, сидел у большого некрашеного стола и перелистывал тоненькую книжку, на обложке которой был нарисован огнедышащий змей с двумя целыми головами и одной отрубленной. Возле змея стоял молодой человек в латах и шлеме и замахивался мечом на другую голову. В темной офицерской комнате часы торопливо и бойко постукивали, как бы разговаривая сами с собой… В окно доносились смешанные звуки лагерной жизни: игра на гармонии, отрывки песни, брань, стук шагов.
Дверь неожиданно распахнулась, и на пороге появился Слон, заняв корпусом всю ширину дверей. Он был пьян и пальцами слегка придерживался за косяк. Моська вскочил и вытянулся. Миллер обвел взглядом помещение и грузными, короткими шагами направился в дежурную комнату.
— Огня! — бросил он на ходу.
Моська кинулся со всех ног к лампе, от волнения руки его дрожали, и спички тухли одна за другой. Наконец вспыхнул огонь, и тусклый свет озарил дешевые обои, письменный стол и кровать в углу. На стол стояли пустые пивные бутылки, на тарелке лежал сыр и кусок хлеба. Слон с минуту постоял посередине комнаты, потом засунул руку в карман и, вытащив скомканную десятирублевку, бросил ее на стол.
— Вестовой! — прохрипел он. — Живо за коньяком! Марка «Н» с черной звездочкой — бутылку! Ты, песья душа, знаешь, что такое звезда? Звезда… звездочка… трум, трум… трум… Ну, чего стал? Живо, марш!
Моська бегом бросился в офицерский буфет и через пять-шесть минут вернулся с бутылкой коньяку и большой граненой рюмкой. Поставив принесенное на стол, он отошел к порогу и, вытянувшись, замер.
Слон сел на кровать у стола и согнулся, подперев голову руками. Сигара, которую он сосал, постепенно выползла изо рта и с легким стуком упала на пол. Слон вздрогнул, посмотрел на Моську тупым соображающим взглядом и потянулся.
— Налью-ка я себе… — бормотал он, — а тебе, вестовой, тебе не налью… Я — офицер, ты же есть холуй… А потому трескай себе казенную водку, жри… А я буду пить коньяк! — Он медленно налил рюмку и залпом ее опорожнил. — Ты, — продолжал он, обтирая усы и грузно пыхтя, — в сущности не должен на меня смотреть… Это р-роняет… пре…престиж власти… Этого не полагается… Ну, все равно… Я буду пить, а ты облизывайся…
«Убивец!» — думал Моська, глядя на красные, пухлые руки Слона с оцепенением, похожим на чувство, с каким жертва смотрит на своего палача.
— Пью я, дорогой мой солдат… — сказал Миллер, облокотившись на стол и положа голову на руки. — Пью… Пьян же отнюдь не бываю… Отнюдь! Заметь это… Почему? Ответ ясен: потому что устаю, и мне добрая бутылочка всегда полезна… А как с вами, собаками, не устать? Сильно устаю… Как тебя зовут?
— Мосей Щеглов, вашбродь! — едва слышно произнес Моська.
— Moсей… Щег… Щег… А! а!.. Это ты, дорогой, значит, так отличаешься? Это ты-то никуда не годная тварь? Н-ну-ну! А ведь я вас учить приехал? А? Я вас выучу!
Слон засмеялся и лукаво погрозил Моське пальцем.
— Но без тонкостей! Эти разные шуры-муры солдатские, нюансы и амуры — побоку! К черту! Учить — прямо, честно, по-солдатски! В ус и в рыло! Чего дрожишь? Не бойся! А ты думал, что тут тебе тятя с мамой блины пекли? Как же! Держи карман шире! В солдаты пошел — пропал! Нет больше никакого Мосея, а есть рядовой! И как рядовой ты об-бязан исполнять все… Быстро, точно и… и б-беспрекословно! Скажу — убей отца! Убивай моментально, дохнуть не дай! Скажу — высеки мать! Хлещи нещадно! В рожу тебе плюну — разотри и с-смотри козырем, женихом, конфеткой! Захочу — сапоги мои целовать будешь! Вот что! Ха-ха-ха-ха-ха!..
Мосей вздрогнул. Слон хохотал неистово, сладострастно, и толстые багровые жилы вздулись на его лбу… Наконец, задыхаясь, он хлебнул еще рюмку и продолжал:
— Вас, скотов, берут на службу для чего, как бы ты думал? Ну — родина там… что ли… отечество… для защиты, а? Царь, мол, бог… Те-те-те! Для послушания вас берут, вот что! И потому существует дисциплина Без дисциплины ты есть что? Мужик. А нам мужика не надо, не-ет! Совсем н-не надо!.. Пусть и духу в мужицкого не останется! Чтоб и про село свое он был, где родился. Тебя посылают, тебе приказывают — и… баста! А куда, зачем — тебе какое дело! Пошлют на японца — сдыхай в Маньчжурии… Пошлют мужиков бить — режь, грабь, жги! Тебе какое дело? Я в ответе, не ты!
Слон выпил еще.
— Я знаю, вы народ хитрый, вы, собаки, дошлые! Я знаю!.. Я все знаю! Знаю, куда у вас ходят по вечерам! Знаю, какие книжки вы читаете! И прокламации… Под расстрел хотите? М-можно… Вы думаете, эти дураки ваши, деревенские-то, добьются чего-нибудь? Шиш с маслом! 3-земли и воли? А штык в спину? Политической свободы, ска-а-жите!.. А пятьсот горячих? Демократической республики! А кулак в зубы? Ниче-е-го вам не надо и… незачем!.. Ведь вами, как скотиной, надо пользоваться! Вези, пока не сдох!.. Мы! — Он ударил себя кулаком в грудь. — Мы благородны! Мы люди! Наши деды на ваших дедах верхом ездили! Сено возили!.. Мы сильны и… б-благородны! А вы хамы!
…Я вас буду учить! Я буду палкой загонять вам в голову словесность… А стрельбе научу без пр-ромаха! Десять раз у меня окривеешь, и будешь попадать! «Нет у тебя Бози инии, разве мене…»[17] Помни эту заповедь, а то я спущу тебе штаны и напомню по-своему!.. Ведь ты хам, с тобой все можно!.. Запорю, засужу, уб-бью — и ничего не будет! Ведь ты хам, хам? Да? Говори! Хам?
Они стояли лицом к лицу: один — озверевший от вина, злобы и скуки: другой — белый как мел… Губы у Моськи дрожали, и сердце сжималось от невыносимо тоскливого и отвратительного чувства… Уйти бы, уйти, уйти!
— Ну… ну, говори… Хам ты или нет?
Рука Миллера уже протягивалась в воздухе, ища, за что схватить Моську. Исступление овладевало им…
— Никак нет, вашбродь! — вдруг сказал Моська быстро и отчетливо, смотря прямо перед собой…
Наступило молчание… С минуту Слон стоял перед Моськой, вытаращив круглые, пьяные глаза и смешно двигая бровями. Он старался уловить смысл неожиданного для него солдатского ответа…
— Что — «никак нет»? — переспросил он, садясь снова на кровать, причем она оглушительно затрещала. — Что — «никак нет»? — закричал он, снова приходя в бешенство. — Так я вру? Так ты кто? Чел-ловек, «чаэк», м…мужик, крестьянин? А не хам ли ты, подлая, рабья душа? Так я… что же, по-твоему, делаю, вру? А? вру?..
Тоскливое, нудное чувство вдруг сразу прошло у Моськи, точно его совсем и не было… Комната поплыла перед его глазами, и вдруг стало как-то странно легко и весело… Он внутренне усмехнулся и сказал быстрым, громким шепотом:
— Вы… людей убиваете, вашбродь… Вот что вы делаете!
Миллер откинулся назад всем корпусом, и его широкий, плоский затылок глухо стукнулся о деревянную стену. Через мгновение он расхохотался звонким переливчатым смехом:
— Ай-яй-яй! А-ха-ха-ха-ха-ха! Ай да вестовой! Ну и мужик! Ну и глуп, глуп, ну и глуп же ты, глуп, глуп ужасно! Да ведь ты совсем, совсе-ем дурак… Набитый дурак! Ты это понимаешь? Или не совсем? Отмочи-и-ил! Так что? Людей убиваю? А почему же не убивать, а? Зачем им жить, ну? Зачем?.. Скажи!
Слон нагнулся на кровати и впился в лицо Моськи маленькими, пьяными, тусклыми глазками.
— Подлец! Мерзавец! Идиот! — вдруг заорал он, топая ногами. — Да как ты… Да я… Да смеешь ты как?! Убью, зарежу! Задушу! И в ответе не буду!
Моська стоял неподвижно и грустно смотрел в окно… Ему совсем не было страшно, только хотелось скорей и во что бы то ни стало кончить эту безобразную, унизительную сцену…
Наступило молчание… Стенные часы звонко пробили девять… Лампа коптила, бросая гигантскую уродливую тень на стену от круглой, огромной головы Слона, На крыльце послышались шаги. Миллер поднял голову.
— Я с тобой разделаюсь, — сказал он, посмотрев в лицо вестовому взглядом, полным холодной угрюмой злобы. — Будешь доволен… Ступай, кто там?..
Моська вышел в переднюю.
VIII
В передней, робко толпясь у дверей, стояло пятеро молодых солдат четвертой роты. Впереди других cтоял худенький юноша солдат, держа в руках большую деревянную чашку.
— Вы чего, ребята? — спросил Моська и прибав шепотом: — Пьян дежурный-то!.. Злой, кричит… топает… Вам чего?
— Ну, Моська, не собаки же мы, — сказал один солдат. — Ты посмотри, как кашицу варят, с червями… Что ж, с голоду помирать, што ль? Сухарями-то сыт не будешь. Ступай доложи дежурному: так и пришли, мол, из четвертой роты, на кашу жалятся… Пища, мол, негодная совсем…
В дверях неожиданно появился Миллер, угрюмо смотревший на группу солдат.
— Вы что? — отрывисто спросил он.
— Позвольте доложить вашему благородию, — ступил солдат с чашкой, — то есть никак не возможно есть эту кашицу… С червем, вашбродь!.. Так что хотели беспокоить ваше благородие… По нужде!..
— Покажи, — сказал Слон и, взяв у солдата чашку стал рассматривать ее содержимое при свете лампы, — Гм, черви… Где же черви? Я не вижу…
— Вот, извольте посмотреть, вашбродь, — сказал! третий солдат, подавая обрывок бумажки, на которой! лежали два маленьких мокрых комочка. — Они самы…
Миллер неожиданно размахнулся и швырнул чашку! из всей силы в лицо говорившему. От неожиданности тот откинулся назад и ударился головой о косяк двери. Горячая серая жидкость потекла по его лицу, мундиру и брюкам, а на губах показалась кровь…
— Да вы что, собаки! Сговорились, что ли?! — заревел капитан. — Бунтовать? Жаловаться? Черви? Сами вы чер-рви! Я вас!..
Он отскочил на два шага, быстро отстегнул кобуру и выхватив черный блестящий револьвер, в упор направил его в грудь первому, кто стоял ближе к нему. От неожиданности и изумления никто не успел даже пошевелиться, поднять руку. Сухо щелкнул взводимый курок…
Вдруг с быстротою молнии Моська кинулся к Миллеру сзади и, схватив капитана за плечи, сильно ударил его ногой под коленки… Слон потерял равновесие и грузно брякнулся спиной о пол. Комната заходила ходуном от сотрясения… Так же быстро одной рукой подхватил Моська упавший револьвер, а другой оборвал тоненькую шашку капитана… Миг — и она со звоном разлетелась в куски, скомканная дюжей рукой Моськи. Миллер, придавленный тяжелым солдатским коленом у самого горла, беспомощно хрипел и метался, хватая руками воздух…
— Будет, барин, над людьми измываться!.. — высоким, не своим голосом крикнул Моська. — Люди мы, не псы, не хамы! Что ты своим благородством-то гордишься, убивец! Убивец ведь ты! Ведь ты людей по миру пускал! Ты за что хотел человека стрелять? Ах ты, пес, негодная ты тварюга! Ты мне чего сичас говорил? Плюну, мол, тебе в рожу, а? А ты, мол, разотри да смейся, а? Так на же тебе! — Он нагнулся над посиневшим от страха и злобы Миллером и звучно плюнул ему в лицо. — Разотри! — сказал он, вставая. — Вот и будешь ты… конфетка!..
Слон медленно поднялся… Глаза его блуждали, а губы беззвучно шевелились… Моська стоял перед ним, сжимая кулаки, и смотрел на этого жалкого пьяного человека-зверя… Потом подумал и сказал:
— Ничего, говоришь, не добьемся? Врешь! Всего добьемся!
Через два месяца Моська был присужден за насилие над офицером и оскорбление последнего при исполнении служебных обязанностей в бессрочную каторгу. Но первая рота помнит Моську.
В Италию
I
Измученный и полузадохшийся, дрожа всем телом от страшного возбуждения, Геник торопливо раздвинул упругие ветви кустов и ступил на дорожку сада. Сердце неистово билось, шумно ударяя в грудь, и гнало в голову волны горячей крови. Вздохнув несколько раз жадно и глубоко, он почувствовал сильную слабость во всем теле. Ноги дрожали, и легкий звон стоял в ушах. Геник сделал несколько шагов по аллее и тяжело опустился на первую попавшуюся скамейку.
Те, кто охотились за ним, без сомнения, потеряли его из виду. Быть может — это было и не так, но так ему хотелось думать. Или, вернее — совсем не хотелось думать. Странная апатия и усталость овладевали им. Несколько секунд Геник сидел, как загипнотизированный, устремив глаза на то место в кустах, откуда только что вылез.
В саду, куда он попал, перескочив с энергией отчаяния высокий каменный забор, было пусто и тихо. Это был небольшой, но густой и тенистый оазис, заботливо выращенный несколькими поколениями среди каменных громад шумного города.
Прямо перед Геником, за стволами деревьев на лужайке красовалась цветочная клумба и небольшой фонтан. Шум уличной жизни проникал сюда лишь едва слышным дребезжанием экипажей.
Надо было что-нибудь придумать. Огненный клубок прыгал в голове Геника, развертываясь и снова сжимаясь в ослепительно блестящую точку, которая плыла перед его глазами по аллее и зеленым кустам. Напряженная, почти инстинктивная работа мысли подсказала ему, что идти теперь же через ворота, рискуя, вдобавок, запутаться на незнакомом дворе, — немыслимо. Сыщики гнались за ним по пятам и только после двух его выстрелов убавили шагу. Он вбежал в первый попавшийся двор, перепрыгнул стену и очутился в пустом, незнакомом саду. Он не знал даже, выходят ли ворота этого двора на ту улицу, где он оставил погоню, или же на противоположную. Но даже и в этом случае его положение было сомнительным. Квартал, наверное, был уже оцеплен.
Геник вынул револьвер и сосчитал патроны. Было семь — осталось три. Двумя он очень убедительно поговорил с городовым, побежавшим за ним. Служака растянулся лицом книзу на пыльной, горячей мостовой. Две прожужжали мимо ушей сыщика. Осталось три… Трех было очень мало…
Беспокойные мухи назойливо гудели вокруг, садились на лицо и глаза, раздражая своим прикосновением пылающую кожу. Откуда-то донесся стук ножей, запах кухни и звонкая перебранка. Нервно кусая губы и машинально рассматривая носки сапог, Геник пришел к заключению, что, пожалуй, самое лучшее для него теперь — это забраться куда-нибудь в дровяной сарай или конюшню, предоставив дальнейшее случаю…
II
Когда он поднял, наконец, глаза, маленькая девочка, стоявшая против него, рассмеялась тихим смехом. Ее руки кокетливо прятались за спиной, и светлые карие глазки в упор смотрели на незнакомца.
Есть в человеческой психике что-то, что иногда в самые важные моменты нашей жизни вдруг неожиданно направляет мысли очень далеко от текущего мгновения. Особа, стоявшая на дорожке, вдруг напомнила Генику что-то, несомненно, виденное им… Он прогнал муху, приютившуюся над его бровью, и разом поймал ускользавшее воспоминание…
…Маленькая лужайка в густом парке, окруженная сплошной стеной малинника, бузины и высоких, шумящих деревьев. Снопы света падают почти вертикально из голубой вышины. Густая трава пестреет яркими головками лесных цветов…
Это было доисторическое время, когда земля кипела нарядными бабочками, стрекозами с прозрачными крыльями, невыносимо серьезными жуками, царевичами и трубочистами. Жить было недурно, только прелесть жизни часто отравляла особая порода, именуемая «взрослыми». «Взрослые» носили брюки навыпуск, ничего не знали (или очень мало) о существовании разрыв-травы и важнейшим делом жизни считали уменье есть суп «с хлебом»…
Все это — лужайка, мотыльки и взрослые — сверкнуло и исчезло. Жгучая, острая тоска затравленного зверя сдавила Генику грудь, и он гневно скрипнул зубами.
Сделав два шага по направлению к скамейке, на которой сидел Геник, девочка устремила на него улыбающиеся глаза и произнесла полузастенчивым, полурадостным голосом:
— Здравствуй, дядя Сережа!
— Здравствуй, — ответил Геник, машинально поворачивая в кармане барабан револьвера.
— А ты почему не приехал завтра? — продолжал ребенок, испытующе посматривая на дядю. — Мама тебя очень бранила. Она говорит, что ты какой-то деревянный!
— Мама пошутила, — медленно и внушительно сказал Геник. — Она думала, что ты умная. А ты — глупенькая!
— Это уж ты глупенький-то! — Девочка надулась. — Не буду тебя любить!
— Вот как! Это почему?
— А ты… ты, ведь, хотел привезти железную доро-о-огу! И еще зайчика… Разве ты обманщик?
— Я был сердит на твою маму, — вывернулся Геник. — Я хотел, чтобы тебя назвали Варей, а она меня не послушала.
— Варя — это у кухарки, — заявила девочка, подступая ближе. — Она рыжая. А я Оля!
— Ну, вот. Но теперь я уже перестал сердиться. И знаешь, что я придумал?
— Нет! Какую-нибудь дрянь? — осведомилась девочка.
— Ай, какой стыд! Кто тебя научил так говорить? Вот скажу маме непременно, что учишься у Вари…
— Я не учусь! Это папа так говорит, — хладнокровно возразила племянница.
— Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! — продолжал укоризненно покачивать головой Геник.
— Ну — я не буду! Ну — скажи, что? — приставала девочка.
— А ты любить меня будешь?
— Да-а! — Оля утвердительно кивнула головой и, подойдя к Генику, сложила свои розовые пальчики на его большой сильной руке. — Ну, скажи же, скажи!
— Мы, — торжественно заявил Геник, — поедем с тобой на настоящей железной дороге!
— В Италию, — с восторгом подхватила Оля, и глаза ее мечтательно расширились.
— В Италию! Мы возьмем с собой маму м… м…
— Мы еще возьмем… возьмем вот кого! — Оля задумалась. — Мы возьмем всех, правда? И маму, и Варьку, и Ганьку, и француженку… Нет, француженку не нужно! Она злая! Она все жалуется, а пайка ее очень любит за это!..
— Вот как! Ну, мы ее тогда… оставим без обеда!..
— Во-от. Так ей и надо! — Девочка с нетерпением смотрела на Геника. — Мы едем в Италию!
— Нет! — печально вздохнул Геник. — Я и забыл, что мне нельзя ехать.
— Ну-у?! — Оля недоверчиво и огорченно раскрыла рот. — А почему нельзя? а?
Ее подвижное личико надулось, и губы обиженно задрожали, приготовляясь плакать. Геник погладил ее по щеке и сказал:
— Я пошутил, Оля. Ехать можно, только надо купить летнюю шляпу.
— Вот такую, как у папы, — озабоченно заметила девочка. — Белую. А ты был в Италии?
— Был. Только там шляпы лучше папиной!
— Да-а, как же! У папы всегда лучше, — заявила племянница и вдруг даже подпрыгнула от радости.
— Сережа, едем! — закричала она, хлопая в ладоши. — Скорее! Я дам тебе папину шляпу — вот!
Геник привлек девочку к себе и поцеловал ее в сияющие глаза.
— Не надо, Оля, — сказал он печально. — Мама узнает, будет бранить Олю!
— Мамы нет, Сережа! Она у художника — знаешь? Плешивый!..
III
Геник не успел открыть рот для ответа, как белое платье девочки уже замелькало по направлению к дому. Через несколько мгновений топот ножек затих.
Тогда он достал из бокового кармана нумер вчерашней газеты и развернул ее, смоченную потом. Сразу как-то назойливо бросилось в глаза объявление табачной фабрики с массой восклицательных знаков.
«Вызвали наряд городовых, — думал он, чувствуя, как им овладевает мелкая нервная дрожь, сменившая возбуждение. — По улицам расставили шпионов. По углам сторожат конные жандармы. Телефон работает…»
Где-то, вероятно на соседнем дворе, шарманка заиграла хрипящий, жалобный вальс. Солнце поднялось над соседней крышей и заглянуло в глаза Генику. Маленькая, вертлявая птичка запрыгала по аллее и вдруг испуганно вспорхнула, увидев человека, одетого в черное, с бледным лицом. Геник проводил ее глазами и насильно усмехнулся, вспомнив Олю. Затем встал, провел рукой по пыльному лицу и огляделся.
Стена имела не менее сажени в вышину. Она охватывала сад, находившийся в задней части двора, с трех сторон. Было странно, как мог он перескочить ее без посторонней помощи. Это произошло мгновенно; как будто какой-то вихрь поднял его тело и перебросил по эту сторону. Во всяком случае, нечего было и думать повторить снова эту штуку. Всматриваясь пристальнее в глубину сада, он заметил в отдалении легкие просветы, сквозь которые можно было видеть маленькие кусочки мощеного двора и угол каменного, многоэтажного дома.
Он снова сел и только тут заметил, что его одежда носила явные и свежие следы кирпича и извести. Схватив горсть влажной травы, он начал поспешно приводить себя в порядок, затем развернул газету и напряженно, до боли в глазах, стал вглядываться поверх ее страниц в темную глубину сада.
IV
Кровь постепенно отхлынула от сердца, но пульс бился по-прежнему неровно и часто. Странный, колющий озноб пробегал по его ногам, несмотря на июльскую жару.
Цветочная клумба пришла в движение. Немилосердно комкая дорогие цветы, белое платье Оли пронеслось вихрем и остановилось перед Геником. Лицо девочки сияло восторгом блестяще выполненной задачи: большая отцовская шляпа широким грибом покрывала ее густые русые волосы.
— Вот папина шляпа, Сережа! — заявила она, шумно переводя дыхание. — Надевай!
Она привстала на цыпочки и, прежде чем Геник успел нагнуться, торопливые детские руки сорвали его помятую, черную шляпу и нахлобучили взамен ее желтую новенькую панаму.
— Ах! — она отступила на шаг и, сложив руки, прижала их к груди, с явным восхищением посматривая на дядю. Незаметным ударом ноги Геник подбросил под скамейку свой отслуживший головной убор.
— Ну, вставай же, поедем!
— Погоди, детка, — улыбнулся Геник. — Еще поезд не пришел. Он придет скоро, скоро… и тогда… Мне еще нужно съездить по делу на часок. Потом я вернусь, и мы отправимся.
— Ну, пойдем ко мне! Я покажу тебе Зизи. Она сейчас завтракает, а потом будет кувыркаться… У нее глаза болят!..
— Видишь ли, очень жарко. А в комнате еще теплее. Я даже хочу снять пальто.
Геник стащил с себя летнее черное пальто, опустил его за скамейку и остался в широком, сером пиджаке, делавшем его гораздо полнее, чем он был на самом деле и казался в своем узком пальто.
— А я сяду к тебе? — она заглянула ему в глаза. — Можно? Только ты меня усами не трогай. Папа меня всегда усами щекочет.
Болтая, она вскарабкалась к нему на колени и прижалась щекой к его боковому карману, где лежал револьвер.
— А ты хочешь какао, Сережа? Мама мне всегда велит пить какао. Оно такое противное, как лекарство!
V
Но уже кто-то, чужой и враждебный, шел из глубины сада… Мерно хрустел песок, слышалось сдержанное покашливание… Геник затаил дыхание и сунул руку за пазуху…
Два городовых, с револьверами наготове, показались в изгибе аллеи. Они шли медленно и осторожно. Впереди шел дворник, плотный, невысокий мужик, широколицый, с маленькими, часто мигающими глазами.
Увидев их, Оля вырвалась из рук Геника и стремительно кинулась к дворнику. Ухватившись за его грязный передник, она запрыгала и заторопилась, путаясь и захлебываясь.
— Степан! Он приехал! Дядя Сережа! Вот он! Он меня повезет в Италию!
Наступило короткое молчание. Полицейские осматривались кругом, нерешительно порываясь двинуться дальше.
Был момент, когда, как показалось Генику, сердце совсем перестало биться у него в груди, и земля завертелась перед глазами…
— С приездом осмелюсь вас поздравить, барин, — сдержанно сказал Степан, приподнимая фуражку. — Позвольте, барышня, как бы не зашибить вас случаем!
Он бережно отстранил девочку и опустил руки по швам.
— Мы, ваше степенство, можно сказать, двор осматриваем… С Михайловской улицы из пивной видели, как тут человек к бельгийцу во двор заскочил… А окромя как через наш двор ему выскочить негде…
— Какой человек? — отрывисто спросил Геник.
— Из тюрьмы сбежал, барин, бунтарь. Вся полиция на ногах. В городового стрелял, прямо в живот угодил…
Геник поднялся во весь рост, строгий и величественный.
— Степан! — начал он медленно и внушительно, смотря дворнику прямо в глаза, — стоит мне сказать одно слово — и ты будешь немедленно уволен! Помогать охране порядка — твоя прямая обязанность! В то время, как вот они, — он указал взглядом на городовых, — не жалея жизни исполняют свой долг — ты сидишь в пивной и, разинув рот, ловишь мух! Очень хорошо!
— Господи! Ужли ж я… ведь на один секунд! Ежели в этакую-то жару выпьешь единую кружку, так уж и не знаю что… Эх, барин!
Степан обиженно вздохнул и умолк.
— Иди, я не держу тебя. Впрочем — погоди. Позови извозчика — ряди в дворянское собрание…
— Хорошо-с, — сказал угрюмо Степан, надевая картуз.
Он немного потоптался на месте, и все трое удалились, переговариваясь вполголоса. Оля робко подошла к Генику и тихо сказала:
— Какой ты сердитый! А ты на меня будешь кричать?
— Нет…
— Они кого ищут? Мазурика? Да?
— Да…
— Он какой — голый?
— Да…
Геник стоял во весь рост, затаив дыхание, сжав кулаки и, как окаменелый, глядя в сторону ушедших. Когда шум шагов затих, он в изнеможении почти упал на скамью и разразился нервным, рыдающим смехом…
Испуганная девочка кинулась к нему и, напрягая все силы, сама готовая заплакать, старалась поднять его голову, опущенную на вздрагивающие руки.
— Сережа, не плачь! Сережа — я обманула тебя! Я буду тебя любить…
Громадным усилием воли Геник поднял голову и взглянул на девочку. Ее испуганные глазки беспомощно смотрели на него, пальчики трясли изо всех сил большую, загорелую руку. Вдруг Геник скорчил потешную гримасу, и Оля звонко расхохоталась.
— Ты — смешной! — заявила она. — Как клоун!
На другом конце двора послышалось дребезжание извозчичьего экипажа. Геник встал.
— Прощай, Оля! — сказал он, поправляя галстук. — Я приеду к обеду и привезу тебе железную дорогу.
— И лошадку?
— Да, и лошадку. А потом мы поедем в Италию!..
— Вот как хорошо! — засмеялась девочка, идя рядом с ним. — Ты, ведь, до-о-бренький! Я с тобой всегда буду ездить!
Аллея кончалась, и перед ними блеснул чисто выметенный, мощеный двор. У роскошного крыльца ожидал извозчичий фаэтон. Подойдя к экипажу, Геник нагнулся и поцеловал пушистую, русую головку.
— До свидания! Будешь умница?
— Да-а!..
Он вскочил на сиденье, и экипаж с грохотом выехал на улицу.
Оглянувшись назад, Геник увидел Олю. Она стояла у железной решетки ворот, освещенная солнцем, золотившим ее густые кудри, и усиленно кивала головкой уезжавшему…
Когда экипаж поворачивал за угол, Геник оглянулся еще раз. Мгновенно мелькнуло и скрылось белое пятнышко, а ветер встрепенулся и донес слабый отголосок детского крика:
— Ведь ты приедешь, Сережа?
Случай
I
Бальсен запряг свою понурую, рыжую лошадку и, крепко нахлобучив шапку на голову, вышел со двора на улицу. Дождь уже перестал поливать землю. Густой запах навоза и гнилой сырости стоял в черном, как смола, воздухе, насыщенном теплой влагой осенней ночи. Ветер стих. В пустынной тишине темной, уснувшей улицы жалобно скрипел флюгер над крышей дома Бальсена, и в доме ярко светились два окна, озаряя грязные лужи на краю дороги. Жена Бальсена, Анна, умирала. Так думали все соседи и старуха Розе, сидевшая у больной. Но упрямая, круглая голова Бальсена не верила этому. Молодая и любимая женщина не может умереть так скоро, прожив с мужем только год и родив лишь одного ребенка. Старухи каркают зря.
Подумав так, он вошел в дом и тихо подошел к деревянной, почерневшей от времени кровати, на которой, среди подушек и одеял, широко раскинув руки, лежала больная. Бальсен смотрел на нее и удивлялся. Неужели это та самая Анна, что еще неделю тому назад пела и кричала на всю улицу? С трудом можно было этому поверить… Щеки впали; лоб, обтянутый гладкой, пожелтевшей кожей, покрылся испариной. Запекшиеся губы неровно и часто открывались, и дыхание с болезненным свистом вырывалось из груди. Вся она страшно исхудала, побледнела и сделалась такой жалкой и беспомощной.
Розе копошилась у плиты, готовя какое-то деревенское питье. Бальсен тихо потрогал жену за руку и спросил:
— Ну, как? Трудно тебе, Анна?
Молодая женщина ничего не ответила, но веки ее дрогнули и дыхание сделалось ровнее. С трудом приоткрыв, наконец, глаза, она стала смотреть перед собой неподвижным, мутным взглядом. Потом глаза снова закрылись, а губы начали шевелиться. Бальсен стиснул зубы.
— Оставь ее, Отто, оставь! — убеждающим шепотом заговорила старуха, отрываясь от плиты и поправляя под чепчиком дрожащими, коричневыми пальцами клочья седых, как вата, волос. — Нельзя ее трогать… Поезжай скорее, если ты добрый муж!
Ребенок в соседней комнате проснулся и тихо заплакал. Старуха поспешила к нему. Бальсен перевел глаза к столу, за которым его младший брат, Адо Бальсен, читал газету при свете керосиновой лампы. Зеленая тень стеклянного колпака падала на хмурое, сосредоточенное лицо юноши.
— Брось газету, Адо! — раздраженно крикнул Бальсен, и жилы вздулись на его лбу. — Вечная политика, даже тогда, когда в доме горе!.. Это вы, зеленый горох, лезете по тычине к небу и валитесь вместе с ней! Брось, я тебе говорю!
Адо улыбнулся и поднял глаза на брата.
— Не сердись, Отто! — мягко сказал он. — Я не обижаюсь на тебя… Тебе тяжело; это понятно… Но чем виновата газета?
— Никто не виноват! — тяжело дыша, сказал Бальсен и заходил по комнате, круто поворачиваясь. — А чем виновата Анна, что тебе и другим дуракам вздумалось облагодетельствовать всех плутов, мошенников и лентяев на свете? Гибнут все хорошие люди!..
— Этого не может быть! — сказал юноша и упрямо встряхнул волосами. — Если бы погибли все хорошие люди, мир не мог бы существовать!..
— Ну да! Это из книжки! А на самом деле? Где кузнец Пельт? Где Аренс, учитель? Где Мансинг, аптекарь? Один убит… А других что ждет? А что они сделали? Будь Мансинг здесь, Анна, быть может, была бы здорова…
— Отто, ты — как большой ребенок! — сказал Адо. — Ну, что бы мог тут сделать аптекарь? Все равно ты бы поехал за доктором… Тебе просто, как видно, хочется сорвать сердце на чем-нибудь!..
— Сорвать?! Молокосос ты и больше ничего!.. Что стало с краем? Еще такой год, и мы будем нищие! Мы, Бальсены!..
Истекший год оставил в Бальсене-старшем тяжелые воспоминания. Деревня обезлюдела: кто разорился, кто исчез, неизвестно куда. Нескончаемые военные постои, реквизиции, вечный страх перед кулаком и плетью… Обыски, доносы… Жизнь сделалась адом.
И Бальсен в грустные минуты вспоминал зеленые, залитые горячим светом поля, здоровье, радость труда, смех Анны, крепкую усталость, вкусную жирную еду и богатырский сон… В прошлом жилось хорошо, настоящее — ужасно и смутно; будущее — неизвестно…
И Бальсен возненавидел политику и людей, причастных к ней, перенося, как все умственно близорукие люди, свои симпатии и антипатии на предметы, непосредственно ясные для зрения. Газета, иностранное слово раздражали его. Рабочий, крестьянский ум Бальсена глядел в землю и никуда больше.
Ребенок затих, и старуха вошла в комнату шаркающей, хлопотливой поступью.
— Будет шуметь! — сказала она. — Что для вас Анна? Ваши споры вам дороже. Отто, не забудь, что до Вендена сорок верст… Лошадь поела? Поезжай, а то я выгоню тебя ухватом.
Бальсен перестал ходить и подошел к кровати. Постояв немного, он наклонился и поцеловал Анну в волосы. Больная в беспамятстве шептала что-то, быстро шевеля губами. В голубых, сердитых глазах крестьянина вспыхнула затаенная мука.
— Не топчись! — ворчала Розе. — Поезжай, ну!
— Тетка Розе! — сказал вдруг Бальсен. — А что, если он не захочет?
— Ну, вот! Поедет! Иначе его покарает бог!.. А бумажку возьми с собой на всякий случай; купишь в аптеке.
Бальсен нащупал в кармане бумажку, сложенную вчетверо, на которой был написан какой-то традиционный безграмотный деревенский рецепт, вздохнул и вышел, тихо притворив дверь.
II
Дорога шла лесом. Невысокая, редкая чаща тянулась на пятнадцать верст двумя сплошными, угрюмыми стенами. Дорога была неровна и кочковата, но Бальсен не захотел ехать обычным, наезженным трактом, потому что лесной путь сокращал расстояние по крайней мере верст на десять. Во-вторых, здесь он чувствовал себя спокойнее и мог рассчитывать не наткнуться на бродяг и грабителей, расплодившихся в последнее время. Бальсен живо помнил, как пастор Кинкель приехал домой от одного больного — в нижнем белье, стуча зубами от страха и холода.
Низкие, темные облака толпились, как привидения, исчезая за черной, зубчатой извилиной лесной опушки. Тяжелые водяные капли часто хлопали, падая в рытвины, наполненные водой. Изредка ветер, внезапно прошумев над вершинами елей и сосен, стряхивал с веток целые потоки воды, и тогда казалось, что лес наполняется торопливым, смутным шепотом. Иногда раздавался слабый писк сонной птицы, легкий, осторожный треск… Вдали, в самой глубине лесного затишья, какое-то печальное и одинокое существо монотонно гудело, и его глухое «гу-у! гу-у!» выло, как ветер в трубе.
Лошадь быстро бежала, поматывая шеей, и в ее торопливом, крепком и уверенном беге было что-то успокаивающее и ободряющее. Повозка качалась и подпрыгивала на рытвинах и древесных корнях, протянувших свои кривые щупальца под тонким дерном. И Бальсену, глядевшему в черный, неподвижный мрак, казалось, что он едет в глухом, темном коридоре, уходящем в какое-то подземное царство… Тогда он поднимал голову вверх и смотрел на густые, медленно и высоко ползущие тучи.
Проехав верст десять, он остановил лошадь и вылез, чтобы поправить седёлку, сбившуюся набок. Копыта перестали стучать, и колеса затихли. И в жуткой, сонной тишине лесного покоя, встревоженного только этим шумом езды одинокого человека, казалось, ничто уже больше не разбудит затишья ночи, упавшего на землю.
И дорога, предстоявшая Бальсену, показалась ему такой бесконечной, темной и тоскливой, что он снова поспешно вспрыгнул в повозку и задергал вожжами. Лошадь побежала, бойко и мерно постукивая копытами.
Сидя в повозке, Отто Бальсен думал об Анне, жизни, глупом братишке Адо и своем путешествии. Мысли его тяжело и сосредоточенно устремлялись одна за другой. Было странно и непонятно, что горе может придти внезапно и нарушить спокойное довольство трудящегося человека. С его, Бальсена, стороны не было к этому никаких поводов. Он исправно платил подати, работал прилежно, верил в бога и загробную жизнь, иногда кормил нищих и был добрым, заботливым мужем… А все же хозяйство расстраивалось, и все же Анна лежит там, в деревне, и стонет, и мучается, а он, Бальсен, едет ночью за десятки верст, рискуя большими расходами…
И мысль снова начинала вертеться в прошлом, отыскивая тайные пружины, незримые семена, взрастившие заботу и горе. Ничего не оказывалось. По-прежнему в воображении упрямо вставали желтые пышные поля, смуглые руки Анны и тишина домашнего уюта… Бальсен сердито вытянул Рыжика кнутом и выехал на опушку.
III
Лес кончился, уходя назад черной, плывущей тенью, а дорога сделалась ровнее и шире. Крестьянин вынул старинные, серебряные часы и зажег спичку. Стрелки показывали 12. Еще часа полтора езды до города, и к пяти утра он, пожалуй, успеет вернуться обратно. Шурин Андерсен с удовольствием одолжит ему одну из своих четырех лошадей. Бедный Рыжик уже устал, вероятно, так как часто взматывал головой.
И вдруг Бальсен услышал, что навстречу ему кто-то едет. В темноте раздавались дробные, перебивающиеся удары копыт и фырканье лошадей. Он потянул вожжи к себе, прислушиваясь, и решил, что едут верховые. Затем свернул с дороги на рыхлое, кочковатое жнивье и остановил Рыжика.
Топот приближался, слышался ленивый, сдержанный разговор. Рыжик вытянул шею и звонко, нетерпеливо заржал, перебирая ногами. Голоса затихли. Бальсен рассердился и ударил лошадь. Через секунду раздалось ответное, возбужденное ржанье, и повозку быстро окружили темные силуэты людей, сидящих верхом, с винтовками за плечами. Их было много, и Бальсену стало ясно, что это один из казачьих разъездов, бродивших вокруг Вендена. Он сморщился, с неприятным чувством вглядываясь в казаков, но лиц не было видно в темноте. Один подъехал близко, так, что голова его лошади обдала лицо Бальсена горячим паром ноздрей, и спросил:
— Куда путь держишь, дружище?
— В город… — неохотно ответил Бальсен, нетерпеливо пожимая плечами. — И очень тороплюсь.
— А чего же ты торопишься? — спросил другой казак и захохотал громким, резким смехом. — Дюже же ты торопишься, засев у середь поля!..
Под одним из всадников заиграла лошадь, и он, сочно выругавшись, ударил ее ногой в бок. Подъехал еще один, и по тому, как он спросил: — «Что тут?», и по тому, что казаки повернулись к нему лицом, Бальсен догадался, что это офицер. Казак, спросивший у Бальсена, куда он едет, подъехал к офицеру и начал что-то говорить ему, оглядываясь на крестьянина.
— Ты думаешь? — спросил офицер, зевая.
— Так тошно… Стоить у середь поля…
— Куда едешь? — сердито крикнул офицер.
— В город, господин начальник, — ответил Бальсен, снимая шапку. — За доктором. У меня очень больна жена…
— Откуда?
— Из Келя… Меня зовут Бальсен, Отто Бальсен…
— А есть у тебя паспорт?..
— Паспорт я забыл дома, господин начальник, — сказал Отто. — Но вы уж, пожалуйста, пропустите меня. Меня здесь знают кругом на сто верст. Я мирный человек.
Несмотря на уверенный тон, каким Бальсен давал ответы офицеру, смутная тревога, однако, сдавила ему грудь. Он вздохнул и продолжал:
— Нужда заставляет ехать в ночь, господин полковник. Очень неприятно. Я очень тороплюсь…
Офицер молчал, покачиваясь в седле, и Бальсен спросил:
— Так мне можно ехать? Меня здесь все знают…
— Нет, нельзя, — спокойно сказал офицер. — А может быть, ты не Бальсен, а? Как же это ты — без паспорта? Разве ты не читал приказа?
— Никак нет, господин полковник. Никто не читал у нас, — вздохнул Бальсен. — Со всяким может случиться ошибка, господин полковник. И я прошу вас простить меня. Мне нужно к доктору…
— А ну, обыщите его, ребята, — приказал офицер. — А зачем ты свернул с дороги?
— Я не знал, кто едет, господин начальник, — оправдывался Бальсен. — Теперь много разбойников.
— Вылезай! — сонно сказал казак, спрыгивая с лошади. — Прощупаем тебя.
Бальсен засуетился, вылезая из повозки и покорно расставляя руки, пока казак ощупывал его и лазил по карманам. Вынув все, что было в них: трубку, табак, бумажник, часы и бумажку старухи Розе, он передал отобранное офицеру. Другой казак зажег небольшой ручной фонарик, и при свете его, бледном и прыгающем, Бальсен увидел худое, бледное лицо офицера, склонившегося над вещами крестьянина. Офицер долго ворочал и рассматривал рецепт, затем тщательно осмотрел часы и бумажник. Еще один казак подъехал к нему и начал что-то шептать. Офицер мычал и кивал головой, изредка восклицая: «А? — Да! — А? Да-а!..»
Время тянулось для Бальсена удивительно медленно. Он пристально и внимательно следил за движениями казаков и удивился, когда один из них вытащил у товарища изо рта окурок папиросы. Рыжик нетерпеливо фыркал, потряхивая дугой.
Наконец офицер сказал что-то сквозь зубы, передавая вещи Бальсена казаку, и крупной рысью скрылся в темноте. Казаки потянулись за ним. Бальсен облегченно вздохнул и сказал:
— Можно ехать?
Казак, стоявший возле крестьянина, бросил на него косой взгляд, шмыгнул носом и ничего не ответил. Понемногу уехали все, и осталось только четверо. Они переглянулись, спешились и подошли к Бальсену.
— Ну, вот что, друг, — сказал один, и Бальсену показалось, что он улыбается в темноте. Весело улыбнувшись ему в ответ, он хотел спросить, — можно ли ему наконец ехать, но казак продолжал:
— …мы тебя свяжем. А ты стой смирно. Смотри — не вздумай тикать — застрелю!..
Он повернул Бальсена за плечо, и крестьянин, оторопев, послушно повернулся… И вдруг страшная мысль, огненным сверлом пронзив мозг, упала в душу… Он дико, отчаянно вскрикнул. Казалось, что земля уходит из-под ног и все кружится со страшной, молниеносной быстротой.
— Не прыгай, до города далеко, — апатично сказал казак, сидевший верхом. — Что толку? Все равно, брат, помирать когда-нибудь…
— За что?! — закричал Бальсен, и заплакал. — Меня все!.. Я Отто Бальсен!..
— Сам знаешь, за что, — угрюмо ответил казак. — Начальство, дядя, распоряжается, а не мы… Очень разумные. Вот за это самое.
Бальсен застыл, и казалось ему, что все мысли умерли в нем и сам он умер… А, быть может, это сон… Все сон: сырая, пронизывающая сырость осенней ночи, рыхлая земля под ногами, Рыжик, опустивший голову, и эти замолкшие, темные фигуры людей, отдалившихся от него… Это бывает, и Отто вспомнил страшные кошмары, когда, проснувшись в теплой, темной комнате, облегченно вздыхаешь, натягивая одеяло, и поворачиваешься, засыпая вновь…
В голове его пестрым, разноцветным узором пробежали вдруг грядки небольшого огорода, сокровища Анны. Упругая, светло-зеленая капуста, темный стрельчатый лук, белые цветочки картофеля и желтые огуречные… Все это было, и всего этого не будет. И сам он, Отто Бальсен, Бальсен, которого знают на сто верст кругом, куда-то исчезнет, и никто не будет знать и никогда не узнает, почему так вышло…
И снова мысль упала в прошлое, и снова перед Бальсеном сверкнули желтые, пышные поля и смуглые руки Анны. И снова было непонятно, почему теперь явились сильные, злые, вооруженные люди, взяли его и убили…
Он безотчетно рванулся вперед, но, сделав два-три шага, споткнулся и сел со связанными руками на сырую, вязкую землю. Казак, сидевший на лошади, заметил:
— Ослаб. Пужается…
— Я видал, — сказал другой. — А видал и таких, которые смелые. Есть тоже из ихнего брата…
Гнев и отчаяние окончательно овладели Бальсеном. Он хотел крикнуть и не мог. Казалось, еще немного, и он проснется… Еще, одно, еще последнее усилие…
— Не копайся, Данило, — сказал верховой. — Вы, черти!.. Чего томить человека?!
Темные фигуры отошли на несколько шагов и остановились. Бальсен видел, как сверкнули длинные красные огоньки, и острая, тянущая боль стеснила ему дыхание. Падая, он увидел свой дом, светлую комнату, Адо, склонившегося над газетой, и больную, любимую Анну…
Затем все исчезло.
Марат
Другу моему Вере
I
Мы шли по улице, веселые и беззаботные, хотя за нами след в след ступали две пары ног и так близко, что можно было слышать сдержанное дыхание и ровные, крадущиеся шаги. Не останавливаясь и не оглядываясь, мы шли квартал за кварталом, неторопливо переходя мостовые, рассеянно оглядывая витрины и беззаботно обмениваясь замечаниями. Ян, товарищ мой, приговоренный к смерти, сосредоточенно шагал, смотря прямо перед собой. Его смуглое, решительное лицо с острыми цыганскими скулами было невозмутимо, и только щеки слегка розовели от долгой ходьбы. И в такт нашим шагам, шагам мирных обывателей, делающих моцион, раздавалось упорное, ползущее шарканье. Гнев ядовитым приливом колыхался в моем сердце, и страшное, неудержимое желание щекотало мускулы, — желание обернуться и смачно, грузно влепить пощечину в потное, рысье лицо шпиона. Сдержанным, но свободным голосом я объяснял Яну преимущества бессарабских вин.
— В них, — сказал я, выразительно и авторитетно расширяя глаза, — есть скрытые прелести, доступные пониманию только в трезвом виде. К числу их надо отнести водянистую сухость и большое количество дубильной кислоты… Первое усиливает аппетит, второе укрепляет желудок. Правда, в венгерских и испанских винах больше поэзии, игры, нюансов… Но, уверяю вас, — после двух, трех бутылок деми-сека воображение переносит в широкие, солнечные степи, где смуглые полные руки красавиц молдаванок плетут венки из виноградных листьев…
Ян криво усмехнулся и, расставив ноги, остановился у лотка с апельсинами. Пламенные глаза его устремились на красную бархатную поверхность плодов, позолоченных июльским солнцем. Он крякнул и сказал:
— Смерть люблю апельсины! Пусть мы будем буржуи и купим у этого славного малого десяток мандаринчиков…
— Пусть будет так!.. — согласился я таким мрачным тоном, как если бы дело шло о моей голове. — Да процветает российская мелкая торговля!
Коренастный ярославец глядел нам в глаза и, без сомнения, видел в них серебряные монеты, отныне принадлежащие ему. Он засуетился, рассыпавшись мелким бесом.
— Десяток энтих — три двугривенных, шестьдесят копеек! — предупредительно объяснил он. — Завернуть позволите? Хорошо-с!
Он взял с лотка белый новенький мешочек. В таком же точно пакете, только серого цвета, я нес свой чернослив, купленный по дороге. И вдруг мне стало завидно Яну. У него апельсины будут лежать в белой, как снег, бумажке, а у меня в серой и грязной! Решив сказать ему об этом, я предварительно случайно бросил взгляд в сторону профилей, прикрытых котелками, и был приятно изумлен их настойчивостью в деле изучения дамских корсетов, вывешенных за стеклом магазина. Тогда я дернул Яна за рукав и обиженно заметил:
— Дорогой мой! Не находите ли вы, что белый цвет бумаги режет глаза?
Ян, казалось, искренно удивился моему замечанию, потому что раза два-три смигнул, стараясь догадаться. Тогда я продолжал:
— От младых ногтей и по сию пору я замечал, что белый цвет вредит зрению. По этой причине я всегда ношу свои покупки исключительно в бумаге серого цвета…
— Бедняга… — сказал Ян, пожимая плечами. — Вам вредно пить много бессарабского… Впрочем, для вас я готов уступить. Нет ли у вас серого мешочка?
Детина растерянно улыбнулся торопливой, угодливой улыбкой, долженствовавшей изображать почтение к фантазии барина, и мгновенно выдернул из-под кучи оберточной бумаги толстый серый пакет. Положив в него апельсины, он сказал:
— Милости просим, ваше-ство! Ежели когда!.. Самые хорошие…
Мы пошли дальше, не оглядываясь, но я чувствовал сзади жадные, бегающие глаза, с точностью фотографических аппаратов отмечающие каждое наше движение. Вокруг нас, обгоняя, встречаясь и пересекая дорогу, проходили разные люди, но в шарканьи десятков ног неумолимо и упорно выделялись назойливые, как бег маятника, шаги соглядатаев. Нахальное, почти открытое преследование заставляло предполагать одно из двух: или близкую, неотвратимую опасность, или неопытность и халатность преследующих.
Как будто дразня и весело насмехаясь, извозчики вокруг наперерыв предлагали свои услуги. Соблазн был велик, но мы, мирные обыватели, потихоньку шли вперед, наслаждаясь солнцем, теплом и бодростью собственного, отдохнувшего за ночь тела. У бульвара, сбегавшего по наклонной плоскости вниз широкой, кудрявой аллеей, Ян вздохнул и сказал:
— Пойдемте бульваром, дружище. На улице становится жарко.
Мы свернули на сырой, утоптанный песок. Густые, прохладные тени кленов трепетали под ногами узорными, дрожащими пятнами. Впереди, в перспективе бульвара, ослепительно горели золотые луковицы монастыря. На скамейках сидели одинокие фигуры гуляющих. И вдруг навстречу нам, кокетливо повертывая плечиками, прошла очаровательная дамочка, брюнетка. Озабоченное выражение ее цветущего личика забавно противоречило пухлому, детскому рту. Восхищенный, я щелкнул пальцами и обернулся, проводив красавицу долгим, слюнявым взглядом. Но тут же ее стройный колеблющийся корпус заслонили два изящных, черных котелка, неутомимых, беспокойных и рыщущих. Вздохнув, я посмотрел на Яна. Лицо его было по-прежнему до глупости спокойно, но тонкие, нервные губы слегка пожевывали, как бы раздумывая, что сказать. Бросив умиленный взгляд на купол монастыря, он произнес громким, растроганным голосом:
— В детстве я был набожен и таковым остался до сих пор. Когда я вижу светлые кресты божьего храма, бесконечное благоговение наполняет мою душу. Сегодня я слушал обедню в церкви Всех святых. Батюшка сказал сильную, прочувствованную речь о тщете всего мирского. Истинный христианин!..
Он перевел дух, и мы снова прислушались. Но песок упорно, неотступно хрустел сзади. И это не помогало! Религия оказывалась бессильна там, где преследовались высшие государственные цели. Я сразу понял тщету набожности и развернул перед Яном нараспашку всю глубину своего испорченного, развращенного сердца.
— Охота вам быть монахом! — сказал я тоном старого опытного кутилы. — Поверьте мне, что если в жизни и есть что хорошее, — то это карты, вино… и девочки!..
И я пустился во все тяжкие, смакуя мерзости блуда всех видов и сортов. Начав с естественных, более или менее, отношений и подчеркнув в них остроту некоторых моментов, я готовился уже пуститься в изложение и защиту педерастии, как вдруг шляпа, плохо сидевшая на моей голове, упала и откатилась назад. Пользуясь счастливым случаем, я вернулся за ней, поднял и бросил внимательный взгляд в глубину аллеи. Они еще шли, усталые, лениво передвигая ноги, но уже настолько далеко, что, очевидно, уверенность их в нашей принадлежности к организации была сильно поколеблена моим восторженным гимном культу Венеры и Астарты.
Ян, измученный, с наслаждением опустился на первую попавшуюся скамейку. Я сел рядом с ним и прислонил свой пакет с черносливом к мешочку с апельсинами. Серая, оберточная бумага тускло выделялась на черном фоне наших пальто, невинная и страшная в своей кажущейся незначительности.
Несколько секунд мы молчали, и затем Ян заговорил:
— Итак, товарищ, наступает день… Я совершенно спокоен и уверен в успехе. Ваш гостинец я немедленно отнесу к себе, а вы идите домой и позовите, пожалуйста, Евгению с братом. Пусть нас будет только четверо… Мне хочется покататься на лодке и посмотреть на их хорошие, дружеские лица… Так мне будет легче… Хорошо?
— Конечно, Ян. Вам необходимо рассеяться для того, чтобы завтра иметь возможность сосредоточиться…
— Вот именно… И положение интересное: нас будет четверо — двое не знают и не будут знать, а мы с вами знаем… Надеюсь, что скучно не будет. Только…
— Что?
— Ведь это, собственно говоря, полное отрицание всякой конспирации… Но я придумал: мы с вами переедем на тот берег, они приедут после… Вы приходите в семь часов к пристани у лесопильного завода… Возьмите вина, конфект… Я очень люблю раковые шейки…
— Чудесно, Ян! Когда стемнеет.
— Да… А что же вы им скажете?
— Ну! Мало ли что. Скажу, что вам нужно экстренно ехать, что ли… Вообще положитесь на меня.
— Спасибо!..
Он пожал мне руку и поднял глаза. Они горели, и цыганские скулы еще резче выступали на бледном лице. Затем Ян зевнул и задумался.
— Я тороплюсь, Ян! — сказал я. — Идите, пора… Для вас все готово…
— Сто против одного, что мне не придется этим воспользоваться… — ответил он, думая о чем-то. — Это была бы страшная редкость!
— Всякое бывает…
— Посмотрим…
Он встал, осторожно поднял один пакет и зашагал крупными решительными шагами в ту сторону, где сверкали золотые маковки монастыря. Я тоже поднялся, вышел с бульвара на тротуар улицы и, случайно оглянувшись, увидел пару неотвязных улиток, озлобленных на вселенную. Они медленно трусили за мной на некотором расстоянии. Ян, следовательно, ушел «чистый», и этого было достаточно, чтобы я развеселился. Затем мне пришло в голову, что некто, вероятно, очень желал бы, чтобы мой чернослив, захваченный Яном, оказался действительно черносливом…
Но чудес не бывает. И тяжела рука гнева…
II
Полный, блестящий, бутафорский месяц поднялся на горизонте и посеребрил темную рябь воды. Неподвижная громада лесного берега бросила отражение, черное, как смола, в глубину пучины, и лодка медленно скользила в его тени, плавно дергаясь вперед от усилий тонких, гнущихся весел.
Я греб, Ян сидел у руля, лицом к берегу и медленно, задумчиво мигал, слушая песню. Сутуловатый и неподвижный, он, казалось, прирос к сиденью, тихо двигая руль левой рукой. Пели Евгения и брат ее Кирилл, долговязый, безусый юноша с круглой, остриженной головой и добродушно саркастическими глазами. Песня-жалоба одиноко и торжественно плыла в речной тишине, и эхо ее умирало в уступах глинистого берега, скрытых мраком. В такт песне двигались и стучали весла в уключинах, отбрасывая назад тяжелую, булькающую воду. Девушка обвила косу вокруг шеи, и от темных волос еще резче выделялась белизна ее небольшого, тонкого лица. Глаза ее были задумчивы и печальны, как у всех, отмеченных печатью темного, неизвестного будущего. Свободно, без вибрации, голос ее звенел, рассекая густой, медный бас Кирилла. Простые, трогательные слова песни волновали и нежили:
Меж высоких хлебов затерялось Небогатое наше село; Горе горькое по свету шлялось И на нас невзначай набрело. Ох, беда приключилася страшная, Мы такой не знавали вовек: Как у нас, голова бесшабашная, Застрелился чужой человек…Река застыла, слушая красивую, грустную и страшную песню о жизни без света и силы. И сами они, певшие, казались не теми юношей и девушкой, какими я знал их, а совсем другими, особенными. И редкие тревожные ноты звучали в сердце в ответ на музыку голосов.
Девушка закашлялась и оборвала, кутаясь в темный пуховый платок. В полусвете молчаливо застывшей ночи она казалась воздушной и легкой. Еще секунду-другую дрожали одинокие басовые ноты и, стихнув, отлетели в пространство. Песня кончилась, и стало грустно, и было жаль молодых, горячих звуков, полных трепетной поэтической думы. И исчезло очарование. С реки потянуло холодом и сыростью. Уключины мерно скрипели и звякали, и так же мерно вторил им плеск подгребаемой воды.
— Пора ехать домой, господа почтенные, — сонно заявила Евгения, жалобно морщась и зябко пожимая плечами. — Я озябла. И вот вы увидите, что простужусь. Ян, поворачивайте!..
— А в самом деле?.. — подхватил Кирилл. — Я уж тоже напичкался поэзией… от сих и до сих. Дайте-ка я погребу, а вы отдыхайте…
Я передал ему весла, и он, вытянув длинные ноги, быстро подался вперед и сильно повел руками в противоположные стороны. Вода забурлила под килем, лодка остановилась и, слегка колыхаясь, медленно повернула влево. Горный, кряжистый берег отступил назад и скрылся за нашей спиной. Прямо в лицо глянула холодная, мглистая ширь водяной равнины, и лодка направилась к городскому, усеянному точками огней, берегу.
Я взглянул на Яна. Он сидел, сгорбившись, наложив на румпель неподвижную руку. Тихий ветер, налетая сзади, слегка теребил его волосы. Утомленные и дремотные, все молчали. Ян начал свистать мазурку, притопывая каблуком. Девушка зажала уши.
— Ой, не свистите, ради бога! Терпеть не могу, кто свистит… На нервы действует.
Ян досадливо мотнул головой.
— Что же можно? — спросил он, глядя в сторону.
— Все, что хотите, хоть купайтесь. Только свистать не смейте… Вот лучше расскажите нам что-нибудь!
— Что рассказывать! — неохотно уронил Ян. — Про других — не умею, про себя — не хочется. Да и нечего… Все жевано и пережевано…
— Отчего это стало вдруг всем скучно? — недовольно протянула девушка, оглядывая нас. — Какие же вы революционеры? Сидят и киснут, и нос на квинту… Возобновляйте ваш дар слова… ну!..
Она нетерпеливо топнула ногой, отчего лодка закачалась и приостановилась.
— Не балуй, Женька! — сказал Кирилл. — Спать захотела, — капризничаешь!
Глаза его с отеческой нежностью остановились на ее лице.
Опять наступило молчание, и снова уснул воздух, встревоженный звуками голосов. Нелепые и смешные мысли сверкали и гасли без всякого усилия, как будто рожденные бесшумным бегом ночи. Хотелось стать рыбою и скользить без дум и желаний в таинственной, холодной глуби или плыть без конца в лодке к морю и дальше, без конца, без цели, без усилий, слушая тишину…
Вдруг вопрос, странно-знакомый и чуждый, прогнал дремотное очарование ночи. И цель его была мне совершенно неизвестна. Возможно, что Яну просто захотелось поговорить.
Он спросил совершенно спокойно и просто:
— Кирилл! Что вы думаете о терроре?
— О терроре-е? — удивился Кирилл. — Да то же, надеюсь, что и вы. Программа у нас общая…
Ян ничего не сказал на это. Кирилл подождал с минуту и затем спросил:
— А вы почему об этом заговорили?
Ян ответил не сразу.
— Потому, — сказал он наконец, как бы в раздумье растягивая слова, — что террор — ужас… А ужаса нет. Значит, и террора нет… А есть…
— Самый настоящий террор и есть! — насторожившись, задорно ответил Кирилл. — Конечно, в пределах возможного… А что же, по-вашему?
— Да так, пустяки… Спорт. Паники я не вижу… Где она? Сумейте нагнать панику на врагов. Это — все! Ужас — все!..
Кирилл насмешливо потянул носом.
— Надоело все это, знаете ли… — сказал он. — Даже и говорить не хочется. Все это уж взвешено тысячу раз… А спорить ради удовольствия — я не мастер. Да и к чему?
— Вы, Ян, страшно однобоки! — важно заметила девушка. — Вам бы в восьмидесятых годах жить… А пропаганда? Организация?..
Ян снисходительно улыбнулся углами губ.
— Слыхали. А знаете ли вы, что главное в революции? Ненависть! И если ее нет, то… и ничего нет. Если б каждый мог ненавидеть!.. Сама земля затрепетала бы от страха.
— Да он Марат известный! — захохотал Кирилл. — В ***ске его так и звали: «Маленький Марат». Ему все крови! Больше крови! Много крови… Кр-рови, Яго!.. Тигра лютая!
Каменное лицо Яна осталось совершенно равнодушным. Но через мгновение он живо повернулся всем корпусом и воскликнул с такой страстью, что даже я невольно насторожился, почуяв новые струны в этом, хорошо мне знакомом, сердце.
— Да! пусть ужас вперит в них слепые, белые глаза!.. Я жестокость отрицаю… Но истребить, уничтожить врагов — необходимо! С корнем, навсегда вырвать их! Вспомните уроки истории… Совсем, до одного, навсегда, без остатка, без претендентов! Чтобы ни одна капля враждебной крови не стучала в жилах народа. Вот что — революция! А не печатанье бумажек. Чтобы ни один уличный фонарь не остался без украшения!..
Это было сказано с такой гордостью и сознанием правды, что мы не сразу нашлись, что сказать. Да и не хотелось. Мы думали иначе. А он думал иначе, чем мы. Это было просто и не требовало споров.
Евгения подняла брови и долгим, всматривающимся взглядом посмотрела на Яна.
— Вы какой-то Тамерлан в миниатюре, господь вас ведает… А ведь, знаете, вы на меня даже уныние нагнали… Такие словеса может диктовать только полное отчаяние… А вы это серьезно?
— Да.
Лицо Яна еще раз вспыхнуло острой мукой и потухло, окаменев в задумчивости. Только черные глаза беспокойно блестели в орбитах. Я попытался сгладить впечатление.
— Я вас вполне понимаю, Ян… — сказал я. — У вас слишком накипело на душе!..
Он посмотрел на меня и ничего не ответил. В лице его, как мне показалось, мелькнула тень сожаления о своей выходке, нарушившей спокойный, красивый отдых прогулки.
— А помните, Ян, — перешла девушка в другой тон, — как вы приезжали сюда год тому назад? Вы были такой… как дитя. И страшно восставали против всякой полемики, а также и… против террора, как системы?
— А помните, Евгения Александровна, — в тон ей ответил Ян, улыбнувшись, — как двадцать лет тому назад вы лежали в кровати у мамаши? Одной рукой вы засовывали свою голенькую, розовую ножку в ротик, а другой держали папашу за усы? И восставали против пеленок и манной каши…
Девушка покраснела и задумчиво рассмеялась. Кирилл громко расхохотался, очевидно, живо представив себе картину, нарисованную Яном.
— А ведь правда, Женька… — заговорил он. — Как подумаешь, что мы когда-то бегали без штанов… Даже странно. Да, в горниле жизни куется человек! — патетически добавил он. И вдруг заорал во все горло:
Плыви-и мой чо-о-олн!!.На ближайших пристанях всполошились собаки и беспомощно залаяли сонными, обиженными голосами.
— С ума ты сошел, Кирька!.. — прикрикнула, смеясь, девушка. — Тоже, — взрослый считаешься!..
Кирилл внезапно впал в угрюмость и заработал сильнее веслами. Ян круто поворотил руль, и лодка, скользнув под толстыми якорными цепями барок, уткнулась в берег, освещенный редкими огнями ночных фонарей.
Заспанный парень-лодочник принял нашу лодку, и мы поднялись на берег к городскому саду. Всем смертельно хотелось спать. Девушка подошла к Яну.
— Так вы, значит, завтра едете?.. — спросила она, широко раскрывая полусонные глаза. — Скоро! Что же вы это так?
— Надобность явилась… И так как я вас больше не увижу, то позвольте пожелать вам всего лучшего!..
— Вот пустяки! Мы еще увидимся с вами, Ян. Я этого желаю… Слышите?
— Слышать-то слышу… Ну, до свидания, идите бай-бай…
— До свидания.
Она подала ему руку, и он задержал ее на секунду в своей тонкой, смуглой руке. Девушка молча посмотрела на него и что-то соображающее мелькнуло в ее мягких чертах. Я тоже пожал Яну руку, прощаясь с ним, и — сто против одного — навсегда. Он крепко, до боли впился в мою сильными, жилистыми пальцами. Они были холодны и не дрожали. Кирилл поцеловался с ним и долго, крепко тискал его руки в своих. Глаза его из насмешливых и пытающих вдруг сделались влажными и добрыми.
— Ну, дорогой Ян, прощайте, прощайте! Не забывайте нас! Ну, всего хорошего, идите!.. Вот проклятая жизнь — нет даже утешения в квартире попрощаться! Ну, прощайте!..
И мы разошлись в разные стороны.
III
Я опустил плотные, парусинные шторы и зажег лампу. Мне не ходилось, не сиделось и не стоялось. Нетерпеливый, ноющий зуд сжигал тело, и виски ломило от напряженного ожидания. Ни раньше, ни после, — никогда мне не случалось так волноваться, как в этот день.
Лампа, одетая в махровый розовый абажур, уютно озаряла центр комнаты, оставляя углы в тени. Я ходил взад и вперед, сдерживая нервную, судорожную зевоту, и мне казалось, что время остановилось и не двинется вперед больше ни на иоту. И в такт моим шагам прыгал взад и вперед часовой маятник, равнодушно и бегло постукивая, как человек, притопывающий ногой.
Я развернул газету и побежал глазами по черным рельсам строк, но в их глубине замелькали освещенные и шумные городские улицы и в них — фигура Яна. Он шел тихо, осторожно останавливаясь и высматривая.
Тогда я лег на кровать и закрыл глаза. Розоватый свет лампы пронизывал веки, одевая глаза светлой тьмой. Огненные точки и узоры ползли в ней, превращаясь в буквы, цифры, фигуры зверей Апокалипсиса.
Вечер тянулся, как задерганная ломовая кляча. Каждую секунду, короткую и длинную в своей ужасной определенности, я чувствовал в полном объеме, всем аппаратом сознания — себя, лежащего ничком и ждущего, до боли в черепе, до звона в ушах. Я лежал, боясь пошевелиться, вытянуться, чтобы случайным шумом или шорохом не заглушить звуки прихода Яна. Я ждал его, хотел увидеть снова и уже заранее торжествовал при мысли, что он может не прийти… Ожидание победы боролось где-то далеко, внутри, в тайниках сознания с тяжестью больной, бьющей тоски.
Она росла и крепла, и тяжелые, кровяные волны стучали в сердце, тесня дыхание. Вверху, над моей головой, потолок содрогался от топота ног и неслись глухие, полузадушенные звуки рояля, наигрывающие кек-уок. Это упражнялось по вечерам зеленое потомство плодовитой офицерской семьи. На секунду внимание остановилось, прикованное стуком и музыкой. Возня наверху усиливалась. Белая пыль штукатурки, отделяясь от потолка, кружилась в воздухе. Отяжелевший мозг торопливо хватался за обрывки аккордов. Старинные кресла, обитые коричневым штофом, хвастливо упирались вычурными, изогнутыми ручками в круглые сиденья, как спесивые купцы, довольные и глупые. Пузатый ореховый комод стоял в раздумьи. Письменный стол опустился на четвереньки, выпятив широкую, плоскую спину, уставленную фарфором и бронзой. Лица людей, изображенных на картинах, окаменели, прислушиваясь к светлой, гнетущей тишине ожидания. И казалось, что все вокруг притаилось и хитро, молча ожидает прихода Яна. И когда он войдет, — все оживет и бросится к нему, срываясь с углов и стен, столов, рам и окон…
И вдруг тоска упала, ушла и растаяла. Наверху бешено и глухо загудела мазурка, но топот стихал. Голова сделалась неслышной и легкой, как пустой гуттаперчевый шар. И я встал с кровати, твердо уверенный в том, что Ян идет и сейчас войдет в комнату.
IV
Едва он вошел, как я бросился ему навстречу. Ян остановился в дверях, измученный и слабый, торжественно смотря мне прямо в глаза. Одежда его была в порядке, и это обстоятельство не казалось мне странным и удивительным. Он сделал, и не только несмотря на это, а вопреки этому — уцелел. Все остальное было пустяки. Раз совершилось чудо, — одежда имела право остаться чистенькой. Я держал его за руки, выше локтей, и изо всей силы тряс их, захлебываясь словами. Они кипели в горле, теснясь и отталкивая друг друга.
Ян отстранил меня легко, как ребенка, плавным движением руки и, подойдя к столу, сел. Нельзя сказать, чтобы он был очень бледен. Только волосы, прилипшие на лбу под фуражкой, и тонкая жила, вздрагивающая на шее, выдавали его усталость и возбуждение. Весь он казался легким, тонким и маленьким в своем новеньком, с иголочки, офицерском мундире.
Первое, что я увидел, — это его улыбку, сокрушенную и мягкую. Он сидел боком к столу, вытянув ноги и положив руки на колени, ладонями вниз. Мы были одни, и никто не мог услышать нашего разговора. Но я склонился к нему и сказал тихим вздрагивающим шепотом, как если бы нас окружала целая сеть глаз и ушей:
— Вот как?.. Славно…
Улыбка исчезла с его лица. Он задвигался на стуле и так же тихо ответил:
— Сегодня ничего не было. Значит, придется завтра…
Чудо исчезло, осталось недоумение. Я сразу устал, как будто только что выпустил из рук тяжелый камень.
И между нами произошел следующий, тихий и быстрый разговор:
— Он не был, Ян?
— Был.
— Он ехал, да?
— В карете. Я видел его.
— А потом?
— Он уехал.
— Почему?
— Я ушел.
— Почему же, почему, Ян? Ян!..
Он зажмурился, крепко стиснул зубы и тихо, раздельно роняя слова, ответил:
— Он был не один… Там сидела женщина и еще кто-то… Не то мальчик, не то девочка… Длинные локоны и большие капризные глазки… Ну…
Он умолк и открыл глаза. Они щурились от яркого света лампы. Ян прикрыл их рукой и сказал резким, равнодушным голосом:
— Нельзя ли послать за пивом? У меня что-то вроде озноба…
Я молчал, и странная, жуткая, полная мысли тишина сковала дыхание. Ян, видимо, совестился поднять глаза. Одна его рука смущенно и неловко шарила в кармане, отыскивая мелочь, другая лежала на столе, и пальцы ее заметно дрожали.
Оглушительный, потрясающий звон разбил вдребезги тишину. Это ударил тихий, мелодичный бой стенных часов…
Когда на следующий день вылетели сотни оконных стекол и город зашумел, как пчелиный улей, я догадался, что на этот раз — он был один…
Апельсины
I
Брон отошел от окна и задумался. Да, там чудно хорошо! Золотой свет и синяя река! И синяя река, широкая, свободная…
Свежий весенний воздух так напирал в камеру, всю вызолоченную ярким солнцем, что у Брона защекотало в глазах и подмывающе радостно вздрогнуло сердце. Не все еще умерло. Есть надежда. Все пройдет, как сон, и он увидит вблизи синюю, холодную пучину реки, ее вздрагивающую рябь. Увидит все… Как молодой орел он взмоет, освобожденный в воздушной пустыне и — крикнет!.. Что? Не все ли равно! Крикнет — и в крике будет радость жизни.
Так бежала мысль, и взгляд Брона упал в маленькое, потускневшее зеркало, повешенное на стене. Из стекла напряженно взглянуло на него небольшое, бледное, замученное лицо, обрамленное редкими, сбившимися волосами. Тонкая, жилистая шея сиротливо торчала в смятом воротничке грязной, ситцевой рубахи. Он машинально провел рукой по глазам, блестящим и живым, и снова задумался.
Брон сидел и курил, но мучительное беспокойство, соединенное с раздражением, действовало, как электрический ток, вызывая зуд в ногах. Он зашагал по своей клетке. Всякий раз при повороте у окна перед ним сверкал большой четыреугольник, перекрещенный решеткой, полный солнца, лазури и зелени. Мысли Брона летали как беспокойные птицы, что у реки, над бархатом камышей, поминутно вспархивают и кружатся с резким, плачущим криком.
II
Вдвойне неприятно сидеть в тюрьме, чувствовать себя одиноким и знать, что до этого нет никому дела, кроме тех, кто заведует гостиницей с железными занавесками.
Так думал Брон, и злое, гневное чувство росло в его душе по отношению к тем, кто знал его, звал «товарищем», а теперь не потрудится написать пару строчек или прислать несколько рублей, в которых Брон нуждался «свирепо» — по его выражению. В те периоды, когда он не сидел в тюрьме, одиночество составляло необходимое условие его существования. Но сидеть в одиночной камере и быть одиноким становилось иногда очень тяжело и неприятно.
Он ходил по камере, а весна смотрела в окно ласковыми, бесчисленными глазами, и ее ленивые, певучие звуки дразнили и нежили. Синяя река дрожала золотыми блестками; внизу, глубоко под окном, как шаловливые дети, лепетали молодые, зеленые березки.
«Тяжело сидеть весной, — подумал Брон и вздохнул. — Третья весна в тюрьме…»
И он подумал еще кое-что, чего не решился бы сказать никому, никогда. Эти волнующие мысли остановились перед глазами в виде знакомого образа. У образа были большие, темные глаза и нежное, продолговатое лицо…
— И это ушло… Ради чего? Да, — ради чего? — повторил он. — Несчастная, рабская страна…
Брон еще раз взглянул вверх, откуда лились золотые потоки света, пыльного и горячего; подавил мгновенную боль, сел и раскрыл «Капитал». Сухие, математически ясные строки понеслись перед глазами, падая в какую-то странную пустоту, без следа, как снежинки. И от этих безжалостных строк, ядовитых, как смех Мефистофеля, неутомимых и спокойных, как бег маятника, — ему стало скучно и холодно.
III
Брякнул ключ, и с треском откинулась форточка в слепой, желтой двери. В четыреугольном отверстии появились щетинистые усы, пуговицы и бесстрастный, хриплый голос произнес:
— Передача!..
Сперва Брон не сразу сообразил, что слово «передача» относится к нему. Затем встал, подошел к форточке и принял из рук надзирателя тяжелый бумажный пакет. Форточка сейчас же захлопнулась, а радостно-взволнованный Брон поспешил положить полученное на койку и взглянуть на содержимое пакета. Чья-то заботливая рука положила все необходимое арестанту. Там был чай, сахар, табак, разная еда, марки и апельсины. Брон стоял среди камеры и улыбался широкой улыбкой, поглядывая на сокровища, неожиданно свалившиеся в форточку. И оттого, что день был тепел и ясен, и оттого, что неожиданная забота незнакомого человека приласкала его душу, — ему стало очень хорошо и весело.
«Ну, кто же мог прислать? — соображал он. На мгновение образ с темными глазами выплыл перед ним, но сейчас же закрылся картиной дальнего ледяного севера. — Н-нет… Впрочем, сейчас увижу. Если есть записка — значит, это кто-нибудь из своих»…
И он начал торопливо рыться в провизии. Ничего не оказалось. Слегка устав от бесплодных поисков, Брон принялся ожесточенно обдирать ярко-красный апельсин, и вдруг из сердцевины фрукта выглянула маленькая серебряная точка. Он быстро запустил пальцы в сочную мякоть плода и вытащил тоненькую, плотно скатанную бумажную трубочку, завернутую в свинец.
«Вот она. Какая маленькая! Однако хитро придумано!..»
Трубочка оказалась бумажной лентой, сохранившей тонкий аромат духов, смешанный с острым запахом апельсина. Бисерный женский почерк рассыпался по бумаге и приковал к себе быстрые глаза Брона.
«Товарищ! — гласила записка. — Я узнала случайно, что Вы сидите и очень нуждаетесь. Поэтому не сердитесь, что я посылаю вам кое-что. Мой адрес — В.О. 11 л., 8. — Н.Б. Вам, должно быть, ужасно тяжело сидеть, ведь теперь весна. Ну, не буду дразнить, до свидания, если что нужно — пишите. Н.Б.».
И тут Брон вспомнил, как неделю тому назад, перестукиваясь с соседом, он просил передать на «волю», что ему очень нужны предметы первой необходимости. Теперь стало ясно, что передачу и записку принес кто-нибудь из… Перечитав два раза маленькую белую бумажку, Брон почувствовал, что ему хочется разговаривать, и стал разговаривать с незнакомкой посредством чернил и бумаги. Письмо вышло большое и подробное, причем он не упустил случая щегольнуть остроумием. А под конец письма слегка «прошелся» по адресу кадетов, назвав их «политическими недоносками» и «фальстафами». И, уже кончив писать, — вспомнил, что пишет незнакомому человеку.
«А все же пошлю, — подумал Брон, успокаивая себя еще тем соображением, что ответ — долг вежливости. — Скучно же так сидеть…»
Так подумал Брон, стоявший среди камеры с апельсином в одной руке. Второй же Брон, сидевший где-то глубоко в Броне первом, сказал:
— Как приятно, когда о тебе заботятся. Я хочу, чтобы этот человек еще раз написал мне. Еще хочу каждый день испытывать тепло и ласку внимательной, дружеской заботы…
Легкое возбуждение, вызванное событием, улеглось, Брон отложил письмо и стал есть. После долгого поста все казалось ему необычайно вкусным. Наевшись, он снова начал читать «Капитал» и между строк великого экономиста улыбался своему собственному письму.
IV
Четверг был снова днем свиданий и передач, и Брон опять получил бумажный пакет с снедью и апельсинами. В одном из них он отыскал бумажную трубочку, закатанную в свинец; Н.Б. писала, что письмо его получено и ему очень благодарны. Следующее место из записки не оставляло сомнения в том, что пишет человек молодой, наивный и искренний.
«…Я прочитала Ваше письмо и весь день думала о вас всех, сидящих в этом ужасном месте. Если бы Вы знали, как мне хочется пострадать за то же, за что мучают Вас! Мне кажется, что я не имею права, не могу, не должна жить на свободе, когда столько хороших людей томятся. Пишите. Зачем пишу Вам это? Не знаю. Н.Б.»
Брон, прочитав записку, тут же сел и написал длинное письмо, в котором объяснял, что «страдания „их“ — ничто в сравнении с тем великим страданием, которое века несет на себе народ. Очень Вам благодарен за пирожки и апельсины. Пишите, пожалуйста, больше. Брон».
Раскрывая на сон грядущий Гертца и следя засыпающей мыслью за чистенькими статистическими таблицами, Брон решил, что Н.Б. — высокого роста, тоненькая брюнетка, в широкой шляпе с синей вуалью. Это помогло ему дочитать главу и про себя высмеять «оппортуниста» Гертца.
V
Через неделю переписка приняла прочные и широкие размеры, и Брон всегда с нетерпением, не глядя в себя, ожидал записок, в свою очередь, посылая большие, подробные письма, в красивой, грустной форме заключавшие его надежды и мысли. Нежная и тихая печаль странной дружбы ласкала его душу, как отдаленная музыка. И чувствуя, но плохо сознавая это, он с каждым днем чувствовал все сильнее страшный контраст двуликой, разгороженной решеткой жизни, контраст синей реки, окрыляющего пространства и тесно примкнувшей к нему маленькой одиночной камеры с бледным, сгорбившимся человеком внутри…
Так шли день за днем, однообразные, когда не было передач, и яркие, когда в камере Брона становилось тесно от светлых, как хрустальные брызги, мыслей, набросанных на узкой полоске бумаги торопливой, полудетской рукой. Девушка писала Брону, что и ей тесно жить, что, чувствуя себя как в тюрьме, в мире, полном грязного, тупого самодовольства, она рвется на борьбу с темными силами, мешающими свежим, зеленым росткам новой жизни купаться в лучах и теплом весеннем воздухе. И, читая эти певучие, жалобные строки, где горе, смех и слезы мешались и искрились, как дорогое вино, Брон вспоминал прошлое, розовые мечты и неподдельную, строгую к себе и другим отвагу юности.
VI
В один из четвергов, когда за дверью камеры, где-то глубоко внизу, гремели голоса и шаги надзирателей, Брон, получив свой пакет, вынул оттуда только один апельсин, огромный, кроваво-красный. Вытащив из него записку, он сел и прочитал:
«Дорогой Брон! Вам, в самом деле, должно быть ужасно скучно. Поэтому не сердитесь на меня за то, что я вчера была в жандармском управлении и выхлопотала свидания с Вами под видом вашей „гражданской жены“. Трудненько было, но ничего, обошлось. Меня зовут Нина Борисова. Ничего почти не пишу Вам, ведь сегодня увидимся и наговоримся.
У меня сегодня хорошее настроение. И так тепло, весело на улице. Н.Б.»
«И так тепло, весело на улице», — подумал Брон. Прочитав записку еще раз, он с сильно бьющимся сердцем подошел к старенькому чемодану и стал вынимать чистую голубую рубаху. Но тут же внизу раздались четыре свистка, и торопливый резкий голос крикнул:
— 56-й! На свидание!
И Брон почувствовал апатию и усталость. Ему хотелось сказать, что он не пойдет на свидание. Но, когда надзиратель распахнул дверь и, быстро окинув камеру привычным взглядом, сказал: «Пожалуйте!», Брон заторопился, суетливо пригладил волосы, выпрямился и вышел.
Внизу, в длинном, чисто выметенном коридоре гремели крики надзирателей, звон ключей, кипела суетливая беготня, как всегда в дни свиданий. «Зальный» надзиратель, толстый, усатый человек с медалями, увидя Брона, поспешно спросил:
— На свидание? В конец пожалуйте, в камеру направо!
Брон пошел в конец длинного коридора, ступая той быстрой, легкой походкой, какой ходят люди, долго сидевшие без движения. Другой надзиратель, гладко причесанный, печальный человек, ввел его в пустую камеру, заново выкрашенную серой масляной краской, и вышел, притворив дверь. Прошло несколько томительных минут, которые Брон старался сократить курением, не в силах будучи побороть чувство стеснения, неловкости и ожидания. Наконец дверь быстро распахнулась, и тот же надзиратель равнодушно произнес:
— Пожалуйте сюда!
У Брона сильно забилось сердце, и через два шага его ввели в другую камеру, где стоял небольшой столик, покрытый газетной бумагой, а у столика сидел жандармский ротмистр, молодой человек с сытым, бледным лицом и сильно развитой нижней челюстью. Брон вошел и неловко остановился среди камеры. Маленькие глаза ротмистра скучающе скользнули по нем, и Брону показалось, что ротмистр подавил усмешку. Брон вспыхнул и повернулся к двери.
VII
В камеру, слегка переваливаясь, вошла толстенькая, скромно одетая, некрасивая девушка с розовыми щеками и светлыми, растерянными глазками, которые слегка расширились, остановившись на Броне. Брон шагнул к ней навстречу и усиленно-крепко пожал протянутую ему руку.
— Ну, вот… здравствуйте! — сказал он, кашлянув. — Ну, как здоровы? — поспешил он добавить, чувствуя, что предательски краснеет.
— Прошу сесть, господа! — раздался скрипучий голос ротмистра, и Брон послушно засуетился, опускаясь на стул и не отводя глаз от лица посетительницы. Она тоже села, а на столе между ними протянулись пухлые, белые руки ротмистра. Прошло несколько секунд, в течение которых Брон тщетно, с отчаянием придумывал тему для разговора. Мысли его вертелись с ужасающей быстротой, и одна из них била его по нервам:
«Я сижу тупо, как дурак! — Как дурак! — Как дурак!»
— Ну, говорите же что-нибудь, — тихо сказала девушка и виновато улыбнулась. Голос у нее был слабый, грудной. — Ужасно это, как мало дают свидания. Пять минут… Вон в предварилке, говорят, больше…
— Да, там больше, — согласился Брон значительным тоном. — Там десять минут дают…
И он опять умолк, прислушиваясь к себе и желая, чтобы пять минут уже кончились.
— Я очень торопилась сюда, — продолжала девушка. — Мне надо еще поспеть в одно место… А здесь ждала — час… или нет? Полтора часа…
— Спасибо, что пришли, — сказал Брон деревянным голосом. — Очень скучно сидеть… — «Что же это я жалуюсь?» — внутренно нахмурился он. — А вы… как?
— Я? — рассеянно протянула девушка. — Да все так же…
Они еще немного помолчали, поглядывая друг на друга. И обоим почему-то было грустно. Ротмистр подавил зевок, побарабанил пальцами по столу и, с треском открыв огромные часы, сказал, поднимаясь:
— Свидание кончено… Кончайте, господа!..
Брон и Борисова поднялись и снова улыбнулись растерянно и жалко, мучаясь собственной неловкостью и чужой, враждебной атмосферой, окружавшей их. Девушка пошла к дверям, но на пороге еще раз обернулась и торопливо бросила:
— Я приду в четверг… А вы не скучайте.
Она думала, быть может, встретить другого, закаленного человека, сильного и гордого, как его письма, с резкими движениями и мягким взором… Все может быть. Может быть и то, что, выходя на улицу, она бросила длинный взгляд на мрачный фасад тюрьмы, схоронивший за железными прутьями столько прекрасных душ… Может быть также… — Все может быть.
Брон медленно поднимался по лестнице к «своему» коридору и «своей» камере. Ему было тяжело и неловко, как человеку, уличенному в дурном поступке, хотя он и сам не знал — отчего это… И он думал о странностях человеческой жизни, о тайных извилинах души, где рождаются и гаснут желания, — двуликие, как и все в мире, смутные и ясные, сильные и слабые. И жаль было этих прекрасных цветов, пасынков жизни, обвеянных поэтической грезой, живущих и умирающих, как мотыльки, неизвестно зачем, почему и для кого…
Войдя в камеру, Брон подошел к окну, вздохнул и стал смотреть на блестящие краски весеннего дня, цветным покровом обнимающие пространство. Синела река, звонкий, возбуждающий гул уличной жизни пел и переливался каскадом. И новая морщина легла в душе Брона…
На досуге
Начальник еще не приходил в контору. Это было на руку писарю и старшему надзирателю. Человек не рожден для труда. Труд, даже для пользы государственной — проклятие, и больше ничего. Иначе бог не пожелал бы Адаму, в виде прощального напутствия, «есть хлеб в поте лица своего».
Мысль эта кстати напомнила разомлевшему писарю, что стоит невыносимая жара и что его красное, телячье лицо с оттопыренными ушами обливается потом. Задумчиво вытащил он платок и меланхолично утерся. Право, не стоит ради тридцатирублевого жалованья приходить так рано. Годы его — молодые, кипучие… Сидеть и переписывать цифры, да возиться с арестантскими билетами — такое скучное занятие. То ли дело — вечер. На бульваре вспыхивают разноцветные огни. Аппетитно звякают тарелки в буфете и гуляют барышни. Разные барышни. В платочках и шляпах, толстые, тонкие, низенькие, высокие, на выбор. Писарь идет, крутит ус, дергает задом и поигрывает тросточкой.
— Пардон, мадмуазель! Молоденькие, а в одиночестве… И не скучно-с?..
— Хи, хи! Что это, право, за наказание!.. Такие кавалеры, а пристаете!..
— А вы, барышня, не чопуритесь!.. Так приятно в вечер майский с вами под руку гулять!.. И так приятно чай китайский с милой сердцу распивать-с!..
— Хи, хи!..
— Хе-хе!..
Легкие писарские мысли нарушены зевотой надзирателя, старой тюремной крысы, с седыми торчащими усами и красными, слезящимися глазками. Он зевает так, как будто хочет проглотить всех мух, летающих в комнате. Наконец, беззубый рот его закрывается и он бормочет:
— А уголь-то не везут… Выходит, что к подрядчику идти надо…
С подрядчиком у него кой-какие сделки, на почве безгрешных доходов. Вот еще дрова — тоже статья доходная. На арестантской крупе да картошке не разжиреешь. Нет, нет — да и «волынка», бунт. Не хотят, бестии, «экономную» пищу есть. Так что с перерывами — подкормишь, да и опять в карман. Беспокойно. То ли дело — дрова, керосин, уголь… Святое, можно сказать, занятие…
Часы бьют десять. Жар усиливается. В решетчатых окнах недвижно стынут тополи, залитые жарким блеском. Кругом — шкафы, книги с ярлыками, старые кандалы в углу. Муха беспомощно барахтается в чернилах. Тишина.
Сонно цепенеет писарь, развалившись на стуле, и разевает рот, изнемогая от жары. Надзиратель стоит, расставив ноги, шевелит усами и мысленно усчитывает лампадное масло. Тишина, скука; оба зевают, крестят рты, говорят: «фу, черт!» — и зевают снова.
На крыльце — быстрые, мерные шаги; тень, мелькнувшая за окном. Медленно открывается дверь, визжа блоком. Тщедушная фигура рассыльного с черным портфелем и разносной книгой водворяется в канцелярию и обнажает вспотевшую голову.
— От товарища прокурора… Письма политическим…
Тишина нарушена. Радостное оживление оскаливает белые, лошадиные зубы писаря. Перо бойко и игриво расчеркивается в книге, и снова хлопает визжащая дверь. На столе — небольшая кучка писем, открыток, измазанных штемпелями. Писарь роется в них, подносит к глазам, шевелит губами и откладывает в сторону.
— Вот-с! — торжествующе восклицает он, небрежно, как бы случайно подымая двумя пальцами большой, синий конверт. — Вот-с, вы, Иван Палыч, говорили, что отец Абрамсону не напишет! Я уж его почерк сразу узнал!..
— Что-то невдомек мне, — лениво зевает надзиратель, шевеля усами: — что он писал у в прошедший раз?..
— Что писал! — громко продолжает писарь, вытаскивая письмо. — А то писал, что ты, так сказать — более мне не сын. Я, говорит, идеи твои считаю одной фантазией… И потому, говорит, более от меня писем не жди…
— Что ж, — меланхолично резонирует «старший», подсаживаясь к столу. — Когда этакое супротивление со стороны своего дитя… Забыв бога, к примеру, царя…
— Иван Павлыч! — радостно взвизгивает писарь, хватая надзирателя за рукав. — От невесты Козловскому письмо!.. Ну, интересно же пишут, господи боже мой!..
— Значит — на прогулку сегодня не пойдет, — щурится Иван Павлыч. — Он этак всегда. Я в глазок[18] сматривал. Долго письма читает…
Писарь торопливо, с жадным любопытством в глазах, пробегает открытку, мелко исписанную нервным, женским почерком. На открытке — заграничный вид, лесистые горы, мостики, водопад.
— В глазок сматривал, — продолжает Иван Павлыч и щурится, ехидно усмехаясь, отчего вваливается его беззубый, черный рот и прыгает жиденькая, козлиная бородка. — Когда плачет, когда смеется. Потом прячет, чтобы, тово, при обыске не отобрали… Свернет это мелконько в трубочку — да и в сапог… Смехи!.. Потом, значит, зачнет ходить и все мечтает… А я тут ключами — трах!.. — «На прогулку!» — «Я, говорит, сегодня не пойду»… — «Как, говорю, не пойдете? По инструкции, говорю, вы обязаны положенное отгулять!» — Раскричится, дрожит… Сме-ехи!..
— «Ми-лый… м… мой. Пе… тя…» — торжественно читает писарь, стараясь придать голосу натуральное, смешливое выражение. — Про-сти-что-дол-го-не-пи-са-ла-те-бе. Ма-ма-бы-ла-боль-на-и…
Писарь кашляет и подмигивает надзирателю.
— Мама-то с усами была! Знаем мы! — говорит он, и оба хохочут. Чтение продолжается.
— …бу-ду-те-бя-жда-ать… те-бя-сош-лют-в-Сибирь… Там-уви-дим-ся… При-е-хать-же-мне, сам знаешь, — нель-зя…
— Врет! — категорически решает Иван Павлыч. — Что ей в этом мозгляке? Худой, как таракан… Я карточку ейную видел в Козловского камере… Красивая!.. Разве без мужика баба обойдется? Врет! Просто туману в глаза пущает, чтобы не тревожил письмами…
— Само собой! — кивает писарь. — Я вот тоже думаю: у них это там — идеи, фантазии всякие… А о кроватке-то, поди — нет, нет — да и вспомнят!..
— Что барская кость, — говорит внушительно Иван Павлыч, — что мещанская кость, — что крестьянская кость. Все едино. Одного, значит, положения природа требует…
— Жди его! — негодующе восклицает писарь. — Да он до Сибири на что годен будет! Измочалится совсем! Будет не мужчина, а… тьфу! Ей тоже хочется, небось, ха, ха, ха!..
— Хе-хе-хе!.. Любовь, значит, такое дело… Бе-е-ды!..
— Вот! — писарь подымает палец. — Написано: «здесь мно-го-инте-рес-ных-людей»… Видите? Так оно и выходит: ты здесь, милочек мой, посиди, а я там хвостом подмахну!.. Ха-ха!..
— Хе-хе-хе!..
— Какая панорама! — говорит писарь, рассматривая швейцарский вид. — Разные виды!..
— Тьфу!.. — Надзиратель вскакивает и вдруг с ожесточением плюет. — Чем люди занимаются! Романы разводят!.. Амуры разные, сволочь жидовская, подпускают… А ты за них отвечай, тревожься… Па-а-литика!..
Он пренебрежительно щурит глаза и взволнованно шевелит усами. Потом снова садится и говорит:
— А только этот Козловский не стоит, чтобы ему письма давать… Супротивнее всех… Позавчера: «Кончайте прогулку», — говорю, время уж загонять было. — «Еще, говорит, полчаса и не прошло!» — Крик, шум поднял… Начальник выбежал… А что, — меняет тон Иван Павлыч и сладко, ехидно улыбается, — ждет письма-то?
Писарь подымает брови.
— Не ждет, а сохнет! — веско говорит он. — Каждый день шляется в контору — нет ли чего, не послали ли на просмотр к прокурору…
— Так вы уж, будьте добры, не давайте ему, а? Потому что не заслужил, ей-богу!.. Ведь я что… разве по злобе? А только что нет в человеке никакого уважения…
Писарь с минуту думает, зажав нос двумя пальцами и крепко зажмурившись.
— Чего ж? — роняет он, наконец, небрежно, но решительно. — Мо-ожно… Картинку себе возьму…
В камере палит зной. В решетчатом переплете ослепительно сверкает голубое, бесстыжее небо.
Человек ходит по камере и, подолгу останавливаясь у окна, с тоской глядит на далекие, фиолетовые горы, на голубую, морскую зыбь, где растопленный, золотистый воздух баюкает огромные, молочные облака.
Губы его шепчут:
— Катя, милая, где ты, где? Пиши мне, пиши же, пиши!..
Кирпич и музыка
I
Звали его — Евстигней, и весь он был такой же растрепанный, как имя, которое носил: кудластый, черный и злой. Кудласт и грязен он был оттого, что причесывался и умывался крайне редко, больше по воскресеньям; когда же парни дразнили его «галахом» и «зимогором», он лениво объяснял им, что «медведь не умывается и так живет». Уверенность в том, что медведь может жить, не умываясь, в связи с тучами сажи и копоти, покрывавшей его во время работы у доменных печей, приводила к тому, что Евстигнея узнавали уже издали, за полверсты, вследствие оригинальной, но мрачной окраски физиономии. Определить, где кончались его волоса и где начинался картуз, едва ли бы мог он сам: то и другое было одинаково пропитано сажей, пылью и салом.
Себя он считал добрым, хотя мнение татар, катавших руду на вагонетках и живших с ним вместе в дымной, бревенчатой казарме, было на этот счет другое. Скуластые уфимские «князья», голодом и неурожаем брошенные на заработки в уральский лес, всегда враждебно смотрели на Евстигнея и всячески препятствовали ему варить свинину на одной с ними плите, где, в жестяных котелках, пенился и кипел неизменный татарский «махан»[19]. Это, впрочем, не мешало Евстигнею регулярно каждый день ставить на огонь котелок с варевом, запрещенным кораном. Татары морщились и ругались, но хладнокровие, в трезвом виде, редко изменяло Евстигнею.
— Кончал твоя башка, Стигней! — говорили ему. — Пропадешь, как собака!
Евстигней обыкновенно молчал и курил, сильно затягиваясь. Татарин, ворчавший на него, садился на нары, болтал ногами и улыбался тяжелой, нехорошей улыбкой.
— Зачем так делил? — снова начинал противник Евстигнея, часто и хрипло дыша. — Мой закон такой, — твой закон другой… Чего хочешь?
Евстигней мешал в котелке и, наконец, говорил:
— Жрать я хочу, знаком, и боле никаких… Вопрос: кто ты? Ответ: арбуз. А это ты, знаком, слыхал: Алла муллу чигирит в углу?
— Анна секим! — вскрикивал татарин. Потом ругался русской и татарской бранью, плевался и уходил. Евстигней доканчивал варку, садился на нары, поджав ноги по-татарски, и долго, жадно ел горячее, жирное мясо. Потом сморкался в рукав и шел к домне.
Впрочем, он и сам не знал — зол он или добр. По воскресеньям, пьяный, сидя в трактире среди знакомых хищников и «зимогоров», он громко икал, обливаясь водкой, нелепо таращил брови и говорил:
— Я — добер! Я — стр-расть добер! В сопатку, к примеру сказать, я тебя не вдарю — ты не можешь стерпеть… Другие, которые пером (нож) обходятся… Этого я дозволить, опять же, не могу… Если ты могишь совладать — завсегда в душу норови, пока хрип даст…
Пьяный, к вечеру он делался страшен, бил посуду, бил кулаками по столу, кричал и дрался. Его били, и он бил, захлебываясь, долго и грузно опуская огромные жилистые кулаки в тело противника. Когда тот «давал хрип», то есть попросту делался полумертвой, окровавленной массой, Евстигней подымался и хохотал, а потом снова пил и кричал диким, нелепым голосом.
Ночью, когда все затихало, и в спертом, клейком воздухе казармы прели вонючие портянки и лапти; когда смутные, больные звуки стонали в закопченных бревенчатых стенах, рожденные грудами тел, разбитых сном и усталостью, Евстигней вскакивал, ругался, быстро-быстро бормоча что-то, затем бессильно опускал голову, скреб волосы руками и снова валился на твердые, гладкие доски. А когда приходил час ночной смены и его будили сонные, торопливые руки рабочих, — подымался, долго чесал за пазухой и шел, огромный, дремлющий, туда, где дышали пламенем бессонные, черные печи, похожие на сказочных драконов, увязших в сырой, плотной земле.
II
Наступал праздник; двунадесятый или просто воскресный день. Евстигней просыпался, брал железный ковш, шел на двор, черпал воду из водосточной кадки и, плеснув изо рта на ладонь, осторожно размазывал грязь на лице, всегда оставляя сухими черную шею и уши. И тогда можно было разглядеть, что он молод, крепок и смугл, хотя его широкому, каменному лицу с одинаковой вероятностью хотелось дать и двадцать и тридцать лет. Потом надевал городской, обшмыганный пиджак, тяжелые, «приисковские» сапоги с подковами и шел, по его собственному удачному выражению — «гулять».
«Гулянье» происходило всегда очень нехитро, скучно и заключалось в следующем: Евстигней садился на крыльце трактира, рядом с каким-нибудь мужиком, молчаливо грызущим семечки, и начинал ругаться со всеми, кто только шел мимо. Шла баба — он ругался; шли парни — он задевал их, смеясь их ругательствам, и ругался сам, лениво, назойливо. Он был силен и зол, и его боялись, а пьяного, поймав где-нибудь на свалке, — молча и сосредоточенно били. И он бил, а однажды проломил доской голову забойщику с соседнего прииска; забойщик умер через месяц, выругав перед смертью Евстигнея.
— Стой, ядреная, стой! — кричал Евстигней с крыльца какой-нибудь молоденькой, востроглазой бабенке в ярком цветном платке. — Стой! Куда прешь!
— Вот пса посадили, слава те господи! — отвечала, вздыхая, баба. — Хошь вино-то цело будет… Лай, лай, собачья утроба!..
— Куда те прет? — кричал Евстигней. — В зоб-то позвони, эй! слышь? Зобари проклятые…
— Лай, лай, — дам хлеба каравай! — отругивалась баба, оборачиваясь на ходу. — Зимогор паршивый! Галах!
— Валял я тебя с сосны, за три версты, — хохотал Евстигней. — Зоб-то подыми!..
Мужик, грызший семечки, или одобрительно ухмылялся даровому представлению, или говорил сонным, изнемогающим голосом:
— Охальник ты, пра… Мотри — парни те вышибут дно.
— Ого-го! — Евстигней тряс кулаком. — Утопнут!..
Если в поле его зрения появлялась заводская молодежь, одетая по-праздничному, с гармониями в руках — он набирал воздуха, тужился и начинал петь умышленно гнусавым, пискливым голосом:
Ма-а-мынька-а р-роди-мая-а, Свишша-а неу-гасимая-а!.. Когда-а свишша-а по-га-сы-нет, Тог-да д'милка при-ла-сы-не-ет!..И кричал:
— Чалдон! Сопли где оставил?
Парни угрюмо, молча проходили, продолжая играть. И только на повороте улицы кто-нибудь из них оборачивался и, заломив шапку, говорил спокойным, зловещим голосом:
— Ладно!
Улица пустела, солнце подымалось выше и нестерпимо жгло, а Евстигней сидел и смотрел вокруг злыми, скучающими глазами. Затем подымался, шел в трактир и, долго сидя в сумрачной, отдающей спиртом прохладе свежеобтесанных стен, пил водку, курил и бушевал.
III
Был вечер, и было тихо, жарко, и душно.
Багровый сумрак покрыл горы. Они таяли, тускнея вдали серо-зелеными, пышными волнами, как огромные шапки невидимых, подземных великанов. На дворе, где стояла казарма, сидели татары и громко, пронзительно пели резкими, гортанными голосами. Увлекшись и краснея от напряжения, смотря и ничего не видя, они вздрагивали, надрываясь, и в вопле их, монотонном, как скрип колеса, слышалось ржание табунов, шум степного ветра и неприятный верблюжий крик.
Поужинав, сытый и уже слегка пьяный, Евстигней вышел на двор, долго, неподвижно слушал дикие, жалобные звуки, и затем осторожно ступая босыми ногами в колючей, холодной от росы траве, подошел к поющим. Те мельком взглянули на него, продолжая петь все громче, быстрее и жалобнее. Евстигней цыркнул слюной в сторону и сказал:
— Корова вот тоже поет. Слышь, князь? — Молодой татарин, бледный, с добродушным выражением черных, глубоко запавших глаз, обернулся, улыбнулся Евстигнею бессознательной, мгновенной улыбкой и снова взвыл тонким жалобным воплем. Евстигней сел на траву и закричал:
— Эй, вей-вей-ве-е! И-ий-вае-вае-у-у! Что вы кишки тянете из человека? Эй?!.
Пение неохотно оборвалось, и татары взглянули на неприятеля молчаливо злыми, сосредоточенными глазами. Прошло несколько мгновений, как будто они колебались: рассердиться ли на этого чужого, мешающего им человека или обратить в шутку его слова. Наконец один из них, пожилой, толстый, с коричневым лицом и черной тюбетейкой на голове, громко сказал:
— Ступай себе — чего хочешь? Не любишь — сам пой. Добром говорю.
— Христом богом прошу! — не унимался Евстигней, оскаливая зубы и притворно кланяясь. — Живот разболелся, как от махана. Одна была у волка песня — и ту…
Он не договорил, потому что вдруг встал маленький, молодой, почти еще совсем мальчик и близко в упор подошел к Евстигнею. Татарин тяжело дышал и закрывал глаза, а когда открывал их, лицо его пестрело красными и бледными пятнами. Он шумно вздохнул и сказал:
— Стигней, моя терпел! Месяц терпел, два терпел! Ступай!..
Остальные молчали и враждебно, с холодным любопытством ожидали исхода столкновения. Евстигней вскочил, как ошпаренный, и выругался:
— Анан секим! Ты што, — бритая посуда?!
— Слушай, Стигней! — продолжал татарин гортанным, вздрагивающим голосом и побледнел еще больше. Глаза его сузились, под скулами выступили желваки. — Слушай, Стигней: я терпел, мольчал, долга мольчал… Ты знай: богом тебя клянусь, — пусть я помирал, как собака… Пусть я матери своей не увижу — если я тебя тут на месте не кончал… Слыхал? Ступай, Стигней, уходи…
Узкий, острый нож блеснул в его руках, и глаза вспыхнули спокойной, беспощадной жестокостью. Евстигней смотрел на него, соображал — и вдруг почувствовал, как быстро упало, а потом бешено заколотилось сердце, выгнав на лицо мелкий, холодный пот. Он осунулся и тихо, оглядываясь, отошел. Татарин, весь дрожа, сел в кружок, и снова скрипучий, тоскливый мотив запрыгал в тишине вечера.
IV
Евстигней вышел со двора и часто, тяжело отдуваясь, обогнул забор, где за казармой чернел густой таинственный лес. Злоба и испуг еще чередовались в нем, но он скоро успокоился и, шагая по тропинке среди частого мелкого кедровника, думал о том, какую пакость можно устроить татарину в отместку за его угрозу. Но как-то ничего не выходило и хотелось думать не об Ахметке и его ноже, а о влажном, тихом сумраке близкой ночи. Но и здесь мысли вились какие-то нескладные и сумбурные, вроде того, что вот стоит уродливое, корявое дерево, а за ним черно; или — что до получки еще далеко, а денег мало, и в долг перестали верить.
Тьма совсем уже вошла в чащу, и становилось прохладно. Со стороны завода вставал густой, дышащий шум печей, звяканье железа, бранчливые скучные выкрики. Тропа вела кверху, на подъем лесного пригорка, круто извиваясь между стволами и кустарником. Кедровая хвоя трогала Евстигнея за лицо, а он бесцельно шел, и казалось ему, что мрак, густеющий впереди, — это татарин, отступающий задом, по мере того, как он, Евстигней, грудью идет и надвигается на него. Пугливый шорох и плавный шепот вершин таяли в вышине. Небо еще сквозило вверху синими, узорными пятнами, но скоро и оно потемнело, ушло выше, а потом пропало совсем. Стало черно, сыро и холодно.
И вдруг, откуда-то и, как показалась Евстигнею, со всех сторон, упали в тишину и весело разбежались мягкие, серебряные колокольчики. Лес насторожился. Колокольчики стихли и снова перебежали в чаще мягким, переливчатым звоном. Они долго плакали, улыбаясь, а за ними вырос низкий, певучий звон и похоронил их. Снова наступило молчание, и снова заговорили звуки. Торжественно-спокойные, кроткие, они ширились, уходя в вышину и, снова возвращаясь на землю, звенели и прыгали. Опять засмеялись и заплакали милые, переливчатые колокольчики, а их обнял густой звон и так, обнявшись, они дрожали и плыли. Казалось, что разговаривают двое, мужчина и девушка, и что одна смеется и жалуется, а другой тихо и торжественно утешает.
Евстигней остановился, прислушался, подняв голову, и быстро пошел в направлении звуков, громче и ближе летевших к нему навстречу. Ради сокращения времени, он свернул с тропы и теперь грудью, напролом, шагал в гору, ломая кусты и вытянув вперед руки. Запыхавшись, мокрый от росы, он выбрался, наконец, на опушку, перевел дух и прислушался.
Это была широкая, темная поляна, и на ней, смутно белея во мраке, стоял новый, большой дом «управителя», как зовут обыкновенно управляющих на Урале. «Управителя» все считали почему-то «французом», хоть он был чисто русский, и имя носил самое русское: Иван Иваныч. Окна в доме горели, открытые настежь, и из них выбегал широкий, желтый свет, озаряя густую, темную траву и низенький, сквозной палисад. В окнах виднелась светлая, просторная внутренность помещения, мебель и фигуры людей, ходивших там. Кто-то играл на рояле, но звуки казались теперь не пугливыми и грустными, как в лесу, где они бродили затерянные, тихие, а смелыми и спокойными, как громкая, хоровая песня.
Евстигней подошел к дому и стал смотреть, облокотившись на колья палисада. Сбоку, недалеко от себя, у стены, разделявшей два окна, он видел белые, прыгающие руки тоненькой женщины в красивом, голубом платье, с высокой прической черных волос и бледным, детским лицом. Она остановилась, перевела руки в другую сторону и снова, как в лесу, засмеялись и разбежались колокольчики, прыгая из окон, а их догнал густой, певучий звон и, обнявшись, поплыл в темноту, к лесу.
— Ишь ты! — сказал Евстигней и, переступив босыми ногами, снова стал смотреть на проворные, тонкие руки женщины. Она все играла, и казалось, что от этих бегающих рук растет и ширится небо, вздыхая, колышется воздух и ближе придвинулся лес. Евстигней навалился грудью на частокол, но дерево треснуло и заскрипело, отчего звуки сразу угасли, как пламя потушенной свечи, а к окну приблизилась невысокая, тонкая фигура, ставшая загадочной и черной от темноты, висящей снаружи. Лица ее не было видно, но казалось, что оно смотрит тревожно и вопросительно. С минуту продолжалось молчание, и затем тихий, неуверенный голос спросил:
— Кто там? Тут есть кто-нибудь?
Евстигней снял шапку, мучительно покраснел и выступил в пятно света, падавшее из окна. Женщина повернула голову, и теперь было видно ее лицо, тонкое, капризное, с широко открытыми глазами.
Евстигней откашлялся и сказал:
— Так что — проходя мимо… Мы здешние, с заводу…
— Что вам? — спросила женщина громче и тревожнее. — Кто такой?.. Что нужно?
— Я с заводу, — повторил Евстигней, осклабляясь. — Проходя мимо…
— Ну, что же? — переспросила она, уже несколько тише и спокойнее. — Идите, любезный, с богом.
— Это вы — на фортупьяне? — набрался смелости Евстигней. — Очень, значит, — того… Я… проходя мимо…
Женщина пристально смотрела, с тревожным любопытством разглядывая огромную, всклокоченную фигуру, как смотрят на интересное, но противное насекомое. Потом у нее дрогнули губы, улыбнулись глаза, запрыгал подбородок и вдруг, откинув голову, она залилась звонким, неудержимым хохотом. Евстигней смотрел на нее, мигая растерянно и тупо, и неожиданно захохотал сам, радуясь неизвестно чему. От смеха заухал и насторожился мрак. Было сыро и холодно.
Она перестала смеяться, все еще вздрагивая губами, перестал смеяться и Евстигней, не сводя глаз с ее темной, тонкой фигуры. Женщина поправила волосы и сказала:
— Так, как же… Проходя мимо?
— То есть, — Евстигней развел руками, — я, значит, — шел… Слышу это…
— Ступай, любезный, — сказала женщина. — Ночью нельзя шляться…
Евстигней замолчал и переступил с ноги на ногу. Окно захлопнулось. Он постоял еще немного, разглядывая большой новый дом «француза» Ивана Иваныча, и пошел спать, а дорогой видел светлые комнаты, освещенную траву, и думал, что лучше всего будет, если он испортит татарину его новый жестяной чайник. Потом вспомнил музыку и остановился: показалось, что где-то далеко, в самой глубине леса — поет и звенит. Он прислушался, но все было темно, сыро и тихо. Слабо шурша, падали шишки, вздыхая, шумел лес.
V
Следующий день был воскресный. Когда наступало воскресенье или еще что-нибудь, Евстигней надевал сапоги, вместо лаптей, шел в село и напивался. Пьяному ему всегда было сперва ужасно приятно и весело, жизнь казалась легкой и молодцеватой, а потом делалось грустно, тошнило и хотелось или спать, или драться.
Жар спадал, но воздух был еще ярок, душен и зноен. С утра Евстигней успел побывать везде: в церкви, откуда, потолкавшись минут десять среди поддевок, плисовых штанов и красных бабьих платков, вышел, задремавший и оглушенный ладаном, у забойщиков с соседнего прииска, где шла игра в короли и шестьдесят шесть, и, наконец, в лавке, где долго разглядывал товары, купив, неизвестно зачем, фунт засохших, крашеных пряников. Скука одолевала его. Послонявшись еще по улицам и запылив добела свои тяжелые подкованные сапоги, Евстигней пошел в трактир, лениво переругиваясь по дороге с девками и заводскими парнями, сидевшими на лавочках. Он был уже достаточно пьян, но держался еще бодро и уверенно, стараясь равномерно ступать свинцовыми, непослушными ногами. Рубаха его промокла до нитки горячим клейким потом и липла к спине, раздражая тело. Пот катился и по лицу, горящему, красному, мешаясь с грязью. Добравшись до трактира, Евстигней облегченно вздохнул и отворил дверь.
Здесь было сумрачно, пахло пивом и кислой капустой. У стен за маленькими, грязными столами сидели посетители, пили, ели, целовались, стучали и быстрыми, возбужденными голосами разговаривали наперерыв, не слушая друг друга. Сизый туман колебался вверху, касаясь голов сидящих неясными зыбкими очертаниями. В углу хором, нестройно и пьяно пели «Ермака».
Евстигней остановился посредине помещения, поворачивая голову и тоскливо блуждая глазами. Сам он плохо понимал, чего ему хочется — не то сесть на пол и не двигаться, не то разговаривать, не то выпить еще так, чтобы все зашаталось и завертелось вокруг, одевая последние крохи сознания тяжелым, черным угаром. Низенький мужик в новом картузе стоял перед ним и, беспрестанно потягивая козырек, что-то говорил, сгибаясь от смеха.
— Как он-на-яво!.. — прыгали в ушах громкие, икающие слова, обращенные, по-видимому, к нему, Евстигнею. — Ты грит, сына свово куда девал? Снохач ты! А он-то, милая душа, без портов. Трусится… Ты сякая, ты такая… Не-ет! Стой! По какому праву? Где в законе указание есть?
— Го-го! — гоготал Евстигней. — Без портов? На что лучше.
— Как он-на… яво, то-ись! Пшел, хрен! Ха-ха-ха! Вот ведь что антиресно!
Низенький мужик в картузе куда-то исчез, а в стороне послышались слова: «Как он-наяво… Вот ведь!»
Черный квадратный столик, за который уселся Евстигней, был пуст. Он потребовал водки, соленых грибов, налил в пузатый граненый стаканчик и выпил. Вино обожгло грудь, захватило дыхание. Как будто стало светлее. Он налил еще и еще, медленно вытер усы и уставился в стену тяжелым, бессильным взглядом.
Кто-то сел рядом — один, другой. Евстигней что-то спрашивал, рассудительно и толково, но не зная что; ему отвечали и хлопали его по плечу. Принесли еще водки, и все качалось кругом и вздрагивало, темное, мерзкое. Вспыхнул огонь. Трактир суживался, растягивался, и тогда Евстигнею казалось, что лица сидящих перед ним где-то далеко мелькают и прыгают желтыми бледными кругами, а на кругах блестят точки-глаза. Потом стали кричать, икая и ласково переругиваясь скверной бранью, и опять Евстигней не знал, что кричат и зачем ругаются, хотя ругался сам и смеялся, когда смеялись другие. И от смеха становилось еще горче, тошнее, и все тянулось изнутри его мутными, зелеными волнами.
Крик и шум усиливался, рос, бил в голову, звенел в ушах. Пели громко, нестройно, пьяно, и все пело вокруг, плясали стены; потолок то падал вниз, то уходил вверх, и тогда качалась земля. Вдруг Евстигней приподнялся, подпер голову кулаками и с трудом огляделся вокруг. Потом открыл рот и начал кричать долгим пронзительным криком:
— У-ы-ы! У-ы-ы! У-ы-ы!
Кто-то тряс его за плечо, кто-то сказал:
— Нажрался, сопля.
— А ты — татарская морда! — заявил Евстигней, смотря в угол. — Я нажрался… а ты, гололобый арбуз, м-мать твою растак!.. — И вдруг прилив бешеной тоскливой злобы вошел в него и растерзал душу. Он встал, покачнулся и наотмашь ударил в сторону. Хрястнуло что-то мягкое, кто-то ахнул и злобно вскрикнул, чем-то тяжелым ударили сзади, и больно заныл череп. Кто-то бил его, он бил кого-то, потом земля ушла из-под ног, и тело, ноющее от ударов, поднялось и пошло, бессильное, тяжелое. Кто-то тащил его, и он кого-то тащил, упираясь и захлебываясь криком и руганью. Потом хлопнула дверь, стало сыро, темно и холодно. Ветер пахнул в лицо; застучали колеса. Евстигней медленно поднялся и тихо, шатаясь и держась за голову, пошел прочь.
VI
На воздухе дышалось легче, и хмельной угар понемногу выходил, но все еще было смутно и тяжело. Сперва ноги ступали в мягкой пыли, холодной от свежести вечера, потом зашумела трава, и густая сырость заклубилась вокруг. Жалобно пели комары, навстречу шли кусты, черные, строгие, как тишина. Евстигней все шел, изредка спотыкался, останавливался и затем снова устремлялся вперед, икая и размахивая руками. Ему было немного жутко, казалось, что вот вдруг растает земля, мрак повиснет над пропастью, и он, Евстигней, упадет туда в холодную, черную бездну, и никто, никто не услышит его крика. Иногда дерево вставало перед ним, невидимое; он обнимал его, ругался и опять двигался, кряхтя, медленным, черепашьим шагом. Ему казалось, что он забыл что-то и должен отыскать непременно сейчас, иначе придет татарин и зарежет его или прибежит низенький мужик в картузе, расскажет про снохача и ударит. Беспокойно оглядываясь вокруг, он шел в темноте и бормотал:
— С-с ножом? Я-те дам нож! Махан проклятый!
Иногда чудилось, что кто-то бегает в кустах, невидимый, мохнатый, грозный, и дышит теплым, сырым паром. Евстигней вздрагивал, торопливо вытягивал руки, останавливался, слушая смутный, далекий шорох, и снова двигался, с трудом, неловкими, пьяными движениями продирая кусты. Когда же впереди блеснул огонек и расступился лес — он удивился и прислушался: ему показалось, что где-то поет и переливается тонкий, протяжный звон. Но все молчало. Лес ронял шишки, гудел и думал.
Теперь были освещены два окна, а третье, откуда вчера Евстигнею вежливо предложили уйти — тонуло в мраке и казалось пустым, черным местом. В окнах сверкала мебель, картины, висящие на стенах, и светлые, пестрые обои. Евстигней подумал, постоял немного, и, как вчера, тихими, крадущимися шагами перешел от опушки к палисаду. Сердце ударило тяжело, звонко, и от этого зазвенела тишина, готовая крикнуть. Окно загадочно чернело, открытое настежь, а в глубине его тянулась узкая, слабая полоска света из дверей, притворенных в соседнюю комнату.
Он стоял долго, облокотившись о палисад, решительно ничего не думая, сплевывая спиртную горечь, и ему было скучно и жутко. Где-то в лесу поплыли слабые отзвуки голосов и, едва родившись, умерли. Вдруг Евстигней вздрогнул и встрепенулся: прямо из окна крикнули сердитым, раздраженным голосом:
— Кто там?!
— Эт-то я, — опомнившись, так же громко сказал Евстигней пьяными, непослушными губами. — Потому, к-как, я всеконечно пьян и не в состоянии… Предоставьте, значит, тово… Проходя мимо.
Он прислушался, грузно дыша и чувствуя, как нечто тяжелое, полное дрожи, растет внутри, готовое залить слабый отблеск хмельной мысли угаром слепой, холодной ярости. Секунды две таилось молчание, но казалось оно долгим, как ночь. И вслед за этим в глубине комнаты крикнул дрожащий от испуга женский голос; тоскливое, острое раздражение слышалось в нем:
— Коля! Да что же это такое? Тут бог знает кто шляется по ночам! Коля!
Дверь в соседнюю, блестящую полоской света комнату распахнулась. Из мрака выступили мебель, стены и неясная, тонкая фигура женщины. Евстигней крякнул, быстро нагнулся и выпрямился. Кирпич был в его руке. Он размахнулся, с силой откинувшись назад, и стекла с звоном и дребезгом брызнули во все стороны.
— Стерва! — взревел Евстигней. — Стерва! Мать твою в душу, в кости, в тряпки, в надгробное рыданье, в гробовую плиту растак, перетак!
Лес ожил и ответил: «Гау-гау-гау!»
— Стервы! — крикнул еще раз Евстигней и вдруг, согнувшись, пустился бежать. Деревья мчались ему навстречу, цепкая трава хватала за ноги, кусты плотными рядами вставали впереди. А когда совсем уже не стало сил бежать и подкосились, задрожав, ноги — сел, потом лег на холодную, мшистую траву и часто, быстро задышал, широко раскрывая рот.
— Стерва, сукина дочь! — сказал он, прислушиваясь к своему хриплому, задыхающемуся голосу. И в этом ругательстве вылилась вся злоба его, Евстигнея, против светлых, чистых комнат, музыки, красивых женщин и вообще — всего, чего у него никогда не было, нет и не будет.
Потом он уснул — пьяный и обессиленный, а когда проснулся, — было еще рано. Тело ныло и скулило от вчерашних побоев и ночного холода. Красная заря блестела в зеленую, росистую чащу. Струился пар, густой, розовый.
— Фортупьяны, — сказал Евстигней, зевая. — Вот те и фортупьяны! Стекла-то, вставишь, небось…
Стукнул дятел. Перекликались птицы. Становилось теплее. Евстигней поднялся, разминая окоченевшие члены, и пошел туда, откуда пришел: к саже, огню и устали. Его страшно томила жажда. Хотелось опохмелиться и выругаться.
Рука
I
За окнами вагона третьего класса моросил тусклый, серенький дождь, и в запотелых дребезжащих стеклах окон зелень березовых рощиц, плывущих мимо в тревожном полусвете раннего утра, казалась серой и хмурой. Струились линейки телеграфных проволок, то поднимаясь, то падая вниз медленными ритмическими взмахами. Сонный и сосредоточенный, Костров провожал взглядом их черные линии, изредка закрывая глаза и стараясь определить в это время по стуку рельсов, когда нужно взглянуть снова, так, чтобы белые чашечки изоляторов пришлись как раз против окна. После бессонной, неуютно проведенной ночи это доставляло некоторое развлечение.
Забыться он старался от самой Твери, но безуспешно. Хлопали двери, и тогда струйки ночного холода ползли за шею, раздражая, как прикосновение холодных пальцев. Или в тот момент, когда Костров начинал засыпать, шел кто-нибудь из кондукторов, задевал ноги Кострова и уходил, тяжело стуча сапогами. А за ним убегала и легкая вспугнутая дрёма.
Кроме этого, бессонное настроение, овладевшее Костровым, поддерживалось и росло в нем той смутной, тревожной боязнью не уснуть, которая с каждым звуком, с каждым движением тела усиливается все больше, пугая бессилием человеческой воли и досадным сознанием зависимости от внешних и чуждых причин. Он долго ворочался, курил, считал до ста, с раздражением замечая, что это еще более сердит и волнует его, и, наконец, решил, что уснуть в эту ночь — вещь для него немыслимая. Неизбежность, сознанная им, несколько успокоила расходившиеся нервы. Поднявшись со скамьи, он сел у окна и, глядя в холодную темноту ночи, стал курить папиросу за папиросой, тщательно отгоняя дым от женщины, лежавшей против него.
II
Когда она села в вагон, Костров не заметил. Должно быть, в то время, когда неверный, капризный сон на мгновение приникал к его изголовью, чтобы затем снова растаять в певучем стуке и ропоте вагонных колес. Она лежала, плотно укрытая шалью, в спокойном, крепком сне, милая и грациозная, как молодая кошечка. Лицо и фигура ее дышали нежной детской доверчивостью существа юного в жизни телом и духом. От сонных движений слегка растрепались темные, пушистые волосы, закрывая змейками прядей висок с прозрачной голубоватой жилкой на нем и маленькое раскрасневшееся ушко. Грудь дышала ровно и глубоко, а руки, сложенные вместе, лежали под щекой на белой кружевной наволочке высокой пышной подушки.
Костров некоторое время с завистью и уважением смотрел на человека, сумевшего так безмятежно забыться в сутолоке и неудобствах третьего класса. Папиросу он держал правой рукой, а левой настойчиво отгонял дым, ползущий мутными струйками к тонкому чистому профилю маленькой девушки, лежащей перед ним. Что она — девушка, Костров решил сразу и перестал думать об этом.
Она спала, спала крепко, но дым от папиросы мог потревожить ее и разбудить. Поэтому, не решаясь, с одной стороны, лишить себя удовольствия, а с другой — причинить неприятность юному существу, Костров, торопливо и сильно затягиваясь, дососал папиросу, потушил ее и бросил на пол.
Вагон, стремительно раскачиваясь, несся вперед, дребезжали стекла, дождь барабанил в железо крыши, но кругом, в красноватой полутьме грязного помещения, спали все, кроме Кострова. Спал толстый купец в шерстяном английском жилете и сапогах бутылками; спал, свернувшись калачиком, железнодорожный чиновник, отчего зеленые канты его тужурки казались ненужными и бесполезными украшениями; спала женщина в ситцевом платке, с корзиной под головой, спала девушка.
III
Было бы странно и сложно, если бы в городе, в шаблоне и устойчивости человеческих отношений, около спящей, незнакомой женщины очутился бодрствующий, незнакомый ей мужчина и, сидя в двух шагах расстояния, пристально смотрел в лицо спящей. Но здесь, в дороге, теплое, немного сентиментальное чувство к молодому сну девушки-полуребенка, такое естественное, несмотря на искусственно созданную близость, казалось Кострову только хорошим и нежащим. Молодой, сильный мужчина непременно воспрепятствует всему, что могло бы нарушить покой женщины, уже в силу того только, что она спит, а он нет. И сознание этого, логичное в данном положении, тоже было приятно Кострову. Тем более приятно, что девушка симпатична и привлекательна.
Он ласково усмехнулся и закинул ногу на ногу, стараясь не ударить сапогом о скамейку; отяжелевшие, полузакрытые глаза его с удовольствием отдыхали на мягких линиях маленького сонного тела, такого милого и спокойного в стремительном шуме ночного поезда. Одинокий и полусонный, Костров размечтался о том, что он женат и едет с молодой женой в далекое путешествие. Жена его — вот эта самая девушка; она тихо спит, счастливая близостью любимого человека. Пройдет минута, две; в сонных движениях раскроется ее шея, шаль будет скользить все ниже, на пол, открывая ночной свежести шею и грудь. А он подойдет и тихо, стараясь не разбудить ее, поднимет шаль и снова укутает милое спящее существо, греясь сам от заботы и нежных ласковых движений своей души. А когда она проснется, открывая сперва один, потом другой глаз, — солнечный свет ударит в них и засмеется в глазах, добрых, знающих его, верных ему.
Девушка спала, изредка шевеля губами, пухлыми и влажными, как росистые бутоны. Взгляд Кострова остановился на них, и что-то детское усмехнулось в нем, как струна, задетая веселой рукой.
Глубоко вздохнув и поджимая ноги, пассажирка выпростала одну руку из-под щеки, и она, медленно скользнув по краю скамейки, тяжело свесилась вниз. Бессознательно избегая неловкого положения, рука согнулась в локте, но усилие было слабо и, уступая тяжести, она снова упала в воздух. Так повторилось несколько раз, но сон был, очевидно, слишком крепок, чтобы девушка могла проснуться немедленно и освободить руку.
IV
Костров с жалостью следил за беспомощными, сонными движениями соседки. Пройдет минута, две, усилится чувство неловкости, и девушка проснется и, быть может, уже не заснет снова, а будет сидеть, как и он, с тяжелой, неотдохнувшей головой, хмурая и раздраженная.
Осенняя ночь бежала, цепляясь за вагоны, дрожала в окнах черным лицом и блестела таинственными, мелькающими огнями. Костров нерешительно нагнулся и тихо, бережно, ладонью приподнял руку девушки. Она была тяжела и тепла. Но когда он хотел согнуть ее и уложить на скамейку, непонятное, стыдливое чувство остановило его и выпустило руку девушки. Она могла проснуться, по-своему истолковать его услугу и, быть может — обидеться. Теплота ее — чужая теплота, он не имел права заботиться.
«В чем дело? В чем, в сущности, тут дело? — сказал себе Костров, закуривая новую папиросу и усиливаясь понять ту, несомненно существующую между ним и ею преграду, которая мешала оказать маленькую дружескую услугу сонному человеку. — Я вижу, что ей неловко так. Я хочу избавить ее от этого — прекрасно. Но почему это плохо? Почему это может вызвать недоразумение и, в худшем случае, появление обер-кондуктора? Для меня ясно одно: что сделать этого я не вправе, да и она, несомненно, не думает иначе. Но почему?»
Ответ сам просился на язык, ответ, заключавший в себе слова: «это было бы странно»… а за ними глупую и подлую логику жизни. Но Костров сознательно гнал его и думал только о данном положении. А здесь мысль загонялась в тупик и вертелась, как мельничное колесо, — на месте.
«Когда она проснется — ей-богу, спрошу… Это любопытно… Спрошу: приятно ли было бы вам, что незнакомый человек поправит какую-нибудь неловкость в вашем положении во время сна?»
Он смотрел на ее свесившуюся, со вздувшимися на кисти жилками, руку, и в душе его шевелилось прежнее желание: уложить ее удобно и прочно. Помявшись еще несколько мгновений, Костров вдруг покраснел и, чувствуя, что сердце забилось сильнее, спокойно и твердо взял в свою большую сильную руку теплые сонные пальцы девушки, положил их на подушку и слегка прикрыл шалью. И, сделав это, испуганно оглянулся; но все спали.
Теперь он уже хотел, чтобы соседка его проснулась, и с уверенностью ожидал этого. Она проснулась в ту же минуту. К лицу Кострова поднялся взгляд широко раскрытых, карих, еще не соображающих глаз. Костров нагнулся и, спокойно выдерживая взгляд, сказал:
— Сударыня, я…
— А? Что? Зачем?.. — сонно и тревожно заговорила девушка, слегка приподнимаясь и силясь понять, что хочет он от нее этот большой, серьезный человек.
Костров повторил, не торопясь, твердым голосом и стараясь вложить как можно больше искренности в свои слова:
— Сударыня, я заметил, что во время сна ваша рука приняла неудобное положение, и поправил ее… Если вы рассердитесь на меня за это — я буду глубоко опечален, потому что я хотел только сделать вам удобнее и больше ничего…
Он перевел дух.
— Вот пустяки, — сказала девушка, успокаиваясь и снова кладя голову на подушку. — Стоило вам беспокоиться… Спасибо.
Через несколько мгновений она уснула опять. Костров сидел, курил, слегка стыдясь чего-то и чувствуя себя немного мальчишкой.
Серенький рассветный дождь царапал окно, тихо струилась, подымаясь и опускаясь, телеграфная проволока. На целый день у большого, бессонного человека явилась, рожденная счастливой случайностью, маленькая вера — вера в силу искренности.
Лебедь
I
Весной, в мае месяце, старая, почерневшая мельница казалась убогой, горбатой старушонкой, безнадежно шамкающей дряхлую песню под радостный шепот зеленой, водяной молодежи: кувшинок, камышей и осок. Спокойный зеленоватый пруд медленно цедил свою ленивую воду сквозь старые челюсти, грохотал жерновами, пылил мукой, и было похоже, что старушка сердится — умаялась.
Но только зима давала ей полный, близкий к уничтожению и смерти покой. Пустынная вьюга серебрила крышу, заносила окна, оголяла цветущие берега и изо дня в день, из ночи в ночь качала, напевая тоскливый мотив, вершинами сосен, гудела и плакала. А с первым движением льда начиналось беспокойство: колыхалась расшатанная плотина, вода бурлила и буйствовала, гомонили утки и кулики, в небе мчались бурные весенние облака, и старый, монотонный, как древняя легенда, ропот мельницы будил жидкое эхо соснового перелеска.
Водяные жители, впрочем, давно привыкли к этой чужой и ненужной им воркотне колес. Птицы жили шумно и весело, далекие от всего, что не было водой, небом, зеленью камышей, любовью и пищей. Дикие курочки, зобастые дупеля, красавцы бекасы, турухтаны, кулики-перевозчики, мартышки, чайки, дикие и домашние утки — весь этот сброд от зари до зари кричал на все голоса, и радостный, весенний воздух слушал их песни, бледнея на рассвете, золотясь днем и ярко пылая огромным горном на склоне запада. Изредка, и то, бывало, преимущественно после снежных, суровых зим, — появлялись лебеди. Аристократы воды, они жили отдельно, гордой, прекрасной жизнью, строгие и задумчивые, как тишина летнего вечера. Их гнездо скрывалось в густом камыше, и сами они редко показывались на просторе, но часто, в тихую радость утренних теней, врывались и таяли звуки невидимого кларнета; это кричали лебеди. Мельник редко выходил наружу, хотя и не был колдуном, как это утверждали некоторые. Но если вечером случайно проходящий охотник замечал его жилистую, сутуловатую фигуру, с непокрытой головой, босиком и без пояса — ему непременно следовало смотреть вдаль, куда смотрит мельник: там плавали лебеди.
II
Все в жизни происходит случайно, но все цепляется одно за другое, и нет человека, который в свое время, вольно или невольно, не был бы, бессознательно для себя, причиной радости или горя других.
Сидор Иванович был лавочник. Профессия эта почтенна, но незначительна; Сидор Иванович думал наоборот. Быть купцом — почетно, лавочник меньше купца — значит…
Таков был ход его мыслей. Купечество составляло его идеал, но достигнуть этого в данное время было для него невозможно. Деньги приобретались трудно, мошенничеств не предвиделось. Сидор Иванович скучал и бил жену.
Начал он великолепно. Три года приказчиком — три года приличного воровства. Поторопился — ушел. Собственная лавка, открытая им, торговала слабо, и Сидор Иванович никогда не мог себе простить, что начал торговать не с субботы, а с пятницы.
По воскресеньям он пел на клиросе, потом, если дело было зимой, ходил в гости к другим лавочникам, где ел пирог с морковью и жаловался на плохие дела. Летом же удил рыбу.
К уженью он имел большую охоту и даже страсть. Это напоминало ему торговлю — даешь мало, а получаешь много. Насадишь червячка, да и то не целого, а поймаешь целого ерша, да еще и червяк не съеден. Совсем как в лавке: продашь сахару на три копейки, а возьмешь пять.
Ершей он облюбовал особенно и пылал к ним даже своеобразной торгашеской привязанностью: дура-рыба. Окуней не любил и по этому поводу говаривал:
— Что окунь? — Чиновник! На книжку берет, а денег не платит. Приманку изгрызет и был таков…
Когда рыба ловилась хорошо, Сидор Иванович был доволен и варил уху. Но часто, поболтав в ведерке рукой и уколов ее о жабры пойманных ершей, замечал:
— Если бы эстолько… тыщ!
Лицо его омрачалось, главным образом оттого, что тысячу на червяка не поймаешь. Он был жаден. И зол: вместе с крючком старался всегда вырвать внутренности. Рыба билась и выкатывала налившиеся кровью глаза, а он говорил:
— Тэкс!
III
На берегу валялась доска. Сидор Иванович решил пойти поискать под ней червячков, — весь запас вышел. Он положил удочку и пошел вдоль камышей.
Жар спадал, в городе смутно трезвонили чуть слышные колокола, тени вытягивались и темнели. Золотые наклоны света дрожали меж ярких сосен. Кричали утки, пахло тиной, водой и лесом. Синие и зеленые стрекозы сновали над Камышами, желтели кувшинки. Отражая темную зелень берегов, блестела вода. А под ней голубел призрак неба — оно яснело вверху.
Шагах в двадцати от берега, из кустов, закрывающих сквозную, веселую чащу перелеска, — вился сизый дымок, слышались неясные голоса. Звенела посуда, басистый смех прыгал и дрожал низом над водой. Камыши дремали. Плавные круги ширились и умирали в зеленых отблесках воды: рыба или лягушка.
Сидор Иванович подошел к доске, нагнулся, приподнял ее тяжелый, насквозь промокший конец, и сказал:
— Чай пьют. Городская шваль — девки стриженые, али попы. Попы открытый воздух обожают: с ромом.
В камышах что-то зашевелилось; Сидор Иванович выглянул и увидел в просвете береговой заросли, на маленьком твердом мыске — двух людей: черный пиджак и синяя юбка. Так определил он их. Увидел он еще и два затылка: мужской гладкий и женский — отягченный русыми волосами, но определять их не стал и услышал следующее:
— Как он тихо плавает.
— А правда: похоже на гуся?
— Сам вы гусь. Это царь, он живет один.
Сидор Иванович поднял доску и с треском бросил ее оземь. На оголенной земле закопошились белые и розовые черви.
— Кто ходит? — встрепенулась женщина.
— Кто-то зашумел.
— Медведь, — сказал черный пиджак. — Съест вас.
Лавочник обиделся и хотел выступить из-за прикрытия, но удержался, насупился и крякнул. Эти люди были ему не по душе — господишки: то есть что-то смешное, презренное и «с большим понятием» о себе. Разговор продолжался. Сидор Иванович поднял червяка и меланхолически положил его в банку из-под помады.
— Он очень симпатичный, — сказала девушка. — Его белизна — живая белизна, трепетная, красивая. Я хотела бы быть принцессой и жить в замке, где плавают лебеди — и чтобы их было много… как парусов в гавани. Лебедь, — ведь это живой символ… а чего?
— Эка дура, принцесса, — сказал про себя лавочник, — юбку подшей сперва, пигалица!
— Чего? — переспросил черный пиджак. — Счастья, конечно, гордого, чистого, нежного счастья.
— Смотрите — пьет!
— Нет — чистится!
— Где были ваши глаза?
— Смотрел на вас…
Лавочник оставил червяков. Он был заинтересован. Кто пьет? Кто чистится? Кто «симпатичный»? И все его любопытство вылилось в следующих словах:
— Над кем причитают?
Он выступил из-за камыша и осмотрелся.
IV
Пруд был так спокоен и чист, что казалось, будто плывут два лебедя; один под водой, а другой сверху, крепко прильнув белой грудью к нижнему своему двойнику. Но двойник был бледнее и призрачнее, а верхний отчетливо белел плавной округлостью снежных контуров на фоне бархатной зелени. Все его обточенное тело плавно скользило вперед, едва колыхая жидкое стекло засыпающего пруда.
Шея его лежала на спине, а голова протянулась параллельно воде, маленькая, гордая голова птицы. Он был спокоен.
— Никак лебедь прилетел! — подумал лавочник. — Вот мельник дурак, еще ружьем балуется: шкура — пять рублей!
— Я слышала, — сказала девушка, — что лебеди умирают очень поэтически. Летят кверху насколько хватает сил, поют свою последнюю песню, потом складывают крылья, падают и разбиваются.
— Да, — сказал черный пиджак, — птицы не люди. Птицы вообще любят умирать красиво… Например, зимородок: чувствуя близкую смерть, он садится на ветку над водой, и вода принимает его труп…
Сидор Иванович почувствовал раздражение: птица плавает и больше ничего. Что тут за божественные разговоры? Что они там особенного увидели? Почему это им приятно, а ему все равно? Тьфу!
Собеседники обернулись. Глаза женщины, большие и вопросительные, встретились с глазами лавочника.
— Хорошая штука! — сказал он вслух и дотронулся до картуза.
Ему не ответили. Тон его голоса был льстив и задорен. Лавочник продолжал:
— Твердая. Мочить надо. Жесткая, значит, говядина.
Опять молчание и как будто — улыбка, полная взаимного согласия; конечно, это на его счет, он человек неученый. Что ж, пусть зубки скалят. Шуры-амуры? Знаем.
Он смолк, не зная, что сказать дальше, и озлился. Птица плавает, а они болтают! Шваль городская.
— Свежо становится, — сказала девушка и резко повернулась. — Пойдемте чай пить.
И вдруг Сидор Иванович нашел нужные слова. Он приятно осклабился, зорко бегая маленькими быстрыми глазами по лицам молодых людей, прищурился и процедил, как будто про себя:
— Этого лебедя завтра пристрелить ежели. Дома ружьишко зря болтается. Эх! Знатное жаркое, дурья голова у мельника!
Он видел, как вспыхнуло лицо девушки, как насмешливо улыбнулся черный пиджак, — и вздрогнул от радости. Он ждал вопроса. Инстинкт подсказал ему, чем можно задеть людей, не пожелавших разговаривать с ним — и не ошибся. Девушка посмотрела на него так, как смотрят на кучу навоза, и спросила у него звонким, вызывающим голосом:
— Зачем же убивать?
— На предмет пуха, — кротко ответил лавочник, радостно блестя глазами. — Для удовольствия значит. Как мы, то есть охотники.
Она медленно отвернулась и прошла мимо, шурша ботинками в сочной траве. Мужчина спросил:
— Вы любитель покушать? Брюшко-то у вас того…
Сидор Иванович побагровел и задохнулся от бешенства, но было поздно; оба быстро ушли. Лавочник нагнулся, задыхаясь от волнения, и рассеянно поднял двух червяков. У противоположного берега лениво и плавно двигался лебедь.
— То есть, — начал Сидор Иванович, — птица плавает, какая невидаль, скажите, ради бога…
И вдруг ему послышалось, что эхо воды отразило упавшее из леса, обидное, сопровождаемое смехом, слово «дурак»… Он выпрямился во весь рост, приложил руку ко рту и заорал во весь простор:
— От дурака и слышу-у!
Эхо повторило звонко и грустно… ура-ка… рака… ака… шу… у!!!
Было тихо. Звенели невидимые ложечки, вечерняя прелесть стлала над водой кроткие тени. Реял сизый дымок самовара, звучал смех. И плыл лебедь.
V
Ночью Сидору Ивановичу приснилось, что он убил лебедя и съел. Убил он его, будто бы, длинной и черной стрелой, точь-в-точь такой же, какие употребляются дикарями, описанными в журнале «Вокруг Света». Раненый лебедь смотрел на него большими, человеческими глазами и дергал клювом, а он бил его по голове и приговаривал:
— Шваль! Шваль! Шваль!
Утро взглянуло сквозь ситцевые занавески и разбудило лавочника. Проснувшись, он стал припоминать вкус съеденного им во сне лебедя и машинально сплюнул: горький был. Потом вспомнил, что благодаря вчерашней случайности испортилось настроение и пропала охота удить, а был самый клев. Потом стал размышлять: застрелить лебедя или нет. И решил, что не стоит: мельник ругаться будет. А это неприятно — пруд его — не даст рыбу ловить.
Все же он не мог отказать себе в удовольствии мысленно прицелиться и выстрелить: трах! Пух, перья летят, вода краснеет… Забился… сдох. Впрочем, — что же из этого? Ну, хорошо, этого он убил. А еще их осталось сколько! Плавают себе и плавают.
И перед его еще сонными глазами проплыл, колыхаясь в зеленой воде, белый спокойный лебедь.
Сидор Иванович раздраженно сплюнул, вспомнив тех господчиков, и повернулся к жене. Она крепко спала, и в рыхлом, рябом лице ее лежала сытая скука. Он поднял одеяло и плотоядно ущипнул супругу за жирный бок.
— Эх ты… лебедь! — сказал он, проглотив сладкую судорогу. — Ну, вставай, что ли!..
Горбун
Горбун сидел неподвижно, подперев голову руками. Он был пьян, смотрел поочередно на всех неприятными, мутными глазами, покачивался и напевал, притопывая короткой, большой ногой.
Все говорили, ели и пили. Сдержанное оживление давно превратилось в светлое, грохочущее веселье, полное звона стаканов, пряных острот, сверкающего вина и румяных, смеющихся лиц. А я рассматривал в зеркале, отразившем электрический свет, — толстое, уродливое тело горбуна, сидевшего, как огромная ночная птица, между мной и хорошенькой, полной женщиной.
Лоб его был высок и бледен; серые, маленькие глаза с желтыми мешочками орбит смотрели из-под неровных бровей остро и выжидательно. Тупой, широкий подбородок, гладкие, жидкие волосы, большие, торчащие уши, длинный рот с тонкими, болезненно-саркастическими губами, редкие рыжеватые усы — все казалось отдельными, грубо собранными частями разных человеческих лиц. А под затылком, между широких, искривленных плеч, дыбился тяжелый, угловатый горб, в туго натянутом черном сукне горбатого сюртука.
Никто не знал его; напротив, он сам пригласил всех и целый час, пока мы ели и пили, — следил, подозрительно и любопытно, получил ли каждый все, что хотел. Он неутомимо предлагал кушанья и напитки, перелистывал прейскурант, звонил, объяснялся с официантами и вообще выказывал крайнюю предупредительность. А между десертом и кофе объяснил нам своим тонким, неприятным голосом, что он — купец и что фамилия его — Гарт.
Потом он как-то вдруг, неожиданно затих, насупился и замолчал. Пил он, пожалуй, даже слишком много, и это, вероятно, отуманивало его. Впрочем, с разговорами к нему почти никто не обращался, и все были даже рады, что его скрипучий, скучный голос затих.
Клодина любезничала с поэтом; села к нему на колени и, дурашливо объясняясь в любви, совершенно растрепала его темные, шелковистые волосы. Рецензент с жаром твердил беллетристу, что нынче гениальных людей нет, за исключением одного, о котором он пока что умолчит.
Беллетрист самонадеянно улыбался и тянул, как губка понте-канэ. Маленькая Нина, розовая и счастливая, блестела глазами, хлопала в ладоши и беспричинно смеялась, толкая под столом мое колено своими быстрыми, крошечными ногами. А инженер, мой хороший приятель, держал за талию смуглую фигурантку и говорил ей на ухо комплименты, от которых она щурилась и, в десятый раз краснея, принималась рассматривать на огонь канделябра желтое, густое вино.
Итак, нам было весело. Я говорю — нам, а не всем, — потому что горбун сидел по-прежнему неподвижно и тупо, без всяких признаков оживления. Но в тот момент, когда уже все начали говорить всем, никого не слушая и ни к кому, в сущности, не обращаясь, — неожиданно раздался тонкий, неприятно-настойчивый голос:
— Пес!.. Послушайте!..
— Я икнул!.. — кричит поэт, бессмысленно возбуждаясь и вскакивая. — Я ик…нул! Я — орхидея, человек с шестым чувством… я — грубо… Но, позвольте…
— Уверяю вас, что я всецело пас!.. — жалобно стонал беллетрист. — Чувства мои неизменны, н-но я-пас!..
— Вы мне хотите подражать?! Но это немыслимо, уверяю вас! Ха-ха-ха-ха-ха! Я — неподражаема!
— Бирь-бирь-бирь-бирь-бирь-бирь-бом-бом!..
— Обожаемая!..
— Послушайте!.. — сказал горбун, вытягивая на стол длинные угловатые руки. — Послушайте!
На этот раз его услышали. Шум оборвался, и в глазах всех застыли натянутые, пьяные, вежливые улыбки. Мы слушали.
— Хорошо, — продолжал горбун, закрывая глаза и вздрагивая. — Хорошо! Я благодарю вас. Такие талантливые молодые люди… и, — он сделал рукой неопределенный жест, — такие прекрасные женщины… Но… — горбун открыл глаза и обвел всех неистовым, вздрагивающим взглядом, — но все к месту… Все должно быть на своем месте… И денег у Гарта уже больше нет… И уже поздно… Я благодарю вас, благодарю вас, чрезвычайно благодарю вас, господа молодые люди!.. Хи-хи!.. Довольно галдеть! Я плачу… плачу за всех, я!
Он качнул головой и, откинувшись назад так, что горб его туго уперся в плетеную спинку кресла, полез в карман за деньгами.
Мы все были так огорошены, что первое время царило только глубокое, недоумевающее молчание. Он был пьян, это несомненно. Однако необходимость проучить зазнавшегося горбуна стала слишком очевидной. Инженер выпрямился и спросил высоким, ненатуральным голосом:
— Это как? Шутка?..
— Шутка?! О, конечно, шутка! — сказал Гарт, шумно дыша и стараясь смотреть инженеру прямо в глаза. — Не сомневайтесь, молодой человек… Шутка-с!..
Лицо его побледнело, и мелкие, блестящие капли пота выступили на лбу. Жалкая, нахальная улыбка растягивала углы губ, и нервно вздрагивал широкий, тупой подбородок.
— Я плачу сам! — грубо сказал рецензент, закручивая усы. — Вы пьяны! Вот! А я плачу сам!
— Нет-с! — настойчиво возразил горбун, кладя на стол портмоне. — Вы нищий. Вы не платите. Плачу я.
— Черт побери! — заревел поэт, вскакивая и разминая плечи. — Вы что тут ломаетесь, господин добрейший? А?
— Я добрейший господин. Хорошо. Я плачу.
Все его тело начинала бить мелкая, лихорадочная дрожь. Зубы стучали, и колени смешно подпрыгивали рядом, одно с другим.
— Если вы скандалить хотите… — грозно протянул беллетрист, пуская клубы дыма прямо в нос горбуну, — если так, то не советую! Смиритесь, милейший Гарт, смиритесь, едят вас мухи с комарами! Слышите?
— Да! — с жадной радостью подхватил горбун. — Меня едят мухи с комарами, но я плачу!.. За вас! Я плачу за весь этот сброд! Да!..
— Ах ты, горбун несчастный! — с негодованием вскричала Клодина, бледнея от гнева. — Мы — сброд?! Вы это слышите, господа? Ах ты, уродина!
— Мой миленький горбунок! — фыркнула Нина. — Деточка ты моя большелобая!
— Горбунок! Конек-горбунок! Ха-ха-ха! — расхохотался поэт. — И с чего это он? А?
Я посмотрел на горбуна и невольно вздрогнул.
Он тяжело встал, хрипло засмеялся, оскалив крупные, белые зубы, хотел сказать что-то и не мог. Грузный, уродливый, взъерошенный и пьяный, он производил гнетущее, скверное впечатление. На красных пальцах его блестели крупные брильянты, манишка выбилась и топорщилась впереди, как горб, галстук сбился на сторону. Он набирал воздуха, задыхался, взматывал большой, круглой головой, бледнел, краснел. Вдруг тонкий, визгливый, истерически-звонкий голос ворвался в наши уши целым градом торопливых, сбивчивых и озлобленных, страстных слов.
Первое время все с напряженным недоумением, с кривыми улыбками смотрели друг на друга, не зная, что думать и что делать, до такой степени были сумбурны и непонятны слова горбуна. И только через минуту, не раньше, когда уши привыкли к скрипучему, тонкому крику, клочьями визга и стона сверлившему мозг, — мы начали разбирать, в чем дело. И тут нервный, судорожный хохоток загорелся в моей груди — так было нелепо и до нелепости жалко то, что кричал пьяный, обезумевший Гарт.
— Или вы хотите уверить меня, что я не сказал вам дерзость? Разве я пьян?.. И что вам весело?.. А разве я не плюнул словами в ваши красивые, пьяные, глупые хари?! И все-таки весело? И смешно, что взбеленился горбун, и кричит, и топает? А что же вы не гоните меня? Почему не бьете меня кулаками в кривую спину?! Или боитесь? Или чувствуете мое превосходство? У вас прямые спины, но я лучше вас, да, да, веселые молодые люди!.. Я тоньше и глубже вас! Я умнее и злее вас! У меня красивые, редкие мысли! И глубокие, нежные чувства!.. Ум! Живой, острый ум!.. Душа!.. Все!.. А у вас? Прямые, голые спины, — и что же, что же еще? Я богаче вас! Я из золота, понимаете ли вы — я весь из золота!.. Горб мой из золота, и ноги, и нос, и руки!.. Я весь из цветных бумажек, хрустящих, блаженных листиков!.. А вы — видали их? Держали их? Я пошел к вам!.. Я подумал и возгордился своей мыслью — своей тонкой, богатой мыслью!.. Я сказал себе — пусть живут прямые, красивые люди!.. И нежные женщины!.. И если жизнь их лучше моей — пусть!.. Я сяду с ними, толстый, неуклюжий, неприятный!.. Я буду смеяться!.. Притворюсь, что мне весело и хорошо, что мне все равно!.. Буду угодливо смеяться, и хихикать, и ждать!.. Тогда поймут мою богатую, мою бесценную мысль!.. И поймут ожидание! И я увижу простые, открытые лица, как будто я такой же, такой же, как вы, хари!..
Белое, мокрое лицо его прыгало и горело в электрическом свете безумно, истерической судорогой. Вряд ли он сознавал, что говорит. Он был мертвецки пьян, вне сомнения. Но и мы были пьяны. От этого еще тоньше и острее сверкали наши мысли, прыгая и скрещиваясь, под словами горбуна, как стальные, гнутые шпаги.
Из большого, искривленного рта летел крик, похожий на рыдание, и стон, похожий на смех. Он вздрагивал и бороздил душный, пьяный воздух, как вспугнутый табун лошадей бороздит пышную, желтую рожь. Это кричал горбун, и весь отдельный кабинет кричал вместе с ним, безобразно и жутко.
— Подойдет ко мне и улыбнется мне, а не вам улыбнется, псы!.. Не потому, что я богат!.. Не потому, что жалко меня!.. Но поймет незлобие мое, мое «Пусть!» поймет!.. Что нет во мне злобы к вам! И сядет!.. Сядет, и заговорит, и будет мило шутить… и смотреть будет так ласково, так спокойно!.. И будет думать, что обманула меня!.. Ха!.. А я скажу ей: «Не надо!.. Я одинок — но не надо! Мне больно — но не надо!.. Пощадите меня!.. Пусть будет вам хорошо — целуйтесь, пейте, — вы поняли меня!.. И за это, за это — спасибо вам!..» Эй, вы! Я вывернул перед вами свой горб — плюньте в него!.. Пусть будет и красота, и цветы, и солнце, и гибкие, стройные члены, и любовь!.. И жизнь пусть будет, сладкая, страшная жизнь, если поняла она мое… одно слово мое поняла: «Пусть!»
И эти последние слова горбун выкрикнул с такой безумной тоской, с такой ненасытной жаждой всего, чему он говорил слезливо и бессильно: «Пусть!» — что сразу умолк сам, измученный и окаменевший. А потом сел — тусклый, неприятный, страшный, с пьяным, безобразным лицом, залитым пьяными слезами…
Я оглянулся, но никого уже не было. Все ушли постепенно, один за другим.
Чувство странной неловкости и тяжести не позволяло мне оставаться далее. Я взял шляпу и направился к выходу.
Ерошка
I
Ерошка ходил всегда в длинной рубахе без пояса и считался мужиком слабоумным, лядащим. Вихры рыжих волос, смешно торчавших из-под маленького, приплюснутого картуза, придавали его одутловатому, веснушчатому лицу выражение постоянного беспокойства и нетерпения. Глаза у него были голубые, загнанные, а бородка белесоватая и остроконечная.
Впрочем, особенно его не трогали и, если когда дразнили — то так, мимоходом, скорее по привычке, без того особенного, злобного упорства, каким отличается русский человек. Даже прозвище Ерошки было «блажной», а не «чудной». Ерошка не задумывался. Капризы его были не сложны и заключались, с одной стороны, в какой-то необыкновенно длинной и хитрой дудке, сделанной им самим; с другой — в любви к скандалам и происшествиям. Удивительно, что сам он был нрава смирного, но страшно любил смотреть всякую драку, буйство, даже грызню собак. О драках он мог говорить долго и обстоятельно, размахивая руками и захлебываясь от восторга.
— Ка-эк двинет! Ка-эк двинет, братец ты мой! — говорил он, прищелкивая языком. — Зуб выхлеснул, — добавлял он, помолчав. — Скулу всю разворотил!
Разговор переходил на другое; о драке уже забывалось, но вдруг Ерошка вставлял, снова и неожиданно:
— Себе лоб раскровянил!
На дудке он играл больше весной, забравшись куда-нибудь в огород, между кучей сухого навоза и кустом репейника. Сидел на корточках, свистел заунывно и нескладно, часто останавливаясь и прислушиваясь к тихим вечерним отголоскам, полным мирной грусти и жалобы. Бежали мальчишки, покрикивая:
— Ерошка-дергач!
Он, вероятно, не слыхал их. Случалось, что какой-нибудь, особенно назойливый парень, перегнувшись через изгородь и ухарски заломив шапку, начинал подвывать пьяным голосом, но и тогда Ерошка ограничивался одним кратким замечанием:
— Будя забор подпирать! Брысь, нечистая!
II
Хозяйство у Ерошки было маленькое, нищенское. Но когда умерла жена, один сын ушел на заработки, а другой в солдаты, Ерошка не голодал и даже изредка пьянствовал. Жила с ним еще одна девочка, сирота; ей было тринадцать лет и звали ее Пашей.
Когда Ивана брали на службу, — Ерошка плакал, ставил свечи угодникам. Более всего он был огорчен тем, что не успел женить сына и теперь оставался без работников, что было тяжело, особенно летом. Со службы Иван писал часто и слезливо, просил денег, а однажды сообщил, что произведен в унтеры и имеет две нашивки. Это было написано его собственным, ужасным почерком на открытке, изображавшей какого-то великолепного гвардейца в ярком, цветном мундире, с красными погонами и белым околышем. У гвардейца были розовые, круглые щеки. Открытку эту Иван предупредительно заклеил в конверт и послал заказным, чтобы не затерялась.
Ерошка рассматривал картинку очень долго, улыбаясь и щурясь собственным, новым мыслям. В грязной, закопченной избе появилось яркое, маленькое пятно, полное какой-то бодрой радости, знак неизвестной жизни, связанной с городом и со всеми туманными представлениями Ерошки о службе, блеске и музыке.
Ерошка был чрезвычайно доволен. Он поднес картинку к окну, рассмотрел ее на свет и вдруг, неожиданно, прослезился, растерянно мигая покрасневшими веками. Потом схватил шапку и кинулся вон из избы, к кабатчику, постоянному чтецу деревенской корреспонденции. К вечеру гвардеец был рассмотрен всей деревней, одобрен и запачкан многочисленными прикосновениями.
Картинка разбудила в Ерошке новую страсть. Часами он выпытывал у мужиков, побывавших на службе, все тонкости обмундировки и строевой службы, которые неуклюжего парня делают ловким молодцом. Быть может, он носил в сердце мечту о новом сыне, прекрасном, как Иван-царевич, в лаковых сапогах, удачливом и навсегда освободившемся от забитой деревенской жизни, с ее непосильной работой и смертельной тоской.
Он вдруг точно что-то понял и, поняв, глубоко затаил в себе. Лицо его постепенно приняло оттенок кроткого достоинства и невинного хвастовства. В минуты же одиночества он крепко и тяжело стал задумываться над тем, как живут «там», откуда приходят письма с картинками.
III
Наступила осень. В ближайшем уездном городе начались маневры, и в деревне, где жил Ерошка, остановилась на ночлег рота солдат.
Это были все плохо одетые люди, с усталыми и раздраженными лицами. В избе Ерошки ночевали четверо. Он ухаживал за ними, бормоча что-то себе под нос, тормошил девчонку, гонял ее то на погреб, то к соседям — выпросить кусок сахара для «воинов». А когда солдаты наелись и напились, и задымились махорочные цигарки, Ерошка, откашлявшись, приступил к беседе. Ухмыльнувшись и бегая глазами из угла в угол, он нерешительно произнес:
— А што, служивые… дозвольте вас эстак, примерно…
— Дозволяем, папаша! — сказал бойкий парень, с глазами навыкате. — Ежели угостить нас хочешь, то это солдатам завсегда полезно. Эй, братцы! — повернулся он к остальным, — вот хозяин нас водочкой обнести хочет. Угощаешь, что ли, старик?
— Денег нету, — забормотал Ерошка, — вот истинный бог — нетути… Я бы кавалерам с полным удовольствием… Сам пью, намедни четверть втроем вылакал, прости господи! Вот дела-то каки. А нет денег, вот поди ж ты!
— Сыновья есть? — спросил строгий унтер. — Чай, кормить бы должны.
— Сын-то служит у меня, — с гордостью заявил Ерошка. — Ундером. Когда посылаю ему, когда нет. Денег нетути.
— А где он служит? — спрашивал унтер.
— Где служит-то? Надысь, в Баке… В Баку его спровадили. У моря, бают. Другое-от сын с подрядчиками путается, на заработках… непутевый, вишь ты, слова не напишет. Да-а… Ундер, батюшка, весь, как есть, в полном облачении. Старается. А намеднись патрет прислал — ерой, право слово! Такой леший — как быдто и не похож совсем.
— А ну, покажь! — заинтересовался бойкий солдат. — Покажь!
Ерошка вспыхнул, заволновался и принялся старательно шарить за пазухой, отыскивая драгоценную картинку. Через минуту она очутилась в руках солдат, переходя от одного к другому. Ерошка сидел и молчал, выжидательно задерживая дыхание.
— Так разве это портрет? — пренебрежительно сказал унтер. — Это, братец ты мой — открытое письмо. Понял? Печатают их с разными картинками, а между протчим — и нашего брата изображают.
Ерошку взяло сомнение.
— Ой ли? — недоверчиво спросил он, скребя пятерней лохматый затылок.
— Ну, вот еще. Говорят тебе! И я такую могу купить, все одно, трешник она стоит!
— Вре?!
Солдаты зычно расхохотались.
— И чудак же ты, как я погляжу! — через силу вымолвил унтер, задыхаясь от смеха. — Кака нам корысть тебе врать?
Ерошка виновато улыбнулся и заморгал. Потом взял картинку из рук унтера и начал ее пристально разглядывать, стараясь вспомнить лицо сына, каким оно было три года назад.
Солдаты зевали, чесались и лениво перекидывались короткими фразами. В мозгу Ерошки неясно плавали отдельные человеческие черты лиц и фигур, виденных им в течение жизни, но лицо сына ускользало и не давалось ослабевшей памяти. Его не было, и как ни усиливался старик, а вспомнить сына не мог.
Сын был рыжий, — это он твердо помнил, а здесь, на картинке, молодец как будто потемнее, да и усы у него черные.
Солдаты завозились, укладываясь спать. Маленькая лампа коптила, освещая потемневшие бревна стен. Шуршали тараканы, ветер дребезжал окном. Ерошка лежал уже на полатях, свесив вниз голову, и думал.
— Вспомнил! — вдруг сказал он твердо и даже как будто с некоторым неудовольствием. — Вот она, штука-то кака! Ась?
— Чего ты? — осведомился сонный унтер, закрываясь шинелью.
— Сына вспомнил, — засмеялся Ерошка. — Теперича как живой он.
— Спи, трещотка, — огрызнулся один из воинов. — Ночь на дворе.
— Я удавиться хотел, — просто заявил Ерошка, болтая в воздухе босыми ногами. — Скушно мне это жить, братики. Ванька-то мне пишет: того нет, того нет, табаку нет, пишша плоха… А я думаю — где это врать приобык? Сам, гляди, как раздобрел, белый да румяный, что яблочко во Спасов день. Врешь, — думаю, — всего у тебя довольно, не забиждают. Жисть твоя, — думаю, — сыр да маслице. Девки тоже, чай, за ним бегают. А теперь в голову ударило: ежели эта морда не твоя, на письме-то, может, и в самом деле худой да заморенный? Я, братики, погожу давиться-то, все хоть целковый когда ни-на-есть, от меня получит. А со службы придет — беспременно удавлюсь. Потому — скушно мне стало.
Ерошка умолк, зевнул во весь рот, перекрестился и стал укладываться.
Трюм и палуба (Морские рисунки)
I
С медленным, унылым грохотом ворочались краны, торопливо стучали тачки, яростно гремели лебедки. Из дверей серых пакгаузов тянулись пестрые вереницы грузчиков. С ящиками, с бочонками на спине люди поднимались по отлогим трапам, складывали свою ношу возле огромных, четыреугольных пастей трюма и снова бежали вниз, цветные, как арлекины, и грязные, как земля. Албанское и анатолийское солнце покрыло их лица бронзовым загаром, пощадив зубы и белки глаз.
«Вега» оканчивала погрузку. Ее правильная, однообразная жизнь была известна всему городу: два рейса в месяц, один круговой и один прямой. Подчищенный и вымытый, украшенный с носа и кормы золотой резьбой, пароход этот производил впечатление туриста средней руки, окруженного грузчиками — угольными шхунами и нефтяными баркасами. Он был всем: гостиницей, буфетом, носильщиком, коммивояжером… скучный, каботажный[20] старик.
А невдалеке от него, у веселой и грязной набережной, в пыльном грохоте и звоне труда отдыхали сумрачные бродяги из Тулона и Гавра, Лондона и Ньюкэстля, Бомбея и Сингапура. Неведомое волнение тянуло к ним, как будто от грязных, стройных корпусов их летело дыхание океана и глухая музыка отдаленных бездн. Казалось, что в своем коротком плену, прикованные к стальным кольцам молов толстыми тросами, они спят, вспоминая тайны опасных странствий, бешенство тропических бурь, вулканы и рифы, цветущие острова, всю яркую роскошь тропиков, — истинно царский подарок, брошенный солнцем своей возлюбленной.
Когда розовый дым утреннего тумана гаснет над дрожащей от холода, тихой и зеленой водой, — подымаются сонные матросы и чистят плавучие гостиницы. Моют палубы, трут медные части, подкрашивают ватервейс[21]. Но бродяги спят еще в это время: они устали, и кокетство им не к лицу.
Вокруг «Веги» громоздились закопченные трубы пароходов, бесшумно выкидывая ленивый, густой дым. Из города, убегавшего вверх кольцеобразными, каменными уступами, несся шум экипажей и неопределенное звуковое содрогание жизни сотен тысяч людей.
Гавань сверкала и пела. Громадное напряжение звуков и красок, брошенное в небольшой уголок земли, как гнездо золота в расщелину кварца, утомляло, рассеивало мысли, воскрешало сказки. Эта неровная, голубая бухта с желтыми берегами и тысячами судов таила в себе жуткое, шумное очарование веками накопленных богатств, риска и опьянения, смерти и жизни.
«Вега» поглощала груз жадно и безостановочно. Бегали агенты, размахивая желтыми пачками ордеров, кричали и исчезали в складах. Взвивались стропы, охватывая двойной петлей сотни пудов, гремела цепь, грохотала лебедка; цепь натягивалась, вздрагивая под тяжестью добычи, кто-то кричал: «Майна!..»[22], и, плавно колыхаясь, груз устремлялся в глубину трюма, где уже ждали десятки рук, отцепляли стропы, тащили мешки и ящики в темные, сырые углы и складывали их там плотными возвышениями.
— Хабарда![23] — кричали турки, стремительно пробегая с тяжестью на спине.
— Вира! — надрывались внизу, в трюме, глухие, гулкие голоса.
— Изюм в Анапу, двадцать четыре места!
— Пипа двести ящиков — Новороссийск!
— Железо в Туапсе!
— АБ или АС? — черт вас побери!
— Давай живей! Давай живей! Ходи веселей!
— Не лезьте под руку, говорят вам!
— А вы не толкайтесь!
— Хабарда!
— Говорят вам, не мешайте!
— Я желаю видеть старшего помощника.
— Помощника? Вакансий нет.
— Мне нужно старшего помощника.
— А вам зачем?
— Я не ищу вакансий. Я желаю видеть его по делу.
— Станьте же в сторону.
— Хорошо.
Вахтенный матрос поправил съехавшую на затылок фуражку, обтер рукавом вспотевшее лицо и устало покосился на собеседника. Тот встал подальше от трюма и рассеянно осмотрелся.
Это был плотный, медленный в движениях человек, слегка сутулый, в парусинном пиджаке и черных матросских брюках. Вместо жилета он носил тельник с широкими синими полосами и красный кушак. Черные, коротко остриженные волосы прикрывала серая «джонка», шапка английского покроя. Лицо его казалось типичным лицом человека случая, молодца на все руки: если нужно — кок или матрос, в нужде — поденщик, при случае — угольщик, иногда — сутенер, особенно в периоды «смертельного декофта»[24], столь частого среди мелкого морского люда. Низкий лоб, серые глаза, полные угрюмой беспечности, загорелая кожа, короткий, тупой нос, редкие усы; в правом ухе маленькая золотая серьга.
Большая партия риса, сто сахарных бочек в Севастополь и машинное масло в Керчь подходили к концу. Все быстрее развертывался строп, ложась длинной петлей на раскаленные солнцем камни мола, и из трубы «Веги» повалил густой дым — разводили пары. Немногочисленные пассажиры толкались и бегали, устраивая свои пожитки на палубе и в классных каютах; сипло завыл гудок, первый сигнал отплытия.
— Эй, приятель! — сказал матрос. — Вот старший помощник!
Костлявая фигура с желчным лицом бродила на палубе, теребя узенькую бородку и щурясь от солнца. Парень неловко протискался среди ящиков и разного хлама, низко поклонился, сдернул свою джонку и просительно замигал. Круглая, стриженая голова бросилась в глаза моряку; он сморщился, точно собираясь чихнуть, и медленно процедил:
— Вакансий нет.
— Извините, — сказал парень, оглядываясь на пристань, — окажите божескую милость!
— Ну?
— Не откажите насчет проезда. За работу.
— Это бесплатно? Эй, не задерживай! — крикнул моряк кочегару, стоявшему у лебедки. — Нет!
— Никаких нет способов, господин помощник. Что будете делать? Третий месяц хожу без…
— Врешь ведь! — перебил моряк, пыхая папиросой. — Просто лодырь, а?
— Нет, я не лодырь, — спокойно возразил парень. — Я матрос.
— Куда едешь?
— В Керчь.
— Зачем?
— К матери и сестре.
— Очень ты им нужен. Нет, не могу.
— Я буду работать.
— А, черт с твоей работой! Проси в конторе.
— Три места в Батум! Осторожнее, эй! Верхом держи!
Парень оглянулся. Желтая бумажка ордера перешла из рук грузчика в руки штурмана. Юноша принял ее, сидя верхом на опрокинутой бочке.
— Что? — спросил желчный моряк.
— Стекло! посуда! — радостно объявил штурман и засмеялся. Ему было двадцать три года. Сейчас же и неизвестно почему нахмурившись, он крикнул с деловым видом: — Эй, вы, пустомели! — ходи, ходи!
Парень смотрел глазами и ушами. Лицо его сразу подобралось и вытянулось. Три больших ящика медленно выползали из-за борта по наклону деревянного щита и повисли над трюмом.
Потом глаза его стали равнодушными, а лицо печальным; казалось, жестокосердие моряка его сильно удручало. Он переступал с ноги на ногу, подвигаясь к трюму, и тихо повторил глухим, умоляющим голосом:
— Будьте такие добрые! Нет ни копейки, все…
— Отстань! — моряк досадливо передернул плечами. — Вас тут столько шляется, что хоть на балласт употребляй. Я не могу, сказано тебе это или нет?
Груз плавно колыхался в воздухе, вздрагивая и покачиваясь. Парень быстро осмотрел его: канат плотно охватывал ящики.
— Майна! — взревел турок.
Громыхнула цепь, и ящики ринулись вниз, мелькнув светлым пятном в сумрачном отверстии трюма. Через минуту из глубины долетел стук, и цепь, болтаясь, взвилась вверх, на крюке ее висел строп.
— А-ха-ха! — сказал парень, заглядывая в трюм. — Происшествие!
— Ты чего? — вскипел старший помощник. — Пошел вон!
— Шапку уронил, — растерялся проситель, нагибаясь еще ниже. — И как это я…
— Разиня! — бодро крикнул жизнерадостный штурман, смеясь глазами. — Куда смотрел?
Желчный моряк плюнул и отошел в сторону. Ему был противен этот слоняющийся бездельник, паразит гавани, живущий сегодняшним днем. Он не выносил бродяг, разъезжающих из порта в порт, пьяниц с сомнительной репутацией, людей, не умеющих держаться на судне более месяца. К тому же у него были свои заботы. Нельзя обременять людей пустяками.
— Полезем! — сказал стриженый человек, подходя к трапу. Выжидательная улыбка штурмана сопровождала его.
— Шапка тирял! — оскалился турок, подмигивая другим. — Караш малчык, шапка плохой!
— Эй! — закричали из трюма. — Шапка чья? Эй!
Парень ступил на отвесные перекладины трапа и стал опускаться, неловко перебирая руками. Внизу его ждали. Маленький, юркий матрос, растопырив на пальцах злополучную джонку, протягивал ее собственнику. Грузчики смотрели неодобрительно.
— Честь имею поднести — головка ваша, — сказал матрос. — Хорошая голова, складная!..
Кто-то, пыльный и темный, проворчал в углу:
— Не мог свое сокровище на палубе обождать!..
Парень молча надел шапку. Трюм был почти весь забит грузом, и только в середине, под самым люком, оставалась небольшая квадратная пустота. Было прохладно, слегка отдавало сыростью, мышами и сушеными фруктами. Ящики с посудой лежали на плоских, тугих мешках, каждый отдельно.
— Ну — вира[25] отсюда, приятель! — сказал матрос. — Головка при вас, айда!..
Парень занес ногу на трап и спросил:
— Много грузить?
— Четырнадцать тысяч прессованных леших, — озабоченно проговорил матрос. — Нет, немного, кажись. Местов тридцать, не более, сюда еще пойдет.
— Так, — сказал парень. — Прощайте.
— Отчаливайте. Без вакансии?
— Нет, проехать хочу.
— Ага! Черти, легче майнать!
Отвергнутый пассажир влез на палубу и пошел домой с веселым лицом. Ящики не были завалены грузом — только это и нужно было ему знать: ехать он никуда не собирался.
II
— Из тебя никогда не будет толку, Синявский. Это я тебе верно говорю, безо всякой фальши. Я, брат, знаю людей.
— Ну вот извольте видеть, — уныло пробормотал мальчик, с ненавистью косясь на добродушное, жуликоватое лицо матроса. — Чем я виноват, что тебе хочется спать? Ты жалованье получаешь, а я сам плачу за харчи девять рублей! Очень хорошо с твоей стороны!
Трое остальных сидели мрачно и выжидательно, делая вид, что поведение Синявского крайне несправедливо. Из углов кубрика[26], с узких, похожих на ящики, коек несся тяжелый храп уснувших матросов. В такт ударам винта вздрагивала лампа, подвешенная над столом, колыхая уродливые тени бодрствующих.
— Мартын, — продолжал тот же матрос тихим, оскорбленным голосом: — посмотри на него, вот, возьми его, белого арапа, морскую чучелу, одесское ракло[27]…
— Биркин! — вскричал Синявский, — не ругайся, пожалуйста!
— А то я напишу папе и маме! — вставил быстроглазый Бурак, шмыгая рябым носом. — Эх ты, граммофон!
— Ты послушай, Синявский, — дружески улещал юношу Биркин, — я тебе что скажу! Ты, брат, молодой парень, жизни морской не знаешь, ты вообще, вкратце говоря, — что? Морское недоразумение. Промеж товарищей так не делают. Ну — убудет тебя, что ли? Постоишь час — потом дрыхни хоть целый день! Вот тебе крест! Да чего там, я твою вахту завтра отстою и квит! Чего зубы скалишь? Я, брат, правильный человек! Как боцман встанет, я к нему: — Алексеич! нехай спит Синявский! — Разрази меня на месте, если ты не будешь спать до Анапы!
— Биркин, да ты ведь врешь! — тоскливо зевнул Синявский. — Кто тебе поверит, тот трех дней не проживет!
— Кто врет — я? — Биркин величественно встал, драпируясь в клеенчатый дождевик — «винцераду». — Лопни моя печенка, тресни мои глаза, убей меня гром и молния, пусть моему деду… Дурень, кому ты нужен, такой красивый — обманывать?! Это вы уж — ох! при себе оставьте! Кроме того, — Биркин прищурил глаза и чмокнул, — в Батум придем — к грузинкам сведу, по духанам пойдем чихирь пробовать, налижемся, как свиньи… Ну, айда, Синявский, айда!..
Мальчик сонно зевал, нехотя одевая брюки и мысленно проклиная Биркина со всеми его родичами. Сон был такой сладкий, мертвый сон усталости, а на палубе так сыро и холодно. Врет Биркин или нет — все равно не отвяжется, еще сделает какую-нибудь пакость. Решив, в силу этого размышления, сменить Биркина не в очередь с вахты, Синявский встал и чуть-чуть не расплакался, вспомнив домашнее житье, сладкое и беспечное. Одно из двух: или Жюль Верн наглый обманщик, или он, Синявский, еще недостаточно окреп для морских прелестей. Палуба? Брр-р!..
Биркин успокоился, снял винцераду и шлепнулся на скамью против Мартына. Лицо его выражало ребяческое удовольствие и глубокое презрение к одураченному ученику, но надо было, хотя из приличия, сделать вид, что он, Биркин, только уступает справедливости.
— Ты, Синявский, у машины сиди, там теплее. — заботливо процедил он, плеснув в эмалированную кружку чаю из чайника и торопливо глотая мутную бурду. — Да того… дождевик мой возьми, слышь?..
Синявский продолжал молча возиться у койки, набивая папиросы, напяливая блузу и вообще бессознательно стараясь побыть дольше в теплом помещении.
— Ветер тронулся, — сказал Бурак. — Тумана не будет.
— Дует, да слабо! — Мартын важевато погладил бороду, скашивая глаза на мальчика. — Синявский, живей ворочайся, увидит помощник, что вахтенного нет — Биркину попадет!
— Наплевать! — отрезал Синявский, застегивая дождевик. — Я же еще должен заботиться! Так — час, Биркин?
— Час, дорогой мой, час! — предупредительно заторопился хитрец. — Иди с богом, дитятко, иди! Ну, понимаешь, Синявский, ломает меня всего, совсем нездоров… беда!
— А ну вас к чертям! — яростно закричал ученик, подымаясь из кубрика в сырую, промозглую тьму.
Когда он ушел, четвертый матрос, смуглый и молчаливый, пристально посмотрел на Биркина и, слегка усмехаясь, почесал затылок. Биркин нахмурился, отвернулся и забарабанил в доску стола суставами пальцев. Брови его сдвинулись, он размышлял, но это продолжалось недолго.
— Мартын! — сказал он, зевая, — твоя вахта под утро?
— Агу! В четыре. Ты что кнека[28] обеспокоил? Он ведь уснет, ей богу уснет. Ляжет на пассажира и уснет.
— Не мое дело. — Биркин самодовольно рассмеялся. — Эх, жизнь!
— Что — жизнь? — отозвался Бурак. — Твоя жизнь, брат, как и наша: в четверг получка, в Одессе случка! Ну, как — сошьет тебе портной бушлат к сроку, а? Голова садовая — вбухал пятнадцать рублей на тряпку.
— Вот беда! — Биркин презрительно сощурил глаза. — Твои, что ли? Зато фасонисто, эх! Пойду козырем по бульвару — девки честь отдавать будут. Ну… и… на случай смертельного декофта тоже не худо — вещь! Пять рублей можно… за пять рублей везде продать можно.
Вечная, неутомимая зависть Биркина к воспитанникам всех мореходных классов в России была его слабостью и бичом. Завидовал он, впрочем, не возможности каждого ученика стать штурманом, помощником и даже, при счастье, — капитаном, а красивой форме — бушлату, т. е. пиджаку с золочеными якорями и пуговицами. Все жалованье этого матроса неизменно попадало в руки людей двух категорий: трактирщиков и портных. Портные шили Биркину щеголеватые брюки, жилеты с якорями на пуговицах, а сдача, после приобретения всех этих восхитительных предметов, пропивалась в компании пароходных забулдыг, с треском и дымом, с участками и скандалами.
— Вот я, — заявил Бурак, — бывал в самых критических положениях. Я держал такие декофты, что ежели иной увидит во сне, так семь раз мокрый проснется. Но боже меня сохрани продать хотя пуговицу! Напротив, — всегда почищусь, ботинки блестят, причесан скандебобром[29], хотя бы что! А никто не знает, что, может быть, вторые сутки мои зубы без всякого утешения.
— Работал? — осведомился Скуба.
— Работал! — передразнил Бурак. — Так же, как и ты! Когда знакомые пароходы стояли в Одессе, я не тужил. Я жил, как пап, у меня знакомств больше, чем у тебя волос на голове. Я пил утренний чай на «Олеге», завтракал на «Рассвете», обедал, скажем, на «Веге», чистил зубы на «Кратере», кушал вечерний чан на «Гранвиле», а спал на дубке «Аксинья». Впрочем, его недавно прихватило с черепицей под Гирлами и, так сказать, повредило челюсти.
Бурак щеголевато плюнул и снисходительно посмотрел на товарищей. Левый его глаз выражал уважение к своему таланту жить по-воробьиному, правый совсем закрылся от восторга и открылся только при словах Скубы:
— А все-таки ты дурак.
— Это почему? — мирно осведомился апостол декофта. — Как могла эта несообразная мысль прийти в твою несоразмерную голову?
— Очень просто. Ты не умный человек.
— А ты умный?
— Я, брат, вполне умный, потому что мне выпить хочется.
— Эге! Ты, Скуба, я вижу, совсем балда. Такого-то разума у меня все трюмы полны.
— Чего налить вам? Пива или вина? — насмешливо спросил Мартын. — Подходи к чайнику!
— Позвольте! — откашлялся Скуба. — Вы, Мартын, с вашей репутацией, не тревожьте свою особу. Тут дело серьезное. Есть афера.
— Верно, есть! — вполголоса подтвердил Биркин. — Десять бочек с хересом в Новоросс…
— Тссс… сс… — зашипел Мартын, облизывая губы и оглядываясь на каюту боцмана. — Чего кричать, ну? Чего шуметь! Люди спят, а ты галдишь!
Взглянув еще раз на полуотворенную дверь каюты, Мартын уперся в стол подбородком, выпятив вперед бороду, и пронзительно зашептал, сверкая исподлобья острыми, ярославскими глазами:
— Взял трубку себе. Сам видел, как старый хрен вытащил трубку из-за божницы и сунул в карман, когда спать ложился.
Три тяжелых вздоха прорезали воздух единодушно и выразительно. Медная трубка, специально приготовленная для высасывания вина из бочек, оказывалась за пределами досягаемости, и в руках заговорщиков находился только буравчик, годный, конечно, для сверления дыр, но совершенно ненужный в качестве насоса.
Молчание было тягостное и непродолжительное. Биркин встал, повел плечами, взял в рот конец ленты от шапки, пососал ее, потом выплюнул, протянул руку и шепнул, указывая на каюту:
— У боцмана штаны есть?
— Нет, — серьезно ответил Бурак. — Он в юбку наряжается, да ведь…
— Мельница ты! — укоризненно перебил Биркин. — Снял он их, или нет?
— Агу! — крякнул Мартын. — А разве…
Биркин на цыпочках шмыгнул в дверь каюты, подкрался к боцманской койке и спокойно вытащил трубку из брюк, висевших на гвоздике. Вернувшись, он увидел три багровых от прыскающего смеха физиономии и многозначительно хмыкнул.
Мартын просиял и даже загорелся от нетерпения. Скуба взглядывал поочередно на него и Бурака, мурлыкая небезызвестную песенку:
Прекрасно создан божий свет. Мы в нем набиты, как селедки. Но совершенства в мире нет — Бог создал море не из водки!— Мартын — ну? — спросил Биркин.
В тоне, каким это было сказано, заключалась масса вопросов: пить или не пить, идти всем сразу или по одному, или же нацедить в чайник и принести сюда. Эгоистический характер Мартына, однако, быстро решил все: он встал, надел шапку, молча взял трубку из рук Биркина и прошептал:
— Разве мы будем жадничать или торопиться? Как, значит, я открыл местонахождение трубки, — то пойду пососать, скажем, я. А потом по очереди.
— Возьми Бурака, — предложил Скуба. — Я знаю твою повадку: будешь целоваться с бочкой до самой гавани… если тебя за ноги не оттащить. Бурак — смотри за ним в оба — он обручи ест!
Последние слова догнали Мартына в тот момент, когда пятки его исчезали в отверстии люка. Бурак подождал немного и выскочил вслед за ним. В кубрике стало совсем тихо; спящие не шевелились, храпя и посапывая.
III
Биркин и Скуба, оставшись одни среди спящих, хлопнули друг друга по плечу и осклабились. Дело шло на лад. Тишина и мрак вполне благоприятствовали задуманному. Биркин осторожно нашарил рукой угол трюма, затем, подвигаясь дальше, коснулся железа, — это был тяжелый, висячий замок, соединяющий петли железных полос, охватывающих трюм. Скуба стоял сзади, тревожно прислушиваясь и ежеминутно вздрагивая, — дело было не шуточное. Биркин долго возился, осторожно вкладывая ключ; наконец, пружина щелкнула, освободив болт, — и матрос спешно отвернул брезент, вытаскивая одну из деревянных крышек, ближнюю к краю. Скуба подхватил ее, держа на весу. От волнения ему сделалось жарко, он тяжело и глубоко дышал, жалея, что нет водки или спирта, жидкостей, уничтожающих страх. Биркин сказал:
— Фонарь!
— Держи!
— Закрой меня моментально, без всяких следов, и вались в кубрик, на койку, слышь? Будто дрыхнешь. Я копаться не стану, обождав минут десять, открывай, я тут буду.
Биркин изогнулся, протиснулся в небольшое отверстие и, держась руками за борт трюма, отыскал ногой трап. Скуба нагнулся и услышал в темноте шорох спускающегося человека. Тогда матрос быстро поставил крышку на место, закрыл брезентом, привел болт в прежнее положение, не запирая замка, и, облегченно вздохнув, на цыпочках удалился к кубрику. Здесь постоял он несколько мгновений, прислушиваясь к доносящемуся снизу храпу спящих товарищей, потом спустился, лег на свою койку и натянул одеяло до самых ушей, возбужденный и восхищенный верным успехом.
Совершенная темнота, полное одиночество и наглухо закрытый вверху люк привели Биркина в хорошее расположение духа. Уверенно хватаясь за перекладины трапа, он скоро ощутил под ногами упругую поверхность мешков, остановился и передохнул. Вспомнив, что надо торопиться, он повертел фонарик в руках, открыл его и полез в карман за спичками. В брюках их не оказалось; Биркин поставил фонарь у ног, сунул руку за пазуху и вдруг с невероятной, лихорадочной быстротой начал шарить везде, выворачивая карманы, хлопая себя по фуражке, по груди и даже по сапогам. Очевидно, что спички были потеряны или просто забыты впопыхах. Биркину захотелось плакать. Растерявшись, с вихрем унылых, отчаянных мыслей в голове, он стоял неподвижно, с широко раскрытыми в темноте глазами, бессмысленно твердя:
— Ах, ах, ах! Господи! Господи! Господи!
Тишина угрюмо и беззвучно смеялась вокруг. Затхлый, сырой воздух трюма кружил голову. Биркин снова начал искать спички, ощупывая подкладку одежды. Иногда спичечная головка проваливается в дыру кармана. Но ничего не было. Нервный смех и тоскливый страх одолевали его. Немного овладев собой, он подумал, что стоять хуже, чем двигаться, надо предпринять что-нибудь. Идти наугад, ощупью? хотя почему бы и нет? Трюм забит почти доверху, можно ползти смело; ящики с одеждой, предмет вожделений Биркина, — большие, он найдет их руками. К тому же они лежат в самом углу, у задней стенки трюма, девять штук. Правда, неловко рыться в темноте, можно второпях забрать дюжину жилеток и ни одного пиджака. И потом, как забить их снова? Будь огонь, Биркин отыскал бы несколько штук рогож, заполнил опустошенные места и заколотил гвоздями.
Но другого выхода не было. Усилия, хитрость, риск, затраченные на это дело, были слишком значительны, чтоб возвратиться ни с чем. Уныло, одолеваемый сомнениями, матрос двинулся вперед нетвердой походкой слепого, расставив руки и спотыкаясь о мешки с мукой. Иногда ему приходилось становиться на четвереньки, чтобы переползти неожиданное препятствие в виде кипы хлопка, или предмета, закутанного в рогожи. Подвигался он инстинктивно тихо, мрак и тишина давили его. Трюм, так хорошо знакомый днем, теперь казался бесконечной, обширной пропастью, наполненной грузом.
Вскоре шершавое дерево ящиков коснулось его растопыренных пальцев. Он ожидал этого: в этом месте груз возвышался до самой палубы, во всю ширину парохода, от тимберсов до тимберсов[30]. Приходилось разбирать ящики, чтобы пролезть дальше, в пустоту. Матрос нащупал углы одного ящика, тяжелого, но маленького, отшвырнул его, прислушиваясь к мягкому шуму, нащупал и отбросил другой, и только что хотел взяться за третий, последний на своей дороге, как вдруг неожиданный толчок мысли опустил его руки. Третий ящик он увидел.
Правда, очертания углов ящика еле выступали из темноты и мгновениями таяли, убегая от напряженных глаз матроса, но все же это был свет. Ровная полумгла обнимала трюм, намечая темные груды товара и черный мрак позади Биркина. Бессильный объяснить что-нибудь, трясясь от внезапного испуга, матрос заглянул вперед, протягивая голову, как утка из камышей, и прирос к ящикам: в пяти саженях от него, на маленьком бочонке, сидел человек с внимательным, напряженным лицом, слегка бледным, но спокойным. Возле него, на углу большого деревянного ящика, мигая и трепеща, горела свечка.
Биркин потерял равновесие, упал на бок, стукнувшись головой о ящики, вскочил и бросился назад, путаясь в мешках, падая и вскакивая, с перекошенным от готового сорваться крика лицом. Дикий, остолбенелый ужас горел в нем, нелепо размахивая его руками. Темные груды протягивали к нему страшную паутину. Воздух душил его. Трап, казалось, отступал все дальше вперед, и сердце ломилось в груди, готовое лопнуть, как ракета. У самого трапа Биркин снова упал, больно ударившись лицом в мучной мешок, и почувствовал, что умирает: твердая, невидимая рука схватила его за шею; нажим ее показался Биркину стопудовой тяжестью. Он тонко вскрикнул, слезы потекли из его глаз. И кто-то сдержанно шептал возле него, отчетливо и злобно:
— Я вылезу за тобой, трусишка. А ты молчи, если не хочешь быть в остроге. Понял?
Слова эти гремели ураганом в потрясенном сознании Биркина. Он взвизгнул, как кликуша, задыхаясь от мучной пыли:
— Я… все… я не… Помилосердствуйте! Всевышний! Батюшки!..
— Лезь наверх. Ах ты, боже мой! Ну, пожалуйста, лезь скорее!
Матроса тошнило. Оглушенный, не чувствуя своего тела, не думая даже о том, открыт люк или нет, Биркин вывалился на палубу. Скуба стоял тут, дрожа от беспокойства и нетерпения.
— Молчи! — шипел Биркин, шатаясь от слабости. — Молчи! ах — молчи! Молчи!
Скуба занес руку прихлопнуть трюм — и вздрогнул: другой Биркин вылезал кверху. Растерявшись, он отступил назад; человек ступил на палубу и, мелькнув, как тень, беззвучно скрылся в тумане.
— Биркин! — сказал Скуба. — Да что там?
— Молчи! Ах, молчи! — Матрос вздрагивал от плача. — Голова моя, голова!
Он направился к кубрику, шатаясь, как пьяный. Перепуганный Скуба дрожащими пальцами закрыл трюм. Мучительная тревога охватила его — он потерялся.
IV
Туманная сырость ночи мгновенно уничтожила в Синявском остатки сонливости, наградив его ознобом и чувством мстительной ненависти к двуногому существу, именуемому «человеком». Холодный, удушливый мрак слепил глаза и пронизывал нагретое постелью тело противным прикосновением сырости. Красное и желтое пятна света торчали в воздухе: фонарь грот-мачты и рулевая будка.
Расставляя руки, чтобы не споткнуться, Синявский осторожно двинулся мимо грот-трюма и гальюнов, к машинному отделению, откуда, замирая в тишине, несся глухой, пыхающий шум поршней. Через два шага он споткнулся о веревку, протянутую поперек палубы, и грохнулся на живую, упругую массу, мохнатую и теплую. Пока он вставал, ругая скотопромышленников, перепуганные насмерть овцы приветствовали его жалобным криком, толкаясь и прыгая. Синявский перешагнул веревку и тронулся по свободной, правой стороне палубы, протягивая руки и переживая смутные опасения за целость собственных ребер.
Но, хотя руки и помогали ему, — ноги не имели рук, и запнулись еще два раза за какие-то призрачные и враждебные в темноте ящики. Оправившись от толчков, вызванных этой неприятностью, он наступил снова, и на этот раз с тайным злорадством, на приютившегося у кухни палубного пассажира. Возня и сердитая гортанная речь убедили Синявского, что на палубе не одни бараны; опасаясь получить затрещину, он торопливо проскочил к машинному отделению, перевесился внутрь через квадратное отверстие, вырезанное в листовом железе, и облегченно вздохнул душным, нагретым воздухом.
Внутренность машины представляла полный контраст туману и неприветливости морской ночи. Далеко внизу, под тремя огромными, блестящими, как лак, стальными цилиндрами, сквозь переплет чугунных решеток и воздушных трапов, разделявших машинное отделение на этажи, блестел красный огонь топок, и в ярком зареве угля, раскаленного добела, двигались, как адские грешники, маленькие, чумазые кочегары. Режущий глаза электрический свет заливал все. Плавно и легко, ритмически шипя отполированной поверхностью, из цилиндров бегали вниз и вверх огромные поршни. За кормой, скрытый водою и мраком, глухо бормотал винт. Пахло керосином, маслом, и казалось Синявскому, что машина — уютнейший уголок в мире, полном холода и тоски.
Он полулежал в окне, засунув руки в рукава «винцерады» и героически отражая атаки сна, пытавшегося взять приступом слабое тело пензенского мореплавателя шестнадцати лет и четырех месяцев от роду. Сознание ясно твердило Синявскому, что спать на вахте нельзя, — вдруг засвистит вахтенный помощник или появится капитан. Но это же самое сознание, лукаво и незаметно, неуловимо и постепенно приняло сладкий, фантастический оттенок, когда шум кажется музыкой, а действие переносится за тысячи верст, в родное, уездное захолустье, где нет Черного моря и свирепого боцмана, а есть заштатная, гнилая речка, тощенький бульвар и пара кузин: черненькая и рыженькая. Синявский идет по аллее, и на нем чудесный, диковинный для уездной глуши наряд: белые, «майские», брюки, белая матроска, «галанка», с синим воротником, под ней — «тельник» с синими полосами, а на голове — лихо заломленная фуражка с надписью золотыми буквами: «Вега». Ветер треплет черные ленты, кокетливо лаская ими шею Синявского, и тысячная толпа смотрит на него, указывая пальцами:
— Моряк!
— Идет моряк!
— Вот моряк!
— Смотрите — моряк!
Кузины побеждены, и гимназисты в рыжих брюках получают отставку. Затем творится что-то необычайное, возможное только во сне, — дикое сплетение образов, темное и светлое, страх и радость…
Страшный удар в голову, способный раскроить менее крепкий череп, вернул Синявского на пароход «Вегу», к окну машинного отделения. Он вздрогнул, выругался и застонал. Боцман ехидно смотрел на него, потирая ушибленные пальцы. Голова ныла, как обваренная, в глазах плавали золотые мухи.
— Синявский! Нельзя спать на вахте! — прошипел боцман. — Это вы дома можете, что вам угодно, а здесь — море!
— Вы… вы чего деретесь? — хныкнул Синявский. Губы его дрогнули, из глаз хлынули слезы. — Как вы смеете? — всхлипнул он, трясясь от холода и бессильной, пугливой злости. — А? Чего вы?! Я вам покажу. Я…
Лицо боцмана по-прежнему сохраняло счастливое выражение. Он ненавидел учеников. Сделав усилие, мучитель нахмурил брови; его бегающие, мохнатые глазки сверкнули и замерли.
— Ну, ну! — сказал он, зевая. — Вот плачете теперь, а я вас хотя бы пальцем тронул. Да! Как это так — спать?! Ступай, жалуйся! — вдруг закричал он, наливаясь кровью. — Пшол, шушера! Иди, ябедничай!
— И пойду! — взвизгнул Синявский, давая волю слезам и размазывая их по лицу. — Вы что себе думаете? Вас оштрафуют, вот! Ишь, какой красивый!
— Ха! — кротко заметил боцман, скрываясь в темноте.
Синявский топнул ногой и, шатаясь от бешенства, сел на скамью. Второй раз! Первый раз он получил «блямбу» за то, что положил шапку на стол. Скажите, какое преступление! Необразованное мужичье, идиоты, суеверы — садиться на стол можно, а шапку класть нельзя! Хорошо, что кузинам ничего не известно. Проклятая жизнь! Над ним издеваются с утра до вечера, прячут его брюки, бросают ему в кружку с чаем фунтовые куски сахара, насыпают соли!.. Он должен чистить гальюны[31], а в порту неизменно торчать на вахте у сходней, — и все это за свои же девять рублей! Довольно! Он ревет — ну, что же из этого? Нельзя обижать человека, в самом деле — так, мимоходом!..
Совершенно расстроенный грубостью морской жизни, такой привлекательной издали и невыносимой вблизи, Синявский сделал несколько шагов к юту, все еще ругаясь и всхлипывая. Опасно жаловаться старшему помощнику, тот держит руку боцмана, лучше посмотреть, — спит капитан или нет. Пусть он рассудит, можно драться или нельзя? Медленно пробираясь среди всевозможной клади, загромождавшей палубу, Синявский уперся во что-то холодное, круглое и большое. Вытянув руки, он ощупал препятствие — это была бочка. Расслабленный смех, сопровождаемый глухим бульканьем, заставил его прислушаться и остановиться.
Тихая возня продолжалась. Слышно было, как кто-то шарил в темноте, тяжело отдуваясь и подхихикивая.
— Сси! — бормотал Бурак, сидя на палубе между бочкой и бортом. — Я, друг, — ха-роший парень! И жизнь моя, братец, — горькая, прегорькая!.. Т-ты не можешь, конечно, проти-ву-сто-ять мне… Вот трубочка, милушечка, крантик дорогой!.. Первый сорт — жидкость эта самая… Сси!
Товарищ его молча, но выразительно икнул и затих.
— Н-не можешь? Вы не можете? — продолжал Бурак. — Вы ослабли? Эта марка вам не под силу? Мартышка — ты где?
— М-молочко! — умиленно залепетал Мартын, продолжая шарить. — Была, видишь, овца тут. Подоить я хотел, а она сбегла… Я, брат, молочко уважаю, для отрезвления…
Он, действительно, минут пять назад, нагрузившись хересом до положения риз, поймал овцу и пытался подоить ее в шапку, но животное убежало, оставив Мартына в заблуждении. Он был уверен, что овца тут, недалеко, и что только темнота мешает ему нащупать ее шерсть.
Оба отяжелели так, что встать не могли, и продолжали нести всякий вздор, по очереди и уже без всякого наслаждения прикладываясь к боцманской трубке. Синявский стоял, думал и вдруг сообразил: трубка — боцмана, значит, матросы пьют с его ведома. А если так — то…
Не размышляя более, весь отдавшись чувству мстительной радости, охватившей его с ног до головы, дрожа от нетерпения и боязни, что капитан, может быть, спит, — Синявский отправился доносить. У дверей кают-компания он остановился, соображая — «вздуют» его за это или нет. Синявский решил, что «вздуют», но не отомстить было выше его сил. Он тихо отворил дверь.
— Ну, в чем дело? — спросил капитан. — Плакали, молодой человек? Срам! моряк, а ревет, как баба! Ну?
— Господин капитан! — взмолился Синявский, — меня бьют, что же это, а? Боцман меня… сейчас… по голове… а я не спал совсем! А он… и там пьют из бочек… он дал им трубку… Они бочку просверлили… У него трубка всегда есть, чтобы из бочек вино воровать! А я…
Капитан удивленно слушал, пристально рассматривая ученика. Безусое, жалкое лицо торчало перед ним, мигая и всхлипывая. Драка, сплетни, доносы, мелкое воровство… Тьфу!
— Убирайтесь! — вспылил капитан. — Боцман дурак, а вы хороши, тоже! Вы ведь постоянно спите, походя! Слякоть! Мужчиной нужно быть, эх!..
Он выбежал наверх, не слушая запутанных объяснений ученика. Через минуту в том самом месте, где сладкие мысли о «молочке» тревожили сердце Мартына, раздалась энергичная морская брань, и любители хереса, поддерживая друг друга, направились в кубрик, отуманенные хмелем и руганью. Огненное слово: «Расчет!» сверкало в их головах, но оба принимали его радостно, без стыда и волнения; пьяным — им было море по колено. К тому же не в первый раз, хе! У трапа Мартын остановился и сосредоточенно потряс кулаком, крикнув во все горло:
— Расчет?! Ну, рассчитывай, ну! Я тебе покажу, выдра морская!..
V
Прошло полчаса — и странное известие разнеслось по всем уголкам «Веги», от первого класса до кочегарки, и от кухни до кают-компании: в трюме, по доносу Биркина, был обнаружен пустой, хорошо приспособленный для перевозки живого человека ящик. Самого хозяина этого секретного помещения, однако, найти не удалось, хотя были пущены в ход самые разнообразные усилия. Осмотрели все: шлюпки, подшкиперскую, угольные ящики, хлебные ящики; снова проконтролировали билеты, но билеты у всех оказались в безукоризненной исправности. Жулик высшей марки, очевидно, ускользнул, запасшись билетом еще в Одессе, и теперь, вероятно, преспокойно лежал себе где-нибудь в третьем классе, зевая и посмеиваясь.
— Я, — объяснял Биркин пассажирам, толпившимся вокруг него, — иду это… Вдруг — слышу… ходит кто-сь под палубой. А у меня ухо вострое, — у!.. Сейчас ключ, отпер, — лезу… Вдруг как выпалит из левольверта!.. Я так и упал… Одначе, выскочил… а с перепугу не захлопнул люка-то… он за мной, да и тикать… Даже рожи не рассмотрел… Ищи его теперь — он, может, вот тут, промеж нас стоит, да слушает…
Слушатели нервно посматривали друг на друга, любопытно и подозрительно встречая каждое новое лицо, присоединяющееся к группе.
— Да-а… — продолжал Биркин. — Ящик, братцы, большой, и написано на нем, значит… «стекло». Вот тебе и стекло! Три ящика-то были… в двух стекло и есть, как следует… А третий — пустота одна… отмычки разные, струмент…
— Не успел, значит, — сказал толстенький сонный пассажир. — Ишь ты!..
— Н-да! — чмокнул кто-то.
— Хитро!.. — подхватил третий.
— Обмозговано!
— Умственный человек!..
Переполох, понемногу, улегся. И никто не подозревал, что только в Батуме обнаружатся действительные размеры опустошения, произведенного таинственным пассажиром. А обокрал он ни много, ни мало, — шесть багажных чемоданов, без взлома и разреза облегчив их от многочисленных золотых вещей.
«Вега» подошла к порту. С мостика раздался резкий крик капитана, сопровождаемый длительным, лязгающим грохотом. Винт замер, сотрясение корпуса прекратилось. Упал второй якорь, и снова гром железного каната потряс сонную тишину.
Лодка стукалась о трап парохода, беспокойно прыгая в ожидании пассажиров. Татарин-лодочник смотрел вверх на сумрачный железный борт «Веги», и весла неподвижно торчали в его руках. Брезжил рассвет. Ветер утих, но туман редел, воздушно белея над сонной зыбью бухты; люди и предметы казались призраками. Трещали лебедки, выгружая товар в плоскодонные парусные фелюги, облепившие пароход.
Тот, кого искали и не нашли, протискался к трапу и быстро сошел вниз, держа в руках круглый, плотно набитый саквояж. Садясь в лодку, он машинально поднял глаза: все были заняты своим делом. Два силуэта двигались на площадке, отдавая приказания хриплыми от бессонницы голосами. Жалобно кричали продрогшие овцы, брякало железо, где-то стучал молоток.
Лодка отчалила, ныряя, как чайка, в зеленых водяных ямах, и когда весла татарина сделали взмахов пятьдесят, — очертания парохода исчезли в утреннем, туманном сумраке моря. А впереди, медленно, точно вырастая, выдвинулся и ожил силуэт горного берега.
Ночь уходила на запад, рассвет золотился и грел воздух. Фиолетовая дымка тумана нежила умирающей лаской поверхность воды, струилась и таяла.
«Вега» снялась с якоря и взяла курс на зюйд-вест.
Капитан
I
Отвратительная погода. Проклятый туман!
— Утром его не будет.
— Как так?
— Я не доверяю барометру. Но вчера был зюйд-вест. За этим ветром туман держится слабо.
— Дай бог.
— Вот в Ла-Манше…
— Что вы сказали, капитан?
— Я говорю: в Ла-Манше, восемь лет назад, был туман гораздо плотнее. Это было четырнадцатого западного марта.
— А!
— Я плавал тогда на «Айшере» и еще не собирался жениться. Помню один случай…
— А!
— У вас дурное расположение духа.
— Да, пожалуй. Скверно дышать этой мозглятиной; у меня к тому же слабая грудь.
— Да? Так вот… был случай. Мы потопили рыбачье судно. Как они кричали. Боже мой! Двоих успели вытащить.
Капитан помолчал и добавил:
— Я тогда же дал клятву остаться холостяком. Неприятно подвергать семейство постоянному риску.
— Кстати, как ваша супруга?
— Мерси. Уже поправилась, начинает ходить.
В резком и хриплом голосе моряка дрогнула веселая нотка. Так приятно иногда не сдержать клятву. Он чиркнул спичкой, закуривая потухшую от сырости папиросу, и несколько секунд круг желтого света обнажал козырек фуражки, суровое, немолодое лицо, высокий лоб и равнодушные, прищуренные глаза.
Спичка потухла. Красный уголек папиросы, изредка разгораясь в темноте, скупо озарял кончик загорелого носа, усы, твердый рот и маленький подбородок. С минуту оба молчали, тщетно, до боли в голове, напрягая зрение. Глухой мрак давил их, унылый и скучный, как недуг. Волнистая седина тумана, колыхаясь, таяла в черноте, и казалось, что это беззвучные стада таинственных белых птиц или облака, плывущие над водой.
С кормы летела неустанная воркотня винта. Тяжелый стальной вал, скрытый в глубине судна, при каждом ударе поршней, плавно бегавших в огромных цилиндрах, передавал свое сотрясение корпусу парохода, дрожавшему тяжело и напряженно от киля до клотиков[32]. Впереди, за желтыми, слепыми кругами мачтовых фонарей, шумела рассекаемая вода, и ее струящийся плеск полз вдоль бортов, однообразный и слабый. Тонко звенел баковый колокол редкими, замирающими ударами, предупреждая и спрашивая. Пароход шел тихо, но во мраке казалось, что он быстро летит вперед по огромной пустыне моря, к ее жуткому и таинственному окончанию, к какой-то печальной и странной бездне. Внизу, на палубе, разговаривали тихими, гортанными голосами, дребезжала зурна. То были пассажиры, преимущественно мингрельцы и осетины, худые, как уличные собаки, в ободранных черкесках и серебряных поясах. Вверху, на грот-мачте, жалобно скрипел гафель. В легкие проникал туман, удушливый от пароходного дыма, растворявшегося в сырости. Капитан сказал:
— Я хочу немного уснуть. Вам осталось, кажется, еще три часа.
— Да.
— Спокойной вахты.
Старший помощник предпочел бы услышать «спокойной ночи». Он глубоко зарылся в воротник пальто и сказал:
— И вам того же.
— На лаге[33] восемьдесят. Придем через час.
— Да. Ну как, вы взяли кормилицу?
— Нет. А что?
— Говорят, это лучше. У наших городских женщин жидкое молоко.
Капитан подумал немного, что бы сказать своему коллеге, страстному семьянину и знатоку детского воспитания, и махнул рукой, говоря:
— Я в этом ничего не понимаю. Можно кормилицу, можно и соску.
Возражения не последовало. Капитан подошел к рубке, ярко освещенной электричеством, и заглянул в компас. Рулевой, не отрываясь, напряженно следил за нервными колебаниями большой синей стрелки.
— Четверть румба направо! — сказал капитан.
— Есть! — крякнул матрос, поворачивая штурвал.
Слабая человеческая рука небольшим усилием мускулов двигала влево и вправо огромную железную махину, набитую десятками тысяч пудов груза. Капитан прошел к трапу, спустился на палубу и сонно вздохнул, направляясь к себе.
II
Кофе слегка остыл, но капитан выпил его с наслаждением, согрелся, зажмурил глаза и замурлыкал скверный романс, засевший в голову лет пятнадцать назад, вместе с глазами десятифранковой наяды из Сингапура. Там были пальмы, ром невероятной крепости, чугунные кулаки приятелей и независимость краснощекого двадцатилетнего парня, поклявшегося чертями и ангелами, что он будет капитаном. Насчет жены клятв никаких не было, но явилась и она, о чем немало жалела добрая дюжина охрипших глоток, величая несчастного «разбитым кранцем» и «погибшим пробочником». Он не сердился, но чувствовал за своей суровой улыбкой другую, рожденную для одной в мире и навсегда.
Электрическая розетка продолжала наблюдать сквозь голубой дым сигары, закуренной в промежутке между воспоминанием и умилением. Волосатая рука шмыгнула через стол к маленькому портрету, загремев блюдечком. Капитан рассматривал фотографию. Фотографы бессильны передавать цвет глаз, и это им сильно вредит, хотя помешанные на любви к женщине щедры, как закутившие принцы. Наедине с собой можно быть смешным, никто не расскажет. Поэтому капитан не ограничился долгим и нежным взглядом по адресу портрета, он поцеловал его прямо в затрещавшее стекло и долго не мог прогнать улыбку с обветренных губ. Дюжина охрипших глоток, рассеянная по земному шару, никогда не видела ничего подобного даже во сне. Они, впрочем, еще молоды и бешены, время придет.
За кормой глухо ворчал винт, отталкивая вперед судно и каюту с капитаном, понурившим голову при мысли о четырнадцати вечностях — четырнадцати днях разлуки. Это не в первый раз и не в последний; но там, в городе, в большой, роскошной квартире, пришел еще один, маленький, сердитый и красный, не дающий, вероятно, спать по ночам женщине с голубыми глазами. С тех пор как она вывихнула палец в июле прошлого года — большего беспокойства не было.
Цейлонский жемчуг, шанхайские и сингапурские раковины, марокканские вещицы из слоновой кости, аденские кораллы и греческие губки, японские шкатулки и суданские бурнусы, зонтики и зубочистки, пуговицы и чай, платки и ковры, яхты из ореховой скорлупы и медные негритянские браслеты — словом, все, что продается в бухтах, заливах и проливах, на мысах и перешейках, все это куплено и привезено. Настоящий магазин редкостей, но жене его не легче от этого. Маленькое дорогое чудовище, ревущее день и ночь, — это она хотела тебя! Крикливый негодяй, чего доброго, вздумает захворать. Прежде чем вернуться туда, нужно расшвырять в десятке портов миллион всякой дряни в мешках и ящиках, ругаться до хрипоты, шлепать в тумане, и четырнадцать раз, день в день, нырять в вечности.
Сознавать это было донельзя горько, и стекло у портрета хрустнуло еще раз, прежде чем успокоилось на столе, между бронзовой собакой и яшмовой чернильницей. Капитан направился в кают-компанию и, отворив дверь пароходного клуба, машинально улыбнулся бесшабашной физиономии штурмана, возлежавшего за столом с локтями у чайного подноса и папиросой в зубах. Юноша вместе с младшим помощником лениво смеялся над Новой Судоходной Компанией, пускающей третий пароход с экипажем из дворников и маркеров.
— А ваши койки, господа, еще не соскучились? — спросил капитан. — Я думаю, что клевать носом на вахте будет скучно и неудобно, а?
Штурман посмотрел на помощника, помощник — на потолок, потом на пол, и оба принялись усиленно хохотать, краснея и ежась. Капитан сел и зевнул.
— Ну-с? — сказал он. — Я ничего не понимаю. Вы делаете друг другу какие-то масонские знаки… Кто остался в дураках и почему?
— Да вот, видите ли… — начал штурман, — тут…
— Тут… — перебил младший помощник.
— Поразительная женщина!..
— Подозрительная женщина…
— Ага! — сказал капитан. — Так.
— Вот… Так мы и того… капитан. А он говорит мне, что она — того… понимаете?
— Нет.
Штурман крякнул и сказал с равнодушием опытного развратника:
— Проститутка. Но позвольте! У меня человеческие глаза, и я вижу…
— Разумеется.
— Что она совсем не то, а даже — напротив…
— Горничная! — хихикнул помощник.
Штурман побагровел и выпрямился.
— Если вас, Кирпичов, приводит в потешное расположение духа женщина, с которой мы говорили нынче, и… и… которой коробку конфет, то…
— Ну что же, — сказал капитан, открывая слипающиеся глаза, — что же новая компания?
Штурман перевел дух и обменялся с помощником многообещающим взглядом.
— Они устроили настоящий митинг, — жалобно начал он, недовольный прекращением спора. — Какая-то личность влезла на бочку и кричала условия и сколько вакансий… Ну, понимаете, дело было окончено быстро: взяли двух солеваров, трех наборщиков и одного кока, остальные, может быть, и матросы, только их никто не видал.
— По десять рублей, — вставил помощник. — На днях отправляются в Англию за пароходом и, если их по дороге не съедят вши, вернутся через месяц…
— Но, говорят, хороший пароход и делает восемнадцать узлов, — заметил капитан. — Дорогая моя… то есть я хочу сказать, что теперь делают хорошие пароходы.
— Вы, кажется, утомились, — почтительно вздохнул штурман. — У вас глаза как будто немного… Ах, туман, туман! Скоро порт, и — спать!
— Через час, — сказал капитан. Помощник вынул часы и прибавил:
— Сейчас два. Почему это от чаю болит живот? Я замечал, что от кофе, если сладкий, — то же самое.
— Потому что вы льете его в себя из шланга![34] — подхватил штурман. — Вы неумеренный человек. Дайте мне книжку, что читали вчера.
— Это Лермонтов. Не дам, вы опять оборвете углы. У меня всего десять книг, и половина их украдена.
— Читайте на здоровье вашего Лермонтова. Удивительно, как вы отстали. Тургенева, например, вы не читали.
— К чему эти ваши выпады? — прищурился помощник. — Идеализатор горничных! А знаете, — обратился он к капитану, — ведь в Китае лучший чай двенадцать копеек фунт. Все пошлина.
Задымились три папиросы. Краснощекий штурман и птицеподобный помощник медленно боролись, во славу горничной, с одолевавшим их сном. Капитан качался на соломенном стуле и вздыхал. Четвертое лицо просунулось в дверь, увлекая за собой тонкое, червеобразное тело в матросской форме.
— Ну-с? — сказал капитан, удивленно рассматривая Брылова, пароходного ученика. — Что случилось?
— Господин капитан, — сказал Брылов, — тут вас женщина спрашивает, пассажирка.
Мгновенное любопытство подбодрило штурмана и помощника. Но капитан вышел, плотно притворив за собой дверь.
III
— Ну?!
— Ей-богу! Жаловаться побегла. Я, грит, капитану на вас, чертей, пожалуюсь, что проходу не даете…
— Вот леший! — сказал первый матрос. — Я к ей и так, и этак — тпру!
— Вот тебе и «тпру», — ответил второй. — Влетить тебе! И что злости в этом капитане, что жесточества, боже ты мой! Прямо ест. Чтоб его деду на том свете черти…
— Идет!!
— Идет?! Ах ты…
Капитан медленно спускался в кубрик по ступенькам крутого, скользкого трапа. Наконец нога его коснулась пола, и страшный поток ругани, сопровождаемый сверканьем глаз и топаньем ног, грянул в воздухе.
— Бир-р-ркин! — заревел капитан. — Мер-рзавец! Олух! Ска-атина!.. Шашни на пароходе устраивать?! Да я тебе голову разобью!.. Бездельник, морское чучело, сто тысяч леших тебе в глотку, пар-рши-вец!.. Мне жалуются на тебя, негодяй! Так-то ты держишь вахту, чертов бабник?! За юбками бегаешь, скотина?! Мо-о-ряк!.. Бесстыжая харя!.. Кто в море крестился, тот от юбок на край света беги!.. К расчету в Одессе собачьего сына!.. У-у?.. Разражу на месте!.. В воду спущу!..
Матрос, бледный как бумага, растерянно пятился назад, держа руки перед лицом и жалобно хныкая:
— Господин капитан! Господин капитан!.. Ей-богу!..
Капитан перевел дух, подумал немного, побагровел, и новый лексикон, приправленный самыми свирепыми обещаниями и угрозами, повис в воздухе. Он ругался, отводя душу, и вдохновенная брань его сыпалась, как палочные удары, на голову Биркина. Наконец усталость взяла свое, капитан бросил последний, уничтожающий взгляд и вышел на палубу.
Через полчаса, чувствуя потребность разговаривать, он писал жене длинное, подробное письмо, улыбаясь самому себе тихими, рассеянными глазами:
«…лю тебя, ненаглядная кошечка, и твои маленькие ручки целую. Когда приеду, привезу тебе ящик рахат-лукума, а ты дашь мне свои белые ножки, и я каждый пальчик на них поцелую. Ты спи, а я тебя перекрещу. Обнимаю тебя, милая, скоро увидимся.
Твой Вовочка».
Человек, который плачет
— Не может быть…
— Вы шутите…
— Это арабские сказки.
— Однако это так… Повторяю… мне тридцать пять лет, и я до сих пор не знаю женщины.
Человек, взбудораживший наше мужское общество таким смелым, исключительно редким заявлением, стоял прислонившись к камину и сдержанно улыбался. Голубые, холодные глаза его смотрели без всякого смущения и, казалось, ощупывали каждое недоверчиво и любопытно смеющееся лицо.
Однако солидные манеры этого человека, интеллигентная внешность и спокойная уверенность голоса произвели впечатление, выразившееся в том, что возгласы утихли и в физиономиях отразилось напряженное, тоскливое ожидание целого ряда анекдотов и пикантных повестушек, приличествующих случаю.
После короткой паузы доктор Клушкин, человек очень нервный, очень веселый и очень несчастный в личной жизни, выпрямил скептически поджатые губы, потянул носом и пристально посмотрел на девственника. Тот вежливо улыбнулся и коротко повел широкими плечами, как бы сознавая свою обязанность дать в данном случае надлежащие объяснения.
— Я с большим удовольствием слушал ваш разговор, — сказал этот господин, представленный нам хозяином под фамилией Громова, — и теперь действительно жалею, что молодость моя прошла… сухо. Собственно говоря, к чему бы делать мне такое признание. Но бывают минуты, когда случайные стечения обстоятельств, случайный разговор, анекдот зажигают желания и дразнят тело, наполняя его бессознательным тяготением к этой стороне человеческой жизни, жгучей, таинственной и…
— Да, но позвольте, — сухо перебил доктор, нервно ерзая на стуле и вскидывая пенсне повыше. — Вы говорите, что вы… ну, одним словом… вполне.
— Совершенно.
— И — никогда?
— Всецело.
— Ни-ни..?
— Могу вас уверить в этом.
Доктор вдруг побагровел, прыснул и хихикнул так громко, что сконфузился сам. Снисходительно улыбнулись остальные.
Дело происходило в курительной комнате богатого инженера, после хорошего обеда и основательной выпивки. Дамы перешли в гостиную, а мы, люди тугого кошелька и веселого расположения духа, удалились сюда, отчасти для пищеварения, отчасти для того, чтобы выкурить по сигаре и поболтать, пока не приготовят столы для карт. Надо сказать, что заявление Громова пришлось как нельзя кстати. Запас нескромных анекдотов уже иссякал и теперь явилась большая надежда воскресить угасавшее оживление…
— Скажите… э-э… — спросил доктор, отделавшись от душившего его смеха: — вы развиты нормально?
— Да.
— Влюблялись?
— Конечно.
— И…
— Как видите.
Сказав это, Громов отряхнул пепел сигары на каминную решетку и полузакрыл глаза. Доктор встал, шумно отодвинул стул, подошел к Громову и, взяв его двумя пальцами за пуговицу сюртука, сказал печальным подвыпившим голосом:
— Вредно-с. Вы расстраиваете себя, свой организм, губите умственные способности… Да-с…
— Ну что же, — улыбнулся Громов, — видно уж так мне на роду написано…
— Но, — сказал худой плешивый фельетонист, похожий на картонного Мефистофеля, — но… почему же? Это же странно… Красивый, здоровый человек, умный…
— О, — смутился Громов, и лицо его приняло виноватый оттенок, — дело очень просто… Я не имею успеха.
— Да, — обрадовался толстый учитель, заикаясь и причмокивая. — Я пп-они-мм-аю вас… Вв-ы… ззз-астенчивы… а-а… жж-енщины… этт-ого н-не-ллю-ббят…
— Да. Я застенчив и, представьте, застенчив как-то болезненно. Одна мысль о том, что мне могут засмеяться в лицо, обливает меня с ног до головы холодным потом.
— И..? — хихикнул фельетонист.
— Ну… и идешь себе прочь.
Все дружно расхохотались.
— А я хотел бы, — вздохнул Громов. — Хотел бы знать, что такое страсти, супружество, весь этот особый таинственный мир, скрытый от меня…
— Позвольте, — заволновался пивовар, жирный и необычайно кроткий человек с глазами навыкате. — Если вы хотите — я…
Он, грузно пыхтя, протискался между стульев и, подвалившись к Громову, таинственно зашептал ему что-то на ухо. Физиономия пивовара выражала сладостное и блаженное самоуглубление в тайны жизни. Громов серьезно усмехнулся и кивнул головой раза два. Но у пивовара, когда он отошел, в кротких масляных глазах изображалась полная огорошенность.
Художник сидел, все время склонив на бок черную, кудрявую голову, и в его раскрасневшемся от вина лице таилось вдохновенное глубокомыслие. Вдруг он встряхнулся, ударил рукой по колену и закричал:
— Меня убили. Ха-ха. Убили. Ну, ей богу же, я не вру… Женщины. Женщинами полон свет. Они везде. Они как воздух, как вода, везде, на улицах, площадях, в театрах, подвалах, кафе. В церквах, лугах и лесах. На крышах. На чердаках. На башнях. На колокольнях. Под ногами, над головой. И вы не знаете женщины?.. А… Чудеснейшего, любопытнейшего, святейшего, развратнейшего существа в мире вы не знали? А духи вы нюхали? Цветы целовали? В лесу гуляли? Наконец — ели, пили, спали? Так как же вы не знаете женщины..?
Он остановился, перевел дыхание и посмотрел на Громова, стараясь придать взгляду торжественную строгость, но это не удалось. Его пухлые, румяные губы расплывались в жизнерадостную улыбку, а глаза лукаво смеялись лукавыми блестками.
— Постойте, — воскликнул доктор. — Это ненормальность, несправедливость. Как так. Да есть же, наконец, женщины… жрицы любви. Хе. Что вы, в самом деле…
Громов пожал плечами.
— Боюсь, — сказал он. — Ну, что вы будете делать.
— Да-а, — протянул фельетонист, ковыряя в зубах, — вы того… действительно незадачливый… Ну, а как… в теории-то… вы представляете… того…
— Д-да, конечно… но… Я как-то избегал вообще всякого общества и… Вообще, у меня большие пробелы в этом отношении…
— Слушайте, господа, — сказал доктор, воодушевляясь и подымая вверх пухлый, белый палец, — вот перед нами человек который… не смеется, а… плачет. Но, клянусь вам, в моей практике был такой случай…
Захлебываясь и горячась, он рассказал нам своим скрипучим, нервным голосом историю о том, как он заставил жениться одного человека, дав ему прочесть скабрезный роман.
Рассказ то и дело прерывался громкими одобрительными возгласами. Но после этого фельетонисту тоже захотелось рассказать что-нибудь из этой области, и он, еле дав доктору кончить, пустился в необыкновенное фантастическое повествование о бесчисленных совращениях, романах, изменах во всех частях света.
Скоро заговорили все. Сочинялись небывалые истории, никем и никогда не слышанные анекдоты; упоминались имена несуществовавших женщин, сверхтрогательные идиллии и любовные объяснения, в которых рассказчик неизменно участвовал сам, соблазнял, похищал и покупал. Присутствие человека, никогда не знавшего женщины и, следовательно, завидующего всякому поцелую, полученному другим мужчиной, действовало пришпоривающим образом. Каждый хотел, чтобы ему, именно ему, а не другому, завидовал Громов; чтобы его, именно его, рассказчика, женщины, рожденные фантазией в необычайном количестве, — казались желанными, прекрасными и доступными только тому, кто сочинил их.
Прошло немного времени, и пол, казалось, был сплошь усыпан осколками разбитых невинностей и супружеских честей. И только тогда, когда лакей пришел доложить, что столы готовы и нас, скромных отшельников, просят пожаловать — родник эротической поэзии иссяк. Забытый Громов стоял у камина и докуривал сигару.
В глазах его сверкало живейшее, искреннее любопытство.
— Так вот, батенька, — сказал доктор, подмигивая и тыча Громова в жилет указательным пальцем, — такое дело… Ну, идемте… Ну, идемте… А кстати, я представлю вас Нине Алексеевне… да вы ее знаете… Нет? Ба, простите, совсем забыл, что вы приезжий… Ну — это… знаете, я вам доложу… По секрету: три года назад хотел из-за нее стреляться… Как честный человек…
Все тронулись и, войдя в гостиную, увидели несколько новых, незнакомых лиц, а между ними — и женщин.
А когда навстречу Громову поднялась красавица в белом шелковом платье и крепко пожала его почтительно протянутую руку, Громов сказал, улыбаясь и смотря в сторону…
— Господа… позвольте представить… моя жена.
Я с некоторым любопытством посмотрел направо и налево. Там, где секунду назад стояли фигуры наших недавних собеседников, — виднелись окаменевшие, шире обыкновенного раскрытые рты.
И только учитель спросил, беспомощно двигая челюстями:
— Кк-ак..? Вв-а-шш-а жж-ена..?
Мат в три хода
Случай этот произошел в самом начале моей практики, когда я, еще никому не известный доктор, проводил приемные часы в унылом одиночестве, расхаживая по своему кабинету и двадцать раз перекладывая с места на место один и тот же предмет. В течение целого месяца я имел только двух пациентов: дворника дома, в котором я жил, и какого-то заезжего, страдавшего нервными тиками.
В тот вечер, о котором я рассказываю, произошло событие: явился новый, третий по счету пациент. Еще и теперь, закрыв глаза, я вижу его перед собой как живого. Это был человек среднего роста, лысый, с важным, слегка рассеянным взглядом, с курчавой белокурой бородкой и острым носом. Сложение его выдавало наклонность к полноте, что составляло некоторый контраст с резкими, порывистыми движениями. Заметил я также две особенности, о которых не стоило бы упоминать, если бы они не указывали на сильную степень нервного расстройства: конвульсивное подергивание век и непрерывное шевеление пальцами. Сидел он или ходил, говорил или молчал, пальцы его рук неудержимо сгибались и разгибались, как будто их спутывала невидимая вязкая паутина.
Я притворился совершенно равнодушным к его визиту, сохраняя в лице холодную, внимательную невозмутимость, которая, как мне казалось тогда, присуща всякой мало-мальски серьезной профессии. Он смутился и сел, краснея, как девушка.
— Чем вы больны? — спросил я.
— Я, доктор…
Он с усилием взглянул на меня и нахмурился, рассматривая письменные принадлежности. Через минуту я снова услышал его вялый, смущенный голос:
— Вещь, изволите видеть, такая… Очень странная… странная. Странная вещь… Можно сказать — вещь… Впрочем, вы не поверите.
Заинтересованный, я пристально посмотрел на него; он дышал медленно, с трудом, опустив глаза и, по-видимому, стараясь сосредоточиться на собственных ощущениях.
— Почему же я вам не поверю?
— Так-с. Трудно поверить, — с убеждением возразил он, вдруг подымая на меня близорукие, растерянно улыбающиеся глаза.
Я пожал плечами. Он сконфузился и тихонько кашлянул, по-видимому, приготовляясь начать свой рассказ. Левая рука его несколько раз поднималась к лицу, теребя бородку; весь он, так сказать, внутренно суетился, что-то обдумывая. Это было особенно заметно по напряженной игре лица, горевшего попеременно отчаянием и смущением. Я не торопил его, зная по опыту, что в таких случаях лучше выждать, чем понукать.
Наконец, человек этот заговорил и, заговорив, почти успокоился. Голос его звучал ровно и тихо, лицо перестало подергиваться, и только пальцы левой руки по-прежнему быстро и нервно шевелились, освобождаясь от невидимой паутины.
— Удивлять, так удивлять, — сказал он как будто с сожалением. — Вы меня только… очень прошу-с… не перебивайте… Да-а…
— Не волнуйтесь, — мягко заметил я. — Удивление же — это удел профанов.
Намекнув ему таким образом на свою предполагаемую опытность в области психиатрии, я принял непринужденную позу, то есть заложил ногу за ногу и стал постукивать карандашом по кончикам пальцев. Он замялся, вздохнул и продолжал:
— Пожалуйста, не будете ли вы так добры… если можно… каждый раз, как я руку подыму… Прошу извинить… Побеспокойтесь сказать, пожалуйста: «Лейпциг… Международный турнир-с… Мат в три хода»? А? Пожалуйста.
Не успел я еще изобразить собой огромный вопросительный знак, как снова посыпались страстные, убеждающие, тихие слова:
— Не могу-с… Верите ли? Не сплю, не ем, идиотом делаюсь… Для отвлечения от мыслей это мне нужно, вот-с! Как скажете эти слова, так и успокоюсь… Говоришь, говоришь, а она и выплывет, мысль эта самая… Боюсь я ее: вы вот извольте послушать… Должно быть, дней назад этак восемь или девять… Конечно, все думаем об этом… Тот помрет, другой… То есть — о смерти… И как оно все происходит, я вам доложу, как одно за другое цепляется — уму непостижимо… Сидел я этак у окошка, книгу читал, только читать у меня охоты большой не было, время к обеду подходило. Сижу я и смотрю… Ведь вот настроение какое бывает, — в иной момент плюнул бы, внимания не обратил… А тут мысли рассеянные, жарковато, тихий такой день, летний… Идет это, вижу, женщина с грудным младенцем, платок на ней кумачовый, красный… Потом девочка лет семи пробежала, худенькая девчонка, косичка рыжая это у ней, как свиной хвостик торчит… Позвольте-с… Вот вижу, следом гимназистка проходит, потом дама, и очень хорошо одетая, чинная дама, а за ней, изволите видеть, — старушка… Вот… понимаете?
Я с любопытством посмотрел на его руки: они быстро, мелко дрожали, расстегивая и застегивая пуговицу сюртука. В том, что он рассказывал мне, для него, по-видимому, укладывалась целая цепь каких-то пугающих умозаключений.
— Нет, не понимаю, — сказал я, — но продолжайте.
Он был сильно бледен и смотрел куда-то в сторону, за портьеру. Я ободрительно улыбнулся, он сморщился, подумал и продолжал:
— Как старушка прошла, мне и вступи в голову такая история: одной ведь теперь похоронной процессии не хватает… Отошел от окна я, а все думаю: и ты, брат, помрешь… ну, и все в этаком роде. А потом думаю: да кто мы все такие, живые, ходящие и говорящие? Не только, что трупы созревающие, вроде как яблоки на сучке, а и есть еще во всем этом какая-то страшная простота…
Перед двумя последними словами голос его пресекся от возбуждения. Я напряженно слушал.
— Все это, — продолжал он, — аппетита моего не испортило. Пообедав, с наслаждением даже в гамаке лежал… А как подошла ночь, хоть караул кричи, — схожу с ума, да и все тут!..
Жалкая улыбка застыла на его судорожно сосредоточенном, вспотевшем лице. Вытащив носовой платок и сморкаясь, он продолжал смотреть мне в лицо тем же пристальным, остолбеневшим взглядом.
Я невольно улыбнулся: эта маленькая деталь, носовой палаток, вдруг разрушила немного жуткое впечатление, произведенное на меня странным, чего-то испугавшимся человеком. Но он стал рассказывать дальше, и скоро я снова почувствовал себя во власти острого, болезненного любопытства. Еще не зная в чем дело, я, кажется, уже готов был поверить этому человеку, оставляя под сомнением его ненормальность.
Он спрятал платок и продолжал:
— До вечера был я спокоен… Веселый даже ходил… ну, отправляясь спать, в садик вышел по обыкновению, посмотреть, папироску выкурить. Тихо, звезды горят как-то по-особенному, не мягко и ласково, а раздражают меня, тревожат…
Сижу, думаю… О чем? О вечности, смерти, тайне вселенной, пространстве… ну, обо всем, что в голову после сытного ужина и крепкого чаю лезет… Философов вспоминаю, теории разные, разговоры… И вспомнилась мне одна вещь, еще со времен детства… Тогда я сильно гордился тем, что, так сказать, собственным умом дошел. Вот как я рассуждал: бесконечное количество времени прошло, пока «я» не появился… Ну-с, умираю я, и допустим, что меня совсем не было… И вот — почему в пределах бесконечности я снова не могу появиться? Я немного сбивчиво, конечно… но пример… такой… чистый лист бумаги, скажем, вот. Беру карандаш, пишу — 10. А вот — взял и стираю совсем, начисто… И что же! Беру карандаш снова и снова «10» пишу. Понимаете — 1 и 0.
Он замолчал, перевел дух и вытер рукавом капли пота, мирно блестевшие на его измученном лысом черепе.
— Продолжайте, — сказал я, — и не останавливайтесь. В таких случаях лучше рассказать сразу, это легче.
— Да, — подхватил он, — я… и… ну, не в этом дело… Так вот. Мысли мои вертелись безостановочно, как будто вихрь их какой подхватил… И вот здесь, в первый раз, мне пришла в голову ужасная мысль, что можно узнать все, если…
— Если? — подхватил я, видя, что он вдруг остановился.
Он ответил шепотом, торжественным и удрученным:
— Если думать об этом безостановочно, не боясь смерти.
Я пожал плечами, сохраняя в лице вежливую готовность слушать далее. Пациент мой судорожно завертелся на стуле, очевидно, уколотый.
— Невероятно? — воскликнул он. — А что, если я вам такую перспективу покажу: вы, вот вы, доктор, сразу, вдруг, сидя на этом кресле, вспомните, что есть бесконечное пространство?.. Хорошо-с… Но вы ведь мыслите о нем со стенками, вы ведь стенки этому пространству мысленно ставите! И вдруг нет для вас ничего, стенок нет, вы чувствуете всем холодом сердца вашего, что это за штука такая — пространство! Ведь миг один, да-с, а этот самый миг вас насмерть уложить может, потому что вы — не приспособлены!..
— Возможно, — сказал я. — Но я себе не могу даже и представить…
— Вот именно!.. — подхватил он с болезненным торжеством. — И я не представил, но чувствую, — и он стукнул себя кулаком в грудь, — вот здесь ношу чувство такое, что, как только подумаю об этом пристально, не отрываясь, — пойму… А поняв — умру. Вот давеча я просил вас слова «мат в три хода» крикнуть, если я руку подыму… Все это оттого, что вы мне этими самыми словами в критический момент, когда оно начнет уже подступать, — другое направление мыслям сразу дадите.
А задачу эту в три хода я выудил, когда еще журнальчик один выписывал. Я ее, голос ваш услышав, — и начну с места в карьер решать… Так вот-с… сижу я, вдруг, слышу, жена меня с крылечка зовет: «Миша!». А я слышу, что зовет, но отвечать ей, представьте себе, не могу, — сковало мне язык, и все тут… Потом уж я догадался, в чем тут штука была: настроение у меня было в момент этот, так сказать, самое неземное, редкое даже настроение, а тут нужно о деле каком-нибудь домашнем разговаривать, пустячки разные. Молчу я. Второй раз зовет: «Миша-а! Уснул, что ли, ты?» Тут я разозлился и сказал ей, извините, вот эти самые грубые слова: «Пошла к черту!» Хорошо-с. Ушла она. И так мне грустно стало после этого, что и не расскажешь. Пойду, думаю, спать. Разделся, лег, а все не спится мне, круги разные мелькают, мухи светящиеся бегают… А сердце, надо вам сказать, у меня давно не в порядке… Вот и начало оно разные штуки выделывать… То остановится, то барабанным боем ударит, да так сильно, что воздуха не хватает… Страх меня взял, в жар бросило… Умираю, думаю себе… И как это подумал, поплыла кровать подо мной, и сам я себя не чувствую… Ну, хорошо. Прошло это, опомнился… однако спать уже не могу… Мысли разные бегут, бегут как собаки на улице, разные образы мелькают, воспоминания… Потом, вижу, девочка идет утренняя, за ней барышня, потом старуха… вся эта процессия, как живая, движется… И только, знаете, мысль моя на этой старухе остановилась, как задрожал я и закричал во весь голос: чувствую, один поворот мысли, и пойму, понимаете, — пойму и разрешу всю загвоздку смерти и жизни, как дважды два — четыре… И чувствую, что, как только пойму это, в тот же самый момент… умру… не выдержу.
Он замолчал, и показалось мне, что сама комната вздохнула, шумно и судорожно переводя дыхание. Белый, как известь, сидел передо мной испуганный человек, не сводя с моего лица стеклянных, вытаращенных глаз. И вдруг он поднял, вытянув вверх, руку, старательным, неуклюжим движением, — знак подступающего ужаса, — руку с крахмальной манжеткой и бронзированной запонкой.
И было, должно быть, в этот момент в комнате двое сумасшедших — он и я. Его паника заразила меня, я растерялся, забыв и «мат в три хода», и то, что значила эта беспомощная, выброшенная вверх рука с желтыми пальцами. Без мыслей, с одним нестерпимо загоревшимся желанием вскочить и убежать, смотрел я в его медленно уходящие в глубь орбит глаза, — маленькие, черные пропасти, потухающие неудержимо и бесцельно…
Рука опускалась. Она лениво согнулась сначала в кисти, потом в локте, потом в предплечье, всколыхнулась и тихо упала вниз, мягко хлопнув ладонью о сгиб колена.
Испуг возвратил мне память. Я вскочил и крикнул размеренным, твердым голосом, стараясь не показаться смешным самому себе:
— Лейпциг! Международный турнир! Мат в три хода!
Он не пошевельнулся. Мертвый, с успокоившимся лицом, залитый электрическим светом, — он продолжал неподвижно и строго смотреть в ту точку над спинкой моего кресла, где за минуту перед этим блестели мои глаза.
Маленький заговор
I
— Садитесь, поговорим, — ласковым голосом сказал Геник, подвигая стул очень молодой девушке, на вид не старше семнадцати лет. — Мне поручено объясниться с вами и, что называется, — во всех деталях.
Гостья застенчиво улыбнулась, села, оправляя коричневую юбку тонкими, слегка задрожавшими пальцами, и устремила на Геника пристальные большие глаза, темные, как вечернее небо. Геник мысленно побарабанил пальцами, оседлал другой стул и спросил:
— Как меня нашли?
— Я вас отыскала скоро… Хотя вы живете в таком глухом углу… Я даже улицы такой раньше не знала.
— Улицу эту выстроили специально для меня! — пошутил Геник. — Смею вас уверить.
— Еще бы! — слабо улыбнулась она. — Для нас с вами другие места приготовлены.
— Каркайте, каркайте… Что же — улицу через прохожих отыскали?
Девушка отрицательно покачала головой.
— Нет, — поспешно сказала она, — мне объяснил Чернецкий, что улица эта выходит в числе прочих на Армянскую. Я ее всю и прошла, в самый конец.
Геник сделал серьезное лицо.
— Это хорошо! — заявил он, одобрительно кивая. — Всегда нужно стараться как можно меньше расспрашивать прохожих. Особенно в деле особой важности.
Девушка с уважением окинула глазами небрежно оседлавшую стул, худую и коренастую фигуру Геника. Даже и эту тонкость он считает важной — должно быть, замечательный человек.
— Ваше имя — Люба? — спросил юноша.
— Да.
Наступило короткое молчание. Девушка рассеянно оглядывала комнату, пустую и неуютную, где, кроме пунцовой розы, алевшей на столе в дешевом запыленном стакане, не на чем было остановиться и отдохнуть глазу. В широкое, настежь отворенное окно, вместе с теплым ветром и шелестом цветущей черемухи, плыл солнечный свет, щедро заливая грязные обои голых стен пыльно-золотистыми пятнами, на фоне которых, беззвучно и неуловимо, как ночные бабочки в свете лампы, — трепетали мелкие, пугливые тени ветвей и листьев, глядевших в окно.
Стол был пуст — ни книг, ни брошюр. Видимый печатный материал валялся на полу, в образе скомканной газеты. В углу — чемодан, койка более чем холостого вида и тяжелая дубовая трость. Зато пол был щедро усеян окурками и спичками.
— Нам, пожалуй, серьезно придется сейчас беседовать… — сказал Геник, рассматривая девушку. — Вы, конечно, против этого ничего не имеете?
Люба расширила глаза и нервно повела плечами. Странно даже спрашивать об этом.
— Что же я могу иметь? — тихо и вопросительно проговорила она. — Чем серьезнее, тем лучше.
Последние слова прозвучали просьбой и, отчасти, задором молодости. Лицо Геника стало непроницаемым; казалось, оно потеряло всякое выражение. Он сильно затянулся папиросой, окружая себя голубыми клубами дыма, и сказал уже совсем другим, твердым и отчетливым голосом:
— Хорошо.
Люба ждала, молча и неподвижно. Глаза ее прямо, с покорностью ожидания, смотрели на Геника.
— Хорошо! — повторил он медленнее и как бы в раздумье. — Так вот что, Люба, для удобства и большей продуктивности разговора, мы сделаем так: я буду спрашивать, а вы отвечать… Идет?
— Все равно, — сказала девушка, напряженно улыбаясь. — Это как на допросе.
— Ну, да… Видите ли — это, по некоторым соображениям, важно для меня.
Люба молча кивнула головой.
— Да. Так вот: скажите, пожалуйста, — сколько вам лет?.. Это нескромно, но, надеюсь, вам не более двадцати, так что, — мы, конечно, не рассоримся.
— В августе будет восемнадцать… — слегка покраснев, сказала девушка. — А что?
— Хм…
Новые клубы дыма и новый окурок на полу. Геник достал и зажег свежую, третью по счету, папиросу.
— Я так боялась этого! — тихим, срывающимся голосом заговорила Люба, и ее лицо, правильное и нежное, внезапно покрылось розовыми пятнами. — Того… что… может быть… моя молодость… может там… помешать, что ли… но…
Геник досадливо махнул рукой.
— Что молодость? — с неудовольствием перебил он. — Не в молодости дело… А в вас самих… Но, однако, мы уклонились… Скажите — сколько человек в вашем семействе? И кто они?
— Четверо, — неохотно, удивляясь тому, что ее спрашивают о таких, совершенно посторонних вещах, сказала девушка. — Мама… я… папа, потом сестры две…
— Старше вас?
— Нет… где же старше… Еще гимназистки…
— И вы ведь, Люба, учились в гимназии?
— Я? Училась…
— Д-аа… — Геник вздохнул и уставился через открытое окно в сад: — Все мы вкушали когда-то от этой премудрости. У меня есть братишка, маленький глупый человек. Так вот он пришел однажды из класса и начал с чрезвычайно сосредоточенным и мрачным видом колотить ногами о дверь. Я его и спрашиваю: «Ты, Петька, что делаешь?» А он скорчил свирепое лицо и говорит: «Прах от ног своих отрясаю».
Люба задумчиво улыбнулась, не сводя с Геника больших, наивно-серьезных глаз, и медленно наклонила вперед голову, как бы приглашая говорить дальше. Геник обождал несколько мгновений и перешел в деловой тон.
— Ко мне вас направил Чернецкий? — спросил он, сосредоточенно грызя ногти.
— Да…
— Он рассказал мне о вас все! — заявил Геник, отрываясь взглядом от ровного, чистого лба девушки. — По общему мнению… у нас, видите ли, было совещание… вам решено не препятствовать и… помогать…
Люба заволновалась и нервно покраснела до корней волос. Краска быстро залила маленькие уши, высокую, круглую шею и так же быстро отхлынула назад к сильно забившемуся сердцу.
Она так боялась, что ее заветная мечта не исполнится. Но грозный момент, очевидно, придвигался и теперь стал перед ней лицом к лицу в этой убогой, обыкновенной на вид и жалкой комнате.
Геник встал, шумно отодвинул стул и зашагал от стола к двери. Люба механически следила за его движениями, желая и не решаясь спросить: что дальше?
— Не связаны ли вы с кем-нибудь? — быстро и немного смущаясь, спросил Геник. — Нет ли для вас чего-нибудь дорогого?.. Семья, например… — Он не пожалел о своих словах, хотя мгновенная неловкость и боль, сверкнувшие в глазах девушки, сделали молчание напряженным. Геник повторил, тихо и настойчиво:
— Так как же?
— Я, право… не знаю… — с усилием, краснея и ежась, как от холода, заговорила она. — Нужно ли это… спрашивать… Я же сама… пришла.
— Вы вправе, конечно, недоумевать, — сказал, помолчав, Геник, — но, уверяю вас… Хотя, впрочем… Вам отчего-то трудно говорить об этом… хорошо, но скажите мне, пожалуйста, только одно: у вас нет близкого человека, кроме… ваших родных?
Он остановился посредине комнаты, ожидая ответа с таким видом, как если бы от этого зависело все дальнейшее течение дела. Люба подняла на него растерянный взгляд, снова покраснела и смешалась. По дороге сюда мечталось о чем угодно, кроме этого непонятного и мучительного вопроса.
— Я потому спрашиваю, — сказал Геник, желая вывести девушку из затруднения, — что нам нужно знать, будет ли у вас кому ходить в тюрьму, в случае… Если «да», то кивните, пожалуйста, головой.
Кивок этот, хотя Люба его и не сделала, он угадал по опущенным, неподвижно застывшим ресницам. Через мгновение она снова подняла на него свои темные, с ясным голубым отливом глаза.
Ветер мягко стукнул оконной рамой и шевельнул брошенную на пол газету. Геник подошел к окну и сейчас же отошел прочь. Люба вздохнула, нервно стиснула хрустнувшие пальцы и выпрямилась.
— Так, значит, вам не жалко жизни? — равнодушно, полуспрашивая, полуутверждая, сказал Геник. — А?
Люба облегченно рассмеялась углами рта. Слава богу, — вопросы о домашних делах покончены. Хотя странный, немного торжественный в своем равнодушии тон Геника по-прежнему держал ее настороже… Она отбросила за ухо темные непокорные волосы и сказала:
— Как жалко? Я не знаю… А вам разве не жалко?
Девушка нетерпеливо задвигалась на стуле, и меж тонких бровей ее мелькнула легкая, досадливая складка. Если Геник желает болтать, может выбрать другое место и время. А ей тяжело и совсем не до разговоров.
Он же, казалось, вовсе не спешил удовлетворить ее нетерпение. Широкая спина Геника неподвижно чернела у окна, загораживая свет, и только дым шестой папиросы, улетая в сад, показывал, что это стоит живой, задумавшийся человек.
В комнате напряженно бились две мысли, и маятник дешевых стенных часов, казалось, равнодушно отбивал такт неясным, упорным словам, таинственно и быстро мелькавшим в мозгу. Наконец Геник отошел в глубину комнаты, снова уселся верхом на стул и спросил громким, неожиданно резким голосом:
— Твердо решаетесь?
— Да! — безразлично, с поспешностью утомления сказала девушка.
Глаза ее встрепенулись и загорелись. Казалось — новая волна внутреннего напряжения поднялась в этот пристальный, ждущий взгляд и нервным толчком хлестнула в лицо Геника.
— Теперь вот что… — заговорил он, смотря в сторону. — Вы, значит, поедете за сто верст отсюда в ***ск…
Лицо Любы отразило глубокое недоумение.
— Простите, я не понимаю… — нерешительно сказала она, понижая голос. — Ведь… Мне Чернецкий сказал, что все здесь… что все готово и… завтра вечером… Также, что от вас я узнаю все инструкции и получу…
Геник с досадой бросил папиросу.
— Вы слушайте меня! — резко, почти грубо перебил он и, заметив, что Люба вспыхнула, добавил более мягко: — Положение изменилось. Фон-Бухель уехал сегодня утром и приедет только через месяц.
Девушка молча, устало кивнула головой.
— Этот месяц вы проживете там и будете держать карантин. Что такое карантин — вы знаете или нет?
— Да, я слышала что-то… изоляция, кажется?
— Вот… Жить будете по чужому паспорту… Я вам его сейчас дам. Никаких знакомств. Переписываться нельзя…
— А если…
— Постойте… Вот вам адрес; запомните его и не записывайте ни в каком случае: Тверская, дом 14, квартира 15. Марья Петровна Кунцева.
Она подняла глаза к потолку и по гимназической привычке зашевелила губами, стараясь запомнить. Потом слабо улыбнулась и сказала:
— Ну, вот. Готово…
— Прекрасно, Люба. Так вот, я даже не буду вас наставлять разным конспиративным тонкостям. Там вам все расскажут, устроят и прочее. Приехав, вы скажете лично, самой Кунцевой, следующее: «Я от Геника».
— «Я от Геника», — с уважением к человеку, имя которого отворяет двери, прошептала девушка. — Только… ради бога… зачем я должна ехать?
— Видите ли, — с сожалением пожал плечами Геник, — так решено комитетом… Вы здешняя, и всякие следы ваших с нами сношений должны быть уничтожены. Поняли?
— Да. — Люба весело кивнула головой. — Значит, все-таки выйдет. Я так счастлива…
Геник неопределенно крякнул и хотел сказать что-то, но раздумал. Глаза девушки, блестевшие странным, тихим светом, удержали его.
— Поезд идет сегодня вечером в 10 часов, — сказал он, помолчав, усталым и решительным голосом. — Видеться вам с кем-нибудь перед отъездом решительно нет никакой необходимости…
— Так сегодня? — удивилась Люба. — Так скоро?..
— Ну, вот что! — рассердился Геник. — Если вы хотите, то знайте, что от того, уедете ли вы сегодня или нет — зависит все… Я вам сказал.
— Я еду, еду! — поспешно, с растерянной улыбкой сказала девушка. — Хорошо…
Наступило молчание. Портсигар Геника опустел. Он с треском захлопнул его и встал. Люба тоже встала и сделала движение к столу, где лежала ее шляпа.
— Постойте! — вспомнил Геник. — А деньги? Вот, берите деньги.
Он вынул кошелек и протянул, не считая, несколько бумажек. Девушка спокойно спрятала их в карман. Она брала их не для себя, а для «дела».
— Вот и паспорт…
— Спасибо… вам…
Голос ее слегка дрогнул, а затем Люба сделала маленькое усилие, сжала губы и спокойно посмотрела на Геника.
Нет, он решительно не в состоянии выносить этот напряженный голубой взгляд. Стукнуть стулом, что ли, или прогнать ее? Геник деланно зевнул и сказал, холодно улыбаясь:
— Ну, вот и все. Так идите теперь и… постарайтесь не опоздать на поезд.
— Спасибо! — повторила девушка и, схватив тяжелую руку Геника, слабо, но изо всех сил стиснула ее маленькими, теплыми пальцами.
— Ну, что там! — пробормотал Геник, опуская глаза и чувствуя, что начинает злиться. — Всего хорошего…
Люба направилась к двери, но у порога остановилась, провела рукой по лицу и спросила:
— А… как вы думаете… удастся… или нет?
— Удастся! — резко крикнул Геник, толкнув ногою стул так, что он перевернулся и с треском ударился в стену. — Удастся! Вас изобьют до полусмерти и повесят… Можете быть спокойны.
Он поднял злые, заблестевшие глаза и встретился с грустным, сконфуженным взглядом. Люба не выдержала и отвернулась.
— Мне не страшно, — услышал Геник ее слова, обращенные скорее к себе, чем к нему. — А вы, кажется, в дурном настроении.
Он стоял молча, засунув руки в карманы брюк и разглядывая носки своих собственных штиблет с упорством помешанного. Люба подошла к двери, отворила ее и, уходя, бросила последний взгляд на мрачную фигуру.
Теперь глаза их снова встретились, но уже иначе. Геник улыбнулся так ласково и задушевно, как только мог. Что-то ответное тепло и просто блеснуло в лице девушки. Она тихо, молча поклонилась и ушла, небрежно встряхнув длинной, русой косой.
II
Когда стало темнеть, Чернецкий зажег лампу и посмотрел на часы. Было ровно десять. С минуты на минуту должен придти Геник: он аккуратен, как аптечные весы, между тем никого еще нет. Это довольно странно. Шустеру и другим следовало бы знать, что дело касается всех.
Он хотел еще как-нибудь, сильнее выразить свое неудовольствие, но в этот момент пришел Маслов. Скинув летнее пальто и шляпу, Маслов осторожно погладил свою черную, иноческую бородку, прошелся по комнате, нервно потирая руки, и сел. Чернецкий вопросительно посмотрел на него, удержал беспричинную, судорожную зевоту и выругался.
— Что такое? — тихо спросил Маслов.
Голос у него был грудной, но слабый, и каждое слово, сказанное им, производило впечатление замкнутого, трудного усилия.
— Не люблю опозданий! — ворчливо заговорил Чернецкий. — Это провинциализм и, кроме всего, — неуважение к чужой личности.
— Что же, — меланхолично заметил Маслов, — ведь Геника еще нет. К тому же публика стала осторожнее, избегает, например, подходить кучкой.
— Все равно… Чаю хотите?
— Чаю! — вздохнул Маслов, отрываясь от своих размышлений. — Что? чаю? Ах, нет… Сейчас нет… Разве, когда все…
— Вы о чем, собственно, думаете-то? — громко спросил Чернецкий, вставая с дивана и усаживаясь против товарища. — А?
Маслов сморщил лоб, отчего его бледное, цвета пожелтевшего гипса, лицо приняло старческое выражение, и рассеянно улыбнулся глубокими, черными глазами.
— Думаю-то? Да вот, все об этом же…
Он пошевелил губами и прибавил:
— Не выйдет…
— Что — не выйдет? А ну вас, каркайте больше! — равнодушно сказал Чернецкий. — Выйдет.
— Не выйдет! — с убеждением повторил Маслов, усмехаясь кротко и жалостно, как будто неудача могла оскорбить Чернецкого. — Есть у меня такое предчувствие. А впрочем…
— Гадать здесь нельзя, не поможет! — хмуро сказал Чернецкий. — Я вот верю в противное.
Вошел Шустер, толстый, рябой и безусый, похожий на актера человек. Сел, тяжело отдуваясь, погладил себя по колену и захрипел:
— Областника нет?
— Геника ждем с минуты на минуту! — сказал Чернецкий. — Что грустишь?
Шустер механически потрогал пальцами маленький, ярко-красный галстук и хрипнул, досадливо дергая шеей, втиснутой в узкий монополь:
— Дело дрянь.
Чернецкий вздрогнул и насторожился.
— Что «дрянь»? — спросил он быстро, пристально глядя на Шустера.
— Да… там… — Толстяк махнул рукой и поднял брови. — Выходит путаница с забастовкой… Уврие сами хотят… свой комитет и автономию…
— Скверно слышать такое, — сказал Чернецкий, — и как раз… Ну, что слышно все-таки?
— Ничего не слышно! — прохрипел Шустер. — Вчера фон-Бухель кутил в загородном саду. На эстраде пьянствовал с офицерами и женой.
— Кутил? — почему-то удивился Маслов, покусывая бороду.
Никто не ответил ему, и он снова впал в задумчивость. Чернецкий заходил по комнате, изредка останавливаясь у окна и круто поворачиваясь. Шустер вздохнул, насторожился, услышав быстрый скрип отворяемой двери, и сказал:
— Вот и Геник.
Геник вошел спокойными, отчетливыми шагами, как человек, вообще привыкший опаздывать и заставлять себя дожидаться. Одет он был слегка торжественно и даже как будто с ненужной излишней чопорностью в черный, щегольской костюм. Загорелое, невыразительное лицо Геника от яркой белизны воротничка, стянутого черным галстуком, сделалось задумчивее и строже. Впрочем, менялся он каждый день, и нельзя было определить, отчего это. Но почему-то всегда казалось, что сегодняшний Геник — только копия, и непохожая, с его наружности в прошлом.
Все оживились, как будто с приходом нового человека исчезла неопределенность и пришла ясная, полная уверенность в успехе дела, о котором говорилось до сих пор шепотом, с глазу на глаз, говорилось с огромным напряжением и подозрительной пытливостью ко всем, даже к себе.
Геник встал, неопределенно и замкнуто улыбаясь, но, когда сел, улыбка исчезла с его лица. Он вынул платок, без нужды высморкался и громко спросил:
— Хозяин, а чаю для благородного собрания дадите?
— Дам, — поспешно ответил Чернецкий, — но не лучше ли сперва, Геник, выяснить положение… т. е., чтобы вы нам рассказали, — как и что… а потом уже все мы занялись бы, так сказать, общими разговорами…
— Ну, все равно… Рассказ мой, хотя будет невелик… — Геник положил одну ногу на другую и закурил. — Вот что, товарищи: дело, что называется, — в шляпе…
Серые глаза Шустера мельком остановились на слегка вздрагивающих пальцах Геника, неуловимо прыгнули и перешли к сухим, полузакрытым губам, сдерживающим нервное, частое дыхание. Он взял его, полушутя, полусерьезно, за руку, зажмурился и сказал:
— Какие мы нервные, однако. Вроде салонной барышни. Что, Геник, конспирация — чугунная вещь, а? Как ты думаешь?
Шустер был со всеми на «ты», даже с женщинами. Геник неохотно рассмеялся и отнял руку.
— Ну, это потом… — сказал он и прибавил другим, тихим, слегка сдержанным голосом: — Так вот. Дело это представляется в таком виде…
Тишина сделалась полной и жадной. Казалось, что в трех головах сразу остановилась работа мысли и вспыхнуло напряженное нетерпение услышать слова, фразы и бешено поглотить эту новую, еще неизвестную пищу так же полно и ненасытно, как пересохшая июльская глина впитывает неожиданную влагу дождя.
Маслов закрыл глаза ладонью и застыл так, слушая. Геник продолжал:
— Мне понравилась эта девушка, Люба. Я нашел, что она человек, подходящий во всех отношениях.
Чернецкий удовлетворенно наклонил голову.
— Да! — вздохнул Геник, потирая лоб. — По крайней мере — я так думаю. Это — из потрясенных натур.
— Она верит! — убежденно сказал Чернецкий. — Когда я познакомился с ней, мы долго беседовали… Даже странно и неожиданно было — такая глубокая, мучительная жажда подвига, рыцарства… Но, впрочем, сейчас не в этом дело.
— Вот именно! — подтвердил Геник, рассматривая стену. — Глубокая и тихая натура. Из тех, что переживают в себе. В ней много, вообще, полезных качеств и…
— Пощади уши нашего терпения! — захрипел Шустер, беспокойно ворочаясь на стуле. — Ты расскажи нам, как вышло…
— Пусть уши твоего терпения подрастут немного! — сердито улыбаясь, перебил Геник. — Я не нуждаюсь в понуканиях.
Шустер вопросительно посмотрел на Маслова и неловко замолчал. Геник побарабанил пальцами по столу.
— Да, — сказал он, — так вот. Девица во всех отношениях подходящая. Во-первых, послушна, как монета…
Его пристальный взгляд обошел товарищей и вернулся в глубину орбит. Никто не пошевелился; напряженное молчание заражало Геника смутным, тяжелым беспокойством. Но, задерживая объяснение и от этого раздражаясь еще больше, он продолжал:
— Во-вторых — у нее есть конспиративный инстинкт, что тоже очень выгодно…
— Да, это хорошо, — сказал Маслов.
— В-третьих — девушка с характером…
Снова молчание. За окном выросли пьяные голоса и затихли, шатаясь в отдалении унылыми, скучными звуками.
— В-четвертых, — продолжал Геник, — она твердо и бесповоротно решила…
— Да? — спросил Чернецкий, и в голове его зазвучало радостное, нервное оживление. — Вы сумели на нее подействовать, быть может? Хотя нет, я ее достаточно знаю… А все-таки — решающий момент… это ведь… Многие отступали.
Геник внимательно выслушал его и, рассматривая кончики пальцев, сказал медленно, но ясно:
— Я разговорил ее.
Маслов опустил руку и недоумевающе смигнул. Шустер задержал дыхание и насторожился, думая, что ослышался. Но Чернецкий продолжал спокойно сидеть, и по лицу его было видно, что он еще далек от всякого понимания.
Геник молчал. Глаза его сощурились, а левая бровь медленно приподнялась и опустилась.
— Что вы сказали? Я вас не понял, — сдержанно заговорил Чернецкий. — От чего вы ее разговорили?
— Я отговорил ее от стрельбы в фон-Бухеля! — неохотно, с блуждающей улыбкой в углах рта, повторил Геник. — Я, надеюсь, достаточно понятно сказал это.
— Да что вы! — вскрикнул Чернецкий с тонким, растерянным смехом. — Проснитесь. Что вы сказали?
— Ну, Геник, ерундишь, брат! — захрипел Шустер, краснея и тяжело дыша. — Какого черта, в самом деле!..
Все трое в упор, широко раскрытыми, готовыми улыбнуться шутке глазами смотрели на Геника, и вдруг маленькая, хмурая складка между его бровей дала понять всем, что это факт.
Сразу после тишины, нарушаемой только сдержанными, спокойными голосами, поднялся беспорядочный, крикливый и возбужденный шум. Маслов махал руками и пытался что-то сказать, но ему мешал Чернецкий, кричавший высоким, удивленным голосом:
— Дикая вещь!.. Вы в здравом рассудке или нет? Придти и говорить нам, да еще с каким-то издевательством?! Это… Кто вас просил за это браться, скажите на милость? Возмутительно! Что вы — диктатор?!
— Господи! Чернецкий! — вставил Маслов раздраженно зазвеневшим голосом, болезненно морщась от крика и общего возбуждения. — Да дайте же Генику… да Геник… Это что-нибудь не то, слушайте…
— Да послушайте вы меня! — Геник встал и сейчас же сел снова. — Слушайте, и во-первых, и во-вторых, и в-третьих, и в-четвертых — я Аверкиеву отговорил. Да. Я ее отговорил. Вот и все. Но что же из этого? А, впрочем, мне все равно… Это ясно. Если хотите сердиться, — пожалуйста…
— Да что ясно? — вскипел Чернецкий, волнуясь и дергаясь всем телом. — Что вам все равно? Действительно! Но каким образом? Зачем?
— Постойте же! — отмахнулся рукой Маслов и встал. — Почему вы, Геник, взяли на себя труд за нас решить этот вопрос? И отговорили. Вот, объясните нам, пожалуйста, это… — добавил он глухим, настойчивым голосом.
Геник молчал, и казалось, что он колеблется — говорить или нет. Странное, беспорядочное молчание сделалось общим и напряженным, как будто каждый из трех в упор смотревших на Геника людей ждал только первого его слова, чтобы зашуметь, возразить и высказаться. Наружно Геник сохранил полное равнодушие и, подумав, холодно сказал:
— Я объясню. Я объясню… Конечно… Странно было бы, если бы я не объяснил…
Он курил, подбирая слова, и, наконец, с хорошо сделанной небрежностью начал:
— Эта маленькая…
Но сбился, внутренне покраснел и умолк. Потом вздохнул, подавил мгновенное, колючее ощущение неловкости, как если бы собирался раздеваться в присутствии малознакомых людей, и заговорил чужим, негромким и неуклюжим голосом.
И первые же его слова, первые же мысли, высказанные им, наполнили трех революционеров тем самым чувством неловкого, колючего недоумения, которое за минуту перед этим родилось и угасло в душе Геника. Впечатление это было родственно и близко ощущению человека, пришедшего гостем в хороший, фешенебельный дом и вдруг увидевшего среди других гостей и знакомых уличную проститутку, приглашенную к обеду, как равная к равным. То же смешливое, досадливое и бессильное сознание неуместности и ненужности, любопытства и подозрительности. Чем дальше говорил Геник, тем более росло недоумение и сарказм, глубоко запрятанный в сердцах маской застывшей, холодной и деланно-внимательной полуулыбки. Каждый из трех, слушая Геника, судорожно хватался за возражения и неясные, всполохнутые мысли, вспыхивающие в мозгу, бережно держался за них и с нетерпением, доходящим до зуда в теле, ожидал, когда кончит Геник, чтобы разом, рванувшись мыслью, затопить и обезоружить его новую, странную и неуместную логику. Маслов слушал и понимал Геника, — но не соглашался; Чернецкий понимал — но не верил; Шустер просто недоумевал, бессознательно хватаясь за отдельные слова и фразы, внутренно усмехаясь чему-то неясному и плоскому.
— …Но ей восемнадцать лет… Я не знаю, как вы смотрите на это… но молодость… то есть, я хочу сказать, что она еще совсем не жила… Рассуждая хорошенько, жалко, потому что ведь совсем еще юный человек… Ну… и как-то неловко… Конечно, она сама просилась и все такое… Но я не согласен… Будь это человек постарше… взрослый, даже пожилой. Определенно-закостенелых убеждений… Человек, который жил и жизнь знает, — другое дело… Да будет его святая воля… А эти глаза, широко раскрытые на пороге жизни, — как убить их? Я ведь думал… Я долго и сильно думал… Я пришел к тому, что — грешно… Ей-богу. Ну хорошо, ее повесят, где же логика? Посадят другого фон-Бухеля, более осторожного человека… А ее уже не будет. Эта маленькая зеленая жизнь исчезнет, и никто не возвратит ее. Изобьют, изувечат, изломают душу, наполнят ужасом… А потом на эту детскую шею веревку и — фюить. А что, если в последнее мгновение она нас недобрым словом помянет?
Геник замолчал и поднял на товарищей блестящие, полузакрытые глаза. Он был взвинчен до последней степени, но сдерживался, стараясь говорить ровно и медленно. Оттого, что сказанное им скользило лишь на поверхности его собственного сознания, не вскрывая настоящей, яркой и резкой сущности передуманного, в груди Геника запылало глухое бешенство и хотелось сразу отбросить всякую осторожность, сказать все.
— Ну-ну!.. — Чернецкий широко развел руками и насмешливо улыбнулся. — Ну, батенька, — завинтили!.. Фу, черт, даже и не сообразишь всего, как следует… Да вы кто такой? Позвольте узнать, кто вы такой, в самом деле? Ведь я, — он повысил голос, — ведь я думал, представьте, что вы партийный человек, революционер!.. Но тогда нам не о чем разговаривать! Да, наконец, не в этом дело, черт возьми! Зачем вы сами, зачем вы выскочили с вашим посредничеством? Кто вас просил, а? Вас совесть замучила, — так предоставьте другим делать свое дело. Соломон Премудрый!.. А вы идите себе с богом в монахи, что ли… или в толстовскую общину… да!..
— Вы сдерживайтесь, Чернецкий… — сказал Маслов. — Геник, ваши взгляды — это ваше личное дело и нас не касается. Но почему все это сделано под сурдинку? Почему это тайно, не по-товарищески, с какой-то заранее обдуманной задней мыслью?
Геник упорно молчал, постукивая ногой. Все равно, если и объяснить, ничего не будет, кроме нового взрыва неудовольствия. Шустер задумчиво улыбался и тер колено рукой, исподлобья посматривая на Геника. Чернецкий подождал немного, но, видя, что Маслов молчит, заговорил снова, резко и быстро:
— Вы думаете, что раз вы представитель областного комитета, так вам все позволено? Нет! А по существу… смешно даже!.. Мы в осаде, мы на позиции, мы вечно должны бороться с опасностью для жизни за наше собственное существование… За то, чтобы напечатать и распространить какую-нибудь бумажку… Вы знаете, что сказал вчера фон-Бухель? Нет? А он сказал вот что: что он нас задушит, как мышей, сгноит, голодом уморит в тюрьме! Что же, ждать? А эти корреспонденции из деревень — ведь их без ужаса, без слез читать нельзя! Боже мой! Все было начеку, были люди… Вы говорите, что ее могут повесить… Да это естественный конец каждого из нас! То, что вы здесь наговорили, — прямое оскорбление для всех погибших, оскорбление их памяти и энтузиазма… Всех этих тысяч молодых людей, умиравших с честью! А то — скажите пожалуйста!..
Чернецкий воодушевился и теперь, стоя во весь рост, гибкий и красивый, как молодое дерево, трепетал от сдержанного напряжения и бессильной, удивительной злости. Он был душою, инициатором этого маленького, провинциального заговора и говорил сейчас первое, что приходило на язык, чтобы только дать выход неожиданно загоревшемуся волнению.
Геник слушал, невинно улыбаясь. Чернецкий может говорить, что ему угодно. Нет, в самом деле! Недоставало еще, чтобы грудные младенцы ходили начиненные динамитом. Геник откинулся на спинку стула, стиснул зубы и решительно усмехнулся.
— Я слушаю, Чернецкий, — холодно сказал он. — Или вы кончили?
— Да, я кончил! — отрезал юноша. — А вот вы, очевидно, продолжать еще будете?
— Нет, я продолжать не буду, — спокойно возразил Геник, пропуская иронию товарища мимо ушей. — Я буду молчать. А потом… может быть, скажу… когда-нибудь…
— Жаль! — захрипел Шустер, вдруг краснея и грузно ворочаясь. — А нам интересно бы сейчас послушать тебя!
— Маслов! — удивленно и как-то обиженно воскликнул Чернецкий. — Вы что же? Что же вы молчите?
— Да что ж сказать? — болезненно усмехнулся Маслов. — Теоретически — наш товарищ Геник, конечно… прав. А практически — нет. Жизнь-то ведь, господа, — жестокая, немилостивая штука… Как ты ни вертись, а она все вопросы ставит ребром… Жалко; это верно, что жалко… Но почему же тогда каждого человека не жалко? Играя на жалости, мы можем зайти очень далеко… И крестьян жалко, и рабочих жалко, и невинно пострадавших тоже жалко… Почему же такое предпочтение? Потому, что это женщина? Геник, скажите откровенно, — если бы эта девушка была вам не симпатична, вы тоже так поступили бы?
Шустер неловко усмехнулся и сейчас же глаза его приняли деланно серьезное выражение. Чернецкий взглянул на Геника, но тот равнодушно сидел, сохраняя каменную, безразличную неподвижность лица и тела. Маслов продолжал:
— На молодости-то ведь и зиждется все. Именно молодые-то порывы тем и хороши, что они безумны… Геник нелогичен. Ни для кого не секрет, что наше участие в движении ведет ко многим разорениям, застоям в промышленности, к голоданию и обнищанию целых семейств… Отчего же здесь нет у нас жалости? Да потому, что это печальная необходимость… И как ни грустно, — приходится сказать, что одной необходимостью больше, одной меньше — все равно…
Маслов разгорячился, и его истомленное, бледное лицо покрылось беглым, лихорадочным румянцем, а глаза, пока он говорил, смотрели попеременно на всех присутствующих, как бы приглашая их кивком головы выразить свое сочувствие.
— А играя на необходимости, — возразил Геник, — мы можем зайти еще дальше. Там, где для вас «все равно», — должна прекратиться молодая, хорошая и светлая жизнь… Одно дело, когда результаты необходимых действий находятся где-то там… в тумане. И другое — когда сам присутствуешь при этом.
Тоска давила его. Он неожиданно шумно встал, надел шляпу и направился к выходу. Три пары глаз холодно и с недоумением следили за его движениями. Шустер сказал:
— Геник, ну это же непорядочно, наконец, — уйти, ничего не объяснив… Расскажи хоть, что она говорила, — Геник!..
Геник остановился, открыл рот, собираясь что-то сказать, но раздумал, толкнул дверь ногой и вышел.
Наступило длинное, гнетущее молчание, и казалось, что на лица, движения и предметы опустилась невидимая, вязкая паутина. В хорошо налаженную машину, в сцепления ее колес, зубцов и ремней попало постороннее тело, и механизм, пущенный в ход, остановился. Так чувствовалось всеми, сидевшими в этой комнате.
Первый нарушил молчание Чернецкий. То, что сказал он, было как будто и ненужно, и слишком поспешно, но раздраженная мысль подозрительно и упорно хваталась за все, что могло бы объяснить происшедшее не в пользу Геника. Чернецкий сказал:
— Дело это… сомнительное…
Удивления не последовало. Слишком каждый привык быть настороже и определять значение факта по тому, ясны его источники или нет. Но в данном случае думать так было неприятно. Маслов пожал плечами и заговорил, отвечая скорее на свои собственные мысли, чем на слова Чернецкого:
— Выходит, что я еще совсем не знаю людей… А ведь он три недели здесь и все время в работе. Кажется, уж можно было определить степень его уравновешенности. Одно из двух: или крайняя впечатлительность, или… полное внутреннее неряшество… какой-то вызов… Зачем? Тяжело все это…
— Что ж кукситься? — захрипел Шустер. — Нужно сходить к Любе Аверкиевой и попросить ее сюда. Мы по крайней мере узнаем суть дела. А?
— Да! — сказал Чернецкий, бросаясь к вешалке. — Вы подождите… Я скоро…
Он ушел и пришел назад через полчаса, расстроенный и усталый. Люба уехала сегодня, не объяснив, куда и зачем, на десятичасовом поезде.
III
Шустер открыл дверь и удивился: в комнате было темно. Едва уловимые контуры обстановки выступали неровными, черными углами, а в глубине, против двери, синели квадраты оконных стекол, слабо озаренные огнем уличного фонаря.
Он постоял некоторое время, держась за ручку отворенной двери, шагнул вперед и, предварительно крякнув, спросил хриплым, неуверенным голосом:
— Геник здесь?
Мгновение тишины, и затем резко и коротко скрипнула невидимая кровать. Шустер насторожился, подвигаясь ближе. Кровать заскрипела еще громче, и на еле заметном пятне подушки приподнялась темная человеческая фигура.
— Геник, ты? — повторил Шустер, подходя на цыпочках с расставленными руками, чтобы не задеть стул. — Темно у тебя…
— Ты зачем пришел? — раздался вдруг холодный грудной голос, и вошедший вздрогнул. — Что тебе надо?
Шустер опешил: такого приема он не ожидал. Подавив мгновенное неудовольствие, он сделал в темноте обиженное лицо и сказал:
— Если так, то я, конечно… уйду… Ты, конечно, вправе… но…
— Не болтай глупостей! — резко оборвал Геник, ворочаясь на кровати. — Говори толком: что?
— Как — «что»? — сказал Шустер, помолчав. — Я пришел к тебе от всех… Будет сердиться, Геник… Мы же товарищи и… и… Вообще…
— Ступай! — зевнул Геник, скрипя кроватью. — Ступай.
— Да погоди же ты, чудак. Ведь… Это оскорбительно.
Он замолчал, совершенно сбитый с толку. Геник тоже молчал, и тишина таилась только вокруг напряженного молчания двух людей. Шустер ободрился немного и продолжал:
— Ведь нельзя так, совершенно… без объяснения…
— Ты, я вижу, не хочешь уйти… — медленно, как бы обдумывая что-то, сказал Геник. — Значит, придется уйти мне.
— Геник, ради бога! — взволновался Шустер. — Ты пойми… Ну что же тут такого… Ну, произошло недоразумение… конечно, мы отчасти… то есть… но ведь и ты сам горячо принимаешь к сердцу… все это… эту историю… Конечно, мы были все немного увлечены и…
— Врешь! — жестоко возразил Геник. — Ты, толстый Шустер, врешь. Вы не упустили случая сделать мне неприятность, потому что я пошел против вас всех. Только это мелочно, Шустер, мелочно и некрасиво.
Шустер внутренно съежился, но все же пробормотал:
— Ну, слушай, это простая случайность, что…
— Извини, пожалуйста! — рассердился Геник. — Письмо было адресовано именно мне и никому другому. Чернецкий — грамотный человек. Он не имел права читать его сам и показывать всем другим. Это не случайность, а нахальство.
— Я не знаю, видишь ли… — откашлялся Шустер. — Как сказать? Конечно, неосторожно… но… тебя не было и… мы не могли… то есть он, вероятно, подумал, что что-нибудь экстренное… да. И не нужно долго сердиться за это, Геник. Мало ли чего бывает, ведь…
— Не вертись! — злобно отрезал Геник. — «Мы, вы, я, он» — как это на тебя похоже. Каковы бы ни были личные отношения между нами, — читать чужие письма все же недопустимо. Хотя бы вы, черт вас подери, потрудились заклеить его! Или вложить в новый конверт. А теперь я это не могу рассматривать иначе, как вызов мне, да! И после этого они еще посылают тебя, дипломата с медвежьими ухватками! Даже смешно.
— Да ну же, — простонал Шустер, — плюнь ты на Чернецкого. Он знаешь… того… человек самолюбивый… План этот весь принадлежал ему… Конечно, — заторопился Шустер, услыхав новый, чрезвычайно громкий скрип кровати, — он легкомысленно… это верно… но… так, все-таки… это было непонятно… отъезд Любы… твое молчание… что он… так сказать… в порыве раздражения… гм…
— Так что же, — иронически спросил Геник, — ты извиняешься, что ли, предо мной? И что вам вообще от меня угодно?
— Мы все, — важно сказал Шустер, — желаем сохранить товарищеские отношения… Вопрос этот с твоей стороны странный… Я пришел, Геник, позвать тебя к… туда, где сейчас все… нужно же, наконец, выяснить и прекратить это… положение… Мы ведь не обыватели, которые… Иди, Геник! Право! Я уверен, что все уладится…
Геник поднялся с кровати и зашагал по комнате. Темная фигура его мелькала, как ночная птица, бесшумно и легко мимо Шустера, стоявшего у стены с тупым недовольством в душе. Он усиленно напрягал зрение, но лица Геника не было видно, и Шустеру уже показалось, что раздражение товарища улеглось, как вдруг тот остановился против него и, наклонившись так близко к лицу гостя, что было слышно возбужденное, усиленное дыхание двух людей, сказал тихим, сдавленным голосом:
— Одно письмо я простил бы. Но я, Шустер, видел вчера твой красный галстук на соборной площади, когда ты шел за мной от рынка до завода.
Шустер вздрогнул и насильно засмеялся. Потом в замешательстве сунул руку в карман, снова вытащил ее и погладил волосы. Но тут же сообразил, что в комнате темно и что Геник не мог заметить внезапной краски, залившей шею и уши. Пожав плечами, он спрятал руки за спину и сказал:
— Я, право, перестаю тебя понимать… Кто шел за тобой? Я? Что за чепуха? Да и зачем, куда? Ты бредишь, что ли?
— Шустер… — протянул Геник, качая головой. — С твоей фигурой и опытностью в деле шпионажа лучше бы не браться за такие дела. Эх ты, тюлень!
— Ну, ей-богу же! — возмутился Шустер, оправляясь от смущения. — Это черт знает, что ты говоришь. Это свинство, наконец!
— Ступай вон! — вспыхнул Геник, и в голосе его дрогнула новая, резкая струна. — Пошел отсюда!
— Я! — растерялся Шустер, отступая назад. — Что ты?
— Убирайся к черту, я тебе говорю! — закричал Геник. — Прочь!
— Геник…
— Вон!
— Но ты… послушай же, черт… Я…
— Если ты не уйдешь сию же минуту, я тебя вытолкаю! — дрожа от напряженного, тоскливого бешенства, заговорил Геник. — Мы с тобой объяснились достаточно, нам больше нечего говорить. Пошел!
— Да я же…
— Слушай! — вздохнул Геник, чувствуя, что теряет над собой всякую власть. — Если ты сию же минуту не уйдешь, я всажу тебе в брюхо вот все эти шесть пуль.
Он вытащил из кармана револьвер и навел холодное, темное дуло прямо в грудь Шустера. Курок торопливо, звонко щелкнул и замер. Жаркий туман стыда, испуга и озлобления хлынул в голову Шустера, и через две-три секунды острого, тяжелодышащего молчания, он сказал, чуть не плача:
— Хорошо, товарищ… хорошо… Я…
— Раз! — сказал Геник, нажимая собачку.
— Ну… — Шустер отворил дверь и снова повторил, растерянно улыбаясь: — Ну… я…
— Два!..
Темная фигура бросилась в сторону, и через мгновение торопливый стук шагов затих в глубине коридора. Геник слышал, как резко и быстро хлопнула, завизжав, выходная дверь. Он вздохнул, вздрагивая, как от озноба, сунул револьвер под подушку, подошел к столу, зажег свечку и сел на стул.
Дрожащие, зыбкие тени бросились прочь от вспыхнувшего огня и притаились в углах, неслышно двигаясь под стульями и кроватью, как мыши. Желтый, неровный свет падал на опущенную голову Геника и руки, вытянутые на столе. Так сидел он долго, попеременно улыбаясь и хмурясь быстрым, назойливым мыслям, бегущим монотонно и ровно, как шум поезда.
Окно, чернея, глядело на Геника темной пустотой ночной улицы. Неопределенные шорохи, крадущиеся шаги ползли в тишине, мешаясь с отдаленным глухим стуком колес и звуками мгновенного разговора, вспыхивающими и угасающими во тьме, как спичка, задутая ветром. Геник отодвинул стул, открыл ящик стола и, пошарив среди бумаг, вытащил небольшой узкий конверт. На нем стояло название города, улицы, дома и надпись: — «Ю.Г. Чернецкому, для Геника». «Для Геника» было подчеркнуто два раза и самые буквы этих слов выведены особенно старательно.
Вытащив письмо, Геник развернул его и в третий раз, самодовольно улыбаясь, прочел торопливые, женские строки.
Люба писала:
«Дорогой товарищ Геник. Не знаю вашего адреса и пишу на Чернецкого. Скажите, пожалуйста, зачем я сюда приехала? М.И. ничего не знает и очень удивлена, но говорит, что если вы меня послали, то значит так надо. Объясните, пожалуйста, — что мне делать дальше?
Люба А.»
Даже подпись поставлена. Неужели он ошибся относительно ее конспиративности? Впрочем, теперь все равно, и это наивное письмо будет только лишним воспоминанием. Делать ей там, разумеется, совершенно нечего, поэтому пусть едет обратно. Он ей ответит и пошлет денег на обратный проезд.
Неровные, размашистые буквы так живо напоминают руку, писавшую их. Маленькая, гибкая рука, скромно запрятанная до кисти в длинный рукав шерстяного коричневого платья.
Дальше — узкие детские плечи, тонкая шея, коса, упавшая на грудь, и молодая, горячая голова с ясным, пристальным взглядом. Брови сдвинуты досадливо и тревожно. Она пишет ему это письмо. Сидела она, кажется, вот на этом стуле. Даже теперь, как будто, в воздухе блестит улыбка, полная затаенного трепета молодости.
Геник напряженно думал, стараясь уловить что-то сложное, но бесспорное, мелькавшее вокруг образа этой девушки, как неуловимые тени листвы, и вдруг прямая, стройная мысль обожгла его мозг, расцветилась, вспыхнула и выпукло, простыми, отчетливыми словами проникла в сознание. Геник беспокойно заерзал на стуле, улыбаясь тому, что стало таким значительным и ясным. Сидеть теперь здесь, одному, было нельзя. Шустера жаль, лучше бы потолковать с ним. Хотя, что ни говори, его следовало проучить, человек он дельный, но глупый. А теперь Геник пойдет к ним, скажет самое настоящее и объяснит все: это необходимо.
Одно мгновение ложный стыд шевельнулся в нем. Явилось опасение, что не поверят его искренности, но, утвердившись на той мысли, что надо же это все когда-нибудь кончить, смягчить отношения и ехать работать в другой город, — Геник встал, оделся, погасил свечку и, сунув револьвер в карман пальто, вышел на улицу.
IV
Теплая, весенняя ночь окутывала город душным, пыльным сумраком. За рекой небо еще трепетало и вспыхивало последним румянцем, но выше зажглись звезды, сияя над черными грудами крыш и в просветах темных деревьев, как маленькие небесные светляки. Из окон выбегал широкий желтый свет, местами озаряя тротуары и деревянные, покосившиеся тумбы. Пыль немощеных улиц, поднятая за день, еще не улеглась и невидимо насыщала воздух, густая и душная. За темными, покосившимися заборами, как живые, склонялись деревья, одетые сумраком, шумели и думали.
Геник шел спокойно, не торопясь, обдумывая возможные результаты предстоящего объяснения. От недавнего столкновения с Шустером и жаркой истомы ночи кровь разволновалась, тело требовало усиленного движения, но Геник намеренно сдерживал шаги, не желая еще более возбуждать себя быстрой ходьбой. За ним прислали Шустера, уж, конечно, не для одного примирения. Очевидно, там ожидают его объяснений по поводу письма и отъезда Любы. Если будут приставать к нему с вопросами относительно мотивов, — то он, конечно, скажет им все, хотя бы это повело к форменному разрыву. Лучше об этом сейчас даже не думать. Ход разговоров покажет сам, где и когда можно будет сказать то, что уже сложилось и окрепло в его душе готовым убеждением.
Он вспомнил красный галстук Шустера, нахмурился и свистнул, а пройдя несколько шагов, обернулся, не переставая подвигаться вперед. Та часть улицы, которую мог охватить глаз, скованный темнотой, была совершенно пуста. Но, несмотря на отсутствие прохожих, тишины не было. Неясные, темные звуки роились, замирали и гасли вокруг, и казалось, что сам уснувший воздух в бреду родит их, грезя эхом и напряженностью дневной суеты.
Геник перешел огромную пустую площадь, в конце которой, на фоне сумеречного неба, рисовались черные колокольни собора, свернул влево и углубился в один из кривых базарных переулков, вымазанный лужами и разным рыночным сором. Днем здесь стоял несмолкаемый шум, звонко кричали бабы, торговки овощами и яйцами; шныряли кухарки и повара, жулики в калошах на босую ногу, торговцы в синих картузах и поддевках; пестрели огромные, пахнущие сырьем, кучи репы, моркови, капусты. Теперь было тихо, темно; навесы лабазов, подобно огромным, продырявленным зонтикам, закрывали переулок, а запертые полупудовыми замками лари, темнея неправильными рядами, казались ненужными, большими ящиками, неизвестно почему окованными ржавым железом.
С угла, навстречу Генику, поднялся задремавший сторож и быстро застучал колотушкой, выбивая скудную, монотонную дробь. Геник прошел мимо него; колотушка трещала еще некоторое время, потом стукнула один раз особенно громким, упрямым звуком и умерла.
Кажется, в переулке раздавалось эхо, потому что шаги Геника стучали по дереву узких дрянных досок тротуара двойным, разбросанным шумом. Он остановился, не решаясь оглянуться, но эхо раздалось еще три раза и стихло. Сердце у Геника забилось усиленным темпом, и он, не двигаясь вперед, стал топтаться на месте, покачиваясь и размахивая руками, как быстро идущий человек.
Эхо приблизилось, замедлилось, как будто в нерешительности, и сгибло в темноте переулка. Геник повернулся и быстро, бегом, бросился назад. Кто-то побежал перед ним изо всех сил, метнулся в сторону, присел за ларь, выскочил снова, но Геник уже держал его за ворот пальто, смеясь от бешенства и удивления.
— Пусти!.. — крикнул Шустер, задыхаясь от беготни и тяжелого, злого стыда. — Пусти… ну!
Он сильно барахтался, стараясь вырваться, но Геник коротким усилием повалил его на землю и сел, крепко держа руки противника. Шляпа Шустера откатилась в сторону, и оторопелые, налившиеся кровью глаза упирались в лицо Геника.
— Так! — гневно сказал Геник. — Так вот как, Шустер!.. Ну, хорошо. Я шел сейчас к Чернецкому, и ты напрасно трудился. Впрочем, не советую приходить туда… Может быть, ты мне объяснишь что-нибудь?
— Нечего объяснять… — сказал Шустер хриплым, дрожащим голосом. — Сам ты виноват…
Геник встал, поставил товарища на ноги и, размахнувшись, ударил его в плечо. Шустер охнул и отлетел в сторону, еле удержав равновесие.
— Вот так! — сказал, смеясь, Геник, хотя к горлу его подкатился тяжелый, нервный комок обиды и отвращения. — Теперь мы квиты. Прощай.
Он повернулся и, прежде чем Шустер оправился, пошел прочь ровными, быстрыми шагами. А вдогонку ему летела громкая, беспокойная дробь колотушки ночного сторожа.
V
— Вот и вы! — сказал Чернецкий вежливо-ироническим тоном, бегая глазами по комнате. — Садитесь, пожалуйста.
Геник вошел, не снимая шляпы, быстро осмотрел комнату, не поклонившись Маслову, сидевшему в тени лампы, и подошел к Чернецкому. Тот поднял глаза и встретился с бледным, осунувшимся лицом.
— Ну, что же? — устало спросил Геник. — Вам угодно было меня видеть?
— Да, — сказал Маслов, предупреждая ответ Чернецкого. — Знаете, это тяжело, наконец… Мне хочется лично, например, поговорить с вами… прямо и откровенно. Садитесь, товарищ, — мягко добавил он, видя, что Геник стоит. — Садитесь и снимите вашу шляпу.
— Дело не в шляпе! — вспыхнул Геник. — Я не устал и шляпы снимать не буду.
Чернецкий криво усмехнулся, шагая из угла в угол. Лицо Маслова стало неловким и напряженным. Он покраснел, сделал над собою усилие и заговорил, не повышая голоса:
— Вы хотите ссориться, Геник, но предупреждаю, что со мной это немыслимо. Отчего вы такой? Мы работали вместе, дружно, целых три недели прошло уже, как вы приехали… На юге встречались с вами, я помню… Да… А теперь что же? Какая-то тяжелая туча спустилась над всеми… дело запущено, потеряны многие связи… Нас ведь очень мало, и если так пойдет вперед, можно с уверенностью сказать, что мы недолго протянем.
— Маслов, — сказал Геник и мгновенно побледнел, — может быть, Шустер хочет со мной ссориться?
— То есть? — отозвался Чернецкий, и красивое лицо его насторожилось. — Почему?
— Видите ли, — внутренно смеясь, объяснил Геник, — не далее как час тому назад я поколотил его в одном из рыночных переулков. Он был очень неосторожен, но все-таки убедился, что я в охранном отделении не служу.
— Что-то не понимаю вас… — жалко улыбаясь, сказал Маслов и вдруг тяжело задышал. — Вы и Шустер подрались, что ли?
Чернецкий подошел к окну, растворил его и стал глядеть вниз на улицу. Геник не выдержал. Звонкий туман хлынул в его голову, и через мгновенье, ударив кулаком по столу, он закричал, вздрагивая от бешенства:
— Еще недостает, чтобы вы мне лгали в глаза!.. Он шпионил за мной, говорю я вам! Чьи это шутки, а?..
— Ну знаете, Геник, — овладев собой, сказал Маслов ненатурально-возмущенным голосом, — я на такие вещи отказываюсь отвечать… И говорить их оскорбительно, прежде всего для вас самих…
— Да, — с холодным упрямством подхватил Чернецкий, — вы начинаете болтать глупости!..
— Хорошо! — сказал, помолчав, Геник, стараясь удержать расходившееся волнение. — Я молчу об этом. Доказать это трудно, и вы можете с ясными глазами отпираться сколько вам угодно… Все-таки шел я сюда, к вам… не с враждой… А после того, как поймал Шустера… Кстати, он побоится придти при мне, будьте спокойны…
Все молчали, и молчание это было тягостнее самых оскорбительных и злых слов. Улица заинтересовала Чернецкого; он пристальнее, чем когда-либо, смотрел в нее. Маслов напряженно теребил бороду, и его серьезные, черные глаза ушли внутрь, а тонкие губы беззвучно шевелились под жидкими усами.
— Кто читал письмо? — спросил Геник.
— Я… — сказал Чернецкий развязно, но не отрываясь от окна. — Видите ли, это все-таки случайно вышло… Письмо было адресовано ко мне и… могло быть деловым… наконец, — какие секреты могут быть между нами… Относительно же вас, после того разговора… Я не знал даже, придете ли вы еще хоть раз. Поэтому я, после долгого колебания… решил его вскрыть… тем более, что оно могло быть очень нужным… спешным…
— Нет, это великолепно! — расхохотался Геник. — Ну, ну, — что же дальше?
Чернецкий пожал плечами, отошел от окна и, нахмурившись, сел. Как и все люди, он считал себя правым, а Геника нет, и смех товарища оскорбил его. Готовилось разразиться новое, ненужное и больное молчание, как вдруг Маслов спросил:
— Ну, хорошо!.. Там, как бы ни было прочитано, — оно прочитано. А теперь, по существу этого письма, — вы могли бы нам объяснить что-нибудь или нет?
Вопрос этот, поставленный ребром, снова зажег в Генике улегшееся было раздражение и наполнил его тоскливым острым желанием сразу высказать все и уйти.
— Да, — с расстановкой заговорил он, рассматривая потолок, — я могу объяснить вам… Раньше я, признаться, не хотел этого, но теперь, когда вы прочли и все-таки не понимаете, я из чувства человеколюбия должен прийти к вам на помощь…
— Очень польщены! — язвительно бросил Чернецкий, шумно вытягивая ноги. — С благодарностью выслушаем.
— Не знаю, — медленно продолжал Геник, и тонкие складки легли между его бровей, — не знаю, будете ли вы польщены и благодарны потом… но факт тот, что я на этот раз договорю до конца… Да и пора, не так ли?
— Именно! — сказал Чернецкий, грызя ногти. — Давно пора.
— Люба уехала отсюда потому, — с наслаждением продолжал Геник, — что я заставил ее уехать… Иначе она сделала бы то, от чего я ее удержал… правда, обманом удержал, против ее желания… Но вы ведь не замедлили бы исправить мою ошибку? Вот. А поступил я так потому, что человек, бросающий себя под ноги смерти ради фон-Бухеля, не имеет настоящего представления о… жизни. И нужно этому помешать… Теперь, когда этот самый фон уехал из нашего города, разумеется, ничто не препятствует ей вернуться обратно…
Геник умолк и вытер вспотевший лоб. Да, вот сидят они все трое так же, как сиживали раньше, чеканя различные мелочи партийной работы, но отчужденность вошла теперь в глаза всех и светится там холодным, стальным блеском. Эти двое и он — враги.
— Здорово! — воскликнул Чернецкий, нервно потирая руки. — Однако вы, господин, не стесняетесь! Да-да! Герой, вызволяющий невинную жертву из рук злодеев!.. Прямо хоть мелодраму пиши, ха-ха!.. Стыдно вам, Геник! Какой же вы человек борьбы, вы — жалкая, слезливо сентиментальная душа?! Есть бог мести, Геник, — великий, страшный бог, и все мы служим ему!.. Но почему вы нам раньше не сказали того, что сделали? Ваших взглядов не развили почему? Или боялись, что слабы они окажутся?
— Ваша наивность равняется вашему росту, — усмехнулся Геник. — Оттого не сказал, что с первого слова об этом очутился бы в стороне…
— Бессовестный вы человек! — перебил Чернецкий. — Вы…
— Я не кончил еще! — в свою очередь, повышая голос, перебил Геник. — Теперь мне все равно, что вы думаете… Я только спрошу: отчего из вас никто не вызвался на это, так нужное в ваших глазах дело? А? Мы жили, люди мы взрослые, определенных убеждений… Почему свою жизнь вы цените дороже, чем чужую?
Геник встал. Последние слова, сказанные им, довели общее возбуждение до последней степени. Маслов порывисто дышал, судорожно опершись руками о стол, и, когда. Геник умолк, заторопился громким, страстным шепотом, вздрагивая всем своим тщедушным больным телом:
— Это уже… это уже… Это обвинение… какое право… вы… Оскорбляете нас… хорошо. Но я не говорю с вами больше… я не скажу… только… одно… вы и сами знаете это: каждый делает то, что может…
— О, — холодно сказал Геник, — вы могли и не трудиться говорить это. Все эти соображения о разделении труда в партии я знаю… но все-таки мы — мужчины, а она — женщина и… моложе нас… Поэтому я еще раз спрошу: Чернецкий, — не желаете ли умереть благородной смертью? Маслов не умеет стрелять, он слаб… А вы? Отчего бы не попробовать? Это лучше, чем отряжать шпионов за мной.
— Позер! — крикнул Чернецкий, шагнув к Генику.
Слово это вылетело из его горла гулкое и звонкое, как упавшая пустая бочка. Геник пристально посмотрел на юношу и обидно расхохотался, жалея уже о том, что пришел сюда. Кроме дальнейшей брани и шума, ничего не получится. Нужно уйти.
Чернецкий сразу остыл и с тупым удивлением смотрел на Геника. Оттого, что презрительное оскорбление повисло бессильно в воздухе, вдруг всем стало противно и скучно смотреть друг на друга. Геник встал, подошел к двери, но, подумав, остановился и сдержанно заговорил, обращаясь к Маслову:
— Я ухожу… а хотел бы все-таки, чтобы вы, вы именно, поняли меня… Есть люди, смерть которых не проходит бесследно… Пока они живут — их не замечаешь… как воздух, которым мы дышим… Эти маленькие, солнечные жизни похожи на цветы, что растут при дороге… Они такие милые, что даже глядеть на них приятно… Все, что есть у нас лучшего и хорошего, поддерживается благодаря им, когда душа наша, Маслов, усталая и ожесточенная сутолокой и грязью борьбы, отдыхает на них, освежается и крепнет… Я говорю о молодых существах, чистых и трепетных, как весенние листья… Чем стала бы жизнь без них? Пока они среди нас — нужно дорожить этим… Помните Пеньковского Илошу, Нину, с которыми мы познакомились на лимане? Вот тоже Люба. Они нужны, бесконечно нужны, как нужна и дорога всякая поэзия, всякое тепло… И не в этом ли главное молодости? Так нужно беречь их, говорю я… Пусть молодость, сверкающая вокруг, певучая, ясная молодость помогает нам идти до тех пор, пока лицо не покроют морщины и тоскливый холод усталости не затянет сердца тоненькой, всего только очень тоненькой корочкой льда… Вот тогда… кто мешает умереть… если хочется?
Двое людей, слушавших Геника, смотрели в сторону, и странные, блуждающие улыбки сквозили на их лицах. Когда же Маслов поднял глаза, желая что-то сказать, Геника в комнате уже не было.
Снизу, по лестнице, поднималась девушка и, увидя Геника, радостно остановилась. Теперь-то, наконец, ей объяснят все.
— Я приехала… — сказала она. — Здравствуйте! Как я рада, ужасно рада, право!
Геник вздрогнул и слегка растерялся. Потом поздоровался и молча посмотрел в спокойные, ясные, ничего не знающие глаза. Но говорить было нечего, и он сказал только:
— А, вот как!.. Приехали, значит?
— Да.
Люба молча, вопросительно вздохнула, волнуясь и не зная, что делать. Наконец вопрос, вертевшийся все время на ее языке, сорвался с губ, нерешительный и тоскливый:
— Почему это так… вышло? Скажите мне… Я думала… и ничего не могла… Почему это так?
— Ей-богу, — пробормотал Геник, чувствуя, как странный, мучительно-жгучий, но чистый стыд заливает краской его щеки. — Это… вы к Чернецкому… Он все… он расскажет… я, видите, тороплюсь и…
— А вы… разве не могли бы? — сконфузилась девушка. — Я думала…
Она умолкла, и Геник окончательно растерялся, не зная, что сказать. Не может же он говорить то, что сказано там, наверху.
— Я тороплюсь… — вымолвил наконец он. — Вы простите меня — вот все, что я могу вам сказать. Прощайте…
Люба молчала. Мучительные слезы непонимания и тревоги блеснули в ее глазах.
— Простите, — повторил Геник, спускаясь вниз.
Он торопился уйти. Люба постояла еще немного, печально смотря на быстро удаляющуюся фигуру и, вздохнув, пошла выше.
VI
Геник пересек улицу, обернулся на освещенное окно конспиративной квартиры, остановился и с глухим нетерпением стал рассматривать подвижные тени людей, скользившие за стеклом. Кто-то ходил по комнате, потому что большой, заслоняющий все окно силуэт регулярно придвигался к раме, поворачивался и снова пропадал в глубине. — «Чернецкий! — подумал Геник. — Ходит и слушает… но кого? — Самая легкая тень тронула часть стекла, и Геник, сквозь мутно-желтый свет, различил женщину. — Ну, этой плохо! — вслух сказал он. — Ей-богу, они снова уговорят ее». — Тень отодвинулась, пропала, и вдруг показалось Генику, что всякая связь между ним и теми людьми исчезла.
Это было минутное настроение, но в нем, как и в каждом движении души человека, скрывалась несознанная боль одиночества. Ночь, тишина и грусть замедляли шаги Геника. Он шел по траве, сбоку от тротуара, опустив голову, шаркая ногами в бурьяне, и мысленно представлял себе, что произойдет завтра. Комбинируя и усложняя факты, он тщательно проверял их, вспоминал сегодняшний разговор и снова приходил к выводу, что все случится именно так, как не хотел он.
Решение уже набегало, подсказанное тоскливой яростью неосуществленной правды, но тайный инстинкт жизни отвлекал мысль, заставляя прислушиваться к сонной тишине города. Над крышами шумели деревья; их волнообразный, тоскливый шум звучал хором безжизненных голосов, песней оцепенения. Геник подошел к перекрестку. На досках тротуара, обнажая засохшую грязь, желтел свет уличного фонаря. Мальчишески улыбаясь, Геник вытащил из жилетного кармана монету и бросил ее вверх, стараясь попасть на доску. Медный кружок, тяжело вертясь, брякнулся, перевернулся и лег.
Мучительное желание подразнить себя удержало Геника. Он не нагибался, стоял прямо и тупо смотрел вниз, где лежала, обернувшись или орлом, или решкой, трехкопеечная монета. — «Решка!» — уверенно сказал Геник, крепко, до боли прикусил губу и вдруг, быстро нагнувшись, поднял медяк. Выпал орел.
Прошла минута, другая, но революционер все еще стоял, поглощенный натиском мыслей. Надо было идти домой, обдумать и сообразить дальнейшее. — «Все будут поражены! — сказал Геник. — Честное слово, они объяснят это моим упрямством. А что, если бы выпала решка?»
Он сунул руку в карман, ощутив странное удовлетворение, когда сталь револьвера коснулась вздрагивающей ладони, и подумал, что, в случае «решки», оставалось бы только перевернуть монету орлом вверх.
Он широко размахнулся, решительно стиснул зубы и бросил монету в спокойную темноту ночи.
Воздушный корабль
Маленькое общество сидело в сумеречном углу на креслах и пуфах. Разговаривать не хотелось. Великий организатор — скука — собрала шесть разных людей, утомленных жизнью, опротивевших самим себе, взвинченных кофе и спиртными напитками, непредприимчивых и ленивых.
Степанов томился около пяти часов в этой компании; нервничал, бегло думал о сотне самых разнообразных вещей, вставлял замечания, смотрел в глаза женщин отыскивающим, откровенным взглядом и нехотя вспоминал о том, что скоро он, как и все, уйдет отсюда, неудовлетворенный и вялый, с жгучей потребностью возбуждения, шума, продолжения какого-то неначавшегося, вечного праздника. Нервы томительно напряглись, в ушах звенело, и временами яркая, тяжелая роскошь старинной залы казалась отчетливым до болезненности, тревожным и красочным полусном.
Когда закрыли буфет и Степанов, с тремя женщинами и двумя мужчинами, вошел сюда, чувство досадного недоумения поднялось в нем ленивым, издевающимся вопросом «зачем?». Зачем нужна ему эта ночная, воспламеняющая желания сутолока? Каждый занят собой и ищет в другом только покладистого компаньона, предмет развлечения, работу глаз и ушей. Не уйти ли? Чего ждет он и все эти люди, спаянные бессонной, тоскливой скукой?
Степанов подошел к беллетристу, молча посмотрел в его тусклые, лишенные всякого выражения, глаза и тихо спросил:
— Что же теперь делать?
Беллетрист прищурился и, скромно улыбаясь, сказал:
— Да ничего. Поскучаем. Этот момент красив. Разве вы не чувствуете? Красива эта холодная скука, — красива зала, красивы женщины. Чего же еще вам?
Лицо его приняло выражение обычного довольства всем, что он говорит и делает. Степанов хотел сказать, что этого мало, что этот красивый дом и женщины — не его, но, подумав, сел в кресло и приготовился слушать.
В холодную тишину зала ударились звонкие, мягко повторяемые аккорды. Играла Лидия Зауэр, томная блондинка, с холодным взглядом, резким голосом и удивительно нежным, особенно в свете ламп, цветом волос.
Лицо ее, освещенное сверху вниз бронзовым канделябром, мерно колебалось в такт музыке, совсем спокойное и чужое звукам рояля. Степанов закрыл глаза, долго вслушивался и, уловив, наконец, мелодию, перестал думать. Музыка волновала его, оставляя одно общее впечатление близости невозможной, плененной ласки, случайного обещания, нежной злости к невидимому, но прекрасному существу. Открыв глаза, Степанов понял, что Зауэр перестала играть.
— Когда музыка прекращается, — сказал он, присаживаясь поближе к черноволосой курсистке, — мне кажется, что все ушли и я остался один.
— Да, — рассеянно согласилась девушка, как-то одновременно улыбаясь и Степанову и беллетристу, сидевшему с другой стороны. Весь вечер она заметно кокетничала с обоими, и эта бесцельная игра женщины ревниво раздражала Степанова. Временами ему хотелось грубо подойти к ней и прямо спросить: «Чего ты хочешь?» Но вопрос гаснул, напряженное равнодушие сменяло остроту мысли, и снова продолжалась игра глаз, взглядов, улыбок и фраз.
Когда Зауэр, поднявшись из-за рояля, подошла к кучке умолкших, потускневших от бессонной ночи людей, всем показалось, что она скажет что-то, засмеется или предложит идти домой. Но женщина села молча, медленно улыбаясь глазами, и замерла. Молчание становилось тягостным.
— Чего все ждут? — уронила маленькая артистка, сидевшая рядом с Лидией. — Клуб закрывается… ехать сегодня, по-видимому, некуда. А все ждут чего-то. Чего, а?
— Ждут, что женщины начнут целовать мужчин и признаются им в любви, — засмеялся студент. — Мы слабы и нерешительны. Женщины! Освободитесь от предрассудков!
Масляная, осторожная улыбка приподняла его верхнюю губу, обнажив ряд белых зубов. Никто не засмеялся. Артистка, размышляя о чем-то, поправила волосы, Лидия Зауэр механически посмотрела на говорившего, и ее розовое, холодное лицо стало совсем чужим. Студент продолжал:
— Здесь почти темно, настроение падает, и я предлагаю зажечь электричество. Зажгите, господа, электричество!
— Никакое электричество не поможет вам увидеть себя, — съязвил Степанов, делая мистическое лицо.
Студент, вспомнив свою некрасивую, отталкивающую наружность, понял и отпарировал:
— Да здравствует общество трезвости!
От шутки, фальшиво брошенной в унылую тишину душ, стало еще скучнее. Три женских лица, слабо озаренные упавшими через тусклый паркет лучами зажженного канделябра, три разных — как разные цветы — лица, настойчиво, безмолвно требовали тонкого сверкающего разговора, непринужденного остроумия, изысканности и силы удачно сказанных, уверенно верным тоном звучащих фраз.
Но мужчины, сидевшие с ними, бессильно стыли в мертвенном ожидании чего-то, не зависящего от их усилий и воли, что властно стало бы в их сердцах и сделало их — не ими, а новыми, с ясной, кипучей кровью, дерзостью мгновенных желаний и звонким словом, выходящим легко, как утренний пар полей. Утомленные и оцепеневшие в раздражающей, бесплодной смене все новых и новых впечатлений, они сидели, перебрасываясь редкими фразами, тайно обнажающими ленивый сон мысли, усталость и отчужденность.
Беллетрист, помолчав минут пять, пробасил:
— В данный момент где-нибудь на другой половине земного шара начался день. Тропическое солнце стоит в зените и льет кипящую, золотую смолу. Пальмы, араукарии, бананы… а здесь…
— А здесь? — Артистка перевела свои сосредоточенно-кроткие глаза с кончиков туфель на беллетриста. — Продолжайте, вы так хорошо начали…
— M-м… здесь… — Беллетрист запнулся. — Здесь — мы — люди полуночной страны и полуночных переживаний. Люди реальных снов, грез и мифов. Меня интересует, собственно говоря, контраст. То, что здесь — стремление, т. е. краски, стихийная сила жизни, бред знойной страсти — там, под волшебным кругом экватора, и есть сама жизнь, действительность… Наоборот — желания тех смуглых людей юга — наша смерть, духовное уничтожение и, может быть, — скотство.
— Позвольте, — сказал Степанов, — конечно, интеллект их ленив… но разве вы ни в грош не ставите органическую цельность здоровой психики и красоту примитива?
— «Двадцать во-о-семь!» — донесся из угловой залы голос крупье, и тотчас же кто-то, поперхнувшись от жадности, крикнул глухим вздохом: «Довольно!»
— Да! — ненатурально взвинчиваясь, продолжал беллетрист, — мы, северяне, люди крыльев, крылатых слов и порывов, крылатого мозга и крылатых сердец. Мы — прообраз грядущего. Мы бесконечно сильны, сильны сверхъестественной чуткостью наших организаций, творческим, коллективным пожаром целой страны…
Степанов смотрел на студента и беллетриста и точно теперь только увидел их впалые лбы, неврастенически сдавленные виски, испитые лица, провалившиеся глаза и редкие волосы. Курсистка Антонова пристально смотрела на беллетриста, женским чутьем угадывая льстящее ей желание мужчины понравиться недурной женщине. Артистка невинно переводила глаза с одного лица на другое, делая вид, что все ей понятно и что сама она тоже принадлежит к крылатой северной породе людей.
И все остальные, сознавая насильно, чужими словами проникшую в их голову мысль о величии и ценности человека, задерживались на ней гордым утверждением, выраженным в коротком, слепом звуке «я», безотчетно думая, что только их жизнь таит в себе лучи будущих озарений, силы и мощи. Об этом говорили самодовольно застывшие взгляды и упрямо чуть-чуть склоненные головы. И холодно, странно, чуждо светилось между ними лицо Лидии Зауэр.
Беллетрист, поверив в свою искренность, говорил еще много и раздраженно о людях, потом незаметно перешел на себя и окончательно заинтересовал курсистку Антонову. Страстно, всю жизнь лелеемая ложь о себе давалась ему легко. Все слушали. И каждому хотелось так же сказочно, похоже на правду, рассказать о себе.
Потом беллетрист смолк, закурил папиросу, рассчитано задумался и стал смотреть невидящим взглядом на бронзовый узор двери. Прошла минута, и вдруг отчетливый, грудной женский голос пропел мягким речитативом:
По синим волнам океана, Чуть звезды блеснут в небесах, Корабль одинокий несется, Несется на всех парусах. Не гнутся высокие мачты, На них паруса не шумят…— Лидия, — сказал Степанов, когда женщина осторожно остановилась. — Прекрасно! Дальше, дальше! Мы ждем!
— Это не моя музыка, — сказала Зауэр, и ее маленькие, розовые уши чуть покраснели, — но я буду дальше… если не скучно…
— Браво, браво, браво! — зачастил, словно залаял студент. — Ну же, дорогая Лидия, не мучьте!
Розовое, холодное лицо вдумчиво напряглось, и снова в томительной тишине зала, усиливаясь и звеня, поплыло великое о великом:
…Но спят усачи-гренадеры — В равнине, где Эльба шумит, Под снегом холодной России, Под знойным песком пирамид.Тяжелый холод чужой хлынувшей силы сдавил грудь Степанова. Он неподвижно сидел и думал, как мало нужно для того, чтобы серая фигура в исторической треуголке, с руками, скрещенными на груди, и пристальным огнем глаз ожила в столетней пропасти времени… две-три строки, музыкальная фраза…
И маршалы зова не слышат: Иные погибли в бою, Иные ему изменили И продали шпагу свою.Голос Лидии вздрагивал почти незаметным, нежным волнением, но опущенные ресницы скрывали взгляд, и Степанову хотелось сказать: «Не мучьте! Бросьте страшное издевательство!»
Через мгновение он увлекся и, зараженный сам стихийной, трагической жизнью царственно погибшего человека, почувствовал, как защекотала горло невысказанная, умиленная благодарность живого к мертвому; смешное и трогательное волнение гуся, когда из-за досок птичника слышит он падающее с высоты курлыканье перелетных бродяг, бежит, хромая, и валится на распластанные, ожиревшие крылья в осеннюю, больную траву.
Стоит он и тяжко вздыхает, Пока озарится восток, И падают горькие слезы Из глаз на холодный песок…И, по мере того, как стихотворение подходило к концу, лица становились натянутыми, упрямыми, притворно скучающими. А Лидия Зауэр думала, по-видимому, не о них и не о том, в чьем образе неразрывно сплетено золото императорских орлов с грозной музыкой Марсельезы. Глаза ее оставались покойными, слегка влажными и холодными: человека стихийной силы здесь не было. Но в голосе ее так же, как в своей душе, Степанов чувствовал незримые руки мольбы, протянутые к плоской равнине жизни и к вечно витающему, вспыхивая редкими воплощениями, призраку человека.
Розовое лицо смолкло; тонкие, неторопливые пальцы стали поправлять волосы — обычное движение женщины, думающей о мыслях других людей. Кто-то встал, зажег электричество и сел на прежнее место.
Но лучше бы он не делал этого, потому что в безжалостном свете раскаленной проволоки еще жалче и бессильнее было его лицо маленькой твари, сожженной бесплодной мечтой о силе и красоте.
Остров Рено
Внимай только тому голосу, который говорит без звука.
(Древнеиндусское писание)I Одного нет
Лейтенант стоял у штирборта клипера и задумчиво смотрел на закат. Океан могущественно дремал. Неясная черта горизонта дымилась в золотом огне красного полудиска. Полудиск этот, казавшийся огромной каплей растопленного металла, быстро всасывался океаном, протягивая от своей пылающей арки к корпусу клипера широкую, блестящую золотой чешуей полосу отражения.
Лучей становилось все меньше, они гасли, касаясь воды, по мере того, как полудиск превращался в узкий, красный сегмент. За спиной лейтенанта, упираясь в зенит, бесшумно росли тени. Тянуло холодом. Мачтовые огни фонарей засветились в черной, как тихая смола, воде рейда, и Южный Крест рассыпался на небесном бархате крупными, светлыми брильянтами. Бледная даль горизонта суживалась, и лейтенанту казалось, что он смотрит из черной коробки в едва приоткрытую ее щель. Последний луч нерешительно заколебался на горизонте, вспыхнул судорожным усилием и погас.
Лейтенант закурил сигаретку, тщательно застегнул китель и повернулся к острову. Ночь скрадывала расстояние; черная громада берега казалась совсем близкой; клипер словно прильнул бортом к невидимым в темноте скалам, хотя судно находилось от земли на расстоянии по крайней мере одного кабельтова. Ночной ветер тянул с берега пряной духотой и сыростью береговой чащи; там было все тихо, и хотелось верить, что остров населен тысячами неизвестных, хитрых врагов, следящих из темноты за судном, чтобы, выбрав удобную минуту, напасть на него, перебить экипаж и огласить воем радости тишину моря.
Лейтенант представил себе порядочную толпу дикарей, штук в двести, мысленно угостил их двойным зарядом картечи и пожалел, что вместо пиратов остров населен таким количеством обезьян, какого было бы вполне достаточно для всех европейских зверинцев. Военное оружие по необходимости должно миновать их. Нет даже захудалого разбойника, способного убить кого-нибудь из пятерых матросов, посланных три часа тому назад за водой. И действительно, шлюпка долго не возвращается. Кабаков здесь нет, а устье реки совсем близко у этого берега.
— В самом деле, — пробормотал лейтенант, — парни не торопятся.
Океан слабо вздыхал. Тяжелые, увесистые шаги приблизились к офицеру и замерли перед ним сутулой, черной фигурой боцмана. Слабое мерцание фонаря осветило морщинистое лицо с тонкими бритыми губами. Боцман глухо откашлялся и сказал:
— Наши не возвращаются.
— Да; и вам следовало бы знать об этом больше, чем мне, — сухо сказал офицер. — Четыре часа; как вам это нравится, господин боцман?
Боцман рассеянно пожевал губами, сплюнул жвачку. Он был того мнения, что волноваться раньше времени не следует никогда. Лейтенант нетерпеливо спросил:
— Так что же?
— Приедут, — сказал боцман, — ночевать на берегу они не останутся. Там нет женщин.
— Нет женщин, чудесно, но они могли утонуть.
— Пять человек, господин лейтенант?
— Хотя бы и пять. Не забывайте также, что здесь есть звери.
— Пять ружей, — пробормотал боцман, — это шутки для зверей… плохие шутки… да…
Он повернул голову и стал прислушиваться. Лицо его как бы говорило: «Неужели? Да… в самом деле… возможно… может быть…»
Тени штагов и вант перекрещивались на палубе черными полосами. За бортом темнела вода. Непроницаемый мрак скрывал пространство; клипер тонул в нем, затерянный, маленький, молчаливый.
— Что вы там слышите? — спросил офицер. — Лучше позаботились бы вперед отпускать не шатунов, а служак. Что?
— Весла, — кратко ответил боцман, сдвигая брови. — Вот послушайте, — добавил он, помолчав. — Это ворочает Буль. А вот хлопает негодяй Рантэй. Он никогда не научится грести, господин лейтенант, будьте спокойны.
Лейтенант прислушался, но некоторое время тишина бросала ему слабое всхлипывание воды в клюзах, скрип гафеля и хриплое дыхание боцмана. Потом, скорее угадывая, чем отмечая, он воспринял отдаленное колебание воздуха, похожее на отрывистый звук падения в воду камня. Все стихло. Боцман постоял еще немного, уверенно заморгал и выпрямился.
— Едут! — процедил он, сочно выплевывая табак. — Рантэй, клянусь сатаной, всегда ищет девок. Высадите его на голый риф, и он моментально влюбится. В кого? В том-то и весь секрет… А здесь? Пари держу, что для него черт способен обернуться женщиной… Да…
— Старина, — перебил лейтенант, — неужели вы слышите что-нибудь?
— Я? — Боцман неторопливо вздохнул и хитро улыбнулся. — Я, видите ли, господин лейтенант, еще с детства страдал этим. За милю, бывало, слышу, кто едет и в каком направлении. У меня в ушах всегда играет оркестр, верно, так, господин лейтенант, хоть будь полный штиль.
— Да, — сказал лейтенант, — теперь и я, пожалуй, начинаю различать что-то.
Из яркой черноты бежали ритмические всплески весел, неясные выкрики, скрип уключин; шлюпка вошла в полумрак корабельного света; лейтенант подошел к трапу и, наклонившись, громко сказал:
— Канальи!..
Шлюпка глухо постукивала о борт клипера. Один за другим подымались наверх матросы и выстроились на шканцах, лицом к морю.
Лейтенант стал считать:
— Один, два, три… и… Постойте, Матью, сколько их было?
— Было-то их пять, господин лейтенант. Вот задача!
— Ну, — нетерпеливо спросил офицер, — где же пятый?
— Пятый? — сказал крайний матрос. — Пятый был Тарт.
И, помолчав, нерешительно объяснил:
— Он пропал… Извините, господин лейтенант, он находится неизвестно где. Его нет.
Наступило выразительное молчание. Матрос подождал немного, как бы не находя слов выразить свое удивление, и прибавил, разводя руками:
— То есть пропал окончательно, словно сквозь землю провалился. Нигде его нет, из-за этого мы и опоздали. Рантэй говорит: — «Надо ехать». А я говорю: — «Постойте, как же так? У Тарта нет шлюпки… Да, — говорю я, — шлюпки у него нет…»
Матрос добродушно осклабился и почесал за ухом. Лейтенант нервно пожал плечами и взглянул на боцмана. Морской волк озабоченно размышлял, шевеля сморщенными губами.
— Постой, — сказал лейтенант унылым голосом, — как так пропал? Где? Вы, может быть, брали с собой ром, и Тарт валяется где-нибудь под деревом?
Матрос заволновался от желания передать подробности и еще долго бы переминался с ноги на ногу, набирая могучей грудью ночной воздух, если бы быстроглазый Рантэй не выручил его смущенную душу. Он сделал рукой категорический жест и плавно рассказал все.
В его изображении дело было так: никто не заметил, как Тарт ушел в сторону, отделившись от остальных. Когда наступило время возвращаться на клипер, стали беспокоиться и давать сигнальные выстрелы. Смерклось. Кое-кто выразил неудовольствие. Тогда решили ждать еще полчаса, а затем ехать.
Лейтенант стоял с озабоченным лицом, не зная, что делать. Матросы молчали. Боцман сплевывал табачную жвачку и хмурился.
Отправляясь с вечерним рапортом, лейтенант застал капитана погруженным в раскладывание пасьянса. В подтяжках, с расстегнутым воротом рубахи и вспотевшим одутловатым лицом, он смахивал на фермера, раскрасневшегося за бутылкой пива. Перед ним стояли плотный кувшин и маленькая пузатая рюмка. Он то и дело наполнял ее и бережно высасывал, облизывая черные седеющие усы. Изредка поворачиваясь к лейтенанту, капитан останавливал на нем рассеянно-неподвижный взгляд красных, как у кролика, глаз и снова щелкал картами, приговаривая:
— Туз налево, дама направо, теперь нужно семерку. Куда запропастилась семерка, черт ее побери?
Пасьянс не вышел. Капитан тяжело вздохнул, смешал карты, выпил и спросил:
— Так вы говорите, что этот бездельник пропал? Расскажите, как было дело.
Лейтенант рассказал снова. Теперь капитан слушал иначе, схватывая фразу на полуслове, и, не дав кончить, заявил, с размаху прикладывая ладонь к клеенке стола:
— Завтра, чуть свет, пошлите шесть человек, и пусть они пошарят во всех углах. Его хватил солнечный удар. Он с юга?
— Не знаю, — сказал лейтенант, — впрочем…
— Конечно, — перебил капитан, проницательно сощуривая глаза, — дело ясное. Они слабы на голову, северяне. За нынешнюю кампанию это будет десятый. Впрочем, что долго толковать; если он умер — черт с ним, а если жив — сотню линьков в спину!
Каюта наполнялась. Пришел доктор, старший лейтенант и фуражир. Проиграв в фараон четверть годового жалованья, лейтенант вспомнил белый чепчик матери, которой надо было послать денег, и ушел к себе. Раскаленная духота каюты гнала сон. Кровь шумела и тосковала, возбуждение переходило в болезненное нервное напряжение.
Лейтенант вышел на палубу и долго, без мыслей, полный тяжелого сонного очарования, смотрел в темные очертания берега, строгого и таинственного, как человеческая душа. Там бродит заблудившийся Тарт, а может быть, лежит мертвый с желтым, заострившимся лицом, и труп его разлагается, отравляя ночной воздух.
«Все умрем», — подумал лейтенант и весело вздохнул, вспомнив, что еще жив и через полгода вернется в старинные низкие комнаты, за окнами которых шумят каштаны и блестит песок, вымытый солнцем.
II Что говорит лес
Когда пять матросов высадились на берег и прежде, чем наполнять бочки, решили поразмять ноги, выпустив пару-другую зарядов в пернатое население, — Тарт отделился от товарищей и шел, пробираясь сквозь цветущие заросли, без определенного направления, радуясь, как ребенок, великолепным новинкам леса. Чужая, прихотливо-дикая чаща окружала его. Серо-голубые, бурые и коричневые стволы, блестя переливчатой сеткой теней, упирались в небо спутанными верхушками, и листва их зеленела всеми оттенками, от темного до бледного, как высохшая трава. Не было имен этому миру. И Тарт молча принимал его. Широко раскрытыми, внимательными глазами щупал он дикую красоту. Казалось, что из огромного зеленого полотнища прихотливые ножницы выкроили бездну сочных узоров. Густые, тяжелые лучи солнца торчали в просветах, подобно золотым шпагам, сверкающим на зеленом бархате. Тысячи цветных птиц кричали и перепархивали вокруг. Коричневые с малиновым хохолком, желтые с голубыми крыльями, зеленые с алыми крапинками, черные с фиолетовыми длинными хвостами — все цвета оперения шныряли в чаще, вскрикивая при полете и с шумом ворочаясь на сучках. Самые маленькие, вылетая из мшистой тени на острие света, порхали, как живые драгоценные камни, и гасли, скрываясь за листьями. Трава, похожая на мелкий кустарник или гигантский мох, шевелилась по всем направлениям, пряча таинственную для людей жизнь. Яркие, причудливые цветы кружили голову смешанным ароматом. Больше всего было их на ползучих гирляндах, перепутанных в солнечном свете, как водоросли в освещенной воде. Белые, коричневые с прозрачными жилками, матово-розовые, синие — они утомляли зрение, дразнили и восхищали.
Тарт шел, как пьяный, захмелев от сырого, пряного воздуха и невиданной щедрости земли. Буковые леса его родины по сравнению с островом казались головой лысого перед черными женскими кудрями. С любопытством и счастливым недоумением смотрел он, закинув голову, как стая обезьян, размахивая хвостами и раскачиваясь вниз головой на попутных сучках, промчалась с треском и свистом, распугав птиц. Зверьки скрылись из виду, певучая тишина леса монотонно звенела в ушах, а он стоял, держа палец на спуске ружья и сосредоточенно улыбаясь. Потом медленно, смутно почувствовав на лице чужой взгляд, вздохнул и бессознательно осмотрелся.
Но никого не было. Так же, как и минуту назад, свисая над головой, громоздилась, загораживая небо, живая ткань зелени; перепархивали птицы; желтели созревшие большие плоды, усеянные колючками. Тарт перевел взгляд на ближайшие сплетения вогнутых, как зубчатые чашки, листьев и заметил маленькое, зеленоватое нечто, похожее на недозрелую сливу. Присутствие напряженной, внимательной силы сказывалось именно здесь, в трех шагах от него. Слива чуть-чуть покачивалась на невидимом стебле; матрос беспокойно зашевелился, бессильный объяснить свою собственную тревогу, центром которой сделался этот, почти незаметный, плод. Он протянул руку и быстро, с внезапной гадливой дрожью во всем теле, отдернул пальцы назад: маленькая, блестящая, как жидкий металл, змея, прорезав приплюснутой головой воздух, задвигалась в листьях. Тарт нахмурил брови и ударил ее стволом штуцера. Животное упало в траву, издав легкий свист; Тарт отпрыгнул и торопливо ушел подальше.
Откуда-то издалека донесся звук выстрела, за ним другой: товарищи Тарта охотились, по-видимому, серьезно. Матрос задумчиво остановился. Еще один отдаленный выстрел всколыхнул тишину, и Тарт вдруг сообразил, что он ушел дальше, чем следовало. Ноги устали, хотелось пить, но светлое, восторженное опьянение двигало им, заставляя идти без размышления и отчета. Иногда казалось ему, что он кружится на одном месте в странном, фантастическом танце, что все живет и дышит вокруг него, а он спит на ходу, с широко открытыми глазами; что нет уже ни океана, ни клипера и что не жил он никогда в мире людей, а всегда бродил тут, слушая музыку тишины, свое дыхание и голос отдаленных предчувствий, смутных, как детский сон.
Лес становился темнее, ближе придвигались стволы, теснее сплетались над головой Тарта зеленые зонтики, ноги проваливались в пышном ковре, затихли голоса птиц. Расплывчатые видения носились в сумеречных объятиях леса и жили мимолетным существованием. Бесчисленные глаза их, невидимые для Тарта, роились в воздухе, роняли на его руки слезы цветов, сверкали зеленоватыми искрами насекомых и прятались, полные сосредоточенной думы, печали нежной, как грустное воспоминание. Все дальше и дальше шел Тарт, погруженный в тревожное оцепенение и тоску.
И, наконец, идти стало некуда. Глухая дичь окружала его, почти совершенная темнота дышала гнилой прелью, жирным, душистым запахом разлагающихся растений и сыростью. Протягивая вокруг руки, он схватывал влажные стебли, паразитов, хрупкую клетчатку листьев, мелкие гнущиеся колючки. Задыхаясь от духоты, тревоги и необъяснимого, томительного волнения, Тарт зажег восковую спичку, осветив зеленый склеп. Он был, как в ящике. Со всех сторон громоздились зеленые вороха, стволы тупо смотрели сквозь них, покрытые влажным блеском.
Тарт бросил спичку и, оглушенный темнотой, кинулся напролом. Это было отчаянное сражение человека с лесом, желания — с препятствием, живого тела — с цепкой, почти непролазной стеной. Он брал приступом каждый шаг, каждое движение ног. Тысячи могучих пружин хлестали его в грудь и лицо, резали кожу, ушибали руки, молчаливые бешеные объятия откидывали его назад. Бессознательно, страстно, ослепленный и задыхающийся, Тарт рвался вперед, останавливался, набирал воздуха и снова, как солдат, стиснутый неприятелем, шел шаг за шагом сквозь темную глушь.
Свет наступил неожиданно, в то время, когда Тарт всего менее ожидал этого. Измученный, но довольный, вытирая рукавом блузы исцарапанное, вспотевшее лицо, он выпрямился, открыл глаза и, вздрогнув, снова закрыл их. С минуту, трепеща от восторга, Тарт не решался поднять веки, боясь, что случайною сказкою мысли покажется неожиданное великолепие окружающего. Но сильный, горячий свет проникал в ресницы красным туманом, и нетерпеливая радость открыла его глаза.
Перед ним был овальный лесной луг, сплошь покрытый густой, сочной зеленью. Трава достигала половины человеческого роста; яркий, но мягкий цвет ее поражал глаз необычайной чистотой тона, блеском и свежестью. Шагах в тридцати от Тарта, закрывая ближайшие деревья, тянулись скалы из темно-розового гранита; оборванный круг их напоминал неправильную подкову, концы которой были обращены к Тарту. В очертаниях их не было массивности и тупости; остроконечные, легкие, словно вылепленные тонкими пальцами из красноватого воска, они сверкали по краям изумрудной поляны коралловым ожерельем, брошенным на зеленый шелк. Радужная пыль водопадов дымилась у их вершин: в глубоком музыкальном однообразии падали вниз и стояли, словно застыв в воздухе, паутинно-тонкие струи.
Их было много. То рядом, теснясь друг к другу, лилась вниз их серебряная, неудержимая ткань, то группами, по два и по три, тихо свергались они с влажного каменного ложа в невидимый водоем; то одинокий каскад, ныряя в уступах, прыгал с высокого гребня и сеял в воздухе прозрачное, жидкое серебро; то ровная стеклянная полоса шумела, разбиваясь о камни, и пылила сверкающим градом брызг. Тропическое солнце миллиардами золотых атомов ликовало в игре воды. И все падали, падали вниз бисерным полукругом тонкие, тихие водопады.
Тарт глубоко вздохнул и засмеялся; тихая улыбка осталась в его лице, полном напряженного восхищения. Деревья, выросшие вокруг луга, также поразили его. Темно-зеленые широкие листья их светлели, приближаясь к стволу, бледнели, прозрачно золотились и в самой глубине горели розовым жаром, тоненькие и розовые, как маленькая заря. Раскидистые, приподнятые над землей корни держали на весу ствол.
Снова Тарт перешел глазами на луг, так он был свеж, бархатно-зелен и радостен. Светлая пустота переливалась вдали, у скал, дрожью воздушных течений, однозвучную мелодию твердили тонкие водопады. И розовые горны темно-зеленых куп открывали солнечному потоку первобытную прелесть земли.
Инстинктивно трепеща от вспыхнувшей любви к миру, Тарт протянул руку и мысленно коснулся ею скалистых вершин. Необъяснимый, стремительный восторг приковал его душу к безлюдному торжеству леса, и нежная, невидимая рука легла на его шею, сдавливая дыхание, полное удержанных слез. Тогда, окрыляя живую тишину света, пронесся крик. Тарт кричал с блестящими от слез глазами: голос его летел к водопадам, бился в каменные уступы и, трижды повторенный эхом, перешел в песню, вызванную внезапным, мучительным потрясением, страстную и простую.
Кто спит на вахте у руля, Не размыкая глаз? Угрюмо плещут лиселя, Качается компас, И ждет уснувшая земля Гостей веселых — нас. Слабеет сонная рука, Умолк, застыл штурвал; А ночь — угроза моряка — Таит зловещий шквал; Он мчится к нам издалека, Вскипел — и в тьме пропал. Пучина ужасов полна, А мы глядим вперед, Туда, где знойная страна Красотками цветет. Не спи, матрос! Стакан вина, И в руки — мокрый шкот! Мы в гавань с песней хоровой Ворвемся, как враги, Как барабан — по мостовой Веселые шаги! Проснись угрюмый рулевой, Темно; кругом — ни зги!Мелодия захватила его, долго еще, без слов, звучал его голос, повторяя энергичный грустный напев матросской песни. Без желаний, без дум, растроганный воспоминаниями о том, что было в его жизни так же прекрасно и неожиданно, как маленький рай дикого острова, стоял он на краю луга, восхищенный внезапной потерей памяти о тяжести жизни и ее трудах, о темных периодах существования, когда душа изнашивает прежнюю оболочку и спит, подобно гусенице, прежде чем сверкнуть взмахом крыльев. Праздничные, веселые дни обступили его. Руки любимых женщин провели по его щекам шелком волос. Охота в родных лесах и ночи под звездным небом воскресли, полные свободного одиночества, опасностей и удач. И сам он, Тарт, с новым большим сердцем, увидел себя таким, как в часы мечтаний, на склоне пустынных холмов, перед лицом вечерней зари.
Он снял ружье, лег на траву и с ужасом подумал о завтрашнем неизбежном дне: часть жизни, отданная другим…
Запах цветов кружил голову. От утомления дрожали руки и ноги, лицо горело, и розовый туман плыл в закрытых глазах.
Он не сопротивлялся. Глубокое, сонное оцепенение приласкало его и медленно погрузило в душистый, тихий океан сна, где бродят исполненные желания и радость, не омраченная человеком. Тарт спал, а когда проснулся — была ночь и темная, звездная тишина.
III Блемер находит Тарта
Тарт сидел у огня, поджав ноги, прислушиваясь и размышляя. Он не спал ночь: тяжелая задумчивая тревога собирала морщины на его лице, а руки, крошившие табак, двигались невпопад, рассеянно подбирая прыгающие из-под ножа срезки. Уверенность в том, что никто не подсматривает, придавала лицу Тарта ту особенную, непринужденную выразительность, где каждый мускул и взгляд человека рассказывает его настроение так же бегло, как четко переписанное письмо. Огонь вяло потрескивал, шипел, змеился в гладкой стали ружья и бледным жаром падал в глаза Тарта. Кругом, в духоте полдня, дремал лес; глухой шум невидимой жизни трепетал в нем, бередя душу странным очарованьем безлюдья, гигантской силы и тишины.
Матрос встал, ссыпал нарезанный табак в маленькую жестяную коробку, поднял ружье и долго молча стоял так, слушая голоса птиц. Иногда, на мгновенье, прихотливый узор листвы вспыхивал перед ним обманчивым силуэтом зверя, и рука Тарта бессознательно вздрагивала, колебля дуло ружья. Зеленые свет и мрак чередовались в глубине леса. Мысль тревожно летела к ним, отыскивая живое молчаливое существо с глазами из черной влаги, рогатое и стройное.
В певучем, томительном забытьи окружал человека лес, насыщенный болотными испарениями, запахом гниющих растений и дикой, сказочной красотой. То ближе, то дальше трещал кустарник, невиданные, неизвестные существа двигались там, прислушиваясь друг к другу, и образы их, созданные воображением Тарта, принимали чудовищные, волнующие размеры или, наоборот, бледнели и съеживались, когда умолкал треск.
Резкий шарахнувшийся крик птицы вывел его из глубокого, торжественного оцепенения. Он поднял глаза вверх, но тотчас же инстинктивно опустил их, взвел курок и насторожился, раздвигая взглядом светлую рябь листвы.
Сначала было трудно определить, что это: маленькая застывшая тень или пятно шерсти; чье-то пытливое, осторожное присутствие сказывалось не дальше, как в десяти шагах и путало мысли, убивая все, кроме жестокого, огненного желания встретить глаза зверя. Тарт тихо шагнул вперед и хотел крикнуть, чтобы животное выскочило из кустов, но вдруг, в самой глубине зеленой сети растений, поймал черный блеск глаза, выпрямился и вздрогнул от неожиданности. Штуцер нервно заколебался в его руках, дыхание стало глуше, и два-три мгновенья Тарт не решался выстрелить — столько безграничного удивленья, наивности и любопытства сверкало в маленьком блестящем зрачке.
Глаз продолжал рассматривать человека, зашевелился, придвинулся ближе, к нему присоединился другой, и жадный, требовательный взгляд их стал надоедать Тарту. Казалось, его спрашивали: кто ты? Он поднял ружье, прицелился и опустил руку одновременно с запыхавшимся криком шумно обрадованного человека: — Тарт, сто чертей, здравствуй!
С тяжелым холодом в сердце Тарт повернулся к матросу. В кустах бешено затрещало, испуганно мелькнули и скрылись низкие, сильно закрученные рога. По щекам Блемера градом катил пот. Глаза, покрасневшие от утомления и жары, тревожно ощупывали лицо Тарта, а полные губы морщились, удерживая смех. Он снял фуражку, вытер рукавом блузы вспотевший лоб и заорал снова всей ширью здоровеннейших морских легких: — И ты мог заблудиться, чучело! Три мили длины и три ширины! Это дно от стакана, а не остров. Конечно, есть острова, где можно ходить порядочным людям. Цейлон, например, Зеландия, а не эта, с позволения сказать, корзина травы! Вообще мы решили, что ты съеден орангутангом или повесился. Но я искренне, дружище, чертовски рад, что это не так!
Он схватил руку Тарта и стал ворочать ее, ломая пальцы. Тарт пытливо смотрел на Блемера. Конечно, этот выдаст его — думать иначе было бы страшно легкомысленно. Прост и глуп, добр и жесток. Ко всему этому болтлив, не прочь выслужиться. И он уже смотрит на него, Тарта, с видом собственника, облизывается и мысленно потирает руки, предвкушая пущенную сквозь зубы похвалу капитана.
Матрос снял ружье, облегченно повел плечами и безудержно заговорил снова, ободряя себя. Молчаливая неподвижность Тарта смущала его. Он громко болтал, не решаясь сказать прямо: «Пойдем!» — сбивался, потел и в десятый раз принимался рассказывать о тревоге, общем недоумении и поисках. Все неувереннее звучал его голос, и все рассеяннее слушал его Тарт, то улыбаясь, то хмурясь. Казалось, что был он здесь и не здесь, свой знакомый и в то же время чужой, замкнутый и враждебный.
— Превратились мы в настоящих собак, — захлебывался Блемер. — Чувствую я, что смок, как яблоко в сиропе. Уйти без тебя мы, понятное дело, не могли, нам приказали отыскать тебя мертвого или живого, вырыть из-под земли, вырезать из брюха пантеры, поймать в воздухе… Кок по ошибке вместо виски хватил уксусной эссенции, лежит и стонет, а завтра выдача жалованья настоящим золотом за четыре месяца! Сильвестр целится на мой кошелек, я должен ему с Гонконга четырнадцать кругляков, но пусть он сперва их выиграет, черт возьми! Кто, как не я, отдал ему в макао две совсем новенькие суконные блузы! А ты, Тарт, знаешь… вообще говорят… только ты, пожалуйста, не сердись… верно это или нет?
— Что? — сказал Тарт, ворочая шомполом в дуле ружья.
— Да вот… ну, не притворяйся, пожалуйста… Только если это неверно — все равно…
Блемер понизил голос, и лицо его выразило пугливое уважение. Тарт возился с ружьем; достав пыж, он медленно перевернул штуцер прикладом вверх, и на землю из ствола выкатились маленькие, блестящие картечины.
Блемер нетерпеливо ждал и, когда смуглая рука Тарта начала забивать пулю, звонко ударяя шомполом в ее невидимую поверхность, заметил:
— Ты испортил боевой заряд, к тому же какая теперь охота? Пора обедать.
Тарт вынул шомпол и поднял усталые, ввалившиеся глаза, но Блемер не различил в них волнения непоколебимой решимости. Ему казалось, что Тарт хочет поговорить с ним, и он, вздыхая, ждал удовлетворительного ответа. Но Тарт, по-видимому, не торопился.
Блемер сказал:
— Так вот… Ну, как — это правда?
— Что правда? — вдруг закричал Тарт, и глаза его вспыхнули такой злобой, что матрос бессознательно отступил назад. — Что еще болтают там обо мне ваши косноязычные тюлени? Что? Ну!
— Тарт, что с тобой? Ничего, клянусь честью, ей-богу, ничего! — заторопился матрос, бледнея от неожиданности, — просто… просто говорят, что ты…
— Ну что же, Блемер, — проговорил Тарт, сдерживаясь и глубоко вздыхая. — В чем дело?
— Да вот… — Блемер развел руками и с усилием освободил голос. — Что ты знаешь заговоры и… это… видел дьявола… понимаешь? Оттого, говорят, ты всегда и молчишь, ну… А я думаю — неправда, я сам своими глазами видел у тебя церковный молитвенник.
Матрос взволнованно замолчал; он сам верил этому. Живая тишина леса томительно напряглась; Блемеру вдруг сделалось безотчетно жутко, как будто все зеленое и дикое превратилось в слух, шепчется и глядит на него тысячами воздушных глаз.
Тарт сморщился; досадливая, но мягкая улыбка изменила его лицо.
— Блемер, — сказал он, — ступай обедать. Я сыт, и, кроме того, мне немного не по себе.
— Как, — удивился Блемер, — тебя ждут, понимаешь?
— Я приду после.
— После?
— Ну да, сейчас мне идти не хочется.
Матрос нерешительно рассмеялся; он не понимал Тарта.
— Блемер, — вдруг быстро и решительно заговорил Тарт, смотря в сторону. — Ступай и скажи всем, что я назад не приду. Понял? Так и скажи: Тарт остался на острове. Он не хочет более ни служить, ни унижаться, ни быть там, где ему не по сердцу. Скажи так: я уговаривал его, просил, грозил, все было напрасно. Скажи, что Тарт поклялся тебя застрелить, если ты не оставишь его в покое.
Тарт перевел дыхание, поправил кожаный пояс и быстро мельком скользнул глазами в лицо матроса. Он видел, как вздулись жилы на висках Блемера, как правая рука его, сделав неопределенное движение, затеребила воротник блузы, а глаза, ставшие растерянными и круглыми, блуждали, не находя ответа. Наступило молчание.
— Ты шутишь, — застывшим голосом выдавил Блемер, — охота тебе говорить глупости. Кстати, если мы двинемся теперь же, то можем захватить на берегу наших, вдвоем трудно грести.
— Блемер, — Тарт покраснел от досады и даже топнул ногой. — Блемер, возвращайся один. Я не уйду. Это не шутка, тебе пора бы уж знать меня. Так пойди и скажи: люди перестали существовать для Тарта. Он искренно извиняется перед ними, но решился пожить один. Понял?
Матрос перестал дышать и любопытными, испуганными глазами нащупывал тень улыбки в сосредоточенном лице Тарта. Сошел с ума! Говорят, в здешних болотах есть такие цветы, что к ним не следует прикасаться. А Тарт их наверное рвал — он такой… Вот чудо!
— Прощай, — сказал Тарт. — Увидишь наших, поклонись им.
Он коротко вздохнул, взял штуцер наперевес и стал удаляться. Блемер смотрел на его раскачивающуюся фигуру и все еще не верил, но, когда Тарт, согнувшись, нырнул в пеструю зелень опушки, — матрос не выдержал. Задохнувшись от внезапного гнева и страха упустить беглеца, Блемер перебежал поляну, на ходу взвел курок и крикнул в ту сторону, где гнулись и трещали кусты:
— Я убью тебя! Эй! Стой!
Голос его беспомощно утонул в зеленой глуши. Он подождал секунду и вдруг, мстительно торопясь, выстрелил. Пуля протяжно свистнула, фыркнув раздробленными по пути листьями. Птицы умолкли; гнетущая тишина охватила часть леса.
— Стой! — снова заорал Блемер, бросаясь вдогонку. — Каналья! Дезертир!
Спотыкаясь, взволнованно размахивая ружьем, он пробежал с десяток шагов, снова увидел Тарта и почувствовал, что возбуждение его вдруг упало, — Тарт целился ему в грудь, держа палец на спуске.
Инстинктивно, защищаясь от выстрела, матрос отступил назад и, медленно двигая руками, приложился сам. Волнение мешало ему, он не сразу отыскал мушку, злобно выругался и замер, ожидая выстрела. Тарт поднял голову. Блемер внутренно подался назад, вспотел, нажал спуск, и в тот же момент ответный выстрел Тарта пробил его насквозь, как игла холст.
То, что было Блемером, село, потом вытянулось, раскинуло ноги и замерло. Воздух хрипел в его простреленных легких, обнаженная голова вздрагивала, стараясь подняться и взглядом защитить себя от нового выстрела. Тарт, болезненно улыбаясь, присел возле матроса и вытащил из его стиснутых пальцев судорожно вырванную траву. Далее он не знал, что делать, и стоял на коленях, сраженный молчаливой тревогой.
Блемер повернул голову, глотая подступающую кровь, и выругался. Тарт казался ему страшным чудовищем, чуть ли не людоедом. Он посмотрел вверх и, увидев жаркую синеву неба, вспомнил о смерти.
— Подлец ты, подлец! — застонал Блемер. — За что?
— Перестань болтать глупости, — возразил Тарт, отдирая подол блузы. — Ты охотился за мной, как за зверем, но звери научились стрелять. Не ты, так я лежал бы теперь, это было необходимо.
Он свернул импровизированный бинт, расстегнул куртку Блемера и попытался удержать кровь. Липкая горячая жидкость просачивалась сквозь пальцы, и было слышно, как стучит слабое от испуга сердце. Тарт нажал сильнее, Блемер беспокойно вздрогнул и сморщился.
— Адская боль, — процедил он, хрипло дыша. — Брось, ничего не выйдет. Дыра насквозь, и я скоро подохну. Ты смеешься, сволочь, убийца!..
— Я не смеюсь, — с серьезной улыбкой возразил Тарт. — А мне тяжело. Прости мою невольную пулю.
Не отрываясь, смотрел он в осунувшееся лицо матроса. Вокруг глаз легли синеватые тени; широкий, давно небритый подбородок упрямо торчал вверх.
— Трава сырая, — простонал Блемер, бессильно двигаясь телом, — я умру, понимаешь ли ты? Зачем?
Равнодушно-спокойное и далекое, синело небо. А внизу, обливаясь холодным потом агонии, умирал человек, жертва свободной воли.
— Блемер, — сказал Тарт, — ты шел в этом лесу, отыскивая меня. Твое желание исполнилось. Но если я не хотел идти с тобой, как мог ты подумать, что силой можно сломить силу без риска проиграть свою собственную карту?
— К черту! — застонал Блемер, отплевывая розовую слюну. — Ты просто изменник и негодяй! — Он смолк, но скоро застонал снова и так громко, что Тарт вздрогнул. Раненый сделал последнее отчаянное усилие поднять голову; глаза его подернулись влагой смерти, и был он похож на рыжего раздавленного муравья.
— Ты очень мучаешься? — спросил Тарт.
— Мучаюсь ли я? Ого-го-го! — закричал Блемер. — Тарт, ты дезертир и мерзавец, но вспомни, умоляю тебя, что на «Авроре» есть госпиталь!.. Сбегай туда… скажи, что я умираю!..
Тарт отрицательно покачал головой. Блемер вытягивался, то опираясь головой в землю и размахивая руками, то снова припадая спиной к влажной земле. По внезапно исхудавшему, тусклому лицу его пробегала быстрая судорога. Он ругался. Сначала тихое, потом громкое бормотанье вылилось сложным арсеналом отвратительных бранных фраз. Тарт смотрел, ждал и, когда глаза Блемера задернулись пленкой, — стал заряжать ружье.
— Потерпи еще малость, Блемер, — сказал он. — Сейчас все кончится.
Блемер не отвечал. Сквозь до крови закушенную губу матроса Тарт чувствовал легион криков, скованных бешенством и страданием. Он отошел в сторону, чтобы случайно Блемер не угадал его мысли, прицелился в затылок и выстрелил.
Раненый затрепетал, вздохнул и затих.
Теперь он был мертв. Сильное, цветущее тело его обступила маленькая зеленая армия лесной травы и, колыхаясь, заглянула в лицо.
IV «Гарнаш, улица Петуха»
На берегу, почти у воды, в тени огромного варингинового дерева, стоит крепкая дубовая бочка, плотно закрытая просмоленным брезентом. Она не запирается; это международная почтовая станция. Сюда с мимо идущих кораблей бросаются письма, попадающие во все концы света. Корабль, плывущий в Австралию, забирает австралийскую корреспонденцию; плывущий в Европу — европейскую.
Клипер приготовлялся к отплытию. Медленно, упорно трещал брашпиль, тяжело ворочаясь в железном гнезде. Канат полз из воды, таща за собою якорь, сплошь облепленный водорослями, тиной и раковинами. Матросы, раскисшие от жары, вяло бродили по накаленной смоле палубы, закрепляя фалы, или сидели на реях, распуская ссохшиеся паруса. В это время к берегу причалила шлюпка с шестью гребцами, и младший лейтенант клипера, выскочив на песок, подошел к бочке. Откинув брезент, он вынул из нее несколько пакетов и бросил, в свою очередь, пачку писем.
Потом все уехали и скоро превратились в маленькое, черное пятно, машущее крошечными веслами. Клипер преображался. От реи до реи, скрывая стволы мачт, вздулись громоздкие паруса. Корабль стал похожим на птицу с замершими в воздухе крыльями, весь — напряжение и полет, нетерпение и сдержанное усилие.
Бушприт клипера медленно чертил полукруг с запада на юго-восток. Судно тяжело поворачивалось, вспенивая рулем полдневную бледную от жары синеву рейда. Теперь оно походило на человека, повернувшегося спиной к случайному, покидаемому ночлегу. Пенистая, ровная линия тянулась за кормой — клипер взял ход.
Его контуры становились меньше, воздушнее и светлее. Двигался он, как низко летящий альбатрос, слегка накренив стройную белизну очертаний. А за ним с берега цветущего острова следил человек — Тарт.
Он равнодушно ждал исчезновения клипера. Корабль увозил с собой земляков, привычное однообразие дисциплины, грошовое жалованье и более ничего. Все остальное было при нем. Он мог ходить как угодно, двигаться как угодно, есть и пить в любое время, делать, что хочется, и не заботиться ни о чем. Он стряхивал с себя бремя земли, которую называют коротким и страшным словом «родина», не понимая, что слово это должно означать место, где родился человек, и более ничего.
Тарт смотрел вслед уходящему клиперу, ни капли не сомневаясь в том, что именно его считают убийцей Блемера. Почему прекратили поиски? Почему не более как через шесть дней после ухода Тарта клипер направился в Австралию? Может быть, решили, что он мертв? Но в глазах экипажа остров был не настолько велик, чтобы потерять надежду отыскать человека или хотя бы его кости. Поведение «Авроры» немного раздражало Тарта; он чувствовал себя лично обиженным. Человек крайне самолюбивый, бесстрашный и стремительный, он привык, чтобы с ним и его поступками враги считались так же, как с неприятелем на войне. Но ведь не бежит же от него клипер, в самом деле!
Он вспомнил свое убежище — скалистый овраг, с гладким, как паркет, дном и кровлей из цветущих кустов. Ничего нет удивительного, что клипер ушел ни с чем. В глазах их Тарт мог только утонуть; к тому же — кто особенно дорожил жизнью Блемера? На клипере сто матросов; двумя больше, двумя меньше — не все ли равно? Время горячее, китайские пираты вьются по архипелагу, как осы. Военное судно, несущее разведочную службу, не может долго оставаться в бездействии.
Тарт медленно шел вдоль берега, опустив голову. Собственное его положение казалось ему ясным до чрезвычайности: потянет в другое место — он будет караулить, высматривая проходящих купцов. И ночной сигнальный костер даст ему короткий приют на чужой палубе. Куда он поедет, зачем и ради чего?
Но он не думал об этом. Свобода, страшная в своей безграничности, дышала ему в лицо теплым муссоном и жаркой влагой истомленных зноем растений. Это был отчаянный экстаз игрока, бросившего на карту все и получившего больше ставки. Выигравший не думает о том, на что он употребит деньги, он далек от всяких расчетов, музыка золота наполняет его с ног и до головы дразнящим вихрем возможностей, прекрасных в неосуществимости своей желаний и бешеным стуком сердца. Может быть, не дальше, как завтра, судьба отнимет все, выигранное сегодня, но ведь этого еще нет?
Да здравствует прекрасная неизвестность!
Медленно, повинуясь любопытству, смешанному с предчувствием, Тарт откинул брезент и, став на камни, положенные под основание бочки, открыл ее. На дне серели пакеты. Их было много, штук двадцать, и Тарт тщательно пересмотрел все.
Ему доставляло странное удовольствие держать в руках вещественные следы ушедших людей, мысленно говорить с ними, в то время, когда они даже и не подозревают этого. Стоит захотеть, и он узнает их мысли, будет возражать им, без риска быть пойманным, и они не услышат его. Матросские письма особенно заинтересовали Тарта. Он пристально рассматривал неуклюжие, косые буквы, смутно догадываясь, что здесь, может быть, написано и о нем. Взволнованный этим предположением, Тарт бережно отложил несколько конвертов, на которых были надписаны имена местностей, близких к месту его рождения. Он искал самого тесного, кровного земляка, рылся дрожащими от нетерпения пальцами, раскладывая по песку серые четырехугольники, и вдруг прочел:
«Гарнаш, улица Петуха».
Гарнаш! Не далее как в десяти милях от этого городка родился Тарт. Он помнит еще возы с зеленью, пыльную дорогу, по которой бегал мальчишкой, и держит пари, что пишет не кто иной, как толстяк Риль!
Да, вот его имя, написанное маленькими печатными буквами. Тарт вынул нож и разрезал толстую бумагу пакета. Риль писал много, четыре больших листа сплошь пестрели каракулями, сообщая подробности плавания, события, свидетелем которых был Риль, и длинные, неуклюжие нежности, адресованные жене. Тарт торопливо разбирал строки. Пальцы его дрожали все сильнее, лицо потускнело; взволнованный, с блестящим остановившимся взглядом, он бросил бумагу и инстинктивно схватил ружье.
Кругом было по-прежнему пусто, легкий прибой шевелил маленькие, круглые голыши и тихо шумел засохшими водорослями. В голове, как отпечатанные, стояли строки письма, скомканного и брошенного рукой Тарта: «…если бы он провалился, туда ему и дорога. А наши думают, что он жив. Мы вернемся через четыре дня, за это время должны его поймать непременно, потому что он будет ходить свободно. Шестерым с одним справиться — что плюнуть. Толкуют, прости меня, господи, что Тарт сошелся с дьяволом. Это для меня неизвестно».
— Надо уйти! — сказал Тарт, с трудом возвращая самообладание. Небывалым, невозможным казалось ему, только что прочитанное. Все вдруг изменило окраску, притаилось и замерло, как молчаливая, испуганная толпа. Солнце потеряло свой зной, ноги отяжелели, и Тарт двигался медленно, напряженно, словно окаменев в припадке безвыходного, глухого гнева. Мысль утратила гибкость, сосредоточиваясь на пристальном, болезненном ощущении невидимых, враждебных людей. И немое отвращение к тайной опасности подымалось со дна души, вместе с нестерпимым желанием открытого, решительного исхода.
— Шесть? — сказал Тарт, останавливаясь. — Так вас шесть, да?
Кровь бросилась ему в голову и ослепила. Почти не сознавая, что он делает, он вызывающе поднял штуцер и нажал спуск. Выстрел пронесся в тишине дробным эхом, и тотчас Тарт зарядил разряженный, еще дымящийся ствол, быстро, не делая ни одного лишнего движения.
По-прежнему царствовала тишина, жуткая, полуденная тишина безлюдного острова. Матрос прислушался, молчание раздражало его. Он потряс кулаком и разразился градом язвительных оскорблений. Обессиленный припадком тяжелой злобы, он шел вперед, ломая кусты, сбивая ударом приклада плотные, сочные листья. Сознавая, что все пути отрезаны, что выстрел кем-нибудь да услышан, Тарт чувствовал злобное, веселое равнодушие и огромную силу дерзости. Уверенность возвращалась к нему по мере того, как шли минуты, и зеленый хоровод леса тянулся выше, одевая пахучим сумраком лицо Тарта. Он шел, а сзади, догоняя его, бежали шестеро, изредка останавливаясь, чтобы прислушаться к неясному шороху движений затравленного человека.
— Тарт! — задыхаясь от бега, крикнул на ходу высокий черноволосый матрос. — Тарт, подожди малость, эй!
И за ним повторяли все жадными, требовательными голосами:
— Тарт!
— Эй, Тарт!
— Тарт! Тарт!
Тарт обернулся почти с облегчением, с радостью воина, отражающего первый удар. И тотчас остановились все.
— Мы ищем тебя, — сказал черноволосый, — да это ведь ты и есть, а? Не так ли? Здравствуй, приятель. Может быть, отпуск твой кончился, и ты пойдешь с нами?
— Завтра, — сказал Тарт, вертя прикладом. — Вы не нужны мне. И я — зачем я вам? Оставьте меня, гончие. Какая вам польза от того, что я буду на клипере? Решительно никакой. Я хочу жить здесь, и баста! Этим сказано все. Мне нечего больше говорить с вами.
— Тарт! — испуганно крикнул худенький, голубоглазый крестьянин. — Ты погиб. Тебе, я вижу, все равно, ты отчаянный человек. А мы служим родине! Нам приказано разыскать тебя!
— Какое дело мне до твоей родины, — презрительно сказал Тарт. — Ты, молокосос, растяпа, может быть, скажешь, что это и моя родина? Я три года болтался на вашей плавучей скорлупе. Я жить хочу, а не служить родине! Как? Я должен убивать лучшие годы потому, что есть несколько миллионов, подобных тебе? Каждый за себя, братец!
— Тарт, — сказал третий матрос, с круглым, тупым лицом, — дело ясное, не сопротивляйся. Мы можем ведь и убить тебя, если…
Он не договорил. Одновременно с клубком дыма тело его свалилось в кусты и закачалось на упругих ветвях, разбросав ноги. Тарт снова прицелился, невольное движение растерянности со стороны матросов обеспечило ему новый удачный выстрел… Черноволосый матрос опустился на четвереньки и судорожно открыл рот, глотая воздух.
И все потемнело в глазах Тарта.
Спокойно встретил он ответные выстрелы, пистолет дрогнул в его руке, пробитый насквозь, и выпал. Другою рукой Тарт поднял его и выстрелил в чье-то белое, перекошенное страхом лицо.
Падая, он мучительно долго не мог сообразить, почему сверкают еще красные огоньки выстрелов и новая тупая боль удар за ударом бьет тело, лежащее навзничь. И все перешло в сон. Сверкнули тонкие водопады; розовый гранит, блестя влагой, отразил их падение; бархатная прелесть луга протянулась к черным корням раскаленных, как маленькие горны, деревьев — и стремительная тишина закрыла глаза того, кто был — Тарт.
Окно в лесу
I
Заблудившийся человек, охотник, встал на пригорок и тревожно осмотрелся вокруг. Повсюду, до самого леса, низко черневшего на горизонте, тянулась незнакомая, зловещая равнина, поросшая желтовато-белым, угрюмым мохом и редким осинником. Осенний ветер неистово гнул тоненькие деревца, с унылым свистом прорезая их судорожно трепещущую листву. Беспрестанно, нагибаясь почти до самой земли, кланялись они темнеющему, обложенному тучами небу, и холодный дух воздуха шумно рвался над ними к багровому, стынущему закату.
Мартышки носились над головой охотника с отчаянным, безумно-пронзительным воплем убиваемого существа. Обитатели маленьких болот, рассеянных по равнине, спрятались в камышах, зайцы исчезли, тяжеловесные вороны, обессиленные вихрем, спустились на землю. Свистящий плач ветра соединял небо с землей; все металось и гнулось; почерневшие облака бурно текли вдаль, причудливо изменяя очертания, клубясь, как дым невидимого пожара, разрываясь и сплющиваясь.
Охотник стоял, удерживая рукой шляпу. Сырой, резкий ветер стягивал кожу на покрасневшем лице; озябшие ноги нетерпеливо ежились; тоскливая пустота земли, поражаемой вихрем, сжимала сердце беспредметной боязнью. Члены, оцепеневшие от усталости, требовали покоя. Незаметно окрепший голод, из легкого, почти бессознательного желания есть превратился в жадный, беззвучный крик тела. Неизвестность местонахождения путала мысли, близость ночи пугала, сознание обессиливало, сменяясь инстинктивной потребностью идти, чтобы идти, в слепой надежде выбраться к знакомым местам, успокоиться и ориентироваться.
Охотник тронулся, придерживаясь прежде взятого направления. Он шел к лесу поспешными, большими шагами. Тысячи голосов сопровождали его; казалось, тысячи проклятых существ, превращенных в болотную поросль, плачут вокруг тонкими, пронзительными рыданиями, кричат и молят, задыхаясь от бессильного ужаса. Мартышки, чертя мглистый воздух истерическими зигзагами, кидались то вправо, то влево, и расстроенное воображение человека превращало их в таинственных птиц, наделенных скрытыми силами. Как духи отчаяния, без устали бросали они свой безобразный, отвратительно резкий крик, и лесной страх полз из темнеющего, взбаламученного пространства.
Охотник остановился, дрожа от холода. Черные угли туч заваливали меркнущий очаг запада; солнце спешило скрыться, чтобы не видеть земли, омраченной безумием. На бледной, чистой от облаков полосе неба метались разъяренные ветви, в ушах гудело, сырость ломила мускулы. Человек напряг легкие и крикнул; голос его жалобно утонул в хаосе звуков, несущихся над землей. Он побрел снова, ощупью, с широко раскрытыми глазами, спотыкаясь о пни.
Медленное, неудержимое отчаяние захватывало душу охотника. Все ожило, все приняло грандиозные, пугающие размеры. Равнина казалась бесконечной; границы ее терялись в воображении; земля становилась местом невыразимой печали, заброшенности и проклятия. Взрослый превращался в ребенка; лицом к лицу с ночью, сбившийся и голодный, бессильный и беззащитный, он воскрешал древние предания, мысленно вызывая мохнатые образы лесных духов, судорожно улыбался в темноте, силясь сбросить овладевшие им представления, и шел, прислушиваясь с болезненным напряжением к малейшему треску сучка, вздрогнувшего под ногой.
Ночь свирепствовала подобно душе преступника. Охотник тяжело дышал; мысли его терялись в пространстве; одиночество обостряло чувства; ноги не замечали земли; живые невидимые ветви хватали за одежду, молча били в лицо и бешено выли за спиной, охваченной страхом. Охотник более не останавливался. Ускоряя шаг, он инстинктивно стремился к лесу, чтобы в его густой влажной сердцевине укрыться от разрушительного торжества бури.
Первый, шершавый ствол дерева, которого он коснулся в темноте вытянутой рукой, показался ему живым существом, другом, вышедшим навстречу измученному товарищу. С чувством тоскливого успокоения замечал он, пробираясь дальше, как затихает вой ветра, превращаясь в шумное движение хвойных вершин. Стонущий рокот, подобно невидимому водопаду, струился над его головой; медленно скрипели стволы, их дикий оркестр щемил сердце; полусгнившая хвоя мягко скользила под ногами, и черная сырость воздуха, пропитанного запахом леса, напрягала невидящие глаза, бросая в них искры, рожденные оцепеневшим мозгом.
И вот, в совершенной темноте, как маленький уголек, тлеющий на темной материи, вспыхнул свет. Человек не поверил свету; он протер кулаком глаза и пошел дальше. Красный уголек скрылся, заслоненный деревьями, мелькнул снова, погас и вновь одиноким, кривым глазом блеснул во тьме.
Тогда неудержимая радость овладела охотником. Тело его как будто переродилось, потеряло вес и усталость; бессознательная, блаженная улыбка растопила лицо; желание опередило тихий человеческий шаг и, сорвавшись, как обозленная лошадь, было уже там, где чувствовалось людское жилье.
С обостренной силой заворочался голод, и человек не сдерживал его, а возбуждал и радовался, предчувствуя близкое удовлетворение. Десятки виденных раньше, ночных, полных заманчивого уюта, окон всплыли в его воображении. Но этот свет — не был ли он просто костром?
II
Приблизившись, сжигаемый любопытством и нетерпением, охотник различил черный переплет рамы на фоне красноватых от огня стекол. Это было окно, это был дом, произведение человеческих рук, успокоение и находка.
В туманной глубине света, наполнявшего внутренность помещения, двигались неясные силуэты, желтые профили, беззвучно шевелящиеся губы и руки. Тени, мгновенно вырастая, перебегали с потолка на стены и гасли. Жизнь ночного окна, призрачная, странная, неизвестная смотрящему из темноты человеку, сосредоточивалась в неуклюжем, ясном четыреугольнике.
И, по свойственной человеку привычке подходить к своему ближнему с осторожностью большей, чем у диких зверей — друг к другу, — охотник медленными, крадущимися шагами пошел вперед, стараясь рассмотреть обитателей. Соблазнительные картины отдыха и горячих кушаний в кругу мирной, трудолюбивой семьи толкали его быстрее, чем хотел он, охотник, привыкший к осторожности и терпению. Мертвый сон под надежным кровом, под стоголосый шум ветра, бушующего извне, приветливые улыбки гостеприимных хозяев — разве не вправе был он ожидать этого?
С нервно бьющимся сердцем охотник прильнул к стеклу. Глаза его, утомленные мраком, не сразу различали предметы, но скоро, сосредоточив внимание, он рассмотрел всю обстановку и людей, живших за потным стеклом. По-видимому, он наткнулся на хижину лесника. В стене, противоположной окну, была дверь; над нею висели ружья, веревочная сетка для ловли перепелов, дробовница, рог с порохом и пожелтевшие удилища. Вправо от двери, у маленькой, плохо выбеленной печи, висел красный полог кровати. На полках громоздилась глиняная посуда, разные предметы хозяйства; стены, увешанные картинками сказочного и божественного содержания, были черны от копоти. Налево от окна, в углу виднелся широкий, накрытый синей скатертью, стол, а на нем горела дешевая жестяная лампа.
Людей было трое. Они, по-видимому, уже поужинали, потому что на деревянной скамье лежала недоеденная краюха хлеба и желтел горшок, обложенный разбросанными в беспорядке ложками. У печи на низеньком табурете сидела маленькая, сгорбленная старуха; руки ее быстро перебирали вязальными спицами, а за столом, погруженные в какое-то, на первый взгляд, непонятное занятие, помещались — мальчик лет 11-ти и пожилой, коренастый мужик. Мальчик сидел, облокотившись на руку; его задумчивое, не по-крестьянски нежное лицо светилось веселой улыбкой. Иногда он встряхивал темными, подстриженными в кружок волосами и беззвучно для охотника хохотал, показывая ряд белых зубов. Мужик с расстегнутым воротом грязной, цветной рубахи, с обветренным, угрюмо-добродушным лицом и спутанной окладистой бородой, старательно выпячивал губы, моргал и весь был поглощен делом. Он неторопливо ловил что-то, бегающее по столу, задерживал на мгновение в своей широкой, заскорузлой ладони и отпускал.
Охотник посмотрел пристальнее и вздрогнул от отвращения. По столу, трепыхая перебитым дробью крылом, бегал в судороге нестерпимого ужаса маленький болотный кулик. Его тоненький клюв непрерывно открывался и закрывался; черные, блестящие глазки выкатывались из орбит, перья, смоченные засохшей кровью, топорщились, как разорванная одежда. Быстро семеня длинными коричневыми ногами, пробегал он до края стола; мужик ловил его, сдавливал пальцами окровавленную головку и, методически, аккуратно целясь, протыкал птице череп толстой иглой. Кулик замирал; игла медленно, уродуя мозг, выходила наружу, и птица, отпущенная лесником, стремительно неслась прочь, бессильная крикнуть, ошеломленная болью и предсмертной тоской, пока те же пальцы не схватывали ее вновь, протыкая в свежем месте маленькую, беззащитную голову.
Охотник перестал дышать. Лесник повернулся, его прищуренные глаза уперлись в то место окна, откуда из темноты ночи следил за ним неподвижный, усталый взгляд. Лесник не видел охотника; отвернувшись, он продолжал забаву. Куличок двигался все тише и тише, он часто падал, трепыхаясь всем телом; вскакивал, пытаясь взлететь, и, совершенно обезумев, стукался о стекло лампы.
Лес глухо гудел; сырой холод тьмы ронял капли дождя. Тоскливая, неизмеримая ярость подняла руку заблудившегося человека. Охваченный внезапным, жарким туманом, он вскинул ружье, прицелился, и оба ствола, грянув перекатистым эхом, разбили стекла.
Крик раненого и грохот падающей скамьи был ему ответом. Лес ожил; тысячи голосов разнеслись в нем, и внутренность дома, сразу соединенная с охотником острым узором раздробленного стекла, стала действительностью. Стоило протянуть руку, чтобы коснуться стола и всклокоченной головы, рухнувшей на смятую скатерть. Мальчик трясся от ужаса и что-то кричал: он был вне себя.
Охотник быстро уходил прочь, шатаясь, как пьяный. Стволы толкали его, бесстрастный глухой лес поглощал одинокого человека, а он все шел, дальше и дальше навстречу голодной, бессонной, полной зверями тьме.
Штурман «Четырех ветров»
Во всей той окрестности не было ни одного человека, который мог бы его услышать.
СервантесШатаясь, я придерживался за складки его плаща, изображая собой судно, буксируемое против ветра. Он неуклонно подвигался вперед и, как подобает морскому волку, тщательно рассматривал мрак. Ветер, проносясь со скоростью шторма, свистел нам в уши, словно стая обезумевших мальчишек. Выпитая водка кое-как согревала внутренности, предоставляя коже зябнуть и коченеть от ледяных брызг дождя. В голове мелькали воспоминания: хохочущие женские рты. Но если хоть раз в день было весело — это уже хорошо.
Неизвестно, куда мы шли, но в то время нисколько не сомневались, что идти нужно именно в этом направлении. Зачем? Спросите об этом у штурмана. Он шагал так быстро, что я сам не успел задать ему этот вопрос; к тому же он мне тогда и не приходил в голову. Я брел, как слепой щенок, веселый, пьяный, мокрый и говорливый. Я говорил страшно много. В самый короткий срок, считая с того момента, когда мы показали тыл порогу «Свидания моряков», я выложил и вывернул наизнанку себя всего, как наволочку; рассказал все свои секреты легкомысленно обнажил тайны, проявил все сомнения и вытряхнул столько убеждений, что их хватило бы иному на всю жизнь. Кроме того, я клялся самой страшной божбой и, когда штурман начинал одобрительно рычать, приходил в явно неистовый восторг.
Подвигаясь таким образом, мы очутились не далее, как в двух шагах от воды. Штурман втянул носом соленый запах и не допустил меня упасть с набережной, что я пытался сделать, принимая воздух за продолжение мостовой. Я сказал:
— Спасибо тебе за то, что не всякий бы сделал на твоем месте. Будь здесь мой дядюшка, он ласково улыбнулся бы мне с берега, даже не заботясь, способен ли я разглядеть сквозь эту тьму его дьявольскую улыбку.
— Я хочу пить! — захрипел штурман, хватая меня за бока. — Пить! — Или я ложусь в дрейф, и пусть меня слопают акулы, если я тронусь с места! Довольно! Я не греческая губка, но и не черепица. Я не могу более. Я жажду.
— Нечего жаждать, — возразил я. — Морская вода с примесью апельсинных корок — этого ли ты хочешь, бесстыдник? Или тебе мало полубочонка имбирного пива, трех бутылок виски и полкварты персиковой настойки? Если мало — то «да», а если довольно — то «нет!».
— Да! — воскликнул он с одушевлением пророка. — Да! И идем, Билль, как можно скорее! Не может быть, чтобы все трактирщики легли спать. Право на борт, пьяница с гнилыми ногами, и держись за меня, иначе, клянусь копытами сатаны, ветер опрокинет тебя, как грудного младенца.
Здесь я принужден сделать маленькое отступление, чтобы познакомить со штурманом тех из моих читателей, кто не встречал его ни в «Свидании моряков», ни в «Черном олене», ни в «Рассаднике собутыльников». Он был в полном смысле слова — мужчина. Его рыжая грива была густа, как июльская рожь, а широкое, красное от ветра лицо походило на доску, на которой повар крошит мясо. Говорят, что и весь он исполосован шрамами в схватках на берегу из-за лишнего комплимента чужой красавице или нежелания уступать дорогу первому встречному, вроде джентльмена в кэпи, — но этого подтвердить я не могу, так как никогда штурман при мне не снимал рубашку; а снимал он ее три раза в год, по большим праздникам. Рост его был немного пониже семи фут; глаза черные, как две хорошие маслины, а кулаки весили бы, вероятно, по шести фунтов каждый.
Если это вам нравится, то именно таков был его портрет в те времена. Прибавлю еще, что в правом ухе он носил серьгу, снятую им со своей покойной жены, когда ее положили в гроб. При этом, как передают, им были сказаны следующие знаменательные слова: «Не думай, милая моя Бетси, что я хочу тебя обокрасть или что я стал жаден, как нищий в пустой квартире; стоит тебе встать из гроба — и я куплю тебе сережки в четыре фунта, потолще моих пуговиц». Сказав это, он зарыдал и вытащил серьгу из уха покойницы — на память, по его объяснению.
За плащ этого человека я и держался, пока мы, тоскуя о невозможном, блуждали по спящим улицам. Не знаю — было ли еще когда-нибудь темнее, чем в эту ночь. Ветер бушевал, как дюжина цепных псов; слева и справа, сзади и спереди бросал он отчаянные толчки, рвал одежду и затруднял дыхание. Дождь поливал нас усерднее садовника, хотя мы и не были розами, ноги мои жулькали в сапогах, коченели, и я, наконец, перестал их совсем чувствовать. Мы прошли одну улицу, другую; свернули, путались в переулках, но нигде, кроме искр своих собственных глаз, не видели никакого света. Наглухо закрытые ставни скрипели заржавленными болтами, из водосточных труб хлестала вода, и мрак, чернее мысли приговоренного к смерти, закрадывался в наши сердца, жаждущие веселья.
Наконец, штурман не выдержал. Стиснув зубы так, что они взвизгнули не хуже плохого флюгера, и топнув ногой, он утвердился на месте крепче принайтовленной бочки. Я тщетно пытался сдвинуть его, все мои усилия повели только к взрыву проклятий, направленных против неба, ада, трактирщиков, моей особы и ни в чем не повинной шхуны «Четыре ветра», мирно дремавшей у мола в соседстве двух катеров.
— Ни с места! — громовым голосом рявкнул штурман, набирая как можно больше воздуха. Это служило признаком, что он намерен держать речь, как всегда — в подобных и иных критических случаях. — Ни с места, говорю я. Разбудим весь город, или сами захрапим тут не хуже каких-нибудь кухарок или объевшихся лавочников! Как?!. Два джентльмена желают выпить и не могут этого сделать потому, что в этом дрянном городе живут сурки?! Эй, проживающие здесь (говоря это, он подошел к ближайшим воротам и ударил в них кулаком так крепко, что вздрогнула ночь), — эй, — говорю я, — вставайте! Мы желаем с вами познакомиться. Если же вы не слышите, я буду барабанить здесь, как обезьяна на ярмарке, до тех пор, пока не свалюсь в грязь! Проснитесь, сухопутные крысы, кочни капусты, пучки сельдерея! Одну бутылку — и мы удалимся! Расчет наличными!
Беснуясь, он каждое слово свое сопровождал сокрушительными ударами. Сердце мое замерло. С минуты на минуту я ожидал, что нас окружит толпа потревоженных жителей, и тогда будет нехорошо. Но, к моему удивлению, царствовало глубокое безмолвие, нарушаемое лишь возгласами отважного штурмана и гулом ветра.
— Лазит в карман за словом тот, кто привык искать его везде, кроме собственной головы, — продолжал мой спутник, сделав маленькую передышку, так как уже охрип. — Или вы думаете, что мне с вами не о чем разговаривать? Дудки-с! Я буду кричать вам до рассвета, потому что нет ни одной гавани в мире, где я не менял бы золото на медяки, а серебро на свистульку! Кроме вас, есть еще желтые, черные и коричневые балбесы, а есть и такие, что блестят почище ваших медных кофейников! В Гаване рыбу ловят острогами, а в Судане крючками. А где лучший хлеб, знаете ли вы, каракатицы? Я знаю — в Лиссабоне; потому что он там бел и мягок, как девушка в восемнадцать лет! Я вам скажу, что в Индии есть слоны и дворцы, тигры и жемчужные раковины. В океане, где я живу, как вы под железной крышей, — вода светится на три аршина, а рыбы летают по воздуху на манер галок! Это говорю вам я, штурман «Четырех ветров», хотя ее и чинили в прошлом году! Попробуйте-ка прогуляться где-нибудь в Вальпарайзо без хорошего револьвера — вас разденут, как артишок. В море, говорю я вам, бывают чудеса, когда ваш собственный корабль плывет на вас, словно вы перед зеркалом! А где пляшут гейши — я вам и ходить не советую, потому что вы распустите слюни. Поросята! Я вам скажу, что есть места, где ананасы покупают корзинами, и они дешевле репы. Видали вы небо, под которым хочется хохотать с зари до зари, как будто ангелы щекочут в вашем носу концами своих крыльев? А леса, перед которыми ваши цветники — вроде огородной гряды перед облаками на закате? В Шанхае чай шесть пенни за фунт, и это первого сбора. Клянусь тетушкой черта, если она у него есть, что сам видел раковины больше корзины, и они пестрели, как радуга. Если б я не был пьян, я вас всех вытащил бы на палубу и дал бы вам на первое время в месяц по двадцати шиллингов. Чего вы боитесь? Вы можете взять с собой все ваши кастрюли, кровати и горшки с душистым горошком, да в придачу еще пару гусей, если они у вас есть. Так я вам и позволил пакостить судно разным печным скарбом! Не плачьте, чулочники, сапожники, кузнецы, пивовары, лавочники и жулики! Ваше прошлое останется с вами, вы можете его пережевывать, как коза жвачку, сколько угодно. Эй, говорю я, прыгайте, прыгайте из окошек вниз! Я покажу вам новую бизань из самого сухого дуба на всей земле.
И так как по-прежнему никто не пожелал бросить теплую постель, чтобы выругать штурмана, он начал трясти ворота с остервенением, равным его жажде. Резкий грохот задребезжал в переулках. Я дернул штурмана за рукав, не обращая внимания на его брань, и сказал:
— Глотка из бирмингамского железа — или ты хочешь, чтобы нас избили ни за что, ни про что?
Но упорство его было велико. Он уже приискивал подходящий булыжник, как вдруг неизвестная личность, появившись из-за угла, помешала нашему объяснению. Это был ночной сторож.
— Куда вы ломитесь, бродяги? — закричал он, подходя ближе и направляя красный свет фонаря на наши головы. — Это пустой дом, и в нем нога человеческая не бывала еще с прошлого рождества! Нечего сказать, хорошее занятие — портить кулаки о ворота!
И я услышал из уст штурмана новую, но уже негодную для печати речь, которую он закончил следующими словами:
— Пусть рассыплется в порошок тот, кто, покидая этот сарай, не прибил к нему фонаря с надписью: «Здесь живут мыши!»
И мы пошли снова. Штурман быстро шагал к гавани, а я едва поспевал за ним, придерживаясь за складки его плаща.
Происшествие на улице Пса
Похож на меня, и одного роста, а кажется выше на полголовы — мерзавец Из старинной комедии Случилось, что Александр Гольц вышел из балагана и пришел к месту свидания ровно на полчаса раньше назначенного. В ожидании предмета своей любви он провожал глазами каждую юбку, семенившую поперек улицы, и нетерпеливо колотил тросточкой о деревянную тумбу. Ждал он тоскливо и страстно, с темной уверенностью в конце. А иногда, улыбаясь прошлому, думал, что, может быть, все обойдется как нельзя лучше.
Наступил вечер; узенькая, как щель, улица Пса туманилась золотой пылью, из грязных окон струился кухонный чад, разнося в воздухе запах пригорелого кушанья и сырого белья. По мостовой бродили зеленщики и тряпичники, заявляя о себе хриплыми криками. Из дверей пивной то и дело вываливались медлительные в движениях люди; выйдя, они сперва искали точку опоры, потом вздыхали, нахлобучивали шляпу как можно ниже к переносице и шли, то с мрачным, то с блаженным выражением лиц, преувеличенно твердыми шагами.
— Здравствуй!
Александр Гольц вздрогнул всем телом и повернулся. Она стояла перед ним в небрежной позе, точно остановилась мимоходом, на секунду, и тотчас уйдет. Ее смуглое, подвижное лицо с печальным взглядом и капризным изгибом бровей, избегало глаз Гольца; она рассматривала прохожих.
— Милая! — напряженно-ласковым голосом сказал Гольц и остановился.
Она повернула лицо к нему и в упор безразличным движением глаз окинула его пестрый галстух, шляпу с пером и гладко выбритый, чуть вздрагивающий подбородок. Он еще надеется на что-то; посмотрим.
— Я… — Гольц прошептал что-то и начал жевать губами. Потом сунул руку в карман, вытащил обрывок афиши и бросил. — Позволь мне… — Здесь его рука потрогала поля шляпы. — Итак, между нами все кончено?
— Все кончено, — как эхо, отозвалась женщина. — И зачем вы еще хотели видеть меня?
— Больше… ни за чем, — с усилием сказал Гольц. Голова его кружилась от горя. Он сделал шаг вперед, неожиданно для себя взял тонкую, презрительно-послушную руку и тотчас ее выпустил.
— Прощайте, — выдавил он тяжелое, как гора, слово. — Вы скоро уезжаете?
Теперь кто-то другой говорил за него, а он слушал, парализованный мучительным кошмаром.
— Завтра.
— У меня остался ваш зонтик.
— Я купила себе другой. Прощайте.
Она медленно кивнула ему и пошла. Тумба оказалась крепче тросточки Гольца; хрупкое роговое изделие сломалось в куски. Он пристально смотрел в затылок ушедшей девушке, но она ни разу не обернулась. Потом фигуру ее заслонил угольщик с огромной корзиной. Кусочек шляпы, мелькнувшей из-за угла — это все.
Александр Гольц открыл двери ближайшего ресторана. Здесь было шумно и людно; косые лучи солнца блестели в густом войске бутылок дразнящими переливами. Гольц сел к пустому столу и крикнул:
— Гарсон!
Безлично-почтительный человек в грязной манишке подбежал к Гольцу и смахнул пыль со столика. Гольц сказал:
— Бутылку водки.
Когда ему подали требуемое, он налил стаканчик, отпил и плюнул. Глаза его метали гневные искры, ноздри бешено раздувались.
— Гарсон! — заорал Гольц, — я требовал не воды, черт возьми! Возьмите эту жидкость, которой много в любой водосточной кадке, и дайте мне водки! Живо!
Все, даже самые флегматичные, повскакали с мест и кольцом окружили Гольца. Оторопевший слуга клялся, что в бутылке была самая настоящая водка. Среди общего смятения, когда каждый из посетителей отпивал немного воды, чтобы убедиться в правоте Гольца, принесли новую запечатанную бутылку. Хозяин трактира, с обиженным и надутым лицом человека, непроизвольно очутившегося в скверном, двусмысленном положении, вытащил пробку сам. Руки его бережно, трясясь от волнения, налили в стакан жидкость. Из гордости он не хотел пробовать, но вдруг, охваченный сомнением, отпил глоток и плюнул: в стакане была вода.
Гольц развеселился и, тихо посмеиваясь, продолжал требовать водки. Поднялся неимоверный шум. Восковое от страха лицо хозяина поворачивалось из стороны в сторону, как бы прося защиты. Одни кричали, что ресторатор — жулик и что следует пригласить полицию; другие с ожесточением утверждали, что мошенник именно Гольц. Некоторые набожно вспоминали черта; маленькие мозги их, запуганные всей жизнью, отказывались дать объяснение, не связанное с преисподней.
Задыхаясь от жары и волнения, хозяин сказал:
— Простите… честное слово, ума не приложу! Не знаю, ничего не знаю; оставьте меня в покое! Пресвятая матерь божия! Двадцать лет торговал, двадцать лет!..
Гольц встал и ударил толстяка по плечу.
— Любезный, — заявил он, надевая шляпу, — я не в претензии. У вас бутылки, должно быть, из тюля, — немудрено, что спирт выдыхается. Прощайте!
И он вышел, не оборачиваясь, но зная, что за ним двигаются изумленные, раскрытые рты.
III Историк (со слов которого записал я все выше и нижеизложенное) с момента выхода Гольца на улицу сильно противоречит показаниям мясника. Мясник утверждал, что странный молодой человек направился в хлебопекарню и спросил фунт сухарей. Историк, имени которого я не назову по его просьбе, но лицо, во всяком случае, более почтенное, чем какой-то мясник, божится, что он стал торговать яйца у старухи на углу улицы Пса и переулка Слепых. Противоречие это, однако, не вносит существенного изменения в смысл происшедшего, и потому я останавливаюсь на хлебопекарне.
Открывая ее дверь, Гольц оглянулся и увидел толпу. Люди самых разнообразных профессий, старики, дети и женщины толкались за его спиной, сдержанно жестикулируя и указывая друг другу пальцем на странного человека, оскандалившего трактирщика— Истерическое любопытство, разбавленное темным испугом непонимания, тянуло их по пятам, как стаю собак. Гольц сморщился и пожал плечами, но тотчас расхохотался. Пусть ломают головы — это его последняя, причудливая забава.
И, подойдя к прилавку, потребовал фунт сахарных сухарей. Булочная наполнилась покупателями. Все, кому нужно и кому не нужно, спрашивали того, другого, жадно заглядывая в каменное, строгое лицо Гольца. Он как будто не замечал их.
Среди всеобщего напряжения раздался голос приказчицы:
— Сударь, да что же это?
Чашка весов, полная сухарями до коромысла, не перевешивала фунтовой гири. Девушка протянула руку и с силой потянула вниз цепочку весов, — как припечатанная, не шевельнувшись, стояла другая чашка.
Гольц рассмеялся и покачал головой, но смех его бросил последнюю каплю в чашу страха, овладевшего свидетелями. Толкаясь и вскрикивая, бросились они прочь. Мальчишки, стиснутые в дверях, кричали, как зарезанные. Растерянная, багровая от испуга, стояла девушка-продавщица.
Опять Гольц вышел, хлопнув дверьми так, что зазвенели стекла. Ему хотелось сломать что-нибудь, раздавить, ударить первого встречного. Пошатываясь, с бледным, воспаленным лицом, с шляпой, сдвинутой на ухо, он производил впечатление помешанного. Для старухи было бы лучше не попадаться ему на глаза. Он взял у нее с лотка яйцо, разбил его и вытащил из скорлупы золотую монету. «Ай!» — вскричала остолбеневшая женщина, и крик ее был подхвачен единодушным — «Ах!» — толпы, запрудившей улицу.
Гольц тотчас же отошел, шаря в кармане. Что он искал там?
Публика, окружившая старуху, вопила, захлебываясь кто смехом, кто бессмысленными ругательствами. Это было редкое зрелище. Дряхлые, жадные руки с безумной торопливостью били яйцо за яйцом; содержимое их текло на мостовую и свертывалось в пыли скользкими пятнами. Но не было больше ни в одном яйце золота, и плаксиво шамкал беззубый рот, изрыгая старческие проклятия; кругом же, хватаясь за животы, стонали от смеха люди.
Подойдя к площади, Гольц вынул из кармана ни больше, ни меньше, как пистолет, и преспокойно поднес дуло к виску. Светлое перо шляпки, скрывшейся за углом, преследовало его. Он нажал спуск, гулкий звук выстрела оттолкнул вечернюю тишину, и на землю упал труп, теплый и вздрагивающий.
От живого держались на почтительном расстоянии, к мертвому бежали, сломя голову. Так это человек просто? Так он действительно умер? Гул вопросов и восклицаний стоял в воздухе. Записка, найденная в кармане Гольца, тщательно комментировалась. Из-за юбки? Тьфу! Человек, встревоживший целую улицу, человек, бросивший одних в наивный восторг, других — в яростное негодование, напугавший детей и женщин, вынимавший золото из таких мест, где ему быть вовсе не надлежит, — этот человек умер из-за одной юбки?! Ха-ха! Чему же еще удивляться?!
Надгробные речи над трупом Гольца были произнесены тут же, на улице, ресторатором и старухой. Первая, радостно взвизгивая, кричала:
— Шарлатан!
Ресторатор же злобно и сладко бросил:
— Так!
Обыватели расходились под ручку с женами и любовницами. Редкий из них не любил в этот момент свою подругу и не стискивал крепче ее руки. У них было то, чего не было у умершего, — своя талия. В глазах их он был бессилен и жалок — черт ли в том, что он наделен какими-то особыми качествами; ведь он был же несчастен все-таки, — как это приятно, как это приятно, как это невыразимо приятно!
Не сомневайтесь — все были рады. И, подобно тому, как в деревянном строении затаптывают тлеющую спичку, гасили в себе мысль: «А может быть… может быть — ему было нужно что-нибудь еще?»
Дача Большого Озера
I
Всю дорогу от вокзала до Бурунчей Оссовский находился в состоянии крайнего угнетения. Знакомые когда-то места, покинутые несколько лет тому назад и теперь снова развертывавшие перед ним свой грустный пейзаж, сильно изменились за это время, застроились, раскинули к реке и лесу новые улицы, еще полные щеп и кирпичей от наскоро возведенных построек. Здесь, так же как и в его постаревшей, истрепанной душе, хозяйничало время, тщательно разрушая мелкие, милые подробности прошлого — старые домики, нелепо выкрашенные заборы, покосившийся фонарь — все, что сразу охватывает человека трепетом забытых волнений, нежностью к прошедшему и безнадежным, мучительным желанием помолодеть на несколько лет.
Оссовский смотрел по сторонам, медленно разбираясь в воспоминаниях. Вот улица, где находился пустырь, огороженный деревянным забором; теперь в самом центре ее стоял двухэтажный кирпичный дом с вывеской: «Почтово-телеграфное отделение», а к нему с обеих сторон примыкали кокетливые, окруженные зеленью дачи. Мелькнула гостиница, где ночевал он, приезжая на свидания к невесте, ставшей впоследствии его женой и умершей два года назад. Зеленые косогоры, переулки, чудом сохранившие прежнюю физиономию, казалось, всматривались в усталое лицо приехавшего, силясь узнать в нем кого-то прежнего, моложе и пободрее.
Летние сумерки дышали неостывшим теплом земли, влажностью растительных испарений и острым после дождя запахом гнилых досок. Ежедневное, еще светлое небо молча прислушивалось к вечерним, затихающим отзвукам. Из окон блестел свет, смутные голоса людей вырывались на улицу, сердитые и веселые, быстрые и ленивые. Где-то, захлебываясь плачем, кричал ребенок. Плавно шумели деревья, окутанные сумерками, вдали зычно и раскатисто прогудел паровоз.
Экипаж выехал к озеру, скрытому разноцветным узором дач, и Оссовский остановил извозчика у большого, затейливого особняка. Пожилой дворник, дремавший на лавочке, снял шапку и флегматически уставился на чемодан Оссовского.
Приезжий спросил:
— Барыня дома?
— Дома-с, — не сразу ответил дворник, тупо разглядывая господина, стоявшего перед ним. — А вы кто будете?
— Возьми чемодан, голубчик, и проводи меня, вот тебе мелочь.
Разглядыванье прекратилось. Дворник пошел назад, таща в одной руке чемодан, в другой крепко сжимая семь гривен, полученные от барина. Дверь отперла горничная, молодая и шустрая, в щеголеватом ситцевом платке.
— Вот моя карточка, — сказал Оссовский. — И скажите, что от Михаила Степановича. Поставь чемодан тут.
Горничная ушла, вертя в руках карточку; потоптавшись, удалился и дворник. Переднюю освещала лампа, луч света тянулся от нее за полуоткрытую дверь гостиной, выделяя из полутьмы угол кресла, стоявшего у окна. Оссовский разделся, прошел в гостиную и сел к столу, рассеянно потирая руки.
Дорога сильно утомила его, а две бессонные ночи совсем расшатали нервы, и без того достаточно издерганные за последнее время. Согнувшись и опустив голову, Оссовский равнодушно ждал появления хозяйки, заранее решив не пускаться в длинные разговоры, а ограничиться необходимыми любезностями и, выбрав удобную минуту, получить разрешение удалиться к себе в комнату, которую, без сомнения, ему отведут здесь; раздеться, лечь, вытянуться и замереть в сладкой истоме — это все, что нужно ему сейчас. В последние годы, изувеченный страданием, он слишком, слишком часто призывал безмолвие ночи и сон-забвение.
Так просидел он несколько минут, наслаждаясь, тишиной сумерек, пока легкий шум не заставил его вздрогнуть и подняться навстречу тоненькой женщине, остановившейся на пороге гостиной. Помолчав, она подошла ближе, но и теперь было трудно рассмотреть ее лицо, смутно белевшее в полутьме. Оссовский поклонился, пожал маленькую руку, протянутую ему, и услышал:
— Елизавета Сергеевна Инзар… Только я вас совсем не вижу; горничная, по обыкновению, не догадалась зажечь огня.
— Ну что же, — шутливо сказал Оссовский, — может быть, при полном-то освещении я и потеряю в ваших глазах.
— Нет, не потеряете, — возразила молодая женщина. — Я знаю вас… слегка… по рассказам мужа… Скажу, чтобы зажгли лампу.
Она позвонила и села у стола против гостя.
Оссовский чувствовал ее пристальный, направленный на него взгляд, и пока вошедшая горничная зажигала высокую бронзовую лампу, он успел отметить маленькое, но приятное разочарование. Жена его друга детства была красивее и симпатичнее, чем он ожидал, представляя ее себе по некоторым соображениям совершенно неинтересной женщиной. В соображениях этих, правда, сказывалась только привычная наблюдательность человека, проведшего в путешествиях две трети жизни.
Елизавета Сергеевна была среднего роста блондинка, с мягкими чертами лица и рассеянным, застенчивым выражением глаз, постоянно и как будто нечаянно переходивших с предмета на предмет. Маленький детский рот, беспечный и розовый, не уменьшал, а, наоборот, подчеркивал общую сосредоточенность ее лица, и казалось, что при улыбке никогда не засмеются глаза этой женщины. Густые, плотно собранные волосы касались изгиба шеи. Одета она была в серое шерстяное платье, очень простое, без отделки и кружев.
А перед ней сидел сильно загорелый человек, с проседью в совершенно черных, коротко остриженных волосах, с тяжелым и неподвижным взглядом. Дорожную сумку он забыл снять, и ее желтый ремень тускло блестел на сукне синей австрийской куртки.
Когда горничная удалилась, Оссовский стряхнул утомление и начал рассказывать. Говорил он тихо, часто останавливаясь и задумываясь.
— …а проживу я здесь недолго, недели две… Еще месяц назад в Константинополе, услышав подлинный московский язык, я подумал: а в самом деле? Но воспоминания были еще довольно свежи, и, если бы не расстройство заводских дел, я, пожалуй, еще не скоро бы приехал в Россию. Скрепя сердце собрался и, кажется, рад теперь. Почему? Со смертью Наташи, казалось, для меня все умерло… Но как плохо знаешь себя в подобных случаях… Я, буржуа, превратившийся в бродягу, оказывается, бессознательно страдал, разъезжая везде, куда только можно попасть, имея деньги в кармане и желание рассеяться до пресыщения. Там я как-то еще сильнее чувствовал свое одиночество.
Он сморщился и умолк, смотря в сторону, слегка раздраженный тем, что рассказывает о своих душевных переживаниях чужому и, вероятно, счастливому человеку.
— Значит, вы много ездили?
— Я? Много, очень много.
— Были… в Америке?
— Был и в Америке, — улыбнулся Оссовский. — А это вам кажется самой страшной далью?
— О нет, — смутилась хозяйка, — но я… нигде не была и… А почему я спросила про Америку… вероятно, потому, что это уже серьезное путешествие, не то что Швейцария или Ницца. А в Египте?
— И в Египте и в Индии был, даже кусочек Тибета видел, — задумчиво сказал Оссовский. — Все это страшно интересно… было бы… в другое время.
Последние слова он прибавил кстати, потому что фраза: «Какой вы счастливый!» — чуть-чуть не сорвалась с губ молодой женщины. Она вздохнула, испытывая смутную тяжесть от сознания чужого, но понятного ей горя, и произнесла:
— Извините, если я, может быть, нечаянно причинила вам боль своими расспросами.
— Ничего подобного, — добродушно сказал Оссовский. — Ведь я же сам рассказал.
— Все-таки. А скажите — что Миша? Скоро кончится его работа в комиссии? Вы ведь говорили сегодня с ним… С тех пор как он сделался инженером, мы значительно реже бываем вместе… я его, например, вот уже четвертый день жду… да… так он вам ничего не говорил?
— Нет, — протянул Оссовский, пристально смотря в глаза Елизаветы Сергеевны. — Много он работает?
— Даже чересчур много. А когда приезжает сюда, он такой бледный, измученный — смотреть больно.
Оссовский медлил, припоминая подробности сегодняшней встречи с приятелем. Предчувствие необходимой лжи раздражало его, заставляя быть осторожным, чтобы не попасть впросак. Конечно, инженер работает, иначе он не мог бы так бешено тратить деньги, как тратил их сегодня в его присутствии. Вся эта обстановка затянувшегося кутежа и прозрачные намеки на необходимость ехать куда-то, в какое-то место, добиваясь какого-то давно обещанного блаженства, — кое-что уяснили Оссовскому в словах молодой женщины, и он, почти уж зная, как держаться дальше, сказал:
— Нет, нет. Как я вам уже говорил, я не думал ехать сюда один, а намеревался подождать Михаила. Но гостиница как-то слишком совала мне в глаза мое скитальческое положение… потом этот вечный грохот мостовых… захотелось тишины, семейной обстановки, так что я, недолго думая, махнул сюда, не повидавшись с ним больше.
Он не лгал. Действительно, потеряв надежду на скорое вытрезвление инженера, Оссовский бросил только что снятый дорогой номер и уехал из города с глубоким убеждением, что легкомысленное времяпрепровождение Михаила не составляло тайны для его жены. Впрочем, Михаил, очевидно, конфузился сам себя, когда говорил Оссовскому:
— Друг! Валер! Разве она рассердится? Приду, поцелую руку, потуплюсь, вздохну и скажу: «Лизочка! Прости меня!» И все кончено. Все кончено, дорогой мой!
— Во всяком случае, — продолжал Оссовский, с неприятным для себя чувством уловив легкую тень в глазах хозяйки, — я вынес такое впечатление… что ему осталось немного… совсем немного.
— Я буду рада этому, — сказала Елизавета Сергеевна, и легкий румянец выступил на ее щеках. — Пойдемте-ка, я вас угощу чаем. Сумка вам не мешает?
— Пожалуй, — улыбнулся Оссовский, — но я стал страшно рассеян, благодарю вас.
Он снял сумку и машинально положил ее на кресло, с которого встал. Потом прошел за хозяйкой в ярко освещенную столовую, чувствуя себя спокойно и просто с этой наивной, милой женщиной, чем-то напоминавшей его недавно умершую жену. Кажется, их сближал в его представлении голос, певучий и выразительный.
Чай, обильная закуска и графин с коньяком придали разговору большое оживление. Оссовский рассказал несколько дорожных приключений, смеясь сам, если они были смешны, и с трогательным уважением к простоте нравов обрисовал жизнь некоторых племен Северной Америки. Елизавета Сергеевна задумчиво слушала, иногда переспрашивая и увлекаясь, если дело касалось рискованного положения или интересного эпизода.
Часы медленно и громко пробили одиннадцать.
— Извиняюсь, — сказал Оссовский, — но если бы вы знали, как я устал за последние дни…
— Я понимаю, — кивнула Елизавета Сергеевна, — вам спать хочется… как жаль все-таки, что Миша запоздал. Я думала, что он успеет приехать, пока мы сидим здесь, и поговорить с нами.
— Как? — удивился Оссовский. — Вы думаете?..
— Конечно… Он приедет сегодня непременно. Странно, что он вам не сказал этого.
— Сегодня? — повторил Оссовский, невольно делая ударение на этом слове.
Настойчивая уверенность, звучавшая в голосе хозяйки, заставила бы усомниться его, но он, к сожалению, слишком хорошо знал положение дела. Молчать было приличнее, чем поддерживать разговор на эту тему, продолжая добровольно взятый на себя обман. Оссовский молчал.
— Вам-то я скажу, в чем дело… — запнулась Елизавета Сергеевна. — Он… он знает, что сегодня… восемнадцатое июля.
— Восемнадцатое июля? — переспросил Оссовский. — Разве он знал, что я приеду восемнадцатого июля?
— Нет, — продолжала, смеясь, молодая женщина, — это… как бы вам сказать… видите ли… это наше маленькое торжество… годовщина… понимаете? Нет?.. В этот день мы стали близкими… Вот… Ну как же он не приедет?..
— Ну, конечно, — пробормотал Оссовский, усиленно смеясь, — в самом деле… да, это хорошо… Как жаль все-таки… я так устал, знаете, так устал… Усну как мертвый.
Радость, блеснувшая в глазах Елизаветы Сергеевны при мысли, что ее милый, может быть, уже подъезжает к вокзалу, наполнила сердце одинокого человека легкой завистью и неясным укором. Чувствуя, что начинает расстраиваться, он встал и раскланялся, охваченный глубокой жалостью к маленькому существу, стоявшему перед ним.
Еще несколько слов — звонок, и явилась горничная указать Оссовскому его комнату.
II
Приезжий остался вполне доволен осмотром своего нового помещения. Два больших окна выходили в сад; махровый шиповник, разросшийся под ними, наполнил комнату смешанным запахом росы и цветов, невидимых в темноте. Шторы были опущены, огонь лампы бросал желтые отблески на густую траву, озаряя низы стволов и песок дорожек. Большая кровать с пружинным матрацем нежила глаз Оссовского чистотой белья и соблазнительно откинутым одеялом.
Он разделся, потушил огонь и вытянулся во весь рост, чувствуя, как необходимый сон охватывает сладко занывшее тело. Папироса медленно потухла в его руке, он бросил ее, повернулся на бок и уснул.
Прошло не более часа, как вдруг нервный толчок, встряхнувший все его члены, разбудил его. Оссовский открыл глаза и тоскливо зевнул — сон уходил, возвращая неприятную ясность мысли и легкость тела, как будто уже наступило утро и он совершенно выспался. Сердце билось глухо и беспокойно, то замирая, то вздрагивая частыми, сильными ударами. Надвигалась бессонница, и одна мысль об этом могла уже уничтожить уверенность в возвращении сна.
Оссовский глубоко вздохнул полной грудью, стараясь вызвать зевоту и сонливость, но это не удавалось. Кровь приливала к голове, стучала в ушах, невольно развлекая мысли своим беспокойным шумом, нагретая подушка раздражала лицо. Глаза не слипались, и удержать их закрытыми теперь было так же трудно, как днем. Подкрадывался беспричинный страх, бессильный и тоскливый. Настойчивое тиканье карманных часов сердило и угнетало, эти монотонные, равнодушные звуки отмечали время, потерянное для сна. Отрывочные, хаотичные мысли скользили и таяли, как снежинки; вспыхивали отдельные сцены, слова, виденные когда-то пейзажи, их неудержимый поток рождал бессвязные размышления и тоску.
Оссовский приподнялся на локте, осматриваясь. Глубокая тишина звенела в ушах, мебель чуть намечалась в темноте расплывчатыми таинственными контурами, за окном шептал сад, дыша сыростью и прохладой. Беззвучно двигалась ночь, и казалось, что ее невидимый трепет проникает в глубину души, заставляя прислушиваться к молчанию.
— Я, кажется, не усну, — сказал Оссовский. — Но сколько же я спал?
Он зажег спичку и посмотрел на часы; целая ночь предстояла впереди. Спичка потухла, угасший свет ее разбежался в глазах Оссовского мгновенными искорками.
Он снова лег, стиснув зубы, с твердой уверенностью уснуть во что бы то ни стало, и пролежал совершенно неподвижно минут десять, переходя от надежды к сомнению, от уверенности к отчаянию.
И вдруг маленький чумазый оборванец, вынырнувший внезапно из залитого солнцем переулка, наполнил Оссовского тихою радостью, смешанной с опасением, что близость сна исчезает.
Стараясь не думать, он зорко следил за мальчуганом, виденным им, без сомнения, в каком-нибудь южном городе. Мальчик с угрозами, обливаясь потом, тащил на веревке собаку, животное прыгало, стараясь вырваться, упиралось, поджимая хвост, но мучитель не уступал. Его босые, грязные пятки сверкали на солнце, бронзовое личико свирепо морщилось; оба выбивались из сил?
Длинные гоночные лодки; на берегу цветник шляп… Гребцы в полосатых тельниках сгибаются и разгибаются, взмахивая веслами, глухо шумит вода.
…Столик с лекарствами. Синие, желтые и белые пузырьки… Тяжелый больничный запах. Знакомая головка, с плотно закрытым ртом, одеяло свесилось на пол, маленькая, похудевшая рука, которую он столько раз целовал, бессильно вытянулась, прозрачная и жалкая…
Оссовский вздрогнул, проснулся и тяжело задышал, прикладывая руку к сердцу. Перебой продолжался; настоящая отвратительная бессонница, тоскливая и неизбежная, царила у кровати, пугая душу наплывом томительных, одиноких дум.
— Разве капель выпить? — сказал Оссовский, вытирая вспотевший лоб. — Все-таки шанс, а им не надо пренебрегать.
Он надеялся, впрочем, не столько на действие лекарства, сколько на самовнушение. Поднявшись с кровати, Оссовский зажег лампу, с удовольствием замечая, что свет благотворно отзывается на его взбудораженных нервах. Осмотревшись, он вспомнил, что дорожная сумка, в которой находилось лекарство, оставлена им не здесь, но где — припомнить не мог, и это привело его в раздражение, отнимая последнюю надежду уснуть. Идти отыскивать самому было неловко и к тому же не привело бы ни к каким результатам. Оссовский подошел к окну и задумался. Им овладело странное оцепенение; не двигаясь, смотрел он в темную гущу деревьев, отдавшись воспоминаниям, все более и более соблазняемый мыслью одеться и посидеть в саду, лицом к лицу с ночью, пока утомленный мозг не откажется бодрствовать и не позовет усталое тело в тихую страну сна.
Оссовский торопливо оделся, задул лампу и остановился в нерешительности; идти через выходную дверь ему не хотелось — будить прислугу, а шум мог разбудить хозяйку. Недолго думая, он занес ногу на подоконник в сад и, стараясь не трещать сучьями, выбрался из кустов к маленькой деревянной беседке, приютившейся среди акаций и клумб.
Песок аллеи хрустел под его ногами, он шел медленно, вдыхая густой, влажный воздух ночи. Изредка мокрые листья задевали лицо, но это прикосновение было безотчетно приятно, освежая разгоряченную кожу. Воображение рисовало Оссовскому бесконечную пустыню из трав и дорожек, покрытую тьмой, в которой он двигался, отдаваясь грусти воспоминаний, милых и трогательных, согретых теплом любви, унесенной смертью, но жившей, как дорогой памятник, в его беспокойной, тоскующей душе.
Он обогнул сад, намереваясь присесть где-нибудь, но, выйдя к террасе, замедлил шаги и остановился. Ему послышался легкий, неясный шум.
Оссовский всмотрелся. Казалось, там никого не было, мрак окутывал дачу, сонная тишина царила кругом. Терраса смутно белела перед ним складками парусины; он пошел снова крупными, ясно раздающимися шагами, и вдруг тихий, напряженный вопрос, упавший в глубокое молчание, приковал его к месту:
— Это ты, милый?..
Оссовский вздрогнул, пораженный силой тоски и ожиданья, звучавшей в голосе женщины. Он замер, не двигаясь, смутно уверенный, что темнота скрывает его. Вопрос, казалось, еще звенел в воздухе, ища и не находя ответа. Оссовский постоял с минуту и затем тихо, на цыпочках, подкрался к опущенной парусине террасы; казалось ему, что его взгляд проникает в ее складки, к неподвижно сидящей женщине, к ее широко открытым, напряженным глазам… Прошла еще минута, другая, и Оссовский скорее почувствовал, чем увидел, что там кто-то тихо плачет.
Он удалился так же осторожно, как подошел, взволнованный и смущенный, охваченный состраданием и размышлением. Собственная его жизнь ярко вспыхнула перед ним; слова, подслушанные невольно, звучали в ушах, как обращенные к нему, эти трепетные слова, которым радовался и он когда-то давно…
Оссовский пробрался к окну своей комнаты и несколько мгновений смотрел в темноту, соображая и взвешивая мысль, невольно пришедшую в голову, потом слабо, но решительно улыбнулся, зная, что все равно не уснет. К тому же эта женщина, что сидит там… И жить здесь было бы достаточно тяжело.
Он встряхнул головой, как бы утверждаясь этим жестом в своем решении, поднялся на подоконник, отыскал, не зажигая огня, часы, сунул их в карман, удостоверился, что бумажник при нем, затем снова выпрыгнул в сад, притворил окно и, медленно подвигаясь вдоль изгороди, нащупал калитку. Задвижка бесшумно уступила его осторожному усилию, он запер калитку и вышел на улицу.
III
Ярко освещенный пустой вокзал ожидал поезда. Оссовский заглянул в расписание и прошел на платформу с довольным лицом: ждать оставалось всего четыре минуты. Ему везло, если можно назвать счастьем обстоятельства, помогающие не спать.
Перед станцией в полутьме двигалось несколько пассажиров; они то садились, то снова принимались ходить, таская с собой пакеты, узлы, картонки. Чемодан, забытый Оссовским, вспоминался ему; он решил, что пошлет за ним после, перед отъездом.
Справа катилось медленное, едва слышное содрогание рельс; в тихой черноте воздуха горели, увеличиваясь, две красные точки. Протяжный, уныло смолкший гудок встрепенул публику, пассажиры выстроились на краю перрона, снова отходя в сторону, по мере того как вырастал паровоз, шумно пыхтя и громыхая скрепами рельс, дрожавших под огнем его фонарей движущимся красноватым отблеском. Оссовский взглянул налево — какой-то шикарно одетый господин, рисуясь, стоял на самом краю перрона, но когда паровоз подошел ближе, нервно попятился, оглядываясь и застегивая пальто. Оссовский усмехнулся, машинально шагнул вперед… Поезд резко дохнул ему в лицо стремительным движением воздуха, облако горячего пара хлынуло в глаза, мелькнули отполированные массивные поршни, грязное лицо машиниста, окна вагонов, движущихся все медленнее и медленнее. Поезд затрясся, удержанный тормозами, и стал.
Оссовский вскочил на площадку вагона и перевел дух. Острый холод испуга еще теснился в груди, руки слегка дрожали. «Еще успею…» — подумал он, улыбаясь собственному мальчишеству. Ему вспомнились рассказы про африканского охотника, знаменитого Беккера, приучавшегося не сходить с рельс, пока расстояние между поездом и им не уменьшалось до четырех шагов. После этой практики Беккер стал охотиться на слонов. «Чепуха, — сказал Оссовский, — страх непреодолим даже при твердой уверенности умереть».
Опять коротенькое слово «успех» вернуло его мысли в темную область прошлого. Он не сопротивлялся, усилия были бы слишком мучительны. Снова оцепенение завладело им; грустная покорность, с которой он отдавался тоске, нежила его болезненной лаской воспоминания… Хлопали двери, стучали колеса, дребезжали стекла; свечи в фонарях мигали и вздрагивали. Против Оссовского, в уголку вагона, свернувшись калачиком и похрапывая, спал молодой финн. Оссовский посмотрел на него с завистью; румяные щеки обеспечивали юноше богатырский сон до самого города.
Приехав, Оссовский немедленно разыскал клуб.
Его провели в отдельный, стильно убранный кабинет, и это неожиданное появление вызвало целую бурю восклицаний, рукопожатий, громкого смеха. Инженер заключил его в объятия; две молодые, слишком нарядные женщины выжидательно смотрели на них, тихо разговаривая между собой. Мелькали выхоленные усы, возбужденные лица, блестящие глаза. Здесь было весело.
— Почему поздно? Почему поздно? — приставал Михаил. — В первый же день надуть, а? Друг мой, святая душа на костылях, а? Ну, как же тебе не стыдно? Пристыдите его, господа… у-у ты!
Инженер был сильно навеселе. Его красивое бледное лицо вспотело и зарумянилось, темные глаза щурились, вспыхивая беглым, бесконечным огнем, галстук и волосы растрепались. Оссовский сдержанно улыбался, смущаясь, как всегда, в компании незнакомых людей.
Михаил продолжал упрекать его, и Оссовский сказал:
— Не ругайся, а представь себе, что, завалившись спать у себя в номере, я проснулся только к двенадцати. Надо было умыться, выпить кофе… Я бы не пришел даже, если бы не дело…
— Дело?! — сказал инженер. — Врешь ведь! Ну, дело ли, безделье ли — все равно!
— Ты послушай, — сказал Оссовский, понижая голос и стараясь придать своему лицу загадочное игривое выражение, — я тебе скажу вот что…
Он сладко улыбнулся и закончил, краснея:
— Не можешь ли ты написать письмо… под мою диктовку?
Инженер щелкнул языком и сделал большие глаза.
— Как это? — переспросил он. — Письмо? Зачем письмо?
— Ну да, простое письмо. Будь другом, сделай это сейчас. Выйдем в свободную комнату и… Хорошо?
— Я, конечно, согласен, — протянул Михаил, рассматривая Оссовского, — но ты…
— Все объясню, пойдем.
Инженер повернулся к столу и сказал дурашливым голосом:
— Мужчины и дамы!.. Друг моего детства, миллионер и заводчик, покровитель наук и искусства, Валерьян Филиппович Оссовский требует мою душу для нескольких минут уединенного покаяния!.. Простите великодушно!
— Прощены! — гаркнул осанистый брюнет, разглаживая бакенбарды. — Идите и не грешите!..
— А я приревную вас к мсье Оссовскому, — сказала высокая женщина с молодым лицом и усталыми большими глазами.
— К счастью, — улыбнулся Оссовский, — вы не успеете. Мы скоро.
Он вышел с инженером в пустой, ярко освещенный коридор. Михаил заглянул в бильярдную — там никого не было. Над ровной зеленой поверхностью стола мягко горели висячие электрические розетки.
— Можно здесь, — сказал инженер, присаживаясь к мраморному мозаичному столику.
— А чернила?
— Вот тебе карандаш и листок из записной книжки. Пиши. Да… я обещал рассказать… Ну, это что же… Лицо, к которому ты будешь писать, — женщина.
— Валер! — простонал восхищенный Михаил. — Так ты… ты разрешил себе?
— Что делать? — мягко улыбнулся Оссовский. — Я живой человек…
— Верно! Но как ты…
— Имей кроху терпения… Есть причины, видишь ли, вследствие которых я не желаю, чтобы у нее… были доказательства. Понял? Больше я ничего тебе не скажу… пока.
— Все равно я уже заинтересован… Говори же — что и как?
— Прежде всего, — сказал Оссовский, подумав и потирая сморщенный лоб, — напиши следующее: «Дорогая, милая… бесконечно любимая деточка».
— Очень хорошо! — одобрил инженер, бегая карандашом по бумаге. — Я как будто вижу ее: маленькая, плутовское создание, а в глазах — тысяча бесенят… Я напишу тебе тысячу любовных посланий, Валер… Дальше!
— Дальше: «Прости меня, дурака…»
Инженер рассмеялся и бойко написал: «дурака».
Дойдя до этого места, Оссовский задумался, озабоченно рассматривая фигуру приятеля, склонившуюся над столом, и решил, что, если убрать слово «сегодня», — догадаться будет весьма трудно. Поэтому он сказал просто:
— «Я так и не приехал…»
«Не при-е-хал…» — вывел Михаил и замурлыкал опереточный вальс.
— А почему ты не приехал, а?
Оссовский продолжал равнодушным, отчетливым голосом:
— «…а как мне хотелось быть с тобой… заглянуть в твои ясные глазки…»
— Я написал «глазенки»… — ничего, Валер?
— Ничего, — добродушно отозвался Оссовский. — Далее… «посадить тебя на колени»…
— «Ко… ле… ни». Так. Еще что?
— «…Ведь сегодня наш праздник… и я-то знаю… как твое маленькое сердечко дожидалось этого дня».
Здесь Оссовский значительно рисковал и скрепя сердце приготовился уже к какому-нибудь вопросу. Но голова инженера бесхитростно и доверчиво встретила эти слова, предназначенные неизвестной женщине. Оссовский перевел дух и стал диктовать дальше:
— «…Не сердись, дорогая… скоро приеду, а ты увидишь, как я тебя люблю…»
— Ты вдохновенно врешь! — не удержался Михаил, поднимая глаза. — Но… хорошо выходит. Написано.
— «…Я расскажу тебе маленькую сказку, и ты крепко-крепко уснешь…»
— Спокойной ночи. Затем?
— «…Жил-был козлик…»
— Коз-лик?! — расходился инженер. — Вот не подозревал в тебе этаких талантов!.. Ну, что же козлик?
— «…Серенький козлик… да».
— «Да» — неизбежно?
— Разумеется. Продолжай: «…вроде того, которого волки съели…»
— «Съели…» Такие обжоры!
— «Только этот был умный…»
— Сомневаюсь, но все равно. Есть.
— «…Вот он пошел гулять…»
— И получил насморк, Валер?
— Экий ты насмешник, Миша! Осталось совсем немного… Пиши: «А на лугу танцует маленькая козочка… беленькая, мохнатенькая…»
— Танцует! — вздохнул инженер, стараясь не улыбаться. — Значит — балет?
— Да. Ну… «Козлик и говорит: — Я вас люблю…»
— Энергично!
— «А козочка говорит: — Очень приятно!..»
— Действительно! — рассмеялся Михаил. — Все?
— Нет еще… «Так они стали жить-поживать да добра наживать…»
— Или, — сказал Михаил, — как это говорится… да: вам сказка, мне бубликов вязка.
— Последняя фраза, Миша: «Крепко тебя целую и обнимаю, крошка моя. Спи…» Написал?
— Да.
— Ну, спасибо, голубчик.
Оссовский взял бумагу из рук приятеля и внимательно перечитал написанное. Размашистый почерк инженера заполнил весь листок.
— Маккиавелли, — сказал инженер, смеясь и лукаво подмигивая, — не способен обмануть женщину!
— Надеюсь по крайнем мере, — вздохнул Оссовский. — Все мы на этот счет способны.
— Ну, однако… У тебя вон какой талант… Импровизация, вдохновение чувствуется…
— Льстец, — скромно отозвался Оссовский. — Ну, еще раз спасибо тебе.
— Пустяки! — Михаил встал, покачиваясь, и обнял Оссовского за плечи. — Ну, идем же!.. Эта тишина давит меня. Хочу шумов, криков и плесков… Идем!
— Послушай, — сказал Оссовский, ласково отстраняя его хмельную горячую голову, стремившуюся упасть на плечо друга, — я не пойду туда… серьезно. Я устал! Но выслушай…
— Ты всю жизнь был серьезным человеком, — пробормотал инженер, — так не изменяй же себе! Я с-слу-шаю!
Оссовский задумался, смотря в сторону. Потом, видимо затрудняясь, начал:
— Я сделал глупость, Михаил, и вот какую… Ты, пожалуйста, только не обижайся… Я думал отдохнуть здесь, у тебя, почувствовать себя не одиноким… Но сегодня… когда я остался один в гостинице, прошлое с новой силой разбередило мою душу, я почувствовал как нельзя больнее, что никогда и ничем не вытравлю ни дней радости, ни дней тоски… Потом… потом сравнил тебя и себя… Ты моложе, счастливее, любим и любишь… Может быть, это низко и недостойно меня, не знаю, но подумай — жить вместе, под одной кровлей… видеть вас обоих — живое, мучительное воспоминание… Нет, нет! Я поздно сообразил это, но, сообразив, успокоился: я уезжаю завтра.
— Валер! — прослезился расстроенный Михаил. — Ты бредишь… ты нездоров… Я все понимаю… Хорошо… но ведь это же свинство с твоей стороны, а? Показаться и упорхнуть… а? Валер?
— Приходи утром, мы простимся как следует. Да, я переменил номер и… кажется, забыл какой… спроси у швейцара.
— Ну, хорошо, — пробормотал ошарашенный инженер, — у швейцара… но… вот тебе и история! Давай же хоть поцелуемся, а?
Он повис на шее Оссовского и начал его душить. Валерьян не сопротивлялся, но облегченно вздохнул, когда объятия кончились.
— Иди же, иди, Миша, — сказал он расстроенному, охмелевшему человеку, — там ждут, неловко.
— Доставьте немедленно.
— Теперь два часа, ваше-ство, — сказал комиссионер. — Поездов нет.
— А вы возьмите извозчика и пообещайте ему на чай. Вот вам двадцать.
Посыльный согнулся так низко, что можно было опасаться за целость его спины. Оссовский надел пальто, шляпу и вышел из подъезда.
Еще не светало, но в мягкой прозрачности воздуха чувствовалась тонкая свежесть недалекого утра. Пустынные улицы тянулись к темному небу крышами многоэтажных домов; кое-где дремали одинокие извозчики. Шаги Оссовского мерно звучали в тишине, гулко раздавались под арками ворот. Сонные фонари горели на перекрестках, расстилая по мостовой бледный, удрученный свет. Оссовский дышал полной грудью, рассеянно подвигаясь вперед, подавленный напряженным молчанием огромного города…
Он взял извозчика и поехал в ту же гостиницу, откуда выехал сегодня, рассчитывая пожить в тишине укромного, загородного местечка под одной крышей с приятелем. Дорогой он вспомнил Елизавету Сергеевну, письмо и грустно улыбнулся при мысли о радости, с какой будут перечитаны эти строки. Дача смутно рисовалась его воображению, он мысленно проникал в спальню, где, может быть, теперь уже спит тоненькая, наплакавшаяся женщина. Звонок разбудит ее, она получит письмо и прочтет… конечно, не один раз. Снова заснуть ей будет легче.
Оссовский дремотно улыбнулся, чувствуя приближение настоящего, давно желанного сна, и казалось ему, что он слышит тихий, растроганный, полусонный шепот засыпающей женщины:
— …А на лугу танцует маленькая козочка… беленькая…
Маньяк
I
Доктор тщательно осматривал пациента средних лет, истощенного продолжительной, тяжелой болезнью. Приговор ясно был виден в плотно сжатых губах доктора, но он, как добросовестный лжец, терпеливо и аккуратно производил исследование: щупал, выстукивал, смотрел веки, оттягивал кожу рук и, наконец окончательно убедился, что больной безнадежен. Это привело его в легкое раздражение; как медик, он мог теперь только лгать, прописывая ненужные дорогие лекарства, не смея и не имея права сказать прямо: позовите нотариуса.
На него смотрели всегда как на человека, обязанного вылечить. Наука, которая воспитала его и, вручив докторский диплом, оставила беспомощным его в пяти случаях из десяти, создалась веками трудов, ошибок, исканий и дерзновений, ореол человеческого разума окружал ее, и было обидно и тяжело сказать запросто: «Бросьте лечиться, идите домой и проводите последние дни жизни так хорошо, как только можете». Больной стонал, охал, жаловался и дрожащим, хриплым голосом просил здоровья. Сосредоточенное, серьезное лицо доктора, с крутыми дугами бровей, металлическим блеском глаз и квадратным, выбритым подбородком, казалось, тщательно хранило секрет спасения, но стоило обещать много денег — и этот, ретиво охраняемый, секрет доктора снова превратит этот скелет в здоровое тело. Но у доктора никакого секрета не было. Он повозился еще с минуту, вымыл руки и сел к столу.
— Доктор, — хрипя, как дырявый кузнечный мех, сказал пациент, — вылечите меня, пожалуйста. Я человек богатый, никакие гонорары мне не в диковинку.
— Я ни копейки не возьму за то, чтобы вас вылечить, — устало сказал доктор. — Ваше звание?
— Негоциант.
— Имя?
— Грингмат.
— У кого вы лечились раньше?
— У всех, — натягивая дрожащими руками рубашку, сказал больной. — Право, я думаю, что мало на свете докторов, у которых я не был. И все без толку. Деньги берут, а пользы нет.
— Вот поэтому-то, — спокойно сказал доктор, поблескивая очками, — я и не возьму с вас денег. Так вот: поезжайте на юг, зайдите в первую попавшуюся аптеку и спросите травы гречавки. Эту траву вы будете пить три раза в день, как пьют чай, и, по возможности, больше.
Разочарованное лицо больного выразило сдержанную иронию. Он ждал пространного, обстоятельного рецепта, внушающего уважение и щедрость. Трава гречавка! Черт бы побрал этого доктора!
— Я выздоровею? — спросил Грингмат.
— Выздоровеете, — уверенно солгал доктор. — А бумажку возьмите с собой. — И он протянул купцу брошенную на письменный стол крупную, слежавшуюся в бумажнике, ассигнацию. Больной нерешительно взял деньги и пристально посмотрел на доктора. Но доктор спокойно блестел очками, и было очевидно, что настаивать невозможно.
— Хорошо, — в раздумье произнес Грингмат, — но почему вы прописали мне только эту траву?
— Чтобы как-нибудь удовлетворить вас, — раздраженно сказал доктор. — Чахотка в той стадии, как у вас, лекарствами не излечивается. Режим и воздух — единственные лекарства. Но вы битый час мучили меня требованиями что-нибудь прописать — получите!
— Гречавка? — робко спросил купец.
— Да, гречавка… запомните. До свидания. Будьте здоровы! — Доктор посмотрел на удаляющуюся искривленную спину и мысленно произнес: протянет… с месяц.
II
Два человека расстались, и бесшумное колесо времени уничтожило в памяти доктора всякие следы визита купца Грингмата. Прошел год. Доктор переменил резиденцию и уехал в один из южных городов Франции. Ему приходилось теперь возиться с апоплексическими провинциальными дамами, отставными сержантами, патерами, мнительными, как женщины, и скупыми, как Гарпагоны, с дюжими фермерами с оливковой кожей и тысячами застарелых недугов. По-прежнему он излечивал и советовал, ездил и писал рецепты. И все это было медицинскими буднями, оканчивавшимися потрясающей драмой. Был вечер, доктор окончил прием и не спеша сбрасывал полотняный халат. В передней раздался звонок. Вошедший лакей сказал:
— Вас хочет видеть господин Грингмат.
— Больной? — спросил доктор.
— Он говорит, что пришел поблагодарить вас.
— За что?
Лакей не успел ответить, потому что в гостиной раздался голос:
— К вам можно, доктор?
Доктор открыл дверь. Перед ним стоял плотный, смеющийся, загорелый человек и дружески протягивал руку.
— Вы не узнаете меня?
— Нет, — коротко сказал доктор. — Вы Грингмат?
— Да. Неужели не помните?
Доктор потер лоб. Что-то знакомое всплывало в его сознании и, не успев разгореться, гасло.
— Пройдите в кабинет, — сказал он.
Они подошли к докторскому столу, и Грингмат сел. Сел и доктор.
— Спасибо, огромнейшее спасибо, — сказал купец. — Вы меня спасли, а ведь я умирал. Помните — год назад?
— Год назад, — задумчиво произнес доктор. — А не можете ли сказать точно, когда это было?
— Первого июля. Этот день отмечен у меня в календаре крупными буквами. Я пил гречавку.
— Постойте, — сказал доктор, и очки его заблестели ярче обыкновенного. — Сию минуту. — Он взял книгу записи пациентов, раскрыл ее и несколько минут водил вздрагивающим указательным пальцем по черным линейкам. И ему бросилась в глаза коротенькая отметка: «Грингмат, 44 лет, чахотка. Безнадежен».
Холодная струйка пробежала по спине доктора. Он бросил книгу и с минуту просидел в глубоком раздумье, опустив голову на руки. Потом встал, отодвинул ящик стола, взял револьвер и быстро, почти не целясь, выстрелил в Грингмата. Купец дернул головой в сторону, открыл рот и беспомощно повис в кресле. Он был мертв. Пуля пробила череп. Пороховой дым наполнял еще кабинет сизым туманом, а доктор с лихорадочной быстротой возился вокруг мертвого, двигаясь, как во сне. Утро застало его бодрствующим, он вскрывал легкие, исследуя невероятное, почти чудесное излечение незначительной аптечной травой.
III
В медицинском обществе, к которому принадлежал доктор, и в местной полиции были на другой день получены два пакета. Пакет, адресованный медицинскому обществу, заключал в себе точное описание зарубцевавшихся легких Грингмата, состояние плевры, бронх, кровеносных сосудов и указание, что эти результаты достигнуты благодаря «гречавке». А в полиции прочитали следующее: «Общество осудит меня, но если то, что я видел сегодня своими глазами, — не простая случайность, моя совесть спокойна. Смерть Грингмата — ничто по сравнению с пользой, которую она может принести человечеству.
Решить же, была это случайность или нет — предоставляю науке».
Он был арестован немедленно.
Циклон в Равнине Дождей
I
— На запад, на запад, Энох! Смотрите на запад! — прокричал Кволль, стремительно проносясь мимо. Его белый парусиновый пиджак вздувался на спине пузырем от ветра, с ровным, унылым гудением стлавшегося по полю. Дрожки Кволля подпрыгивали, как угорелые, и чуть не опрокинулись, зацепившись за глубокую колею.
Почти в тот же момент Кволль, дрожки и лошадь скрылись в облаках едкой, красноватой пыли, поднятой копытами. Энох вытер рукавом пот и поднял голову; то же, но быстрее его, сделали два сына его, работавшие с ним.
— Жип, — сказал фермер, — кто кувыркался тут по дороге и кричал, что надо смотреть на запад?
— Кволль, отец, — ответил Жип, бросая лопату. — И он прав, в другой раз за деньги не увидишь того, что теперь делается. О-ох! — вскричал он, — да, это плохие шутки!
Три пары широко раскрытых глаз устремились к закату, и три вздоха соединились в один.
Солнце стало неярким. Низко над горизонтом, тускло и мрачно смотрело оно на желтую кукурузу Эноха; невидимая тяжесть ложилась от его красного диска на струящееся море стеблей, и низкие, как отколовшиеся пласты неба, облака приняли красный оттенок меди. Западная часть неба покраснела и стала мутной, словно за сто миль обрушились миллионы возов кирпичного щебня. Свет исчез: прямой, лучистый свет солнца превратился в прозрачную, красноватую муть, мгновенно лишая красок яркую зелень придорожных канав, ставших вдруг серыми, словно их облили купоросом. Затих ветер, земля, пропитанная удушьем, молчала. Отчаянно голося, хохлатый удод взлетел вверх, забил крыльями и пустился наперерез поля.
— Риоль! — сказал младшему брату Жип, — я как будто рассматриваю тебя сквозь красное стекло.
Энох, покрытый смертельной бледностью, с проклятием поднял руки и взмахнул сжатыми кулаками. Все кончено! Труды целого лета, постоянное беспокойство, мечты о прикупке земли — все превратится в вороха смятой соломы и обломки изгородей. Ну-ну! Он не ожидал этого.
Закат неудержимо притягивал его гневные, испуганные глаза. Отвратительный, красный пожар неба напоминал чью-то огромную, поднятую для удара ладонь.
Риоль тяжело вздыхал, судорожно почесывая затылок. Ноздри у Жипа бешено раздувались, он пристально посмотрел на отца и коротко рассмеялся. Фермер побагровел.
— Идиот! — заревел он. — Улыбнись-ка еще!
Жип стиснул зубы. Трепет, похожий на зуд и смех, проникал во все его существо. Его горе, мучившее его бессонницей и тяжелыми ночными слезами, казалось, нашло себе выход в притаившемся неистовстве атмосферы. Он не боялся, а наоборот, замер в бессознательном ожидании немедленного и грозного разрешения.
— Марш домой! — проворчал старик. — С богом плохие шутки. Это за грехи, слышишь, Риоль?
Охваченный отчаянием, он сразу осунулся и медленно шагал с непокрытой головой по дороге, изредка останавливаясь, чтобы бросить на запад взгляд, полный тоски и страдания. Риоль шел следом, испуганный, молчаливый; Жип замыкал шествие.
В полях, заворачивая и свивая метелками верхушки кукурузных стеблей, уже крутились маленькие, сухие вихри. Восток тонул в ранних сумерках, и сумрачно скрипели деревья, кланяясь обреченным полям.
— Риоль, — сказал Жип, — ты, конечно, поспешишь к Мери? Передай ей, что я озабочен ее участью не менее, чем своей. Всем нам грозит смерть.
Юноша с тоской посмотрел на брата.
— Ее не тронет, — убежденно проговорил он. — Мы — другое дело. Мы, может быть, заслуживаем наказания. А она?
— Риоль, — быстро проговорил Жип, — ты знаешь — мне весело.
Риоль вспыхнул. Поведение брата казалось ему предосудительным.
— Веселись, — сдержанно сказал он, прибавляя шагу, потому что налетевший порыв ветра толкнул его в спину. — Мне жалко людей. Жип, — что будет с ними?
— Ничего особенного. Поотрывает головы, снесет крыши.
— Жип! Безбожник! — закричал Энох, оборачиваясь и потрясая заступом: — Я проломлю тебе череп и наплюю на то, что ты мне сын! Какой черт вселился в тебя?
— Бежим! — простонал Риоль. — Бежим. Слышите, слышите?!
Далекий ревущий гул обнял землю. Энох остановился, ноги его подкосились и задрожали. Ему казалось, что тысячи поездов летят изо всех точек горизонта к центру, которым был он.
— Бежим! — подхватил он.
И все трое пустились стремглав к видневшейся невдалеке крыше фермы, дыша, как загнанные, очумелые лошади.
II
Первый удар циклона со стоном и лязгом рванул землю, замутив воздух тучами земляных комьев, сорванными колосьями и градом мелкого щебня. Ревущая ночь слепила, валила с ног, била в лицо. Жип лег на землю ничком и некоторое время пытался сообразить, в каком направлении лежит ферма. Затем, сдвинув на лицо шляпу, решил, что лучше и безопаснее остаться пока здесь, в поле, где нет стен и твердых предметов.
— Отец! Риоль! — вскричал он, пытаясь рассмотреть что-нибудь.
Разноголосый вой бешено прихлопнул его слова, точно это был не крик человека, а стон мухи. Крутящаяся тьма неслась над спиной Жипа. Он встал, повинуясь безумию воздуха и чувствуя, что неудержимое возбуждение организма толкает его двигаться, кричать, что-то делать. Но в тот же момент, как подстреленный, хлопнулся в дорожную пыль и покатился волчком, инстинктивно защищая лицо. Идти было немыслимо. Он лег поперек дороги, упираясь то ногами, то руками, в то время, как вихрь перебрасывал его по направлению к ферме.
Так прошло несколько минут, после которых все тело Жипа заныло от ссадин и ударов о почву. Временами он думал, что наступает конец мира, все умерли и только он, Жип, еще борется с безумием воздуха. Попав в канаву, Жип заметил, что циклон несколько ослабел. Быть может, то был случайный, ничего не значащий перерыв — трагедии, но ветер дул ровно, с силой, не угрожающей пешеходу смертью или полетом в воздухе.
Жип сделал попытку — встал и, с усилием, но устоял на ногах. Вихрь гнал его вперед, не давая остановиться. Он пробежал несколько саженей и с размаха ударился локтем о что-то твердое. Быстрее молнии другая рука Жипа обвилась вокруг невидимого предмета: это был столб или дерево.
— Улица, — сказал Жип, задыхаясь от вихря.
Теперь его самым мучительным желанием было отыскать Мери живую или лечь рядом с ее трупом. Жип побежал в сторону, тыкаясь о разрушенные стены; непонятная, почти ликующая ярость руководила его движениями. Это было временное безумие, восторг ужаса, но все совершающееся вокруг казалось Жипу давно ожидаемым и почему-то необходимым.
— Мери! — кричал он, падая и вскакивая, — Мери! Риоль!
III
Катастрофы полны неожиданностей, и крутящая сумятица ощущений в сердцах людей не дает им времени вспомнить впоследствии фактическую цепь событий, потому что все — земля и небо, и ум, потрясенный бешенством окружающего, — одно.
Тьма бледнела. Вся мелочь, весь земной мусор, труды людей, превращенные в грязный сор, пронеслись и очистили воздух, ставший теперь серым, как лицо больного перед лицом смерти. Прежняя сила воздуха густела над опустошенной равниной, и облака, не поспевая за ветром, рвались в клочки, как паруса воздушного корабля, гибнущего на высоте.
Жип перешагнул кучу бревен; помутившиеся глаза его остановились на лице Мери. Она сидела на корточках, прижавшись к уцелевшей части стены, Риоль сидел возле нее, прижавшись к коленям девушки, как зверь, ищущий защиты.
— Остатки людей, остатки имуществ! — прокричал Жип, нагибаясь к Риолю. — Все кончено, не так ли, Мери? Все кончено.
— Все кончено! — как эхо отозвалась девушка.
— Мери, — продолжал Жип, — уйдем отсюда! Я пьян сегодня, пьян воздухом и не знаю, слышишь ли ты меня, потому что мой голос слабее бури! Брось этого размазню Риоля! Мы построим новый дом на новой земле.
— Ты — сумасшедший! — сказал Риоль, расслышав некоторые слова Жипа. — Пошел прочь!
— Мери! — продолжал Жип. — Я не знаю, что делается со мною, но я нисколько не стыжусь братца. Я при нем говорю тебе: когда он еще не целовал твоих рук, я любил тебя!
— Жип! — тихо сказала Мери, и Жип почти прижался щекой к ее губам, чтобы расслышать, что говорит девушка. — Жип, время ли теперь заводить ссору? Мы можем умереть все. Все разорены, Жип!
Жип прислонился к стене. Из груди его вырывалось хриплое, отрывистое дыхание; разбитый, осунувшийся, с кровавыми подтеками на лице, он был страшен. Но в душе его совершалось странное торжество: обойденный любовью, этот угрюмый парень радовался разрушению. В отношении его была явлена справедливость, — он понимал это.
— Кволли, Томасы, Дриббы и им подобные! — кричал он, приставляя руку ко рту: — Да, я давно знал, что пора это сделать по отношению ко всей этой дряни! Кто смеялся на похоронах Рантэя? Кто ограбил мать Лемма? Кто сделал подложные свидетельства на аренду Бутса и выудил у него процессами все денежки? Кто довел до чахотки Реджа? Послушайте, есть справедливость в ветре! Я рад, что смело всех, рад и радуюсь!
Он продолжал бесноваться, притопывая ногой в такт словам. Девушка плакала.
Риоль вынул револьвер.
— Жип, — сказал он, — уйди. Ты враг нам. Уйди или я застрелю тебя. Сегодня нет братьев — или друзья, или враги. Уйди же!
— Жип! Риоль! — воскликнула Мери.
Новая туча каменного града, сухих веток и стеблей кукурузы обрушилась на головы трех людей. Жип вынул револьвер, в свою очередь.
— Если это правда, — прокричал он, — то я ведь никогда не был неповоротливым! Сегодня все можно, Риоль, потому что нет ничего, и все стали, как звери! Прочь от этой девушки!
Мери встала, белая, как молоко.
— Убей и меня, Жип, — сказала она.
— О — ах! — вскричал Жип: — Люби мертвого!
И он выстрелил в грудь Риолю. Юноша повернулся на месте, затрясся и медленно упал боком. В тот же момент худенькая рука Мери с силой ударила Жипа по лицу, и он взвыл от ярости.
— Пусти же, подлец! — сказала девушка.
Но он уже ломал ее руки, притягивая к себе, приведенный в неистовство кровью, лязгом циклона и беззащитным девичьим телом. И вдруг, как разбежавшийся тапир, сраженный ядом стрелы, — упал вихрь. В воздухе еще кружилась солома, пыль, щепки, но все это падало вниз подобно дождю. Настала гнетущая тишина.
Жип вздрогнул и выпустил девушку. Это было ощущение чужой руки, опущенной на плечо. Закачавшись, с внезапной слабостью во всем теле Жип выбежал на дорогу.
Он увидел взлохмаченные, исковерканные, обезображенные поля, снесенные крыши, жилища, развалившиеся по швам, как ветошь; домашнюю утварь, разбросанную в канавах, сломанные деревья; одинокие фигуры живых.
И только что пережитое хлынуло в его душу тоскливой жалобой небу, земле и людям.
«Она»
I
У него была всего одна молитва, только одна. Раньше он не молился совсем, даже тогда, когда жизнь вырывала из смятенной души крики бессилия и ярости. А теперь, сидя у открытого окна, вечером, когда город зажигает немые, бесчисленные огни, или на пароходной палубе, в час розового предрассветного тумана, или в купе вагона, скользя утомленным взглядом по бархату и позолоте отделки — он молился, молитвой заключая тревожный грохочущий день, полный тоски. Губы его шептали:
«Не знаю, верю ли я в тебя. Не знаю, есть ли ты. Я ничего не знаю, ничего. Но помоги мне найти ее. Ее, только ее. Я не обременю тебя просьбами и слезами о счастье. Я не трону ее, если она счастлива, и не покажусь ей. Но взглянуть на нее, раз, только раз, — дозволь. Буду целовать грязь от ног ее. Всю бездну нежности моей и тоски разверну я перед глазами ее. Ты слышишь, господи? Отдай, верни мне ее, отдай!»
А ночь безмолвствовала, и фиакры с огненными глазами проносились мимо в щелканье копыт, и в жутком ночном веселье плясала, пьянея, улица. И пароход бежал в розовом тумане к огненному светилу, золотившему горизонт. И мерно громыхал железной броней поезд, стуча рельсами. И не было ответа молитве его.
Тогда он приходил в ярость и стучал ногами и плакал без рыданий, стиснув побледневшие губы. И снова, тоскуя, говорил с гневом и дрожью:
— Ты не слышишь? Слышишь ли ты? Отдай мне ее, отдай!
В молодости он топтал веру других и смеялся веселым, презрительным смехом над кумирами, бессильными, как создавшие их. А теперь творил в храме души своей божество, творил тщательно и ревниво, создавая кроткий, милосердный образ всемогущего существа. Из остатков детских воспоминаний, из минут умиления перед бесконечностью, рассыпанных в его жизни, из церковных крестов и напевов слагал он темный милосердный облик его и молился ему.
Миллионы людей шли мимо, и миллионы эти были не нужны ему. Он был чужой для них, они были для него — звук, число, название, пустое место. Один человек был ему нужен, один желанен, но не было того человека. Все многообразие лиц, походок, сердец и взглядов для него не существовало. Один взгляд был нужен ему, одно лицо, одно сердце, но не было того человека, той женщины.
Печальная ласка сумерек изо дня в день одевала его лицо с закрытыми глазами и голову, опущенную на руки. Вечерние тени толпились вокруг, смотрели и слушали мысли без слов, чувства без названия, образы без красок.
Открывались глаза человека, спрашивая темноту и образы, и мысли без слов толпились в душе его.
Тогда говорил он словами, прислушиваясь к своему голосу, но одиноко звучал его голос. А мысли без слов и образы опережали слова его и, клубом подкатывая к горлу, теснили дыхание. И тени сумерек слушали его жалобу, росли и темнели.
— Я один, родная, один, но где ты? Не знаю. Каждый день бегут мимо меня вагоны с освещенными окнами, люди видны в окнах, они поют, смеются или едят. Но тебя нет с ними, родная!
И пароходы, гиганты с бесчисленными глазами, пристают в гавани каждый день, там, где ослепительно горит электричество и движется плотная, черная толпа. Сотни людей идут по сходням, радуются и грустят, но тебя нет с ними, родная!
Грохочут улицы, вывески ресторанов сверкают, как диадемы, и катит людские волны безумный город. Молодые и старые, мужчины и женщины, школьники и проститутки, красавицы и нищие идут мимо, толкают меня и смотрят, но нет тебя с ними, родная!
Я ищу и хочу тебя, хочу ласки твоей, хочу счастья. Я уже не помню как смеешься ты. Я забыл запах твоих волос, игру губ. Я найду тебя. Я бегу за каждой женщиной, похожей на тебя, и, нагнав, проклинаю ее. Жажда томит меня, и высохла моя грудь, но нет тебя. Отзовись же, найдись. Сядь на колени ко мне, щекой прижмись к моему лицу и смейся как раньше, золотом солнца, радостью жизни. Я укачаю, убаюкаю тебя на руках, распущу твои волосы и каждый отдельный волосок поцелую. Я спою тебе песенку, и ты уснешь.
Шли минуты, часы, и звонко бегал маятник, отбивая секунды в живой, мучительной тишине. А он все сидел, очарованный страданием, качаясь из стороны в сторону. И вот из страшной, черной глубины души кто-то, на блоках и цепях, начинал подымать груз невероятной тяжести. От усилий неведомого существа кровь приливала к вискам, стучала и говорила торопливым, безумным шепотом. А тоска металась, острыми крыльями била в сердце, и с каждым ударом крыла хотело крикнуть, застонать сердце, готовое лопнуть, как гуттаперчевый шар. А груз подымался, скрипя, все выше, и медленно прессовал грудь, выгоняя воздух из легких, и ворочался там острыми гранями.
Он сжимал руками голову и, с дрожью напрягая тело, гнал прочь нечеловеческую тяжесть. А груз — воспоминание — все рос, двигаясь, как лавина и звенел забытыми словами, розовым смехом, радостью смущенных ресниц.
Он кричал:
— Не хочу! Не надо!
Но каждый раз, обессиленный, снова и снова видел во весь рост то, что бывает однажды, что не повторится ни с ним, ни с другим, ни с кем, никогда…
II
В саду темно, сыро и хорошо. Три дня он не виделся с ней и теперь пришел трепещущий, довольный и робкий. Под их ногами хрустел песок, и казалось в темноте, что она улыбается, смеется над его любовью, видит ее и думает. От этого волнение еще больше мучило его, и тягостным становилось молчание.
Они сели: он отодвинулся от ее колен, боясь, что прикосновение взволнует его любовь и бессвязными, тяжелыми словами вырвется наружу. Тогда надо будет уйти. Кончится все, и нельзя больше будет видеть ее. Так думал он за пять минут перед самыми счастливыми минутами своей жизни.
— Я вчера ждала вас, — сказала девушка, — и третьего дня ждала, и сегодня. Но вы не приходили. Разве так поступают с друзьями?
Ласковое ожидание слышалось в ее голосе, а ему оно казалось насмешкой, и от этого горькое, обидное чувство мешало дышать. Поборов волнение, он грубо и раздражительно сказал ей:
— Зачем ждали. Разве не все равно вам?
В темноте он почувствовал, как лицо девушки побледнело и сделалось замкнутым от его грубости, как глубокими и печальными стали глаза. Помолчав немного, она сказала с трудом:
— Если вы… я не знаю. Если вам все равно — конечно… Пройдемтесь. Скучно сидеть.
Но уже жалость к себе, к ней, раскаяние и умиление перед своею любовью охватили его. Не зная сам, как — он взял ее руки — горячими и бесконечно милыми были маленькие, тонкие пальцы — и сказал, сперва мысленно, а потом вслух:
— Милая! Милая! Простите меня!
Настало молчание. Казалось, что ему не будет конца. Но уже близилось могучее биение радости. Играла ли в это время музыка, пел ли кто — он не помнит. Кажется, стало светло и тягостно-сладко. Она не отняла своих рук, и он сам благоговейно и осторожно выпустил ее пальцы. Стучало ли его сердце, пел ли кто — он не помнит.
И девушка — его возлюбленная, его радость, встала, и он — без слов, понимая каждое ее движение, пошел за ней, в ее комнату, и там долго, со слезами смотрел, смотрел на ее раскрасневшееся лицо, ставшее вдруг близким-близким, бесконечно простым и добрым. Она смеялась и говорила, а кружево на ее груди трепетало, как бабочка.
— Скажите мне: «Я люблю вас!»
Он повторял, стыдливо и смущенно:
— Я люблю вас! Люблю вас! Нет — тебя люблю!..
Она засмеялась, отвернувшись, а он смотрел на ее плечи, вздрагивающие от смеха, на край розового, маленького уха, обвитого русой прядкой волос. Как-то он подошел к ней, обнял сзади за плечи и шею и вздрогнул от прикосновения теплого, трепетного тела. Она крепко прижалась маленьким, круглым подбородком к его руке и глядела прямо перед собой, в стену, счастливыми, нервно-блестящими глазами. А он спросил:
— Можно мне обнять тебя?
Она засмеялась еще сильнее неслышным, коротеньким смехом. Засмеялась оттого, что он такой смешной: сперва обнял, а потом уже спросил позволения…
III
Так сидел он часами, но груз страшной тяжести висел в его душе, груз с бледным лицом и шутливо-ласковым взглядом. Тогда он вставал и шел в темные, извилистые закоулки города, где пьяное мерцание красных фонарей с разбитыми стеклами освещает грязные булыжники и тонет в блестящих, вонючих лужах. За столиками, где пируют матросы со своими возлюбленными и хриплый хохот заглушает ругательства и женский плач, садился и он, пил вино, смотрел и слушал, как страшный груз опускается ниже, а лицо девушки с русыми волосами тонет в клубах едкого табачного дыма.
Вверху медленно двигалась ночь, звезды описывали полукруг с востока на запад, и розовый рассвет придвигал сонное лицо свое к разбитым, подслеповатым окнам кабака. Говор вокруг становился тише, ниже опускались к столам опьяневшие тела, и лохматые, рыжие головы ложились на плечи подруг. А его тело становилось чужим, и казалось ему, что голова живет отдельно от тела, бросая тупые крохи сознания в бледную полумглу.
Или он заходил в рестораны, где красивые, сверкающие зеркала неутомимо повторяли движения седого человека с молодым, загорелым лицом. На мраморных столиках белели девственно чистые скатерти, сверкая снежными изломами складок, румянец плодов алел в хрустальных вазах, и море яркого света дрожало и плыло в звуках бесшабашных мелодий огненными, острыми точками. Огромные, цветные шляпы женщин с нахальными улыбками колебались вокруг. А люди в черном целовали их руки, красные губы, полные плечи, вздрагивая и пьянея от удовольствия.
И снова сонный рассвет придвигал розовое лицо свое к матовым узорным окнам и восковыми, мертвенными тенями покрывал лица людей. В свете наступающего дня они казались призраками, обрывками сна, уродливыми и жалкими. Блестело последнее золото, последние посетители в смятых манишках, в шляпах, сдвинутых на затылок, расплачивались и уходили, а он сидел, и пустым казался ему наступающий день, пустым и ненужным, как бутылки, стоящие на столе. Дыханием его было страдание, и молитвой была тоска его.
IV
С тех пор прошло пять лет.
Пять лет прошло с того дня, когда он в первый раз обнял ее и сказал: «Можно обнять тебя?» Пять лет.
Из крепости он вышел седой. Ни письма, ни привета он не получил за эти три года, ничего. Его содержали, как важного государственного преступника, и ни одно известие о ней не всколыхнуло его сердце. Людям, посадившим его в тюрьму, не было дела до его страданий; они служили отечеству.
О жизни своей в эти три года он всегда боялся вспоминать и с ужасом приговоренного к смерти вскакивал ночью с постели, когда снилось, что он снова в тюрьме. Помнил только, что с грустью мечтал о пытках тела, существовавших в доброе старое время, и жалел, что не может своим изорванным, окровавленным телом купить свидание с ней. Раньше это было можно, в то доброе старое время.
Когда его выпустили, оправданного, он стал искать ее. Огромность задачи не поставила его в тупик. Но следы ее исчезли, и никто не мог сказать ему, где она. В мире людей, среди которых он жил, связи и знакомства непрочны, как самая жизнь этих людей. Приходят одни, уходят, приходят другие и снова бесследно теряются в шуме и холоде жизни. Исчезают, как ночная роса в утренний час.
Но упорно, неотступно, как мученик — смерть, как ученый — великую идею, он искал ее, день за днем, месяц за месяцем, разъезжая по городам, за границей, везде, где мог ожидать встретить ее. Но не было того человека, той женщины.
Он спрашивал ее везде, в отелях, гостиницах, адресных столах я клубах, библиотеках и союзах. Кельнеры и гарсоны, половые и чичероне вежливо выслушивали его, когда, стараясь казаться хладнокровным и рассеянным, он спрашивал их, прислушиваясь к ответу всем телом, с тоскою и ужасом:
— Скажите, здесь не останавливалась Вера N? Из России? Она из России, русская.
В лице людей, слушавших его, мелькало озабоченное, деловитое выражение. Они бежали куда-то, рылись в больших книгах с золотыми обрезами, в кипах листков и журналов, и каждый раз, бегая глазами по его загорелому лицу и седым волосам, говорили виновато-ласковым голосом:
— Вера N. Нет, мсье. Госпожи с этой фамилией у нас не было.
Чем дальше спрашивал он, тем труднее становилось говорить чужим, равнодушным людям имя, священное для него. И начинало казаться, что тайна его — уже не тайна, что выползла она из сокровенных тайников и неслышной тенью стелется по земле, из уст в уста, из мозга в мозг, передавая его муку, его любовь. С ненавистью смотрел он тогда в зеркало на свое лицо, проклиная измученные, угрюмые черты, не доверяя им, как скряга слугам, берегущим сокровище. Если б лицо его стало каменной маской — ему было бы легче. Тогда ни один мускул, ни одно дрожание век не выдали бы тоски его. Все труднее было ему спрашивать о ней, и казалось, что смех дрожит в глазах людей, отвечавших ему, что знают они его тайну и носят из дома в дом, хватая грязными пальцами, — сокровище, его любовь и молитву.
Шло время, весна пестрела цветами, лето синело и ширилось, желтела плакучая осень, стыла и серебрилась зима. Но не было того человека, той женщины.
— Где ты? Где ты? Я распущу твои волосы, я слезами омою их. Слезами чистыми, как любовь, как тоске моя. Я буду целовать следы ног твоих…
V
Иногда он приводил к себе женщину и запирался с ней. Являлись слуги, ставили на стол все, что требовала она, часто голодная и нетрезвая, и скромно уходили, неслышно ступая мягкими, дрессированными шагами. Он пил, оглушая себя, женщина садилась против него, охорашиваясь и оголяя локти. Снимала шляпу с цветными, красивыми перьями, трепала его по щеке и говорила:
— Давай чокнемся. Ты, душечка, сердитый? Отчего так?
Но он молчал, а женщина смеялась преувеличенно громко, думая, что не нравится ему. Садилась к нему на колени и двигалась телом, стараясь зажечь кровь. Наливала ему и себе, он пил и слушал, как падают за окном дождевые капли. Иногда смотрел на нее и говорил:
— Зачем ты сняла шляпу? Она тебе к лицу.
— Я люблю рыбу под белым соусом, — говорила женщина. — Не надеть ли мне еще калоши, дружочек? Я в комнате не ношу шляп.
Потом он брал ее за руки и долго молча целовал их. Она сидела тихо, но вдруг, вырываясь, вскрикивала обиженным, визгливым голосом:
— Ревет! Вот дурак!
— Не нужно… — бормотал он, качая головой, полной кошмарного бреда. — Не нужно. Разве ты — она?
Шли минуты, часы; женщина, пьянея, прижималась к нему все крепче и болтала без умолку, хохоча, вскидывая вверх толстые ноги в ажурных чулках. Он становился перед ней на колени и просил робким, умоляющим шепотом:
— Погладь меня… Ну, погладь же… Приласкай… Крепче, крепче обними меня. Вот так. Еще крепче. Милый я, — милый, да?..
Она заливалась звонким неудержимым хохотом, сверкая зубами, и тормошила его, крепко стискивая полными, нагими руками шею человека с загорелым лицом. Слова ее прыгали по комнате, отскакивая от его сознания, возбужденные, громкие:
— Ах ты, мой старичок! Бедняжка! Есть же такие на свете, господи!..
Кто-то гасил свет: темнота обнимала их, и в темноте он покрывал голое, горячее тело поцелуями, безумными и нежными, как счастье. Прижимался к ней. Терся лицом о лицо, трепеща от тоски и боли. Зарывал лицо в темные, пахучие волосы и думал, что это она, его возлюбленная, его радость.
Ночь шла, и ширилась, и закрывала стыдливым покровом опустошенную душу пьяного человека, и несла отдых красивой, продажной женщине. И снова розовый рассвет придвигал сонное лицо свое к занавескам, одевая мертвенным светом спящих людей.
День идет равнодушный и шумный. День за днем рождается и умирает, но нет ее. Но нет того человека, той женщины.
VI
Улицы становились пустыннее, глуше; торопливо стучали шаги одиноких прохожих. Откуда-то и как будто со всех сторон двигался отдаленный грохот экипажей, катившихся на людных улицах. В окнах, блестевших скупым светом, скользили тени людей, и мир, скрытый стеклами, убогий внутри, с улицы казался таинственным и глубоким.
С тех пор, как он вышел из веселого и громадного подъезда, прошел, вероятно, час. Двигаясь во всевозможных направлениях, пересекая площади и пустыри, терпеливо проходя длинные улицы и угрюмые переулки, он изредка останавливался, соображая, что сбился с дороги, затем опускал голову и, моментально забывая, где он, — шел снова, без определенного плана, без цели, погруженный в глубокое раздумье. Прохожие уступали ему дорогу, так как он не уступал ее никому, даже женщинам, потому что не видел их. Ноги устали, болели ступни и сгибы колен, он чувствовал, но не сознавал этого. Нищий, попросивший у него милостыни, получил в ответ:
— Не знаю. Я забыл часы дома.
Неожиданно, поворачивая за угол, в безмолвии и темноте вечерней улицы, он заметил кучку людей, толпившихся на ярко освещенном тротуаре, и тут же забыл о них. Через несколько шагов ему крикнули прямо в лицо хриплым и назойливым голосом:
— Приглашаю господина взять билет! Франк, франк, только один франк! Все новости Америки и Парижа!
Как человек, разбуженный внезапным, грубым толчком, он вздохнул, поднял голову и осмотрелся.
Прямо перед ним, на шестах, украшенных лентами и флагами, висела холщовая вывеска, освещенная электрическим светом. На ней было написано красными, затейливыми буквами, по белому фону: «Театр». Слева и справа этого слова чернели грубо нарисованные руки в манжетах, с указательными пальцами, протянутыми к буквам вывески. У широких, распахнутых дверей дощатого здания, испачканного обрывками афиш, висел лист белой бумаги. Он подошел и стал читать.
«Неожиданное приключение». «Добывание мрамора в Карраре». «Индейцы и Ков-Бои»…
Кругом теснились мальчишки и толкали его, засматривая в лицо. Усталость одолевала его. Человек, кривой на один глаз, в рыжем котелке и клетчатом кашне ходил по тротуару, мокрому от дождя, выкрикивая безразличным гортанным голосом:
— Один франк! Только один франк! Начинается! Спешите и удивляйтесь! Все новости, все новости! Франк!
Колокольчик в его пальцах неутомимо дребезжал мелким, бессильным звоном. Человек с загорелым лицом подошел к прилавку и купил билет у сонной, толстой женщины с напудренными плечами. Отодвинув драпировки, он сделал несколько шагов и сел на стул.
Вокруг сидело десять — двенадцать человек, преимущественно рабочие и мелкий торговый люд. Они сидели согнувшись, зевая и усиленно рассматривая разноцветные плакаты развешанные на стенах, обитых зеленой с красными полосами материей. Перед экраном сидел тапер, старик с красным носом и артистически-длинными серыми волосами. Его тщедушная фигура в изношенном сюртуке сотрясалась от ударов по клавишам, извлекая жалкие, прыгающие звуки танца.
За стеной еще раз продребезжал колокольчик и внезапно погас свет. Маленькая девочка с большими глазами громко и таинственно сказала матери:
— Мама, они хотят спать?
— Тсс! — сказала болезненная женщина, ее мать. — Сиди смирно.
— Петушки, — сказала девочка, увидя появившуюся на экране фабричную марку. — Мама, петушки?
Но петушки скрылись. Серая улица с серыми домами и серым небом встала перед глазами зрителей. Беззвучная, теневая, серая жизнь скользила по ней. Издалека двигались экипажи, конки, росли, делались огромными и пропадали.
Шли люди с корзинами, покупками, смеялись серыми улыбками, кивали, оглядывались. Бежали собаки и лаяли беззвучным лаем. Казалось, что внезапная глухота поразила зрителя. Движется жизнь, но беззвучна она и мертва, как загробные тени.
Из кондитерской вышел мальчик и, весело подпрыгивая, направился с корзиной, полной пирогов, к поджидавшему его маленькому товарищу-трубочисту. Они идут, жадно уничтожая пироги заказчика, довольные и счастливые.
Едет автомобиль. Шофер не видит, что маленький сорванец уже примостился сзади между колес и весело болтает босыми ногами, вздымая пыль.
— Он поехал, — сказала девочка и тронула за плечо мать. — Мама, он поехал, тот мальчик!..
— Молчи, — сказала женщина. — А то придет трубочист и унесет тебя.
Идут люди, смотрят вслед уезжающему сорванцу и смеются. Женщина в большой соломенной шляпке с мешочком в руках остановилась, оглядывается и смотрит, как невидимый зрителю фотографический аппарат записывает биение жизни.
VII
Он вскочил, зарыдал, крикнул и бросился вперед, теряя сознание.
— Она!
Она — его солнце, его жизнь. Родная! Ее грустная, милая улыбка. Ее лицо, похудевшее, тонкое. Движения! Все!
Она — схваченная игрой света. Прямо в душу смотрят ее глаза, в его потрясенную, задыхающуюся душу. Тень от шляпки упала на его лицо. Остановилась! Пошла!
Долгий, пугающий крик убил тишину и потряс стены театра. Он бросился, побежал к ней, уронив шляпу, расталкивая прохожих, побежал, задыхаясь, с лицом, мокрым от слез. Десять, пятнадцать шагов расстояния…
— Вера! Вера!
Женщина обогнула решетку сада и остановилась, удивленная криком. Он догнал ее, сотрясаясь от плача, взял на руки, поднял как ребенка, поцеловал…
Она испугалась, побледнела… Узнала! Узнала. Прижалась к нему. Безумие счастья, жгучего, как нестерпимая боль, развернуло свои крылья, осенив их. Все утонуло, пропало. Только они — их двое…
Кто-то схватил сзади и грубо потянул в сторону. Он обернулся, слепым, пораженным взглядом обвел улицу и чужих перепуганных людей, отрывавших его от чуда, сокровища и молитвы.
Огненный снег завертелся перед глазами, и кто-то огромный, тяжелой гирей ударил в сердце. Стало темно. Два маленьких рыжих петуха выскочили по бокам, сверкнули красными, косыми глазами и исчезли. Поплыл тягучий, долгий звон, усилился, стих и замер.
Когда потащили к выходу тело, ставшее вдруг таинственным и враждебным для всех этих живых, перепуганных людей, — маленький, горбоносый субъект с грязным галстуком и черными глазами сказал человеку, звонившему в колокольчик:
— Я заметил его еще раньше… Он не взял сдачи — вы подумайте — с пяти франков!..
Колония Ланфиер
Подобно моряку,
Плывущему через Юрский пролив,
Не знаю, куда приду я
Через глубины любви.
Иоситада, японец.I
Три указательных пальца вытянулись по направлению к рейду. Голландский барок пришел вечером. Ночь спрятала его корпус; разноцветные огни мачт и светящиеся кружочки иллюминаторов двоились в черном зеркале моря; безветренная густая мгла пахла смолой, гниющими водорослями и солью.
— Шесть тысяч тонн, — сказал Дрибб, опуская свой палец. — Пальмовое и черное дерево. Скажи, Гупи, нуждаешься ты в черном дереве?
— Нет, — возразил фермер, введенный в обман серьезным тоном Дрибба. — Это мне не подходит.
— Ну, — в атласной пальмовой жердочке, из которой ты мог бы сделать дубинку для своего будущего наследника, если только спина его окажется пригодной для этой цели?
— Отстань, — сказал Гупи. — Я не нуждаюсь ни в каком дереве. И будь там пестрое или малиновое дерево, — мне одинаково безразлично.
— Дрибб, — проговорил третий колонист, — вы, кажется, хотели что-то сказать?
— Я? Да ничего особенного. Просто мне показалось странным, что барок, груз которого совершенно не нужен для нашего высокочтимого Гупи, — бросил якорь. Как вы думаете, Астис?
Астис задумчиво потянул носом, словно в запахе моря скрывалось нужное объяснение.
— Небольшой, но все-таки крюк, — сказал он. — Путь этого голландца лежал южнее. А впрочем, его дело. Возможно, что он потерпел аварию. Допускаю также, что капитан имеет особые причины поступать странно.
— Держу пари, — сказал Дрибб, — что его маленько потрепало в Архипелаге. Если же не так, то здесь открывается мебельная фабрика. Вот мое мнение.
— Пари это вы проиграете, — возразил Астис. — Месяц, как не было ни одного шторма.
— Я, видите ли, по мелочам не держу, — сказал, помолчав, Дрибб, — и меньше десяти фунтов не стану мараться.
— Согласен.
— Что же вы утверждаете?
— Ничего. Я говорю только, что вы ошибаетесь.
— Никогда, Астис.
— Сейчас, Дрибб, сейчас.
— Вот моя рука.
— А вот моя.
— Гупи, — сказал Дрибб, — вы будете свидетелем. Но есть затруднение: как нам удостовериться в моей правоте?
— Какая самоуверенность! — насмешливо отозвался Астис. — Скажите лучше, как доказать, что вы ошиблись?
Наступило короткое молчание. Дрибб заявил:
— В конце концов, нет ничего проще. Мы сами поедем на барок.
— Теперь?
— Да.
— Стойте! — вскричал Гупи. — Или мне послышалось, или гребут. Помолчите одну минуту.
В глубокой сосредоточенной тишине слышались протяжные всплески, звук их усиливался, равномерно отлетая в бархатную пропасть моря.
Дрибб встрепенулся. Его любопытство было сильно возбуждено. Он топтался на самом обрыве и тщетно силился рассмотреть что-либо.
Астис, не выдержав, закричал:
— Эй, шлюпка, эй!
— Вы несносный человек, — обиделся Гупи. — Вы почему-то думаете, что умнее всех. Один бог знает, кто из нас умнее.
— Они близко, — сказал Дрибб.
Действительно, шлюпка подошла настолько, что можно было различить хлюпанье водяных брызг, падающих с весла. Зашуршал гравий, послышались медленные шаги и разговор вполголоса. Кто-то взбирался по тропинке, ведущей с отмели на обрыв спуска. Дрибб крикнул:
— Эй, на шлюпке!
— Есть! — ответили внизу с сильным иностранным акцентом. — Говорите.
— Лодка с голландца?
Колонист не успел получить ответа, как незнакомый, вплотную раздавшийся голос спросил его в свою очередь:
— Это вы так кричите, приятель? Я удовлетворю ваше законное любопытство: шлюпка с голландца, да.
Дрибб повернулся, слегка оторопев, и вытаращил глаза на черный силуэт человека, стоявшего рядом. В темноте можно было заметить, что неизвестный плечист, среднего роста и с бородой.
— Кто вы? — спросил он. — Разве вы оттуда приехали?
— Оттуда, — сказал силуэт, кладя на землю порядочный узел. — Четыре матроса и я.
Манера говорить не торопясь, произнося каждое слово отчетливым, хлестким голосом, произвела впечатление. Все трое ждали, молча рассматривая неподвижно черневшую фигуру. Наконец Дрибб, озабоченный исходом пари, спросил:
— Один вопрос, сударь. Барок потерпел аварию?
— Ничего подобного, — сказал неизвестный, — он свеж и крепок, как мы с вами, надеюсь. При первом ветре он снимается и идет дальше.
— Я доволен, — радостно заявил Астис. — Дрибб, платите проигрыш.
— Я ничего не понимаю! — вскричал Дрибб, которого радость Астиса болезненно резнула по сердцу. — Гром и молния! Барок не увеселительная яхта, чтобы тыкаться во все дыры… Что ему здесь надо, я спрашиваю?..
— Извольте. Я уговорил капитана высадить меня здесь.
Астис недоверчиво пожал плечами.
— Сказки! — полувопросительно бросил он, подходя ближе. — Это не так легко, как вы думаете. Путь в Европу лежит южнее миль на сто.
— Знаю, — нетерпеливо сказал приезжий. — Лгать я не стану.
— Может быть, капитан — ваш родственник? — спросил Гупи.
— Капитан — голландец, уже поэтому ему трудно быть моим родственником.
— А ваше имя?
— Горн.
— Удивительно! — сказал Дрибб. — И он согласился на вашу просьбу?
— Как видите.
В его тоне слышалась скорее усталость, чем самоуверенность. На языке Дрибба вертелись сотни вопросов, но он сдерживал их, инстинктом чувствуя, что удовлетворению любопытства наступили границы. Астис сказал:
— Здесь нет гостиницы, но у Сабо вы найдете ночлег и еду по очень сходной цене. Хотите, я провожу вас?
— Я в этом нуждаюсь.
— Дрибб… — начал Астис.
— Хорошо, — раздраженно перебил Дрибб, — вы получите 10 фунтов завтра, в восемь часов утра. До свидания, господин Горн. Желаю вам устроиться наилучшим образом. Пойдем, Гупи.
Он повернулся и зашагал прочь, сопровождаемый свиноводом.
— Теперь я держу пари, что с Дрибба получить придется только с помощью увесистой ругани. Господин Горн, я к вашим услугам.
Астис протянул руку, повернулся и удивленно прищелкнул языком. Он был один.
— Горн! — позвал Астис.
Никого не было.
II
Цветущие, низкорослые заросли южных холмов дымились тонкими испарениями. Расплавленный диск солнца стоял над лесом. Небо казалось голубой, необъятной внутренностью огромного шара, наполненного хрустальной жидкостью. В темной зелени блестела роса, причудливые голоса птиц звучали как бы из-под земли; в переливах их слышалось томное, ленивое пробуждение.
Горн шагал к западу, стремясь обойти цепь оврагов, заполнявших пространство между колонией и северной частью леса. Старый кольтовский штуцер покачивался за его спиной. Костюм был помят — следы ночи, проведенной в лесу. Шел он ровными, большими шагами, тщательно осматриваясь, разглядывая расстояние и почву с видом хозяина, долго пробывшего в отсутствии.
Юное тропическое утро охватывало Горна густым дыханием сочной, мясистой зелени. Почти веселый, он думал, что жить здесь представляет особую прелесть дикости и уединения, отдыха потревоженных, невозможного там, где каждая пядь земли захватана тысячами и сотнями тысяч глаз.
Он миновал овраги, гряду базальтовых скал, похожих на огромные кучи каменного угля, извилистый перелесок, опоясывающий холмы, и вышел к озеру. Места, только что виденные, не удовлетворяли его. Здесь не было концентрации, необходимого и гармонического соединения пространства с лесом, гористостью и водой. Его тянуло к уютности, полноте, гостеприимству природы, к тенистым, прихотливым углам. С тех пор, как будущее перестало существовать для него, он сделался строг к настоящему.
Зной усиливался. Тишина пустыни прислушивалась к идущему человеку; в спокойном обаянии дня мысли Горна медленно уступали одна другой, и он, словно читая книгу, следил за ними, полный сосредоточенной грусти и несокрушимой готовности жить молча, в самом себе. Теперь, как никогда, чувствовал он полную свою оторванность от всего видимого; иногда, погруженный в думы и резко пробужденный к сознанию голосом обезьяны или шорохом пробежавшей лирохвостки, Горн подымал голову с тоскливым любопытством, — как попавший на другую планету, — рассматривая самые обыкновенные предметы: камень, кусок дерева, яму, наполненную водой. Он не замечал усталости, ноги ступали механически и деревенели с каждым ударом подошвы о жесткую почву. И к тому времени, когда солнце, осилив последнюю высоту, сожгло все тени, затопив землю болезненным, нестерпимым жаром зенита, достиг озера.
Мохнатые, разбухшие стволы, увенчанные гигантскими, перистыми пучками, соединялись в сквозные арки, свесившие гирлянды ползучих растений до узловатых корней, сведенных, как пальцы гнома, подземной судорогой, и папоротников, с их нежным, изящным кружевом резных листьев. Вокруг стволов, вскидываясь, как снопы зеленых ракет, склонялись веера, зонтики, заостренные овалы, иглы. Дальше, к воде, коленчатые стволы бамбука переплетались, подобно соломе, рассматриваемой в увеличительную трубу. В просветах, наполненных темно-зеленой густой тенью и золотыми пятнами солнца, сверкали крошечные, голубые кусочки озера.
Раздвигая тростник, Горн выбрался к отмели. Прямо перед ним узкой, затуманенной полосой тянулся противоположный берег; голубая, стального оттенка поверхность озера дымилась, как бы закутанная тончайшим газом. Справа и слева берег переходил в обрывистые холмы; место, где находился Горн, было миниатюрной долиной, покрытой лесом.
Сравнивая и размышляя, Горн бросил на песок кожаную сумку и сел на нее, отдавшись рассеянному покою. Место это казалось ему подходящим, к тому же нетерпение приступить к работе решило вопрос в пользу берега. Он видел квадратную, расчищенную площадку и легкое здание, скрытое со стороны озера стеной бамбука. С помощью одного топора, посредством крайнего напряжения воли, он надеялся создать угол, свободный от нестерпимого соседства людей и липких, чужих взглядов, после которых хочется принять ванну.
Посреди этих размышлений, стирая картины предстоящей работы, вспыхнула старая, на время притупленная боль, увлекая воображение к титаническим городам севера. Тысячемильные расстояния сокращались, как лопнувшая резина; с раздражающей отчетливостью, обхватив колена красными от загара руками, Горн видел сцены и события, центром которых была его воспаленная, запытанная душа. Остановившимся, потемневшим взором смотрел он на застывшие в определенном выражении черты лиц, матовый лоск паркета, занавеси окна, вздуваемые ветром, и тысячи неодушевленных предметов, напоминающих о страдании глубже, чем самая причина его. Светлый, бронзовый канделябр с оплывающими свечами горел перед ним, похищая у темноты маленькую, окаймленную кружевом руку, протянутую к огню, и снова, как несколько лет назад, слышался стук в дверь — громкое и в то же время немое требование…
Горн встряхнул головой. На одно мгновение он сделался противен себе, напоминая ампутированного, сдергивающего повязку, чтобы взглянуть на омертвевший разрез. Томительная тишина берега походила на тишину больничных палат, вызывающую в нервных людях потребность кричать и двигаться. Чтобы развлечься, он приступил к работе. Он чувствовал настоящую мускульную тоску, желание утомляться, подымать тяжести, разрубать, вколачивать.
И с первым же ударом синеватой английской стали в упругий ствол бамбука Горн загорелся пароксизмом энергии, неистовством напряжения, жаждущего подчинять материю непрерывным градом усилий, следующих одно за другим в возрастающем сладострастии изнеможения. Не переставая, валил он ствол за стволом, обрубал листья, ломал, отмеривал, копал ямы, вбивал колья; с глазами, полными зеленой пестроты леса, с душой, как бы оцепеневшей в звуках, производимых его собственными движениями, он погружался в хаос физических ощущений. Грудь ломило от учащенного дыхания, едкий пот зудил кожу, ладони рук горели и покрывались водяными мозолями, ноги наливались отяжелевшей венозной кровью, острая боль в спине мешала выпрямиться, все тело дрожало, загнанное лихорадочной жаждой убить мысль. Это было опьянение, оргия изнурения, исступление торопливости, наслаждение насилием. Голод, подавленный усталостью, действовал, как наркотик. Изредка, мучаясь жаждой, Горн бросал топор и пил холодную солоноватую воду озера.
Когда легли тени и вечерняя суматоха обезьян возвестила о приближении ночи, маленькая, дикая коза, пришедшая к водопою, забилась в камыше, подстреленная пулей Горна. Огонь был поваром. Дымящиеся, полусожженные куски мяса пахли травой и кровяным соком. Горн ел много, работая складным ножом с такой же ловкостью, как когда-то десертной ложкой.
Насыщаясь, охваченный растущей темнотой, пронизанной красным отблеском тускнеющих, сизоватых углей костра, Горн вспомнил барок. С корабельного борта его дальнейшее существование казалось ему загадочной сменой дней, полных неизвестности и однообразия, растительным ожиданием смерти, сменяемым изредка приступами тяжелой тоски. Он как бы видел себя самого, маленькую человеческую точку, с огромным, заключенным внутри миром, — точку, окрашивающую своим настроением все, схваченное сознанием.
Пряная сырость сгущалась в воздухе, мелодия лесных шорохов плела тонкое кружево насторожившейся тишины, прелый, сладковатый запах оранжереи поддерживал возбуждение. Мысли бродили вокруг начатой постройки, возвращаясь и к океану и к отрывочным представлениям прошлого, утратившего свою остроту в чувстве полной разбитости. Приближался тяжелый, мертвый сон, веяние его касалось ресниц, путало мысли и невидимой тяжестью проникало в члены.
Последний уголь, потрескивая, разгорелся на одно мгновение, приняв цвет раскаленного железа, осветив ближайшие, свернувшиеся от жары стебли, и померк. И вместе с ним отлетел в бархатную черноту дух Огня, веселый, прыгающий дух пламени.
Крик рыси тревожно прозвучал на холме, стих и, снова усиливаясь, раздался жалобной, протяжной угрозой. Горн не слышал его, он спал глубоким, похожим на смерть, сном — истинное счастье земли, царства пыток.
Через пять дней на ровной четыреугольной площадке, гладко утрамбованной и обнесенной изгородью, стоял небольшой дом с односкатной крышей из тростника и окном без стекол, выходящим на озеро. Устойчивая, самодельная мебель состояла из койки, стола и скамеек. В углу высился земляной массивный очаг.
Кончив работу, согнувшийся и похудевший Горн, пошатываясь от изнурения, пробрался узкой полосой отмели к подножию холма, достиг вершины и осмотрелся.
На севере неподвижным зеленым стадом темнел лес, огибая до горизонта цепь меловых скал, испещренных расселинами и пятнами худосочных кустарников. На востоке, за озером, вилась белая нитка дороги, ведущей в город, по краям ее кое-где торчали деревья, казавшиеся издали крошечными, как побеги салата. На западе, облегая изрытую оврагами и холмами равнину, тянулась синяя, сверкающая белыми искрами гладь далекого океана.
А к югу, из центра отлогой воронки, где пестрели дома и фермы, окруженные неряшливо рассаженной зеленью, тянулись косые четыреугольники плантаций и вспаханных полей колонии Ланфиер.
III
Туземная двухколесная тележка переехала дорогу под самым носом Гупи. Миновав облако едкой пыли, Гупи увидел незнакомого человека, шагавшего навстречу, и невольно остановился. Этого человека он не помнил, но в то же время как будто встречал его. Смутное воспоминание о голландском бароке подстрекнуло природное любопытство Гупи, он снял шляпу и поклонился.
— Э! — сказал Гупи, прищуриваясь. — Вы из города?
— Еще не был в городе, — возразил Горн, сдержав шаг, — и едва ли пойду туда.
— Ну да, ну да! — осклабился Гупи. — Я так и думал. Я узнал вас по голосу. Неделю назад вы высадились в маленькой бухте, так ведь?
— Я высадился в маленькой бухте, это верно, — проговорил, соображая. Горн, — но я не думаю, чтобы встречался с вами.
Гупи захохотал, подмигивая.
— Астис и Дрибб держали пари, — сказал он, успокаиваясь. — Я ушел с Дриббом, Астис уверял всех, что вы провалились сквозь землю. Сыграли вы шутку с ним, черт побери!
— Теперь я, кажется, припоминаю, — сказал Горн. — Да, я несомненно чувствовал ваше присутствие в темноте.
— Вот, вот! — закивал Гупи, потея от удовольствия поболтать. — А почему вы не пошли с Астисом?
— Скажу правду, — улыбнулся Горн, — откровенно говоря, мне было совестно затруднять столь почтенных людей. Другой солгал бы вам и сказал, что все вы показались ему глупыми, болтливыми и чересчур любопытными, но я — другое дело. Чувствуя расположение к вам, я не хочу лгать.
Он произнес это с совершенно спокойным выражением лица, и Гупи, приняв за чистую монету замаскированное оскорбление, расползся в самодовольной улыбке.
— Ну, ну, — снисходительно возразил он, — велика важность! А вы, честное слово, хороший парень, вы мне нравитесь. Моя ферма в полумиле отсюда; кусок жареной свинины и стакан пива, а? Что вы на это скажете?
— Пойдемте, — согласился, помолчав, Горн. Самоуверенные манеры колониста забавляли его, он спросил: — Сколько у вас жителей?
— Много, — пропыхтел Гупи, взмахивая рукой. — С тех пор, как пароходное сообщение приблизило нас к материку, то и дело высаживаются разные проходимцы, толкаются здесь, берут участки, а через год улепетывают в город, где есть женщины и все, от чего трудно отвыкнуть.
Лабиринт зеленых изгородей, полный сухой пыли, змеился по отлогому возвышению. Ноги Горна по щиколотку увязали в красноватом песке; пыль щекотала ноздри. Гупи рассказывал:
— Женщин здесь встретите реже, чем змей. В прошлом году на прачку, выехавшую сюда за сто миль, устроили настоящий аукцион. Посмотрели бы вы, как она, подбоченившись, стояла на прилавке «Зеленой раковины»! Три человека переманивали ее друг у друга и в конце концов пошли на уступки: одного разыскали в колодце… а двое так и живут с ней.
Гупи перевел дух и продолжал далее. По его словам, не более половины жителей имели семейства и жили с белыми женщинами, остальные довольствовались туземками, соблазненными перспективой безделья и цветной тряпкой, в то время как отцы их валялись рядом с бутылками, оставленными сметливым женихом.
Пришлое население, почти все бывшие ссыльные или дети их, дезертиры из отдаленных колоний, люди, стыдившиеся прежнего имени, проворовавшиеся служащие — вот что сгрудилось в количестве ста дымовых труб около первоначального крошечного поселка, основанного двумя бывшими каторжниками. Один умер, другой еще таскал из дома в дом свое изможденное пороками дряхлое тело, здесь ужиная, там обедая и везде хныкая об имуществе, проигранном в течение одной ночи более удачливому мерзавцу.
— Вот дом, — сказал Гупи, протягивая негнущуюся ладонь фермера к высокому, напоминающему башню строению. — Это мой дом, — прибавил он. В лице его легла тень тупой важности. — Хороший дом, крепкий. Хотя бы для губернатора.
Высокая изгородь тянулась от двух углов здания, охватывая кольцом невидимое снаружи пространство. Заложив руки в карманы и задрав голову, Гупи прошел в ворота.
Горн осмотрелся, пораженный своеобразным величием свиного корыта, царствовавшего в этом углу. Раскаленная духота двора дышала нестерпимым зловонием, мириады лоснящихся мух толклись в воздухе; зеленоватая навозная жижа липла к подошвам, визг, торопливое хрюканье, острый запах свиных туш — все это разило трепетом грязного живого мяса, скученного на пространстве одного акра. Толстые, желтые туловища двигались во всех направлениях, трясясь от собственной тяжести. Двор кишел ими; огромные, с черной щетиной, борова, нескладные, вихляющиеся подростки, розовые, чумазые поросята, беременные, вспухшие самки, изнемогающие от молока, стиснутого в уродливо отвисших сосцах, — тысячи крысиных хвостов, рыла, сверкающие клыками, разноголосый, режущий визг, шорох трущихся тел — все это пробуждало тоску по мылу и холодной воде. Гупи сказал:
— А вот это мои свинки! Каково?
— Недурно, — ответил Горн.
— Каждый месяц продаю дюжины две, — оживился Гупи, с наслаждением раздувая ноздри. — Это самые спокойные животные. И возни почти никакой. Иногда, впрочем, они пожирают маленьких — и тут уже смотри в оба. Я люблю свое дело. Посмотришь и думаешь: вот слоняется ленивое, жирное золото; стоит его немножечко пообчистить, и ваш карман рвется от денег. Мысль эта мне очень нравится.
— Свиньи красивы, — сказал Горн.
Гупи потер лоб и сморщился. Горн раздражал его, у этого человека был такой вид, как будто он много раз видел свиней и Гупи.
— Я собирался уйти, — заговорил Горн, — но вспомнил, что хочу пить. Если у вас есть вино — хорошо, нет — не надо.
— Есть туземное пиво, «сахха». — Гупи дернулся по направлению к дому. — Из саго. Не пили? Попробуйте. Вскружит голову, как Эстер.
Неуютная, почти голая комната, куда вошел Горн, смягчалась ослепительным блеском неба, врывавшегося в окно; на его синем четыреугольнике толпились остроконечные листья и перистые верхушки рощи. Гупи схватил палку и громко треснул ею об стол.
Полуголое существо, с прической, напоминающей папские тиары, вышло из боковой двери. Это была женщина. Плечи ее прикрывал бумажный платок. Темное лицо с выпуклыми, как бы припухшими губами неподвижно осматривало мужчин.
— Дай пива, — коротко бросил Гупи, усаживаясь за стол.
Горн сел рядом. Женщина с темным телом внесла кувшин, кружки и не уходила. Продолговатые быстрые глаза ее скользили по рукам Горна, костюму и голове. Она была не старше восемнадцати лет; грубую миловидность ее приплюснутого лица сильно портила блестящая жестяная дужка, продетая в ухо.
— Не торчи здесь, — сказал Гупи. — Уйди.
Верхняя губа девушки чуть-чуть приподнялась, блеснув полоской зубов. Она вышла, сонно передвигая ногами.
— Я с ней живу, — объяснил Гупи, высасывая стакан. — Идиотка. Они все идиоты, хуже негров.
— Я думал, что у вас нет… женщины, — сказал Горн.
— Женщины у меня нет, — подтвердил Гупи. — Я не женат и любовниц не завожу.
— Здесь только что была женщина. — Горн пристально посмотрел на Гупи. — А может быть, я ошибся…
Гупи расхохотался.
— Женщинами я называю белых, — гордо возразил он, поуспокоившись и принимая несколько презрительный тон. — А это… так. Я не старик… понимаете?
— Да, — сказал Горн.
Он сидел без мыслей, рассеянный; все окружающее казалось ему острым и кислым, как вкус «сахха». Гупи боролся с отрыжкой, смешно оттопыривая щеки и выкатывая глаза.
Пиво кружило голову, холодной тяжестью наливаясь в желудок. Синий квадрат неба веял грустью. Горн сказал:
— Кружит голову, как Эстер… Вы, кажется, так выразились.
— Вот именно, — кивнул Гупи. — Только Эстер не выпьешь, как эту кружку. Дочь Астиса. Несчастье здешних парней. Когда молодой Дрибб женится, у него будет врагов больше, чем у нас с вами. Сегодня пятница, и она придет. Если увидите, не делайте глупое лицо, как все прочие, это ей не в диковину.
— Я посмотрю, — сказал Горн. — Люди мне еще интересны.
— Вот вы, — Гупи посмотрел сбоку на Горна, — вы мне нравитесь. Но вы все молчите, черт побери! Как вы думаете жить?
Горн медленно допил кружку.
— В лесах много еды, — улыбнулся он, рассматривая переносицу собеседника. — Жить-то я буду.
— А все-таки, — продолжил Гупи. — Возиться с ружьем и местными лихорадками… Клянусь боровом, вы исхудаете за один месяц.
Горн нетерпеливо пожал плечами.
— Это неинтересно, — сказал он, — к тому же мне пора трогаться. Кофе и порох ждут меня, а я засиделся.
— Не торопитесь! — вскричал Гупи, краснея от замешательства при мысли, что Горн так-таки и остался нем. — Разве вам одному веселее?
Горн не успел ответить; Гупи, скорчив любезнейшую гримасу, повернулся к стукнувшей двери с выражением нетерпеливого ожидания.
— Повернитесь, Горн, — сказал он, блестя маленькими глазами. — Пришла кружительница голов, — да ну же, какой вы неповоротливый!
Ироническая улыбка Горна растаяла, и он, с серьезным лицом, с кровью, медленно отхлынувшей к сердцу, рассматривал девушку. Мысль о красоте даже не пришла ему в голову. Он испытывал тяжелое, болезненное волнение, как раньше, когда музыка дарила его неожиданными мелодиями, после которых хотелось молчать весь день или напиться.
— Гупи, вам нужно подождать, — сказала Эстер, взглядывая на Горна. Посторонний смущал ее, заставляя придавать голосу бессознательный оттенок высокомерия. — У отца нет денег.
Гупи позеленел.
— Шути, моя красавица! — прошипел он, неестественно улыбаясь. — Клади-ка то, что спрятала там… ну!
— Мне шутить некогда. — Эстер подошла к столу и уперлась ладонями о его край. — Нет и нет! Вам нужно подождать с месяц.
И в тот короткий момент, когда Гупи набирал воздуху, чтобы выругаться или закричать, девушка улыбнулась. Это было последней каплей.
— Радуйся! — закричал Гупи, вскакивая и бегая. — Ты смеешься! А даст ли мне твой отец хоть грош, когда я буду околевать с голода? Я роздал тысячи и должен теперь ждать! Клянусь головой бабушки, мне надоело! Я подаю в суд, слышишь, вертушка?
Горн встал.
— Я не хочу мешать, — сказал он.
— Эстер, — заговорил Гупи, — вот человек из страны честных людей, — спроси-ка его, можно ли не держать слова?
Девушка пристально посмотрела в лицо Горна. Смущенный, он повернул голову; эти матовые, черные глаза как будто приближались к нему. Гупи ерошил волосы.
— Прощайте, — сказал Горн, протягивая руку.
— Приходите, — проворчал Гупи, — но вы меня беспокоите. Ах, деньги, деньги! — Он сделал усилие и продолжал: — Надеюсь, вы сделаетесь поразговорчивее. Если бы вы взяли участок!
Горн вышел во двор и, остановившись, прислушался. Сверху доносились возбужденные голоса. Он тронулся, попадая в лужи воды и слякоть, истыканную ногами.
Торопливое дыхание заставило его обернуться. Эстер шла рядом, слегка придерживая короткую полосатую юбку и оживленно размахивая свободной рукой. Горн молчал, подыскивая слова, но она предупредила его.
— Вы тот самый, что высадился неделю назад?
У нее был чистый и медлительный голос, звуки которого, казалось, пронизывали все ее тело, выражая лицом и взглядом то же, что говорит рот.
— Тот самый, — подтвердил Горн. — А вы — дочь Астиса?
— Да. — Эстер поправила косы, сбившиеся под остроконечной туземной шляпой. — Но жить здесь вам не придется.
Горн улыбнулся так, как улыбаются взрослые, слушая умных детей.
— Почему?
— Здесь работают. — Высокие брови девушки задумчиво напряглись. — У вас руки, как у меня.
Она вытянула свои украшенные кольцами руки, смуглые и маленькие, и тотчас же их опустила. Она сравнивала этого человека с дюжими молодцами ферм.
— Вам нечего делать здесь, — решительно сказала она. — Вы из города и кажетесь господином. Здесь нет ничего хорошего.
— Есть, — серьезно возразил Горн. — Озеро. И мой дом там.
Она даже остановилась.
— Дом? Там жили пять лет назад, но все выгорело.
— Эстер, — сказал Горн, — теперь вы видите, что и я умею работать. Я создал его в шесть дней, как бог — небо и землю.
Они вышли за изгородь, напутствуемые оглушительным хрюканьем, и шли рядом, погружая ноги в горячий красноватый песок. Эстер засмеялась медленным, как и ее голос, смехом.
— Горожане любят шутить.
— Нет, я не вру. — Горн повернул голову и коротко посмотрел в яркое лицо девушки. — Да, я буду здесь жить. Без дела.
Он видел ее полураскрытый от уважения рот, удивленные глаза и чувствовал, что ему не скучно. Наступило молчание.
Клуб пыли, сверкающий босыми пятками и бронзовым телом, мчался наперерез. Горн задержал шаги. Пыль улеглась; что-то невообразимо грязное и изодранное топталось перед ним, размахивая длинными, как у обезьяны, руками. Эти странные телодвижения сопровождались сиплыми выкриками и вздохами, похожими на рыдания.
— Бекеко, — сказала девушка. — Не бойтесь, это Бекеко. Он дурачок, смирный парень… Бекеко, ты что?
Разбухшая, с плешинами, голова тыкалась в юбку девушки. Бекеко радовался, по временам прекращая свои ласки и прилипая к Горну неподвижными белесоватыми глазами. Он был противен и возбуждал холодное сожаление. Горн отошел к изгороди.
— Бекеко, иди домой, тварь! — вскричала Эстер, заметив, что дурак старается ущипнуть ее руку.
Идиот выпрямился, смеясь и повизгивая, как собака.
— Эстер, — сказал он, не переставая топтаться, — я хочу набрать много полосатых юбок и все принесу тебе. У меня все колет за щекой!
Эстер сделала испуганное лицо.
— Огонь! — вскричала она. — Бекеко, огонь!
Впечатление этих слов было убийственно. Скорчившись, Бекеко упал, охватив голову руками и вздрагивая. Спина его тяжело вздымалась и опускалась.
— Зачем это? — спросил Горн, рассматривая упавшего.
— Так, — сказала Эстер. — С ним нельзя. Он привяжется, как собака, и будет ходить за вами, пока не скажешь одно слово: «огонь». Его кормил брат, но как-то сгорел, пьяный. Дурак боится огня больше побоев. Я вижу его редко, он больше слоняется по болотам и ест неизвестно что.
Горн закурил трубку.
— Я знал, что вы существуете, — сказал он, вдавливая пепел, — раньше, чем вы пришли.
Девушка блеснула улыбкой.
— От Гупи, — протянула она. — Он говорит: это кружительница голов.
— Да, — повторил Горн, — вы — кружительница голов.
Он снова посмотрел на нее: ни тени смущения. Лицо ее не выражало ни кокетства, ни благодарности, и он сам испытал некоторое замешательство, затянувшись табаком глубже, чем обыкновенно.
— Я живу там, — сказала девушка, показывая налево, — где желтая крыша. Отец любит гостей. Вам куда?
— Кофе, табак и порох, — сказал Горн, загибая три пальца. — Я иду к ним.
— К Сабо, — поправила девушка. — У вас штуцер?
— Да.
Эстер кивнула глазами.
— У меня карабин, — сказала она. — Но здесь трудно достать патроны, мы ездим в город. Я целюсь снизу и попадаю без промаха.
— Вы хотите сказать, что не уверены в том же относительно меня, — произнес Горн. — Но я не застенчив. Отойдите вправо.
Он вынул револьвер и, смеясь, поклонился девушке.
— Ведь вам в ту сторону? Шагах в тридцати отсюда вы видите тоненький ствол? Идя мимо, остановитесь, и если в нем отыщете пулю — обернитесь.
Теперь он видел спину Эстер, удаляющийся черноволосый затылок и, прицелившись, едва не чихнул от солнца, заигравшего на отполированной стали револьвера. Удар выстрела опустил его руку. Эстер шла, тихонько покачиваясь, и остановилась у дерева.
Обернувшись, она весело махнула рукой, и снова Горну почудилось, что глаза ее, отделившись, плывут в воздухе.
IV
Никто не будил Горна, он поднялся сам, внезапно с полной отчетливостью сознания, без сонной вялости тела, без зевоты, как будто не спал, а ждал, лежа с закрытыми глазами.
Спокойный, слегка недоумевающий, он попытался дать себе представление о причинах, так бесследно вернувших его к сознанию. Розовый хмель утра дышал в окно влажным туманом, солоноватой прелью отмелей и молчаньем шорохов, неуловимых, как шаг мысли засыпающего человека. Озеро дымилось. Колеблющиеся испарения устилали поверхность, обнажая у берегов светлые, голубые лужицы заснувшей воды.
Горн стоял у окна, растворившись в мелодичной тишине спящего воздуха. На ясном, с закрытыми глазами, лице рассвета плавился блестящий край диска; облачные холмы плыли за горизонт, паутинная резьба леса затягивала другой берег, и Горн подумал, что это могли быть толпы зеленых рыцарей, спящих стоя. Копья, на которые они опирались, были украшены неподвижными зелеными перьями.
Вдруг все изменилось, бесчисленные лучи градом золотых монет рассыпались по земле; вода заблестела ими, некоторые легли у ног Горна, прозрачные, кованые из света и воздуха. Зелень, стеклянная от росы, сохла на глазах Горна. Комочки побуревших цветов бухли и наливались красками, распрямляясь, как вздрагивающие пальцы ребенка, протянутые к игрушке. Густой запах земли щекотал ноздри. Зеленые, голубые, коричневые и розовые оттенки облили стволы бамбука, трепеща в тканях листвы спутанными тенями, и где-то невдалеке горло лесной птицы бросило низкий свист, неуверенный и оборванный, как звук настраиваемого инструмента.
Горн стоял, налитый до макушки, подобно пустой бутылке, зеленым вином земли, потягивающейся от сна. Молоко, брызжущее из нежной, переполненной груди невидимой женщины, невидимо падало на его губы, и он представлял ее, ловил ее посланную небу улыбку и щурился от золотой паутины, заткавшей мир. Душа его раздвоилась, он мог бы засмеяться, но не хотел, готов был поверить зеленым рыцарям, но делал усилие и перебивал их тихие голоса настойчивыми воспоминаниями.
Спор Горна с Горном оборвался так же быстро и резко, как резко скрипнула дверь, медленно открываемая снаружи. Щель увеличивалась, человек, тянувший ее, стоял ближе к углу и не был виден.
Горн ждал, неуверенный, что там кто-нибудь есть. Дверь отворялась сама и раньше; это происходило от небольшой кривизны петель. Инстинктивно, больше из любопытства, чем осторожности, он устремил взгляд на ту точку, где скорее всего мог ожидать встретить человеческие глаза.
Но следующий момент заставил его взглянуть ниже. Глаз и часть лба, опутанного белыми волосами, появились на уровне четырех футов снизу; кто-то заглядывал, согнувшись, юркнул за дверь и почти тотчас же показался вновь.
Человек этот, покачнувшись, прошел в дверь, притворил ее и, неуклюже мотнув головой, уставился в лицо Горна глазами, пестрыми от морщин и красных жилок. По-видимому, он был пьян.
Прямой, как жердь, с тупым, неподвижным блеском выцветших глаз, в лохмотьях и босиком, он мог бы отлично сойти за черта, прикинувшегося нищим. В нескольких шагах расстояния руки его казались синими, как у мертвеца, но, подойдя вплотную, можно было рассмотреть сплошной рисунок татуировки, покрывавшей все тело, от шеи до пояса. Змеи, японские драконы, флаги, корабли, надписи, неприличные сцены, цинические изображения теснились друг к другу на груди и руках, мешаясь с белесоватыми рубцами шрамов. На шее мотался шарф, превращенный грязью и временем в кусок веревки. Рваная тулья шляпы прикрывала остроконечные, как у волка, уши и лицо цвета позеленевшей бронзы. Нос, перебитый палочным ударом, хмуро кривился вниз. Куртка, лишенная рукавов, открывала голую грудь. От всей этой фигуры веяло подозрительным прошлым, темными закоулками сердца, притонами, блеском ножей, хриплой злобой и человеческой шерстью, иногда более жуткой, чем мех тигра. Старик, что называется, пожил.
— Что скажете? — спросил Горн. Он был несколько озадачен. Фигура эта не внушала ему доверия. Странная, как обрывок сна, она переминалась с ноги на ногу.
— Что скажете? — пробормотал оборванец, подмигивая и силясь держаться прямо. — Если вы спросите меня — кто я? — я вам отвечу честно и откровенно. Как хотите, а любопытно взглянуть на человека, живущего вроде вас. Я сам так жил… сам… лет тридцать тому назад я прятался на безлюдном атолле от дьявольски любопытных кэпи. Они, правда, взяли свое… потом… о! — спустя много времени.
Старик брызгал слюной, и в его высохшем, словно передавленном горле катался желвак. Горн спросил:
— Как вас зовут?
— Ланфиер, — захрипел гость, — Ланфиер, если вам это будет угодно.
Горн сосредоточенно кивнул головой. Старик показался ему забавным, важность, с которой он назвал себя, таила неискреннее и хитрое ожидание. Горн сказал:
— А я — Горн.
Ланфиер сильно расхохотался.
— Горн? — переспросил он, подмигивая левым глазом, в то время как правый тускнел, поблескивая зрачком. — Ну, да — Горн, конечно, кем же вы можете еще быть.
Горн нахмурился, развязность каторжника пробудила в нем легкое нетерпение.
— Я, — сказал он, — могу быть еще другим. Человеком, который не привык вставать рано. А вы, кроме того, что вы Ланфиер, можете быть еще человеком, только случайно заставшим меня так, как я есть, — не спящим.
Ланфиер молча оскалил зубы. Он не ответил, его пьяные мысли, ползающие на четвереньках, сбивались в желание щегольнуть явной бесцеремонностью и апломбом.
— Я первый стал жить в этой дыре, — вызывающе произнес он, усаживаясь на жесткое ложе Горна. — Черт и зверь прокляли колонию раньше, чем мой первый удар заступа прогрыз слой земли. Я хочу с вами познакомиться. Про меня много болтают, но, клянусь честью, я был осужден невинно!
Горн молчал.
— Я всегда уважал труд, — сказал Ланфиер с видимым отвращением к тому, что выговаривали его губы. — Вы мне не верите! Пожили бы вы со мной лет сорок назад…
Двусмысленная улыбка прорезала его сухой рот.
— Смерть люблю молодцов, — продолжал каторжник. — Вы приехали, устроили себе угол, как независимый человек, никого не спрашивая и не советуясь. Вы — сам по себе. Таких я и уважаю; да, я хлопнул бы вас по плечу, если бы знал, что вы не рассердитесь. Держу пари, что вы способны кулаком проломить череп и не дадите себя в обиду. Здесь иначе и нельзя, имейте это в виду… Если кто из колонии не нюхал крови, так это я, безобидный и, даю слово, самый порядочный человек в мире.
— К делу, — сказал Горн, теряя терпение. — Если вам нужно что-нибудь — говорите.
Зрачки Ланфиера съежились и потухли. Он что-то соображал. Проспиртованный мозг его искал хотя бы маленького, но цепкого крючочка чужой души.
— Я, — хмуро заговорил он, — ничего не имею, если даже вы меня и выгоните. Несчастному одна дорога — презрение. Клянусь огнем и водой, я чувствую к вам расположение и зашел узнать, как ваше здоровье. Я ведь не полисмен, черт возьми, чтобы строгать вас расспросами, не оставили ли вы за собой чей-нибудь косой взгляд… там, за этой лужицей соленой воды. Мне все равно. Всякий живет по-своему. Я только хочу вас предупредить, чтобы вы были поосторожнее. О вас, видите ли, говорят много. Отбросив болтовню дураков, получим следующее летучее мнение: «Приехал не с пустыми руками». Видите ли, когда покупают кофе или табак, пластырь, порох, — следует платить серебром. Лучше всего менять деньги на родине. Здесь горячее солнце, и кровь закипает быстро, гораздо скорее, чем масло на сковороде. О! Я не хочу вас пугать, нисколько, но здесь очень добрые люди и половина их лишена предрассудков. Что делать? Не всякий получает достаточно приличное воспитание.
Глаза Горна прямо и неподвижно упирались в лицо каторжника. Покачиваясь, дребезжащим, неторопливым голосом Ланфиер выпускал фразу за фразой, и они, правильно разделенные невидимыми знаками препинания, таяли в воздухе, подобно клубам дыма, методически выбрасываемым заматерелым курильщиком. Взгляд его, направленный в сторону, блуждал и прыгал, беспокойно ощупывая предметы, но внутренний, другой взгляд все время невидимыми клещами держал Горна в состоянии нетерпеливого раздражения. Он спросил:
— Почему вы не вошли сразу?
Старик открыто посмотрел на хозяина.
— Боялся разбудить вас, — внушительно произнес он, — а дверь чертовски тугая. Застав вас спящим, я тотчас же удалился бы попреть в окрестностях, пока вам не надоест спать.
Лицо его приняло неожиданно плаксивое выражение.
— Боже мой! — простонал он, усиленно мигая сухими веками, — жизнь обратилась в пытку. Никакого уважения, никто из местных балбесов не хочет помнить, что я, отверженный и презренный, положил начало всей этой трудолюбивой жизни. Кто знает, может быть, здесь впоследствии вырастет город, а мои кости, обглоданные собаками, будут валяться в грязи, и никто не скажет: вот кости старика Ланфиера, безвинно осужденного судом человеческим.
— Я бы стыдился, — сухо проговорил Горн, — вспоминать о том, что благодаря вашему случайному посещению этих мест полуостров загажен расплодившимся человеком. Мне теперь неприятно говорить с вами. Я предпочел бы, чтобы здесь никогда не было ни вас, ни крыш, ни плантаций. Что же касается добрых людей, получивших скверное воспитание, — передайте им, что всякая неожиданная любезность с их стороны встретит надлежащий прием.
— Речь волка, — сказал каторжник. — Для первого знакомства недурно. Вы меня презираете, а мне нужно, чтобы здесь жило много людей. У меня со всеми есть счеты. Относительно одних, видите ли, у меня очень хорошая память — выгодная струна. Другие — как бы вам сказать — туповаты и мирно пасутся в своих полях. Этих я стригу мирно, — ну, пустяки, — хлеб, табак, иногда мелочь на выпивку. И есть еще чрезвычайно дерзкие невежи — те, которые могут пустить кровь, облизываясь, как мальчуган, съевший ложку варенья. Все они говорят тихо и рассудительно, ступают медленно, и у них постоянно раздуваются ноздри…
Ланфиер понизил голос и, согнувшись, словно у него заболел живот, широко улыбнулся ртом, в то время как глаза его совершенно утратили подвижность и щурились.
— Лодка! — вскричал он. — Откуда лодка?
Горн посмотрел в окно. Сияющее, прозрачное озеро, наполненное тонувшими облаками, было так явно безлюдно, что в тот же момент он еще быстрее, с заколотившимся сердцем, повернулся к вскочившему каторжнику. Неверный удар ножа распорол блузу. Горн сунул руку в карман и мгновенно протянул к бескровному, мечущемуся лицу Ланфиера дуло револьвера.
Старик прижался к стене, охватив голову сморщенными руками, затем с растерянной быстротой движений очутился у подоконника, выпрыгнул и нырнул в чащу. Три пули Горна защелкали в листьях. Нервно смеясь, он жадно прислушался к затрещавшему камышу и выстрелил еще раз. Внезапно наступившая тишина наполнилась шумом крови, ударившей в виски. Ноги утратили гибкость, мысли завертелись и понеслись, как щепки, брошенные в поток. Утро, обольстившее Горна, вдруг показалось ему дешевой, отталкивающей олеографией.
В раздумье, не выпуская револьвера, он сел на плохо сколоченную скамейку, чувствуя, как никогда, полную темноту будущего и хрупкость покоя, тянувшегося четырнадцать дней. Его жизнь приближалась к напряженному существованию осторожных четвероногих, превращаемых в слух и зрение подозрительной тишиной дебрей, и сам он должен был стать каким-то мыслящим волком. В сознании необходимости этого таилась тяжесть и, отчасти, грустная радость человека, которому не оставили выбора.
Теперь он страстно хотел, чтобы женщина с мягким лицом, выкроившая его душу по своему желанию, как платье, идущее ей к лицу, прошла мимо холмов, и леса, и его взгляда, погружая дорогие ботинки в мягкий ил берега, заблудилась и постучала в дверь его дома. Неясно, обрывками, Горн видел ее утренний туалет в соседстве глинистых муравьиных куч, и это нелепое сочетание казалось ему возможным. Его представления о жизни допускали все, кроме чуда, к которому он питал инстинктивное отвращение, считая желание сверхъестественного признаком слабости.
Худая, высоко занесенная рука Ланфиера мелькнула перед глазами, бросив в дрожь Горна. Колония, неизвестно почему названная именем человека, только что охотившегося за ним, представилась ему заштопанным оборванцем, выглядывающим из-за изгороди. Выходя, он тщательно запер дверь.
V
Шагая к равнине, на самой опушке леса Горн был настигнут быстрым аллюром маленькой серой лошади. Эстер сидела верхом; ее сосредоточенное, спокойно-веселое лицо взглянуло на Горна сверху, из-под тенистых полей шляпы. Горн оживился и с довольной улыбкой ждал, пока девушка спрыгивала на землю, а затем, молча оборачиваясь к нему, поправляла седло. Одиночество не тяготило его, но отпускало поводья самым бешеным взрывом тоски, и теперь, когда явился громоотвод в образе человека, Горн был чрезвычайно рад ухватиться за возможность поговорить. Они пошли рядом, и маленькая серая лошадь, медленно шевеля ушами, как будто прислушиваясь, вытягивала на ходу морду за спиной девушки.
— Я рад видеть вас, — сказал Горн. — Мы так забавно расстались с вами тогда, что я и теперь смеюсь, вспоминая о своем выстреле.
Эстер подняла брови.
— Почему забавно? — подозрительно спросила она. — Здесь часто стреляют в цель, и я также.
Горн не ответил.
— Отец послал к вам, — сказала девушка, вглядываясь в линию горизонта. — Он сказал: «Поди съезди. Этого человека давно не видно, бывают лихорадки, а змей — пропасть».
— Благодарю, — сказал удивленный Горн. — Он видел меня раз, ночью. Странно, что он заботится обо мне, я тронут.
— Заботится! — насмешливо произнесла девушка. — Он — заботится! Он не заботится ни о ком. Вы просто не даете ему покоя. Да о вас все говорят, куда ни пойди. Кто-то на прошлой неделе утверждал, что вы просто-напросто дезертир с материка. Но вас никто не спросит, будьте уверены. Здесь так живут.
Горн сердито повел плечами.
— Так бывает, — холодно сказал он. — Когда человек не просит ничего у других и не желает их видеть, он — преступник. С полгоря, если его ненавидят, могут избить и выругать.
Эстер повернулась и внимательно осмотрела фигуру Горна, — как бы соображая, даст ли этот человек избить себя.
— Нет, не вас, — решительно сказала она. — Вы, кажется, сильны, даром, что бледноваты немного. Здесь скоро будете смуглым, как все.
— Надеюсь! — сказал Горн.
Он помолчал и сморщился, вспомнив нападение Ланфиера. Рассказывать ему не хотелось, он смутно угадывал, что это происшествие может подогреть басни о его якобы припрятанном золоте. Эстер что-то вспомнила; остановив лошадь, она подошла к седлу и вынула из кожаного мешка нечто колючее и круглое, как яблоко, утыканное гвоздями.
— Ешьте, — предложила Эстер. — Это здешние дурианги, они подгнили, но от этого только еще вкуснее.
Оба стояли на невысоком плато, окруженном шероховатыми уступами. Горн, смущенный отталкивающим запахом прогнившего чеснока, нерешительно повертел плод в руках.
— Привыкнете, — беззаботно сказала девушка. — Зажмите нос, это, честное слово, не так плохо.
Горн отковырнул твердую кожицу дурианга и увидал белую киселеобразную мякоть. Попробовав ее, он остановился на одно мгновение и затем съел дочиста этот удивительный плод. Его нежный, непередаваемо сложный вкус тянул есть без конца. Эстер озабоченно следила за Горном, бессознательно шевеля губами, как бы подражая жующему рту.
— Каково? — спросила она.
— Замечательно, — сказал Горн.
— Я дам вам еще. — Она повернулась к лошади и проворно сунула в карман Горна несколько штук. — Их здесь много, вы сами можете собирать.
Она подумала, раскрыла рот, собираясь что-то сказать, но остановилась и исподлобья, по-детски скользнула по лицу Горна немым вопросом.
— Вы хотели меня спросить, — сказал он. — Что же? Спрашивайте.
— Ничего, — поспешно возразила Эстер. — Я хотела спросить, это верно, но почему вам это известно? Я хотела спросить, не скучно ли вам со мной? Я не умею разговаривать. Мы все здесь, знаете, грубоваты. Там вам, конечно, лучше жилось.
— Там?
— Ну да, там, откуда вы родом. Там, говорят, много всякой всячины.
Она повела рукой, как бы стараясь нагляднее представить себе сверкающую громаду города.
— Ни там, ни здесь, — сдержанно сказал Горн. — Если хорошо — хорошо везде, плохо — везде плохо.
— Значит, вам плохо! — торжествующе вскричала она. Расскажите.
— Рассказать? — удивленно протянул Горн.
Он только теперь вполне ясно представил и ощутил, какое нестерпимое, хотя и обуздываемое, любопытство должен возбуждать в ней. Неизгладимый отпечаток культуры, стертый, обезображенный полудиким существованием, рельеф сложного мира души сквозил в нем и, как монета, изъеденная кислотой, все же, хотя бы и приблизительно, говорил о своей ценности. Он размышлял. Ее требование было законно и в прямоте своей являлось простым желанием знать, с кем ты имеешь дело. Но он готов был вознегодовать при одной мысли вывернуться наизнанку перед этой простой девушкой. Солгать не пришло в голову; в замешательстве, не зная, как переменить разговор, он посмотрел вверх, на дальнюю синеву воздуха.
И пустота неба легла в его душу холодной тоской свободы, отныне признанной за ним каждым придорожным листом. Резкое лицо прошлого светилось насмешливой гримасой, и ревнивая деликатность Горна по отношению к той показалась ему странной и даже лишенной самолюбия навязчивостью на расстоянии. Прошлое вежливо освободило его от всяческих обязательств.
И он ощутил желание взглянуть на себя со стороны, прислушиваясь к словам собственного рассказа, проверить тысячи раз выверенный счет жизни. Девушка могла истолковать его иначе, но ведь ей важно знать только канву, остальное скользнет мимо ее ушей, как смутные голоса леса.
— Моя жизнь, — сказал Горн, — очень простая. Я учился; неудачные спекуляции разорили моего отца. Он застрелился и переехал на кладбище. Двоюродный брат дал мне место, где я прослужил три года. Сядемте, Эстер. Путаться в оврагах не представляет особенного удовольствия.
Девушка быстро села, не выпуская повода, на том месте, где ее застали слова Горна. Он сделал по инерции шаг вперед, вернулся и сел рядом, покусывая сорванный стебелек.
— Три года, — повторила она.
— Потом, — продолжал Горн, стараясь говорить как можно проще, — я стал бродягой оттого, что надоело сидеть на одном месте; к тому же мне не везло: хозяева предприятия, где я служил, умерли от чумы. Ну, вот… я переезжал из города в город, и мне наконец это понравилось. И совсем недавно у меня умер друг, которого я любил больше всего на свете.
— У меня нет друзей, — медленно произнесла Эстер. — Друг это хорошо.
Горн улыбнулся.
— Да, — сказал он, — это был милейший товарищ, и умереть с его стороны было большим свинством. Он жил так: любил женщину, которая его, пожалуй, тоже любила. До сих пор это осталось невыясненным. Он избрал ее из всех людей и верил в нее, то есть считал ее самым лучшим человеческим существом. Женщина эта была в его глазах совершеннейшим созданием бога.
Пришли дни, когда перед ней поставлен был выбор — идти рука об руку с моим другом, все имущество которого заключалось в четырех стенах его небольшой комнаты, или жить, подобно реке в весеннем разливе, красиво и плавно, удовлетворяя самые неожиданные желания. Она была в это время немного грустна и задумчива, и глаза ее вспыхивали особенным блеском. Наконец между ними произошло объяснение.
Тогда стало ясно моему другу, что жадная душа этой женщины ненасытна и хочет всего. А он был для нее только частью, и не самой большой.
Но и он был из той же породы хищников с бархатными когтями, трепещущих от голосов жизни, от вида ее сверкающих пьедесталов. Вся разница между ними была в том, что одна хотела все для себя, а другой — все для нее.
Он думал заключить с нею союз на всю жизнь, но ошибся. Женщина эта шла навстречу готовому, протянутому ей другим человеком. Готовое было — деньги.
Он понял ее, себя, но сгорел в несколько дней и сделался молодым стариком. Удар был чересчур силен, не всякому по плечу. Все продолжало идти своим порядком, и через месяц, собираясь уехать, он написал этой женщине, жене другого — письмо. Он просил в нем сказать ему последний мучительный раз, что все же ее любовь — с ним.
Ответа он не дождался. Тоска выгнала его на улицу, и незаметно, не в силах сдержать желания, он пришел к ее дому. О нем доложили под вымышленным им именем.
Он проходил ряд комнат, двигаясь как во сне, охваченный мучительной нежностью, рыдающей тоской прошлого, с влажным и покорным лицом.
Их встреча произошла в будуаре. Она казалась встревоженной. Лицо ее было чужим, слабо напоминающим то, которое принадлежало ему.
— Если вы любите меня, — сказала эта женщина, — вы ни одной минуты не останетесь здесь. Уйдите!
— Ваш муж? — спросил он.
— Да, — сказала она, — мой муж. Он должен сейчас придти.
Мой друг подошел к лампе и потушил ее. Упал мрак. Она испуганно вскрикнула, опасаясь смерти.
— Не бойтесь, — шепнул он. — Ваш муж войдет и не увидит меня. Здесь толстый ковер, в темноте я выйду спокойно и безопасно для вас. Теперь скажите то, о чем я просил в письме.
— Люблю, — прошептал мрак. И он, не расслышав, как было произнесено это слово, стал маленьким, как ребенок, целовал ее ноги и бился о ковер у ее ног, но она отталкивала его.
— Уйдите, — сказала она, досадуя и тревожась, — уйдите!
Он не уходил. Тогда женщина встала, зажгла свечу и, вынув из ящика письмо моего друга, сожгла его. Он смотрел, как окаменелый, не зная, что это — оскорбление или каприз? Она сказала:
— Прошлое для меня то же, что этот пепел. Мне не восстановить его. Прощайте.
Последнее ее слово сопровождал громкий стук в дверь. Свеча погасла. Дверь открылась, темный силуэт загораживал ее светлый четыреугольник. Мой друг и муж этой женщины столкнулись лицом к лицу. Наступило ненарушимое молчание, то, когда только одно произнесенное слово губит жизнь. Мой друг вышел, а на другой день был уже на палубе парохода. Через месяц он застрелился.
А я приехал сюда на торговом голландском судне. Я решил жить здесь, подалее от людей, среди которых погиб мой друг. Я потрясен его смертью и проживу здесь год, а может и больше.
Пока Горн рассказывал, лицо девушки сохраняло непоколебимую серьезность и напряжение. Некоторые выражения остались непонятыми ею, но сдержанное волнение Горна затронуло инстинкт женщины.
— Вы любили ту! — вскричала она, проворно вскакивая, когда Горн умолк. — Меня не обманете. Да и друга у вас пожалуй что не было. Но это мне ведь одинаково.
Глаза ее слегка заблестели. За исключением этого, нельзя было решить, произвел ли рассказ какое-нибудь впечатление на ее устойчивый мозг. Горн ответил не сразу.
— Нет, это был мой приятель, — сказал он.
— Меня обманывать незачем, — сердито возразила Эстер. — Зачем рассказывали?
— Я или не я, — сказал Горн, пожимая плечами, — забудем это. Сегодняшний день исключителен по числу людей и животных. Вон — еще едет кто-то.
— Молодой Дрибб, — сказала Эстер. — Дрибб, что случилось?
— Ничего! — крикнул гигант, сдерживая гнедую кобылу перед самым лицом Горна. — Я упражнялся в отыскании следов и случайно попал на твой. Все-таки я могу, значит. А этот человек кто?
Горна он как будто не видел, хотя последний стоял не далее метра от стремени. Горн с любопытством рассматривал огромное нескладное — туловище, увенчанное маленькой головой, с круглым, словно выкованным из коричневого железа лицом; белая с розовыми полосками блуза открывала волосатую вспотевшую грудь. Все вместе взятое походило на мужика и разбойника; добродушный оскал зубов настроил Горна если не дружелюбно, то, во всяком случае, безразлично.
— Подумать что ты ничего не знаешь, — насмешливо сказала Эстер.
— А! — Великан шумно вздохнул. — Ты едешь?
Эстер села в седло.
— Прощайте, сударь, — сказал Дрибб Горну, неловко останавливая на нем круглые глаза и дергая подбородком.
— Горн, — сказала Эстер, — не ходите в болота, а если пойдете, выпейте больше водки. А то можете проваляться месяца два.
Верхом, гибко колеблясь на волнующейся спине лошади, она бессознательно бросала в глаза Горна свою резкую красоту. Он, может быть, в первый раз посмотрел взглядом мужчины на ее безукоризненную фигуру и лицо, полное жизни. Эта пара, удалявшаяся верхом, кольнула его чем-то похожим на досадливое удивление.
— Галло! Гоп! Гоп! — заорал Дрибб, устремляясь вперед и тяжело подскакивая в седле.
— До свидания, Эстер! — громко сказал Горн.
Она быстро повернулась; лицо ее, смягченное мгновенной улыбкой, выразило что-то еще.
Бледное отражение молодости проснулось в душе Горна, он снял шляпу и, низко поклонившись, бросил ее вслед удаляющимся фигурам. Эстер, молча улыбаясь, кивнула и исчезла в кустах. Великан ни разу не обернулся, и когда, вместе с Эстер, скрылась его широченная сутуловатая спина, Горн подумал, что молодой Дрибб невежлив более, чем это необходимо для дикаря.
День развернулся, пылая голубым зноем; духота, пропитанная смолистыми испарениями, кружила голову. И снова чувство глубокого равнодушия поднялось в Горне; рассеянно поглаживая рукой ложе ружья, он пришел к выводу, что девственная земля утратила свое обаяние для сложного аппарата души, вскормленной мыслью. Слишком могучая и сочная земля утомляла нервы, как яркий свет — зрение. Расчищенная и дисциплинированная, не более, как приятное зрелище, — она могла бы стать дивным комфортом, любовницей, не изнуряющей ласками, душистой ванной больных, мерзнущих при одной мысли о просторе реки.
— А я? — спросил Горн у неба и у земли. — Я? — Он вспомнил свои охоты и трепет звериных тел, самообладание в опасности, темный полет ночи, заспанные глаза зари, угрюмую негу леса — и торжествующе выпрямился. В природе он не был еще ни мертвецом, ни кастратом, ни нищим в чужом саду. Его равнодушие стояло на фундаменте созерцания. Он был сам — Горн.
Тучный человек умирающим голосом произносил «пуф» всякий раз, когда, визжа блоком, распахивалась входная дверь, и горячий столб света бросался на земляной пол трактирчика. Как хозяин он благословлял посетителей, как человек — ненавидел их всеми своими помыслами.
Но посетители хотели видеть в тучном человеке только хозяина, безжалостно требуя персиковой настойки, пива, рому и пальмового вина. Тучный человек, страдая, лазил в погреб, взбирался по лесенкам и снова, мокрый от пота, садился на высокий, плетеный стул.
В углу шла игра, облака табачного дыма плавали над кучкой широкополых шляп; характерный треск костей мешался с ругательствами и щелканьем кошельков. Сравнительно было тихо; стены сарая, носившего имя «Зеленой раковины», видали настоящие сражения, кровь и такую игру ножей, от которой в выигрыше оставалась одна смерть. Изредка появлялись неизвестные молодцы с тугими кожаными поясами, подозрительной чистотой рук и кучей брелоков; они хладнокровно и вежливо играли на какие угодно суммы, в результате чего колонисты привыкли чесать затылки и сплевывать.
Ланфиер вошел незаметно, его костлявое тело, казалось, могло пролезть в щель. Еще пьянее, чем утром, с трубкой в зубах, он подвалился к столу играющих и залился беззвучным смехом. На мгновение кости перестали ударяться о стол; рассеянное недоумение лиц было обращено к пришедшему.
— Вот штука, так штука! — захрипел каторжник, кончив смеяться, лишь только почувствовал, что терпение игроков лопается. — Он сказал правду: ну и молодчага же, надо сказать!
— Кто? — осведомился тучный человек на стуле.
— Новый хозяин озера. — Ланфиер понизил голос и стал говорить медленно. — Я ведь сегодня у него был, вы знаете. Он окончательно порядочный человек. «Будь я губернатором, — сказал он, — я эту колонию поджег бы с середины и с четырех концов. Там, — говорит, — одни скоты и мошенники, а кто получше, глупы, как тысяча крокодилов».
— Вы мастер сочинять басни, — сказал, посапывая, кофейный плантатор. — Вы врете!
Ланфиер угрюмо блеснул глазами.
— Я был бы теперь мертв, — закричал он, — будь глаз у этого человека повернее на толщину волоса! Я упрекнул его в заносчивости, он бросил в меня пулю так хладнокровно, как будто это был катышек из мякиша. Я выскочил в окно проворнее ящерицы.
— Сознайтесь, что вы соврали, — зевнул хозяин.
Старик молчал. За сморщенными щеками его прыгали желваки. Играющие вернулись к игре. Ланфиеру не верили, но каждый сложил где-то в темном кусочке мозга «глупых, как крокодилы, людей, мошенников и скотов».
VI
Бекеко, задрав голову, смотрел вверх. Обезьяна раскачивалась на хвосте под самым небом; ее круглые, старчески-детские глаза быстро ощупывали фигуру идиота, иногда отвлекаясь и соображая расстояние до ближайшего дерева.
Бекеко дружелюбно кивал, подмаргивал и знаками приглашал зверя спуститься вниз, но опытный капуцин посвистывал недоверчиво и тревожно, по временам строя отвратительные гримасы. Бекеко смеялся. Болезненное, беспричинно радостное чувство распирало его маленькое шелудивое тело, и он захлебывался нелепым восторгом, дрожа от нестерпимого возбуждения. Капуцина, как все живое, он ставил выше себя и с вежливой настойчивостью, боясь оскорбить мохнатого акробата, продолжал свои приглашения.
Потом, вглядевшись пристальнее в сморщенное лицо, он вздрогнул и съежился; смутное опасение поколебало его веселость. Нельзя было ошибиться: капуцин готовился разгрызть череп Бекеко и, может быть, впиться зубами в его тощий желудок.
— Ну… ну… — испуганно проворчал расстроенный человек, отходя в сторону.
Теперь он не в силах был посмотреть вверх и, волнуясь, осматривался кругом, в надежде найти сук, годный для обороны. Под небом висел зверь огромной величины, на время прикинувшийся маленьким, но теперь Бекеко знал все: на него устроили ловушку, и он попался самым глупейшим образом. Еще не зная, с какой стороны, кроме хвостатого старика, грозит опасность, он стал пятиться, спотыкаясь и вздрагивая от страха. Враги не отставали; невидимые, они бесшумно ползли в траве, покалывая босые ноги Бекеко колючками, больно обжигавшими кожу. Внезапное подозрение, что сзади притаилась засада, бросило его в пот. Колеблясь, он топтался на месте, боясь тронуться, полный безумного ужаса перед томительной тишиной леса и зелеными, закрывающими лицо, гигантами.
Когда показался враг, пытливо рассматривая тщедушную фигуру Бекеко, идиот вскрикнул, запустил в неприятеля тяжелым желтым комком и присел, замирая в тоскливом ожидании смерти. Горн медлил. Почти испуганный, но не призраками, он вертел в руках брошенный Бекеко комочек. Сильное возбуждение охватило его; с глазами, заблестевшими от неожиданности, с пересохшим от внезапного волнения горлом, охотник механически подбрасывал рукой тусклый, грязноватый кусок, забыв о Бекеко, лесе и времени.
Капуцин продолжал раскачиваться; оттопырив щеки, он сердито вытянул морду и, разглядев ружье, гневно скрипнул зубами. Потом с шумом перепрыгнул на соседнее дерево, зацыкал, пустил в Горна большим орехом и стремглав кинулся прочь, ныряя в чаще.
Горн осмотрелся. Он был бледен, сосредоточен и плохо справлялся с мыслями. Помимо его воли, они разлетались быстрее пуль, выброшенных из митральезы. Неясное кипение души требовало исхода, движения; лес должен был наполниться звуками, способными заглушить кричащую тишину. Но прежнее ленивое великолепие дремало вокруг, равнодушно заключая в свои торжественные объятия растерянного побледневшего человека.
— Бекеко! — сказал Горн. — Бекеко!
Идиот боязливо высунул голову из-за ствола дерева. Горн смягчил голос, почти проникнутый нежностью к загнанному уродцу, внимательно рассматривая это странное существо, напоминавшее гномов.
— Бекеко, — сказал Горн, — ты не узнал меня?
Идиот поднял глаза, не решаясь произнести слово. Охотник слегка тронул его рукой, но тотчас же отдернул ее: пронзительный визг огласил лес. Бекеко напоминал испуганного ежа, свернувшегося комком.
— Ну, хорошо, — как бы соглашаясь в чем-то с Бекеко, продолжал Горн, — я ведь тебе не враг. Я тотчас уеду, только скажи мне, милый звереныш, где ты нашел этот блестящий шарик? Он мне нужен, понимаешь? Мне и Эстер. Нам нужно порядочно таких шариков. Если ты не будешь упрямиться и скажешь, Эстер даст тебе сахару.
Он вытянул руку и тотчас же сжал пальцы, как будто тусклый блеск золота обжигал кожу.
— Эстер… — нерешительно пробормотал идиот, приподымая голову. — Даст сахару!
Он жалобно замигал и снова погрузился в туманную пустоту безумия. Горн нетерпеливо вздохнул.
— Эстер, — тихо повторил он, наклоняясь к Бекеко. — Ты понял, что ли? Эстер!
Лицо Бекеко вытянулось, шевеля плоскими оттопыренными губами. Тяжелая работа ассоциации совершилась в нем. Темный мозг силился связать в одно целое сахар, имя, человека с ружьем и женский образ, плававший неопределенным, ярким пятном. И вдруг Бекеко расцвел почти осмысленной гримасой плаксивого судорожного смеха.
— Эстер, — медленно произнес он, исподлобья рассматривая охотника.
— Да. — Горн вздохнул. Все тело его рвалось прочь, к лихорадочному опьянению поисками. — Эстер нуждается в таких шариках. Где ты нашел их?
— Там! — взмахивая рукой и, видно, приходя в себя, крикнул Бекеко. — Маленькая голубая река.
— Ручей? — спросил Горн.
— Вода. — Идиот утвердительно кивнул головой.
— Вода, — настойчиво повторил Горн.
— Вода, — как эхо, отозвался Бекеко.
Горн молчал. Север, маленькая голубая река. И маленький, не более пули, кусочек золота.
— Бекеко, — сказал он, удаляясь, — помни: Эстер даст сахару.
Он был уже далеко от места, где, скорчившись, сидел испуганный получеловек, и сам не заметил этого. Он шел спешными, большими шагами, проникнутый нестерпимой тревогой, словно боялся опоздать, упустить нечто невероятной важности. Все, начиная с Бекеко и кончая ночью этого дня, вспоминалось им после, как торопливо промчавшийся, смутно восстановленный сон, полный беззвучной музыки. Чувство фантастичности жизни охватило его; отрывками вспоминая прошлое, похожее на сон облачных стай, и связывая его с настоящим, он испытал восторг мореплавателя, прозревающего в тумане девственный берег неведомого материка, и волнение перед неизвестным, подстерегающим человека. Тело его окрепло и утратило тяжесть; лицо, смягченное грезами, задумывалось и улыбалось, словно он читал интересную, нравящуюся книгу, где были переплетены в тонком узоре грусть и восторг, юмор и нежность. Стволы, толщиной с хорошую будку, колоннами уходили в небо, и он чувствовал себя маленьким, вверенным надежному, таинственному покровительству леса, зеленой глубине чащи, напоминающей тревожные сумерки комнат, охваченных глубоким безмолвием. Маленькая голубая река текла перед его глазами, и в ее мокром песке невинно дремало золото, юное, как побеги травы, целомудренное могущество, не знавшее дрожи человеческих пальцев и похотливых взглядов мещан, алчущих без конца. Он шел в одном направлении, жалея о каждом шаге, сделанном в сторону, когда приходилось огибать ствол и холмик. Постепенно, хмурясь и улыбаясь, достиг он сияющих дебрей воображения, гущины грез, делающих человека пьяным, не хуже вина. Он походил на засыпающего в тот момент, когда голоса людей из соседней комнаты мешаются с расцветом сказочных происшествий, начинающих в освобожденном мозгу свои диковинные прологи. Это было все и ничто, сомнение в удаче и яростная уверенность в ней, чувство узника, с голыми руками покинувшего тюрьму и нашедшего семизарядный револьвер, стремительный бег желаний; запыхавшаяся душа его торопилась осязать будущее, в то время как тело, нечувствительное к усталости, ускоряло шаги.
Был тот час дня, когда, лениво раздумывая, вечер приближает к земле внимательные глаза, и цикады звенят тише, чувствуя осторожный взгляд Невидимого, удлиняющего тени стволов. Лес редел, глубокие просветы заканчивались пурпуром скал, блестящих в крови солнца, раненного Дианой. Обломки кварца, следы бывших землетрясений желтели отраженным светом зари, короткое бормотание какаду звучало сердитым удовлетворением и строптивостью. Горн шел, механически ступая ногами.
Через полчаса он увидел воду. Конечно, это была та самая маленькая голубая река, узкий ручей с небом на дне и блеском песчаных отмелей, чистых, как серый фаянс. Издали она казалась голубой лентой в зеленой косе нимфы. Ее линия, перерезанная раскидистыми вершинами отдельных древесных групп, уходила в скалистый грот, черный от ползучих растений, заткавших щели и выступы складками зеленых ковров, падающих к воде. Горн, с трудом передвигая ноги в сырой гуще цепкой травы, выбрался к голубой ленте и остановился, вдыхая сладкий, прелый запах водорослей.
Здесь ему впервые пришло в голову, что жажда неотступно мучает его тело, и он почти упал на колени, зачерпывая ладонью теплую как остывший кипяток жидкость. Прозрачные капли дождем стекали по его подбородку и пальцам. Он пил много, переводя дух, отдыхал и снова погружал руки в теплую глубину.
Удовлетворение наполнило его слабостью, наступившей внезапно, тяжелой ленью всех членов, нежеланием двигаться. Он посмотрел на дно, но его глазам сделалось больно от солнца, игравшего в подводном песке. Всмотревшись пристальнее, Горн приблизил лицо к самой поверхности воды, почти касаясь ее ресницами. В таком положении он пробыл минуты две; тело его вздрагивало мгновенной, неуловимой дрожью, и кровь приливала к побледневшим щекам быстрей облачной тени, охватывающей равнину.
Желтые искры, тлея смягченным водой блеском, пестрили чистое дно ручья, и чем больше смотрел Горн, тем труднее становилось ему отличить гальку от золота. Оно таинственно покоилось в глубине, от его матовых зерен били в зрачки Горна невидимые, звонкие фонтанчики, звеня в ушах беглым приливом крови. Он засмеялся и громко крикнул. Дрожащий звук голоса отозвался в лесных недрах слабым гулом и стих. Горн встал.
И все показалось ему невыразимо прекрасным, проникнутым торжеством радости. Воздушный мост, брошенный на берег будущего, вел его в сияющие ворота жизни, отныне доступной там, где раньше стояли крепости, несокрушимые для желаний. Земной шар как будто уменьшился в объеме и стал похожим на большой глобус, на верхней точке которого стоял взволнованный человек с пылающими щеками. И прежде всего Горн подумал о силе золота, способного возвратить женщину. Он ехал к ней в тысяче поездов, их колеса сливались в сплошные круги, и рельсы вздрагивали от массы железа, проносящего Горна. Он говорил ей все, что может сказать человек, и был с ней.
Потом он услышал воображенное им самим слово «нет», но уже почувствовал себя не оскорбленным, а мстителем, и с мрачной жадностью набросал сцены расчетливой деловой жестокости, обширный круг разорений, увлекающий в свою крутящуюся воронку благополучие человека, постучавшего в дверь. Горн выбрасывал на мировой рынок товары дешевле их стоимости. И с каждым днем тускнело лицо женщины, потому что умолкали, одна за другой, фабрики ее мужа, и паутина свивала затхлое гнездо там, где громыхали машины.
Прошло не более двух минут, но в течение их Горн пережил с болезненной отчетливостью несколько лет. Осунувшийся от возбуждения, он посмотрел вокруг. Солнце ушло за скалы, светлые вечерние тени кутали остывающую землю, молчаливо поблескивала река.
Он вырезал кусок дерна и, придав ему наклонное положение, бросил на зеленую поверхность самодельного вашгерда несколько пригоршней берегового песка. Потом срезал кусок коры и, устроив из него нечто вроде ковша, зачерпнул воды.
Это был первый момент работы, взволновавший охотника более, чем песок дна. Он все лил и лил воду, пока в траве дерна не заблестел тонкий, тяжелый слой золота. Силы временно оставили Горна, он сел возле добычи, положив руку на мокрую поверхность станка, и тотчас бешеный хоровод мыслей покинул его утомленный мозг, оставив оцепенение, похожее на восторг и тоску.
VII
Горн вернулся без рубашки и блузы, с кожаной сумкой, полной маленьких узелков, сделанных из упомянутых вещей и оттянувших его плечи так, что было больно двигать руками. Полуголый, обожженный солнцем, он принес к озеру запах лесных болот и сладкое, назойливое изнеможение.
Новое ощущение поразило его, когда он подходил к дому, — ощущение своего тела, как будто он щупал его слабыми от жары руками, и беспричинная, судорожная зевота. Затворив дверь, он вырыл в земляном полу яму и тщательно замуровал туда слежавшиеся тяжелые узелки. Их было много, и ни один не выглядел худощавым.
Опустившись на высохшую траву постели, он долго сидел понурясь и не мог объяснить себе внезапного, тоскливого равнодушия к свежеутоптанной земле хижины. Сжав левую руку у кисти, он слушал глухую возню крови, и зубы его быстро стучали, отбивая дробь маленьких барабанов, а тело ежилось, словно на его потной коже таяли хлопья снега, падающего с потолка.
Горн лег и лежал с широко открытыми глазами, не раздеваясь, в сладострастной истоме, прерываемой периодическим сотрясением тела, после чего обильный пот стекал по лицу. Убедившись, что болен, он стал высчитывать, на сколько дней придется остановить работу и сколько он потеряет от этого. Болотная лихорадка могла обойтись ему в цену хорошего поместья, потому что, как он слышал и знал, болезнь эта редко покидает ранее десяти дней.
Клацая челюстями и корчась, он постепенно пришел в хорошее настроение — признак, что жар усилился. Озноб оставил его, и он насмешливо улыбался голым стенам дома, скрывающим то, из-за чего Ланфиер способен был бы нанести удар спереди, без военных хитростей полководца, устраивающего ложную диверсию.
Горн пролежал до заката солнца, когда жар временно оставляет человека, чтобы возвратиться на другой день в строго определенный час, с аккуратностью немца, завтракающего в пятьдесят шесть минут первого. Слабый, с закружившейся головой и револьвером в кармане, Горн надел новую блузу и вышел на воздух. Мысли его приняли спокойное направление, он тщательно взвесил шансы на достижение и убедился, что не было никакой ошибки, за исключением случайностей, рассеянных в мире в немного большем количестве, чем это необходимо. Освеженный холодным воздухом, он долго рассматривал звездный атлас неба и Южный Крест, сияющий величавым презрением к делам земных обитателей. Но это не подавляло Горна, потому что глаза его, в свою очередь, напоминали пару хороших звезд — так они блестели навстречу мраку, и он не чувствовал себя ни жалким, ни одиноким, так как не был мертвой материей планет.
Пахнул ветер и замер, оборвав слабый, долетевший издали, топот лошади. Горн машинально прислушался, через минуту он мог уже сказать, что в этот момент подкова встретила камень, а в тот — рыхлую почву. Тогда он вернулся к себе и зажег маленькую лампу, купленную в колонии. Колеблющийся свет лег через окно в ближайшие стволы бамбука. Горн отворил дверь и стал за ее порогом, слабо освещенный с одного бока.
Неизвестный продолжал путь, он ехал немного тише, из чего Горн заключил, что едут к нему, так как не было смысла лететь галопом к озеру и задерживать шаг ради удовольствия вернуться обратно. Он ждал, пока фырканье лошади не раздалось возле его ушей.
— Кто вы? — спросил Горн, играя револьвером. — Эстер! — помолчав и отступая от удивления, сказал он. — Так вы не спите еще?
— А вы? — спросила она с веселым смехом, запыхавшись от быстрой езды. — Главное, что вы еще живы.
— Жив, — сказал Горн, почувствовав оживление при звуках этого голоса, громкого, как звон небольшого колокола. — Ваш отец должен теперь совершенно успокоиться.
Она не ответила и, молча пройдя к столу, села на табурет. Выражение ее лица беспрерывно менялось, словно в ней шел мысленный разговор с кем-то, известным одной ей. Горн сказал:
— Вы видите, как я живу. У меня нет ничего, что я мог бы предложить вам в качестве угощения. Обыкновенно я уничтожаю остатки пищи, они быстро портятся.
— Вы говорите так потому, что не знаете, зачем я пришла, — сказала Эстер, и голос ее звучал на полтона ниже. — Сегодня, видите ли, праздник. Мужчины с раннего утра на ногах, но теперь уже плохо на них держатся. Все спиртные напитки проданы. Везде горят факелы, наш дом украшен фонариками. Это очень красиво. Кто не жалеет пороху, те ходят кучками и стреляют холостыми зарядами. В «Зеленой Раковине» убрали все столы и скамейки, танцуют без перерыва.
Она выжидательно посмотрела в лицо Горна. Тогда он заметил, что на Эстер желтое шелковое платье и голубая косынка, а смуглая шея украшена жемчужными бусами.
— Я поотстала немного, когда проходили мимо маленькой бухты, и вспомнила вас, а потом видела, как молодой Дрибб обернулся, отыскивая меня глазами. Кинг поскакал быстро, я угощала его каблуками без жалости. Конечно, вам будет весело. Нельзя сидеть долго наедине со своими мыслями, а через полчаса мы будем уже там. Хорошо?
— Эстер, — сказал Горн, — почему праздник?
— День основания колонии. — Эстер раскраснелась, молчаливая улыбка приоткрывала ее свежий рот, влажный от возбуждения. — О, как хорошо, Горн, подумайте! Мы будем вместе, и вы расскажете, так ли у вас празднуют какое-нибудь событие.
— Эстер, — сказал сильно тронутый Горн, — спасибо. Я, может быть, не пойду, но, во всяком случае, я как будто уже был там.
— Постойте одну минуту. — Девушка лукаво посмотрела на охотника, и голос ее стал протяжным, как утренний рожок пастуха. — Бекеко все просит сахару.
— Бекеко! — повторил сильно озадаченный Горн. — Просит сахару?
И, вспомнив, насторожился. Ему пришло в голову, что всем известно о маленькой голубой реке. Неприятное волнение стеснило грудную клетку, он встал и прошелся, прежде чем возобновить разговор.
— Он лез ко мне и говорил страшно много непонятных вещей, — продолжала девушка, смотря в окно. — Я ничего не поняла, только одно: «Твой человек (это он называет вас моим человеком) сказал, что ему и Эстер нужно множество желтых камней». После чего будто бы вы обещали ему от моего имени сахару. О, я уверена, что он ничего не понял из ваших слов. Я дала ему, по крайней мере, пригоршню.
Горн слушал, стараясь не проронить ни одного слова. Лицо его то бледнело, то розовело и, наконец, приняло натуральный цвет. Девушка была далека от всякого понимания.
— Да, — сказал он, — я встретил дурачка в припадке панического, необъяснимого ужаса. С вами он, должно быть, словоохотливее. Я успокоил его, не выжав из него ни одного слова. Желтые камни! Только мозг сумасшедшего может сплести бред с действительностью. А сахар — да, но вы ведь не сердитесь?
— Нисколько! — Эстер задумчиво посмотрела вниз. — «Это нужно мне и Эстер», — говорил он. — Она рассмеялась. — Нужно ли вам то, что мне? Пора идти, Горн. Я много думала об этих словах, а вы, вероятно, мало. Но вы не знали, что они дойдут до меня.
Ее учащенное дыхание касалось души Горна, и он, как будто проснувшись, но не решаясь понимать истину, остановился с замершим на губах криком растерянного удивления.
— Эстер, — с тоскою сказал он, — подымите голову, а то я боюсь, что не так понимаю вас.
Эстер прямо взглянула ему в глаза, и ни смущения, ни застенчивости не было в ее тонких чертах, захваченных неожиданным для нее самой волнением женщины. Она встала, пространство менее трех футов разделяло ее от Горна, но он уже чувствовал невидимую стену, опустившуюся к его ногам. Он был один, присутствие девушки наполняло его смятением и тревогой, похожей на сожаление.
— Я могла бы быть вашей женой, Горн, — медленно сказала Эстер, все еще улыбаясь ртом, хотя глаза ее уже стали напряженно серьезными, как будто тень легла на верхнюю часть лица. — Вы, может быть, долго еще не сказали бы прямых слов мужчины. А вы мне уже дороги, Горн. И я не оскорблю вас, как та.
Горн подошел к ней и крепко сжал ее опущенную вниз руку. Тяжесть давила его, и ему страшно хотелось, чтобы его голос сказал больше жалких человеческих слов. И, чувствуя, что в этот момент не может быть ничего оскорбительнее молчания, он произнес громко и ласково:
— Эстер! Если бы я мог сейчас умереть, мне было бы легче. Я не люблю вас так, как вы, может быть, ожидаете. Выкиньте меня из вашей гордой головы; быть вашим мужем, превратить жизнь в сплошную работу — я не хочу, потому что хочу другой жизни, быть может, неосуществимой, но одна мысль о ней кружит мне голову. Вы слушаете меня? Я говорю честно, как вы.
Девушка закинула голову и стала бледнее снега. Горн выпустил ее руку. Эстер пошевелила пальцами, как бы стряхивая недавнее прикосновение.
— Ну, да, — жестко, с полным самообладанием сказала она. — Если вы не понимаете шуток, тем хуже для вас. Впрочем, вы, вероятно, ищете богатых невест. Я всегда думала, что мужчина сам добывает деньги.
Каждое ее слово болезненно ударяло Горна. Казалось, в ее руках была плеть, и она била его.
— Эстер, — сказал Горн, — пожалейте меня. Не я виноват, а жизнь крутит нами обоими. Хотели бы вы, чтобы я притворился любящим и взял ваше тело, потому что оно прекрасно и, скажу правду, — влечет меня? А потом разошелся с вами?
— Прощайте, — сказала девушка.
Все тело ее, казалось, дышало только что нанесенным оскорблением и вздрагивало от ненависти. Горн бросился к ней, острая, нежная жалость наполняла его.
— Эстер! — мягко, почти умоляюще сказал он. — Милая девушка, прости меня!
— Прощаю! — задыхаясь от гневных слез, крикнула Эстер, и, действительно, она прощала его взглядом, полным непередаваемой гордости. — Но никогда, слышите, Горн, никогда Эстер не раскаивается в своих ошибках! Я не из той породы!
Горн подошел к окну, пошатываясь от слабости. У дверей тихо заржала лошадь. — «Кинг! — спокойно позвала девушка. Она садилась в седло, шелестя шелковой юбкой. Горн слушал. — Кинг! — сказала снова Эстер, — ты простишь мне удары каблуком в бок? Этого больше не будет».
Легкий галоп Кинга наполнил темноту мерным замирающим топотом.
VIII
Думать о собаках не было никакого смысла. Маленькая голубая река никогда не видала их, а если и видела, то это было очень давно, гораздо раньше, чем первый локомотив прорезал равнину в двухстах милях от того места, где Горн, стоя на коленях, пил воду и золотой блеск.
Но он, стряхивая на платок пригоршню металла, добычу трехчасового усилия, неожиданно поймал себя на мысли о всевозможных собаках, виденных раньше. Он, как оказывалось, думал о догах больше, чем о левретках, и о гончих упорнее, чем о мопсах. Затем он кончил коротким вздохом; лицо его приняло сосредоточенное выражение, и Горн выпрямился, устремив взгляд к зеленым провалам леса, окутанного сиянием.
Звуки были так слабы, что лишь бессознательно могли повернуть мысль от золота к домашним четвероногим. Они скорее напоминали эхо ударов по дереву, чем лай, заглушенный чащей и расстоянием. И их было совсем мало, гораздо меньше, чем восклицательных знаков на протяжении двух страниц драмы.
Время, пока они усилились, приобрели характерные оттенки собачьего голоса и сердитую уверенность пса, запыхавшегося от продолжительных поисков, было для Горна временем рассеянной задумчивости и холодной тревоги. Он ждал приближения человека, теша себя надеждой, что путь собаки лежит в сторону. Долина реки избавила его от этого заблуждения. Она тянулась вогнутой к лесу кривой линией, и с каждой точки опушки можно было заметить Горна. Думать, что неизвестный вернется назад, не было никаких оснований.
Горн торопливо спрятал отяжелевший платок в карман, сбросил в воду куски дерна, служившего вашгердом, и, держа штуцер наперевес, отошел шагов на сто от места, где мыл песок. Сдержанный, хриплый лай гулко летел к нему из близлежащих кустов.
Горн встал за дерево, напряженно прислушиваясь. Невидимый, он видел маленькую на отдалении верховую фигуру, пересекавшую луг крупной рысью, в то время, как небольшая ищейка вертелась под копытами лошади, зигзагами ныряя в траве. Слегка разгневанный, Горн вышел навстречу. Ему казалось недостойным прятаться от одного человека, с какой бы целью тот ни приближался к нему. Он был сердит за помеху и за то, что искали его, Горна.
В этом уже не оставалось сомнения. Собака сделала две петли на месте, только что покинутом Горном, и, заскулив, бросилась к охотнику, прыгая чуть не до его головы, с визгом, выражавшим недоумение. Она могла залаять и укусить, все зависело от поведения самого хозяина. Но ее хозяин не выказал никакого волнения, только глаза его на расстоянии трех аршин показались Горну пристальными и острыми.
Горн стоял, держа ружье, заряженное на оба ствола, под мышкой, как зонтик, о котором в хорошую погоду хочется позабыть. Молодой Дрибб сдержал лошадь. Его винтовка лежала поперек седла, вздрагивая от нетерпеливых движений лошади, ударявшей копытом. Нелепое молчание фермера согнало кровь с лица Горна, он первый приподнял шляпу и поклонился.
— Здравствуйте, господин Горн, — сказал гигант, шумно вздохнув. — Очень жарко. Моя лошадь в мыле, мне, знаете ли, пришлось-таки порядком попутешествовать.
— Я очень жалею лошадь, — мягко сказал Горн. — У вас были, конечно, серьезные причины для путешествия.
— Важнее, чем смерть матери, — тихо сказал Дрибб. — Вы уж извините меня, пожалуйста, за беспокойство, — без улыбки прибавил он, разглядывая подстриженную холку лошади. — Я охотнее заговорил бы с вами у вас, чем мешать вам в ваших прогулках. Но вас не было три дня, вот в чем дело.
— Три дня, — повторил Горн.
Дрибб откашлялся, вытерев рукой рот, хотя он был сух, как начальница пансиона. Глазки его смотрели тревожно и воспаленно. Горн ждал.
— Видите ли, — заговорил Дрибб, с усилием произнося каждое слово, — я сразу не могу объяснить вам, я начну по порядку, как все оно вышло сначала и дошло до сегодняшнего дня.
Было одно мгновение, когда Горн хотел остановить его. — «Я знаю; и вот что, — хотел сказать он. — Зачем? — ответила другая половина души. — Если он ошибается, не надо тревожить Дрибба».
Собака отбежала в сторону и, высунув язык, села в тени чернильного орешника. Дрибб нерешительно пошевелил губами, казалось, ему было невыразимо тяжело. Наконец, он начал, смотря в сторону.
— Вы молчите, хотя, конечно, я вас еще ни о чем не спрашивал. — Он громко засопел от волнения. — Дней пять назад, сударь, то есть эдак суток через семь или восемь после нашего праздника, я был у Астиса. — «Эстер! — сказал я, и только в шутку сказал, потому что она все молчала. — Эстер, — говорю я, — ты нынче, как зимородок». И так как она мне не ответила, я набил трубку, потому что если женщина не в духе, не следует раздражать ее. Вечером встретился я с ней на площади. — «Ты не пройдешь сквозь меня, — сказал я, — или ты думаешь, что я воздух?» Тогда только она остановилась, а то мы столкнулись бы лбами. — «Прости, — говорит она, — я задумалась». — Так как я торопился, то поцеловал ее и пошел дальше. Она догнала меня. — «Дрибб, — говорит. — и мне и тебе больно, но лучше сразу. Свадьбы не будет».
Он передохнул, и в его горле как будто проскочило большое яблоко. Горн молча смотрел в его осунувшееся лицо, глаза Дрибба были устремлены к скалам, словно он жаловался им и небу.
— Здесь, — продолжал он, — я стал смеяться, думая, что это шутка. — «Дрибб, — говорит она, — от твоего смеха ничего не выйдет. Можешь ли ты меня забыть? И если не можешь, то употреби все усилия, чтобы забыть». — «Эстер, — сказал я с горем в душе, потому что она была бледна, как мука, — разве ты не любишь меня больше?» — Она долго молчала, сударь. Ей было меня жаль. — «Нет», — говорит она. И меня как будто разрезали пополам. Она уходила, не оборачиваясь. И я заревел, как маленький. Такой девушки не сыщешь на всей земле.
Гигант дышал, как паровая машина, и был весь в поту. Расстроенный собственным рассказом, он неподвижно смотрел на Горна.
— Дальше, — сказал Горн.
Рука Дрибба судорожно легла на ствол ружья.
— И вот, — продолжал он, — вы знаете, что водка ободряет в таких случаях. Я выпил четыре бутылки, но этого оказалось мало. Он был тоже пьяный, старик.
— Ланфиер, — наудачу сказал Горн.
— Да, хотя мы его зовем Красный Отец, потому что он проливал кровь, сударь. Он все смотрел на меня и подсмеивался. У него это выходит противно, так что я занес уже руку, но он сказал: — «Дрибб, куда ездят девушки ночью?». — «Если ты знаешь, скажи», — возразил я. — «Послушай, — говорит он, — не трудись долго ломать голову. Равнина была покрыта тьмой, я караулил человека, поселившегося на озере, тогда, в ночь праздника. Если он любопытен, — сказал я себе, — он придет нынче в колонию. Я обвязал дуло ружья белой тряпкой, чтобы не промахнуться, и сидел на корточках. Через полчаса из колонии выехала женщина, я не мог рассмотреть ее, но в стуке копыт было что-то знакомое». — Сердце у меня сжалось, сударь, когда я слушал его. — «Я чуть не заснул, — говорит он, — поджидая ее обратно. Назад она ехала шагом, это было не позже, как через час. — Эстер! — крикнул я. — Она выпрямилась и ускакала. Не она ли это была, голубчик?» — сказал он.
Горн хмуро закусил губу.
— Дальше — и оканчивайте!
— И вот, — клокотал Дрибб, причем грудь его колыхалась, подобно палубе под муссоном, — я не знал, почему не было Эстер возле меня и не было долго… тогда. Я думал, что ей понадобилось быть дома. Очередь за вами, господин Горн. Если она вас любит, станемте шагах в десяти и предоставим судьбе выкроить из этого что ей угодно. Я пошел к вам на другой день, вас не было. Я объехал все лесные тропинки, морской берег и все те места, где легче двигаться. Затем жил два дня в вашем доме, но вы не приходили. Тогда я взял с собой Зигму, это очень хорошая собака, сударь, она водила меня немного более четырех часов.
— Так что же, — решительно сказал Горн, — все правда, Дрибб. Эстер была у меня. И не буду вам лгать, это, может быть, будет для вас полезно. Она хотела, чтобы я стал ее мужем. Но я не люблю ее и сказал ей это так же, как говорю вам.
Гигант согнулся, словно его придавило крышей. Лицо его сделалось грязно-белым. Задыхаясь от гнева и тоски, он неуклюже спрыгнул на землю и, пошатываясь, стиснул зубы.
— Вы не подумали обо мне, — закричал он, — когда увлекли девушку. И если вы врете, тем хуже для вас самих!
— Нет, Дрибб, — тихо произнес Горн, улыбаясь безразличной улыбкой, овладевшего собой человека, — вы ошибаетесь. Я думал, правда, не о вас собственно, но по поводу вас. Мне пришло в голову, что было бы хорошо, если бы этот прекрасный лес сверкал тенистыми каналами с цветущими берегами, и стройные бамбуковые дома стояли на берегах, полные бездумного счастья, напоминающего облако в небе. И еще мне хотелось населить лес смуглыми кроткими людьми, прекрасными, как Эстер, с глазами оленей и членами, не оскверненными грязным трудом. Как и чем жили бы эти люди? Не знаю. Но я хотел бы увидеть именно их, а не нескладные туловища, вроде вашего, Дрибб, замызганного рабочим потом и украшенного пуговкой вместо носа.
— Скажите еще одно слово! — Дрибб с угрожающим видом шагнул к Горну. — Тогда я убью вас на месте. Вы будете качаться на этом каучуковом дереве — подлец!
— О! Довольно! — побледнел Горн. Он трясся от гнева. Равнина и лес на мгновение слились перед его глазами в один зеленый сплошной круг. — Не я или вы, Дрибб, а я. Я убью вас, запомните это хорошенько, потом будет поздно убедиться, что я не лгу.
— Десять шагов, — отрывисто, хриплым голосом сказал Дрибб.
Горн повернулся и отсчитал десять, держа палец на спуске. Небольшой кусок травы разделял их. Глаза их притягивались друг к другу. Горн вскинул ружье.
— Без команды, — сказал он. — Стреляйте, как вам вздумается.
Одновременно с окончанием слова «вздумается», он быстро повернулся боком к Дриббу, и вовремя, потому что тот нажимал спуск. Пуля, скользнув, разорвала кожу на груди Горна и щелкнулась в дерево.
Не потерявшись, он коснулся прицелом середины волосатой груди фермера и выстрелил без колебания. Новый патрон магазинки Дрибба застрял на пути к дулу, он быстро попятился, раскрыл рот и упал боком, не отрывая от Горна взгляда круглых тупых глаз.
Горн подошел к раненому. Дрибб протяжно хрипел, подергиваясь огромным, неловко лежащим телом. Глаза его были закрыты. Горн отошел, вздрагивая, вид умирающего был ему неприятен, как всякое разрушение. Лошадь, отбежавшая в сторону, беспокойно заржала. Он посмотрел на нее, на собаку, визжавшую около Дрибба, и удалился, вкладывая на ходу свежий патрон. Мысли его прыгали, он вдруг почувствовал глубокое утомление и слабость. Кожа на груди, разорванная выстрелом Дрибба, вспухла, сочась густой кровью, стекавшей по животу горячими каплями. Присев, он разорвал рубашку на несколько широких полос и, сделав из них нечто вроде бинта, туго обмотал ребра. Повязка быстро намокла и стала красной, но больше ничего не было.
Пока он возился, Дрибб, лежавший без движения с простреленной навылет грудью, открыл глаза и выплюнул густой сверток крови. Близкая смерть приводила его в отчаяние. Он пошевелил телом, оно двигалось, как мешок, наполненное острой болью и слабостью. Дрибб пополз к лошади, со стоном тыкаясь в сырую траву, как щенок, потерявший свой ящик. Лошадь стояла неподвижно, повернув голову. Путь в четыре сажени показался Дриббу тысячелетним. Захлебываясь кровью, он подполз к стремени.
Зигма, вертясь и прыгая, смотрела на усилия человека, пытавшегося сесть в седло, потеряв половину крови. Он обрывался пять раз, в шестой он сделал это удачнее, но от невероятного напряжения лес и небо заплясали перед его глазами быстрее, чем мухи на падали. Он сидел, охватив руками шею лошади, одна нога его выскользнула из стремени, и он не пытался вставить ее на место. Лошадь, встряхнув гривой, пошла рысью.
Горн, услышав топот, стремглав кинулся к месту, где упал Дрибб. Кровяная дорожка шла по направлению к лесу, — красное на зеленом, словно жидкие, рассыпанные кораллы.
— Поздно, — сказал Горн, бледнея от неожиданности.
Охваченный тревогой, он вошел в лес и двинулся по направлению к озеру так быстро, как только мог. Исчезли золотистые просветы, ровная предвечерняя тень лежала на стволах и на земле, грудь ныла, как от палочного удара. Почти бегом, торопливо перескакивая сваленные бурей стволы, Горн подвигался вперед и видел труп Дрибба, падающий с загнанной лошади среди толпы колонистов.
«Если труп найдет силы произнести только одно слово, я буду иметь дело со всеми», — подумал Горн.
Он уже бежал, задыхаясь от нервного напряжения. Лес, как толпа бессильных друзей, задумчиво расступился перед ним, открывая тенистые провалы, полные шума крови и прихотливых зеленых волн.
IX
Дверь, укрепленная изнутри, вздрагивала от нетерпеливых ударов, но стойко держалась на своем месте. Горн быстро переводил взгляд с незащищенного окна на нее и обратно, внешне спокойный, полный глухого бешенства и тревоги. Это был момент, когда подошва жизни скользит в темноте над пропастью.
Он был в центре толпы, спешившейся, щадя лошадей. Животные ржали поблизости, тревожно пофыркивая в предчувствии близкой схватки. Земля, взрытая на середине пола, зияла небольшой ямкой, по краям ее лежали грязные узелки и самодельные кожаные мешочки, пухлые от наполнявшего их мелкого золота. Тусклое, завернутое в сырую, еще пахнувшую вяленым мясом кожу, оно было так же непривлекательно, как красный, живой комок в руках акушерки, зевающей от бессонной ночи. Но его было довольно, чтобы человек средней силы, взвалив на спину все мешочки и узелки, не смог пройти ста шагов.
Горн думал о нем не меньше, чем о себе, стиснутом в четырех стенах. Все зависело от того, как повернутся события. Он почти страдал при мысли, что случайный уклон пули может положить его рядом с неожиданным подарком судьбы, лежавшим у его ног.
Свежие удары прикладом в дверь забарабанили так часто и увесисто, что Горн невольно протянул руку, ожидая ее падения. Кто-то сказал:
— Если вы не цените вежливости, мы поступим, как вздумается. Что вы скажете, например, о…
— Ничего, — перебил Горн, не повышая голоса, потому что тонкие стены отчетливо пропускали слова. — Будь вас хоть тысяча, вы можете убить только одного. А я — многих.
Одновременно с треском выстрела пуля пробила дверь и ударилась в верхнюю часть окна. Горн переменил место.
— Право, — сказал он, — я не буду разговаривать, потому что, целясь по слуху, вы можете прострелить мне голосовые связки. Пока же вы ошиблись только на полсажени.
Он повернулся к окну, разрядил штуцер в чью-то мелькнувшую голову и всунул новый патрон.
— Подумайте, — произнес тот же голос, подчеркивая некоторые слова ударом приклада, — что смерть под открытым небом приятнее гибели в мышеловке.
— Дрибб умер, — сказал Горн. — Ничто не может воскресить его. Он был горяч и заносчив, следовало остудить парня. Я предупредителен, пока это не грозит смертью самому мне. Умер, что делать?! Собака Зигма виновата в этом больше меня: опасно иметь тонкое обоняние.
Глухой рев и треск досок, пробитых новыми пулями, остановил его.
— Какая настойчивость! — сказал Горн. Холодное веселье отчаянья толкало его к злым шуткам. — Вы мне надоели. Надо иметь терпение ангела, чтобы выслушивать ваши нескладные угрозы.
За стеной разговаривали. Сдержанные восклицания и топот шагов то замирали, то начинали снова колесить вокруг дома, ближе и дальше, ближе и дальше, вместе и врассыпную. Стеклянная пыль месяца падала у окна тусклым четыреугольником, упорно трещал камыш, словно там укладывался спать и все не мог приспособиться большой зверь. Горн плохо чувствовал свое тело, дрожавшее от чрезмерного возбуждения; превращенный в слух, он машинально поворачивал голову во все стороны, держа на взводе курки и ежесекундно вспоминая о револьвере, оттягивавшем карман.
Вдруг треснул залп, от которого вздрогнули руки Горна и зазвенело в ушах. Множество мелких щеп, выбитых пулями, ударили его в лицо и шею, кой-где расцарапав кожу.
После мгновенной тишины голос за дверью сухо осведомился:
— Вы живы?
Горн выстрелил из обоих стволов, целясь на голос. За дверью, вздрогнувшею от удара пуль, шлепнулось что-то мягкое.
— Жив, — сказал он, щелкая горячим затвором. — А ваше здоровье?
Ответом ему были ругательства и взрыв новых ударов. Другой голос, отрывистый, крикнул из-за угла дома:
— Охота вам тратить пули!
— Для развлечения, — сказал Горн, посылая новый заряд.
Шум усилился.
— Эй, вы! — закричал кто-то. — Клянусь вашей печенью, которую я увижу сегодня собственными глазами, — бесполезно сопротивляться. Мы только повесим вас, это совсем не страшно, гораздо лучше, чем сгореть! Подумайте насчет этого!
Слова эти звучали бы совсем добродушно, не будь мертвой тишины пауз, разделявших фразу от фразы. Горн улыбнулся с ненавистью в душе; компания, собиравшаяся поджарить его, вызывала в нем настойчивое желание размозжить головы поочередно всем нападающим. Он не испытывал страха, для этого было слишком темно под крышей и слишком похоже на сон его одиночество перед разговаривающими стенами.
— Вы не узнали меня, — продолжал отрывистый голос. — Меня зовут Дрибб. Я так до сих пор и не видел вашей физиономии; вы слишком горды, чтобы придти под чужую крышу. А тогда, в бухте было слишком темно. Но терпению бывает конец.
— Жалею, что это вы, — сухо возразил Горн. — Из чувства беспристрастия вам не следовало являться сюда. Что вам сказал сын, падая с лошади?
— Падая с лошади? Но вас не было при этом, надеюсь. Он сказал — «Го…» и захлебнулся. Вот что сказал он, и вы мне ответите за этот обрывок слова.
— Отнеситесь к жизни с философским спокойствием, — насмешливо сказал Горн. — Я не отвечаю за поступки молодых верблюдов. Конечно, мне следовало целиться в лоб, тогда он умер бы в твердой уверенности, что я убит его первым выстрелом. А нет ли здесь Гупи?
— Здесь! — прозвучал хриплый голос. Он раздался далее того места, где, по предположению Горна, стоял Дрибб.
— Гупи, — сказал, помолчав, Горн, — напейтесь идоложертвенной свиной крови!
Щеки его подергивались от нервного смеха. Визгливая брань колониста режущим скрипом застряла в его ушах. Он продолжал, как бы рассуждая с собой:
— Гупи — человек добрый.
Неожиданная, грустная радость выпрямила спину охотника; он уже сожалел о ней, потому что радость эта протягивала две руки и, давая одной, отнимала другой. Но выхода не было. Нелепая смерть возмущала его до глубины души, он решился.
— Постойте! — вскричал Горн, — одну минуту! — Быстро, несколькими ударами топора он вырубил верхнюю часть доски в самом углу двери и отскочил, опасаясь выстрела. Но звуки железа, врубающегося в дерево, казалось, несколько успокоили нападающих, — человек мирно рубил доску. В зазубренной дыре чернел кусок мглистого неба.
— Гупи, — сказал Горн, переводя дух и настораживаясь. — Гупи, подойдите ближе, с какой вам хочется стороны. Я не выстрелю, клянусь честью. Мне нужно что-то сказать вам.
Человек, поставленный у окна, выглянул и, торопливо приложившись, выстрелил в темноту помещения. Горн отшатнулся, пуля обожгла ему щеку. Охваченный припадком тяжелой злобы затравленного, Горн несколько секунд стоял молча, устремив дуло к окну, и все в нем дрожало, как корпус фабрики на полном ходу, — от гнева и ярости.
Овладев собой, он подумал, что Гупи уже подошел на нужное расстояние. Тогда, взяв узелок с песком, весом около двух или трех фунтов, он выбросил его в дыру двери.
— Это вам, — громко сказал Горн. — И вот еще… и еще.
Почти не сознавая, что делает, он с лихорадочной быстротой швырял золото в темноту, тупо прислушиваясь к глухому стуку мешочков, мерно падающих за дверью. Слезы душили его. Маленькая голубая река невинно скользила перед глазами.
Беглый, смешанный разговор вспыхнул за дверью, отдельные голоса звучали то торопливо, то глухо, как сонное бормотание. Горн слушал, смотря в окно.
— Погодите, Гупи!
— Да что вам нужно?
— Положите!
— Оставьте!
— Эй, куда вы?
— Как, — и вы? Тысяча чертей!
— А вам какое дело до этого?
— Где он взял?
— Много!
— Я оторву вам руки!
— Во-первых, вы глупы!
Характерный звук пощечины прорезал напряжение Горна. На мгновение шум стих и разразился с удесятеренной силой. Топот, быстрые восклицания, брань, гневный крик Дрибба, тяжелое дыхание борющихся скрещивалось и заглушалось одно другим, переходя в стонущий рев. Почти испуганный, не веря себе, Горн хрипло дышал, прислонившись головой к двери. Он чувствовал смятение, переходящее в драку, внезапное движение алчности, увеличивающей воображением то, что есть, до грандиозных размеров, резкий поворот настроения.
Продолжительный, звонкий крик вырвался из общего гула. И вдруг грянул выстрел после которого показалось Горну, что где-то в стороне от его дома густая толпа мечется в огромной кадрили, без музыки и огней. Он выбил, один за другим, колья, укреплявшие дверь, тихо приотворил ее, и разом исчезла мысль, оставив инстинктивное, бессознательное полусоображение животного, загнанного в тупик.
Шум доносился справа, из-за угла. Людей не было видно, они спешили покончить свои расчеты. Не следовало ожидать, чтобы они бросились поджигать дом в надежде найти там больше, чем было брошено Горном. Жестокие, нетерпеливые, как дети, они предпочитали пока видимое невидимому. Горн вышел за дверь.
Тени, отбрасываемые луной, казались черными бархатными кусками, брошенными на траву, залитую молоком. Воздух неподвижно дымился светом, густым, как известковая пыль. Мрак, застрявший в опушке леса, пестрил ее черно-зелеными вырезами.
Горн постоял немного, слушая биение сердца ночи, беззвучное, как мысленно исполняемая мелодия, и вдруг, согнувшись, пустился бежать к лесу. В ушах засвистел воздух, от быстрых движений разом заныло тело, все потеряло неподвижность и стремглав бросилось бежать вместе с ним, задыхающееся, оглушительно звонкое, как вода в ушах человека, нырнувшего с высоты. Лошадь, привязанная у опушки, казалось, неслась к нему сама, боком, как стояла, лениво перебирая ногами. Он ухватился за гриву; седло медленно качнулось под ним. Торопливо разрезав привязь ножом почти в то время, как открывал его, Горн выпустил из револьвера все шесть пуль в трех или четырех ближайших, метнувшихся от выстрелов лошадей и понесся галопом, и мгла невидимым ливнем воздуха устремилась ему навстречу.
И где-то высоко над головой, переходя с фальцета на альт, запела одинокая пуля, стихла, описала дугу и безвредно легла в песок, рядом с потревоженным муравьем, тащившим какую-то очень нужную для него палочку.
Горн скакал, не останавливаясь, около десяти верст. Он пересек равнину, спустился к кустарниковым зарослям морского плато и выехал на городскую дорогу.
Здесь он приостановился, сберегая силы животного для вероятной погони. Слева, из глубокой пропасти ночи, со стороны озера, слышалось неопределенное тиканье, словно кто-то барабанил пальцами по столу, сбиваясь и снова переходя в такт. Горн прислушался, вздрогнул и сильно ударил лошадь.
Он был погружен в механическое, стремительное оцепенение скачки, где грива, темная, ночная земля, убегающие силуэты холмов и ритмическое сотрясение всего тела смешивались в подмывающем осязании пространства и головокружительного движения. За ним гнались, он ясно сознавал это и качался от слабости. Утомление захватывало его. Согнувшись, он мчался без тревоги и опасения, с болезненным спокойствием человека, механически исполняющего то, что делается в подобных случаях другими сознательно; спасение жизни казалось ему пустым, страшно утомительным делом.
И в этот момент, когда, изнуренный всем пережитым, он был готов бросить поводья, предоставив лошади идти, как ей вздумается, Горн ясно увидел в воздухе бледный огонь свечи и маленькую, обведенную кружевом руку. Это было похоже на отражение в темном стекле окна. Он улыбнулся, — умереть среди дороги становилось забавным, чудовищной несправедливостью, смертью от жажды.
Задумчивое лицо Эстер мелькнуло где-то в углу сознания и побледнело, стерлось вместе с рукой в кружеве, как будто была невидимая, крепкая связь между девушкой из колонии и женщиной с капризным лицом, ради которой — все.
— Алло! — сказал Горн, приподымаясь в седле. — Бедняга затрепыхался!
И он спрыгнул в сторону прежде, чем падающая лошадь успела придавить его бешено дышащими боками.
Затем, успокоенный тишиной, он постоял немного, бросив последний взгляд в ту сторону, где ненужная ему жизнь протягивала объятия, и двинулся дальше.
Рассказ Бирка
Вначале разговор носил общий характер, а затем перешел на личность одного из присутствующих. Это был человек небольшого роста, крепкий и жилистый, с круглым бритым лицом и тонким голосом. Он сидел у стола в кресле. Красный абажур лампы бросал свет на всю его фигуру, за исключением головы, и от тени лицо этого человека казалось смуглым, хотя в действительности он был всегда бледен.
— Неужели, — сказал хозяин, глотая кофе из прозрачной фарфоровой чашечки, — не-у-же-ли вы отрицаете жизнь? Вы самый удивительный человек, какого я когда-либо встречал. Надеюсь, вы не считаете нас призраками?
Маленький человек улыбнулся и охватил руками колени, легонько покачиваясь.
— Нет, — возразил он, принимая прежнее положение, — я говорил только о том, что все мои пять чувств причиняют мне постоянную, теперь уже привычную боль. И было такое время, когда я перенес сложную психологическую операцию. Мой хирург (если продолжать сравнения) остался мне неизвестным. Но он пришел, во всяком случае, не из жизни.
— Но и не с того света? — вскричал журналист. — Позвольте вам сообщить, что я не верю в духов, и не трогайте наших милейших (потому что они уже умерли) родственников. Если же вам действительно повезло и вы удостоились интервью с дедушкой, тогда лучше покривите душой и соврите что-нибудь новенькое: у меня нет темы для фельетона.
Бирк (так звали маленького человека) медленно обвел общество серыми выпуклыми глазами. Напряженное ожидание, по-видимому, забавляло его. Он сказал:
— Я мог бы и не рассказывать ввиду почти полной безнадежности заслужить доверие слушателей. Я сам, если бы кто-нибудь рассказал мне то, что расскажу я, счел бы себя вправе усомниться. Но все же я хочу попытаться внушить вам к моему рассказу маленькое доверие; внушить не фактическими, а логическими, косвенными доказательствами. Все знают, что я — человек, абсолютно лишенный так называемого «воображения», то есть способности интеллекта переживать и представлять мыслимое не абстрактными понятиями, а образами. Следовательно, я не мог бы, например, правдоподобно рассказать о кораблекрушении, не быв свидетелем этой катастрофы. Далее, каждый рассказ убедителен лишь при наличности мелких фактов, подробностей, иногда неожиданных и редких, иногда простых, но всегда производящих впечатление большее, чем голый остов события. В газетном сообщении об убийстве мы можем прочесть так: «Сегодня утром неизвестным преступником убит господин N». Подобное сообщение может быть ложным и достоверным в одинаковой степени. Но заметка, ко всему остальному гласящая следующее: «Кровать сдвинута, у бюро испорчен замок», не только убеждает нас в действительности убийства, но и даёт некоторый материал для картинного представления о самом факте. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу этим сказать следующее: подробности убедят вас сильнее вашего доверия к моей личности.
Бирк остановился. Одна из дам воспользовалась этим, чтобы ввернуть следующее замечание:
— Только не страшное!
— Страшное? — спросил Бирк, снисходительно улыбаясь, как будто бы говорил с ребенком. — Нет, это не страшное. Это то, что живет в душе многих людей. Я готов развернуть перед вами душу, и если вы поверите ей, — самый факт необычайного, о котором я расскажу и который, по-видимому, более всего вас интересует, потеряет, быть может, в глазах ваших всякое обаяние.
Он сказал это с оттенком печальной серьезности и глубокого убеждения. Все молчали. И сразу самым сложным, таинственным аппаратом человеческих восприятий я почувствовал сильнейшее нервное напряжение Бирка. Это был момент, когда настроение одного передается другим.
— Еще в молодости, — заговорил Бирк, — я чувствовал сильное отвращение к однообразию, в чем бы оно ни проявлялось. Со временем это превратилось в настоящую болезнь, которая мало-помалу сделалась преобладающим содержанием моего «я» и убила во мне всякую привязанность к жизни. Если я не умер, то лишь потому, что тело мое еще было здорово, молодо и инстинктивно стремилось существовать наперекор духу, тщательно замкнувшемуся в себе.
Употребив слово «однообразие», я не хочу сказать этим, что я сознавал с самого начала причину своей меланхолии и стремления к одиночеству. Долгое время мое болезненное состояние выражалось в неопределенной и, по-видимому, беспричинной тоске, так как я не был калекой и свободно располагал деньгами. Я чувствовал глухую полусознательную враждебность ко всему, что воспринимается пятью чувствами. Всякий из вас, конечно, испытывал то особенное, противное, как кислое вино, настроение вялости и томительной пустоты мысли, когда все окружающее совершенно теряет смысл. Я переживал то же самое, с той лишь разницей, что светлые промежутки становились все реже и, наконец, постепенно исчезли, уступив место холодной мертвой прострации, когда человек живет машинально, как автомат, без радостей и страданий, смеха и слез, любопытства и сожаления; живет вне времени и пространства, путает дни, доходит до анекдотической рассеянности и, в редких случаях, даже теряет память.
Случай показал мне, что я достиг этого состояния трупа. На площади, на моих глазах, днем, огромный фургон, нагруженный мебелью, переехал одно из безобидных существ, бегающих с картонками, разнося шляпы и платья. Подойдя к месту катастрофы (не из любопытства, а потому, что нужно было перейти площадь) тем же ровным ленивым шагом, каким все время я шел, — я машинально остановился, задержанный оравой разного уличного сброда, толпившегося вокруг бледного, как известка, погонщика. Девочка лежала у его ног, лицо ее, густо запачканное грязью, было раздавлено. Я видел только багровое пятно с выскочившими от боли глазами и светлые вьющиеся волосы. Сбоку валялась опрокинутая картонка — причина несчастья. Как говорили в толпе, фургон ехал рысью; малютка уронила свою ношу под самые ноги лошадей, хотела схватить, но упала, и в то же мгновение пара подков превратила ее невыспавшееся личико в кровавую массу.
Толпа страшно шумела, выражая свое негодование; трое полицейских с трудом удерживали дюжих мещан, желавших немедленно расправиться с погонщиком. Я видел слезы на глазах женщин, слышал их всхлипывания и, постояв секунд пять, двинулся дальше.
Повторяю: я все это видел и слышал, но мои нервы остались совершенно покойны. Я не чувствовал этих людей, как живых, страдающих, потрясенных, рассерженных, я видел одни формы людей, колеблющиеся, размахивающие руками; черты лиц, меняющие выражение; слышал то громкие, то тихие восклицания; шумные вздохи прибежавших издалека; но это были только звуки и линии, формы и краски, неспособные дать мне малейшее представление о чувствах, волновавших толпу. Я был спокоен; через двадцать шагов началась улица, я зашел в табачную лавку и купил запонки.
Вечером, механически перелистывая книгу истекшего дня, я заинтересовался своим отношением к жизни как раз по поводу вышеописанного происшествия. Быть может, вы замечали, что зрелище поденщика, раскалывающего дрова под вашим окном, вызывает в вас настолько ясные представления о мускульных усилиях дровокола, что вы сами испытываете некоторое внутреннее напряжение всякий раз, когда топор взвивается над поленом. Ритм жизни, кипевший вокруг меня, можно было сравнить именно с движениями человека, занятого трудной работой; но я лишь гальванически отражал ее. Такое состояние духа, вероятно, никогда не доставило бы мне малейшей тревоги, если бы не неимоверная скука, порождавшая раздражительность и тоску. Я не находил себе места; родственники с тревогой следили за моим поведением, так как я терял аппетит, худел и делался невыносим в общежитии, внося своей неуравновешенностью полный разлад в семью.
Разумеется, я много размышлял о себе и сделал ряд наблюдений, одно из которых явилось для меня фонарем, бросившим свет на темные, полусознательные пути моего духа. Так, я заметил, что чувствую некоторое удовлетворение, совершая загородные прогулки, вдали от зданий. Надо сказать, что с самого детства зрительные ощущения являлись для меня преобладающими, комплекс их совершенно определял мое настроение. Эта особенность была настолько сильна, что часто любимые из моих мелодий, сыгранные в отталкивающей обстановке, производили на меня неприятное впечатление. Основываясь на этом, я постарался провести параллель между зрительными восприятиями города и загородного пейзажа. Начав с формы, я применил геометрию. Существенная разница линий бросалась в глаза. Прямые линии, горизонтальные плоскости, кубы, прямоугольные пирамиды, прямые углы являлись геометрическим выражением города; кривые же поверхности, так же, как и кривые контуры, были незначительной примесью, слабым узором фона, в основу которого была положена прямая линия. Наоборот, пейзаж, даже лесной, являлся противоположностью городу, воплощением кривых линий, кривых поверхностей, волнистости и спирали.
От этого определения я перешел к краскам. Здесь не было возможности точного обобщения, но все же я нашел, что в городе встречаются по преимуществу темные, однотонные, лишенные оттенков цвета, с резкими контурами. Лес, река, горы, наоборот, дают тона светлые и яркие, с бесчисленными оттенками и движением красок. Таким образом, в основу моих ощущений я положил следующее:
Кривая линия. Прямая линия. Впечатление тени, доставляемое городом. Впечатление света, доставляемое природой. Всевозможные комбинации этих основных элементов зрительной жизни, очевидно, вызывали во мне то или другое настроение, колеблющееся, подобно звукам оркестра, по мере того, как видимое сменялось передо мной, пока чрезмерно сильная впечатлительность, поражаемая то одними и теми же, то подобными друг другу формами, не притупилась и не атрофировалась. Что же касается загородных прогулок, то относительно благотворное действие их являлось чувством контраста, так как в городе я проводил большую часть времени.
Продолжая углубляться в себя, я пришел к убеждению, что именно однообразие, резко ощущаемое мной, является несомненной причиной моего угнетенного состояния. Желая проверить это, я перебрал прошлое. Там ничего не было такого, что не переживалось бы другими людьми, и, наоборот, не было ничего доступного человеческой душе, чего не испытал бы и я. Разница была только в форме, обстановке и интенсивности. Разлагая свою жизнь на составные ее элементы, я был поражен скудостью человеческих переживаний; все они не выходили за границы маленького, однообразного, несовершенного тела, двух-трех десятков основных чувств, главными из которых следовало признать удовлетворение голода, удовлетворение любви и удовлетворение любопытства. Последнее включало и страсть к знанию.
Мне было двадцать четыре года, а в молодости, как известно, человек склонен к категорическим заключениям и выводам. Я произнес приговор самому себе. Одна из летних ночей застала меня полураздетым, с твердым решением в голове и стальной штукой в руках, заряженной на семь гнезд. Я не писал никаких записок: мне было совершенно все равно, как будут объяснять причину моей смерти. Взведя курок, я вытянулся, как солдат на параде, поднес дуло к виску и в тот же момент на стене, с левой стороны, увидел свою тень. Это было мое последнее воспоминание; тотчас же судорожное сокращение пальца передалось спуску, и я испытал нечто, не поддающееся описанию.
К сознанию меня возвратил резкий стук в дверь. Очнувшись, я мгновенно припомнил все происшедшее. Револьвер, хотя и давший осечку, возбуждал во мне невыразимое отвращение; обливаясь холодным потом, я отбросил его под стол ударом ноги и, шатаясь, открыл дверь. Горничная, вошедшая в комнату с кофейным прибором, взглянув на меня, выронила поднос. Я успокоил ее, как мог, сославшись на бессонницу. Был день, я пролежал без сознания семь часов.
Странно — но этот эпизод развлек меня и заставил сосредоточиться на только что пережитых ощущениях. Меня удивлял пароксизм ужаса перед моментом спуска курка. Инстинкт, не подвластный логике, цеплялся за жизнь, которая от общих своих основ и до самых последних мелочей была мне противна, как хинин здоровому человеку. Терзаясь этим противоречием, я чувствовал себя связанным по рукам и ногам. И вне и внутри меня, соединенный через тоненькую преграду — человеческий разум, клубился океан сил, смысл и значение которых были понятны мне столько же, сколько нож вивисектора понятен для обезьяны. И я, подобно тряпке, опущенной на дно быстрой речки, плыл, колеблясь от малейшей струи течения, из темного в неизвестное. Я был не я, а то, что давали мне в продолжение тридцати лет глаз, ухо и осязание.
Последовавший затем период отчаяния достиг такой напряженности, что я шесть дней не выходил из дома. Не знаю, выпил ли кто-нибудь за такой промежуток времени столько, сколько, расхаживая по комнате, выпил я. Вино обращалось в пожар, сжигающий мозг и кровь то светлыми, то отвратительными видениями тоски. Это был пестрый танец в тумане; цветок вина, уродливый, как верблюд, и нежный, как заря в мае; увлечение отчаянием, молитва, составленная из богохульств; блаженный смех в пытке, покой и бешенство. Я громко рассуждал сам с собой, находя огромное наслаждение в звуках собственного голоса, или лежал часами с ощущением стремительного падения, или сочинял мелодии, равных которым по красоте не было и не будет, и плакал от мучительного восторга, слушая их беззвучную, окрыляющую гармонию. Я был всем, что может представить человеческое сознание, — птицей и королем, нищим на паперти и таинственным лилипутом, строящим корабли в тарелку величиной.
Через шесть дней, в середине ночи, я проснулся от мгновенной тревоги, поднявшей волосы на голове дыбом, и тотчас же, дрожа от беспричинного страха, зажег огонь. Кроме меня, в комнате никого не было; только из большого туалетного зеркала смотрело лицо, воспаленное пьянством, страшное и жалкое. Это было мое лицо. С минуту я смотрел на него, не узнавая себя, потом встал, оделся, подгоняемый беспокойством и стремлением двигаться, и вышел на улицу.
Все спали, но ключ от входной двери был у меня, и я, не разбудив швейцара, покинул дом, направляясь к Новому мосту. Шел я без всякой цели, но быстро, как человек, боящийся опоздать, и помню, рассердился, когда какой-то прохожий, шедший впереди, то с левой, то с правой стороны тротуара, не сразу посторонился. Воздух был свеж и тих, я жадно глотал его и шел, все ускоряя шаги. У моста я остановился, свернул в боковую улицу и, проходя квартал за кварталом, достиг рынка. По мостовой, скользкой от сырости овощного мусора, беззвучно перебегали собаки, прячась за тумбами. Почувствовав небольшую усталость, я присел на огромный дырявый ящик и стал курить.
Нервы мои были так напряжены, что я чувствовал движение времени, отмечая его малейшим сокращением мускулов, неровностью дыхания и тяжелым, бесформенным течением мысли. Я не существовал, как целое; казалось, разбитое и собранное вновь тысячами частиц тело мое страдало физическим страхом перед новой смутной опасностью. В это время два человека вышли из-за угла и тщательно осмотрелись, светя ручным фонариком.
Пространство, разделявшее нас, было не более двух шагов, и я мог достаточно хорошо рассмотреть обоих, оставаясь сам незамеченным, так как столб, подпиравший навес лавок, скрывал мою особу. Один, с оплывшим от спирта угрюмо-благообразным профилем, одетый в коротенькую жакетку с поднятым воротником и котелок, державшийся на затылке, проворно сыпал как будто бессмысленными, ничего не говорящими фразами, набором слов, где общие выражения сталкивались и мешались с лексиконом, подобным тарабарскому языку. Другой, маленький, нервный, в старом пальто, с лицом сморщенной обезьяны, то и дело хватался за поля шляпы, двигая ее взад и вперед, как будто голова его испытывала нестерпимую боль от прикосновения головного убора. Он настойчиво возражал, иногда возвышая свой и без того тонкий гнусавый голос, и беспомощно мотал подбородком, выражая этим, по-видимому, сомнение. Фонарик он судорожно сжимал левой рукой, и тень от его большого пальца, опущенного на стекло, падала огромным пятном в освещенный угол земли, между ящиком и запертой дверью здания.
Я скоро бы разобрал, кто эти люди, ведущие спор ночью, в глухом месте — будь мое соображение несколько посвежее; но в тот момент я тупо смотрел на них, удивляясь лишь странной манере говорить. Оба они, появившиеся так внезапно и тихо, казались видениями яркого сна, навязчивыми образами, преследующими расстроенный мозг. Я, кажется, ожидал их исчезновения; по крайней мере ничуть бы не удивился, расплывись они в воздухе клубом дыма. Но оба, поговорив, сунули руки в карманы и мелким деловым шагом пошли в сторону.
Я безотчетно встал и пошел за ними, смутно догадываясь, что два вора выходят ночью не на пищеварительную прогулку, и втайне радуясь маленькому, слегка таинственному развлечению — видеть лоскут ночной жизни, так резко отличающейся от дневной, но подчиненной смене одних и тех же законов, знакомых, как лицо родственника. Ночь, с ее кошками, скрытым от глаз пространством, ворами, бродягами, приближающими в темноте странно блестящие глаза к вашему ожидающему лицу; с нарядно одетыми женщинами, дающими впечатление голых; с тишиной звука и звенящим молчанием — таинственна потому, что в недрах ее у бодрствующих начинает оживать все, убитое законами дня. И я, следуя по пятам за крошечным пятном фонаря, скользившего медленными зигзагами с плиты на плиту, чувствовал себя глазом ночи, причастным ее секретам, хитростям, целям и ожиданиям. Я был соглядатаем, участником из любопытства, звеном между мраком и воровским замыслом. Стараясь шагать беззвучно, я инстинктивно опускал ноги краем подошв и шел бесшумно, как зверь.
Те, за кем я следил, шли безостановочно и уверенно; они, видимо, двигались прямо к цели. Миновав соборную площадь и завернув к реке, они остановились у каменного пятиэтажного дома с огромным подъездом и тотчас же, не теряя времени, приступили к делу.
Я спрятался за угол дома и мог видеть, как маленький завертел руками, пытаясь сломать замок. Должно быть, это оказалось нелегким, потому что сухой треск железа повторялся раз пять, то слабее, то резче, а руки, опытные, проворные руки вора двигались с прежним усилием. Товарищ его то и дело совал ему что-то; маленький брал, кряхтя от нетерпеливой тревоги, и снова начинал взлом. Арсенал хитрых соображений и механических фокусов был пущен в ход перед моими глазами. И вдруг явилось желание попробовать счастья самому, стать вором на час, красться, таиться, разрушать без звука, ходить на цыпочках в незнакомой квартире, брать со страхом, рыться в столах и ящиках и бережно заглядывать в лица спящих светлой щелью фонарика.
Не раздумывая, я встал и твердым шагом пошел к подъезду. И тотчас же увидел мирных прохожих, слегка подвыпивших, но еще бодрых. Котелок сказал обезьяне:
— Позвольте попросить у вас закурить, я потерял спички.
— Пожалуйста, сударь, — ответил маленький, пристально окидывая меня взглядом. — Боюсь, не отсырели ли спички.
— Спички? — сказал я, поворачиваясь в их сторону, — спички есть у меня. Берите.
И я протянул ему спичечницу. Котелок взял ее, пожирая меня глазами. Маленький судорожно поклонился, пискнув:
— Вы очень вежливы!
— Да, по мере возможности! — Я улыбнулся как можно приятнее и раскланялся. — Надеюсь, вас это не обманет? К тому же у меня всегда сухие спички.
— Вы чрезвычайно вежливы, — настойчиво повторил маленький.
— Да, это странно, — отозвался глухим басом другой. — Какая нынче прекрасная погода!
— Погода так хороша, — подхватил я, — что даже не хочется сидеть дома, не правда ли?
Он, не сморгнув, ответил:
— Не отсыреют ли ваши спички, сударь? Воздух немного влажен и не совсем годен для здоровья.
— Другими словами, — сказал я, потеряв терпение, — я вам мешаю? Дверь эта крепкой конструкции.
Они еще силились улыбнуться, но тут же отступили назад, тревожно оглядываясь. Я подошел к ним вплотную.
— Вас двое, — сказал я, — против одного, значит, бояться нечего, тем более, что я вам вредить не буду. Я человек любопытный, ночной шатун — человек, любящий приключения. Я хочу войти вместе с вами и украсть на память о сегодняшней ночи то, что придется мне по душе. Вероятнее всего я возьму какую-нибудь безделушку с камина, значит, вас не ограблю. Итак, вперед, Картуши, Ринальдини, коты в сапогах, валеты и жулики! Я войду с вами, как тень от вашего фонаря.
И только я закрыл рот, как оба повернулись и неторопливо пошли прочь, теряясь в сумраке. Они меня не боялись, это доказывал их презрительно-мерный шаг, но и не доверяли моей навязчивости. Шаги их звучали еще некоторое время, потом все стихло, и я остался один.
Тогда я подошел к двери и тщательно ее осмотрел. Это была большая дверь стильных домов, с бронзой и матовыми стеклами. Чиркнув спичкой, я осветил замочную скважину; она носила следы взлома, медный кружок был сбит, и, кроме того, рядом с дверной ручкой зияли два свежепросверленные отверстия. Машинально я потянул ручку; к величайшему моему удивлению, дверь раскрылась совершенно свободно, как днем.
С минуту я стоял неподвижно, так как не ожидал этого. Они сделали свое дело, и я помешал им войти на лестницу. Я мог теперь воспользоваться плодами чужих трудов и, если соображение и находчивость придут на помощь, войти в любую квартиру. Мысль эта привела меня в состояние сильнейшего возбуждения — я был уже вором, испытывая страх, нетерпение и острую жажду неизвестного, лежащего за каждым порогом. Я чувствовал себя скрытным, ловким, бесшумным и осторожным.
Тщательно притворив за собой дверь, я медленно распахнул вторую, внутреннюю. Было темно и тихо, толстый ковер площадки мягко уперся в мои подошвы, как бы приглашая идти смелее. С сильно бьющимся сердцем прошел я мимо каморки швейцара, поднялся по лестнице и остановился у первой двери.
И тотчас же мое напряжение сменилось чувством усталости, смешанным с тревожным разочарованием. Мне нечем было открыть дверь. Без инструментов и ключей — и, даже будь у меня орудия, без знания, как употребить их — я должен был неизбежно возвратиться назад с сознанием, что разыграл дурака. И, значит, все, что произошло ночью, было бесцельно; весь ряд случайностей, связанных одна с другой, — рынок, разговор двух, взлом двери и то, что я вошел сюда, в спящий дом, — все это произошло только затем, чтобы я мог уйти снова, бесшумно и незаметно.
Мысль эта показалась мне настолько абсурдной, что я громко расхохотался. Конечно, я не был простым вором, иначе я был бы уже в любой квартире и чувствовал себя там хозяином. Я не был даже вором в том смысле, что мною руководила корысть, связанная с риском преступления. Я не хотел ничего брать; я шел, увлекаемый тайной, предчувствием неизвестного, порогом чужой жизни, тревогой бессонницы и смутным предчувствием логического конца. И от этого удовлетворения меня отделяла дверь, открыть которую я не мог.
— Если конец должен быть, дверь откроется.
Я машинально прошептал эти слова, но тотчас же смысл их вспыхнул, как порох от угля. В самом деле, я еще не пробовал открыть дверь! Тогда, замирая от ожидания, я отыскал ручку и тихо, медленно сокращая мускулы, потянул к себе дверь. Она была заперта.
Новый прилив возбуждения схлынул — я отошел и уселся на подоконнике, ноги мои дрожали. Растерявшись, не будучи в состоянии предпринять что-нибудь, я вытащил портсигар и стал курить.
Прошла минута, другая; табак постепенно оказывал свое действие. Волнение улеглось, мысль текла спокойнее, но так же напряженно и резко, с болезненной отчетливостью каждого слова, выступавшего, как напечатанное, всеми буквами. Какой мог быть конец? Я представил себе, что дверь открыта, и я блуждаю по темным комнатам. Передняя, гостиная, зал, кабинет, спальня и кухня — вот пространство, которое я мог обойти и увидеть то, что знакомо, — обстановку средней руки; самое большее, лица спящих. Итак, постояв минут пять в потемках с риском быть пойманным, как грабитель, я должен уйти тихо и осторожно, как настоящий вор. Отсюда напрашивались два заключения: 1) входить незачем; 2) конца не будет.
И хотя была очевидна правильность моего рассуждения, глухое бешенство сбросило меня с подоконника, как ветер — клочок бумаги. Я подошел к двери с дерзостью отчаяния, с страстным желанием войти и убедиться, что ничего нет. Логика приводила меня к бессилию, рассуждение — к отступлению, простое бессознательное движение мысли — к мертвому тупику. Я бросился на штурм своего собственного рассудка и поставил знамение желания там, где была очевидность. В несколько секунд я пережил столкновение сомнений и несомненности, иронии и экстаза, страха и ожидания; и когда, наконец, ясная твердая решимость остановила лихорадочную дрожь тела — почувствовал себя таким разбитым и ослабевшим, как будто по мне бежала толпа. Я — знал, что будет.
Несомненным, действительно несомненным было для меня то, что ни квартиры, ни мебели, ни людей нет. Есть неизвестное. То, к чему невольно, непреодолимо, неизбежно пришел я ночью, не зная, что меня ждет. Я стоял на пороге чуда. Я стоял перед всем и перед ничем. Я стоял перед смыслом рынка, котелка, обезьяны, взломанной двери, коробки спичек и своего присутствия.
Тогда, против моей воли, скрытое стало приобретать зрительные образы, цвета воспаленной мысли. Симфония красок кружилась перед моими глазами, и переливы их были музыкальны, как оркестровая мелодия. Я видел пространство, границами которого были звуки, музыка воздуха, движение молекул. Я видел роскошь бесформенного; материю в ее наивысшей красоте сочетаний; движущиеся узоры линий; изящество, волнующее до слез; свет, проникающий в кровь. Я был захвачен оргией представлений. И бессознательно, как хозяин, вынул из бокового кармана ключ.
Момент, когда мне показалось, что все это было, и я уже когда-то стоял так же на лестнице, был мал, как движение крыльев стрижа, порхающего над озером. Я с трудом уловил его. И, погрузившись в себя, замер от ожидания.
Ключ был в моих руках, маленький, медный ключ не от этой двери, но я уже знал, что войду. Уверенность моя была так велика, что я даже не удивился, когда, вложив его в скважину, услышал, как замок щелкнул мягким, странно знакомым звуком. Я волновался так сильно, что принужден был остановиться и переждать припадок сердцебиения. Затем отворил дверь и, шагнув, очутился в темном, нагретом воздухе.
Не помню в точности, что переживал я тогда. Прямо был коридор; я угадал это по особому ощущению тесноты, хотя и не прикасался к стенам. Я двигался по нему как во сне, не зажигая спички, руководимый инстинктом, и, когда сделал десять шагов, понял, что надо остановиться. Почему? Я сам не знал этого. Тело мое было неудержимо и как будто привычно стремилось направо, где, по смутно мелькнувшему убеждению, должна была находиться дверь.
Я шел на цыпочках, сдерживая дыхание… Прежде чем повернуть вправо, я невольно поколебался. Почему — дверь? Я протянул руку, ощупывая ее, и тут, второй раз, неуловимо, как тень от выстрела, скользнуло воспоминание, что этот момент был. Я так же, но неизвестно когда, стоял в темноте коридора, щупая дверь.
Отчаянный страх парализовал мои члены. Ясно, всем существом своим я чувствовал, что сейчас произойдет что-то невообразимое, абсурдное, невозможное. Трясущимися руками я достал спичку, зажег ее и, прежде чем осмотреться, невольно закрыл глаза. Сколько времени я простоял так — не помню, но когда огонь приблизился к пальцам и боль начинающегося ожога дала знать, что сейчас снова наступит тьма, — я взглянул, и в тот же момент спичка погасла, тлея кривой искрой. Но, несмотря на краткость момента, я увидел, что в стене направо действительно была дверь и что я стою в коридоре. Тогда я распахнул дверь, вошел и снова зажег свет.
Это была моя комната; все, начиная с мебели к кончая безделушками на камине, — было мое: картины, оконные занавески, книги, посуда, пол, потолок, обои, письменные принадлежности — все это было известно мне более, чем свое собственное лицо. С тяжестью в сердце, беспомощный сообразить что-нибудь, я обошел все углы, и каждый предмет, который встречали глаза, был мой. Ни одной вещи, способной опрокинуть кошмар чудовищного сходства, не было. Я был у себя.
Тогда, хватаясь за последнюю, безумную в основе надежду, я подался к кровати, отдернул занавески и увидел спящего человека. Человек этот был — я.
Здесь Бирк остановился, как бы собираясь с воспоминаниями. Последние его слова заставили многих переглянуться. Он продолжал:
— Я вышел на лестницу, спустился к швейцару, разбудил его и увидел заспанное, бритое, знакомое лицо. Овладев собой, я попросил его войти в мою комнату, осмотреть ее и вернуться. Он повиновался с некоторым удивлением; помню, шлепанье его туфель доставило мне огромное удовольствие. Через минуту он возвратился, и между нами произошел следующий разговор:
— Вы осмотрели всю комнату?
— Да.
— В ней никого не было?
— Совершенно.
— Вы осмотрели кровать?
— Да.
— Кто лежал на этой кровати?
— Она была пуста.
— Теперь, — сказал я, — будьте добры, взгляните на наружную дверь.
С изумлением, еще большим, чем прежде, он вышел на тротуар. Я слышал его возню, он нагибался, рассматривал и вдруг крикнул:
— Здесь были воры! Дверь сломана!
И он выпустил град ругательств.
Так как Бирк замолчал, я обратился к нему с вопросом.
— Потом вы вернулись к себе?
— Нет, — протянул он, полузакрывая глаза, — я ночевал в гостинице. Впрочем, это не имеет значения. Я мог бы, конечно, вернуться к себе, но чувствовал потребность успокоиться.
— А потом? — спросил журналист с тонкой улыбкой. — Потом с вами ничего не было?
— Ничего, — задумчиво сказал Бирк. Он был, видимо, утомлен и сидел, подпирая рукой голову. Больше ему не задавали вопросов, но в общем молчании веяло неясное ожидание. Наконец, хозяин сказал:
— Ваша история, действительно, чрезвычайно интересна. В ней много стремительной напряженности, экспрессии и… и…
— Игоря, — сказала женщина, просившая о нестрашном.
P.S. Записав этот рассказ, я пришел к убеждению, что дама ошиблась, предположив в истории Бирка элемент горя. Этот человек был всем нам известен, как очень богатый землевладелец, путешественник и гурман. Правда, его никто ни разу не уличал во лжи. Но как поручиться, что ему не пришло в голову желание искусной и, по существу, невинной мистификации? Также странно, что он говорил о себе, как о человеке, лишенном воображения; по-моему, то место в его рассказе, где он грезит перед запертой дверью, доказывает противное. Не менее подозрительны его слова в самом начале: «Я готов развернуть перед вами душу, и если вы поверите ей, — самый факт необычайного, который, по-видимому, более всего вас интересует, потеряет в ваших глазах всякое обаяние. Впрочем, я не берусь утверждать что-нибудь определенное без доказательств в руках». В его пользу говорит только одно: он ни разу не улыбнулся.
История одного убийства
I
За окнами караульного помещения бушевал резкий, порывистый ветер, потрясая крышу ветхого здания и нагоняя скучную, зевотную тоску. В самой караулке, у деревянного крашеного стола, кроме разводящего, сидели еще двое: рядовой Банников и ефрейтор Цапля. Разводящий, младший унтер-офицер, сумрачный, всегда печальный человек, лениво перелистывал устав строевой службы, время от времени кусая краюху ржаного хлеба, лежавшую на столе. Ему смертельно хотелось спать, но он пересиливал себя и притворялся погруженным в изучение воинской премудрости. К тому же минут через двадцать надо было вести смену. А кроме этого, он не решался вздремнуть из боязни караульного офицера, который каждую минуту мог заглянуть на пост и сделать ему, разводящему, строгий выговор, а то и посадить под арест. И хотя он завидовал часовым, имеющим возможность через каждые два часа стояния на посту спать целых четыре, но сознание своего служебного положения и превосходства заставляло его еще шире раскрывать сонные глаза и усиленно шевелить губами, запоминая непреложные догматы строевой дисциплины.
Цапля взял листик махорочной бумаги и, вытащив из штанов огрызок карандаша, при свете жестяной лампы нарисовал, помогая себе языком и бровями, подобие порохового погреба и маленькую фигурку часового. Часовой вышел кривым на один глаз и безногим, так что казалось, будто он стоит по колено в земле, но Цапля, тем не менее, остался весьма доволен рисунком. Он прищурился, захохотал, отчего вздрогнули его полные, мясистые щеки, потом сказал, протягивая бумажку Банникову:
— Смотри, Машка, — это кто?
Банников всегда служил предметом насмешек Цапли и теперь не сомневался, что ефрейтор изобразил его, Банникова, но не обиделся, желая угодить начальству, и сказал, ласково улыбаясь глазами, нежными, как у молодой девушки:
— На кого-то страсть похож. Никак Алехин?
Алехин был солдат, стоявший в это время на часах. Цапля помолчал немного, придумывая, что бы такое сказать поязвительнее Банникову, и вдруг прыснул:
— Это, Машка, ты! Вот ты эдак, расщеперившись, стоишь.
Банников молча улыбнулся, взял нож и отрезал кусок хлеба от каравая.
— Ужин-то не несут, кашицу-то нашу, — сказал он. — Дай-кось хлебца хошь пожую, что-то есть охота.
Разводящий поднял голову. У него было худое, загорелое лицо и маленькие черные усы. Он протянул руку к Цапле и сказал, зевая:
— Покажь!
Цапля подал рисунок унтеру и глупо захохотал.
— Машка, расщеперившись, стоит, — с трудом сказал он сквозь смех. — Не хочет признавать своего патрета.
— Вовсе не похож, — сказал разводящий. — Банников — парнишка румяный, как яблочко, а ты огородную чучелу изобразил.
Цапля надулся. Он ожидал, что унтер поддержит его, и они вдвоем подымут на смех молодого солдата, прозванного «Машкой» за скромность и застенчивость. Он пожевал губами и сказал:
— Сущая девка энтот Банников. Банников! А может, ты девка переряженная, а?
Унтер улыбнулся, жуя хлеб. От движений челюстей шевелились его маленькие, острые усы, и казалось, что они помогают жевать.
Довольный Цапля продолжал.
— Позавчера в газетах писали, будто Банников наш к ротному ночевать ходит. Правда, штоль, ась, Банников?
Банников смотрел в стену и конфузливо улыбался, ожидая, когда кончится у Цапли прилив веселости. Потом шмыгнул носом, покраснел и сказал, проглотив хлеб:
— А пускай их пишут! Попишут да и перестанут. Скоро, чай, сменяться. Смена-то моя ведь!
— Ну, так что? — спросил Цапля.
— Кашицу долго не несут, — зевнул Банников. — Без горячего скушно.
— Ишь ты, деревенский лапоть, — наставительно сказал унтер, хотя сам с удовольствием похлебал бы теперь горячей жидкой кашицы. — Солдат по уставу безо всякой кашицы должен обойтись. Терпеть и голод и холод.
— Да ведь это… оно… так, например… только словесность, — тихо произнес Банников. — А есть каждому полагается!
— На службе мамки и тятьки нет, — зевнул разводящий. — Цапля, давай чай пить. Все равно энту кашицу принесут холодную. Вон Банников за кипятком сбегает. Давай копейку, Банников, на кипяток, будешь с нами чаевать.
— Сейчас бегу, — сказал Банников, вставая и откладывая в сторону недоеденный ломоть. — Только мне не поспеть уже чай пить — чичас на смену.
— Ну, на смену! Еще четверть часа тебе слободы, а коли што, Алехин обождет малость. Беги-ка, беги скоренько!
Банников вышел из-за стола, поправил ремень, оттянутый патронной сумкой, снял с гвоздя медный чайник и спросил:
— Куда идти-то? Чай, заперто везде.
— В Ерофеев трактир беги, Машка! — крикнул Цапля, часто моргая белыми ресницами серых навыкате глаз. — На Колпинской, возле часовни. Там дадут, не заперто.
— Ладно, — сказал Банников отворил дверь и вышел.
II
Банников служил первый год и часто со страхом думал, что службы осталось еще три долгих, тяжелых года. Первые недели и даже месяцы службы нравились ему новизной обстановки, строгим, деловитым темпом. Потом, когда не осталось ничего нового и интересного, а старое сделалось заезженным, скучным и обязательным, его стала тяготить строгость дисциплины и общество чужих, раздраженных и тяготящихся людей, согнанных в глухой уездный город со всех концов страны. Банников был грамотный, добродушный крестьянин, застенчивый и мягкий. Лицо его даже на службе сохранило какую-то женскую округлость и свежесть розовых щек, пушистых бровей и ресниц, что было причиной постоянных, скорее бессмысленных, чем обидных шуток и прозвищ, вроде «Машки», «Крали», «Анютки». С первых же дней службы, приглядевшись к отношениям людей, окружавших его, он понял, что молодому и неопытному солдату легче всего служить, угождая начальству. Он так и делал, но его никто не любил и не чувствовал к нему ни малейшей симпатии. Покорность и угодливость — козыри в жизненной игре. Но в покорности и угодливости Банникова слишком чувствовались и вынужденность и сознательная умеренность этих качеств. Когда он подавал сапоги или винтовку, вычищенные им, своему взводному или по первому слову бежал в лавочку, тратя свои деньги, у него всегда был вид и выражение лица, говорящие, что это он делает без всякой приятности, но и без злобы, потому что так нужно, потому что он в зависимости и знает, как сделать, чтобы жилось легче. Это чувствовалось, и хотя к Банникову не придирались так, как к другим, но всегда при удобном случае давали ему понять, что всякая провинность будет взыскана с него так же, как и с других. Но Банников был всегда молчалив, внимателен, исполнителен и сосредоточен.
Он купил в трактире чаю, сахару на две копейки, кипятку, вышел на улицу и почти бегом, придерживая на ходу чайник, направился через площадь в сторону порохового склада. Ветер свистел ему в уши и стегал лицо резкими вздохами. На ходу Банников заметил, что кипяток не горячий, а только теплый, и это обстоятельство было ему неприятно. «Еще ругаться будут за мои же деньги, — думал он, зажмуривая глаза от ветра и наклоняя голову. — Разводящий-то еще ничего, а вот Цапля проклятая начнет глупость свою выказывать». — Эта служба — ой, ой, ой! — вслух вздохнул он, обращаясь к невидимому слушателю. — Только бы отслужить как-нибудь, уж черт бы ее взял!
Когда перед ним в темноте скорее почувствовались, чем обрисовались черные силуэты погребов, а за ними мелькнуло освещенное окно караулки, Банникова остановил хриплый, простуженный голос Алехина. Часовой крикнул:
— Эй, кто идет?
— Свои, Банников.
— А смена скоро, не знаешь?
— Надо быть, скоро, — подумав, ответил Банников. — Надо быть, эдак, с четверть часа, што ли, еще тебе стоять.
В ответ послышалось легкое насвистывание гопака. Банников хотел уйти, как вдруг Алехин сказал:
— Караульный офицер был.
— Ну? Был? А что?
— Да ничего. Кабы не заметил, что ты был ушодчи.
— Ну-у! — с сомнением протянул Банников. Однако смутная тревога охватила его и задержала дыхание. Он подошел к караульному помещению и отворил дверь.
III
Когда Банников ушел, Цапля свернул папироску, лег на грязные, лоснящиеся доски нар, поднял ноги вверх и стал болтать ими в воздухе, постукивая каблуком о каблук. Он был в дурном настроении оттого, что его, ефрейтора, выпущенного из учебной команды, послали в караул часовым, как какого-то Банникова. Правда, это случилось из-за нехватки солдат, но все-таки мысль о том, что он должен, как простой рядовой, сменять Банникова или Алехина, которые чистят ему сапоги и винтовку, выводила его из душевного равновесия. С разводящим они одногодки, однако тот уже младший унтер, имеет две нашивки и получает три рубля жалованья, а он, Цапля, все еще ефрейтор. Непонятно и унизительно. От скуки ему захотелось подразнить разводящего, и он сказал, пуская табачный дым колечками к потолку:
— Петрович! А, Петрович!
— Ну, — отозвался унтер, закрывая устав. И так как Цапля молчал, придумывая, что сказать, добавил: — Я, брат, вот уже двадцать три года Петрович!
— А не зря ли мы Машку послали? — как бы рассуждая сам с собой, продолжал Цапля. — Зря, право, зря!
— А почему зря? — спросил разводящий, вынул карманное зеркальце и, боком поглядывая в него, раздавил прыщ около носа. — Почему, ты говоришь, зря?
— Как бы караульный офицер не пришел. Застанет на грех, да облает, а еще, того гляди, в карцер запрячет.
— Придет — скажу, что ушел часовой, мол, по своей надобности, — и вся недолга.
— Ой, придет, чует моя печенка, — продолжал Цапля. — Этот Циммерман имеет обнакновение спозаранку. Мне из его четвертой роты сказывали.
— И врешь же ты все, Цапля! — с досадой сказал разводящий. — Экий у человека брешливый язык!
— А вот с места не сойти! А ты маленький, что ли, не понимаешь, караулы-то они вон на каком расстоянии. Конечно, зачнет ходить пораньше.
— Да будя тебе брехать. — сказал разводящий, отрезая новый ломоть хлеба. — Спи, околей до чаю.
— А вот он идет! — вскричал Цапля, глядя в окно и нарочно приподнимаясь, чтобы разводящий поверил ему. На самом же деле он никого не видел, да и глубокий мрак, висевший за окном, не позволял ничего видеть.
В это время за дверью караульного помещения раздались медленно-приближающиеся шаги. Разводящий подумал, что идет Банников, но что Цапля принимает шаги солдата за приближение офицера. Поэтому он решил сам напугать Цаплю, встал из-за стола и запер дверь на крючок.
— Не пущу его, — сказал он, держа руку у крючка, — твоего Циммермана. Нехай тем же поворотом гарцует обратно.
Кто-то дернул дверь, крючок брякнул и замер. Но Цапля уже действительно не на шутку испугался и вскочил с нар.
— Эй, Петрович, отпирай ему! — крикнул он. — Ведь и в самом деле…
Разводящий заторопился, снимая крючок, сообразив, что Банников в самом деле не мог вернуться так скоро. Но железо как-то не слушалось его вдруг задрожавших пальцев и неловко скользило в петле.
— Вот дурака валяет! — взволновался Цапля. — Шутки шутками, а в самом де…
Сильный удар в дверь потряс стены ветхого здания караулки так, что задребезжали стекла и огонь испуганно затрепетал в лампе. Разводящий отпер. Раздалось энергичное ругательство, дверь с силой распахнулась настежь, и взбешенный офицер быстрыми шагами вошел в помещение.
Цапля уже стоял, вытянув руки по швам. Разводящий взял под козырек, крикнул: «Смиррно!» и побледневшими губами пытался пролепетать рапорт. Лицо его из грустного и сонливого сделалось вдруг жалким и растерянным.
— Ваше благородие, в карау… — начал было он, но Циммерман раздраженно махнул рукой.
— Чего запираешься, черт! — крикнул он, бегая серыми обрюзгшими глазами с разводящего на Цаплю. — С девками вы, что ли тут, сволочь?
— Простите, вашебродь, — сказал унтер голосом, пересекающимся от волнения. — От ветру… дверь. Ветром отводит… Я на крю… хотел припереть… вашбродь!
Офицер смотрел на него в упор, засунув руки в карманы пальто и как бы ожидая, когда солдат кончит свои объяснения, чтобы снова разразиться бранью. Циммерман был невысок, сутуловат, с длинной шеей и брюзгливым, птичьим лицом. Он ударил ладонью по столу и сказал:
— Постовую ведомость!
Разводящий заторопился, вынимая бумагу из брюк. В это время офицер нагнулся и посмотрел под нары. Не найдя там никого, он немного успокоился и сказал:
— Где третий?
У разводящего захолонуло сердце, но он притворился спокойным и быстро проговорил:
— Банников… вашбродь… так что вышел за своей нуждой…
— Позови его! — сказал офицер утомленным голосом, разглядывая стены. — Позови его!
Цапля стоял, возбужденно переминаясь с ноги на ногу, и испуганно смотрел на разводящего. Унтер тоскливо вздохнул, откашливаясь и беспомощно глотая слюну. Ему хотелось заплакать. Прошло несколько томительных, долгих мгновений. Циммерман подписал ведомость и сказал:
— Ты слышал мои слова?
— Будьте великодушны, вашбродь! — плаксиво забормотал унтер. — Он вышел, вашбродь… У меня просясь… за кипятком, вашбродь… Сейчас обернется.
— Сволочь! — сказал офицер твердо и отчетливо, подняв брови. — Сволочь! — повторил он, уже раздражаясь и посапывая. — Ты в карцере сидел?
— Никак нет, вашбродь! — с отчаянием выдавил из себя разводящий.
— На первый раз скажешь своему ротному, чтобы посадил тебя на пять суток переменным. Понял?
— Так точно, ваш…
Циммерман повернулся к солдатам спиной и, толкнув ногою дверь, вышел. Когда дверь затворилась, разводящий стоял еще некоторое время на прежнем месте, уныло смотря вниз.
— Эх ты, господи! — вздохнул он, разводя руками. — Ну, что это? Почему такое?
— Я тебе говорил, Петрович, отопри! — заискивающе пробормотал ошеломленный Цапля. — Разве я зря? Когда мне из четвертой роты…
— Пошел ты к лешему! — сказал унтер, садясь за стол и с вытянутым лицом трогая книгу за углы. — Ты говорил? Ты лежал и брехал.
Он был сконфужен и разозлен печальным результатом своей шутки с Цаплей. Перспектива чаепития, такая заманчивая несколько минут назад, сделалась теперь безразличной и нудной.
— А, отсижу! — вдруг ободрился разводящий, приходя в себя. — Пять суток — ишь, удивил солдата!
— Я вчера Лизку встрел, — сказал Цапля, стараясь перевести разговор на другую тему. — Убегла ведь от меня, стерва, не верит в кредит, ха, ха, ха!
— Ну, пять суток, так пять суток! — продолжал размышлять вслух разводящий. — Пять — не десять!
— Ведь как угадал, — удивлялся Цапля, тупо усмехаясь широким ртом. — Ровно знал, что придет. Прямо вот такое было у меня предчувствие.
— Рад, что накаркал, — огрызнулся унтер. — А вот он самый с кипятком идет.
IV
Банников поставил чайник на стол и весело улыбнулся, запыхавшийся и довольный тем, что не даром сходил. Сахар в бумажке он тоже вынул и сказал, подвигая его разводящему:
— Не больно горяч только кипяток-от. И то насилу достал. У буфетчика выпросил, он уже запираться хотел.
— А ну тебя с кипятком! — морщась, процедил сквозь зубы разводящий. — Тут из-за тебя такая неприятность была.
— А што? — спросил, недоумевая, Банников, переводя глаза с ефрейтора на унтера. — Кака неприятность?
— Кака, кака? — закричал Цапля, багровея и брызжа слюной. — Разиня вятская, черт бы тебя там дольше носил!
Он был взволнован недавним приходом офицера, и теперь, при виде спокойных, ясных глаз Банникова, испытывал непреодолимую потребность выместить на нем взбудораженное состояние своей души. Цапля был «отделенным» Банникова, начальством, и поэтому считал себя вправе кричать и браниться.
Недоумение в лице Банникова еще больше раздражало его. Он сплюнул в сторону и продолжал громким, злым голосом:
— Цаца эдакая! Смотрите, мол, на меня, какой я красивый!
— Чего же вы ругаетесь, господин отделенный? — тихо сказал Банников. — Я же ведь ничего…
— А чего ты два часа слонялся? Из-за тебя вон разводящий засыпался.
— На пять суток, — уныло сказал унтер, перелистывая устав. — Караульный тут был, тебя спрашивал, а как ты отлучился, так вот я и засыпался.
— Я не виноват, — вполголоса ответил Банников.
Он чувствовал себя глубоко обиженным, но поборол волнение и, сев с краю нар, принялся переобувать сапоги, натиравшие ногу портянками. Разводящий продолжал сидеть над уставом, шевеля губами и изредка подымая глаза к потолку. Лампа чадила, узкая струйка копоти вилась вверх, расплываясь в воздухе. В красноватом мигающем свете фигуры солдат и самые лица их казались деревянными, грубо раскрашенными манекенами. В бревенчатых стенах шуршали тараканы, изредка срываясь и падая; в углу, у кирпичной облупленной печи, блестели металлические части винтовок. Цапля, в глубине души чрезвычайно довольный несчастьем разводящего, стоял, заложив руки в карманы. Губы его, сложенные сердечком, насвистывали песню: «Крутится, вертится шар голубой…» Затем он поймал на стене таракана и оборвал ему усы. Таракан вырывался, но Цапля понес его к лампе, бросил в стекло и долго, ухмыляясь, смотрел, как коробится и трепещет от боли поджаренное насекомое. Повода придраться к Банникову пока больше не было. Цапля скучал. Его беспокойный, дурашливый характер требовал суеты, кипения, брани. Он стал ловить другого таракана, но разводящий поднял голову и сказал:
— Руки поганишь, а потом будешь за сахар хвататься. Брось! Давай чай пить. Пить — так пить…
— А где кружки? — спросил Цапля, хотя знал, что они стоят на полке в углу; но ему хотелось, чтобы их принес Банников. Банников не шевелился, и острая неприязнь к молодому солдату снова шевельнулась в груди ефрейтора.
— Там, на полке, — сказал разводящий, отрываясь от устава и закрывая книгу.
Цапля помялся немного, потом достал две кружки, плеснул в них воды из чайника и вылил на пол. Затем налил себе и унтеру, взял кусочек сахару, бережно откусил и потянул из кружки бурую теплую жидкость. Чай показался ему слишком холодным, и Цапля крикнул:
— Ты что же, Машка, с погреба кипятку-то принес?
— Да, Банников, холодноват! — сказал и унтер, трогая чайник.
— Да не было, взводный, горячего-то! — ответил Банников. — Чуть было еще сахару не забыл купить.
Цапля принял эти слова на свой счет и вспыхнул. Ему показалось, что Банников хочет укорить его в том, что он, Цапля, пьет его чай и сахар, а все же недоволен и ругается. Он стукнул кружкой о стол и закричал:
— Сахару купил! Думаешь, сахар купил, так тебя, тетерю, завсегда по башке будут гладить? Ты чего коришь сахаром-то своим? Лапоть паршивый, а? Хошь, я тебе завтра пуд сахару в зубы воткну? Что я сахару твоего не видал, что ли?
Банников надел второй сапог и удивленно, оторопев, смотрел несколько секунд на расходившегося ефрейтора. Прошло еще мгновение, и на розовом, безусом лице его скользнула улыбка. Что было в ней, это знал только он сам, но Цапле в мягко улыбнувшемся рте солдата почудилось снисходительное сожаление и уверенность в своей правоте. Этого он не мог снести. Глаза его сузились, круглые, мясистые щеки запрыгали, как в лихорадке. Цапля поставил кружку на стол и вплотную подскочил к Банникову.
Неожиданно для самого себя он занес руку наотмашь и больно ударил Банникова по лицу концами пальцев. Сначала, в момент замаха, намерения ударить у него не было. Но когда побледневшее лицо Банникова с испугом в глазах метнулось в сторону, уклоняясь от удара, у Цапли вспыхнула острая жестокость к розовой упругой щеке, и он конвульсивно дернул по ней пальцами.
— Эй, Цапля, не драться! — строго прикрикнул унтер. — В казарме дело твое, а при мне не смей!
— Вот, смотри на него! — сказал Цапля глухим голосом, дрожа от волнения. — Цаца! Пальцем его тронуть не смей? Ишь, сволочь!
Банников встал и провел по щеке дрожащими пальцами. Лицо его попеременно вспыхивало красными и белыми пятнами. Он хотел говорить, но неведомое чувство сжимало ему горло. Наконец на темных глазах его заблестели слезы, и он сказал:
— За что вы меня бьете-то, отделенный? А? За что?..
Тоска и жалость к себе слышались в его голосе. Цапля притворился пьющим чай. Ему было уже совестно за вспышку, но не хотелось показать этого.
— За что вы меня ударили, отделенный? — тихо и настойчиво повторил Банников. — За что? Я же ничего.
— Чего мелешь? — сердито отозвался Цапля. — Кто тебя бил? Никто тебя не бил. Поговори еще.
Наступило неловкое молчание. Злая тяжесть обиды глухо ворочалась в Банникове. За что? Он купил для них за свои деньги чаю и сахару. Ему вдруг страстно захотелось уйти, уйти из опостылевшей караулки куда-нибудь в лес, лечь на траву и забыться.
Разводящий молча прихлебывал чай, чувствуя стеснение и неловкость от выходки Цапли. Желая нарушить тягостное молчание, он покрутил усы и сказал:
— Какой случай в пятой роте был. Приходит артельщик на базар за крупой, крупы купить. Ну, это самое, купил, на кухню принес, смотрит, а там, в мешке-то, шесть мышенят подохших. Ей-богу! Целое гнездо. Так и бросили, дежурный по кухне велел…
Унтер мельком взглянул в сторону Банникова. Солдат сидел неподвижно, смотря в одну точку глазами, полными слез.
— Будет, Банников! — сказал разводящий, крякнув. — Он так, сдуру. Брось!
И, помолчав, добавил:
— В конвойной команде двоих избили прямо в лоск… Одному так пол-уха откусили.
— Разводящий! — сказал Цапля, прислушиваясь. — Никак Алехин свистит.
Действительно, за стеной караулки трещали короткие, раздражительные свистки. Унтер посмотрел на часы, отставил кружку и сказал:
— Банников, айда на смену! И так прозевали. Четверть часа лишка стоит человек.
Банников встал, молча надел поверх белой рубахи серую скатанную шинель, взял из угла винтовку и вышел… Вслед за ним вышел и разводящий и через несколько минут вернулся назад с Алехиным, рябым и курносым парнем.
V
Банников, заступив пост, осмотрел ружейный затвор, поставил его на предохранительный взвод и медленно обошел здание порохового склада, рассматривая, в целости ли замки, печати и двери. Убедившись, что все благополучно, он вскинул винтовку на плечо и стал ходить взад и вперед по узкой тропинке, проложенной часовыми. Дул по-прежнему холодный, упорный ветер, свистя в ушах, но Банников, расстроенный случившимся в караулке, не замечал ни ветра, ни холода. Раздражение против Цапли постепенно утихало, и он только с грустью думал о том, что за три оставшихся года службы придется, вероятно, еще много натерпеться подобных неприятностей. Понемногу в одиночестве и тишине уснувшей площади ему захотелось спать, но он, как и всегда, превозмогал усталость, расхаживая и высчитывая, когда придет письмо из деревни в ответ на его письмо, в котором он просил выслать холста для рубашек и яблоков.
Алехин между тем долго и основательно ругался, узнав, что ужин не принесли и что кипятку в чайнике почти не осталось. Унтер меланхолично рассказал ему о посещении караульного офицера и своем несчастии. Алехин на это заметил:
— Леший бы их всех драл! С солдата спрашивают, а чтобы куб поставить в караулке, так этого нет. Спать я хочу; утро вечера мудренее, а баба девки ядренее.
Он лег на нары, зевая во всю мочь, сунул под голову свернутую шинель, дососал окурок папиросы и скоро захрапел. Его пример нагнал сонливость и на разводящего, но так как унтер спал крепко и боялся проспать смену, то не лег на нары, а просто склонился на руки к столу и начал дремать.
Цапле не спалось. Он долго и отчаянно зевал, придумывая, чем бы убить время. Почему-то смуглая, побледневшая от удара щека Банникова вертелась перед глазами, вызывая раздражение против себя, солдата и вообще против всего неудачного дня. Кроме того, что пришлось идти в караул часовым, он проиграл еще утром в карты рубль шестьдесят копеек и остался без денег. Вытащив складной нож, Цапля принялся ковырять им дерево стола, отдирая пальцами щепки; потом плюнул в гирю стенных часов, но не попал и стал считать удары маятника. А досчитав до тридцати, заскучал, надел шапку и вышел из помещения.
VI
Небо выяснилось и, синея, мерцало холодным узором звезд. От этого вверху, над черными массами зданий, было как будто светлее, а над землей по-прежнему расстилался унылый мрак, заставляя напрягать слух и глаза. Рубаха Банникова смутно белела шагах в двадцати от караулки, неподвижно и сонно. Цапля долго смотрел в его сторону, подрыгивая коленом и засунув руки в карманы брюк.
«Ишь, фря! — сказал он мысленно. — Тоже, выслужиться хочет. Фордыбачит. Очень мне твой сахар нужен!»
Но тут же вспомнил, что часто брал взаймы у Банникова и сахар и чай.
«Пойти вот, пугнуть тебя хорошенько, так будешь знать, что есть служба!»
Мысль эта мелькнула в его голове сначала просто словами, но потом Цапля стал думать, что в самом деле хорошо бы еще как-нибудь посмеяться над Банниковым. Ни то, что он ефрейтор и отделенный, ни то, что он ударил Банникова и ругал его, не давало ему сознания своего превосходства над ним. Напротив, как будто выходило, что он еще чем-то обязан Банникову, и тот знает это. Надо было сделать что-нибудь такое, чтобы молодой солдат почувствовал зависимость свою от него и признал ее.
«Выкрасть разве затвор у его? — сказал себе Цапля. — Пусть попросит Машка хорошенько, тогда отдам!»
Эта жестокая, но соблазнительная мысль сменилась другой — что такого аккуратного солдата, как Банников, трудно застать врасплох. Однако Цапля хотел попытаться. У него была надежда, что Банников уснул или задремал, в крайнем же случае ефрейтор решил тихонько подползти к нему сзади, сразу выхватить из винтовки затвор и убежать. К тому же сильный, гудящий ветер, наверное, заглушил бы шаги и шорох. Окончательно взбудораженный возможностью интересного развлечения, Цапля уже представлял хохот разводящего и растерянность Банникова, когда он заметит свою оплошность и увидит, что затвора нет. Такие шутки часто выкидываются солдатами, и Цапля однажды уже с успехом проделал это.
Он вернулся в караулку, торопливо скинул летнюю рубашку с погонами и остался в темной, бумазейной. Фуражки он не надел потому, что она была тоже белая, парусиновая, и вышел за дверь. Белая рубаха часового смутно маячила в том же самом месте. Цапля осторожно, на цыпочках, затаив дыхание, прошел несколько шагов по направлению к пороховому складу, потом лег на живот и стал тихо ползти к углу здания, где, опираясь на пожарную кадку с водой, спиной к нему стоял Банников. Холодная, мокрая трава задевала и колола лицо Цапли, колола руки, а он, подползая все ближе и разглядев внимательнее позу часового, окончательно уверился в успехе своего предприятия и пополз энергичнее, тяжело раздвигая неуклюжим, коротким телом слабо шуршащую траву.
Теперь между ним и Банниковым оставалось пять-шесть шагов расстояния. Из-за высокой кадки Цапле виднелся белый чехол фуражки и темный силуэт плеч. Тонкое черное острие штыка шевелилось рядом с головой, как раз с левой стороны, с которой приближался Цапля. Улыбаясь в темноте, ефрейтор приостановился, рассматривая кадку и соображая, заползти ли совсем с левой стороны к Банникову, или сзади, из-за кадки, протянуть руку и нащупать затвор ружья.
Часовой тихо напевал какую-то заунывную песню и медленно покачивал головой из стороны в сторону. Цапля решил выползти из-за кадки, сообразив, что, пожалуй, из-за нее рукой ружья не достать. Он стал подыматься на четвереньки, подбирая ноги, и вдруг прижался к земле всем телом, как пласт. Банников зашевелился. Ему надоело стоять на одном месте, слипались глаза. Стараясь прогнать тягостное оцепенение, он поднял ружье, потоптался немного и медленными, мерными шагами двинулся в сторону Цапли.
Ефрейтор совсем прирос к земле, зарывая лицо в траву. Он лежал шагах в трех от стены здания, мысленно ругая Банникова и досадуя на свою неловкость. И в то мгновение, когда он хотел незаметно двинуться в сторону, Банников задел ногой о его сапог, почувствовал живую упругость человеческого тела и испуганно остановился.
Тишина вдруг сделалась зловещей и хитрой, со звоном бросилась в уши, ударила в сердце. Десятки различных мыслей, нелепых и смутных, разбежались в голове Банникова, как стая рыб. Вздрагивая, как струна, он взял ружье наперевес, осторожно склонился, разглядывая траву, и еще более испугался, различив немые очертания притаившегося человека. Что-то уперлось ему в грудь, сжало кольцом горло, завертелось в глазах.
— Кто тут? Встань! — с отчаянием сказал он нетвердым голосом, судорожно стискивая руками ложе ружья. — Эй!
Неизвестный молчал. Ефрейтор лежал сконфуженный, с слабой надеждой, что Банникову только почудилось, и он уйдет. Часовой нагнулся еще ниже, присел на корточки и с удивлением узнал Цаплю. Испуг сразу отхлынул, но сердце еще продолжало стучать громко и назойливо. Одно-два мгновения Банников стоял выпрямившись, с досадой и недоумением.
Цапля неподвижно лежал, и страх снова вернулся к Банникову. Не зная, что делать, и окончательно растерявшись, он перевернул винтовку прикладом вверх, приставил острие штыка к затылку ефрейтора и тоскливо затаил дыхание.
— Вставайте, отделенный! — твердо сказал он, со страхом вспоминая устав и преимущество своего положения. — Ну!
Но самолюбие и комичность результата проделки удерживали Цаплю на земле. Он упрямо, с ненавистью в душе продолжал лежать.
Мысль о том, что Банников, Машка, деревенский лапоть, приказывает ему, приводила его в бешенство. Цапля стиснул зубы и оцепенел так, чувствуя, как раздражительно и зло бьется его сердце.
— Вставайте, отделенный! — настойчиво повторил Банников и, пугаясь, сильнее нажал штык. Ефрейтор вздрогнул от холода стали и тоскливого сознания, что тяжелый острый предмет колет ему затылок. Но у него еще оставалась тень надежды, что Банников ради будущего не захочет его унижения и уйдет.
Часовой тяжело дышал, бессознательно улыбаясь в темноте. И оттого, что орудие смерти упиралось в живое тело, глухая хищность, похожая на желание разгрызть зубами деревянный прут, жарким туманом ударила в его мозг. А возможность безнаказанно убить неприятного, оскорбившего его человека показалась вдруг тягостно приятной и жуткой. Жаркая слабость охватила Банникова. Вздрогнув мучительно сладкой дрожью, он поднял ружье и, похолодев от ужаса, ударил штыком вниз.
Хрустнуло, как будто штык сломался. Конец его с мягким упорством пронзил землю. И в тот же момент злоба родилась в Банникове к белому, сытому и стриженому затылку ефрейтора.
Тело вздрогнуло, трепеща быстрыми, конвульсивными движениями. Тонкий, лающий крик уполз в траву. Цапля стал падать в бездонную глубину и, согнув руки, пытался вскочить, но голова его оставалась пригвожденной к земле и смешно тыкалась лицом вниз, как морда слепого щенка, колебля ружье в руках Банникова. Солдат еще сильнее нажал винтовку, удерживая бьющееся тело, потом с силой дернул вверх, отчего голова ефрейтора подскочила и стукнулась о землю равнодушным, тупым звуком. Шея Цапли вздрогнула еще раз, вытянулась вперед и затихла вместе с неподвижным, притаившимся телом.
Выжидательно улыбаясь и чувствуя странную пустоту в голове, Банников потрогал пальцами теплый, липкий конец штыка, затем прислонил ружье к стене, достал коробочку спичек и стал зажигать их, опустившись на колена возле убитого. Ветер почти моментально задувал огонь. Желтые вспышки одна за другой на мгновение выхватывали из мрака восковой окровавленный затылок ефрейтора и гасли, сорванные ветром. Банников швырнул коробочку в сторону, потом встал и начал искать ее, чувствуя в теле и движениях тупую, пьяную легкость. Руки его были холодные и дрожали. Не найдя спичек, он вспомнил о винтовке, вскинул ее на плечо, хотел пойти куда-то, но остановился и сказал:
— А я почем знаю, кто он такой есть? Я по правилу. Я правильно!
Тяжелая, смертельная тревога сменила возбуждение. Банников поднес к губам свисток и свистнул долгой, пронзительной трелью, вызывая разводящего.
Находка
I
Тюльпанов присел к столу, жадно ощупывая глазами большой деревянный ящик, полный сырой, грязно-белой земли.
Управляющий тоже сел. Лицо его сияло почтительно и воодушевленно, как у даровитого повара, толкующего барину о прелестях пикантного соуса.
Прошла секунда молчания. Тюльпанов нервно мял пальцами жирные, мягкие, как мазь, комки глины. Он сомневался, брови его хмурились от внутреннего напряжения; факт еще не овладел им настолько, чтобы он мог громко и бурно выразить свою радость. Между ящиком с глиной и богатством лежала пропасть.
— Так вы думаете? — боязливо спросил Тюльпанов, и полное, привычно насмешливое лицо его обратилось в вопросительный знак. — Смешно ведь, а? Земля какая-то… А впрочем… Да-а!
— Несомненно, — авторитетно произнес управляющий, — воочию перед вами убедительнейший аргумент.
— Фаянс! — задумчиво произнес Тюльпанов. — И много?
— Гибель!
— Так что же?! — с маленьким нетерпением заговорил Тюльпанов. — Это ведь… нужно подумать!
— А то как же?! — радостно закричал управляющий, и его крохотный пунцовый рот брызнул слюной. — Конечно, подумать!.. Хотя думать вам что же особенного? Деньги нужны.
— Деньги! — сомнительно протянул Тюльпанов. — Вот то и скверно, что для денег всегда деньги нужны.
Оживление его погасло.
Почти враждебно, но еще любопытными глазами смотрел он на неприглядную глину, вокруг которой суетились туманные представления о фабриках, машинах и снежно-белой посуде. Все это казалось хлопотливым, громоздким и выдуманным. Управляющий все время вертелся как на иголках. Последние слова Тюльпанова пришпорили его хлопотливую, увлекающуюся натуру.
— Позвольте, что же вы хотите еще? — волнуясь, спросил он. — Я знаю ведь, в общем, ваше теперешнее состояние; ну — денег нет, ну — заложено. А третью закладную нельзя? А долгосрочная аренда — фунт изюма? А занять — свет клином сошелся? Да не будьте вы этой глиной, милостивый государь! Вам, как говорится в известных кругах общества, пофартило! Пользуйтесь!
Тюльпанов достал из перламутрового ящика гаванскую сигару и стал ее закуривать. Пальцы его слегка вздрагивали.
— С одной стороны, — нерешительно начал он, — я разделяю ваш энтузиазм и согласен, что… Но масса вопросов: деньги, кредит, рабочие руки, машины… а?
— Акции, — коротко бросил управляющий. — Акции!
Тюльпанов встал.
— Я поеду.
Управляющий взял шляпу.
— Но, — он поднялся на цыпочки, помахивая указательным пальцем, — у вас сотни тысяч, прошу помнить. — И в тот же момент лицо его просияло благодушным деловым выражением. Он церемонно поклонился и вышел.
Прикинув мысленно необходимую сумму, Тюльпанов рассеянно усмехнулся и тотчас стал думать о других, более неотложных делах. Дочь Лидия требовала из Петербурга денег. Ее изящные письма курсистки хорошего тона говорили об этом между строк, вскользь, сдержанно и настойчиво. Платить рабочим, платить за стекла для парников, выбитых прошлогодним градом. И масса мелких расходов — ремонт белья, конюшни, выписка грушевых дичков, семян, весенний костюм младшей дочери — все это свертывалось в один плотный пакет векселей и счетов.
II
На веранде, в тени весенней листвы, младшая дочь Тюльпанова, Зоя, рассказывала штабс-капитану:
— У меня бывают дни скверного, прескверного настроения… Знаете — душа как будто закутана паутиной, с черным мохнатым пауком внутри, и боишься двигаться, боишься обратить на себя внимание этого черного паука… Делаешься слабенькой-слабенькой!
— Хо-хо! — сказал, делая смеющееся лицо, штабс-капитан. — Это, как говорится у нас, плюм-похондрия!
— Плюм! — мило удивляясь, сказала Зоя. — Почему же плюм?
— Случайность. Был у нас, в шестой роте Плюм, поручик Плюм — он того… застрелился. Ну, так он страшно скучал перед смертью, а застрелился от несчастной любви. Не выдержал.
— Не выдержал, — тихо повторила Зоя, роняя руки вдоль тела и устремляя взгляд в предвечную глубину сада. — Не выдержал! Это была молодая, чистая, тоскующая душа… его не поняли.
— Да вы думаете что? — воскликнул штабс-капитан. — Любви не выдержал? Ничего такого, уверяю вас, не было. Просто поддразнивали его, в пьяном виде угораздило его как-то сказать: «А я застрелюсь». Ну вот и пошло… Скучно, знаете. Кто ни увидит: «Плюм, а стреляться?» Он потом привык даже так, что обижаться перестал. Но все-таки застрелился.
Зоя промолчала; разговор принимал нежелательное для нее направление. Офицер нравился ей, хотелось полунамеков, раздражающей игры, туманных недосказанностей, лишенных всякого смысла и полных столь приятного для женщин нервного напряжения.
— Ах, тоска, тоска! — вздохнула она, облокачиваясь на перила веранды перед самым лицом Зуева. — И нервы шалят… Ночи такие душные.
«Замуж хочется, — машинально подумал Зуев, рассматривая крепкую фигуру девушки. — Да она совсем ничего… Разорены… Свяжись… жалованье…» — мелькнуло у него в голове, мешаясь с мыслями игривого свойства, далекими от меркантильных расчетов.
«А ну, — решил он, приготовляясь заговорить. — Не стоит!»
— Михаил Ильич, — сказала девушка, — хотели бы вы быть рыцарем?
— Рыцарем? — Зуев перекосил брови и сморщился. — Конечно… хотя этот род вооружения устарел. А что?
— Я люблю все мужественное, храброе, выносливое… В вашем лице есть что-то индийское… И мне кажется, что вы совсем иной, чем… кажетесь.
— Хо-хо! — сказал Зуев. — Да ничего такого особенного. Впрочем, в душе каждого человека… Я гимназистом стихи писал, — неожиданно закончил он и густо побагровел.
— Ну да, — сосредоточенно произнесла Зоя, внимательно рассматривая переносицу штабс-капитана. — И вы прочтете мне эти стихи, да?
— Н-нет! — с усилием крякнул Зуев, смутно чувствуя приближающуюся опасность. — Забыл, представьте… да и что там — чепуха, фигли-мигли…
— Ну вот… какой вы, — сказала, помолчав, девушка. — Кажется, могли бы… для меня… — прибавила она с легким подчеркиванием. — Нет? Ну, не надо. Я вам этого не прощу.
Зуев брякнул шашкой и рассмеялся, блестя зубами.
— Повесите? — подмигивая, спросил он.
— Хуже…
— Хуже?
— Да. Вы пойдете со мной гулять. Пойдемте к роще. Там папа… Да вы ведь еще не знаете…
— Ничего не знаю, — покорно ответил Зуев.
— У нас нашли эту — ну, белая глина, фаянс… и, кажется, хотят строить фабрику или что-то в этом роде. Одним словом, папа и управляющий теперь только об этом и разговаривают… Ха-ха! Как будто это так просто, Михаил Ильич. Они сейчас заняты там своими исследованиями.
— П-пойдемте! — крикнул Зуев, приподнимаясь от удивления и нетерпения. — Фаянс? Да что вы? Х-ха-рашо! Очень х-харашо!
— Давайте руку, — повернулась Зоя, увлекая штабс-капитана в сад. — Впрочем, все это скучно, и папа только опаздывает к обеду. Ходит по столовой большими шагами и бурчит про себя.
— А знаете, — сказал штабс-капитан, — ведь может интереснейшая вещь получиться. Хо-хо!
Они миновали сеть аллей, изгородь и шли узкой, вихляющейся тропинкой среди заброшенных парников, напоминающих крыши неведомых подземных лачуг. Солнце садилось; сияющие весенние сумерки погружали холмистую зелень полей в чуткую, вздыхающую дремоту.
— Воин, — сказала Зоя, прижимаясь к штабс-капитану, так что он вдруг ощутил двигающуюся тяжесть ее цветущего, большого тела, — вы слышите беззвучные голоса полей?
— Я слышу один голос — ваш, — подумав, сказал Зуев, — это голос полей, но не беззвучный, а, напротив, весьма звучный.
— Так? — спросила она, нагибаясь и заглядывая снизу в глаза Зуеву. — Впрочем, с вашей стороны это простая любезность. Вам незачем меня слушать.
— Как знать?.. — таинственно ответил штабс-капитан. — Вот я помню одни стихи насчет человеческой души… В том смысле, что… Как это?.. — Откашлявшись, он сделал свободной рукой жест, похожий на движение поварского ножа, разрубающего котлету, и быстро проговорил:
— «Тара-та-та-та-та, ра-ра-те-та-тэй… Ни моря нет глубже, ни бездны темней».
— Ха-ха-ха! — залилась Зоя, и смех ее немного сконфузил Зуева. — А «тара-та» — это что значит?
— А забыл, — скромно ответил Зуев. — Так легче вспоминать.
Рука женщины прижималась к нему, круглая и горячая под муслиновым рукавом; он было почувствовал некоторое сопротивление этому дурманящему теплу, но вспомнил фабрику, и целые горы новенькой посуды сверкнули перед глазами. «На всякий случай, — мысленно сказал он, прижимая в свою очередь локоть девушки. — Где наше не пропадало!»
Впереди, у рощи, двигались две фигуры, наклоняясь и ковыряя в земле.
— Вот папа! — крикнула Зоя. — А мы на вашу глину смотреть пришли.
Тюльпанов, с засученными рукавами летнего пиджака, сказал Зуеву, протягивая запачканную землей руку:
— Не смотрите, не смотрите! Ничего нет. Пока что — одни проблемы.
— Хо-хо! — сказал Зуев. — Вот она где, Колхида-то! Н-да, удивите вы всех, право! — Зуев говорил без насмешки, и это ободрило Тюльпанова.
— Все Андрей Кузьмич, — сказал он, обчищая грязь с рук. — Он нашел эту глину, он и хороводится.
— Папа, — крикнула Зоя, — если разбогатеешь, непременно купи мне дачу… где-нибудь на Капри! Купишь?
— А что ты думаешь? — серьезно сказал Тюльпанов. — И куплю. Пусть только Повезет! Я много чего наметил… Вообще развернусь вовсю… Закатим дом в Петербурге, Зойка, а здесь устроим деревенский Эдем — парк, газоны, цветники… плодовый сад преогромный… скаковую конюшню… а? Кандидатуру свою в Государственную думу выставлю… а? Здорово, Михаил Ильич?! Тюльпановский промышленный… округ, а?!
III
На карточке красивым рондо было отпечатано по-русски и по-английски: Вильям Герберт Брайтон. Тюльпанов вышел в гостиную. Он был несколько озадачен, заинтересован и встревожен. С мягкого плюшевого кресла поднялся человек лет сорока пяти, одетый элегантно и скромно, бритый, с короткими черными волосами и матовой желтизной упрямого зеленого лица, глядевшего на Тюльпанова чуть-чуть сонно, чуть-чуть строго. Глаза у него были выпуклые, круглые и блестящие.
— Брайтон, — сказал англичанин. — Я вас нужно по одному делу. — Русские слова, окончание которых он почти сглатывал, звучали у него заученно и деревянно. Лицо не участвовало в разговоре, оно с каменной, холодной вежливостью рассматривало Тюльпанова.
— Прошу садиться, — сказал Тюльпанов.
Брайтон неторопливо опустился на стул.
— Я извиняюсь, — произнес он, — но дело так важен, он для меня и для вам. Ви нашли глин.
— А! — вскричал Тюльпанов, мгновенно сообразив, что посещение англичанина может так или иначе отразиться на его интересах. — Как вы узнали? Это верно, но что, знаете! Какая глина, известно аллаху… Я, впрочем, надеюсь, да…
Брайтон помолчал. Быстрые искры соображения мелькнули в его быстрых глазах; он, видимо, старался уяснить себе отношение Тюльпанова к грязно-белой земле.
— Пять десятин, — так же сонно и деревянно произнес он, — от лес до маленький огород.
Тюльпанов улыбнулся, подумал, но слова англичанина остались для него непонятны. Он поднял брови, недоумевающе посмотрел на Брайтона и тихо спросил:
— Что вы говорите? Продать?
Что-то похожее на улыбку скользнуло в тонко очерченных, твердых губах Брайтона.
— Пять десятин, пятьдесят тысяч.
— Как? — делая ударение на каждом, прилипающем к языку слове, закричал Тюльпанов. — Вы хотите купить? — Сердце его вдруг забилось часто и ожесточенно, точно он наступил на змею и перепугался. Деловое лицо Брайтона и цифра, произнесенная вялым гортанным голосом, бросили ему в глаза ценность находки. Он внезапно всем существом почувствовал себя у денег, лежащих в земле, между лесом и огородом. Взволнованный, он уставился на Брайтона в упор. Англичанин переменил позу, снял руку с колена и переложил ее на резьбу кресла.
— Позвольте же, однако, — заговорил Тюльпанов, — но вы… но я… разве вам сказал кто-нибудь, что я намерен?.. Это странно, я вообще никому… да и как же так… почему?
Купцы и арендаторы из соседнего города, с которыми он вел иногда дела, встали перед ним, по контрасту, как живые, с массой уловок и подходов, с неизбежным чаепитием, вопросами о погоде и т. д. Брайтон молчал. Тюльпанов развел руками.
— Вот, — сказал он, — что, собственно… А насчет продажи… Да и как вы предлагаете мне пятьдесят тысяч, когда вы и земли-то еще не видели? Хотите, я покажу? Вы, вероятно, интересуетесь, я…
— Нет, — сказал Брайтон, — это не надо. Я видел. Я смотрел, у меня есть пробы. Пятьдесят тысяч.
— Когда же вы успели? — спросил Тюльпанов, начиная сердиться. То, что этот человек без спроса успел выведать все, казалось ему невежливым.
— Семьдесят пять, — сказал Брайтон и добавил: — Тысяч.
— Позвольте! — заволновался Тюльпанов. Долги, закладные, планы на лето, дом в Петербурге — вихрем взмыли перед его глазами и ушли, скрывшись в темных зрачках Брайтона. — Почему же это?.. Почему именно семьдесят пять? Почему не больше… не меньше? Или мы ведем деловой разговор, или шутим… Я не привык так. Но как, например?.. Частями, сейчас, после?
— Сто тысяч, — помолчав, выговорил Брайтон. — Задаток теперь. Половина задаток.
— Да вы шутите или всерьез? — крикнул, побледнев, Тюльпанов, и вдруг лицо его расплылось в блаженной улыбке. — Вы что же хотите, фабрику? Нет, что вы! Разве можно за такие пустяки? — Он вдруг пришел в азарт, вырос в своих собственных глазах и был совершенно оглушен цифрами. За последние годы он не держал в руках более десяти тысяч сразу. — Я сам выстрою фабрику! — сказал он гордо и испугался. Лицо его вытянулось, но непреодолимая потребность дать выход возбуждению тотчас же повысила павший диапазон. — А что вы думаете, — волнуясь продолжал он, — что мы, русские, не умеем вести дел? Ого!
— Сто двадцать пять тысяч, — медленно произнес Брайтон. — Я очень серьезно. Задаток теперь. Семьдесят пять — задаток. Я извиняюсь, — он подумал немного и неторопливо добавил: — Но это совсем ясно, как… — Брайтон прищурился, склонив набок голову, и закончил: — Как стекла. Дело просто: вы продаете земля, я даю деньги.
— Фу, — сказал Тюльпанов, вытирая платком вспотевший лоб, — а? Я… подумаю… Да, нет… Ну, хорошо, извольте. Сто двадцать пять? Хорошо! Как вы думаете, я не проде… Впрочем, что я — земля чудная, конечно! Так задаток? — Он был совершенно счастлив и боялся только одного: чтобы этот диковинный, точно с другой планеты человек не раздумал. — Прошу в кабинет, — сказал он, — пожалуйте вот сюда, дверь направо.
IV
Лакеи суетились вокруг столов, тщательно избегая задевать локтями широко развалившуюся на стуле фигуру Кержень-Мановского, отставного исправника. За тем же столом сидели: Миловидов, городской голова, Тюльпанов и Ознобишин, редактор местной газеты. Было около одиннадцати часов вечера. Пьяный, развалистый шум, удары кулаков в стол, залитая вином скатерть и криво сидящие галстуки говорили о той степени благодушия, когда пирующим трудно установить не только страны света, но даже левую и правую стороны. В то время как Миловидов с грустью и умилением посвящал исправника в тайны городского хозяйства, Тюльпанов говорил Ознобишину:
— Так и напишите… Вы не думайте, что я ищу популярности… черт с ней… а просто… Гласности больше нужно, я стою за печать… периодическую… Но не возгордись! Не ищи… понимаешь… в моих словах этакого к себе почтения. Ибо — нужна ли твоя газета? Вот в чем вопрос! Ты об этом подумай… И реши! Но в общем, разумеется, я разрешаю тебе писать о Тюльпанове. На-ро-до-на-селе-ние Тюльпанова добрым словом помянет, так как откроется богатейший… промыш-шленнейший завод. Понял? Ну и молчи!..
— Не могу в-местить, — сказал Ознобишин, мигая помутившимися глазами.
— П-потому, что есть я птица райская Алконост… печали огромной птица и г-орести! А печалюсь я… з-за всю губернию!.. Т-торжествующие твои слова — мне обида!..
— Ха-ха-ха-ха-ха! — захлебнулся исправник, и шея его побагровела, как у индюка. — Птица ты… алкоголь… да… Но чтобы Алконост… стае? Ни в коем случае!
— Полицейский! — внушительно сказал Тюльпанов, подымая кверху указательный палец.
— М-молчи! Ты пьян, полицейский!
— Гражданин! — промолвил Ознобишин, указывая на Миловидова. — Он гр-ражданин! А прочее все… водевиль!
— В-водевиль? — яростно прошипел исправник. — А ты кто — драма ты, что ли, пискулька! Я… с-случа…
— С переодеванием! — захохотал Тюльпанов. — В-водевиль с переодеванием. И нишкни!
— Кто здесь возвысил голос? — закричал исправник. Лиловые жилки заплясали на сто лбу.
— А? С-сашка Тюльпанов, нищий — нищий ведь ты… и немец тебя, куклу, облагодетельствовал!
— Бритт, — хладнокровно вставил Миловидов, свертывая из меню трубку и рассматривая в нее рассерженного исправника.
— Бритт! — негодующе воскликнул Кержень-Мановский. — Вот ты и брит этим бриттом, потому что ты просто-напросто… тьфу… овца! Кусок тела российского продал англичанке… нищий! У-у! Короста на благочестивом теле отчизны!..
— Кержень, — крикнул Миловидов, — цыц! Ты что? У себя в участке, что ли? Объясняйся, но… м-мягко!
— Оставьте его, — коротко и грустно проговорил Тюльпанов. — Пусть человек говорит… г-господа, э… дайте слово отставному исправнику.
Тюльпанов пожал плечами, выпил большую рюмку шведского пунша, закусил ананасом, вывалянным в пепле, и сказал:
— Я деньги получил. Это важно… И з-заметьте — много… К-ко-нечно, меня уламывали, п-потому что я н-не мальчик, но… и счастлив, — неожиданно воскликнул он.
Раз начав говорить, он был не в силах уже остановиться и много, пространно рассказывал о себе, своем детстве, какой-то лошади с подпалинами, невесте, дочери и тюльпановском промышленном округе. Вокруг, в сизом тумане, плавали блестящие выкаченные глаза, манишки, красные пятна рук, и все труднее становилось сидеть прямо, не лить на скатерть вино и говорить то, что нужно.
Миловидов сказал:
— Хорошо нам здесь, господа!.. Построим кущи!..
V
Еще хмельной, с тяжестью в голове, Тюльпанов прошел в сад. Он только что возвратился из города. Лицо его было серо, смято и в молодой зелени сада казалось лицом больного, выпущенного на прогулку. Он повертелся около черных клумб, соображая, сколько пройдет времени, пока утренний воздух уничтожит в его наружности следы хмельной ночи, и вспомнил, что Зоя, узнав о приезде отца, непременно пошлет горничную на розыски… Он прошел через сад медленным, беззаботным шагом, насвистывая мазурку, миновал парники и через две-три минуты был на том месте, которое день назад еще принадлежало ему.
«Продано! — подумал Тюльпанов. — Как скоро все делается на свете! В прошлом году деревенские мальчишки и Вовка считали этот когда-то отведенный под огород пустырек роскошным местом для игры в бабки».
Заложив руки за спину и втягивая прокуренной за ночь грудью парной воздух полей, Тюльпанов впал в элегическое настроение.
«Хорошо бы, — мечтал Тюльпанов, — хорошо бы, собственно говоря, вышло, если бы тут поблизости еще глину открыть! Гм! Воображаю, какую рожу скорчит англичанин. Он ведь и эту захочет купить, во избежание конкуренции. Тогда — миллион. Миллион — и никаких разговоров!»
И вдруг представилось ему, что все — усадьба, пашни, лес, парники, сад — расположено на тоненьком, в два-три фута слое земли, скрывающем под собой сотни десятин белой глины. Что-то похожее на тревожное любопытство и мальчишеское лукавство дернуло Тюльпанова. Заинтересованный, он осмотрелся вокруг, соображая, в каком бы месте повернуть дерн, и, вынув небольшой перочинный нож, пошел вдоль рощи, удаляясь от проданного участка.
За рощей была узкая полоса межи, отделявшая яровое от леса. Подойдя к ней, Тюльпанов открыл ножичек, присел и вырезал кусок дерна, запачкав руки сырой и теплой землей; шевелились какие-то крохотные кучки, белели точки срезанных травяных корней.
Тюльпанов махнул рукой и хотел встать, но, вспомнив, что и прежняя глина лежала глубже, принялся быстро копаться в рыхлом четырехугольнике. Сняв два или три вершка почвы, он бросил нож и беззвучно расхохотался. Перед ним была глина, та самая, настоящая, которую купил англичанин и которая, проходя горизонтальным пластом, попала под нож Тюльпанова. Это было так неожиданно, забавно и в то же время серьезно, что Тюльпанов остался сидеть в прежнем неловком положении, полный вспыхнувших мыслей и какаких-то особенно радужных, нетерпеливых надежд.
— Что же это такое? — полусердито, полусмеясь сказал он. — А? Каково? Как это вам нравится? Что за глиняное имение? Мухи дохнут, честное слово! Брайтон-то, Брайтон-то что скажет? А?
Он еще некоторое время восклицал и ахал, вытирая руки о носовой платок, потом понемногу, поправляя одна другую, мысли пришли в порядок, а на лицо Тюльпанова легла тень, и выросли перед его глазами не одна, а две фабрики, разделенные одной десятиной, вдвойне грохочущие, распространяя копоть и смрад, фабрики конкурентов, отнимающие у него пядь за пядью маленькое старинное имение, где так хорошо естся, дышится и живется, когда есть деньги.
И увидел он еще рабочий поселок, чуждую зеленой земле жизнь, услышал назойливые, унылые гудки, топот и шум толпы там, где молодые дубки ласково приглашают уснуть, в то время как на заманчиво расстеленной на траве скатерти бурлит самовар и румянится домашний пирог.
— Что же делать? — сказал Тюльпанов. — Положение-то мое забавное. Скрыть разве, а?! Любопытная будет вещь и даже романтично: тайна Тюльпановки, А хорошо эдак, перед смертью сказать там… внукам, что ли: идите за рощу и там, отмерив столько-то шагов… В этом роде. А?
Было тихо вокруг; насколько хватал глаз, холмились поля, одетые пышной озимью. Тишина и отсутствие людей приободрили Тюльпанова. Он доверчиво улыбнулся земле, небу и ямке, вырытой под ногами.
Поспешно путаясь вздрагивающими от испуга руками, собрал он рассыпанную на траве землю, сгреб ее в ямку, втиснул дерн на прежнее место и тщательно утоптал. Потом, виновато улыбаясь и щурясь от солнца, медленными, неуверенными шагами пошел в сторону, и казалось ему, что никто и никогда в мире не узнает новой, мучительной для него тайны Тюльпановки, разве только в том, и непременно в том случае, когда новая, настоятельная нужда развяжет ему язык. А подходя к дому, был совершенно уверен, что выше его сил молчать далее двух недель.
Тайна леса
I
Гудок заревел. И толпа черных людей ринулась в фабричные ворота. Спеша и перегоняя друг друга, они наполнили вечерний воздух смутным гулом, криками и ругательствами.
Дорога в город шла лесом. Лес, пьяный от воздуха, очаровательная тишина чащи, пахучий сумрак полян, — чего еще требовать от земли — жалкой, пригородной земли севера? Бродить в лесу вечером — значит купаться в теплой, смолистой ванне.
Лес, или парк — как угодно, был прорезан тропинками. Каждая из них довольно болтливо говорила о том, кому принадлежат ноги, проложившие ее.
Там, где бродили влюбленные, образовались петли, спирали, неровные причудливые зигзаги, прерываемые более или менее широкими, утоптанными местами, где она садилась, а он клал ей голову на колени, примащиваясь в траве. Охотники оставляли глубокие, запутанные следы, терявшиеся в зарослях. Рабочие проложили широкую, почти прямую тропу, ведшую от опушки к городу через самое сердце леса. Им некогда было ни останавливаться, ни сворачивать.
Так шли они каждый вечер, прямой, скучной тропой возвращения, в одиночку, попарно, группами, задыхаясь от быстрой ходьбы. Кругом благоухал лес, невидимые цветы кропили воздух ароматным благословением. «Спокойной ночи, земля!» — говорило небо, закрывая глаза. Но голубые зрачки их еще долго, полусонные и ласковые, следили за миром.
Угрюмый полировщик двигался медленным развалистым шагом. Попутные кабачки вставали перед его глазами, и пьяный дух стойки заносил над его душой властную руку демона. Это был человек, за неимением водки прибегающий к лаку и политуре, ибо всякому порядочному человеку известно, как много спирта в этих вещах.
Темнело, благодать сумерек окутывала стволы сосен, ели казались черными, замолкли иволги, осторожно стучал дятел. Зеленые огни светляков вспыхнули крошечными, двигающимися изумрудами: погасло небо.
Все медленнее шел полировщик — и были тому причины. Жена поджидала его с сжатыми кулаками. Он знал это так же верно, как то, что вчера была получка и он, отец трех детей, ночевал не дома, а на кровати с ситцевыми занавесками, бок о бок с купленным за два рубля телом. И пропил он, как последняя каналья, все свое жалованье.
Совесть его была спокойна. Давным-давно, полируя дерево для вагонных окон, обдумал он, день за днем, год за годом, всю свою жизнь и отчетливо решил плюнуть на всех и на все. Угнетенный промозглым воздухом городского подвала, кислым ароматом пеленок, ненавистным до одури утомлением труда, долгами и драками с женой в дни получек, — он отводил душу в зеленом тумане хмеля, где плавают красные глаза пьяниц и пахнет свалками. Это была ничтожная, нелепая месть дикаря ушибившему его дереву.
II
Когда последний рабочий торопливо обогнал полировщика, стремясь к горшку с кашей и сну, — полировщик свернул с тропы и углубился в темноту леса, путаясь в серых от росы кустах и кочках, покрытых упругим мохом. Он выдумал кое-что и хихикал, улыбаясь новизне положения. Один день отсрочки казался ему блаженством: ночь в лесу, день на работе, и только завтрашний вечер оскалит румяный рот на окна подвала, где будет вопить взлохмаченная, костлявая, плоскогрудая женщина, требуя денег. Да, он решился переночевать в лесу. Подходящие к случаю пословицы прыгали в голове. День да ночь — сутки прочь. Летом каждый кустик ночевать пустит. Лег — свернулся, встал — встряхнулся.
В глубоком молчании тишины прозвучал отрывистый, тупой звук, охнуло эхо, и все стихло. И стало еще тише, чем раньше. Полировщик остановился, прислушался, лениво махнул рукой и снова побрел, тяжело придавливая сапогами скользкую хвою. Он мог бы, конечно, лечь просто там, где стоял, но ему все время казалось, что впереди, шагов за пять — пятнадцать, приготовлено какое-то место поудобнее. Но это был просто лес — трава, корни, кусты и кочки.
Он шел, пока не споткнулся, сунувшись на четвереньки, лицом в мелкий рябинник. Руки его уперлись в мягкое, податливое; ноготь скользнул по пуговице. Толчок был довольно силен, и полировщик выпрямился скорей, чем упал, приготовляясь на всякий случай к возражению действием.
Лежащий безмолвствовал. Мало того — он даже не захрапел и не перевернулся на другой бок, как это принято у порядочных пьяниц, когда их тревожат.
— Ох, сердце мое! — сказал испуганный полировщик, хватаясь за левый бок, и стал искать спички. Они у него были раньше, а теперь упорно не находились…
— Почему же нет спичек? — обиженно спросил полировщик. — А были хорошие спички, пороховые. Спички, которые в жилетном кармане — и сбегли! Вот покури теперь тут, кузькина мать, покури!
— Хорошо, — продолжал он после некоторого размышления. — Я, представьте, иду ночью — и ежели еще в потемках пьяное туловище спящее, то я без спичек не могу осветить его физиономии! Спишь! Спи, спи, приятель, до сладостного утра. Где ты, там и я. Жилеточку постелю, пиджачком накроюсь, чтобы, значит, дух теплый из глотки под мышки шел, а в головы, с вашего позволенья, пьяное благородие, сунем кустик. Так оно все и выйдет.
И, разговаривая, он стал укладываться, довольный близким соседством пьяного, но живого тела, быть может, знакомого слесаря или литейщика, с которым завтра они будут таращить друг на друга заспанные глаза, вздрагивая от резкого холода. Прежде, чем лечь, он ткнул спящего в бок и, стоя на коленях, долго прислушивался к хриплому, рвущемуся дыханию. А тот был неподвижен и молчалив.
III
Полировщику не спалось. Тьма беззвучно клубилась перед его глазами; хвоя колола шею; он вертелся, вздыхая и охая, как самый добродетельный человек, мучимый совестью за кражу в детстве соседского яблока. Тысячи ушей выросли на его голове; телом, сапогами и брюками, даже последней пуговицей ловил он разнообразный шепот леса, микроскопические звуки тишины, сонные голоса ночи. Вкрадчивая, напряженная тревога смотрела ему в глаза густым мраком. Рядом хрипел пьяный.
Полировщик, поворочавшись минут пять, лег на спину. Душная, смолистая сырость распирала его легкие, ноздри, прочищенные воздухом от копоти мастерской, раздувались, как кузнечные меха. В грудь его лился густой, щедрый поток запахов зелени, еще вздрагивающей от недавней истомы; он читал в них стократ обостренным обонянием человека с расстроенными нервами. Да, он мог сказать, когда потянуло грибами, плесенью или лиственным перегноем. Он мог безошибочно различить сладкий подарок ландышей среди лекарственных брусники и папоротника. Можжевельник, дышавший гвоздичным спиртом, не смешивался с запахом бузины. Ромашка и лесная фиалка топили друг друга в душистых приливах воздуха, но можно было сказать, кто одолевает в данный момент. И, путаясь в этом беззвучном хоре, струился неиссякаемый, головокружительный, хмельной дух хвойной смолы.
Полировщик лежал, слушая, как глухо, с замираниями и перебоями, стучит его сердце, отравленное алкоголем. Томительное волнение боролось в его душе с дремотой. Сон убежал вдруг, большими, решительными скачками; мысли, похожие на шелест ночного ветра, наполнили голову; тонкая, капризная грусть стеснила волосатую шею. Полировщик вздыхал, охал; темные невысказанные желания распирали его. В траве, резко отделенные ничтожным пространством, ползли сосредоточенные, извилистые шорохи.
Сперва ухо поймало два или три из них, но потом их прибавилось; невидимая армия насекомых пробиралась в стеблях и хвое, снуя по всем направлениям, и чудилось, что тихо, чуть слышно, звенит трава. Измученный смех совы просыпался в глубине леса. Вслед за этим детский, отчаянный плач зайца резнул ухо и смолк. Прошла минута безмолвия; где-то поблизости разбуженная, маленькая, как орех, синкагайка пропела печальным, милым, отрывистым свистом, фыркнула крыльями и утихла. Кукушка подала голос, ее отчетливые, мелодичные восклицания звучали подобно металлическому шарику, подскакивающему на медном подносе. И с недалекой реки жалобной флейтой пропел кулик, вспархивая над сонной водой.
— Мать честная, отец праведный! — сказал полировщик. — Одно беспокойство, а не то, чтобы что-нибудь.
Нестройная армия воспоминаний маршировала в его возбужденной голове. Палящий, краснощекий, голубоглазый деревенский зной полудня вспыхнул и закружился ослепительным светом. Уютный простор полей пестрел крыльями голубей, лохматыми, увядающими снопами и движущейся вереницей красных бабьих платков. Синяя жидкость озер среди зеленых, плюшевых отворотов осоки.
Крупное дыхание вспотевших лошадиных тел, темные силуэты людей на фоне красной зари. Божественный, великолепный запах земли, сладкий, как только что подоенное молоко, и острый, как запах женщины!
Но это были только расстроенные нервы. Душа этого человека, разбуженная лесом, тянулась к земле, свободной от унылого буханья машинных прессов и мелкой железной пыли, отравлявшей растительность. Он испытывал тяжелое, бессознательное, хныкающее страдание и умиление перед неизвестным, трогающим его щедрой мощностью сил, брызжущих во все стороны, как кровь из раненого, полнокровного тела. Он только сказал, вспоминая слова песни:
Хорошо бы во лесочке Под-оехать ко милочке…К себе он чувствовал сладкую, тягучую жалость и глубокую ненависть за все: нищету города и слякоть подвала, убийственный монотонный труд и золотушных детей. И за то, что никак не мог уяснить — чего же он хочет, и чего не хочет, и где же радость?
Крупное, трехэтажное ругательство выползло на его губы и скорчилось, придавленное безмолвием. Щеки полировщика вздрагивали, а слезящиеся, узенькие глаза скупо точили на них нудную, соленую влагу. Он повернулся лицом к земле и поцеловал ее в колючую хвою нежным, исступленным лобзанием, как целуют грудь женщины.
Но едва ли знал он, почему это так вышло: голова, проспиртованная суточным пьянством, одиночество, расстроенные вконец нервы…
Желтые лоскутки солнца, блеклая ржавчина сосновых стволов и пестрые, цветные лужайки. Небо еще бледно, заспано и холодновато-холодновато, как утренняя вода для горячего, после сна, лица.
Полировщик проснулся. Пробуждение его было резко от холодного воздуха, ночная сырость, постепенно проникая в одежду, копила там дрожь утреннего озноба; полировщик, содрогаясь всем телом, сел, застучал зубами и осмотрелся.
Пьяница лежал рядом, ничком. Тело его, одетое в приличный черный костюм, напоминало положением своим букву Т — раскинутые и согнутые в кистях, ладонями вверх руки. Его шляпа высовывалась из-под лица смятым краем, коротко остриженные, черные волосы смотрели на полировщика слепым взглядом затылка. Сохраняя в лице выражение осторожной предупредительности, полировщик нагнулся, взял руку соседа, испуганно подержал ее несколько моментов и выпустил, рассматривая круглыми, как пуговицы, глазами почерневшую кровь лица. Из-за уха к щеке лежащего тянулась запекшаяся, неровная полоса, и пьяный вчера — сегодня стал для полировщика трупом.
Опущенная рука хлопнулась на траву и, повернувшись, приняла прежнее положение. Возле нее лежал револьвер, полузакрытый стеблями.
— Караул, — закричал полировщик, пятясь, как лошадь от узды. — Ай! Ай! Ай!
Весь в жару от волнения, он то подходил ближе, то оглядывался, топтался, кружась вокруг мертвого, охая бессмысленно, торопливо ругаясь. Труп казался ему обманщиком, чем-то вроде пройдохи, клянчащего на бутылку, и возбуждал в нем острое любопытство, смешанное с презрением.
— Дурак… ах ты господи! Дурак! — выпячивая губы, тянул он. — Руки на себя наложить, какие же это способы… а?
Бодрый от сна, он вспомнил, какой он хороший мастеровой, как его уважает начальство, как в следующую получку он непременно, непременно принесет домой все, решительно все, до одной копеечки, и почувствовал к мертвецу презрительную жалость, нечто вроде презрения мужика к барину, выпиливающему по дереву. Затем, струсив, что его могут увидеть здесь, возле трупа, поспешными, большими шагами зашагал в сторону, туда, где по просвечивающей среди деревьев тропе тянулись группы рабочих.
Монотонная ярость гудка будила окрестности. Пар насмешливо выдувал:
Для рабов — Ни полей, Ни цветов!Имение Хонса
I
В конце июля я получил несколько настойчивых писем от старого друга Хонса, приглашавших меня то в вежливой, то в добродушно-бранчливой форме посетить недавно приобретенное им имение. Как раз в это время я приводил в порядок запутанные благодаря долгому отсутствию отношения мои с некоторыми крупными редакциями и был по горло занят работой. Последнее письмо Хонса я долго держал в руках; текст его носил отпечаток болезненного возбуждения и, не скрою, сильно задел мое природное любопытство.
«Проклятье городу! — писал Хонс своим прыгающим тесным почерком. — Я счастлив только теперь; кругом свет. Относительно города: имей он форму стула, я с удовольствием сломал бы его вдребезги. Ты должен приехать. Ты будешь поражен. Я открыл истину спасения мира».
Далее следовал ряд обычных пожеланий и вопросов. «Истина спасения мира» заставила меня громко расхохотаться. Конечно, это был ряд веселых, пикантных развлечений, на которые чудаковатый Хонс был мастер всегда.
В раздумьи я подошел к зеркалу. Сидячая жизнь в течение последних трех месяцев сильно изменила мою наружность: исчезла здоровая полнота, результат пребывания на берегах океана, слинял загар, взгляд стал рассеянным, беспокойным, лицо осунулось. В деревне у Хонса, должно быть, действительно хорошо. В конце концов, какая-нибудь неделя отдыха могла только помочь впоследствии в успешном конце работы. Я позвонил и приказал горничной собрать чемодан.
II
Описывать, как я приехал на вокзал, спал в душном вагоне, положив голову на плечо уснувшей толстой молочницы, и как благополучно прибыл к назначенному месту, — считаю совершенно излишним. Потрясающая сущность этого рассказа начинается с того момента, когда я увидел Хонса.
Дело было вечером. Сумеречные краски зари сияли тихим благословением, пахло полевыми цветами, росой и необыкновенно вкусным, густым, как смородинное пиво, деревенским воздухом. Хонс стоял у ворот, широко расставив руки. Он сильно изменился. В степенном, величественном господине трудно было узнать прежнего Хонса, завсегдатая маленьких кабачков и тех веселых городских мест, откуда можно уйти с распоротым животом.
— Я счастлив, — сказал он, обнимая меня, когда я соскочил с лошади, и несколько смущенный торжественностью его голоса, пытался весело засмеяться. — Пойдем же; Гриль, уберите лошадь и всыпьте ей двойную порцию ячменя. Конечно, ты удивлен тем, что я разбогател, не так ли? Это поучительная история.
В Хонсе резко вспыхнула новая для меня черта: он казался подавленным и удрученным, что совершенно и неприятно дисгармонировало с его полной, цветущей внешностью, великолепной бородой и кротким, проницательным взглядом. Костюм его был оригинален: совершенно белый, он производил впечатление, как будто на Хонса вытряхнули мешок муки. Шляпа, галстук и сапоги были тоже белые.
Мы шли через обширный красивый сад, и, пока Хонс с неестественной для него суетливостью, сбиваясь и путаясь, рассказывал мне действительно слегка подозрительную историю своего обогащения (перепродал чьи-то паи), я с любопытством осматривался. Чрезвычайно нежные, поэтические тона царствовали вокруг. Бледно-зеленые газоны, окруженные светло-желтыми лентами дорожек, примыкали к плоским цветущим клумбам, сплошь засаженным каждая каким-нибудь одним видом. Преобладали левкои и розовая гвоздика; их узорные, светлые ковры тянулись вокруг нас, заканчиваясь у высокой, хорошо выбеленной каменной ограды маленькими полями нарциссов. Своеобразный подбор растений дышал свежестью и невинностью. Не было ни одного дерева, нежно цветущая земля без малейшего темного пятнышка производила восхитительное впечатление.
— Что ты скажешь? — пробормотал Хонс, заметив мое внимание. — Заметь, что здесь нет ничего темного, так же, как и в моем доме.
— Темного? — спросил я. — Судя по твоим сапогам. Но все-таки, конечно, у тебя есть в доме чернила.
— Цветные, — горделиво произнес Хонс. — Преимущественно бледно-лиловые. Это моя система возрождения человечества.
Моя недоверчивая улыбка пришпорила Хонса. Он сказал:
— Мы войдем… и ты узнаешь… я объясню…
III
Наш разговор оборвался, потому что мы подошли к большому, каменному белому дому. Хонс открыл дверь и, пропуская меня, сказал:
— Я пойду сзади, чтобы ничем не нарушать твоего внимания.
Недоумевающий, слегка растерянный, я поднялся по лестнице. Действительно, все было светлое. Потолки, стены, ковры, оконные рамы — все поражало однообразием бледных красок, напоминавших больничные палаты в солнечный день.
— Иди дальше, — сказал Хонс, когда я остановился у двери первой комнаты.
Невольно я обернулся. В двух шагах от моей спины стоял Хонс и смотрел на меня пристальным взглядом, от которого, не знаю почему, стало жутко. В тот же момент он взял меня под руку.
— Смотри, — сказал Хонс, показывая отделку залы, — необычайная гармония света. Не к чему придраться, а?
Необычайная гармония? Я сомнительно покачал головой. Мне, по крайней мере, она не нравилась. Смертельная бледность мебели и обоев казалась мне эстетическим недомыслием. Я тотчас высказал Хонсу свои соображения по поводу этого. Он снисходительно усмехнулся.
— Знаешь, — произнес он, — пока подают есть, пойдем в кабинет, и я изложу тебе там свои убеждения.
По светлому паркету, через бело-розовый коридор мы прошли в голубой кабинет Хонса. Из любопытства я сунул палец в чернильницу, и палец стал бледно-лиловым. Хонс рассмеялся. Мы уселись.
— Видишь ли, — сказал Хонс, бегая глазами, — порочность человечества зависит безусловно от цвета и окраски окружающих нас вещей.
— Это твое мнение, — вставил я.
— Да, — торжественно продолжал Хонс, — темные цвета вносят уныние, подозрительность и кровожадность. Светлые — умиротворяют. Благотворное влияние светлых тонов неопровержимо. На этом я построил свою теорию, тщательно изгоняя из своего обихода все, что напоминает мрак. Сущность моей теории такова:
1) Люди должны ходить в светлых одеждах.
2) Жить в светлых помещениях.
3) Смотреть только на все светлое.
4) Убить ночь.
— Послушай! — сказал я. — Как же убить ночь?
— Освещением, — возразил Хонс. — У меня по крайней мере всю ночь горит электричество. Так вот: из поколения в поколение взор человека будет встречать одни нежные, светлые краски, и, естественно, что души начнут смягчаться. Пойдем ужинать. Завтра я расскажу тебе о всех моих удачах в этом направлении.
IV
В столовой палевого оттенка мы сели за стол. Прислуживал нам лакей, одетый, как и сам Хонс, во все белое. За ужином Хонс ел мало, но тщательно угощал меня прекрасными деревенскими кушаньями.
— Хонс, — сказал я, — а ты… ты чувствуешь возрождение?
— Безусловно. — Глаза его стали унылыми. — Я чувствую себя чистым душой и телом. Во мне свет.
Я выпил стакан вина.
— Хонс, — сказал я, — мне чертовски хочется спать.
— Пойдем.
Хонс поднялся, я следовал за ним; конечно, он привел меня в светло-сиреневую комнату; я пожелал ему доброй ночи. Кротко мерцая глазами, Хонс вышел и тихо притворил дверь.
Засыпая, я громко хихикал в одеяло.
Затем наступили совершенно невероятные события. Какой-то шум разбудил меня. Я сел на кровати, протирая глаза. Издали доносился топот, крики, металлическое бряцание. Первой моей мыслью было то, что в доме пожар. Полуодетый я выбежал в коридор, пробежал ряд ярко-освещенных, бледно-цветных комнат, в направлении, откуда слышался шум, открыл какую-то дверь и превратился в соляной столб…
Мертвецки пьяный, в одном нижнем белье, Хонс сидел на коленях у полуголой женщины. На полу валялись бутылки, еще две красавицы с растрепанными волосами орали во все горло непристойные песни, размахивая руками и изредка хлопая Хонса по его маленькой лысине. На подоконнике три оборванца с лицами преступных кретинов изображали оркестр. Один дул что есть мочи в железную трубку от холодильника, другой бил кулаком в медный таз, третий, схватив крышку от котла, пытался сломать ее каминной кочергой. Хонс пел:
И-трах-тах-тах, И-трах-тах-тах, У-ы, у-ы, у-ы.При моем появлении произошло замешательство. Кретины бежали через окно, прыгая, как обезьяны, в кусты. Взбешенный Хонс, схватив кухонный нож, бросился на меня, я быстро захлопнул дверь и повернул ключ. Тогда за запертой дверью поднялся невероятный содом.
Поспешно удалившись, я стал обдумывать меры, могущие успокоить Хонса. Конечно, прежде всего следовало уничтожить следы Гоморры, но Хонс был в той комнате, с ножом, следовательно…
Постояв с минуту, я прошел к себе, взял револьвер и снова подкрался к двери. К моему удивлению, наступила тишина. Употребив две минуты на то, чтобы вытащить ключ, не брякнув им, я успешно выполнил это и посмотрел в скважину.
Хонс, сраженный вином, лежал на полу и, по-видимому, спал. Женщин не было, вероятно, они, так же как и кретины, удалились через окно. Тогда я вложил ключ, открыл дверь и, осторожно, чтобы не разбудить Хонса, привел все в порядок, выкинув за окно бутылки и музыкальные инструменты.
Затем я легонько встряхнул Хонса. Он не пошевелился. Я удвоил усилия.
— Ну, что? — слабо простонал Хонс, приподымаясь на локте.
Я взял его под мышки и поставил на ноги. Он стоял против меня, покачиваясь, с опухшим, бледным лицом.
— Ты… — начал я, но вдруг свирепая, сумасшедшая ярость исказила его черты: я был свидетелем.
С находчивостью, свойственной многим в подобных же положениях, я мягко улыбнулся и положил руку на его плечо.
— Тебе приснилось, — кротко сказал я. — Галлюцинация. Вспомни преподобных отцов.
— Что приснилось? — подозрительно спросил он.
— Не знаю, что-то, должно быть, страшное.
Он с сомнением осматривал меня. Я сделал невинное лицо. Хонс осмотрелся. Порядок в комнате, видимо, поразил его. Еще мгновение, еще ласковая гримаса с моей стороны, и он уверовал в мое неведение.
— Что же такое страшное могло мне присниться? — с наивной доверчивостью, свойственной многим сумасшедшим, сказал он. — С тех пор, как я живу здесь, сны мои светлы и приятны.
Он громко и стыдливо захохотал, в полной уверенности, что обманул меня. Тогда я вздохнул свободно.
Смерть Ромелинка
I
Ромелинк не был доволен своей жизнью; впрочем, постоянные путешествия и большой запас денег давали ему возможность по временам заглушать в себе холодную тоску духа, бывшую единственной и настоящей причиной бродячей жизни, которую он вел в продолжение нескольких лет, равнодушно и уже почти без всякого любопытства переезжая с места на место. Внимательные, глубокие, спокойные глаза Ромелинка останавливались на всем, запоминая каждую мелочь, интонацию голоса, но мир проходил под его взглядом своим, замкнутым для него существованием, как лес мимо стремительно бегущего паровоза.
Теперь, когда ему стукнуло сорок лет, пожалуй, было немного поздно верить в радостную катастрофу, необычайную, восхитительную перемену существования, и мысль о ней лежала где-то в архиве, среди других, полных в свое время жизни и силы, — мыслей. Ромелинк жил зрением, но смотрел он — не удивляясь и не завидуя, полный бессознательного доброжелательства решительно ко всему, что не нарушало его годами накопленного покоя. Это маленькое приобретение он тратил чрезвычайно расчетливо, заботливо уклоняясь от всяких пертурбаций, психологических и иных, где можно оставить частицу себя без всякого за это вознаграждения.
Объехав Африку и Америку, Ромелинк вспомнил и об Австралии. Теперь он ехал туда на хорошем английском пароходе, испытывая сытую скуку от комфортабельного существования и от быстро примелькавшихся лиц людей, сходящихся за табльдотом, где шли нескончаемые споры о колониальной политике, биржевых ценах, где неумолчно звучали названия городов, разбросанных по всему свету, а земной шар становился похожим на колоссальную гостиницу, из номеров которой вышли и случайно собрались в одном коридоре несколько десятков людей. Большинство ехало с семьями: то были вновь назначенные чиновники и офицеры, два-три туриста с изнеженными европейскими лицами, несколько женщин.
Обыкновенно Ромелинк сидел у себя в каюте до вечера. Когда небо и океан остывали, и бархатная, прозрачная даль краснела в облаках, похожих на далекие снеговые горы, залитые водой, — он выходил на палубу, садился у борта, курил; звезды рождались на его глазах, потом таинственное молчание мрака наполняло пространство, и мысли, медлительные, как полет ночных птиц, беззвучно тянули пряжу, соединявшую душу Ромелинка с далекими берегами материков, где гасли отблески прошлого.
II
В пятницу пароход вышел из Бомбея, а в понедельник на юге показалась группа небольших островов.
— Коралловые рифы, — сказал капитан Ромелинку. Когда тот остановил на них свое рассеянное внимание. — Мы идем по архипелагу, впереди будет еще много этих подков.
Он стал рассказывать о странной природе атоллов, тишине и лагунах, об острых зубцах кораллов, спрятанных в прозрачной воде, но Ромелинк, поблагодарив, отошел к юту. Он любил всегда и все узнавать сам.
Вечером снова пришла тоска, того странного молитвенного оттенка, что сопровождал Ромелинка везде в открытом пространстве, будь то океан или пустыня, степь или большая река. Легкий туман стлался над горизонтом, небольшое волнение покачивало пароход, и солнце опустилось в глубину дали неярким багровым кругом. Профили пассажиров, разместившихся по бортам, рисовались на вечерней воде бледными, акварельными набросками.
Стемнело; волнение немного усилилось. Звезд было меньше, только самые крупные из них пробивались сквозь мглу ночного тумана тусклой, золотой рябью; Ромелинк поднялся с места, штурман и старший лейтенант прошли мимо него, раскланялись и пропали в полуозаренном фонарем мраке; они разговаривали; одно слово, вырвавшись, догнало Ромелинка, он машинально повторил его:
— Барометр.
На пороге каюты, подставляя лицо влажному, порывистому ветру, бьющему в незакрытый иллюминатор, Ромелинк испытал мгновенную потребность дать себе отчет в чем-то, что наполняло его в последнее время все чаще ощущением беспокойства. Душа не всколыхнулась глубоко, и в голове мелькнули слова, похожие на ряд цифр:
— Ромелинк, сорока лет. Работал, бывший табачный фабрикант, богат. Путешествую, скучно.
Он зажег свет, разделся и, прежде чем крепко, как всегда, уснуть, прочел главу из Леббока: о радости быть живым, чувствовать и смотреть.
III
Сон прерывался толчками, но тотчас одолевал их, не выпуская Ромелинка из состояния физического оцепенения. Смутно, и более телом, чем сознанием, ощущал он перемещение центра тяжести, ноги то приваливались к стене, то медленно потягивали вниз за собой туловище; руки сползали к коленям; иногда казалось, что весь он наполнен гирями, и они катаются в нем, придавливая к постели грудь, освобождая ее и снова начиная свою беззвучную, медленную игру. Раз его сильно встряхнуло, он проснулся совсем, сообразил, что пароход сильно качает, и вновь защитился сном.
Совсем и уже окончательно Ромелинк пришел в себя тогда, когда почувствовал, что летит вниз. Он судорожно взмахнул руками, но руки встретили воздух, сильный удар в голову оглушил его; вскочив, он широко расставил ноги, как это делают моряки во время качки, но не удержался и отлетел в угол. Стулья, чемоданы и другие предметы с грохотом носились вокруг, понятия — потолок, пол — по временам исчезали, каюта то опрокидывалась на Ромелинка, то на мгновение принимала прежнее положение. Оглушенный, испуганный, он делал невероятные усилия удержаться на одном месте, встать, сообщить членам непоколебимую устойчивость. Разбешенный океан лишал его связности движений, веса, возможности управлять телом. Он походил на игрушку — картонного паяца, взбрасывающего ноги и руки, мотающего головой, но роковым образом остающегося на одном месте.
Ромелинк, спотыкаясь и распластываясь, подполз к вешалке, где висело его платье. Одеться стоило ему таких же трудов, как трубочисту вылезть из трубы белым. Волнение океана передалось ему, он торопился на палубу; разбитый, оглушенный смятением, Ромелинк держался левой рукой за решетку койки, приводя правой в порядок все части костюма, которые требовали особенного внимания. С палубы летел смутный гул, стуки и дробь шагов, в открытый иллюминатор хлестали лохмотья волн, разносясь брызгами по каюте; пенистые лужи их переливались от стены к стене; наступало жестокое бешенство морской ночи, взвихренной ураганом. Ударяясь в обшивку узкого прохода между каютами, где хлопали, открываясь и закрываясь, двери, Ромелинк бросился к трапу, цепляясь за поручни, и через минуту стоял на палубе, ухватившись за рычаг крана.
В первый момент он не мог вздохнуть, — так силен был ветер, хлеставший палубу. Соленая пена гребней била его в лицо, пароход, проваливаясь, подымался, подскакивал, ложился с борта на борт; в сумрачных, трепещущих огнях фонарей бегали, цепляясь за борта, ванты, палубу, люки — темные силуэты и пропадали во тьме, выкрикивая неясные приказания, ругательства, вопросы, похожие на торопливые звуки охрипших рожков или стоны раненых. Идти не было никакой возможности. Ромелинк крикнул, никто не обратил на него никакого внимания.
По палубе металась испуганная, хватающаяся друг за друга, падающая, ползущая на четвереньках толпа. Все чувства, какие до сих пор приходилось испытывать Ромелинку, исчезли, новое, не похожее ни на что, смятение билось в его груди вместе с сердцем, ударявшим так часто и звонко, как будто оно было сделано из металла. Промокший насквозь, босой, без шляпы, он словно прирос к крану, руки его ныли от постоянных усилий, казалось, тьма изо всех сил пытается разом оторвать кран от стиснутых пальцев и бросить Ромелинка на палубу.
Все остальное вспоминалось им после, как омерзительный, холодный кошмар воды, сырости, толчков, вихря и паники. Пароход взбросило, колена Ромелинка согнулись от внезапного сотрясения, глухое, словно из-под земли: «Г-ро-н-н»… пронизало судно; продолжительный треск, перекатываясь от киля до мачт, заухал в трюмах, смолк, и палуба вдруг наклонилась почти отвесно, так что Ромелинк стукнулся подбородком в железо крана и несколько секунд лежал так, повиснув над бездной. Наверху, в реях, пронзительно гудел шторм, лихорадочная, непреодолимая слабость вдруг охватила Ромелинка, он был готов выпустить опору из рук, отдаться власти пьяного ужаса стихий, исчезнуть, — но крики, раздавшиеся вблизи, всколыхнули инстинкт самосохранения.
— Спустить шлюпки! С топорами у талей! Женщин вперед!
Медленно, словно подымающийся после тяжелой раны зверь, — пароход выпрямился. Ромелинк отпустил кран, упал и пополз вперед. Куча полуодетых женщин и мужчин теснилась перед ним, у борта; шлюпка, выведенная за борт, раскачивалась из стороны в сторону. Он встал, схватился за балку и был в центре толпы, тут же заметив, что шлюпка уже полна. В этот момент стало светло, как днем, удар грома соединил небо и воду, и Ромелинк, в нескольких саженях от борта, увидел высокую, мокрую, покрытую сбегающими струями — стену. «Скала!» — решил он, и уже только во вновь наступившем после молнии мраке мгновенный холод тоски, похожий на ощущение падающего в пропасть, сковал его — это была волна.
Он не успел ни приготовиться, ни растеряться; окаменев, в течение одного момента Ромелинк мысленно пережил, до его наступления, удар двигающейся водяной горы, и переживание это стоило смерти. Затем бешеная масса воды сшибла его с ног, полузадушила, сделала легким, закричала в ушах и выбросила за борт.
IV
Сначала Ромелинк закружился в глубокой воронке, образовавшейся вследствие вращательного движения отхлынувшей назад влаги; потом начал работать пятками и выбрался на поверхность. Волны перекатывались вокруг него с глухим шумом, дыбились под ним, держали, покачивая, на закругленных, пенистых спинах и сбрасывали в глубокие, жидкие ямы. Сохраняя, — насколько это было возможно, — самообладание, Ромелинк повернулся на спину, стараясь двигаться как можно меньше, чтобы избежать быстрого утомления, и несколько минут продержался так, но скоро подобное положение оказалось немыслимым — вода заливала рот и нос, и редкие, глубокие вздохи, которые удавалось делать Ромелинку, шли за счет обессиливающих задержек дыхания. Измученный, он перевернулся в воде и стал плыть, стараясь как можно более сохранить лицо от внезапных набегов волн и лохмотьев пены, срываемой ветром. Намокший костюм тянул вниз и сильно мешал плыть, но сбросить его не было никакой возможности: бесформенное, лишенное определенного темпа волнение бросало воду из стороны в сторону, грозя перевернуть Ромелинка при малейшей неосторожности, что могло стоить нескольких невольных глотков соленой воды. Изредка беглый небесный грохот потрясал мрак и бледный, яркий мертвенный свет молний обнажал взбешенную зеленоватую воду.
Эти моменты отчаянной, нелепо расчетливой борьбы за наверняка погибшую жизнь прошли для Ромелинка без страха; страх был бы слишком ничтожен, чтобы заставить его страдать; он испытал нечто большее — глаза Смерти. Они лишили его воли и отчетливого сознания. Сам он, душа его — отсутствовали в то время, оставалось тело, — с тупой покорностью Смерти, — борющееся за лишний вздох, лишнее движение пальца. Это был безнадежный торг человека с небытием, крови — с водой, инстинкта — со штормом, иссякающих сил — с пучиной. В нем не было ни отчаяния, ни веры в спасение, он был судорожно извивающимся автоматом с сердцем, полным тьмы и агонии.
И в то мгновение, когда силы покидали его, когда нестерпимая судорога стала сводить ноги и тысячи острых игл забегали в теле, а сам он сделался тяжелым, как набухший мешок с мукой — еще раз грохнуло в небе и несколько светлых трещин упали вниз. Мелькнула доска, киль шлюпки, перевернутой ураганом, руки со страшной быстротой внезапно вспыхнувшего отчаяния выбросились из воды, застыли на мокром дереве, грудь ударилась в твердое, и несколько тоскливых минут длилось безумие последних, сверхъестественных усилий дышать и держаться до острой невыносимой ломоты в пальцах; боль эта казалась райским блаженством.
V
Очнувшись с тупой болью во всем теле, Ромелинк поднялся на ноги и закрыл глаза, ослепленный дневным светом. Он стоял у самой воды, на берегу небольшого, кораллового острова; лодка, перевернувшаяся вверх дном, валялась невдалеке. У кормы ее, на спине, лицом к Ромелинку, лежала полуодетая молодая женщина.
Он мог бы удивиться, обрадоваться присутствию еще, может быть, живого существа белой породы, но чувство животной радости по отношению к самому себе сделало его в первый момент бесчувственным. Машинально, еще пошатываясь от слабости, Ромелинк подошел к женщине, приподнял ее за плечи и прислушался. Она дышала, но слабо, плотно сжатые губы и необычайная бледность указывали на глубокий обморок, вызванный потрясением.
Усталый от этого небольшого усилия, Ромелинк присел на песок; с закружившейся головой, дрожащей от слабости, он пристально смотрел в лицо женщины. Он помнил ее: она ехала с братом и спаслась, вероятно, так же, как Ромелинк, держась за киль шлюпки. Может быть пальцы их переплетались в то время, когда, оглушенные штормом, они носились в воде.
Ромелинк поднял голову, голос спасенной жизни заговорил в нем, лицо неудержимо расплывалось в улыбку. Он стал смеяться судорожным мелким смешком, все громче, полный полубезумного восторга перед голубым небом, пальмами, пустыней моря. Он чувствовал себя, как человек, родившийся взрослым. Он смотрел на песок, и ему становилось необычайно приятно, следил за игрой волны и покатывался от душившего его счастливого хохота. Он был жив. Казалось, океан выстирал его внутри и снаружи, всколыхнув ужасом смерти все притупленные человеческие инстинкты. Земля была для него в этот момент раем, а существование гусеницы гармоничным, как взгляд божества или полет фантазии. Он не был ни Ромелинком, ни меланхоликом, ни бывшим табачным фабрикантом, а новым, чудесным для самого себя человеком.
Женщина застонала. Ромелинк подошел к ней, нагнулся и употребил все усилия, чтобы привести ее в чувство. Это несколько удалось ему; она открыла глаза и снова закрыла их. Тогда он увидел, что женщина эта поразительно хороша, и странное, быстрое, как полет мысли, чувство бесконечной любви обожгло его душу; он протянул руки…
Что-то тяжелое и холодное разорвало его грудь, горло стянули судороги, странный шум во всем теле, — боль, темнота и смерть.
· · ·
· · ·
· · ·
Шторм продолжался. Скорченное тело Ромелинка носилось в воде, перевертываясь, как пустая бутылка, и через некоторое время тихо пошло ко дну.
В снегу
I
Экспедиция замерзала. Истомленные, полуживые тени людей, закутанных в меха с головы до ног, бродили вокруг саней, мягко черневших на сумеречной белизне снега. Рыжие, остроухие собаки выбивались из сил, натягивая постромки, жалобно скулили и останавливались, дрожа всем телом.
Сани так глубоко увязли, что вытащить их было делом большой трудности. Путешественники, стиснув зубы, напрягали все мускулы, но плотный сугроб, похоронивший их экипаж, упорно сопротивлялся неукротимому желанию людей — во что бы то ни стало двинуться дальше.
— Мы в полосе сугробов, — сказал доктор, хлопая себя по ногам меховыми перчатками. — Двинувшись дальше, мы попадем в точно такую же историю. Я советовал бы идти в обход, держась полосы льдов. Это дальше, но значительно безопаснее.
— О какой опасности говорите вы? — спросил ученый, начальник экспедиции. — Больше того, что мы уже перенесли — не встретить. А между тем по самому точному вычислению, нам остается двести пятьдесят миль.
— Да, — возразил доктор, в то время как все остальные подошли, прислушиваясь к разговору, — но у нас нет собак. Эти еле держатся, их нечем кормить. Они издохнут через сутки.
— Перед нами полюс. Мы сами повезем груз.
— У нас нет пищи.
— Нам осталось двести пятьдесят миль.
— У нас нет огня.
— Перед нами полюс. Мы будем согревать друг друга собственным телом.
— У нас нет дороги назад.
— Но есть дорога вперед.
— У нас нет сил!
— Но есть желание!
— Мы умрем!
— Мы достигнем! Слышите, доктор, — мы умрем только на полюсе!
— А я держусь того мнения, что незачем изнурять людей и самих себя, стремясь пробиться сквозь снежные завалы. К тому же мы прошли сегодня достаточно.
Начальник экспедиции молчал, рассматривая черное, как смола, небо и белую, туманную от падающего снега равнину материка. Тишина заброшенности и смерти властвовала кругом. Беззвучно, сонно, отвесно валился снег, покрывая людей и собак белым, неслышным гнетом. Так близко! Двести пятьдесят миль — и ни одного сухаря, ни капли спирта! Смертельная усталость знобит сердце, никому не хочется говорить.
— Остановитесь, доктор, — сказал начальник. — Отдохнем и проведем эту ночь здесь. А завтра решим. Так? Отдохнув, вы будете рассуждать, как я.
— Нам есть нечего, — упрямо повторил доктор. — А держась берега, мы можем встретить тюленей. Не правда ли, друзья мои? — сказал он матросам.
Четыре мохнатые фигуры радостно закивали. Им так хотелось поесть! Тогда стали выгружать сани, и маленькая палатка приютилась около огромного снежного холма, полного людей, собак. Все лежали, тесно обнявшись друг с другом, и теплое, вонючее дыхание собачьих морд слипалось с дыханием людей, неподвижных от сна, усталости и отчаяния.
II
Ночью один матрос проснулся, вздрагивая от холода. Он только что увидел во сне свою мать, она шла по снежной равнине к югу. Матрос окликнул ее, но она, казалось, не слышала. Медленным, старческим шагом подвигалась она и, наконец, остановилась у снежного возвышения. Сердце матроса сжалось. Он видел, как старушка нагнулась, погрузила в снег руки и, приподняв какой-то темный круглый предмет, похожий на голову человека, прильнула к нему долгим, отчаянным поцелуем.
— Боби! — сказал матрос товарищу. — Мне бы хоть рому глоток. Ты спишь, Боби?
Товарищ его не шевелился. Скрючившись неподвижной меховой массой, торчал он у ног проснувшегося матроса и мерно, часто дышал.
— Боби, — продолжал матрос, толкая спящего, — мне страшно. Мы никогда не выберемся отсюда. Мы погибли, Боби, и никогда больше не увидим солнца. Проснись, ты отдавил мне ногу.
Человек поднял голову, и матрос в белой, мертвенной мгле полярной ночи узнал начальника.
— А я думал, что Боб, — пробормотал он. — Это вы, господин Джемс. Я вас побеспокоил, но, может быть, я сошел с ума. Мне страшно. Мы никогда не выберемся отсюда.
Мутный, горячечный взгляд Джемса был ему ответом. Начальник быстро-быстро зашептал, обращаясь к невидимому слушателю:
— Двести пятьдесят миль, господа. Я — первый! Смелее, ребята, вы покроете себя славой! Мы возвратимся по дороге, усыпанной цветами. Собаки пойдут с нами. Я куплю им золотые ошейники.
Бред овладевал им и выливался в потоке бессвязных, восхищенных слов. Матрос с тупым отчаянием в душе смотрел на пылающее лицо Джемса и вдруг заплакал.
Но вскоре им овладела злость. Все погибают: из пятидесяти осталось всего шесть.
— Околевайте, господин начальник! Вы такой же, как и все, нисколько не лучше. Мы вам поверили и нашли смерть. Что ж — и вы с нами заодно, так уж оно справедливее!
— Полюс, — сказал Джемс, метаясь в жару. — Я вижу его, он светел, как синеватая глыба льда. Он мой.
Матрос сел на корточки, прислушиваясь к тишине. Болезненное храпение со свистом вырывалось из ртов; все спали. Только больной и испуганный продолжали свой внутренний спор. Коченея от холода, заговорил матрос:
— Вы лучше бы помолчали, вот что. Вы больны, можете умереть. Подумайте о нас. Спасите нас. Зачем нам умирать? Это нелепо. Мы хотим все домой, слышите?
— Полюс! — бредил Джемс. — Да, это не то, что какой-нибудь трижды открытый остров. Я вознагражу всех. Я дам по тысяче фунтов каждому. Мы придем, будьте покойны!
Тогда животная, невероятная ненависть проснулась в матросе. Он стал кричать на ухо Джемсу, и его страстные грубые слова резко падали в тишину ночи. Он кричал:
— Полюс? Вы хотите полюса, черт возьми?! Он здесь, слышите? Вот он, ваш полюс, вы уже достигли его, господин Джемс! Ликуйте! Съешьте ваш полюс! Подавитесь им, умрите на нем!
Он бесновался и изрыгал ругательства, но пораженное сознание Джемса поймало только два слова и остановилось на них, мгновенно превращая горячечную мечту в восторженную действительность.
— Вы достигли!
— Да, я достиг, — твердо, но уже почти теряя сознание, сказал Джемс. — Ведь я говорил доктору: двести пятьдесят миль!
Лицо его приняло горделиво-суровое выражение, такое же, какое было у него на точке земной оси. Он вздохнул и окончательно перешел в предсмертный бредовой мир.
На склоне холмов
I
— Вы очень любезны, но я не могу прихлебывать и в то же время рассказывать. Каждый глоток нарушает течение моих мыслей, — ибо не могут встретиться два течения без того, чтобы одно не потонуло в другом, а река вина сильнее слабых человеческих слов.
Отставлю я этот стакан в сторону и посмотрю на него сбоку. Так лучше. Из него отпито ровно столько, чтобы не развинтился язык, а мне хочется рассказать складно и ладно.
Вас это интересует, но посмотрю я, не скорчите ли вы кислую усмешку в конце. Потому что у нас разные характеры, и каждый представляет вещи по-своему. Я остановился на том, что к концу сентября Ивлет представлял опасную единицу и пакостил, так сказать, походя. Он надоел решительно всем, даже, пожалуй, репортерам, потому что редакторы гоняли их без зазрения совести, заставляя разузнавать о новых проделках Ивлета, а он задумывался над ними не более, чем псаломщик над библейскими текстами.
Если вы не видели никогда Ивлета, советую вам отыскать его в Горячей долине, где, по слухам, он сейчас бродит, и сделать хороший фотографический снимок. Лицо его — пылающий уголь, но волосами он бел, как снег, и делает пешком сорок миль в день, это проверено.
Он убежал с работ утром, когда солнце еще блестит в росе, сразу взял полный ход. Пока надзиратели стряхивали досадное, но неизбежное, в таких случаях, оцепенение, он прыгал уже с кочки на кочку среди болот и скрылся быстрее шубы в ломбарде, так что пропали даром восемь патронов, а земной шар сделался тяжелее на полфунта свинца. Но что было, то было, а когда человеку везет, он может смело броситься с церковного купола без всяких последствий. Ивлет удрал, и ни одна пуля не попала в него.
Все, кто не заплатил штрафа за это несколько дорогое развлечение, забыли о нем скоро и основательно, потому что побеги не большая редкость при наших порядках. Пошарили в окрестностях, и тем дело кончилось, так как, рано или поздно, как бывало всегда, естественный ход вещей приводил каторжника обратно.
Ивлет был не из больших птиц, так, что-то вроде убийства жены или любовника. Люди с трезвым взглядом на дело попыхивая трубками, объявили, что он уже окачурился от лихорадки, а если нет — помер от голода. Но это то же самое, как если вы проиграли на фаворите. Ивлету, должно быть, на роду было написано лишить сна праведников. И он сделал это умело, клянусь половинкой ребра Адама или чертовой перечницей! Он пустился во все тяжкие, этот мальчишка с серебряной головой; он сразу поставил ва-банк, и слава его загудела по округу, как большая муха в стекле.
Первый стал говорить пастух из колонии, когда Ивлет, после непродолжительного, но веского разговора, увел барана. Баран, само собой разумеется, был хороший, но для стада в пять тысяч голов это пустяк. Это уже все-таки не понравилось. Так, знаете, создалось такое особое настроение, когда в поле или в лесу человек начинает стрелять глазами во все стороны и невзначай наводит справки — нет ли по соседству бродяг. А что касается дальнейших событий — они все как-то так странно складывались, что Ивлета сперва ругали, затем проклинали, а потом получилось следующее положение: если за сто миль от спящего произносили слово «Ивлет», то со спящим делались судороги.
Легко представить, что оружие стали покупать чаще, чем обыкновенно, и не какие-нибудь кольты, а настоящие ридинги или маузеры. Ивлет действовал в одиночку, с азартом запойного игрока, и предпочитал фермеров всякой другой дичи. Никто не может пожаловаться на его грубость; в случае отказа он не ругался, а посылал пулю в голову — и делу конец; вообще он не любил разговаривать; видевшие его подтвердят, что во всех своих рискованных операциях он задумчив и сосредоточен, как голубь на вертеле или марабу на закате солнца, когда рыба прыгает по поверхности.
В то время его ловили, но это была, конечно, игра в открытую. Лес тянется на пятьсот миль к северу и востоку; пустыня, примыкающая к нему, — огромна. Естественно, что при таких условиях Ивлет мог на час, на два, без особой опасности для себя приближаться к большим дорогам в разных местах опушки.
Где он покупает порох, провизию и одежду — оставалось тайной. Правительство нервничало и, как почти всегда бывает в таких случаях, изо всех сил рекламировало Ивлета, посылая целые эскадроны, наполнявшие окрестности звоном и грохотом, предупреждавшим Ивлета верней срочной депеши, что нужно подтянуться и совершить для развлечения маленькую прогулку вглубь страны.
II
Когда пришел мой черед взяться за это грязное дело, я приобрел пару ищеек, а из тюрьмы достал старую куртку Ивлета. Собаки нюхали ее долго и основательно, потому что в сукне накопилось запахов больше, чем в парфюмерной лавке, и разобрать, который из них принадлежит Ивлету, могли только собаки, уважающие честь носа. Шесть человек сопровождало меня. Первые три дня мы сильно смахивали на туристов в картинной галерее, расхаживая во все стороны, как попало. Собаки вели себя, пожалуй, не лучше, след не давался им, так как перед этим были дожди.
Постепенно мы становились задумчивы, молчаливы и на вечерних привалах все реже перекидывались словами, прислушиваясь к бесконечному шепоту дебрей. Это действие леса, сударь, и для человека, любящего поговорить, как я, — отрава, потому что ничего не может быть досаднее зрелища семерых ловких и не трусливых людей, вздыхающих от неизвестных причин. Мы двигались в сердце этого зеленого океана; его монотонный пульс кружил головы и высасывал мысли; без конца пестрели в глазах тени и свет, тени и свет, совершенно так, когда в комнате вспыхивает и гаснет и не может умереть пламя. Все мы сделались тихие, как церковные побирушки; я, откровенно говоря, не понимаю этого дьявольского очарования, но оно пропитывало меня насквозь.
Следствием всего этого было то, что рвение наше как бы охладело, и сам Ивлет казался по временам существующим где угодно, только не на земле. Время от времени я потчевал собак запахом старой куртки; они отрицательно вертели хвостами и гонялись за попугаями. Но к вечеру четвертого дня лай их вдруг стал тревожным и резким, и они стукнулись головами, обнюхивая одну и ту же непонятную для людей точку.
Я насчитал шесть улыбок, куда не прибавлю своей, потому что предпочитаю смеяться внутренно. Во мне все смеялось от радости, и дремотное, расслабленное оцепенение покинуло мою голову быстрей сна, убитого пушечным выстрелом. Физиономии рядовых напоминали розовые бутоны; им, как и мне, надоело слоняться без толку.
Мы двинулись, толкая друг друга в узких проходах, где умирал свет, и руки делались влажными от сырости паразитов, свивавших целые каскады листвы. Стволы, поваленные дряхлостью и циклонами, пересекали наш путь, деревья теснились ближе друг к другу, в полумраке их колонн сдавленный лай собак звучал робко, как голос высеченного.
Вдруг собаки остановились. Хвосты их усиленно двигались во всех направлениях, а ноздри трепетали, как паруса в рифах. Они топтались на месте, оглядывались, припадали к земле и всеми доступными для собак способами показывали, что дичь близко. Мы замерли, ощупывая затворы. В это мгновение у меня развернулись внутри все пружины, я побледнел и затрясся от нетерпения. Дикая мысль вспахала мой мозг, но я не сообщил ее никому и только приказал отвести собак.
Их оттащили в сторону, и посмотрели бы вы, как становилась дыбом слежавшаяся под ошейниками шерсть, в то время как руки солдат тащили их.
— Повремените немного, — сказал я. — Стойте на месте и предоставьте мне действовать. Но если я закричу, будьте развязнее, потому что полсекунды в нашем положении значит много.
Не думаю, чтобы я вызвал этим хотя маленькое неудовольствие. Я двинулся в чащу, уклоняясь то вправо, то влево, потому что ежесекундно ожидал выстрела. Неприятное, тягостное чувство гвоздило меня, в предательском молчании леса треск сучьев под моими ногами казался грохотом. В горле что-то спирало, и был даже позорный миг, когда я остановился, глотая волнение маленькими кусочками, как лед в полдень. Выстрел, даже удачный, был бы для меня настоящим благодеянием.
Кусты, в которые я вламывался, как бык, кончились так неожиданно, что я невольно присел.
Но вокруг было пусто; небольшая лужайка пылала в прозрачном огне солнца, и вид ее был тих и радостен, как привет друга. Только на противоположной стороне, в тени лиственных зонтиков, валялась небольшая серая шляпа.
Я недоверчиво подошел к ней, поднял ее и пристально осмотрелся. Ничто не угрожало моей особе, в глубине чащи невидимое, пернатое существо настраивало свой инструмент, повторяя с раздражающим самодовольством артиста: — «керр-р-чвик… чюи… керр». Я вслушался, и мне стало грустно. Я сразу устал, я почувствовал себя совершенно разбитым и напоминал пружину, раскрученную в воздухе, когда еще дрожат оба ее конца, не встретив сопротивления. Ружье, ставшее бесполезным, насмешливо блестело стволом.
Бумажка, пришпиленная изнутри к полям шляпы, зашелестела под пальцами, я с любопытством отделил ее и прочел следующее:
«Я, Ивлет, живу здесь и буду жить здесь. Ловите меня. Тот, кто задержит Ивлета, получит от него в подарок медный негритянский браслет. Прощайте».
Я разорвал бумажку так мелко, как только могли это сделать мои пальцы, вздрагивавшие от бешенства, и возвратился к своим.
III
Мы исколесили всю западную часть леса, примыкающую к реке. Здесь след обрывался. Собаки нюхали воду, прыгали и, останавливаясь в задумчивости, жалобно смотрели круглыми, рассеянными глазами на розоватое водяное плато. Наступал вечер. Природа дремала в благословении последних лучей, задумчивых, как пастух на холме. Ноги наши стонали от изнурения; липкие от дневного пота, мы жадно вдыхали прохладные водяные испарения, пахнувшие росистым утренним цветником.
— Сделаем плот, — сказал Гриль, размахивая топором с такой яростью, как будто хотел разрубить земной шар. — И несколько хороших шестов. Подлец удрал на тот берег, это ясно младенцу. Смотрите на песок.
Действительно, небольшие, воронкообразные ямки, расположенные зигзагом в мокром, засасывающем след песке, показывали, что здесь прошел человек.
Кое-кто еще возражал, предлагая возвратиться назад и попытать счастья посуху, но я взял у Гриля топор и засадил его чуть не по обух в кору ближайшего дерева. Постепенно все принялись за дело.
И к ночи мы сотворили плот, на котором свободно могло бы переехать даже изнеженное сановное лицо, с кухней и со всем штатом прислуги. Переправа совершилась в полной темноте, собаки притихли и смирно лежали у наших ног, вздрагивая от воды, плескавшей сквозь скрепы бревен. Течение вырывало шесты из рук: плот медленно, но безостановочно кружился слева направо, и держаться верного направления мы могли только с помощью компаса, поднося к нему зажженную спичку. Глухой толчок развеселил всех, плот, зацепившись за прибитые течением к берегу стволы, вырванные разливом, остановился, как вкопанный. Мы вышли.
Тогда, стукаясь в темноте лбами, мы стали карабкаться по склону крутого берега, то и дело спотыкаясь о теплые собачьи туловища, вертевшиеся под ногами. Запыхавшись, я шел последним; мечтой всех было уснуть, набив желудок печеным мясом и кофе. Мы шли в молчании, я руководился треском чащи, шумевшей под напором солдат.
И так как за день соображения наши постоянно вертелись вокруг Ивлета, мне в виде отдыха пришло в голову помурлыкать романс белокурой девчонки из кабачка, называвшегося театром в силу вежливости или по простоте души. Там говорится, что юбка на женщине прилична только для стариков. Распевая полтоном ниже, чем обыкновенно, я загрустил, потому что мне вдруг представился багровый нос капитана моей роты и сизый табачный дым; все вместе напоминало утреннюю зарю. Но лес требует внимания, сударь, не меньше, чем шахматы, или биллиардный удар. Не прошло и минуты, как я запнулся, в тот же момент моя голова взвыла от боли, огненные головастики запрыгали в темноте, и все исчезло.
IV
Знакомо ли вам состояние полусна, полудремоты, когда сознание возвращается мгновениями только затем, чтобы, скользнув по душе обрывками действительности, — исчезнуть как молния в смоле ночи? Я чувствовал скрип, легкое безболезненное покачивание, тупую боль в голове и, при первой попытке осветить свое положение разумом, лишался чувств. Так продолжалось довольно долго, иногда промежутки сознания были длиннее, иногда короче, но ничего нового не входило в них, за исключением песни, распеваемой невидимым для меня певцом где-то наверху. Голос его звучал рассеянно и утомленно. Когда я открывал глаза, было темно, как в брюхе черной кошки, ноги мои и руки лежали как деревянные. Я не в силах был пошевелить ими. Снова мое сознание заволоклось туманом. Но это длилось теперь, вероятно, лишь несколько секунд, следующий момент заставил меня встрепенуться. Я различил плеск воды, такой слабый, что его можно было принять за щелканье языком. Мысль о том, что меня куда-то везут, показалась мне неимоверно смешной, я тихонько захохотал, чем все и окончилось, потому что слабый, разбитый ударом мозг не выдержал усилия смеха. Наступило забвение, и сколько длилось оно, не знаю.
К полному, окончательно устойчивому сознанию меня вернул соленый запах моря и теплый ветер, полоскавший лицо сильными вздохами. Я осмотрелся. Была ночь; вверху, вспыхивая, мерцали звезды, и море было полно звезд; воздушная, прозрачная пустота ночи шумела подо мной голосами прибоя, шуршал мокрый гравий и раковины, перебрасываемые узкой лентой волны, засыпающей с разбегу на побережьи; движущаяся линия океана внизу блестела фосфорическим светом позолоченных подводным огнем волн. Тело мое тянуло вниз, из этого я заключил, что лежу вниз ногами, на плоскости, наклонной к морю. Я попытался встать и не мог, повернул голову и увидел за собой, выше, темные громады холмов. Одинокий, я был слаб, как грудной младенец, но состояние моего духа, безразличное к настоящему, отличалось необыкновенной ясностью и покоем.
Постепенно я вспомнил лесной удар в голову. Далее был провал, пустота, слабо заполненная отрывочным плеском воды, пением и покачиванием. В это время сзади раздались медленные шаги, я повернул голову и увидел темный силуэт человека. В руках его было ружье. Он тихо сел подле меня, я пристально смотрел в его лицо, окутанное туманом ночи. Наконец он спросил:
— Ну, как?
— Кто вы? — спросил я, приподнимаясь на локте.
Он засмеялся сдержанным, мелодическим смехом. В темноте глаза его казались маленькими, блестящими пропастями. Я повторил вопрос.
— Вам небезынтересно будет узнать, — заговорил он, не отвечая на мои слова, — что произошло после досадной, но простительной с вашей стороны оплошности. У водопоя ставят часто такие ловушки? Зверь задевает веревку и сверху летит бревно. Вы спасли какое-то четвероногое от участи, постигшей вас самих. А я шел следом. Я постоянно был в затылке последнего человека из вашего отряда; конечно, ваши собаки шли там, где я прошел раньше. Это был единственный способ.
— Вы Ивлет, — сказал я, остолбенев в первое мгновение.
— Да, — мельком ответил он и продолжал: — я взял вас из любопытства. Что делать? В лесу нет развлечений, нет людей, а мне хотелось поговорить с вами и, кроме того, посмотреть, как вы будете себя вести. Вы безопаснее для меня теперь, чем для вас я.
Он помолчал и прибавил:
— Я привез вас на лодке. Вы были в бессознательном состоянии, иногда ругались. Первые полчаса я вез вас так, чтобы ваша голова, свесившись, болталась в речной воде. Как видите, это помогло.
В тоне его голоса не было ни обидного сожаления, ни мелочного торжества. Он говорил спокойно и добродушно, как человек, напоминающий другому то, что уже известно обоим. Тем не менее, слушая его, я волновался, как кипяток в закрытой кастрюле. Стиснув зубы, я крикнул:
— Вы арестованы!
— Ха! — кротко сказал он, вставая. — Подымитесь и попробуйте сесть. Волнение для вас вредно, нужно, чтобы кровь отлила к ногам. Сядьте.
Я чувствовал, что краснею от замешательства. Мой повелительный возглас бессильно утонул в темном пространстве, убитый коротким «ха». Я невыразимо страдал.
— Сядьте, — повторил он.
Сделав усилие, я сел. Чуть-чуть закружилась голова, но через мгновение я почувствовал себя крепче. Я мог соображать, спрашивать, давать ответы.
— Ивлет, — сказал я, — все это странно, что мы здесь вдвоем. Я безоружен, но будьте уверены, что я вас, рано или поздно, поймаю.
— Зачем? — спросил он.
— Вы смеетесь! — вскричал я, начиная приходить в раздражение. — Кто вы? Это ясно. И бросимте эту комедию.
— Пират, да, — сказал он с оттенком сухости. — Но, боже мой, я живу такой убогой, нескладной жизнью. Воровать овец, грабить фермеров и делать пакости береговой охране, клянусь вам, скучнее, чем быть писцом у нотариуса. Еще месяц такой жизни, и я повешусь от скуки. Но здесь, — он повел рукой в сторону моря, — в торжестве молчания, я вознаграждаю себя с избытком за ошибки правительства. Здесь вправе каждый прийти и сбросить с себя все, вплоть до своего имени. Послушайте тишину!
Он смолк, а я ждал в необъяснимой тревоге, потому что это говорил каторжник. Утомительно полная, украшенная ворчанием океана, тишина следила за нами.
— Итак, — заговорил он снова, — довольно выпустить раз в подлеца пулю, чтобы лишиться навсегда права дышать! Я беспокою окрестности, но иначе мне пришлось бы умереть с голоду. Молодой человек, я стою за то, чтобы были места, где люди могут встречаться спокойно душа с душой, без камня за пазухой и без имени, потому что Ивлетом можете быть и вы, как я мог сделаться вами. Я вправе был бы убить вас, потому что с этой же самой целью вы преследовали меня. Здесь мы равны, вопрос в силе. Но я не сделаю этого.
— Место, — сказал я, — почему это место?
— Не знаю, — ответил он. — Я давно отметил его, как бесплатную лечебницу. Покой вносит покой.
Он смолк. Я смотрел вниз, совершенно подавленный, встревоженный, с ворохом бессвязных утомительных мыслей. Слова, только что прозвучавшие в моих ушах, казалось, шли не от темной фигуры человека, а от тишины и невидимого, вспыхивающего фосфором океана, и печальных холмов, заснувших в оцепении. В ушах гудел слабый звон; под обрывом тихо шуршал гравий.
Тогда все закачалось, и вернувшаяся, прогнанная волнением слабость обрушилась на меня теплой волной. Я лег, сердце билось неровно, толчками, сырая трава знобила спину и ноги.
Сильная рука встряхнула меня. Я закрыл глаза. Ивлет сказал:
— Дорога к реке идет влево. На самом гребне холмов встретите выщербленный ветром базальт, спуститесь, придерживаясь середины склона. А потом будет каменное ложе потока, которое приведет вас к небольшой бухте. Немного внимания, и вы там найдете мою пирогу. Прощайте. Вот сухари, вот свинина.
Что-то твердое шлепнулось около моей головы. Потом зашелестела трава и мелкий кустарник. Ивлет шел вниз, его темная, исчезающая по временам фигура, мягко подпрыгивая, опускалась ниже и ниже.
Я встал, покачнулся, но удержал равновесие и почувствовал, что могу двигаться. Снизу выделился неясный шум, и ветер донес обрывок негромкой песни, прозвучавшей жалобой и угрозой:
Ночью на западном берегу пролива Мы ловили креветок и черепах, Забыв о кораблях неприятеля!..Пролив бурь
I
В полдень, как и всегда, Матиссен Пэд удалился на песчаные холмы мыса. Из-за волосатой пазухи Пэда торчали лоснящиеся горла бутылок и при каждом шаге кривых ног тоскливо брякали друг о друга, словно им предстояло вылиться не в стальной желудок виртуоза, а в презренные внутренности грудного младенца.
С Пэдом происходило то, что происходит со многими неумеренными людьми, если их телесное сложение и отсутствие нервов хотя отдаленно напоминают племенного быка: он впился. Самые страшные напитки, способные уложить на месте, не хуже пистолетного выстрела, любого гвардейца, производили на его проспиртованный организм такое же впечатление, как легкий зефир на статую. Пока шхуна шаталась в архипелаге, он был воистину несчастнейшим из людей этот старый морской грабитель, видевший смерть столько раз, сколько в гранате семечек.
Изобретательный от природы, он с честью вышел из затруднительного положения, как только «Фитиль на порохе» бросил якорь у берегов пролива. Каждый полдень, сидя на раскаленном песке дюн, подогреваемый изнутри крепчайшим, как стальной трос, ромом, а снаружи — песком и солнцем, кипятившим мозг наподобие боба в масле нагретыми спиртными парами, Пэд приходил в неистовое, возбужденное состояние, близкое к опьянению.
Выдумкой этой гордился он, пожалуй, не меньше, чем именем, данным им самим шхуне. Раньше судно принадлежало частной акционерной компании и называлось «Регина»; Пэд, склонный к ярости даже в словах, перебрал мысленно все страшные имена, однако, обладая пылким воображением, не мог представить ничего более потрясающего, чем «Фитиль на порохе».
Жгучий вар солнца кипятил землю, бледное от жары небо ломило глаза нестерпимым, сухим блеском. Пэд расстегнул куртку, сел на песок и приступил к делу, т. е. опорожнил бутылку, держа ее дном вверх.
Спирт действовал медленно. Первые глотки показались Пэду тепловатой водой, сдобренной выдохшимся перцем, но следующий прием произвел более солидное впечатление; его можно было сравнить с порывом знойного ветра, хлестнувшим снежный сугроб. Однако это продолжалось недолго: до ужаса нормальное состояние привело Пэда в нетерпеливое раздражение. Он помотал головой, вытер вспотевшее лицо и вытащил адскую смесь джина, виски и коньяку, настоянных на имбирных семечках.
Сделав несколько хороших глотков из темной плоской посудины, Пэд почувствовал себя сидящим в котле или в паровой топке. Песок немилосердно жег тело сквозь кожаные штаны, небо роняло на голову горячие плиты, каждый удар их звенел в ушах подобно большому гонгу; невидимые пружины начали развертываться в мозгу, пылавшем от такой выпивки, снопами искр, прыгавших на песке и бирюзе бухты; далекий горизонт моря покачивался, нетрезвый, как Пэд, его судорожные движения казались размахами огромной небесной челюсти.
Почти пьяный, Пэд одобрительно мычал, пытаясь затянуть песню, но ничего, кроме хриплого рева, не выходило из его воспаленной глотки, привычной к мелодиям менее, чем монах к сену. Несмотря на это, он испытывал неверное счастье пьяницы, мечтательное блаженство медведя, извлекающего из расщепленного пня дребезжащую ноту.
Так продолжалось около часа, пока красный туман не подступил к горлу Пэда, напоминая, что пора идти спать. Справившись с головокружением, старик повернул багровое мохнатое лицо к бухте. У самой воды несколько матросов смолили катер, вился дымок, нежный, как голубая вуаль; грязный борт шхуны пестрел вывешенным для просушки бельем. Между шхуной и берегом тянулась солнечная полоса моря.
Веселый, пошатывающийся, распаренный, как хмель в кадке, Пэд тронулся с места, неуклюже передвигая ногами. В тот же момент лицо его приняло выражение глубочайшего изумления: воздух стал тусклым, серым, небо залилось кровью, и жуткий, немой мрак потопил все.
Пэд тяжело рухнул ничком, сраженный хорошей порцией спирта и солнечного удара.
«Плохие игрушки!» — сказал бы он сам себе, если бы имел время размыслить над этим. В его голове толпились еще некоторое время леса мачт, фантастические узоры, отдельные, мертвые, как он сам, слова, но скоро все кончилось. Пэд сочно хрипел, и это были последние пары. Матросы, подбежав к капитану, с содроганием увидели негра: лицо Пэда было черно, как чугун, даже шея приняла синевато-черный цвет крови, выступившей под кожей.
— Отчалил! — вскричал длинноволосый Родэк, суетясь около Пэда. — Стань тут, Дженнер, а ты, Сигби, тащи его за ноги. Что, не поднять? Ну, говорил же я, что в нем по крайней мере десять пудов!
— Родэк, — сказал Дженнер, взволнованно почесывая за ухом, — поди принеси две палки и ведро воды. Может, он жив еще. Если же действительно капитан отчалил — мы его донесем на палках до катера.
— Как это не вовремя, — проворчал Сигби. — Назавтра готовились плыть. Я недоволен. Потому что ребята передерутся. И это всегда так, — закончил он, с яростью топнув ногой, — когда в голову лезут дикие фантазии, вместо того, чтобы напиваться по способу, назначенному самим чертом: сидя за столом под крышей, как подобает честному моряку!
II
— Аян, мальчик, — сказал кок, проходя мимо камбуза, — тебе следовало бы тоже там быть: все разгорячены, и теперь держи ухо востро. Полезно слушать, что говорят ребята, это может относиться ведь и к тебе.
Аян улыбнулся.
— Мое время еще не наступило, — тихо проговорил он, раскачивая руками ванты и следя, как выбленки, вздрагивая от сотрясения, успокаиваются под саллингом. — Я подожду.
— Положим, — сказал кок, хлопая по плечу юношу, — ты не так уж зелен, красивый мошенник, чтобы быть здесь совсем в загоне. Ступай, сокровище палача, в кубрик, там все. Я тоже направляюсь туда по одному делу, которое, откровенно говоря, ставит меня в тупик. Скажи, Ай, видано ли, чтобы от кока требовали знать бухгалтерию? С меня требуют хозяйственный отчет — вещь неслыханная! Это позор, Аян, для настоящих грабителей и так же мелко, как сухой берег. Когда я путался с Гарлеем Рупором (он отчалил шесть лет назад, простреленный картечью навылет) — не было ничего подобного: каждый, кто хотел, шел в трюм, где, бывало, десятками стояли хорошие фермерские быки, разряжал револьвер в любое животное и брал тот кусок, который ему нравился. Иди, Ай, ведь это же в самом деле будет любопытно!
— Пойдем, — равнодушно сказал Аян, — но ты знаешь, я не люблю шума.
— А ты на них цыкни, — насмешливо возразил повар. — Вот и все.
Была ночь, океан тихо ворочался у бортов, темное от туч небо казалось низким, как потолок погреба. Повар и Аян подошли к люку, светлому от горящих внизу свеч; его полукруглая пасть извергала туман табачного дыма, выкрики и душную теплоту людской массы.
Когда оба спустились, глазам их представилась следующая картина:
На верхних и нижних койках, болтая ногами, покуривая и смеясь, сидела команда «Фитиля» — тридцать шесть хищных морских птиц. Согласно торжественности момента, многие сменили брезентовые бушлаки на шелковые щегольские блузы. Кой-кто побрился, некоторые, в знак траура, обмотали левую руку у кисти черной материей. В углу, у бочки с водой, на чистом столе громоздилось пока еще нетронутое угощение: масса булок, окорока, белые сухари и небольшой мешочек с изюмом.
Посредине кубрика, на длинном обеденном столе, покрытом ковром, лежал капитан Пэд. Упорно не закрывавшиеся глаза его были обращены к потолку, словно там, в просмоленных пазах, скрывалось объяснение столь неожиданной смерти. Лицо стало еще чернее, распухло, лишилось всякого выражения. Труп был одет в парадный морской мундир, с галунами и блестящими пуговицами; прямая американская сабля, добытая с китоловного судна, лежала между ног Пэда. Вспухшие кисти рук скрещивались на высокой груди.
Но смерть, столько раз хлопавшая по плечу всех присутствовавших, производила и теперь слабое впечатление: держались развязно, спорили, бились о заклад — пропахнет ли Пэд к утру или удержится. Смешанное настроение кабака, кладбища и подозрительного общества отозвалось в сердце Аяна неожиданным возбуждением: предчувствие важных событий наполнило его молодые глаза беспокойным блеском зрачков рыси, вышедшей на охоту. Он стал в углу, улыбаясь своей странной улыбкой, похожей на неопределенный жест человека, колеблющегося между приветствием и угрозой.
Едва Аян занял свое место, как на койку взгромоздился Редок, правая рука Пэда; теперь просто рука, потому что туловище отчалило. Квадратное, надменное лицо Реджа без устали скользило глазами по лицам присутствующих. Наступила относительная тишина.
— Ребята! — сказал Редж. — Случилось то, что случилось. Вот, — он протянул руку к голове трупа, — вы видите. Пэд страшно пил, как вам всем известно и без меня, но кто посмел бы его упрекнуть в этом?
— Хорошо сказано, — подхватил сосредоточенный бас Дженнера. — Валяйте, лейтенант, дальше, и да поможет вам небо благополучно бросить оба якоря в гавани.
— Всякому будет свое время упражняться в красноречии, — перебил Редж, с неудовольствием взглянув на матроса. — Ребята! Что толковать — мы не какое-нибудь военное судно, где выдают чарку виски в полдень и перед ужином. Меня разбирает смех, когда я об этом думаю. Да, Пэд твердо помнил свою позицию, и память погубила его. Сколько у меня в бороде волос, столько раз брал я его за рукав, когда он, нагрузив пазуху и карманы, шел на этот роковой холм. Он ругался. Он страшно ругался и твердил, что должен напиться хоть раз в день. Исправить этот несчастный случай — то же, что подковать на бегу лошадь. Мы здесь бессильны, и, если бы могли плакать, труп Пэда плавал бы теперь в наших слезах, как тростинка в большой реке. Благодаря тебе, Пэд, — повысив голос, обратился Редж к трупу, — из шершавых волчат выросли настоящие волки. Аминь.
Он смолк и трагически поднял брови, стараясь уловить, какое впечатление произвела его речь. Раздались сдержанные рукоплескания.
— Теперь, — сказал Редж, — мы, как живые, должны озаботиться насущными, неотложными делами. Нужно привести все в порядок, чтобы тот, кого вы выберете капитаном, — здесь Редок приостановился, но в тот же момент лица всех сделались непроницаемыми, а некоторые даже потупились, — чтобы новый начальник видел все ясно, как на стекле. Сейчас выступит повар Сэт Алль и даст отчет в имеющемся продовольствии. Затем я — в общем приходе и расходе, и, наконец, штурман Гарвей приведет в известность всех относительно оружия, корабельных материалов и остального инвентаря. Потом, не откладывая в долгий ящик, произведем выборы капитана, так как вы знаете, что отсутствие дисциплины на судне пагубнее, чем присутствие женщины. Я кончил.
Загорелый, шишковатый лоб Реджа покрылся испариной. Он перевел дух и отошел в сторону, а на его место стал повар. Манеры Сэта явно показывали глубокое презрение к роли, в которой ему приходилось выступить: он демонстративно покачивался и ежеминутно засовывал в карманы руки, снова извлекая их, когда требовалось сделать какой-нибудь небрежно-шикарный жест.
— Ну, что же, — начал повар, — вы, конечно, меня все хорошо знаете. К чему эта глупая комедия? Будем объясняться начистоту. Я обокрал вас, джентльмены, — в течение этих трех лет я нажил огромное состояние на пустых ящиках из-под риса и вываренных костях. Я еще и теперь продаю их акулам, из тех, что победнее, — три пенни за штуку — будь я Иродом, если не так. Только вот беда: денег не платят.
Яростный взрыв хохота сопровождал эту незамысловатую шутку. Сэт вытер усы, лукаво подмигивая натянутой физиономии Реджа, и стал внезапно серьезен, только в самой глубине его вертлявых зрачков вспыхивали насмешливые огоньки.
— Я все записал, — сказал он, доставая засаленную бумажку. — Вот слушайте: осталось у нас: галет 1-го и 2-го сорта сорок мешков, муки — шесть больших бочек, каждая, вероятно, в полтонны; соленой свинины — две бочки, кроме того, имеются два почти издохших быка… Относительно быков: пасти мне, что ли, их здесь? Я завтра пристрелю обоих. Ты что обеспокоился, Сигби? Не протухнут, есть ледники и селитра. Что же еще есть у нас? Да — кофе, прессованные овощи…
И он тщательно, упираясь пальцем в бумажку, перечислил всю наличность провизии. Выходило, что в этой, спрятанной от чужих глаз бухте можно просидеть с месяц, не беспокоясь о том, что есть.
Сэт ретировался под дружный гул одобрений. Наступила очередь штурмана. Этот даже не потрудился встать с койки, где между ним и боцманом стояла бутылка в обществе оловянных стаканов. Аян видел из своего угла, как острое, серьезное лицо штурмана высунулось из-за пиллерса, быстро швыряя в толпу увесистые, короткие фразы, прерываемые характерным звуком жующих челюстей.
— Все благополучно, — сказал Гарвей. — Судно в исправности, не мешало бы почистить обшивку форштевня под ватерлинией: там наросло ракушек и всякой дряни. Старая течь, наконец, открыта: вода сочилась под килем, у третьего тимберса от кормы, слева. Поставили заплату. Все материалы налицо, от железных скобок до запасного кливера. Пороху хватит до следующих дождей; при желании бомбардировать луну хватило бы, по крайнем мере, на месяц, и это при беспрерывной канонаде. Арсенал состоит из сорока двух запасных собак, пятии шестизарядных; Когана — двадцать, Мортимера — шесть, Смита и Вессона семнадцать, Скотт — девять. Два орудия — блестящие, нежненькие, без одной царапины. Снаряды: картечи — два ящика, гранат — три, кроме того, две дюжины стальных ядер, с обшивками Леверсона. Двадцать американских топоров, два гарпуна, одиннадцать сабель, восемьдесят каталонских ножей. Винтовки: одиннадцать Кентуккийских, пять Бердана, десять Новотни, Штуцера: тридцать четыре — Пристлея, один — Джаксона, патроны в полном комплекте.
Гарвей умолк так же неожиданно, как и заговорил. Отвернувшись, он продолжал чокаться с боцманом.
Между тем шум усилился, по рукам ходили бутылки, многие стояли, прислонившись спиной к столу, на котором лежал Пэд, и, размахивая локтями, толкали покойника. Аян подошел к Гарвею.
— Штурман, — сказал он, чуть-чуть нахмурившись, — вы слышите? Голос каждого звучит совсем иначе, чем когда был жив капитан Пэд. Я чувствую тревогу. Что будет?
— Ты много стал понимать, Ай, — произнес штурман. — Молчи, ты моложе всех, не твое дело.
— Я чувствую, — повторил юноша, — что произойдут важные события. Меня никогда не обманывают предчувствия, вы увидите.
— Постой! — крикнул Родэк, приподымаясь, чтобы взглянуть на вышедшего вперед Реджа. — Он хочет сказать что-то!
Аян повернулся. Редж, тоже слегка пьяный, махал рукой, приглашая команду слушать. Образовался кружок, лейтенант встал у трупа, упираясь рукой в край стола. Казалось, что он схватил покойника за руку, ища поддержки.
— Эти три месяца, — почти закричал Редж, — дали нам одиннадцать тысяч наличными и две — за проданный транспорт индиго. Деньги переведены в банк «Приятелю». Есть расписки. Проверкой документов займется тот, кто будет новым начальником. Слушайте, ребята, — с новой силой закричал он, — объявите ваши симпатии! Пусть каждый назовет, кого хочет, здесь все свободны!
Разом наступила глубокая тишина, как будто вдруг опустел кубрик и в нем остался один Редж. Началось немое, но выразительное переглядывание, глаза каждого искали опоры в лицах товарищей. Не многие могли похвастаться тем, что сердца их забились в этот момент сильнее, большинство знало, что их имена останутся непроизнесенными. Кой-где в углах кубрика блеснули кривые улыбки интригов, сдержанный шепот вырос и полз со всех сторон, как первое пробуждение ночного прилива.
Аян молча стоял у койки; его озаренные изнутри глаза отражали общее сдержанное возбуждение, заражавшее желанием неожиданно возвысить голос и произнести неизвестное ему самому слово, целую речь, после которой все стало бы ясно, как на ладони. Между тем, спроси его кто-нибудь в это мгновение: «Ай, кто достойнейший?» — он ответил бы обычной улыбкой, жуткой в своей замкнутости. Наконец боцман сказал:
— Штурман Гарвей, ребята, и никто больше!
При полном молчании матросов штурман пожал плечами, как бы удивляясь столь длинной паузе, но, в общем, остался спокоен. Боцман продолжал:
— Я вам говорю, не кобеньтесь. Гарвей знает все, все видел, все испытал. Он строг, верно, но за порядок при нем я ручаюсь своей кровью. Ну, что же, умерли вы? Берите Гарвея, и кончено! Все будет как следует!
— Гарвей! Гарвей! — закричали некоторые, делая вид, что с ними кричат все остальные. — Он! Он!
Сторонники штурмана тесным кольцом окружили своего кандидата, остальные стали около Реджа. Старики, пыхая трубками и сплевывая, доставали револьверы: опытность говорила в них, старый инстинкт хищников, предусмотрительных даже во сне. Раздались крики:
— Долой барина Гарвея!
— Назовите человека, с которым Гарвей разговаривал не через плечо!
— Выбирайте! За бортом много воды!
— Спросите-ка сперва Пэда!
— Полдюжины огородных чучел против настоящего моряка! Браво, Гарвей!
— Лижите пятки у Реджа!
— Долой Гарвея!
— Плохое вы дело затеяли там, у бочки! Гарвей зажмет вам рты быстрей Пэда.
— Редж! Хотим Реджа! Редж!
Кровь хлынула к бледному лицу Реджа. Он быстро поворачивался во все стороны, судорожно смеясь, когда противная сторона бросала ему ругательства. Рука Аяна бессознательно поползла к поясу, где висел нож, он весь трепетал, погруженный в головокружительную музыку угроз и бешенства.
Шум усилился, на мгновение все смешалось в одно пестрое, стонущее пятно, и снова выделились отдельные голоса:
— Редж!
— Гарвей!
— Редж!
— Гарвей!
— Долой Реджа!
— Долой Гарвея!
— Бросить их в воду! — С боцманом!
— И с сундуками!
— И с оловянными кружками!
— Подумаешь, что все мы без головы.
— Джентльмены! — орал Сигби, сам еще не решивший, кого он хочет. Каждый из нас мог бы быть капитаном не хуже патентованных бородачей Ост-Индской компании, потому что — кто, в сущности, здесь матросы? Все более или менее знают море. Я, Дженнер и Жип — подшкиперы, Лауссон — бывший боцман флота, Энери служил лоцманом… у всех в мозгу мозоли от фордевиндов и галсов, а что касается храбрости, то, кажется, убиты все трусы! Ну, чего вам?
— Дженнер! — закричали в углу. — Эй, старина, поставь-ка свою кандидатуру!
Отчаянные ругательства наполнили кубрик. Все столпились вокруг покойника, равнодушного, как никогда более, к взрыву страстей. Многие, держа за спиной револьвер, протискивались в самую гущу; в криках слышался звенящий, металлический тембр, показывавший крайнее возбуждение. Боцман Кристоф держал руку за пазухой, и бронзовое лицо его, под снегом седых волос, растягивалось в бешеную улыбку. Гарвей словно окаменел, стоя во весь рост; глаза его с быстротой кошачьей лапы хватали малейшее угрожающее движение, в каждой руке висело вниз дулом по револьверу; Редж, полусогнувшись, притопывая ногой, ворочал свою толстую шею во всех направлениях; яркие пятна горели на его скулах.
Ни позже, ни раньше, именно в тот самый момент, когда это сделалось необходимым, потому что два-три раза щелкнул курок, Аян бросился к ложу Пэда. Губы его вздрагивали от волнения; наконец, уловив паузу, он крикнул изо всей силы, словно слушающее находились от него по крайней мере за милю:
— Если бы капитан Пэд встал, он выдрал бы всех за уши!
Голос его покрыл шум, и крики затихли. Гарвей сурово улыбнулся, Редж с недоумением дернул подбородком, оглядываясь; громко захохотал Сигби — еще секунда, другая, и бешенство сломилось, как палка, встретившая топор, потому что слова Аяна звучали непоколебимой уверенностью; момент был великолепен. Боцман сказал:
— Ай, насмеши еще!
Он посмотрел на юношу, но травленый взгляд его поскользнулся на твердых глазах Аяна, как птица на льду. Аян был странен в эту минуту: нижняя часть его правильного лица смеялась, в то время как верхняя сохраняла невозмутимую, серьезную зоркость взрослого, берущегося за дело.
— Повтори-ка, что ты сказал! — крикнул Редж.
— Я предлагаю, — не обращая внимания на смех и шутки пиратов, продолжал Аян, — разойтись сегодня и сойтись завтра. Завтра вы будете хладнокровнее. Никакого толку сегодня не будет, разве что Редж прострелит ногу Гарвею, а Гарвей искалечит Реджа. Пэд, конечно, весьма сконфужен. Завтра, завтра каждый придет к какому-нибудь окончательному решению. И вы же еще пьяны вдобавок!
— Дело! — сказал Сигби, грызя ногти. — Как скоро растут мальчики!
— Да, — продолжал Аян, — нехорошо, если прольется кровь. Лучше вы сделаете, если разойдетесь. И нечего там трогать курки. Ведь все вы мои друзья — по крайней мере, мне кажется, что у меня нет врагов. Я ничего не хочу сказать, кроме того, что сказал.
Полдюжины рук опустились на его плечи прежде, чем он умолк. Это грубое одобрение было почти искренним; между тем шум перешел в гул, Редж подошел к Гарвею, как бы ища темы для разговора; Гарвей отворачивался.
— Аян, — произнес Кристоф, когда все успокоились, — через полгода у тебя вырастут усы, и как ты тогда будешь глядеть?
— Прямо, — сказал Аян. — Море не терпит раздоров, — прибавил он, — а завтра все будет кончено.
— Ай, — сказал Сигби, — ну, ей-богу же, ты простак первой руки. И я тебе говорю: не одна пуля засядет в теле кого-нибудь из нас, пока ты услышишь крик нового капитана: «Готовь крючья!»
III
К пробитию четырех склянок все выстроились на шканцах. Принесли Пэда; тело его, плотно зашитое в брезент, походило на огромного связанного тюленя. Труп положили на деревянный щит, употребляемый при погрузке, открыли борт и своеобразный морской гроб тихо скользнул по палубе, ногами к воде. Щит, придерживаемый тремя матросами, остановился, покачиваясь; в ногах Пэда, крепко увязанная между ступней, чернела свинцовая балясина. Океан был спокоен; белоголовые морские орлы плавали над водой, держась к берегу и оглашая пустынную тишину земли резкими, удлиненными выкриками. Гарвей подошел к трупу, обнажив голову, и тотчас руки всех поднялись к головам, предоставляя солнцу накаливать затылки и шеи, цвета обожженного кирпича.
Гарвей прочитал молитву, рассеянно смотря вдаль, сбиваясь и перевирая слова. Потом рука его заслонила море, он приглашал слушать.
— Ребята, — сказал он своим обычным сухим голосом, не опуская руки, пока море не расступилось, Пэд здесь. Я говорить не мастер. Мы плавали и дрались вместе. Многие из нас живы только благодаря ему. Пусть идет с миром.
— С миром! — как эхо, отозвалась команда, и самые суровые лица стали мягче, словно им пощекотали в носу. Кто-то кашлянул.
— Мы тебя не забудем, — продолжал Гарвей. — Ты ушел от виселицы, а мы неизвестно. Но мы будем жить, как жили, пока нам не перегрызут горло. Аминь.
Он подал знак, и щит быстро перегнулся к воде. Труп пополз вниз, сорвался и исчез за палубой.
— Бу-бух! — всплескивая, сказала вода.
Все подошли к борту, следя, как вздрагивающие круги тают у судна и в отдалении. Прошло секунд десять — прежняя, невозмутимая гладь окружила «Фитиль на порохе».
Тогда все задвигались, заговорили, а лица приняли свободное выражение. С Пэдом было покончено.
— Ребята, — сказал Гарвей, — не все сделано. Капитан не захотел умереть бродягой — есть завещание. Оно лежало у него под замком в ящике, где сушился табак.
Тогда расцвели самые угрюмые лица: завещание это обещало интересные вещи. Сигби протиснулся ближе всех — он никогда не читал такой штучки, даром что отец его умер на собственной земле. Жизнь разлучает родственников.
В руках Гарвея появился пакет, и трудно сказать, был ли он распечатан в ту же минуту десятками напряженных глаз или пальцами штурмана. Хрустнул грязноватый листок; кроме того, штурман держал еще что-то, зажатое в левой руке и вынутое, по-видимому, из пакета.
Гарвей не поднял на толпу глаз, как делают обыкновенно чтецы, сообщающие что-либо важное. Он читал с некоторым усилием, ибо школьные годы Пэда протекали в завязывании буксирных узлов. Но разобрать все-таки было можно.
«11 июля 18…9 года, — прочел Гарвей, и передние ряды шевельнулись. Я, Матиссен Пэд, могу умереть. Если это случится, то не желаю расставаться ни с кем в ссоре, поэтому завещаю:
1) Мои собственные деньги, девятьсот шестьдесят фунтов золотом, что под левой задней ножкой стола, подняв доску, — всем поровну и без исключения».
Гарвей остановился и сделал рукой резкий, неопределенный жест.
— Гу-у! — пронеслось в толпе. Теперь волновались задние, переднее кольцо стояло тише, чем в момент похорон.
«Второй пункт, — сказал штурман. — Все вещи, за исключением трех ковров, на которых изображена охота с соколами, дарю Гарвею. Ковры отдать Аяну, мальчик любил их рассматривать».
Многие обернулись, отыскивая глазами Аяна, стоявшего позади всех. Он был спокоен.
— Ты будешь на них спать, Ай, — сказал сумрачный Рикс, завидуя штурману, потому что ценность вещей Пэда достигала значительной суммы.
— Тише! — зашипел Редж.
Гарвей продолжал:
«Портрет, который я запечатываю вместе с этой бумагой, прошу кого-нибудь из вас доставить по адресу. В этом моя главная и единственная к вам просьба».
Далее следовало несколько туманных, сбивчивых замечаний, из которых самым ясным было, пожалуй, следующее: «…не мочите, краска не лакирована». Затем что-то зачеркнуто, наконец, следовала подпись, похожая на просыпанные рыболовные удочки.
Любопытство, достигшее нетерпеливого раздражения, выразилось в скрипе подошв. Почти все стояли на носках, вытягивая вперед шеи; Сигби сказал:
— Покажите же, черт возьми! Да он у вас в левой ладони!
Гарвей, не торопясь, спрятал документ. Он сам рассматривал чуждое кривым улыбкам изображение женщины. Тень высокомерного удивления лежала между его бровей, сдвинутых, как две угольные барки в маленькой, тесной гавани.
Раздались возгласы:
— Э! Послушайте! Это невежливо!
— Дайте же и нам, наконец!
— Суньте-ка сюда эту бабу без лака!
— Пэд с розовым цветочком в петлице! Хе!..
— Хо-хо!..
Гарвей протянул руки, и в то же мгновение она осталась пуста. Полустертая акварель прыгала из рук в руки; взрослые стали детьми; часть громко смеялась, плотоядно оскаливаясь; в лицах иных появилось натянутое выражение, словно их заставили сделать книксен. Редок презрительно сплюнул; он не переваривал нежностей; многих царапнуло полусмешное, полустыдное впечатление, потому что вокруг всегда пахло только смолой, потом и кровью.
— Взгляни-ка сюда, Ай, — сказал, приосанившись, молодой Пильчер, — это получше твоих ковров.
Аян взял тоненькую костяную пластинку. Сначала он увидел просто лицо, но в следующее мгновение покраснел так густо, что ему сделалось почти тяжело. Быть может, именно в полустертых тонах рисунка заключалась оригинальная красота маленького изображения, взглянувшего на него настоящими, живыми чертами, полными молодой грации. Он сделал невольное движение, словно кто-то теплой рукой бережно провел по его лицу, и засмеялся своим особенным, протяжным, горловым, и заразительным смехом. Пильчер сказал:
— А? Ну, ей-богу же, у Пэда где-нибудь остался курятник, а он был славный петух.
— Этого не может быть, — твердо сказал Аян. — Нет такой женщины.
— Почему? — ввернул Сигби.
— Я не видел, — коротко пояснил Аян и, помолчав, прибавил: — Я видел их, правда, один раз, но их было чересчур много и нельзя было рассмотреть хорошенько. Мы проходили тогда мимо пристани с фальшивым голландским паспортом. Они там стояли вечером.
— Оставьте пустяки! — крикнул Редок, довольный, что Гарвей замолчал и он может овладеть общим вниманием. — Кто поедет?
— Я не хочу, — сказал Дженнер после того, как молчание стало общим. Чего ради?
Остальные переминались. Уехать во время междоусобицы, когда вот-вот начнут делить золото Пэда?! Рискнувший на это рисковал также вернуться к пустой бухте или в лучшем случае увидеть на горизонте тыл «Фитиля». Редж продолжал:
— Стыдно, ей-богу! Сутки вперед, сутки назад! Эй, желающие!
Некоторые отошли в сторону. Гарвей вдруг побледнел, и все отшатнулись: в руке его заблестел револьвер.
— Неблагодарная сволочь! — закричал он, забыв, что может потерять в этот момент всех сторонников, тайных и явных. — Клянусь чертом, вы стоите того, чтобы вызывать вас по жребию и первому отказавшемуся размозжить голову. Я спрашиваю первый раз: кто?
Это «кто» лязгнуло в толпе, как лопнувший стальной трос. Прозвучали сдержанные ругательства: никто не ответил вызовом — правота чувствовалась на стороне спрашивающего.
— Второй раз! — закричал взбешенный Гарвей. — Кто?
Сигби согнулся, опасаясь, что Гарвей выстрелит. Редж злорадно хихикнул, судорожно потирая руки.
— Подле… — хотел зареветь Гарвей, но голос его сорвался.
Аян подошел к борту и сдержанно кивнул головой.
— Кто? — по инерции произнес Гарвей сравнительно тихим голосом. — Ай, ты?
— Я.
— Тридцать миль на шлюпке и двести по железной дороге к северу.
— Хорошо.
— Сегодня вечером.
— Да.
— Не надо терять времени.
— Я еду, Гарвей.
IV
Ночь мчалась галопом; вечер стремительно убегал; его разноцветный плащ, порванный на бегу, сквозил позади скал красными, обшитыми голубым, клочьями. Серебристый хлопок тумана колыхался у берегов, вода темнела, огненное крыло запада роняло ковры теней, земля стала задумчивой; птицы умолкли.
Был штиль, морская волна тяжело всплескивала; весла лишь на мгновение колыхали ее поверхность, ленивую, как сытая кошка. Аян неторопливо удалялся от шхуны. Шлюпка, тяжеловатая на ходу, двигалась замирающими толчками.
Силуэт «Фитиля» почти исчезал в темной полосе берега, часть рей и стеньг чернела на засыпающем небе; внизу громоздился мрак. Светлые водяные чешуйки вспыхивали и гасли. Прошло минут пять в глубоком молчании последняя атака тьмы затопила все. Аян вынул из-под кормы заржавленный железный фонарь, зажег его, сообразил положение и круто повернул влево.
Рыжий свет выпуклых закопченных стекол, колеблясь, озарил воду, весла и часть пространства, но от огня мрак вокруг стал совсем черным, как слепой грот подземной реки. Аян плыл к проливу, взглядывая на звезды. Он не торопился — безветренная тишина моря, по-видимому, обещала спокойствие, — он вел шлюпку, держась к берегу. Через некоторое время маленькая звезда с правой стороны бросила золотую иглу и скрылась, загороженная береговым выступом; это значило, что шлюпка — в проливе.
Аян встал и некоторое время прислушивался, задерживая дыхание. Справа тянуло душной, теплой гнилью болот, ядовитыми испарениями зеленых богатств, скрытых мраком; слабо шуршал песок, встречая сонный прилив. Берег был совсем близко. Аян сел; теперь он проходил устье бухты, заворачивая к северной стороне пролива. Впереди, милях в двух, лежал океан, сзади шел узкий проход, стиснутый клиньями острова и материка. Дно пролива, истерзанное подводными течениями, работой подземных сил и взрывами штормовых волн, колебавших пучину до основания, напоминало шахматную доску, уставленную фигурами в разгаре игры. Лот, брошенный здесь, достигал то двух футов, то значительной глубины; днем в тихую погоду можно было здесь видеть иглы и зубцы рифов; пролив в это время напоминал слегка оскаленный рот. Большое и маленькое судно могло бы пересечь его с таким же успехом, как перепрыгнуть через собор. Единственная доступная веслу и килю вода тянулась у северного крутого берега: ширина этой ленты была бы все же сомнительна для фрегата.
Взяв направление, Аян стал грести ровно, не утомляясь. Великая пустынная тишина окружала его. Мрак сеял таинственные узоры, серые, седые пятна маячили в его глубине; рыжий свет фонаря бессильно отражал тьму и тяжесть невидимого пространства; нелепые образы толпились в полуосвещенной воде, безграничной и жуткой. Аян боролся с тревогой, однозвучный наплыв дум держал его в томительном напряжении, и сцены последних дней роились в черной стене воздуха, беглые, как обрывки сна. Он смотрел, думал, и вдруг, защемив сердце, открылась темным тайным глазам его безмерная пустота. Он ощутил пространство, невидимые провалы окружили его; спящее лицо океана поднялось к зениту и холодом бездны спугнуло мысль. Он встрепенулся; протяжный далекий гул рос в тишине, как будто заревел горизонт; глухое волнение охватило мрак, в ушах зазвенел стремительный прилив крови. Все стихло.
Это была, конечно, галлюцинация слуха. Аян встал, сел снова, задыхаясь от беспокойства, и крикнул. Голос его, звонко отраженный водой, убил призраки. Все приняло обыкновенные размеры, мирно поскрипывали уключины, слева тянуло теплым, береговым воздухом. Одно-два мгновения Аян подумал еще о спрутах с зелеными фосфорическими глазами; рыбах, похожих на привидения или кошмарный сон; гигантских нарвалах, скатах, отвратительных, как подушка из скользкого мяса; но это уже была последняя судорога воображения; он положил весла, придвинул фонарь и вынул портрет женщины.
Свет ускользал, менял краски, двигал тенями, и чудилось, что лицо неизвестной девушки бегло меняет выражение, улыбаясь Аяну. Он засмеялся; все — шлюпка, весла, фонарь, ружье, спрятанное в корме, — показались ему удивительно приятными, дорогими предметами. Сунув портрет в карман, Аян продолжал еще некоторое время видеть его так же ясно, как и в руках. И как это часто бывает, когда бесчисленные голоса хором встают в душе — сложная острота момента, сильная, необъяснимая радость охватила его. Он вскочил, полный нетерпеливого стремления двигаться, поднял весло и бешено завертел им над головой. «Шу-с-с… шу-с-с… шу-с-с…» — загудел воздух; шлюпка, поплескивая, качалась из стороны в сторону. Аян сел, положил весло, лицо его улыбалось, глаза блестели от возбуждения.
— Почему тихо? — громко сказал он, смеясь самому себе. — Море, кричи!
Береговое эхо тяжело ухнуло и замолкло. Желание стряхнуть тишину, как стряхивают сонливость, овладело Аяном. Он громко сказал, прислушиваясь к своему голосу:
— Я еду, еду! Один!
Шлюпка придвинулась к берегу, своды ветвей повисли над головой Аяна. Он ухватился за них, и шум листьев глухо пробежал над водой. И снова почудилось Аяну, что тишина одолевает его; тогда первые пришедшие на ум возгласы, обычные в корабельной жизни, звонко понеслись над проливом и стихли, как трепет крыльев ночных всполохнутых птиц:
— Эй! Всех наверх! Подтяни фалы, брасопь фок; грот и фок в рифы; все по местам! Готовь крючья!
Он смолк, сел, взял весла и сильно ударил по воде, бледный от тайной, горячей мысли, дерзкой, как поцелуй насильника.
V
— Я тотчас вернусь, — сказал слуга, заметив, что Аян двинулся вслед за ним. — Подождите.
— Разве это не все равно? — возразил Аян. — Ведь мне нужно ее видеть, а не вам.
Лакей поджал губы. Взгляд его выражал холодное, почтительное презрение.
— Если вы не смеетесь, — сказал он, — а просто рассеянны, то попросите у меня объяснения. Здесь ждут. И если будет выражено желание принять вас тем лучше.
— Я плохо понимаю эти вещи, — улыбнулся Аян. — Идите, если это необходимо, но мне некогда.
Он выдержал еще один выстрел изумления, отлично вышколенных лакейских глаз и сел в углу. Ожидание подавляло его, он трепетал глухой дрожью; любопытство, неясные опасения, тайный, сердитый стыд, рассеянное, острое напряжение бродили в его голове не хуже виноградного сока.
Он был один в светлой пустой комнате. Разноцветный стеклянный купол, пропуская дневной свет, слегка изменял естественную окраску предметов; казалось, что сквозь него сеется тонкая цветная пыль. Мебель из полированного серебристого граба тянулась вдоль стен, обитых светлой материей с изображениями цветов, раскидывающих по голубому фону остроконечные листья. Пол был мозаичный, из черных и розовых арабесок. В большом, настежь распахнутом полукруглом окне сияло небо, курчавая зелень сада обнажала край каменной потрескавшейся стены.
Все это было ново, интересно и вызывало сравнения. Главная роскошь «Фитиля» заключалась в кают-компании, где стояли краденые бронзовые подсвечники и несколько китайских шкатулок, куда время от времени бросали огрызки сигар. Аян нетерпеливо вздохнул, глаза его, прикованные к портьере, выражали мучительное нетерпение. Мысль, что его не примут, показалась чудовищной. Тишина раздражала.
Время шло, никто не показывался; напряжение Аяна достигло той степени, когда простое разрушение тишины, какой-нибудь посторонний звук является облегчением. Он слегка топнул, затем кашлянул. Разные предположения суетились в его голове. Сперва он подумал, что человек, взявшимся доложить о нем, — не здешний и сыграл глупую шутку, отправившись преспокойно домой. Мысль эта привела его в гневное состояние. Далее он решил, что могло произойти какое-нибудь несчастье. Человек со светлыми пуговицами мог, например, упасть, удариться головой, лишиться сознания. Наконец, еще одно, бросившее его в целый вихрь представлений, соображение пронизало Аяна электрическим током и подняло с места; он здесь в ловушке. Светлые пуговицы отправились за полицией; но как они могли знать — кто он такой?
Впрочем, рассуждать было поздно. Аян вынул револьвер, положил палец на спуск и тихими, крадущимися шагами подошел к двери. Лицо его пылало негодованием; возможно, что появление в этот момент лакея было бы для слуги полным земным расчетом. Раздвинув портьеру, он увидел залу, показавшуюся ему целой площадью; в глубине ее виднелись еще двери; веселый солнечный ливень струился из больших окон, пронизывая светлую пустоту.
Теперь необходимо было как можно скорее исполнить взятое на себя поручение и уйти. Ничто не препятствовало Аяну разыскать барышню, вручить ей тяжеловесный пакет и спастись, в крайнем случае даже через окно. Если дорогу преградят люди, он начнет драться. Аян решительно отбросил портьеру и быстро пошел вперед; шаги его морских сапог гулко раздались в пустоте; взволнованный, он плохо различал подробности; зала и ее обстановка сливались для него в одно большое, невиданное, пестрое, стеклянное, резное и золотое. Два раза он поскользнулся; это чуть-чуть не возвратило его к старому предположению, что светлые пуговицы разбили себе голову. В следующий момент прямо на него двинулся откуда-то из угла молодой, гибкий человек, с лицом, опаленным ветром, и острыми, расширенными глазами; костюм его состоял из блузы, кожаных панталон и пестрого пояса. Аян протянул револьвер, то же сделал беззвучно двигающийся человек, и так они стояли два-три момента, пока Аян не разглядел зеркала. Озадаченный и покрасневший, он стал искать глазами дверей, но они скрылись, каждый простенок походил один на другой, в глазах рябило, из золотых рам смотрели застывшие улыбки нарядных женщин. Аян тронулся вдоль стены — щель сверкнула перед его глазами; он протянул руку это была дверь, бесшумно распахнувшаяся под его усилием.
Он двинулся почти бегом — все было пусто, никаких признаков жизни. Аян переходил из комнаты в комнату, бешеная тревога наполняла его мозг смятением и туманом; он не останавливался, только один раз, пораженный странным видом белых и черных костяных палочек, уложенных в ряд на краю огромного отполированного черного ящика, хотел взять их, но они ускользнули от его пальцев, и неожиданный грустный звон пролетел в воздухе. Аян сердито отдернул руку и, вздрогнув, прислушался: звон стих. Он не понимал этого.
Мгновение полной растерянности, недоумения, жуткого одиночества проникло в его душу тупой болью. Он кинулся в маленький коридор, выбежал на стеклянную, пронизанную солнцем галерею, отворил еще одну дверь и остановился, скованный неожиданностью, задыхаясь, с внезапно упавшим сердцем.
VI
Комната, в которую он так стремительно ворвался, с револьвером в одной руке и тяжеловесным пакетом в другой, отличалась необыкновенной жизнерадостностью. Бело-розовый полосатый штоф покрывал стены, придавая помещению сходство с внутренностью огромного чемодана; стены на солнечной стороне не было, ее заменял от пола до потолка ряд стекол в зеленых шестиугольных рамах, — это походило на разрез пчелиного сота, с той разницей, что вместо меда сочился золотой свет. Комната была полна им, он заливал все. Жирандоли с вьющимися растениями закрывали низ стеклянной стены; спутанные тропические цветы свешивались с потолка, завитки их дрожали, как маленькие невинные щупальца. В углу, над бамбуковой качалкой, раскачивался в тонком кольце хохлатый маленький попугай. Посредине — стол, окруженный пухлыми белоснежными креслами; серебряный кофейный прибор отливал солнцем.
Аян не различал ничего этого — он видел, что в рамке из света и зелени поднялось живое лицо портрета; женщина шагнула к нему, испуганная и бледная. Но в следующий же момент спокойное удивление выразилось в ее чертах: привычка владеть собой. Она стояла прямо, не шевелясь, в упор рассматривая Аяна серыми большими глазами.
— Это вы, — с усилием произнес Аян. — Я вас узнал по портрету. Там был человек, он сказал, что пойдет к вам и скажет вам про меня. Я думаю, что это предатель. Я прошел много комнат, прежде чем нашел вас.
— Спрячьте револьвер, — сказала девушка.
Он посмотрел на свою правую руку, занятую оружием, и сунул Вессон за пояс.
— Я вынул его на всякий случай, — произнес он, — мы не доверяемся тишине. Вас зовут Стелла, извините, если я ошибаюсь, но так сказал мне бритый старик, приславший что-то в этом свертке. Что там — мне неизвестно. Вот он. Может быть, я вас испугал, барышня?
Молодая девушка насмешливо посмотрела на посетителя.
— Я, может, и испугалась бы, если бы вы пришли ночью, но теперь день. Садитесь и расскажите, чему я обязана вашим стремительным посещением.
— Пэд умер, — сказал сильно смущенный Аян. Душевное равновесие было им совершенно утеряно — девушка ослепила его. Он смотрел и не мог отвести взгляда от ее лица. Она была значительно моложе, чем на портрете; волосы пепельного оттенка, заплетенные в один пышный жгут, спускались ниже бедер. Платье, серое с голубым, плотно закрывало шею и руки; блестящие оленьи глаза под тонкими, высоко выведенными бровями казались воплощением гордости. Когда она спрашивала, спрашивало все лицо, а правая рука слегка приподымалась нетерпеливым, резким движением.
— Пэд умер, — повторил Аян. — Никто не хотел ехать, так как наступил беспорядок. Если вы ничего не знаете, я расскажу по порядку. Капитан Пэд оставил завещание и в нем просил кого-нибудь отвезти по адресу ваш портрет.
— Вы сумасшедший! — сказала Стелла, расширяя глаза. — К какому капитану мог попасть мой портрет, голубчик?
Аян вспыхнул и побледнел. Сумасшедший! В лице его пробежала судорога страдания. Но он оправился прежде, чем девушка протянула руку, как бы приглашая его успокоиться. Когда он стал говорить далее, голос его сорвался несколько раз прежде, чем он произнес дюжину слов.
— Я говорю, что было; я сам знаю не больше вашего, — тихо сказал он. Вы не можете на меня сердиться. Я приехал и отыскал бритого старика, который, я не знаю — почему, смотрел на меня так, как будто я хватил его ножом в горло. Он передал мне вот это, оно завязано так же, как было, и указал ваш дом. Я не думаю, чтобы я сломал что-нибудь у вас в больших комнатах: я держался посредине.
— Если это мне, дайте, — удивленно произнесла Стелла. — Но я решительно ничего не понимаю.
— Вот ваш портрет. — Аян протянул маленькую овальную дощечку. — Я берег его от воды и грязи, — прибавил он.
Полунежная, полугрозная улыбка прорезала его смуглые черты. Он плохо понимал себя в эти минуты; происходящее казалось ему сном. Стелла взяла портрет.
И больше не было в ее лице тревожного внимательного недоумения. Она резко повернулась; пепельный жгут вздрогнул и захлестнул ее руку, разом опустившуюся, словно по ней ударили. Когда она снова взглянула на Аяна, лицо ее было совсем белым, губы нервно дрожали.
— Это для меня новость. — Каждое слово ее отдельно ложилось в солнечную тишину комнаты. — Не смотрите на меня круглыми глазами — это не ваше дело. Надеюсь, вы поняли? Дайте сюда пакет.
Пальцы Стеллы беспомощно скользили по нему, пеньковая бечевка крепко стягивала узлы.
— Вот нож. — Аян протянул кортик с роговой ручкой.
Девушка приняла помощь без взгляда и благодарности — внимание ее было поглощено свертком. Нож казался в ее руках детской жестяной саблей, тем не менее острое лезвие вспороло холст и веревки с быстротой молнии. Аян, охваченный любопытством, стоял рядом, думая, что его руки сделали бы то же самое, только быстрее.
Внутри был большой, темный деревянный ящик, ключ торчал в скважине и щелкнул, казалось, прежде, чем девушка схватила его. В тот же момент толстая бумажная пачка подтолкнула крышку ящика, и град пожелтевших писем разлетелся под ногами Аяна.
Аян нагнулся, подхватил несколько листков и выпрямился, желая передать их девушке, но Стелла торопливо читала первое, что попалось под руку.
— Стелла, — нерешительно сказал он, — я соберу все!
Она, казалось, не слышала. Комкая, разрывая конверты, пробегала она то бисерные, женские, то неуклюжие мужские строки; почти на каждом из писем стояли разные штемпеля, как будто пишущих бросало из одного конца света в другой. Прочесть все у нее, однако, не хватило терпения; впрочем, прочитанного было вполне достаточно.
Некоторое время она стояла, опустив голову, роняя письма одно за другим в шкатулку, как будто желая освоиться с фактом, прежде чем снова поднять лицо. Неуловимые, как вечерние тени, разнообразные чувства скользили в ее глазах, устремленных на пол, усеянный остатками прошлого. Встревоженный, расстроенный не меньше ее, Аян подошел к Стелле.
— Там есть еще что-то в ящике, — совсем тихо, почти шепотом, сказал он. — Взгляните.
Не отвечая, девушка взяла шкатулку, положила ее на стол и опрокинула нетерпеливым движением, почти сейчас же раскаявшись в этом, так как, одновременно с глухим стуком дерева, скатерть вспыхнула огнем алмазного слоя, карбункулов, жемчугов и опалов. Зеленые глаза изумрудов перекатились сверху и утонули в радужном, белоснежном блеске; большинство были алмазы.
Это было последним, но уже сладким ударом, и Стелла не выдержала. Крупные, неожиданные для нее самой слезы женского восхищения брызнули из ее глаз, лицо горело румянцем. В состоянии, близком к экстазу, водила она вздрагивающими пальцами по холодным камням, как бы усиливаясь передать их равнодушному великолепию всю бесконечную нежность свою к могуществу драгоценностей и торжеству роскоши. Взволнованная до глубины души, не меньше, чем любая женщина в первый сладкий и острый момент объятий избранника, Стелла вскрикнула; звонкий, счастливый смех ее рассыпался в комнате, стих и молчаливой улыбкой тронул лицо Аяна.
Она подняла глаза: совсем близко, четверть часа назад посторонний и подозрительный, стоял дикий, загорелый, безусый юноша. Счастливое недоумение искрилось в его темных глазах, заботливо устремленных на девушку. Теперь он любил Пэда больше, чем когда бы то ни было; умерший казался ему чем-то вроде благодетельного колдуна.
Стелла не сдерживалась. Если бы она не заговорила, ей стало бы тяжело от подавленной, непреодолимой потребности разрядиться.
— Кто был мой отец? — спросила она. — Вы должны знать Пэда — это его имя; но кто он был?
— Пэд?! — Аян отступил несколько шагов назад. — Пэд — ваш отец?!
— Как будто вы не знали этого. — Стелла погрузила руки в сокровища. Бросим игру в прятки. Вы ехали сюда, в ваших руках был портрет моей матери. Перестаньте же лгать. Итак… Пэд?!
— Вашей матери? — повторил Аян. — Как мог знать я это? Вы оглушили меня, поверьте, я не лгал никогда в жизни. У меня в голове теперь что-то вроде лесного кустарника. Я не знал.
Глаза его встретились с серыми, надменными глазами, но он не опустил голову. Он сам искал объяснения, как будто за ним было уже право на это и камни Пэда связали их. Аян ждал.
— Вы… наивны, — помолчав, произнесла Стелла. — Теперь вы, надеюсь, знаете?
— Да, вы сказали.
Она снова повернулась к столу, там был магнит, поворачивавший ее голову. Попугай резко вскрикнул, его грубый возглас, казалось, оторвал девушку от спутанных размышлений. Решение, что осталось досказать, в сущности, немного и что это, во всяком случае, лучше, чем хоть какая-нибудь лазейка для сплетен, показалось ей дельным.
— Моя мать была танцовщицей, — сухо произнесла она, не поворачиваясь к Аяну, — танцовщицей в Рио-Жанейро; вы знаете, там разнообразное общество.
Аян кивнул головой.
— Пэд был с ней знаком. Если вы любопытны и это недостаточно для вас ясно — спрашивайте.
— Мне нечего спрашивать.
— Надеюсь. Вы сели бы.
Аян сел. Девушка продолжала стоять, касаясь рукой стола. Раз оказав доверие, она не считала себя вправе остановиться.
— Ее звали так же, как и меня. Она вышла замуж. Дом этот — моего отчима, он чаеторговец; зовет меня дочерью. Кто Пэд?
— Пэд был капитан, — сказал Аян, погруженный в водоворот чувств, откуда ему казалось, что все почему-то обязаны знать то же, что он. — Он умер.
— Я это уже знаю.
— «Фитиль на порохе» — не торговая шхуна, — коротко усмехнулся Аян. Мы останавливаем иногда китоловов, но с ними много возни; Пэд предпочитал почту.
Стелла выпрямилась.
— Это слишком щедро для одного дня, — сказала она, с любопытством рассматривая Аяна. — Вы… грабите?
— Мы берем самое подходящее, — помолчав, возразил Аян. — Деньги попадаются не так часто, но шелковые и чайные транспорты тоже выгодны.
— Молчите! — крикнула Стелла, расхаживая по комнате. — А вооруженные суда… военные?
— Сила на их стороне, — вздохнул Аян. — Мы также теряем людей, прибавил он, — не думайте, что все сдаются, как зайцы в силке.
— Так, значит, там, на столе… — Стелла подошла к ящику. — Вы не думаете, что они стали темнее после вами рассказанного?
— Пэд очень любил вас, — возразил Аян.
— Вы это знаете?
— Да.
— Он вам говорил обо мне?
— Ни разу.
— Почему же вы это знаете?
— Стелла, — сказал Аян, — он мог не любить вас?
Девушка улыбнулась. Перед ней, в огне солнца, такие же, как четверть часа назад, сверкали алмазы, и не были они ни темней, ни хуже. Их прошлое сгорело в костре собственного их блеска.
Наконец созерцание утомило девушку, она встала перед Аяном.
— Как вас зовут?
— Ай, еще — Аян.
— Кто вы?
— Матрос.
— Аян, расскажите о вашем судне и о моем… Пэде.
VII
Сбивчивыми, спутанными словами, запинавшимися друг о друга, как люди в стремительно бегущей толпе, выложил Аян все, что, по его мнению, могло интересовать Стеллу. Она не перебивала его, иногда лишь, кивая головой, ударяла носком в пол, когда он останавливался.
Аян начал с Пэда, но скоро и незаметно для самого себя рассказал все. Что хотел он сказать? Прослушайте песню дикаря, плывущего на восходе вниз по большой реке. Он складывает весла и думает вслух низкими, гортанными нотами. Мысли его цветисты и беспорядочно нагромождены друг на друга — упомянув об отточенной стреле, он забывает ее, чтобы воздать хвалу цветущему дереву. Аян говорил о смерти под пулями, и смерть казалась невзрачной, как простая контузия; о починке бегучего такелажа, о том, что в жару палубу поливают водой. Он упомянул знойный торнадо, попутно прихватив штиль; о призраке негра, о несчастьях, приносимых кораблю кошками, об искусстве лавировать против ветра, о пользе пепла для ран, об огнях в море, кораблях-призраках. Мертвая зыбь, боковая и килевая качка, ночные сигналы, рыбы, летающие по воздуху, погрузка клади, магнитные бури, когда стрелка компаса пляшет, как взбешенная, — все было в его словах крепко и ясно, как свежая ореховая доска. Он говорил о схватках, где полуживых швыряют за борт, стреляют с ругательствами и острят, зажимая дыру в груди. Тут же, как бы стирая кровь, рассказ перешел к бризу, пассату, мистралю, ост-индским циклонам, тишине океана, расслабляющей тоске зноя. Утренние и вечерние зори, уловки шторма; рифы, разрезающие корабль, как бритва — газетный лист…
Аян остановился, когда Стелла поднялась с кресла. Жизнь моря, пролетевшая перед ней, побледнела, угасла, перешла в груду алмазов. Девушка подошла к столу, руки задвигались, подымаясь к лицу, шее и опускаясь вновь за новыми украшениями. Она повернулась, сверкающая драгоценностями, с разгоревшимся преображенным лицом.
— Все здесь, — громко сказала Стелла. — Все, о чем вы рассказали, — на мне.
Аян встал. Девушка мучительно притягивала его; страдающий, восхищенный, он что-то шептал потрескавшимися от внезапного внутреннего жара губами, бледный, как холст. Борьба с собой была выше его сил — он взял руку Стеллы, быстро поцеловал ее и отпустил. Поцелуй этот напоминал укус.
Стелла не пошевелилась, даже не вздрогнула. Слишком все было странно в этот тихий солнечный день, чтобы разгневаться на грубое поклонение, от кого бы оно ни исходило. Только слегка поднялись брови над снисходительно улыбнувшимися глазами: руку поцеловал мужчина.
— Мальчик, — произнесла она, и голова ее повернулась тем же движением, как через несколько дней в гостиной, среди общества, — я нравлюсь тебе?
— Я целовал портрет, — глухо сказал Аян. — Я думал, что это ты.
Девушка рассмеялась. В тот же момент ее схватила пара железных рук, совсем близко, над ухом волна теплого дыхания обожгла кожу, а в сияющих, полудетских, о чем-то молящих, кому-то посылающих угрозы глазах горело такое отчаяние, что был момент, когда комната поплыла перед глазами Стеллы и резкий испуг всколыхнул тело; но в следующее мгновение все по-прежнему твердо стало на свое место. Она вырвалась.
Наступило молчание, долгое, как столетие. Попугай громко скрипел, поворачиваясь в кольце. Аян шумно дышал, горе его было велико, безмерно; бешеная, стыдливая улыбка дрожала в лице. Слова, услышанные им, были резки и сухи, как окрик всадника, несущегося по улице:
— Уйдите сейчас же! Прочь!
Он постоял некоторое время, не двигаясь, как бы взвешивая смысл сказанного; затем без рассуждений и колебаний, дрожа от гнева, поднес к виску дуло револьвера. Он действовал бессознательно. Оружие, вырванное маленькой, но сильной рукой, полетело к стене.
Он поднял глаза, полные слез, и они туманом застилали лицо девушки. Комната качалась из стороны в сторону.
— Аян, — мягко сказала девушка, остановилась, придумывая, что продолжать, и вдруг простая, доверчивая, сильная душа юноши бессознательно пустила ее на верный путь. — Аян, вы смешны. Другая повернулась бы к вам спиной, я — нет. Идите, глупый разбойник, учитесь, сделайтесь образованным, крупным хищником, капитаном. И когда сотни людей будут трепетать от одного вашего слова — вы придите. Больше я ничего не скажу вам.
И тотчас улыбка радости ответила ее словам — так было немного нужно, чтобы воспламенить порох.
— Я уже думал об этом, — тихо сказал Аян. — Вы не будете стыдиться меня. У нас все вверх дном. Я знаю судно не хуже гордеца Гарвея. Я научился разбирать карты и обращаться с секстаном. Я приду.
Что-то похожее на жалость мелькнуло в глазах Стеллы. Она склонилась, и легкое прикосновение ее губ обожгло лоб Аяна.
— О! — только сказал он.
— Идите же! Идите!
Пошатываясь, Аян открыл дверь. Девушка-сон задумчиво смотрела на его лицо, полное благодарности. Повинуясь неведомому, он вышел на галерею; только что пережитое лежало в его душе мучительной сладкой тяжестью. На пороге он обернулся, последние сказанные им слова дышали безграничным доверием:
— Я — приду!
VIII
От железнодорожной приморской станции до глухого места у каменного обрыва берега, где была спрятана шлюпка, Аян шел пешком. Он не чувствовал ни усталости, ни голода. Кажется, он ел что-то вроде маисовой лепешки с медом, купленной у разносчика. Но этого могло и не быть.
Когда он взял весла, оттолкнув шлюпку, и плавная качка волны отнесла берег назад — тоска, подобная одиночеству раненого в пустыне, бросила на его лицо тень болезненной мысли, устремленной к городу. Временами ему казалось, что долго, в жару спал он где-то на солнцепеке и проснулся с болью в груди, потому что сон был прекрасен и нежен, и видения, полные любовной грусти, прошли мимо его ложа, а он проснулся в знойной тишине полдня, один. Все, как было, живое, с яркой остротой действительности неотступно носилось перед его глазами, блестевшими сосредоточенным светом воли, направленной в одну точку.
Море дымилось, вечерний туман берега рвался в порывах ветра, затягивая Пролив Бурь сизым флером. Волнение усиливалось; отлогие темные валы с ровным, воздушным гулом катились в пространство, белое кружево вспыхивало на их верхушках и гасло в растущей тьме.
Аян, стиснув зубы, работал веслами. Лодка ныряла, поскрипывая и дрожа, иногда как бы раздумывая, задерживаясь на гребне волны, и с плеском кидалась вниз, подбрасывая Аяна. Свет фонаря растерянно мигал во тьме. Ветер вздыхал, пел и кружился на одном месте, уныло гудел в ушах, бесконечно толкаясь в мраке отрядами воздушных существ с плотью из холода: их влажные, обрызганные морем плащи хлестали Аяна по лицу и рукам.
Встревоженный матрос перестал грести. Берег был близко, но в этом месте представлял больше опасности, чем защиты, потому что по крайней мере на полумилю тянулся здесь голый отвесный камень, изрезанный трещинами. Он снова схватил весла, торопясь проплыть скалы. Опасность пришпоривала его; согнувшись, упираясь ногами, Аян греб, и весла гнулись в его руках, окаменевших от продолжительного усилия. Иногда, подброшенный сильным толчком, он должен был приседать, чтобы сохранить равновесие; сесть снова после этого на скамью ему удавалось только при помощи инстинкта, управляющего движениями. Кругом бушевал воздух; немое смятение охватывало пролив; волны метались, подобно темному стаду, гонимому паникой во время пожара. Это был шторм.
Прошло несколько времени, и ветер переменил фронт. Теперь он обрушивался с берега; сильнейшая боковая качка встряхивала суденышко Аяна легче пустого мешка, возилась с ним, клала на левый и правый борт, и тогда какое-нибудь из весел бессильно ударяло по воздуху. Море пьянело; пароксизм ярости сотрясал пучину, взбешенную долгим спокойствием. Неясные голоса перекликались в воздухе: казалось, природа потеряла рассудок, слепое возмущение ее переходило в припадок рыдания, и вопли сменялись долгим, бурным ревом помешанного.
Лодку стремительно несло в сторону. Валы, катившиеся теперь от берега, отодвигали ее толчками, как нога отбрасывает встречный предмет. Аян превратился в слух, инстинкт стал зрением, борьба шла ощупью. Он подымал весла, как воин подымает оружие, и отражал удар всей силой своих мышц в тот момент, когда тьма грозила уничтожением, — ничего не видя, читая в глухом стремительном водовороте стихий внутренними глазами души. Он угадывал, предупреждал, наносил удары и отражал их; бросал ставки и брал назад, игра шла вничью. Его качало, ударяло о борт, подымало на высоту, рушило вниз, подбрасывало. Соленые, бьющиеся в лицо брызги, целые лохмотья воды, сорванные штормом, хлестали его по голове и телу, мокрая одежда стесняла движения, шлюпка приобрела легкость испуганного, травимого человека, мечущегося во все стороны.
Ослепительная фиолетовая трещина расколола тьму, и ночь содрогнулась удар грома оглушил землю. Панический, долгий грохот рычал, ворочался, ревел, падал. Снова холодный огонь молний зажмурил глаза Аяна; открыв их, он видел еще в беснующейся темноте залитый мгновенным светом пролив, превращенный в сплошную оргию пены и водяных пропастей. Вал поднял шлюпку, бросил, вырвал одно весло — Аян вздрогнул.
Море одолевало его. Он мог теперь совсем не сопротивляться, игра шла к концу. Он как будто окаменел, застыл, ошеломленный случившимся. Он мог только ждать, возмущаться, впасть в отчаяние, кричать, безумствовать.
Глухой гнев наполнял Аяна. Он уцепился за борт, бросив оставшееся весло на дно шлюпки. Бороться дальше он счел бы для себя унижением, смешной попыткой обуздать стадо коней. Он не хотел показывать врагу растерянности. Одна мысль, что океан может обрадоваться его испугу, его жалкой защите с помощью голых рук, привела его в состояние свирепой ненависти. Он презирал море, нападающее на одного всей силой водяной армии. Смерть не пугала его напротив, обезоруженный, он без колебания отверг бы пощаду, чтоб не подвергаться унижению жизни, брошенной в виде милостыни. Он приготовился плюнуть в лицо торжествующему победителю. Спокойный, насколько это было возможно, Аян крикнул:
— Жри! Подавись! Собака! Цепная собака!
Залитый водой, измученный, он осыпал пролив презрительными ругательствами, дерзкими оскорблениями, издевался, придумывая самые язвительные, обидные слова.
— Подлый трус!.. Ты воешь, как гиена!.. Корыто акул, оплеванное моряками!.. Пугай детей и старух, продажная тварь. Иуда!
Снова упала молния, ее неверный свет озарил пространство. Удары грома следовали один за другим, резкий толчок подбросил шлюпку. Аян упал; поднявшись, он ждал немедленной течи и смерти. Но шлюпка по-прежнему неслась в мраке, толчок рифа только скользнул по ней, не раздробив дерева.
— Жри же! — с презрением повторил Аян.
Он встал во весь рост, еле удерживаясь на ногах. Все чаще сверкала молния; это был уже почти беспрерывный, дрожащий, режущий глаза свет раскаленных, меняющих извивы трещин, неуловимых и резких. Впереди, прямо на шлюпку смотрел камень. Он несколько склонялся над водой, подобно быку, опустившему голову для яростного удара; Аян ждал.
И вдруг кто-то, может быть воздух, может быть сам он, сказал неторопливо и ясно: «Стелла». Матрос нагнулся, весло раскачивалось в его руках — теперь он хотел жить, наперекор проливу и рифам. Молнии освещали битву. Аян тщательно, напряженно измерял взглядом маленькое расстояние, сокращавшееся с каждой секундой. Казалось, не он, а риф двигается на него скачками, подымаясь и опускаясь.
Враги сцепились и разошлись. Мелькнула скользкая, изъеденная водой каменная голова; весло с треском, с силой отчаяния ударилось в риф. Аян покачнулся, и в то же мгновение вскипающее пеной пространство отнесло шлюпку в сторону. Она вздрогнула, поднялась на гребне волны, перевернулась и ринулась в темноту.
— Стелла! — крикнул Аян. Судорожный смех сотрясал его. Он бросил весло и сел. Что было с ним дальше — он не помнил; сознание притупилось, слабые, болезненные усилия мысли схватили еще шорох дна, ударяющегося о мель, сухой воздух берега, затишье; кто-то — быть может, он — двигался по колена в воде, мягкий ил засасывал ступни… шум леса, мокрый песок, бессилие…
IX
Аян протер глаза в пустынной тишине утра, мокрый, хмельной и слабый от недавнего утомления. Плечи опухли, ныли; сознание бродило в тумане, словно невидимая рука все время пыталась заслонить от его взгляда тихий прибой, голубой проход бухты, где стоял «Фитиль на порохе», и яркое, живое лицо прошлых суток.
Аян встал, разулся, походил немного взад и вперед, нежа натруженные подошвы в согретом песке берега, размялся и совершенно воскрес. Невдалеке чернела залитая водой, обнажившая киль шлюпка; волнение качало ее, как будто море в раздумье остановилось над лодкой, не зная, что делать с этим неуклюжим предметом. Пролив казался спокойными ангельскими глазами изменившей жены; он стих, замер и просветлел, поглаживая серебристыми языками желтый песок, как рассудительная, степенная кошка, совершающая утренний туалет котят.
Матрос ревниво осмотрел шлюпку: дыры не было. Штуцер вместе с уцелевшим веслом валялся на дне, опутанный набухшим причалом; ствол ружья был полон песку и ила. Аян вынул патрон, промыл ствол и вывел шлюпку на глубину — он торопился; вместе с ним, ни на секунду не оставляя его, ходила по колена в воде высокая городская девушка.
Она следила за ним. Он подымал глаза и улыбался сырому, сверкающему морскому воздуху; пустота казалась ему только что опущенным, немым взглядом. Взгляд принадлежал ей; и требование, и обещанная чудесная награда были в этих оленьих, полных до краев жизнью глазах, скрытых далеким берегом. Человек, рискнувший на попытку поколебать веру Аяна, был бы убит тут же на месте, как рука расплющивает комара.
Шлюпка, точно проснувшись, закачалась под его ногами; Аян греб стоя, одним веслом. Рифы остались сзади, впереди лежал океан, слева — меловые утесы, похожие на кучки белых овец, скрывали бухту. Он плыл с ясным лицом, уверенно отгребая воду, грозившую не так давно смертью, и не было в этот момент предела силе его желания кинуться в битву душ, в продолжительные скитания, где с каждым часом и днем росло бы в его молодом сердце железо власти, а слово звучало непоколебимой песнью, с силой, удесятеренной вниманием. Он подплывал к шхуне повелителем в грабеже и удали, молодой, нетерпеливый, с душой, сожженной беззвучной музыкой, воспоминанием и надеждой.
Аян кипел; солнце кипело в небе; вскипая и расходясь, плескалась вода.
— Го-го! — крикнул матрос, когда расстояние между ними и шхуной, стоявшей на прежнем месте, сократилось до одного кабельтова. Он часто дышал, потому что гребля одним веслом — штука нелегкая, и крикнул, должно быть, слабее, чем следовало, так как никто не вышел на палубу. Аян набрал воздуха, и снова веселый, нетерпеливый крик огласил бухту:
— Эгей! Пусти трап! Свои!..
Шлюпка подошла вплотную; грязный, продырявленный старыми выстрелами борт шхуны мирно дремал; дремали мачты, штанги, сонно блестели стекла иллюминатора; ленивая, поскрипывающая тишина старого корабля дышала грустным спокойствием, одиночеством путника, отдыхающего в запущенном столетнем саду, где сломанные скамейки поросли мохом и желтый мрамор Венер тонет в кустарнике. Аян кричал:
— Эй, на шхуне! Гарвей! Сигби! Родэк! Кто-нибудь, спустите же трап! Ребята!
Тень легла на его лицо, он сказал тихо, как бы обращаясь к себе:
— Они спят. Я забыл, что парни без дела.
Взобраться на палубу при помощи обыкновенной железной кошки было для него пустяком. Он поднялся, укрепил причал шлюпки, чтобы лодку не отнесло прочь, и подошел к кубрику. У трапа он приостановился, соображая, чем удовлетворить законное любопытство товарищей, вспомнил грязную контору бритого старика, о котором говорил Стелле.
— Да, — мысленно произнес он, — я имел дело со стариком, ее не было. Старик взял портрет, я вернулся.
Заранее улыбаясь возгласам и расспросам, Аян спустился в кубрик. Сначала, в сумраке помещения, он не поверил себе, прищуриваясь и оглядываясь широко раскрытыми, встревоженными глазами, но тотчас убедился, что людей нет. Кубрик потерял жилой вид. Койки, лишенные одеял, сиротливо тянулись перед Аяном; на полу сор, веревки, тряпки, огарки свеч, пустые жестянки; исчезли мешки с имуществом, одежда, висевшая по стенам, оружие. Немая заброшенность и тоска смотрели из каждой щели, настежь раскрытых ящиков, тускло освещенного люка…
Пораженный, Аян силился понять что-нибудь и не мог. Одно-два мгновения он рассеянно потирал руки; блуждающая улыбка кривила губы. Это было мгновенное, тревожное оцепенение, где нет места ни рассуждению, ни догадкам — он потерялся. Слегка испуганный, Аян вышел на палубу; по-прежнему здесь не было ни души. Он поспешил к каютам, в надежде отыскать Реджа или Гарвея, по дороге заглянул в кухню — здесь все валялось неубранное; высохшие помои пестрили пол, холодное железо плиты обожгло его руку мертвым прикосновением; разлагалось и кишело мухами мясо, тронутое жарой. Передник Сэта висел на гвоздике, как будто повар только что ушел, вернется и вкусно застучит по доске острым ножом.
Первое, что остановило Аяна, как вкопанного, и потянуло к револьверу, был труп Реджа. Мертвый лежал под бизанью и, по-видимому, начинал разлагаться, так как противный, сладкий запах шел от его лица, к которому нагнулся Аян. Шея, простреленная ружейной пулей, вспухла багровыми волдырями; левый прищуренный глаз тускло белел; пальцы, скрюченные агонией, казались вывихнутыми. Он был без шапки, полуодетый.
Аян медленно отошел, закрывая лицо. Он двигался тихо; тупая, жесткая боль росла в нем, наполняя отчаянием. Матрос прошел на корму: спуститься в каюты казалось ему риском — увидеть смерть в полном разгуле, ряды трупов, брошенных на полу. Он осмотрелся; голубая тишина бухты несколько ободрила его.
Прислушиваясь на каждом шагу, Аян оставил последнюю ступень трапа и двинулся к каюте Гарвея. Дверь не была закрыта; он тихо открыл ее, окаменел, шаря глазами, и вздрогнул от радости: с койки, как бы не узнавая его, смотрели тяжелые, стальные глаза штурмана.
— Гарвей! — шепнул юноша, подходя ближе. — Гарвей!
Штурман открыл рот и пошевелил губами. Первая попытка заговорить была неудачна. Потом, и было видно, что это стоит ему огромного напряжения, Гарвей прохрипел:
— Мальчик!.. Ай… В два слова: ушли все. Я дохну, ранен близ сердца… Собственно говоря, я был дурак… я и Редж… мы враги… но не…
Он двинул рукой, почесал подбородок об одеяло и продолжал:
— Шакалы разбежались, Аян. Я и Редж воспротивились; знаешь, в нашем ремесле поздно искать другого пристанища. И то сказать — Пэд умер… Никак не могли выбрать новую глотку… стадо!.. В тот день, что ты уехал, уже сцепились… Кристоф пошел к Пэду… его застрелил Дженнер. Я не могу рассказывать, Ай, — меня все что-то держит за горло… и стреляет в спине… Но вот… Ты поймешь все… решили делиться, подбил Сигби. Шхуна пуста, Ай… Ушли… Все ушли…
Гарвей смолк, его резкие, осунувшиеся черты выражали невероятное бешенство.
— Дай воды! — коротко сказал он.
Аян подал оловянную кружку, раненый пролил половину на одеяло; горло его подергивалось судорогой. Аян спросил:
— Когда это, Гарвей?
— Вчера вечером. Они все… соберутся… Один… к «Приятелю»… Понял?
— Да.
— Расскажи… — захрипел Гарвей. — Впрочем…
Он задохнулся, закрыл глаза и не шевелился. Аян сел, положил голову на руки; плечи и шея его тяжело вздрагивали; это были беззвучные, сухие рыдания. Гарвей, по-видимому, уснул. Усилия, сделанные им, отняли всю энергию угасающего, пробитого тела.
— Стелла, — сказал Аян тише, чем дыхание раненого. — Что дальше?
Прошло, может быть, полчаса; очнувшись, с горем в душе, он пристально рассматривал штурмана. Желание быть выслушанным, передать часть тяжести хотя бы полуживому, страдающему, наполняло его беглым огнем слов; он сказал:
— Гарвей, вы знаете, мне так же больно, как вам. Я… со мной случилось, но вы ничего не знаете… Я мог быть счастлив, Гарвей!..
Он смолк, ему ответила тишина.
— Гарвей, — сказал он, вставая, — я вам могу быть полезен. Я любил и вас также, Гарвей, но у меня не разбежались бы; это так. Я владел бы ими, как владеют стаей собак. Гарвей! Я нащиплю корпии и перевяжу вашу рану; кроме того, вы хотите, вероятно, поесть. Кто ранил вас?
Он протянул руку, коснувшись плеча штурмана. Гарвей молчал. Аян потолкал его, затем нагнулся и приложил ухо к груди — все кончилось.
— Прощайте, штурман! — сказал матрос. — Теперь я один живой здесь. Прощайте!..
Поднявшись на палубу, он отыскал немного провизии — сухарей, вяленой свинины и подошел к борту. Шлюпка, качаясь, стукала кормой в шхуну; Аян спустился, но вдруг, еще не коснувшись ногами дна лодки, вспомнил что-то, торопливо вылез обратно и прошел в крюйс-камеру, где лежали бочонки с порохом.
Оставляя ее, он оставил за собой тонкий дымок фитиля.
— Ты оправдаешь свое название, — сердито, но уже владея собой, сказал он. — Порхай!..
На берегу, бросив лодку, Аян выпрямился. Дремлющий, одинокий корабль стройно чернел в лазури. Прошла минута — и небо дрогнуло от удара. Большая, взмыленная волна пришла к берегу, лизнула ноги Аяна и медленно, как кровь с побледневших щек, вернулась в родную глубь.
— Пролив обманул меня, — сказал юноша, — я спасся затем ли, чтобы повелевать трупами? Но этого быть не может.
Он засмеялся. Это был тот же странный, горловой смех жизненного упорства.
— Я приду, — сказал он, посылая улыбку северу. — Приду! У меня есть песня — моя песня.
И он тронулся к заселенным местам, напевая вполголоса:
Свет не клином сошелся на одном корабле: Дай, хозяин, расчет!.. Кой-чему я учен в парусах и руле, Как в звездах — звездочет! С детства клипер, и шхуна, и стройный фрегат На волне колыхали меня; Я родня океану — он старший мой брат. А игрушки мои — русленя!..Он ушел.
Умирая, одинокий, он скажет те же, полные нежной веры и грусти, твердые большие слова:
— Я — приду!..
Он счастлив — не мы.
Ящик с мылом
Ленур, вахтенный, стоявший на баке, исчез неизвестным образом, между четырьмя и шестью часами утра. Отсутствие его, при общей тревоге, длилось двое суток. «Фрегат» под парусами шел к мысу Доброй Надежды.
Замечательное появление Ленура после его таинственного исчезновения заслуживает отдельного описания. Матросы обедали, разговаривая и делая предположения, не свалился ли Ленур в воду, как вдруг хорошо всем известная долговязая фигура появилась среди обедающих, высекая на ходу огонь с помощью обшарпанного кремня и старой железной ложки. В этот момент боцман подавился куском хлеба, и четверо из матросов пролили суп на палубу.
Предупреждая испуганные возгласы и тысячу нелепых вопросов, потому что бессмысленно спрашивать там, где все в конце концов получит свое должное объяснение, Ленур сказал:
— Слышал я, ребята, от одного милого молодого человека, что в хорошем обществе не принято чему-нибудь удивляться. Если, говорит, на вас упадет целый материк, да еще в придачу полсотни хороших островов, вы должны, дескать, лишь неодобрительно хмыкнуть носом, почиститься — и кончен бал.
— Ленур, — при глубоком молчании окружающих сказал боцман, — где мог пропадать ты эти четыре дня?
Ленур тяжело вздохнул. Здесь все заметили, что он сильно похудел и выглядит таким усталым, как будто прошел с буйволом на плечах сто миль.
— Если б я знал это! — возразил он, пожав плечами. — Уверяю вас, до того момента, как мне захотелось курить, — я не помню, что со мной было. Я сообразил, что стою на палубе возле вас лишь тогда, когда вытащил трубку. Верьте или нет, как хотите.
Он пристально посмотрел в множество изумленных глаз, окружавших его, и продолжал, машинально ударяя железом о кремень:
— В ту ночь, когда я вышел на вахту, — вы помните, — был сильный туман. Я простоял с полчаса, пяля глаза изо всей мочи, но в такую погоду, как известно, не только огней не видно, а даже своих собственных рук. Качки не было, но вдруг чувствую, что я стал как бы легче. Такое чувство, ребята, как если бы какой-нибудь сильный человек подложил вам под пятки свои ладони и стал вас легонечко подымать и опускать.
Вообще, я испытывал какие-то странные вещи: туман клубился, разрывался, свертывался, надвигался на меня и вновь отходил в сторону, как будто множество парусов бежало передо мной. Я стал немного обалдевать, пошатываясь. Понимаете — я плохо сознавал уже, где я, собственно, и кто я. И вот тут-то произошла странная история — туман полегоньку незаметно растаял, небо вызвездилось, я мог различать под форштевнем пену воды. Тогда, не дальше как в двух ярдах слева, я увидел бушприт трехмачтовой шхуны; корабль шел прямо на нас, носом в бакборт.
Ленур остановился и посмотрел на слушателей. Было так тихо, что ясно слышался бегущий с кормы шепот лага.
— Я хотел крикнуть, ударить в баковый колокол, но язык мой слушался меня как черт — ангела. Тем временем наше судно и неизвестный корабль почти прикасались друг к другу; скованный непонятной силой, я цепенел от ужаса. «Почему помощник капитана не видит с мостика этого корабля?» — подумал я. Глаза мои были прикованы к освещенной палубе чужой шхуны, на ней, казалось, не было ни души. И в этот момент, ребята, когда я терял сознание, на носу шхуны у самого бушприта появился высокий человек, он нагнулся ко мне и протянул руку. Я тотчас схватил ее, она была холодна как лед. Более я ничего не помню. То есть, если хотите, я опамятовался, когда увидел, что подхожу к вам с трубкой в зубах.
Ленур был по-настоящему взволнован, рассказывая это; глаза его, казалось, еще хранили след недавнего испуга. Он вытер рукавом блузы пот, выступивший на висках, и поймал угрюмый, пристальный взгляд боцмана.
— Эти вещи бывают! — убежденно заявил корабельный плотник. — Корабль мертвого негра, Ленур, это был он, клянусь, чем хотите!
— Ленур, — сказал боцман, подходя к матросу вплотную, — что бы там ни было, а ты посидишь в карцере, потому что, может, ты бессовестно врешь.
— Я поджидаю тебя вторые сутки, — сказал Ленур юнге, когда тот принес ему в темное помещение карцера обед и кувшин с водой. — Сядь, потолкуем. Прежде всего, что слышно?
— Ничего. — Мальчик присел на корточки и уставился на матроса круглыми от любопытства глазами. — Ленур, правда, что тебя уносил мертвый негр?
— Послушай, малыш, — вместо ответа сказал Ленур, — тебе представляется удобный случай показать себя взрослым человеком. Прежде всего исследуем твою наблюдательность. Ты заметил, что капитан не пришел ко мне ни одного раза?
— Да.
— А почему? Как твое мнение?
— Я думаю, — сказал сиплым баском мальчик, польщенный серьезным тоном Ленура, — что он о тебе забыл. У него какие-то дела с боцманом, они проводят вместе почти целые дни и постоянно навеселе.
— Навеселе? Роб, они не навеселе, а настороже. Я им все наврал. Слушай хорошенько, юнец, так как это дело серьезное. На вахте мне захотелось жрать, я полез в кубрик, разыскал кусок сыра, а потом вспомнил, что дрогнуть в сырую погоду нехорошо. Нужно было достать клеенчатый плащ. Я спустился в подшкиперскую. Спичек у меня не было. Но вижу я, что в подшкиперской нет этакой настоящей темноты, а какая-то смутная мгла, вроде как ночью в комнате, когда с улицы фонарь светит. Я обернулся, — узкая, как стекло, полоса света падала мне в лицо из небольшой щели меж досками, отделяющими подшкиперскую от грот-трюма.
Кто и зачем мог очутиться там в это время? Перестав дышать, я подполз, Роб, к этому ночному лучу и стал смотреть в щель. Видно мне было очень мало: на одном из ящиков горела свеча; спиной ко мне, держа в руках какой-то инструмент, стоял человек, одетый по-городски. Скоро он повернулся, его лицо, не виданное мной никогда и нигде, было вполне спокойно. Он походил немного по маленькому, свободному от груза месту, потягиваясь и разминая члены, как будто спал трое суток, затем встал на колени и принялся рассматривать дерево корабля между тинберсами. Пока, взволнованный, я ломал голову, в трюме послышался глухой шум, и из него вышел еще один. Кто бы, ты думал, Роб? Капитан. Он был, по-видимому, озабочен и долго прислушивался, прежде чем заговорил с незнакомцем.
— Ну, как вы живете здесь? — спросил он. — Потерпите еще немного.
— Я терплю, — возразил таинственный человек. — Правда, я похудел, но за хорошие деньги мог бы похудеть еще втрое больше.
— Необходимо сделать большую дыру, — сказал капитан. — Вы это устроите приблизительно на восьмой день. Впрочем, я вас еще навещу. Как вы это сделаете?
— Очень просто, — говорит тот человек, — доски я пропилю с трех сторон и забью маленький динамитный патрон. Четвертая сторона разлетится от взрыва, когда я буду уже на палубе.
— Хорошо, — сказал капитан, — надеюсь на вашу сообразительность. — Он потоптался еще немного и ушел, а я, Роб, трясся от бешенства, хотя еще не понимал хорошо, для чего все это устраивается. И вот я поднялся в кубрик, вытащил у боцмана из-под подушки ключи, влез на палубу, отпер грот-трюм, положил ключи на старое место, открыл люк и спустился в тьму.
Все это я мог проделать свободно, потому что туман был гуще хороших сливок.
Он не испугался, когда я подошел к его углу, освещенному сальным огарком, а смотрел на меня так, как будто ожидал встретить во мне единомышленника. Но я сразу спросил:
— Что вы здесь делаете?
Тут он стал белым и некоторое время молчал. Потом начал быстро шарить в карманах и ткнул меня в грудь дулом револьвера в тот самый момент, когда я приставил к его лбу дуло своего. Так мы стояли с минуту, затем он сказал:
— Вы можете получить хорошие деньги, стоит вам только молчать об этом.
— Так, — возразил я. — Вы будете топить судно с мошенником капитаном, а я — хлопать глазами.
— Фирма получит большую страховую премию, — говорит он. — И на вашу долю перепадет куш.
— А пассажиры? Команда?
— Что делать? Жизнь — борьба, — тут он так нагло пожал плечами, что мне захотелось плюнуть в его серые рачьи глаза. — Мне нужно много денег, и я добываю их.
Вся эта махинация, Роб, так меня ошеломила, что я некоторое время стоял дураком. А он, видя, что я хлопаю глазами, приободрился.
— Ну что же, — говорит, — вы, конечно, боитесь бога, греха. Прав сильный и хитрый.
— Сеньор мошенник, — отвечаю я ему, — насчет этого помолчим. Всякий мыслит по-своему. Некрасиво то, что вы затеваете, и даже могу сказать — безобразно!
— Почему же? — спрашивает. А от его дула у меня спирает под ложечкой, да и у него красное кольцо над бровью.
— А потому, — говорю, — что все на свете имеет свое течение. И жизнь человеческая тоже. Хорошо живет человек или плохо, а песню свою ему допеть нужно до конца. Или, например, пассажир, — он стремится к своей цели и вас не трогает.
— Так, так, — тихо говорит он, нажимая собачку. Чикнуло — попался плохой патрон, бедняк. Впрочем, он не успел и пожалеть об этом, потому что я спустил курок.
После этого, Роб, я возился с час, пока устранил все следы этой неприятной истории. Жил этот неудачник в большом деревянном ящике с отверстиями для воздуха, и посмотрел бы ты, как все было хорошо приспособлено — мы погрузили его под видом туалетного мыла. Недолго думая, я распорол большой тюк, выбросил оттуда товар и запаковал мертвеца наглухо.
— Кто-то идет, Ленур, — сказал мальчик, вскакивая и забирая пустую посуду. — Прощай! Но я не хочу тонуть, Ленур, слышишь?
— Тсс! Молчи! — Ленур продолжал скороговоркой: — Я не мог выбраться оттуда двое суток, потому что капитан и боцман (гвоздь им в голову!) перерыли весь товар, разыскивая приятеля. Лежал я под хлопковой кипой, а питался конфетами и сухой вермишелью. Молчи, пока я все устрою. Беги!
Когда на горизонте показались очертания берега, Ленур, выпущенный из карцера, стоял у руля, внимательно следя одним глазом за компасом, другим — за непроницаемым лицом капитана, расхаживавшего по мостику. Судно благополучно совершило плавание и готовилось войти в гавань.
— Капитан, — сказал вдруг Ленур, — не кажется ли вам, что из грот-трюма немного припахивает трупом?
Пожилой человек с седеющими бровями даже не обернулся. Прикрыв глаза рукой, он смотрел вдаль, потом резко подошел к вахтенному, глаза их встретились. Теперь по особенному, вызывающе напряженному взгляду матроса капитан понял, что Ленур все знает.
— По прибытии ты получишь расчет, — сказал капитан.
— Расчет? А ящик с мылом в грот-трюме?
— Потому ты и сидел в карцере. Попробуй — найди хоть какие-нибудь следы там, где ты упражнялся в стрельбе.
— Так! Мы, значит, понимаем друг друга! — с изумлением проговорил Ленур. — Ловко! Но это мне нравится, клянусь погибшим идиотом, — там, в трюме. Это вышло красиво!
На острове
I
Три человека сидели у пылающего костра и молча отдавались своим мыслям, следя глубоко ввалившимися глазами за игрой света, пестрившего ночную траву яркими отблесками.
Костер горел у самого подножья отвесной скалы. Шагах в двадцати плескалось море, тихое и сонное, еще недавно выбросившее на этот неприветливый остров трех человек: двух матросов и корабельного повара.
Повару еще было дело, пока оставались кой-какие консервы и мешок с кофе, но теперь и он превратился просто в голодающего человека, потому что дичи на острове не было.
Одного звали Буек, потому что он был всегда вял и малоподвижен; другого — Перец за остроту языка и находчивость; а повар был мулат и не имел никакого прозвища. Звали его Ральф.
II
Послушаем разговор голодных и одиноких, потому что в незначительных фразах могут проскользнуть искры отчаяния и пламя страха перед неизвестным, повисшим на носу будущим.
— Ральф, — сказал Перец, — я помню, как хорошо ты варил бобы с салом и жарил вяленую баранину. Теперь у всех подвело животы, но, клянусь нашим погибшим судном, — жалок ты со своим искусством теперь так же, как жалок я с моим умением плести маты. И от этого нам невесело.
Мулат тихо блеснул зубами.
— Будем кушать, — сказал он. — Человек должен кушать, без пищи человек может умереть. Я хочу есть, я мучаюсь.
— Не могу больше терпеть, — сказал Буек, — потому что прошло уже шесть дней. Я не мог бы, пожалуй, встать с места.
Каждый посмотрел на двух остальных. Кожа лиц сморщилась, собралась в серые складки, тонкие шеи тряслись от голода, и безумно блестели глаза, отражая пламя, смерть и отчаяние.
III
Сон одолел всех, костер погас, неровное дыхание спящих смешивалось с плеском прибоя, холодный ночной ветер припадал к земле, ворошил холодную золу и убегал прочь.
Первым проснулся Буек, вздрагивая, как собака; он неподвижно лежал ничком, уткнув лицо в паузу морской блузы, и думал о семье, отделенной от него тысячами морских и сухопутных миль. Ему было горько, страшно и голодно.
И, так же думая, что другие спят, проснулся Перец. Он лежал ничком кверху, смотрел на огоньки звезд и вспомнил, что сегодня сочельник. Рождество показалось ему неприятной, неуместной иронией. Ему было горько, страшно и голодно.
И третьим, клацая зубами от холода, проснулся мулат. Он тихо выл, плакал; его обжорливый, кипучий организм более всех страдал от ужасного, вынужденного поста, и то звериные, то детские мысли вспыхивали в мозгу, измученном страхом и голодом.
IV
Простим ему то, что совершалось в его душе, потому что никто из нас не может поручиться за себя, чувствуя спазмы в желудке и дрожь в ногах. Повар сунул в карман руку и вынул нож.
Никто не слышал его движений, они были бесшумны и мягки, как шаги кошки или полет стрижа. Пошатываясь, он подошел к Перцу, нагнулся, глубоко вздохнул, и в тот же момент рука матроса сжала его горло судорожным, быстрым движением. Мулат сел, нож выпал из его пальцев, тускло сверкнули белки глаз. Перец выпустил повара.
— За что, Ральф? — спросил он, дрожа от бешенства.
Повар перевел дух. Сидя перед Ральфом, он тихо покачивался из стороны в сторону и плакал беззвучными рыданиями, прижав ладони к ушам, как оглушенный взрывом. Буек, прибежавший на шум, спросил:
— Что здесь, Перец?
— Я есть хочу, понимаете?.. — стонал мулат, и грудь его вздрагивала от плача. — Я голоден, я не могу больше терпеть, я хотел убить вас. Что я могу сделать? Убейте меня.
V
Долго молчали все трое, и молчание их было безнадежно, безгневно и сиротливо. И каждый думал о том же, о чем думал мулат.
— Он прав, — сказал Буек, — нет выхода, а умирать — так с пользой. Бросим жребий.
Перец сидел, опустив голову. Родина манила его, возможность выбраться из проклятых мест оживляла мысли. Но страшно было есть человека, и нелепым казался мир, где на смерти одних, как трава на падали, растет жизнь других. Молча он вынул часы, мерно, как в гротной комнате, стучали они — воспоминание о культуре, человеческой жизни и прошлом. Перец достал трут и кремень, блеснули искры, и блеснул маленький циферблат, блеснули глаза Перца.
— Суббота, — сказал он, — ты помнишь, Буек, когда мы вышли из Сингапура?
— Двадцать первого.
— Да. Двадцать второго брали уголь, в тот день я пьянствовал.
— Да.
— Двадцать третьего, — продолжал Перец, — шли под муссоном. К вечеру хватил бриз.
— Да.
— Бриз перешел в шторм, и наутро «Айшер» погиб. А мы очутились здесь.
— Да.
— Да, Буек, это верно. Итак, двадцать четвертого ноября мы были предоставлены случаю. А теперь, Буек, слушай: я каждый день делал зарубки на рукоятке ножа, их тридцать, пересчитай сам. Сочельник сегодня, понимаешь?
— Я понял, — тихо проговорил Буек, — но нам нет выхода.
— Я не хочу, — сказал Перец. — Сегодня, в память милых дружеских и родных лиц, что сидят там, за океаном, и нежно вспоминают о нас, — я не буду есть человека… Я лучше умру.
Молчание было ему ответом. Мулат плакал. Буек смотрел в темноту безумными, помутившимися глазами.
— Зажжем свет, — сказал Перец. — Туда, братья, на эту скалу. Разведем костер. Быть может, нас увидят мимо проходящие корабли.
Они встали и развели костер, пламя которого, казалось, взвилось к небу, моля о помощи. К утру божественной музыкой и безумной радостью прилетел с моря гудок парохода, слабый, еле слышный гудок.
Дуэль
Знаменитый ученый Исаак Феринг, будучи еще всего пятидесяти лет от роду, без единого седого волоса в пышных, черных как смоль кудрях, шел однажды по весеннему бульвару.
Он гулял, обдумывая одно из своих знаменитых изобретений.
Собираясь повернуть домой, Феринг заметил в конце аллеи молодую даму, одетую просто, но богато и, по-видимому, кого-то поджидавшую. Едва успел он поравняться с ней, как дама подошла к нему, говоря:
— Милостивый государь, я знаю вас, вы — знаменитый ученый Феринг. Мне сказали, что вы каждый день гуляете здесь, по этой аллее, и я решила встретиться с вами здесь, чтобы сделать вам вызов. Меня зовут Евгения Дике. Я вызываю вас на поединок.
— По какому поводу? — спросил пораженный Феринг. — Разве я обидел вас чем-нибудь?
— Хуже. Вы разбили мою жизнь.
— Почему вы не пришли ко мне на квартиру?
— Я боялась, что наш разговор может случайно подслушать кто-нибудь из ваших домашних и помешать мне в этом деле.
— Хорошо. Теперь объяснитесь.
— У меня был муж, — сказала дама, — человек, которого я любила больше всего на свете. Он был изобретатель. У него было много гениальных планов и замыслов. По несчастному стечению обстоятельств случилось так, что вы напали на одни с ним идеи и некоторые из них даже предвосхитили. Когда оказалось, что вами, немного раньше, чем успел он, мой муж, были опубликованы в совершенном, законченном виде различные открытия и изобретения, над которыми работал и мой муж, он не перенес разочарования и застрелился. Теперь я надеюсь убить вас.
— Это жестоко и глупо, сударыня, — мягко сказал Феринг.
— Как хотите. Если вы отказываетесь, я застрелю вас сейчас же.
Феринг задумался.
— Я, как получивший вызов, — сказал он, — имею право выбора оружия. Предоставляете вы мне это?
— Конечно. Тогда я хотела бы кончить это дело скорее.
— Дуэль будет американская — по жребию, и без свидетелей.
— Хорошо, я согласна.
— Тогда пойдемте.
И Феринг привел даму к себе в квартиру, в свой роскошный кабинет, устланный дорогими мехами. Заперев дверь на ключ, он усадил своего, надо сказать очень красивого, врага в мягкое кресло и, порывшись в огромном ясеневом шкафу, достал два длинных флакона. В одном была жидкость яркого, рубинового цвета, в другом — светло-зеленого.
— Вот, — сказал Феринг, — наше оружие. Я бросаю монету. Если упадет она орлом вверх — вы выпьете красный флакон; решка — зеленый. В зеленом флаконе сильнейший яд, убивающий мгновенно. В красном флаконе заключен эликсир бессмертия. Кому-нибудь из нас предстоит вечное небытие или вечная жизнь. Этот эликсир изобрел я. Решайтесь!
Евгения Дике сидела и размышляла.
— Вечная жизнь! — прошептала она. — Не страшнее ли это смерти?
— Не знаю. Подумайте. Я имею право выбрать оружие, и я избрал это. Пройдут тысячелетия, сотни тысячелетий — кто-нибудь из нас будет еще продолжать жить. Он узнает все, вся мудрость вселенной будет в его глазах. Он захочет покоя. Он устанет. Ему надоест жить. Но он не сможет убить себя, так как эликсир этот способен восстановить к жизни даже раздавленное поездом тело. Бессмертие Агасфера или добыча червей — решайтесь!
— Другое оружие! — сказала Евгения. — Я боюсь рисковать… бессмертием.
— Нет.
— Тогда я… отказываюсь.
Она ушла. Феринг посмотрел на флакон и улыбнулся.
— Да, это — страшнее смерти! — сказал он.
Малинник Якобсона
I
Геннадий долго сидел на набережной, щурясь от солнца и задумчивого речного блеска, пока острая тоска внутренностей не заставила его снова встать и идти на ослабевших ногах. Требовательный, злобный голод подталкивал его вперед, к маленьким тесным улицам, где в окнах домов меланхолически пахло воскресными пирогами, маслом, изредка и легким спиртным дыханием подвыпивших обывателей.
Сплевывая, чтобы не так тошнило от голодной слюны, попадавшей в пустой желудок обильными, раздражающими глотками, Геннадий плелся в теневой стороне домов, стиснув за спиной веснушчатые, покоробленные трудом руки. Он был плюгав, тщедушен и неповоротлив; наивные голубые глаза сидели в его по-воробьиному взъерошенном, осунувшемся лице с выражением тоскливого ожидания. Он хотел есть, все его существо было проникнуто этой глубокой, священной мыслью. Рабочие, эстонцы и латыши, шли мимо него под руку с чисто одетыми женщинами и девушками.
«Жрали уже…» — завистливо подумал он, кряхтя от негодования.
Улица загибала вниз, к набережной, и Геннадий снова увидел воду, но не повернул обратно, а двинулся вдоль реки, по узкой полосе мостовой. Маленький, старинный городок отошел назад, навстречу попадались телеги, рыбачьи домики, лодки, плоты. Через две-три сотни шагов Геннадий остановился, присел на выдавшийся из глинистого откоса камень, свернул «собачью ногу» из махорки и хмуро плюнул в пространство.
Перед ним, переливаясь вечерним светом в зеленой полосе берегов, катилась река; у правого берега, разгружаясь и нагружаясь, стояли иностранные парусные корабли, паровые шхуны и барки. Свернутые паруса, реи, просмоленные, исцарапанные погрузкой борта дышали крепкой морской жизнью, свободой и тяжелым трудом и чем-то еще, похожим на затаенную тоску о далеком, всемирной родине, гармоничных углах мира, беспокойной свободе.
— За тридевять земель, — коротко вспомнил Геннадий.
Чужие страны развернулись перед ним, как противоположность его собственному, полуголодному существованию. Он представлял себе неимоверно тучные, бархатного чернозема поля, здоровеннейших, краснощеких людей, огромной величины коров, лоснящихся богатырей-коней, синее, аккуратно дождливое небо и отсутствие странников. Хозяева этой прекрасной страны ходили в ослепительно-ярком платье, не расставаясь с золотом.
Докурив, Геннадий тоскливо осмотрелся вокруг. Чужой город вызывал в нем легкую, тревожную злобу чистотой и уютностью старинных маленьких улиц; протянуть руку за милостыней здесь было почему-то труднее, чем в любом другом месте. Он встал, тихо, сосредоточенно выругался и зашагал по берегу с твердым решением попросить кусок хлеба у первого попавшегося окна.
II
Деревянный одноэтажный дом, к которому подошел Геннадий, стоял почти у самой воды. На Кольях, возле небольших мостков, сушился невод, в окне, уставленном горшками с растениями, колыхались чистые занавески. На крыльце, у почерневшей, массивной двери сидел, покуривая английскую трубку, человек лет семидесяти, колоссального роста, одетый в кожаную, подбитую красной фланелью куртку и высокие сапоги. Лицо, изъеденное ветром и жизнью, пестрело множеством крепких, добродушных морщин, рыжие волосы, выбритая верхняя губа и умные зрачки серых глаз сделали его похожим на грубое стальное изделие, тронутое желтизной ржавчины.
— Здрасьте! — сказал Геннадий, угрюмо ломая шапку.
Старик кивнул головой. Геннадий натужился, вобрал воздуху и вдруг, жалко улыбаясь, сказал:
— Не будете ли так добры, Христа ради, кусок хлеба безработному? Верьте совести — не жравши два дня.
— Работай… — меланхолически произнес старик, пуская трубкой дым. Лицо его стало натянутым и рассеянным. — Работа есть, много работы есть.
— Игде? — с отчаянием воскликнул Геннадий. — Вот ей-богу, каждый так говорит, а поди достань ее. Хлопок грузили малость, это верно, а опосля и затерло. И то есть, как я попал сюда — не приведи бог!
— Марта! — крикнул старик и по-эстонски прибавил несколько слов, в тоне которых Геннадий уловил спокойное приказание. — Ты из Питера?
Геннадий открыл рот, но в это время на крыльцо вышла круглая, быстрая в движениях девушка, с загорелыми босыми ногами, протягивая ему кусок хлеба и новенький монопольный грош. Он взял то и другое, хлеб сунул за пазуху, а грош повертел в руках и неловко зажал в ладони.
— Премного благодарствуйте, — сказал он, отойдя в сторону.
Старик молча кивнул головой, девушка смотрела вслед удалявшемуся Геннадию прямо и равнодушно. Свернув в ближайший, каменистый, вытянутый меж двух высоких заборов переулок, Геннадий торопливо присел на корточки и съел хлеб.
Полуфунтовый кусок мало утолил его вожделение; высыпав с ладони в рот быстро высохшие крошки, он встал, голодный не менее, чем десять минут назад. Новенький, красноватый грош тупо блестел в его задрожавших от еды пальцах; Геннадий скрипнул зубами и злобно швырнул монету в побуревшую от жары крапиву.
— Чухна рыжая, — сосредоточенно выругался он, облизывая припухлым языком сухие губы. Небо и десны ныли, натруженные сухой жвачкой. — Рыбу жрут, мясо… небось, — продолжал он, вспоминая невод и кур, бродивших у калитки. — Мужик… тоже!..
Саженный забор, торчавший перед ним острыми концами почерневших от дождя вертикальных досок, кой-где расходился узенькими, молчаливыми щелями. Низ их скрывался в репейнике и крапиве, середина зеленела изнутри, и изнутри же верхние концы щелей пылали нежным румянцем, словно там, в огороженном небольшом пространстве, светилось вечерней зарей свое, маленькое, домашнее, пятивершковое солнце. Геннадий прильнул глазом к забору, но не увидал ничего, кроме зеленой, красноватой каши. Угрюмое любопытство бездельника, которого раздражает всякий пустяк, подтолкнуло Геннадия. Осмотревшись, он подхватил валявшийся невдалеке кол, приставил его к забору и, подтянувшись на длинных, цепких руках, выставился по пояс над заостренными концами досок.
Перед ним был малинник, принадлежавший, без сомнения, тому самому старику эстонцу, с которым он разговаривал десять минут назад. Внутренний фасад дома горел в низком огне вечернего солнца отражением стекол, яркими цветами, рассаженными по длинным, полным сочного чернозема ящикам, и путаницей кудрявых вьюнков, громоздившихся на водосточные трубы. Все остальное пространство высокого заграждения рябило багровым светом наливающейся малины.
— Госпожа ягодка! — умилился Геннадий, и в сердце его дрогнуло что-то родное, крестьянское, в ответ безмолвному голосу этого взлелеянного, выхоленного, как любимый ребенок, крошечного куска земли. Он пристально рассматривал отдельные, рдеющие на солнце ягоды, и челюсти его сводило от сладкой, кисловатой слюны.
III
Геннадий спрыгнул и отошел в сторону. Малинник, пылающий ягодами, стоял перед его глазами, сквозь серый забор, заросший со стороны переулка крапивой и одуванчиками, мерещились ему пышные, высокие лозы, рассаженные на одинаковом расстоянии друг от друга, и зубчатая листва, обрызганная красным дождем. Вершины лоз, заботливо подвязанных, каждая отдельно, суровой ниткой к высоким кольям, — соединялись над узкими проходами, образуя длинные своды из переплета стеблей, освещенных листьев и ягод. На разрыхленной, чисто выполотой земле тянулся дренаж.
Геннадий взволнованно переступил с ноги на ногу. Древний огонь земли вспыхнул в нем, переходя в глухой зуд мучительной зависти. Бесконечные, оплаканные потом поля, тощие и бессильные, как лошади голодной деревни, — выступили перед ним из вечерних дубовых рощ. Соломенные скелеты крыш, чахлые огороды, злобная печаль праздников и земля — милая, грустная, больная, близкая и ненавистная, как изменяющая любимая женщина.
— Эх-ма! — угрюмо сказал Геннадий. — Чухна проклятая!
Расстроенный, он вновь подошел к забору. Бесконечно враждебным, похожим на издевательство, казался ему этот клочок земли; мужик выругался, стукнул кулаком в доску, ушиб пальцы и побледнел.
Это не было пламенное бешенство оскорбленного человека, когда, не рассуждая, не останавливаясь, совершает он, охваченный яростью, — все, что подскажет закипевшая кровь. Холодная, нетерпеливая злоба руководила Геннадием; неопределенное, мстительное настроение, где голод и одиночество, брошенный кусок хлеба и чужой, мужицкий достаток смешивались в тяжком чувстве заброшенности. Трусливо озираясь, Геннадий вскарабкался на забор, тяжело спрыгнул и очутился в зеленой тесноте лоз.
Пряная духота, тишина, полная предательского внимания, и легкий шум крови привели его в состояние некоторого оцепенения. Присев на корточки, он с минуту прислушивался к дремотному дыханию сада, ощупывая глазами пятна теней и света; отдышался, шмыгнул носом и, убедившись, что людей нет, прополз в глубину. Оборванный, исхудавший, трясущийся от ненависти и страха, он напоминал крысу, облитую светом фонаря во тьме погреба. Еще что-то удерживало его руки, словно упругий лесной сук — идущего человека, но, понатужившись, мужик встал, поднял ногу и сильно ударил подошвой в ближайший кол.
Стебли, затрещав, вытянулись на земле. Стиснув зубы, Геннадий бросился всем телом в кусты, топча, ломая, выдергивая с корнем, скручивая и вихляя листья; брызги свежей земли летели из-под его ног и с корней выхваченных растений. Дух разрушения, близкий к истерическому припадку, наполнял его дрожью сладострастного исступления. Перед глазами кружился вихрь, пестрый, как лоскутное одеяло; через две-три минуты малинник напоминал вороха разбросанной, гигантской соломы. Пошатываясь, потный от изнурения, мужик подошел к забору. Спину знобило, усиленные скачки сердца расслабляли, перебивая дыхание. Заторопившись, он стал карабкаться на забор, срываясь, подскакивая, шаркая ногами по дереву; но через мгновение увидел рыжую голову Якобсона, вытянул вперед руки и замер.
Эстонец постоял на месте, раскачиваясь, как медведь, и вдруг положил ладони на плечи Геннадия. Горло старика клокотало и всхлипывало, как у человека с падучей, он хотел что-то сказать, но не смог и бешено обернулся к искалеченным кустам сада. Тогда Геннадий увидел, что рыжие вихры Якобсона тускнеют. На голову старика садилась таинственная, белая пыль: он быстро седел. Тягучий ужас раздавил мужика.
— Ты что делал? — хрипло спросил эстонец.
— Пусти! — взвизгнул Геннадий, подымая руки к лицу. Но его не ударили. Железные, пытливые пальцы давили плечи так, что болела шея.
— Ты ломал! — сказал шепотом Якобсон. От горя и волнения он не мог вскрикнуть и судорожно мотал головой. — Что будем делать теперь?
«Убьет!» — подумал Геннадий, тоскливо следя за прыгающими зубами эстонца. Мужику захотелось завыть, убежать вон, уткнуться лицом в землю.
— Я работал, — продолжал Якобсон, — десять лет. Ты приходил. Ты просил хлеба. Я дал тебе хлеб. Зачем был неблагодарным и ломал?
— А вот и ломал! — почти бессознательно, срывающимся голосом произнес Геннадий.
Отчаяние толкало его к вызову.
— Бей! Что не бьешь? Ломал! Э-ка! Чухна проклятая!
Загнанный, он озверел и теперь готов был на все. Пересохший язык бросил еще одно бессмысленное ругательство. Но не Якобсона хотел оскорбить он, а все, что появилось неизвестно откуда, рядом с обездоленной пашней, первобытным веретеном и мякиной: город, господа, книги, звон ресторанного оркестриона — неведомыми путями соединились в его сознании с нерусским, выхоленным куском земли. Но он не смог бы даже заикнуться об этом.
Старик согнулся, и вдруг голова его куда-то исчезла. В тот же момент Геннадий задохнулся от сотрясения, увидел под собой край забора, вверху — небо и грузно шмякнулся в переулок, затылком о камень. Багровый свет брызнул ему в глаза; он вскрикнул и потерял сознание.
Через полчаса он очнулся и сел, покачиваясь от слабости. Острая боль рвала голову. Поднявшись, мужик нащупал дрожащими пальцами висок, мокрый от крови, и заплакал. Это были теплые, злые слезы. Он плакал, неведомо для себя, о беспечальном мужицком рае, где — хлеб, золото и кумач.
Пришел и ушел
I
Когда Батль бросил мешок на койку и поднял голову, то увидел, что перед ним стоят трое, рассматривая новичка пристальным взглядом попугаев. Заспанные, обросшие волосами и полуголые в силу нестерпимого зноя, они лениво переминались с ноги на ногу; новое обмундирование Батля смутно напоминало им прежнюю жизнь в полку.
— Стоило попадать в такую дыру, — сказал бывший конторщик. — Что же, вы совершили какое-нибудь тяжелое преступление?
— Я не совершал никакого преступления, — возразил Батль. — Меня перевели сюда по моей просьбе.
Солдаты переглянулись и усмехнулись. Батль нахмурился.
— В чем дело? — с беспокойством спросил он. — Пожили бы в Покете, как я. Тоска и скука. Может быть, здесь служба опаснее, а жизнь труднее, но муштра хуже всего того в тысячу раз.
— Труднее? — спросил великан с соломенной бородой.
— Я нахожу, что так.
— Самая большая опасность, — заявил третий солдат, — заключается в дрянной воде. Вечно болит живот. Здесь известь и песок. Вода такая, словно вам скребут внутренности.
Батль пристально рассмотрел говорившего, но не нашел в его лице даже тени насмешки. Вслед за этим он остался один; его новые товарищи отправились возить воду.
Постояв немного в пыльной духоте глиняных стен, Батль вышел на двор.
Огромное количество кур, снующих под ногами, наполняло своим клохтаньем все углы форта. Батль насчитал не менее двухсот кур. Стадо толстых свиней преградило ему дорогу у ступеней входа комендантской квартиры. Кроме того, движение по двору затруднялось полотнищами простынь и женских рубашек, развешанных для просушки на веревках, протянутых во всех направлениях.
Человеческих голосов не было слышно. Где-то, дребезжа, тренькал, мозоля уши, скверный туземный инструмент. Батль двинулся по направлению звуков и скоро, обогнув угол вала, наткнулся на палисадник, заросший чем-то похожим на огромный пыльный салат. Там, за большим деревянным столом сидели пять человек: трое мужчин и две женщины.
Комендант сидел с поникшей головой, протянув ноги, и мрачно курил. Младшие офицеры, с наголо выбритыми головами, тянули через камышовые трубки из грязных стаканов мутную жижу. Молодая загорелая женщина беспрерывно зевала; вторая, старше ее, с видом изнеможения перебирала струны, натянутые на чем-то схожем с козьей ногой. Все пили виски. Эти люди, растрепанные, полуодетые, с помраченным жарой, пьянством и бездельем рассудком, едва двигали руками, — разве лишь затем, чтобы взять стакан или отогнать мух.
Батль простоял минут пять, но не услышал ни одного слова. Сидевшие, казалось, соперничали друг с другом в искусстве отмалчиваться. Батль поднялся на вал, заросший жесткой, колючей травой. По беспредельной пустыне, окружающей форт, разливался сверкающий, как металл, зной. Форт был забыт жизнью и неприятелем. Где неприятель? Истина смутно зашевелилась в уме Батля. Быть может, лет тридцать назад это неуклюжее земляное сооружение действительно покрикивало на пограничных туземцев… но теперь… теперь… Батль сладко зевнул.
С высоты вала он рассмотрел всю внутренность форта. По углам, между сараев и в глубине прохладных навесов, вдоль стен, спали немногочисленные солдаты. Батль рассматривал их, пока не заметил утреннего великана с соломенной бородой. Детина лежал на боку, поджав ноги коленями к подбородку, как младенец в утробе матери, и зычно свистел носом. В позе его было что-то трогательное.
II
Десять утомительных, пустых дней привели Батля в состояние холодного бешенства. Ночью, чтобы развлечься, он ел леденцы, привезенные им из Покета, и размышлял о несбывшихся приключениях.
Стоя на часах, Батль беседовал со своей тенью. Луна, сияющая от удовольствия быть круглой, следила за его движениями светом холодным и резким. Винтовка Батля блестела, как перламутр. Батль медленно ходил от порохового погреба к кухне и обратно. Пустыня перешагнула через валы форта тысячами белых и голубых звезд. Безнадежная тишина бессмысленно следила за Батлем. Его шаги становились все медленнее, размереннее, как под действием душевного угнетения.
Наконец в одну из таких ночей измученное лицо Батля повернулось к луне. Батль боялся. Страх начался с момента, когда он представил огромные пространства, отделяющие форт от городов и железных дорог. Впрочем, действие глухой лунной ночи было сильнее этого географического представления. В груди Батля закипели слезы обиды. Он был живой, нетерпеливый и еще молодой человек.
Через два часа хождения по двору Батль стал преступником. Он был невменяем в течение получаса.
Но этого никогда никто не узнал. Замок погреба, взломанный острием штыка, отскочил и упал. Батль зажег спичку и вошел в низенькую четырехугольную дверь. Спертый воздух и писк мышей встретили Батля весьма двусмысленно. Потом раздались ужаснейшие проклятия, когда-либо придуманные человеком, потому что, кроме пустых, давно сгнивших бочек, в погребе ничего не было.
С потолка высыпался ком глины и шлепнул Батля в затылок. Он вылез и очутился среди посмеивающегося лунного света, а затем, не торопясь, привесил замок на прежнее место. Взрыв произошел — но только в его воображении; хотя был и другой взрыв: вместо развалин форта покачивалась развалина прежнего человека.
— Фейерверк не удался, — пробормотал Батль, заметая следы происшествия, — но я не виноват в этом.
III
Утро следующего дня озарило редкий случай: в полном вооружении из форта уходил человек, Батль.
Он выступил из казармы при недоумевающем и неодобрительном молчании сослуживцев, прошел двор, загубив жизнь одного цыпленка, и миновал ворота. В это время на вал поднялись комендант с женой и лейтенантом.
— Кто это идет, Сильс? — спросил комендант, увидев прямую, мерно удаляющуюся фигуру.
— По-видимому, один из наших солдат, — вяло сообразил офицер. — Идет он… да… идет… куда-то…
— Зачем?
— Трудно сказать, — ответил лейтенант после долгой паузы. — По крайней мере, я не берусь решить этот вопрос.
— Он совсем уменьшился! — воскликнула жена коменданта.
Никто ей не отозвался. Три человека смотрели вслед таинственно уходящему Батлю. По ослепленной солнцем равнине солдат игрушечного размера, не оборачиваясь и не останавливаясь, твердой размеренной походкой удалялся к серой полосе леса, напоминающей задумчивую тонкую бровь.
— Почему он уходит все дальше? — глубокомысленно спросил комендант, следя за дальнейшим уменьшением фигуры Батля. — Это… побег?
— Побег?.. Он идет шагом, — возразил лейтенант.
Наступило молчание. Солнце поднялось выше; несколько солдат, взлезши на вал, приложили к глазам ладони.
Батль скрылся в блеске песка и солнца. Тогда комендант сказал:
— Сильс, пошлите кого-нибудь спросить этого человека: что он там ищет?
— Но это галлюцинация, — заметила женщина. — Черное пятно на сетчатке глаза.
— Возможно, — сказал комендант.
— Привиделось от жары, — сказал Сильс.
И они, вздохнув, спустились в палисадник, к столу.
Лунный свет
I
Пенкаль стоял на пороге кузницы, с тяжелой полосой в левой руке и, заметив приближающегося Брайда, приветливо улыбнулся.
Был солнечный день; кузница, построенная недавно Пенкалем из золотистых сосновых бревен, сияла чистотой снаружи, но зато внутри, как всегда, благодаря рассеянному характеру владельца представляла пыльный железный хаос. Брайд брякнул принесенным ведерком, пожал руку Пенкаля и сел у входа, широко расставив колени. Его шляпа, сдвинутая на затылок, открывала умный лоб; маленькие внимательные глаза с любопытством рассматривали Пенкаля.
— Вы можете его починить, Пенкаль? — сказал наконец Брайд, оборачивая ведро дном кверху. — Оно продырявилось в двух местах, следовало бы положить заплатки, но, может быть, вы знаете и другой способ?
— Хорошо, — ответил Пенкаль. Взяв ведро из рук Брайда, он мягко швырнул его в кучу ломаного железа, потом поплевал на руку, готовясь раздуть тлеющее горно. Брайд вошел в кузницу.
— Поздно вы принимаетесь за работу, — сказал он, пытливо осматривая все углы закопченного помещения. — А у нас вчера была ваша жена, Пенкаль.
Кузнец шумно опустил мех, и воздух загудел в горне ровными вздохами, осыпав кузнеца дождем искр. Брайд переждал минуту, рассчитывая, что Пенкаль откликнется «на жену» и тем подвинет разговор к вопросу, интересующему поселок. Но Пенкаль пристально смотрел на огонь.
— Она побыла немного и ушла, — смущенно продолжал Брайд. — Вид у нее был нельзя сказать, что хороший.
— Ну? — сказал Пенкаль. — Ведь она ходит к вам каждый день.
Брайд принял решение.
— Она жаловалась на вас, что вы… кажется, у нее были заплаканы глаза… Что такое семейная история? Та, где нет дела третьему? Этого я не одобряю. Конечно, если мне что-нибудь говорят — я слушаю, но придавать значение… это не мое дело. Разумеется, говорю я себе, у них были причины. Какие? Мне этого знать не нужно. Пусть живут люди, как им живется. Не так ли, Пенкаль?
— Верно, — сказал кузнец.
Брайд разочарованно поймал муху и грустно бросил ее в горно. Скрытность Пенкаля казалась ему излишней и неприличной осторожностью. Что скрыто за этим покусыванием усов? Но, может быть, все пустяки?
Наступило молчание. Пенкаль бил молотком железо, изредка останавливаясь, чтобы поправить падающие на лоб прямые черные волосы. Когда полоса остыла, кузнец сунул ее в печь и спросил:
— А видели вы длинного кляузника Ритля? Сегодня ночью он катался на лодке, и я просто думаю, что его занесло течением дальше, чем следовало.
Брайд высморкался безо всякой нужды.
— Ну да, — принужденно сказал он, избегая взгляда Пенкаля. — Вот еще Ритль… Он проехал действительно подальше… вслед за вами… и легко могло показаться… Впрочем, это был всегда любопытный человек.
— Не думаете ли вы, что он дурак? — мягко спросил Пенкаль.
— Дурак? Пожалуй… — Лицо Брайда томительно напряглось, в то же время он подумал, что от Пенкаля вряд ли что выудишь.
— Он дурак, — сердито проговорил Пенкаль, — не мешало бы ему придерживаться вашего мнения: пусть люди живут, как им живется, а? Не правда ли?
— Да, да, — неохотно сказал Брайд. — Но я зайду к вечеру за ведерком. Мне ведь не к спеху. Да, нужно еще починить изгородь.
Он встал, помялся немного и ушел, оглянувшись на низкую дверь кузницы. Она была вся освещена буйным огнем; в красноватом блеске двигалась сутулая фигура Пенкаля.
Кузнец стремительно двигал мех, стараясь физическим усилием побороть тяжелое раздражение. Да, еще немного — и все будут подозревать его неизвестно в чем.
Он улыбнулся; врожденной чертой его характера было ленивое отвращение ко всякого рода объяснениям и выяснениям. Не их дело.
Пенкаль кончил работу, закрыл дверь, умылся и медленно пошел домой, к куче неуклюжих зданий поселка. Навстречу, грустно улыбаясь осунувшимся, легкомысленным и красивым лицом, шла его жена; Пенкаль прибавил шагу.
— Здравствуй, коза, — сказал он, целуя ее в голову. — Я еще не был дома после этих двух суток, пойдем скорее, у меня разыгралась охота пообедать сидя против тебя. Клавдия! Подними рожицу!
Замявшись, женщина нерешительно обдергивала бахрому цветного платка, прикрывавшего ее молодые плечи, и вдруг заплакала, не изменяя позы. Пенкаль сдвинул брови.
— Это все чаще, Клавдия, — сказал он, заглядывая ей в глаза. — Ты подумай, есть ли хоть маленькая причина портить глазки? Потом… ты еще ходишь жаловаться на меня; это совсем скверно. Что я тебе сделал?
Женщина вытерла глаза, но они вновь оказались мокрыми.
— Ты сам виноват, Пенкаль, — проговорила она, мешая ноты упрека с горькими всхлипываниями, — почти месяц… каждый день… каждую ночь… Никто не знает, куда ты уходишь. Надо мной посмеиваются. «Пенкаль, — говорят, — о, он молодец мужчина!»… Что ты на это скажешь? Ты ведь ничего не говоришь мне. Раньше делали насчет тебя догадки… теперь говорят шепотом, а когда я вхожу, — молчат и странно смотрят на меня. Может быть, ты делаешь фальшивые деньги, милый… так скажи мне… Я не выдам, но… О, мне так тяжело…
Она умолкла; в ее беспомощно раскрытом рту и прямом взгляде сказывался наивный испуг. Пенкаль обнял жену за талию.
— Я гуляю, Клавдия, я хожу на охоту, — серьезно сказал он. — Ну, вот видишь, я говорю правду, а ты смотришь все-таки недоверчиво. Да, Клавдия, только и всего. Надо было мне сказать тебе это раньше. В самом деле, когда охотник приходит постоянно с пустыми руками… Но пойдем. Я попытаюсь успокоить тебя.
Он взял ее за руку, как маленькую девочку, и стал спускаться с пригорка, продолжая говорить. Через сто шагов женщина успокоилась. Еще ближе к дому лицо ее выглядело просохшим и успокоенным, но в душе она, вероятно, немного подсмеивалась: вот чудак!
II
Береговой песок, залитый лунным светом, переходил в таинственное свечение сонной воды, а еще дальше — в торжественную, полную немых силуэтов муть противоположного берега.
Был полный разлив. Вода покрыла островки, мысы, огромные высыхающие к концу лета отмели, медлительная сила реки сгладила полуобнаженный остов русла — спокойный момент торжества, делавший лесную красавицу похожей на гигантскую объевшуюся змею.
Пенкаль остановился у кипарисов, сильно подмытых течением, зашлепал сапогами в холодной воде и быстро освободил лодку, привязанную к обнаженным корням деревьев. Пахло сырым, полным весенним воздухом. Опустив весла, Пенкаль различил легкие человеческие шаги и выпрямился.
Он повернулся. Низкий обрыв, изборожденный трещинами, мешал рассмотреть что-либо, но неизвестный предупредил Пенкаля и вышел из тени деревьев. Шагах в пяти от Пенкаля он остановился, заложил руки за спину и наклонил голову. Это был Ритль, торговец; в лунном свете хорошо обрисовывалось его длинное, с выпяченным животом туловище. Подстерегающий взгляд торговца назойливо обнял кузнеца, дрогнул и ушел в землю.
— Никак, вы собрались ехать? — подобострастно, но цепко спросил Ритль. — А я почему-то думал, что вы спите. Вышел я, знаете ли, пройтись, приставал ко мне утром сегодня этот бродяга Крокис, все настаивал, чтобы я сделал скидку, и страшно меня расстроил. Другим он говорил: «Ритль упрям, но я возьму у него брезенты». Каково? Брезенты действительно принадлежат ему. Пойдет дождь, и товар подмокнет. Дернул меня черт положиться на его совесть! Впрочем, вы заняты, а то я хотел ведь попросить у вас совета, Пенкаль. Вы, что же, испробовать новую винтовку? На взморье, говорят, появились лоси. Эх, в молодости и я был охотником!
Пенкаль опустил цепь и, не отвечая, хотел вскочить в лодку. Ритль подошел ближе.
— Какой вы, однако, скрытный, — произнес он, — ну, бог с вами. Честное слово, Пенкаль, если бы вы знали, как все заинтересованы вашим поведением!
Пенкаль усмехнулся. В первую минуту ему захотелось обругать Ритля, но, удержавшись от резких слов, он сообразил выгоду своего положения; можно внешне, страшным и удивительным для других образом исказить правду. Тогда, если и будут говорить о таинственных отлучках Пенкаля, то лишь в одном смысле.
— Ритль, — сухо сказал Пенкаль, — я всегда думал, что вы порядочный человек.
— Я?! — вскрикнул Ритль. — Не знаю, как понять это… но если…
— Вот, слушайте. Чего проще было бы мне сказать вам: Ритль, вы шпионили. Поддавшись бабьим пересудам и толкам бездельников, сующих нос в чужие дела, вы сегодня следили за мной и видели, как я подошел к лодке.
— Никогда в жизни! — пылко вскричал Ритль.
— Шутник вы! Зачем мне и вам все эти брезенты? Подошли бы вы просто и сказали: «Пенкаль! Я чертовски любопытен, это большой недостаток, но что с этим поделаешь? Куда это вы ездите ночью и зачем? Со мной прямо делаются корчи, когда я подумаю, что вы имеете право что-то скрывать и не расскажете никому».
Ритль нерешительно раскрыл рот.
— Ну, что же… — путаясь, начал он. — В сущности… да ведь и не я один… как хотите…
— Да?! — сказал Пенкаль. — Если вы поклянетесь, что ни одна живая душа… поняли? Тогда я расскажу вам все, без утайки. Хотите?
Глаза торговца блеснули и приблизились к кузнецу.
— О! Пенкаль! — заорал он в восторге. — Я всегда стоял за вас горой! Провались я, если вы не лучший человек на свете! Разве я сомневался в вас, хотя бы одну секунду? Нет, право, вы очаровали меня!
— Поклянитесь, — сказал серьезно Пенкаль, вполне уверенный, что через полчаса клятва будет нарушена.
— Клянусь громами и моими доходами! — воскликнул Ритль. — Вы можете быть покойны. Я всегда вас считал особенным человеком, Пенкаль, и ваше доверие… да что там!
— Хорошо, — сказал Пенкаль. — Сядем.
Он сел, Ритль опустился рядом с ним на большой камень. Тени их резко чернели на воде. Пенкаль поглаживал колено правой рукой, как будто любуясь им; это движение было характерно для него в минуты сосредоточенности.
— Из глупости, — начал Пенкаль. — Из пустяка. Из обрезка крысиного хвоста сочиняются всевозможные истории. Так обстоит дело и со мной. Вот вы выслушаете меня и придете домой в полной уверенности, что совсем нечего было выдумывать о Пенкале легенды и расстраивать его глупую, еще доверчивую жену россказнями о том, что Пенкаль фабрикует в лесу фальшивые монеты или что он завел в городе трех любовниц… Не вы, так ваша жена. Нет? Тем лучше, тогда перейдем к делу.
Здесь нужно было загадочно улыбнуться, и Пенкаль сделал это, смотря прямо в глаза Ритля рассеянным взглядом кошки, усевшейся перед собакой на недосягаемой вершине забора. Торговец выжидательно хихикнул; бледное лицо кузнеца и тишина лунной реки производили на него необъяснимо жуткое впечатление.
— Две недели назад, — продолжал Пенкаль, заботливо разглаживая колено, — я возвращался из города на этой вот лодке, но не рассчитал время и тронулся в путь, когда уже начинало темнеть. Дул сильный противный ветер, да и попал я в сильную полосу течения. Вы знаете, я не охотник выбиваться из сил, когда это не представляет необходимости, поэтому, завернув к Лягушачьему мысу, вытащил лодку на песок, развел огонь и устроил себе ночлег из свежих сосновых веток. Было совсем темно. Вы знаете, Ритль, что если долго смотреть в огонь, а потом сразу отвести глаза, то мрак кажется еще гуще. Представьте же мое удивление, когда, вдоволь насытившись видом раскаленных углей, я повернул голову и почувствовал, что светает. «Не может быть, чтобы наступило утро», — сказал я себе и вскочил на ноги. Но действительно было совсем светло. Я не могу подобрать название этому свету, Ритль, он был как дневной или яркий лунный, но без теней. Все было освещено им: спящая, молчаливая земля, лес, река, тихие облака вдали, — это было непривычно и странно. Я подошел к воде. Оставим описание того, что чувствовал я в это время; три слова, пожалуй, годятся сюда: страх, радость и удивление. Вода стала прозрачной, как воздух над деревенской изгородью, я видел дно, чистые слои песка, бревна, полузанесенные черноватым илом, куски досок; над ними, медленно шевеля плавниками, стояли рыбы, большие и маленькие, сеть водорослей зеленела под ними, внизу, совершенно так же, как луговые кустарники под опускающимися к ним птицами.
Я отвернулся, подумав, что умираю и что это последний трепет воображения, потом увидел лес и вздохнул, а может быть, ахнул. Я никогда не видел леса таким прекрасным, как в эту ночь. Проникнутый тем же золотистым, неярким светом, он виден был вглубь на целые мили, — и это весной, в самом буйном цветении; стволы, чешуйки древесной корм, хвойные иглы, листья, цветы, даже маленькие — не больше булавки — самые нежные и тонкие побеги, — все это буквально соперничало друг с другом в необычайной отчетливости.
Пенкаль посмотрел на Ритля. Торговец несколько отодвинулся и сидел теперь на расстоянии четырех шагов.
— Поразительно, — пробормотал Ритль.
— Я лег на спину, — продолжал Пенкаль, — потому что был сражен и напуган. Костер слабо трещал вблизи меня. Я думал о том, кто зажег эту гигантскую лампу без теней, осветив спящую землю так, как мы освещаем комнату среди ночи. Мои соображения были бессильны. В этот момент он подошел ко мне.
— Он? — глухо спросил Ритль, мигая расширенными глазами.
— Да, он и маленькая полуголая женщина. Она крепко жалась к нему. Вид у нее был слегка дикий в этом странном капотике из кленовых листьев, но не лишенный кокетства, впрочем, вряд ли она сознавала, чего ей не хватает в костюме. Я имею некоторые причины подозревать это. Он же был одет и довольно курьезно: представьте себе человека, первый раз надевшего полный городской костюм, — естественно, что он не умеет себя держать. Так было и с ним: тугие воротнички, должно быть, страшно утомляли его, потому что он беспрестанно вертел головой, а также вытаскивал манжеты из рукавов и по временам среди разговора пристально рассматривал свои запонки. Был он совсем маленького роста и показался мне застенчивым добряком. Женщина крепко держала его за руку, прижимаясь к плечу; изредка, когда он говорил что-нибудь, по ее мнению, неподходящее или лишнее, слегка щипала его, отчего он смущенно умолкал и грустно обращался к запонкам.
Я сел, они приблизились и остановились…
— Ого! — сказал Ритль, побледнев и ежась на своем камне. — Как вы могли выдержать?
— Слушайте дальше, — спокойно перебил Пенкаль.
— Вы спали, — сказал он, приседая как-то странно, словно его сунули под гидравлический пресс, — а я не знал. Нас разбудили, мы тоже спали, но вот она испугалась… — Он посмотрел на женщину. — Сегодня утром, видите ли, прошел этот… ну, вот, хлопает по воде, коробочкой, постоянно горит. Да, так она не выносит этого железного крика, хотя многие утверждают, что он поет недурно, и только дым…
— Пароход, — сказал я.
Он прищурился и посмотрел на меня пристально.
— Да, вы так говорите, — согласился он, — все равно. И она дрожит целый день. Я кормил ее, сударь, уверяю вас, она кушала сегодня и расстроилась совсем не потому, что она голодна… но она не может… Как только этот па… или что-то такое, так и история.
Женщина тихонько ущипнула его за ухо, и он сконфузился.
— Знаете! — воскликнул он с жаром, вдоволь повертев свои запонки. — Мы ушли бы отсюда, но… нам совершенно не с кем посоветоваться. Все, как и мы, ничего не знают. Говорят, правда, что вверх по реке есть тихие области, где нет этих… вообще беспокойства, — а я не знаю наверное.
В свою очередь, я пристально посмотрел на него. Глаза его очень переменчивого цвета напоминали лесные озерки в разное время дня; они то тускнели, то разгорались и переливались всеми цветами радуги.
— Там города, — продолжал он, показывая рукой к морю и ежась, как от сильного холода. — Они строятся из железа и камня. Я не люблю этих… ну, как их? До… до…
— Домов, — подсказал я.
— Вот именно. — Он, казалось, чрезвычайно обрадовался, что я так быстро помогаю ему. — Да, домов… но как, вверх по реке, есть эти штуки?
— Семь городов, — сказал я. — И много строится новых.
Он был сильно озадачен и долго сидел задумавшись. Потом засмеялся, тронув меня за плечо, с довольной улыбкой мальчика, поймавшего воробья.
— Вот что, — произнес он, — камень и железо — правда?
— Конечно.
— Ну, так они их не достанут. Здесь нет камня и железа до самых гор. Они останутся в дураках.
Я улыбнулся.
— А эти, — сказал я, — коробочкой?
— Па-рра-ходы? — с усилием произнес он и опечалился. — Вы думаете?
— Без сомнения.
Пока он переваривал этот новый удар, женщина внимательно водила пальцем по коже моего сапога, отдергивая свою нежную руку каждый раз, когда я шевелил ногой.
— Тогда мы уйдем, — полувопросительно сказал он. — Нет никакого расчета оставаться здесь. И все уйдут. Леса опустеют. Я слышал, что не будет лесов и даже травы? Куда-нибудь да уйдем.
Мне стало жалко их, Ритль, этих маленьких лесных душ; но чем я мог им помочь?.. Я горевал вместе с ними. Так сидели мы втроем, молча, среди живой тишины, в кротком, печальном оцепенении.
— Я слышал еще, — виновато сказал он, — что будто дело произойдет так: везде будет железо и камень, и парра-ходы, и ничего больше. А потом они снова захотят жить с нами в близком соседстве; устанут, говорят, они от этого… элек…
— Электричества.
— Да, да. Ну, так мы пока можем побыть и в изгнании. Как вы думаете насчет этого?
В этот момент я услышал тихий и ровный плач; он напоминал шелест падающих сосновых шишек.
— Ну, — сказал он, — так усни. Чего же плакать?
Женщина продолжала рыдать на его плече. Из ее маленьких, светлых глаз катились быстрые слезы.
— Я хочу спать, — твердила она, — а надо опять идти… идти…
Он повернулся к ней, и оба растаяли, затрепетали прозрачными силуэтами на освещенном песке, затем исчезли. Я встал, Ритль; было темно, костер шипел мокрыми от росы сучьями.
После этого я встречал их каждую ночь. Они приходили и исчезали, но между жалобами от них можно было узнать многое о их жизни. Я это делаю — беру лодку и еду. Вчера мы обсуждали, например, скверные черты в характере волка. Вы видите…
Пенкаль повернулся. Камень был пуст; вдали замирали быстрые шаги Ритля.
«Я напугал его, — подумал молодой человек, — теперь он считает меня бесноватым или — что все равно — приятелем самого черта. Но я, кажется, сам позабыл о его присутствии. Это ведь лунный свет…»
Он не договорил и посмотрел вверх, где чистая луна сочиняла ему сказку о его собственной замкнутой и беспредельной душе. Затем, обойдя лужи, Пенкаль сел в лодку, толкнул веслом заскрипевший песок и растворился в прозрачной мгле.
III
— Где же его искать?
— В аду.
— Без шуток, говори, куда держать?
— Держи пока прямо. А потом — на свет.
После мгновенного замешательства, вызванного коротеньким диалогом, весла заработали так быстро, что рулевой качнулся назад. Несколько минут прошло в совершенном молчании, затем тот, кто рекомендовал отправиться в ад, глухо проговорил:
— Темно. Подлей масла в фонарь, Син; он гаснет.
— Я предлагаю вернуться, — заявил Паск.
— Вернись, — ответил с недобрым оттенком в голосе мрачный человек. — По воде ты дойдешь до берега, а там сядешь в лодку.
Остальные захохотали. Смех их показал шутнику, что слова его немного смешны, и он засмеялся после всех сам, совершенно несвоевременно, потому что в этот момент Энди ушиб себе ногу веслом и застонал с кроткой яростью ангела, проворонившего пару приличных душ.
— Луна скрылась, — сказал Паск, — и очень кстати. Кружись до утра, Льюз.
— Нет, — сказал мрачный человек, названный Льюзом, — дело должно быть сделано. Я хочу посмотреть дьявольские игрушки Пенкаля… или запою песенку под названием: «Ритль, береги ребра!», а то…
Он стих и погрозил кулаком зюйд-весту. Четыре силуэта мужчин, обведенные каймой борта в тусклом свете дымного фонаря, плыли над водой, усиленно загребая веслами. Паск спросил:
— Возможны ли такие шутки?
— То есть мы — дураки, — скорбно поправил Льюз. — Не мешало бы воротиться и расспросить Ритля, а? — Льюз дернул рулем. — Я мог бы рассказать вам, — проговорил он, — как один человек… какой — все равно, зашел на кукурузное поле.
Прошло пять минут, пока Син осведомился, чего ради этот несчастный подвергся такой странной участи.
— Он утонул, — задумчиво пояснил Льюз, — и утонул потому, что это было не кукурузное поле, а озеро. Поняли?
Кто-то вздохнул. Энди повернул голову.
— Огонь влево, — сказал он, переставая грести.
Нетерпеливое, отчасти жуткое ожидание достигло крайнего напряжения. Льюз направлял лодку. Слева под лесом, у большой песчаной косы трепетал красный огонь костра. Маленький, одинокий, он тихо манил парней; может быть, там сидел Пенкаль.
Без команды, словно по уговору, Син, Энди и Паск бережно загребли веслами, словно не вынимая их из воды, отчего лодка бесшумно, как окрыленная, скользнула к земле и остановилась, толкнувшись о подводные кряжи.
— Ну, выходи, — смущенно проговорил Льюз.
Все двинулись кучкой, молча, подавленные тишиной и предчувствием разочарования. Пенкаль сидел на корточках у огня; в котелке, повешенном над угольями, что-то шипело и булькало; смеющиеся глаза вопросительно остановились на Льюзе.
— Вот погреемся! — неестественно сказал Син, избегая глядеть на кузнеца.
Льюз мрачно улыбнулся, присев боком к огню; Паск остановился в отдалении; Энди для чего-то снял шапку и подбросил ее вверх.
— Так вы прогуливаетесь, — сухо сказал Пенкаль.
— Мы? — спросил Энди. — Да… мы… ехали и… увидели этот огонь… но… Льюз потерял спички… и вот… понимаете… курить захотелось… Верно я говорю, Льюз? Ну… мы и того… Здравствуйте!
Котелок покачнулся. Серая пена заструилась в огонь, чадя и всхлюпывая на угольях. Пенкаль бросился снимать варево, поддел котелок палкой и бережно поставил на землю.
— Это суп, — сказал он. — Хотите?
Четыре человека недоверчиво переглянулись и протянули Пенкалю руки.
— Прощайте! — сказал Энди. — Мы должны ехать: нам нужно… Льюз, закури трубку.
Льюз сделал это, подпалив усы, так как дрожали руки, и затем все удалились, переговариваясь вполголоса о таинственных, недоступных для глаз их, лесных жителях.
Когда их фигуры, раскачиваясь, ушли во мрак, — из-за туч выглянула луна и затопила тревожным блеском далекую линию противоположного берега.
Система мнемоники Атлея
I
Грустное событие имеет то преимущество перед остальными событиями жизни, что кладет на однообразное существование человека неуловимую тень прекрасного, о котором начинают вздыхать все, тронутые печалью.
Случилось, что когда мы начали забывать о юре молодой женщины, носившей странное имя Зелла, вся эта история с исчезновением ее мужа после долгих лет получила в наших глазах неотразимое обаяние — впечатление, покоившееся в основах на воспоминании о том летнем вечере, когда Пленер пел в дубовой роще свою лучшую песню о «Графе в изгнании». Начальные слова песни были таковы:
Земля не принимает моих следов, Они слишком легки, небрежны и оскорбительны для нее, Привыкшей к толстым сапогам поденщиков, К осязательным следам жизни, Ненужной для себя самой.Когда он кончил, солнце садилось и ветер пошевелил листву, затканную сонным, очаровательным румянцем зари. После этого Пленер исчез. Может быть, это было для него так же неожиданно, как и для нас, потому что никто не успел заметить момент его исчезновения. В памяти всех, как сейчас, так и тогда, осталась его высокая, прямая фигура, с рукой, прикрывающей глаза. Он пел в этой позе, а затем его не стало. Через неделю, когда добровольные и полицейские розыски оказались безуспешными, Зелла перешла от острых припадков горя к тихому отчаянию.
Все, что ум человеческий может противопоставить роковому в виде вопросов и неуклюжих догадок, было сделано нами, пересмотрено, отвергнуто и забыто. Но от исчезновения человека осталось веяние таинственной прелести, жуткой и заманчивой глубины потрясения. Всех нас, бывших в тот вечер, связало нечто сильней нашей воли в рассеянную жизнью, но плотно связанную одним и тем же чувством группу людей тоски.
II
В июне прошлого года, ровно через десять лет после исчезновения Пленера, утром, когда я занимался в саду опытами с прививкой растениям некоторых невинных болезней, способных изменить их окраску, — Дибах, мой брат, вошел через боковую калитку в сопровождении неизвестного пожилого человека, остановившегося на некотором расстоянии от клумбы. Я не сразу обратил внимание на возбужденное лицо брата; помню, что только его нервный смех заставил меня пристально посмотреть на обоих. Я вытер запачканные землей руки и поклонился.
— Атлей, — сказал брат, оборачиваясь в сторону неизвестного, — это Пленер.
Должно быть, кровь ударила мне в голову при этих словах, потому что, не более как на один момент, ясное небо затуманилось и задрожало перед моими глазами. Помню, что, когда я заговорил, голос мой звучал слабо и глухо. Я сказал:
— Вот шутник. Подумайте, Пленер, что он говорит!! Возможно ли это? Как ваше здоровье?
Думаю, что эта чепуха внушила ему все же некоторое представление о моем состоянии. Пленер неопределенно улыбнулся, но не сказал ничего; может быть, он считал свое положение в некотором роде щекотливым и странным.
Я рассмотрел его трижды, пока он стоял на этом красноватом песке, освещенный солнцем и зелеными отблесками акаций. Пленер изменился, как может измениться человек, перевернувший свою жизнь. В густых, темных волосах его пестрела седина, лицо утратило женственную нежность кожи; темное, осунувшееся, но с бодрыми складками вокруг глаз, оно напоминало портрет старинной живописи. В дорожном светлом костюме, могучий и статный, стоял он предо мной — все-таки он, Пленер.
Мы молчали. Удивляюсь, как я не забросал его обычными в таких случаях вопросами. Дибах сказал:
— Я ухожу, Атлей, Зелла смеется и плачет, нельзя оставлять ее одну. Сегодняшний день мы будем помнить всю жизнь.
Он направился к калитке, и я в первый раз в жизни увидел, как тучный, семейный человек может лететь вприпрыжку.
Тот миг чудесного напряжения, когда мы остались вдвоем, сели на скамейку и начали говорить, — кажется мне и теперь обвеянным зноем летнего утра; сказочные стада представлений бродили в моей голове, я мог только улыбаться и кивать головой. Пленер сказал:
— Не нужно вопросов, Атлей; они будут бесполезны в точном смысле этого слова. Я ничего не знаю, но все-таки попытаюсь рассказать вам начало истории.
Как вы помните, я пел в роще, неподалеку от железнодорожного моста, где происходил пикник. Собственно говоря, начало моих воспоминаний служит и концом их.
Мне кажется, что не было этих десяти лет, по крайней мере, в моей памяти не осталось от этого периода никаких следов. В следующий, доступный воспроизведению словами, момент я увидел себя пассажиром второго класса за двести миль отсюда; я возвращался домой.
Момент не был тревожен и поразителен, я удивился, и только. По временам мне казалось, что я уехал лишь вчера, по делу, о котором забыл.
Поезд мчался; томление духа сменилось глубокой рассеянностью и сонливостью; перед вечером я посмотрел в зеркало и обернулся, ища глазами другого пассажира, но я был один в купе. Неожиданность взволновала меня, я снова посмотрел в зеркало. Это был я, изменившийся, поседевший, тот самый, что сидит перед вами.
Пленер умолк и застенчиво улыбнулся. Взволнованный не меньше его, я мог только жестами выразить свое сочувствие и удивление.
— Встреча с Зеллой, — продолжал он, — неопровержимый факт долгого отсутствия, усвоенный, наконец, мною. Рассказать все это, значит снова пережить странную смесь радостного ужаса и тоски. Меня не хватит на это, я разрыдаюсь. Между прочим, вот уже три дня, как я здесь. Меня мучит новое ощущение — болезненное желание вспомнить все, пережитое за те таинственные десять лет; желание, доходящее до галлюцинации, до грандиозной игры воображения. Вы знаете, мне кажется, что если это удастся, жизнь моя будет озарена таким светом, перед которым радость спасения жизни — то же, что блеск металлической пластинки перед солнцем. Это — ясное, устойчивое, музыкальное ощущение забытого прекрасного.
Он снова умолк, и я не осмелился прервать его тягостное молчание. Искренность его тона делала для меня излишними всякие сомнения. Необычайность положения почти раздавила меня; сад, знакомые аллеи, клумбы — все, что имело до сих пор будничный оттенок, казалось в тот час торжественным и странным, как этот человек, вернувшийся из позабытого мира.
— Я делал попытки вспомнить, — продолжал он, — но все оказалось неудачным. Дубовая роща и поезд, поезд и роща — вот все, что я знаю.
Не знаю почему — в этот момент я решил произвести попытку, которая показалась бы в другое время забавной, но тогда она имела в моих глазах решающее значение. Я сказал:
— Пленер, можете вы представить дубовую рощу в том виде, как это было вечером?
— Да, — сказал он, закрывая глаза, — я ясно вижу ее. Низкие ветви: сквозь них блестит река. Я стоял у большого дерева, лицом к воде.
— Вот так, — заметил я, вставая. — Правая ваша рука прикрывала глаза. Я попросил бы вас встать в этом положении.
Он пристально следил за моими движениями, сомнительно склонив голову, и вдруг, как бы внутренне соглашаясь со мной, встал посредине площадки. Правая его рука нерешительно приподнялась и прикрыла верхнюю часть лица.
— Пленер, — сказал я, — сзади вас, на примятой траве, сидит Зелла. Еще дальше — Дибах, я и другие. Ваша верховая лошадь бродит у ручья, слева. Так.
Он молча кивнул головой, не отнимая руки. Теперь он понимал мою мысль.
— Вы пели о «Графе в изгнании», — продолжал я. — Советую вам начать с первой строки. Ну, Пленер, милый!
Он запел, и голос его задрожал, как тогда, в роще:
Земля не принимает моих следов, Они слишком легки…Песня окрепла и зазвучала так полно, что я боялся пошевельнуться. Напряжение мое было слишком велико, я ждал чуда.
Отдельные моменты этой сцены сливаются в моем воспоминании в ощущение чужой, мучительной радости. Когда он дошел до слов:
Вы вспомните мою тоску — и благословите ее…И дальше, до заключительных:
Я ухожу от грустных улыбок — Для полноты торжества Над теми, кто дешево сожалеет — И трусливо царит…Лицо его повернулось ко мне. Он смеялся долгим счастливым смехом, сотрясаясь от глухих слез, вызванных ярким и внезапным воспоминанием.
Приблизительно через месяц, в одну из красивых ночей, Пленер рассказал мне свою забытую и воскресшую жизнь. В ней не было ничего особенного. Жил он под другим именем. Любил, был любим, путешествовал, испытал много оригинальных приключений и впечатлений. Но он в тот день, когда пел у меня в саду, вспомнил только радостные моменты прошлого. Теневая сторона жизни осталась для него по-прежнему забытой и — навсегда.
Если это неудача, то пусть она будет благословенна. Избранных, способных воскресить радость пройденного пути и щедро, как миллионер, забыть долги жизни — совсем немного. Пусть будет больше одним таким человеком.
Лесная драма
I
Ганэль инстинктивно не любил темноты: в ее объятиях действительность казалась ему двусмысленной и преступной по отношению к нему, привыкшему с малых лет подвергать свои поступки трезвой критике дня. Поэтому, когда ночь с ее красотами, тоскливой бессонницей и бесполезными вздохами отошла в прошлое, а лес стал виден по-утреннему, — Ганэль покинул таинственный ночлег, умылся свежей надеждой и несколько успокоился.
В течение по крайней мере двух часов он терпеливо различал годную для копыт дорогу, устремляя лошадь туда, где ясные лесные просветы, окутанные гигантской бахромой листьев, открывали воздушную зеленую перспективу. Сворачивая из стороны в сторону, перескакивая обросшие папоротником стволы упавших деревьев, заблудившийся человек сначала еще держался какого-то смутного, совершенно фантастического направления, но пышное однообразие чаши скоро утомило его, закружило, переплело мысли о доме с черными винтами ползучих железных пальм, саблевидной листвой панданусов, нежными азалиями и высокой травой; этот бесконечный немой хор дышал тревожным ароматом болот и полузасохших ручьев, преследуя обессиленное внимание звоном в ушах и редкими голосами птиц. Вспотев, бледный от тоскливого напряжения, Ганэль изругал тяжеловесной, художественной бранью всех праздношатающихся зверей. Зверь, так неудачно замеченный им милях в тридцати от дома, был молодой рысью; рысь и пуля Ганэля скрылись в одном направлении. На этом следовало бы и покончить, но здесь вмешался дьявол, сделав предположение, что рысь ранена. Ганэль, вняв сатане, расплачивался теперь сутками яростного блуждания в дебрях. Охота — дело бродяг, прогуливающих ценные шкуры за прилавком увеселительных заведений, где им дают четверть того, что могли бы получить они, выждав сезон.
Раздражение Ганэля перешло на весь мир: он находил его нелепым, плохо устроенным, с лесами, лишенными шоссейных дорог. Так, злобно продвигаясь вперед, он переживал чувство раскаяния и неопределенной мстительности, как вдруг за донесшимся со стороны треском послышались мягкие удары копыт, и на просвет солнечного пятна выехал всадник.
Движение радостного испуга со стороны Ганэля осталось им незамеченным.
— Наконец-то! Постойте! — вскричал Ганэль.
Неизвестный остановился, лениво повернув голову. Это был массивный, немолодой человек с седыми висками; изменчивый лесной свет неуловимо играл выражением его спокойного, привычно-надменного лица, блестящего полуизжитыми глазами. Одного взгляда, брошенного на костюм незнакомца, посадку и худощавую лошадь, было достаточно даже и для такого неопытного в лесных делах, как Ганэль, чтобы он разом уяснил себе, с кем имеет дело.
Ганэль, хотя в нем текла смешанная кровь, был сыном своей страны, где пестрое население иногда показывает городским улицам красноречивую фигуру охотника. За спиной каждого из этих смелых, часто преступных людей болтаются хвосты слухов, перекраиваемые в легенды и сплетни.
Ганэль не любил бродяг. Человек, встрече с которым, несмотря на предубеждение, так искренно он обрадовался теперь, — коротко вздохнул и сделал рукой неопределенный жест; в руке качалось ружье. На одно мгновение Ганэлю почудилось, что глаза охотника смотрят дальше, чем нужно; он машинально обернулся. За плечами никого не было.
— Я один, — сказал Ганэль, удерживаясь от резких проявлений восторга. — Я заблудился непостижимым образом. Меня зовут Ганэль, я владею двумя фермами на плато Святого Терентия. Торговля маслом. Возвращаясь из города, соблазнился зверьком и… измучен последствиями.
Охотник рассеянно покачал головой, словно Ганэль сделался для него предметом скучных, малоинтересных размышлений.
— Плохо заблудиться, — предупредительно улыбаясь, сказал Ганэль. — Как подумаешь, что сутки пропали даром, теперь пропадают вторые, а жена… — Неуверенный, что супруга жаждет его возвращения, Ганэль бросил эту тему. — Тысяча извинений. Встретив вас, я так обрадовался. Бог, видимо, пожалел меня. «Уж эти-то, — сказал я себе, — отважные лесные скитальцы знают лес, как я свои пять пальцев. Помоги им всевышний! Жизнь их красива и тяжела, это не скучный учет процентов. Что делать? Каждому свое».
Он умолк с некоторым замешательством, так как охотник не заражался его возбуждением, а просто смотрел. В этих зорких неподвижных глазах мог прочесть что-либо только бог, зверь или младенец. Передохнув, Ганэль снова заговорил. Равнодушное молчание охотника подстрекало его болтать всякий вздор вернее затяжных реплик; он мучился, но не мог удержаться, чувствуя все большую неловкость от собственной заискивающей словоохотливости:
— Я жив и боюсь смерти. Кое-где обнаруживаются проказы: говорят, возвратился Фиас, и обглоданный муравьями труп в междуречьи — дело его рук. Может быть, это и пустяки, но странствовать при таких условиях не совсем смешно. Сегодняшний день хорош на всю жизнь. Мне чертовски везет. Увидев вас, я как будто уж прибыл домой. Пожалуйста, укажите мне верный путь!
Охотник вытащил из кармана мешочек с табачными листьями, расправил один из них на колене и принялся свертывать сигаретку так тщательно, что Ганэль обиделся.
Казалось, он не существует для этого человека в лисьей шапке, из-под которой серебрилась проседь висков, внушавшая торговцу одновременно и уважение и терпеливую злость. Ганэль вздохнул, молитвенно складывая руки на лошадиной гриве. Прозрачный дымок окутал лицо охотника; он затянулся еще, вынул изо рта сигаретку и сказал:
— Мое имя Роэнк. Мои советы будут вам бесполезны.
— Как? — не понимая, спросил Ганэль. — Места эти, конечно, вы знаете.
— Знаю.
— Итак?!
— Не выйдет толку.
Плотный комок застрял в горле Ганэля; он проглотил его.
— Вы забавляетесь на мой счет…
Охотник опередил его взглядом.
— Глупости. Ищите дорогу сами. Вы заблудились так удачно, что указания не принесут вам никакой пользы. Требуется посторонняя помощь, понимаете. Отсюда вас надо вывесть. В противном случае вы сделаете круг и расплачетесь.
— О, я не дурак и очень хорошо понимаю все это, — угрюмо сказал Ганэль, — только вы дело имеете не с нищим. Какую сумму вы желаете получить?
Охотник рассеянно скользнул по комковатой, встревоженной физиономии.
— Если бы вы знали, с кем говорите, — хладнокровно сказал он, — то, конечно, были бы осторожнее. Прощайте, у меня совершенно нет времени.
Красный от бешенства Ганэль протянул руку, машинально уцепившись за рукав блузы Роэнка. Он был так взволнован и унижен, что рот его, открытый было для бессвязного лепета, закрылся судорожным движением губ без звука.
— Так, — сказал, наконец, он, — но я могу погибнуть. Вы — язычник. Вы не имеете права!
— Язычник? Пусть так. Хотя вы, по-видимому, желаете объяснения. Это легко. Отпустите рукав. Сегодня, клянусь вам, я занят делом, которое для меня важнее, чем ваше общество. Я делаю его раз в месяц в одно и то же число. Но я сказал и так больше, чем следовало. Прибавлю еще, что сегодня мне более, чем когда-либо, хочется быть с душой, свободной от чужих дел и чужих жизней. Всякий имеет право на это. Прощайте.
— Указания! — закричал Ганэль. — Указания, только одного указания!
— Вы можете сомневаться или нет, это дело ваше, — сказал, побледнев, Роэнк, — но я еще раз повторяю, что слова будут бесполезны.
— Теперь, — с отчаянием произнес Ганэль, — я рад был бы встретиться даже с Фиасом, прозванным Темным Королем, хотя о нем ходят дурные слухи. Этот человек, конечно, был бы великодушнее вас.
Роэнк отъехал, но обернулся, и грустная улыбка его снова подала Ганэлю некоторую надежду.
Охотник сказал:
— Фиас сообщил бы вам то же самое.
И он удалился сдержанной рысью, нагибаясь и посматривая из-под руки во все стороны.
Раздавленный непонятной жестокостью, с инстинктивным страхом потерять из вида единственного живого человека, Ганэль уныло двинулся вслед за Роэнком, держась, однако, на почтительном от него расстоянии. Деревья стояли реже, круговорот их нарушался залитыми солнцем полянами с травой, достигающей лошадиных морд; ехавший впереди человек казался человеческой головой, плывущей в травяном озере. На ходу, охваченный сложным вихрем воспоминаний, соображений, расплывчатых мыслей, проголодавшийся Ганэль вынул из перекидной сумки кусок жареной свинины, съел ее и стал немного спокойнее; в глубине лесных зарослей лениво кричали птицы.
II
Так двигались они с час, пересекая одну за другой залы полян. Наконец, Ганэль ясно увидел, что охотник остановился. Это повергло торговца в новое замешательство. Он замялся, но через минуту, с оптимизмом, свойственным его касте, решил, что Роэнк раскаялся и поджидает обиженного им человека с очень хорошими намерениями. Все же, пришпоривая свою Долорес, коммерсант предусмотрительно стушевался в тень деревьев, думая подъехать незамеченным; в худшем случае это имело бы вид натянутой, но случайной встречи. Расчет его готов был уж оправдаться, так как до охотника оставалось не более тридцати шагов, как вдруг пониженные голоса сзади заставили Ганэля повернуть в сторону. Жестоко проученный для того, чтобы заблаговременно радоваться новым встречам, скорее испуганный, чем ликующий, он притаился и насторожил уши.
Некоторое время казалось, будто сам лес роняет звуки, напоминающие полувнятный шепот; затем, почти вплотную к Ганэлю, шагом, на серой и черной лошадях проехали двое, смутно похожие на Роэнка лисьими шапками и свернутыми у седельных лук одеялами из цветной шерсти. Один, помоложе, сидевший на черной лошади, был краснощекий парень; второй, с глазом, обвязанным куском черной материи, отличался желтым цветом лица и хищной длиной рук. Содержание их разговора, не имеющего в себе ничего специально угрожающего для Ганэля, заставило, однако, последнего воздержаться от демонстрации своей особы и просьб. Краснощекий сказал:
— Если мы не в тылу — все пропало. Он не даст обойти.
— Это игра наверняка, — ответил перевязанный человек.
— Объясните.
— Вы маленький, — жалобно сказал он, — и я должен постоянно вразумлять вас. Раз в месяц, в одно и то же число — в одном месте. Как раз сегодня 11-ое.
— О, — встрепенулся краснощекий, как будто пораженный этим указанием, — неужели бы вы решились? Я отказываюсь понимать вас.
— Глупости, китайская церемония. Деликатность — враг безопасности. Что же остается еще по вашему мнению?
— Я думаю, что…
Конец фразы отлетел глухим бормотанием; ему ответило выразительное «ха» перевязанного человека; круп серой лошади, удаляясь, блеснул на солнце вспотевшей шерстью, и Ганэль облегченно вздохнул. Проклятый лес, полный обманчивого, благоуханного великолепия, таинственных разговоров, шорохов и опасностей, душил его трусливой тоской. Никогда не выбраться ему отсюда!
На ферме, хорошенькой ферме, с розами и вкусным запахом сухого навоза, теперь пьют кофе; в тенистых аллеях и на дворе воздух вздыхает по трескучему, сварливому голосу Ганэля, а он, как последний бродяга, прячется за деревьями, остерегаясь каждого встречного.
Разжалобленный и злой, измученный и ненавидящий все, Ганэль бессильно посмотрел в ту сторону, где, подняв голову, лошадь Роэнка и неподвижный ее всадник, казалось, ожидали чего-то именно из той части леса, где прозвучал странный диалог. Торговец спешил. Долорес заметно прихрамывала, он не обращал на это внимания, понукая животное бессловесным чревовещанием и солидными ударами каблуков. Он собирался уже выехать из опушки, но в этот момент Роэнк, стегнув лошадь, поскакал влево и исчез среди гигантских деревьев, оставив за собою стиснутые зубы безвредного своего преследователя.
Худшее, видимо, предстояло впереди.
Повернув в ту же сторону, что и Роэнк, Ганэль с решимостью отчаяния стремился догнать охотника, заранее готовый на всякие унижения, лишь бы не остаться совсем одному в пустыне. Инстинктивно держась ближе к голубым вырезам опушки, он проскакал, не разбирая дороги, с полмили, завертелся в седле, оглядываясь, и, вздрогнув, с расцарапанным лицом, еле дыша, круто остановил лошадь, кладя на всякий случай руку по соседству с револьвером.
Перед ним, не далее пятнадцати шагов, блеснули глаза Роэнка. Охотник был не один, он слушал с карабином в руках и тихо покачивал головой. Лицо его выражало нетерпеливое, насильственное внимание. Против него, спиной к краснощекому, человек с завязанным глазом усиленно жестикулировал, показывая рукой на север, и быстро, неразборчиво говорил; лошади их обнюхивали друг друга и фыркали.
Ганэль еще не успел сообразить что-либо, колеблясь между желанием объявить себя и желанием провалиться сквозь землю, как вдруг резкое восклицание вывело его из оцепенения, сменив это неприятное ощущение зудом тоскливого любопытства.
— Этому не бывать! — крикнул Роэнк. — И вы это лучше, чем кто-либо, знаете, Нуарес. Проваливайте скорее!
— Фиас, — возразил собеседник еще более громким голосом, — упрямство бесполезно, а вы один. Признайте наши права.
Ганэль вспотел. В следующее мгновение ему показалось, что биение сердца, усиливаясь, оглушает его. «Фиас»! Слово это прозвучало эхом в самой глубине его внутренностей. Две верховые фигуры, находившиеся перед ним, как будто вышли из забытого сновидения; в позах их было что-то угрожающее и высокомерное. Душа Ганэля съежилась и заныла. Кто они? Холодея, он вообразил на одно мгновение, что именно его особа служит предметом грозного собеседования.
Новый приступ волнения заставил Ганэля пропустить мимо ушей целый ряд фраз; он успокоился лишь тогда, когда услышал следующее заявление Роэнка-Фиаса:
— Я охотился у этого озера, Нуарес, еще в то время, когда вас драли за уши. Вы можете угрожать, преследовать, но я не изменю себе. Озеро принадлежит мне!
— Нет!
— Говорите «нет», если это вам нравится.
— Да, я говорю и подтверждаю.
— Как хотите.
— Фиас, мне поручено сегодня в последний раз поговорить с вами. Когда я отъеду — будет поздно.
Охотник поднял голову.
— Ты отъедешь с пулей в голове, собака, если не оставишь меня! — Он щелкнул курком, а Нуарес бешеным движением взвил лошадь на дыбы и прыгнул в сторону.
— Темный Король! — закричал он, исчезая в тенях и солнце леса. — Ты сегодня заплатишь мне с процентами! Берегись!
Фиас пригнулся к седлу в тот самый момент, когда из стволов грянул белый клубок дыма.
Удержав свою гнедую кобылу, он прицелился, выстрелил и поскакал в том направлении, куда скрылся перевязанный человек.
Бледный, как рука чахоточного, Ганэль машинально схватил ружье, не решаясь тронуться с места. Долорес вытянула шею, почувствовала пороховой дым и протяжно заржала. Торговец проклял судьбу; оглушенному сознанию его казалось, что ржет не только животное: что лес, небо, земля, воздух и даже сам он, Ганэль, залились этим пронзительным, дребезжащим, осужденным продолжаться до бесконечности, мучительным лошадиным криком.
Теперь он не сомневался, что присутствие его, конечно, замечено. Это подтвердил выстрел, раздавшийся в отдалении. Пуля, противно жикнув у самого лица Ганэля, щелкнулась о дерево, оставив после себя желание лететь сломя голову прочь — куда-нибудь, без остановки и рассуждения.
Ганэль, дернув изо всей силы повод, ссадил руку и ударил Долорес кулаком между ушей.
III
Озеро — предмет спора охотников — совсем не интересовало Ганэля. Проскакав заросли, избитый кустами и сучьями, он в изнеможении остановился на границе леса. Девственная трава леса блестела нежным, как глубина неба, поворотом реки; на горизонте, за плавающими точками птиц, синело далекое плоскогорье. Жаркая тишина обнимала землю; ее нарушил выстрел.
Слишком натерпевшийся, чтобы и теперь потерять голову, Ганэль ограничился на этот раз сознанием временной безопасности. Пышно разросшаяся опушка скрывала его вместе с загнанной лошадью. Судьба, как видно, определила ему быть свидетелем лесной драмы. Он посмотрел в направлении выстрела: из травы, возле бесформенного серого пятна, плыл тонкий дымок; он не успел растаять, как рядом с ним вспыхнул другой, и звук, напоминающий треск сломанной палки, пролетел в лесу.
«Кто в кого? — подумал Ганэль. — И куда летят пули?»
Забыв об усталости, поглощенный жутким созерцанием смертельной игры, он устремил взор к расползающимся зловещим дымкам; тотчас же справа от него ответил карабин Фиаса. Враги Темного Короля и он сам были невидимы. Торговец лишь заметил провал смятой травы и желтое пятно шапки. Угадав, что это тот, кого он ненавидел теперь всем существом, Ганэль рассмеялся.
— Их двое, голубчик, — мстительно прошептал он. — Посмотрю я, как ты выкрутишься.
Неизбежные для злорадного ума мысли о провидении и возмездии услужливо осенили пылающую голову Ганэля; он сладострастно повозился с ними и стал смотреть. Враги торопливо обменивались выстрелами; иногда, низко хватая траву, пули просекали ее особенным звуком, напоминающим разрыв тонкой материи.
Тянулся дым; прозрачный его налет льнул к траве или медленно отходил в сторону; от этого зрелища веяло пожаром души, смятением и сосредоточенным, сквозь стиснутые зубы, дыханием человека. Фиас выстрелил, по счету Ганэля, семь раз; восьмого он ждал, но в этой части зеленого лугового тумана наступила вдруг полная тишина. От серого пятна грянул еще выстрел, потом другой, и все стихло. Тогда, как будто ничего не случилось, краснощекий медленно вынырнул из травы, заслоняя себя вихляющимся в его руках телом убитого Нуареса. Черная лошадь, вместе с своей товаркой служившая защитой от пуль, вскочила и встряхнулась, а серое пятно судорожно било ногами, усиливаясь подняться: простреленная спина не держала его. Краснощекий прыгнул в седло через плечо прислоненного им к лошади Нуареса и поскакал прочь; труп, согнувшись, упал; Фиас выстрелил. Беглец обернулся, прокричал что-то и нырнул в темную колоннаду леса.
Проводив круглыми от беспокойства глазами конную фигуру, Ганэль увидел Темного Короля. Фиас встал медленно и неровно, как бы неуверенный в победе; выпрямившись, он уронил карабин и не обратил на это внимания. Лошади у него не было. Постояв немного, он тронулся, слегка пошатываясь, к месту засады, остановился, поднял руки и опустил их, дрожа всем телом. Ганэль не видел его лица; перед ним, удаляясь, двигалась, размахивая руками, приседающая человеческая фигура в шапке, иногда сворачивая в сторону или отступая назад, как бы с намерением кружиться на одном месте. Движения его делались все более возбужденными и насильственными; он упал.
«Если рана смертельна, Темный Король не встанет», — подумал обрадованный Ганэль, вытянув шею.
Фиас неуклюже, тихо ворочаясь, утвердился на четвереньках, оттолкнулся руками и выпрямился. С колен подняться труднее: он сделал это не ранее, чем через минуту, почти теряя сознание от боли и слабости. Когда он пошел снова, Ганэль вспомнил танцующих на канате.
— Дело обстоит плохо, — сказал торговец. — Этот продырявлен насквозь.
Охотник, одолев некоторое расстояние, упал вновь, лицом вперед, но мягко и очень медленно.
Истерзанный тревожными впечатлениями Ганэль, вздыхая, уныло и терпеливо ждал. Фиас не шевелился, его плечи неподвижно темнели в траве; быть может, он набирался сил, оглушенный внезапным головокружением.
Зной усиливался, тени становились короче, земля тяжело вздыхала, отравленная сухим безветрием. Фиас лежал.
— Роэнк! — пугаясь собственного голоса, крикнул Ганэль. — Фиас!
Птица, певшая над его головой, умолкла; почти уверенный, что для Темного Короля все кончено, Ганэль направился к нему рысью, с чувством свирепого добродушия и снисходительности, естественной у человека, обиды которого заглажены чужой смертью. Пестрая от крови трава, встреченная копытами лошади, заставила его зажмуриться. Ему не было ни страшно, ни весело, ни тоскливо, ни скучно; продолжительное отчаяние проветривает некоторых людей, делая их пустыми. Шагах в трех от Фиаса Ганэль спешился и, вытягивая голову вперед, а рукой крепко прижимая к спине повод, любопытно заглянул сбоку. Охотник лежал грудью на краю небольшого, грубо обделанного камня; ноги Фиаса, согнутые с колен, неестественно расползлись; голова, охваченная руками, пряталась в складках шерстяной блузы. Бессильная поза человека выражала смерть. Ганэль так это и понял; соболезнующее, на всякий случай, лицо торговца приняло выражение тупой задумчивости.
Подойдя вплотную, он щелкнул пальцами.
— Такова участь отчаянных. Я жив.
Эта мысль без слов походила на торжественный удар кулаком в грудь. Потом заинтересованный Ганэль осмотрел камень. В верхней его части темнело круглое углубление, род маленькой ниши, прикрытой стеклом. За стеклом желтела выцветшая от времени фотография, изображавшая молодую женщину. Под нишей, правильно высеченная твердой рукой, тянулась надпись:
Беглецы из Порт-Энна. 11 ноября.
Мери Роэнк, 24 лет.
18.. года.
Бессмертна.
Измученный Ганэль поднял брови. Наплыв сложных и непривычных мыслей заставил его долго жевать губами. Могила или причудливый кабинет? Подумав, он искренно возмутился:
— Была ли эта женщина женою Фиаса или любовницей — она, судя по всему, умерла, и надпись являлась отчаянным, преступным кощунством; за это и погиб Фиас. Ловушка Нуареса основана на точном математическом расчете: раз в месяц имела все шансы за себя и ни одного против. Конечно.
С постным сердцем, равно враждебным смерти и бессмертию, охваченный суеверным предчувствием, тоскою по дому и раздражением против непонятных поступков некоторых чрезмерно гордых людей, Ганэль поместился в седло и направился к берегу неизвестной реки. Ровно через трое суток в лагере переселенцев его снабдили, за хорошую сумму, лодкой и проводником, но в настоящее время он не знал, что так случится. Поэтому, обернувшись к месту недавней схватки, он, в виде мести за свою мнимую гибель, — искренне пожелал камню и трупу провалиться в недра земли.
Позорный столб
I
Пока обитатели Кантервильской колонии бродили в болотах, корчуя пни, на срезе которых могли бы свободно, болтая пятками, усесться шесть человек, пока они были заняты грубым насыщением голода, борьбой с бродячими элементами страны и вбиванием свай для фундамента будущих своих гнезд, — самый строгий любитель нравственности мог бы уличить их разве лишь в пристрастии к энергическим выражениям.
Когда дома были отстроены, поля вспаханы, повешены кой-какие вывески с надписями: «школа», «гостиница», «тюрьма» и тому подобное, и жизнь потекла скучно-полезной струей, как пленная вода дренажной трубы, — начались происшествия. Эру происшествий открыл классически скупой Гласин, проиграв расточительному, любящему пожить Петагру все, что имел: дом, лошадей, одежду, сельскохозяйственные машины, — и оставшись лишь в том, что подлежит стирке.
Потом были кражи, подлог завещания, баррикада на перекрестке, когда трое безумцев защищали права на свой участок с магазинками в руках; один из них, убитый, был поднят с крепко стиснутой зубами сигарой. От одного мужа убежала жена; к другому, имевшему прелестную подругу и двух малюток, приехала, разыскав адрес, с дальнего запада плачущая, богато одетая женщина; у нее были великолепные, новенькие саквояжи и рыжие волосы. Последнее, что возмутило ширококостных женщин и бородатых мужчин Кантервиля, изведавших, кстати сказать, за восемь месяцев жизни в переселенческих палатках все птичьи прелести грубого флирта, — было гнусное, недостойное порядочного человека, похищение милой девушки Дэзи Крок. Она была очень хорошенькая и тихая. Кто долго смотрел на нее, начинал чувствовать себя так, словно все его тело обволакивает дрожащая светлая паутинка. У Дэзи было много поклонников, а похитил ее Гоан Гнор вечером, когда в пыльной перспективе освещенной закатом улицы трудно разобрать, подрались ли возвращающиеся с водопоя быки или, зажимая рукой рот девушки, взваливают на седло пленницу. Гоан, впрочем, был всегда вежлив, хотя и жил одиноко, что, как известно, располагает к грубости. Тем более никто не ожидал от этого человека такого бешеного поступка.
Достоверно одно, что за неделю перед этим на каком-то балу Гоан долго и тихо говорил с девушкой. Наблюдавшие за ними видели, что молодой человек стоит с жалким лицом, бледный и не в себе — «Я никого не люблю, Гоан, верьте мне», — сказала девушка. Женщина, расслышавшая эти слова, была наверху блаженства три дня: она передавала эту фразу с различными интонациями и комментариями. Лошадь Гоана, мчась у лесной опушки, оступилась на промоине и сломала ногу; похититель был схвачен ровно через час после совершения преступления.
Конная толпа, собравшаяся на месте падения лошади, сгрудилась так тесно, что ничего нельзя было разобрать в яростном движении рук и спин. Наконец кольцо разбилось, девушку, лежавшую в обмороке, оттащили к кустам. Братья Дэзи, ее отец и дядя молча били придавленного лошадью Гоана, затем, утомясь и вспотев, отошли, блестя глазами, а с земли поднялся растерзанный облик человека, отплевывая густую кровь. Огромные кровоподтеки покрывали лицо Гоана, он был жалок и страшен, шатался и хрипел что-то, похожее на слова.
Неусовершенствованное правосудие глухих мест, не имея в этом случае прямого повода лишить Гоана жизни, привлекло его, тем не менее, к ответственности за тяжкое оскорбление Кроков и девушки. После долгого шума и препирательств в землю перед гостиницей вбили деревянный столб и привязали к нему Гоана, скрутив руки на другой стороне столба; в таком виде, без пищи и воды, он должен был простоять двадцать четыре часа и затем убираться подобру-поздорову, куда угодно.
Гоан дал проделать над собой всю церемонию, двигаясь, как отравленная муха. Он молчал. Запевалы кантервиля и прочие любопытствующие, отойдя на приличное расстояние, полюбовались делом своих рук и медленно разошлись по домам.
Стемнело. Гоан, облизывая разбитые, присохшие к зубам губы, обдумывал план мести. Все перегорело в его душе, он не чувствовал ни стыда, ни бешенства; опустошенный, он припоминал лишь, кто и как бил его, чья речь была злее, чей голос громче. Это требует больших сил, и Гоан скоро устал; тогда он стал думать о том, что никогда не увидит Дэзи. Он вспоминал сладкую тяжесть ее затрепетавшего тела, быстрое биение сердца, которое в эти несколько счастливых минут билось на его груди, запрокинутую голову девушки и свой единственный поцелуй в то место, где на ее груди расстегнулась пуговица. И он замычал от ненасытной тоски, напряг руки; веревки обожгли ему кожу суставов. Еще ночь впереди и день!
Гоан стоял, переминаясь с ноги на ногу. Иногда он пытался уверить себя, что все сон, откидывал голову и, стукаясь затылком о столб, разбивал иллюзию. В стороне, крадучись, звучали шаги, замирали против Гоана и, медленнее, затихали у перекрестка. В окнах погасли огни, неясный силуэт, часто останавливаясь, приблизился к Гоану, и наказанный вдруг вспыхнул, покраснел в темноте до корней волос; жилы висков налились кровью, отстукивая частую дробь. Оглушающий стыд потопил разум Гоана; застонав, он закрыл глаза и тотчас же открыл их. Печальное лицо Дэзи с широко раскрытыми глазами остановилось перед ним совсем близко, но он не мог протянуть руку для просьбы о снисхождении.
— И вы… посмотреть, — тихо сказал Гоан, — уйдите, простите!
— Я сейчас и уйду, — произнесла торопливым шепотом девушка, — но вы не защищались, зачем вы допустили все это?
— Ах! — сказал Гоан. — Слова сожаления; но поздно, Дэзи. Вы мучаете меня, а я люблю вас. Уйдите, нет, не уходите… или уйдите; пожалуй, это самое лучшее.
— Мне ужасно жаль вас. — Она протянула руку, погладила растрепанные волосы Гоана быстрым материнским движением. — Ну, что вы, не плачьте. Вы… или нет, я уйду, увидят.
Она отступила в тьму, и более ее не было слышно. Вздрагивая и улыбаясь, Гоан глотал падающие из немигающих глаз крупные соленые капли; от них было тепло щекам и душе.
В воздухе просвистел камень, стукнул о столб, задел Гоана по уху рикошетом и шлепнулся к ногам похитителя.
— Для вас, Дэзи, — сказал Гоан, — только для вас.
II
Утром, когда движение на улицах стало задерживаться, так как многие не спали ночь, желая утром пораньше взглянуть на возмутителя общественного спокойствия, Гоана отвязали. Кучка неловко усмехающихся парней подошла к столбу сзади, за спиной привязанного. Брат Дэзи, клыкастый и длинный богатырь, разрезал ножом веревку.
— Велено отпустить, — пробормотал он, откашливаясь, — так смотри… не шляйся в здешних местах.
Гоан упал, упираясь руками в землю, встал и, шатаясь из стороны в сторону, словно шел по палубе судна в бурю, направился домой. Толпа сосредоточенно расступилась.
Через час на дверях небольшого гоановского дома болтался замок. Наглухо заколоченные окна, следы копыт у изгороди, тишина стен — все это указывало, что воля колонии исполнена. Видели, как Гоан на второй своей лошади, белой с рыжим хвостом и крупом, не оглядываясь, проехал задворками к скошенному Крокову лугу. Далее начиналась лесная тропа, путь зверей и охотников.
Гоан ехал шагом, ему нестерпимо хотелось повернуть лошадь назад и хоть еще раз взглянуть на знакомое окно Дэзи. Натягивая поводья, он с трудом приподымал отекшую руку. У ручья он задержал лошадь, посмотрев в сверкающие струи потока; там, снизу, встретилось с ним взглядом опухшее, темное лицо. Выбрать место для поселения казалось ему пустяком, — земля большая.
На повороте к горам, где, за синей далью чащи, шла дорога к большому портовому городу, Гоан, услышав сзади неясный шум, повернул голову, продолжая ехать и мрачно думать о будущем. Стук копыт явственнее выделился в лесном гуле, Гоан остановился, и, задыхаясь, его нагнала Дэзи.
Слишком большое, потрясающее недоумение лица Гоана развязало ее язык. Смущаясь, она выслушала все восклицания. Он думал, что понимает, в чем дело, но боялся верить себе. Подъехав ближе, Дэзи сказала:
— Гоан, возьмите меня. Мне нет житья больше. Меня грызут все, распустили слух, что я была в уговоре с вами. И даже, что у нас есть ребенок, спрятанный на стороне.
Гоан молчал. Лошадь, на которой сидела девушка, казалась ему литой из утреннего света.
— Отец оскорбил меня, — продолжала Дэзи. — Он говорит, что все это была лишь комедия и я греховна. Но вы знаете, что это неправда. И вам не нужно похищать меня еще раз. Я вынесла взрыв злобы и оскорблении.
— Милая, — сказал Гоан, улыбаясь во всю ширину разбитого своего лица, — мужчины стали бы преследовать вас теперь за то, что не они пытались овладеть вами… а женщины — за то, что вам оказали предпочтение. Люди ненавидят любовь. Не приближайтесь ко мне, Дэзи: клянусь — я не удержусь тогда и начну вас целовать. Простите меня!
Но скоро их головы сблизились, и две любви, одна зарождающаяся, другая — давно разгоревшаяся страстным пожаром, слились вместе, как маленькая лесная речка и большая река.
Они жили долго и умерли в один день.
Слова
I
«Если бы трава, солнце и река знали, могли знать, как я люблю эту девушку, — подумал Корвин, стараясь словами выразить невыразимое, проникавшее в него все глубже, по мере того как он, не отрываясь, смотрел на мелькающее среди весенних деревьев платье Лизы, — если б они узнали, — трава сделалась бы гуще и зеленее, солнце — больше, а река — шире». Он довел эту свою мысль до конца, и ему захотелось отрывистых, проникновенных, случайных, ненадуманных слов, он засмеялся и легко вздрогнул.
— Ах ты, милая! — сказал Корвин, перешел аллею и поспешно зашагал навстречу девушке.
Она тоже увидала его и остановилась, прикрывая лицо рукой от яркого света. Пока Корвин не подошел совсем близко, лица их были совершенно серьезны, а сблизившись — открыто и весело улыбнулись. Корвин поцеловал ладонную ямочку влажной, покорной руки Лизы, потом забрал губами покрасневшее ушко, чмокнул и отпустил.
— О чем вы думаете эти дни? — спросила она, гладя его рукав. — У меня в голове сидят все важные, торжественные и нелепые мысли.
— Лиза, — сказал Корвин, обнимая сильную, тонкую талию задрожавшей рукой, — я думал и продолжаю думать о том, что наш брак должен быть совсем особенный, чудесный, ароматный брак, цельный, как страстная молитва, возвышенный, знойный и радостный. То, что называется у других браком, — не любовь, а разложение трупа любви.
— Хорошо, милый, — сказала девушка. — Я согласна с вами всем существом. Это то, что я думаю, но меня такие мысли пугают: я боюсь их.
— Нет, — возразил Корвин, и то, что он стал говорить дальше, представилось ему таким сильным, значительным, что голос его пресекся от искреннего волнения. — Нет, Лиза, вы знаете, когда мы идем вот так, как теперь, изнемогая от любви, мы с вами уже не Елизавета Андреевна Плохоцкая и не Петр Иванович Корвин, а другие. Теперь мы настоящие — без имен и кличек, те самые, о которых мечтали и какими хотели быть. Это делает любовь. О, себя бояться не нужно и стыдно. Лиза, взгляните на Корвина благодарными, удовлетворенными глазами.
Некоторое время они шли молча, затем девушка остановилась, проговорив:
— Я боюсь не того, что любовь наша исчезнет, а наступления будней. Что отношения обесцветятся, перейдут в привычку.
«Послезавтра, в это самое время, я буду стоять в церкви с ним рядом, а несколько посторонних людей, посредством бумаг, пения и торжественных фраз, сделают нас в глазах общества неразрывно принадлежащими друг другу, — подумала она, и необъяснимое смущение потупило разгоревшийся минуты назад восторг молодости. — Корвин мне еще не вполне близок, — работала мысль, — через два дня я еще только начну узнавать его как мужа и человека».
Тайный страх девушки перед мужчиной, соединяющий боязнь разочарования с самыми фантастическими ожиданиями и бессознательным трепетом жаждущего нежности тела, вдруг затемнил мысли, полные светлых планов будущего, спутал и смешал все. Как всегда, этот страх был неприятен Лизе, от него лицо, фигура и все существо Корвина делалось слегка чужим, односторонне враждебным. Прогоняя смущение, Лиза отстранилась от жениха, говоря:
— Мамаша похудела, пьет ландышевые капли и все твердит, что мне рано замуж.
— Старушки забывают, как жили сами, — ответил Корвин. — А знаете, я придумал вам новое имя.
— Какое же?
— Орешек.
— Ореховая девушка. Не очень удачно, — сказала она, ожидая большего.
— А почему — у вас глаза, и волосы, и ресницы орехового цвета, — пояснил Корвин. — Вам не нравится? А я это имя полюбил.
Они подошли к тому углу сада, где изгородь; падая по обрыву вниз, под ракитами, искрилась быстрая солнечная полоса воды; за гладким простором реки виднелся синий и голубой лес. Полдень жег лица.
— Теперь я пойду домой, — сказал Корвин. — К вам я заходить не буду, передайте поклон мамаше. Мы увидимся послезавтра.
— Послезавтра, — значительно произнесла Лиза, оставляя свою руку в руках Корвина.
Он поднес руку к губам и, незаметно целуя все крепче и выше, приблизился к лицу девушки; тогда, притянув друг друга быстрым объятием, они молча поцеловались долгим поцелуем; Лиза глубоко вздохнула, побледнела и освободилась, а Корвин почувствовал, как волна крови, подступив к горлу, перехватила дыхание, утомленный неразрешающеюся близостью женщины, он опустил руки, улыбнулся и снял шляпу.
— Милая Лиза, — проговорил он, — скоро мы будем одно. Да будет с вами покой.
— Петя, — тихо сказала девушка, приласкав взглядом уходящего Корвина. Корвин обернулся еще раз, прошел несколько шагов и в нерешительности остановился, удивленный тем, что уходит не с полным и легким, а со стесненным и беспокойным сердцем.
«Что со мной? — спросил он. — Предчувствие, что больше не будет счастья? — неожиданно вспыхнули дикие, пугающие слова. — Чепуха, нервы не в порядке, — решил он. — Какой вздор!»
Испуг прошел, но оставался еще странный осадок, смесь грусти и раздражения. Чтобы успокоиться, Корвин стал думать обо всем положительном, данном ему жизнью. Он образован, у него есть состояние, на дворе безмятежный май, его любят, он любит… разве это не самое большое счастье? С этим он подошел к калитке и вышел на улицу.
II
Подходя к дому, в котором жил, Корвин испытал вновь суеверное чувство, заставившее его, против воли, несколько минут назад мысленно произнести суеверную фразу. На этот раз он не испугался, а подумал: «Вот что значит спать плохо две ночи подряд. И я стал чересчур много ходить». И, как бы потверждая это, екнуло перебоем его не совсем здоровое сердце.
Солнце, впиваясь исступленным поцелуем в сухую от жара землю, жгло пустынную улицу. Прохожих не было; тонкая пыль, рассеянная в воздухе, делала перспективу сизой и выцветшей. Кусты крапивы, желтые одуванчики, неуклюжий деревянный тротуар, пропитанные вековой скукой, мозолили глаза; от картин этих веяло гигантским дневным сном, покоем расслабленности, связанной, жуткой жизнью. Большие зеленые мухи, дети нечистот, летали по фасадам домов.
Корвин поднялся на площадку деревянной, выкрашенной в желтое, лестницы, и верхняя ступенька скрипнула под его ногой унылым звуком. Скучный дневной свет заливал комнаты, натертый пол сильно блестел; в гостиной лежали не распакованные еще покупки: ящики, свертки, картонки. В растворенную дверь кабинета лез угол письменного стола с брошенной на нем книгой, в распахнутых окнах, за белыми складками занавесок, плыл, искрясь голубыми искрами, воздух. «Как тихо! — подумал Корвин. — И как грустно от тишины!»
Присев на стул, он убедился, однако, что настоящей тишины не было. Бесчисленные мухи чертили воздух; дремотное, певучее жужжание их разливалось везде: роями и поодиночке, вылетая на пыльные косяки солнца, сверкали они слюдой крыльев и вновь, под потолком или на столах, превращались в черные неугомонные точки, движущиеся как бы без смысла и определенного направления. Корвин следил некоторое время за ними, а затем, решительно тряхнув головою, стал думать о молодой женщине, с приходом которой пустынные комнаты оживятся смехом, шумом женского платья, звуками полного голоса. Но думал он об этом не улыбаясь, холодно и, наконец, чуждаясь сам странной своей тоски, пустил в дело термометр. «Вы — здоровы, — сказал термометр, когда Корвин вынул его из-под мышки. У вас 36 и 6».
В передней кто-то двигался. Этот тихий, вопрошающий шелест, услышанный Корвиным, напомнил ему о том, что, входя, он забыл запереть дверь.
— Кто там? — вставая и застегиваясь, сказал Корвин. Шелест усилился. Неизвестный быстро, как бы скользя, прошел залу, а Корвин, ступив на порог кабинета, запнулся взглядом. В этот момент судорожного кивка головы со стороны женщины он понял, что все рушится и исчезает и что вот-вот, сию же минуту, жалкая, истеричная глупость положения собьет его с ног, отравит и разорит.
— Так… вот как, — сказал он, путаясь в словах: — Я не ожидал? как угодно. — Прошлое, разделенное на отброшенное и принятое, стало одним.
«Это я, это мое прошлое», — сказал себе тысячью других мыслей Корвин, неподвижно глядя в бледное, жалко улыбающееся лицо. Было нестерпимо трудно двигаться и дышать.
— Я молчу, — злобно проговорил Корвин, — сядьте, пожалуйста, и говорите. Мне говорить нечего.
Женщина села. Недорогая новая шляпа, простой костюм, скрашенный хорошеньким кушаком и брошкой, оставляли впечатление желания нравиться. Выражение серьезного, с мелкими чертами лица оставалось насильственно спокойным. Глаза смотрели на Корвина, но взгляд их как бы не доходил до него, возвращаясь к созерцанию горя. Она помолчала, откашлялась и заговорила, часто останавливаясь, как бы забывая сказанное. Она не находила больше сил ждать вдали от него. Ранее она думала, что расстояние сыграет благотворную роль, а теперь известие о близкой женитьбе перевернуло все. Прошлое ожило. Все, что он говорил ей в рассвете их любви, по-прежнему полно для нее значения и силы. Для любви нет времени, нет ушедших трех лет. Это было… вчера, а сегодня — она здесь. Или, может быть, он хочет, чтобы она повторила ему все песни, спетые им вчера?
— Как… вы разыскали меня? — спросил Корвин, вздрагивая от волнения. — Против воли не возвращается любовь, и вы знаете, что… и все-таки…
Он встал, перешел к окну, смотрел в ту сторону, где сильно и сладко билось третье сердце. «Спаси меня, Лиза, спаси, Лиза, Лизочка!» — мысленно сказал Корвин.
Никто не виноват. Все виноваты. Эта мысль была отвратительна и утомила его. За спиной знакомый молодой голос твердил слова упреков. Три года назад: лес, безудержные, льющиеся из самых ароматных хранилищ сердца слова убежденной любви — это было нетрудно вспомнить. Он вспоминал; смысл тех слов его был таков: «Жить и умереть вместе. Жизнь благословенная, смерть — радостная». Это сказанное три года назад одной женщине было сказано сегодня другой. Все было похоже: слова, голос, интонация, шепот и смех. Как будто давно, с незапамятных, седых времен один и тот же взволнованный голос твердит о счастье, а эхо его подхватывают Корвины и множат безгрешно-лживые слова, и нет в них силы и крепости. Нет силы и крепости в человеке.
— Ради бога… — сказал Корвин, поворачиваясь к женщине, — Мария, моя Мария в прошлом, ради бога простите, и кончим. Нет любви.
— Все равно, — помолчав, сдержанно произнесла женщина.
Корвин подошел к двери, забыл, для чего нужно было пройти ему эти несколько шагов, и возвратился назад. Привстав, женщина замахала руками, затем оперлась левой о спинку дивана и, вся изогнувшись, словно усиливаясь сбросить одолевающую ее ношу, выстрелила в бок Корвину несколько раз. И на этот раз для Корвина в маленькой руке с прыгающим револьвером не было ничего смешного или мелодраматического. Он закричал по-детски, бросился в переднюю и упал, а падая — знал, что вот наступил момент упасть на пол и умереть. Тоскливый ужас, парализовавший тело, был больше сознания Корвина, а он не понял всей его силы. Он упал скорчившись, некрасиво и грузно, и легкий холодок начал быстро уничтожать его. Побежали последние мысли: кто-то, рыдая, поднимал его голову. А в самый последний миг Корвин услышал отчетливо, как тиканье карманных часов, возню мух, жужжавших на стеклах окон, опомнился, закричал грузным шепотом: «Лиза!» — и умер.
Приключения Гинча
Он сажает это чудовище за стол, и оно произносит молитву голосом разносчика рыбы, кричащего на улице.
Вальтер СкоттПредисловие
Я должен оговориться. У меня не было никакой охоты заводить новые, случайные знакомства, после того, как один из подобранных мною на улице санкюлотов сделался беллетристом, открыл мне свои благодарные объятия, а затем сообщил по секрету некоторым нашим общим знакомым, что я убил английского капитана (не помню, с какого корабля) и украл у него чемодан с рукописями. Никто не мог бы поверить этому. Он сам не верил себе, но в один несчастный для меня день ему пришла в голову мысль придать этой истории некоторое правдоподобие, убедив слушателей, что между Галичем и Костромой я зарезал почтенного старика, воспользовавшись только двугривенным, а в заключение бежал с каторги.
Грустные размышления, преследовавшие меня после этой истории, рассеялись в один из весенних дней, когда, впитывая всем своим существом уличную пыль, бледное солнце и робкий шепот газетчиков, петербуржец как бы случайно посещает ломбард, обменивает у великодушных людей зимнее пальто на пропитанный нафталином демисезон и устремляется в гущу весенней уличной сутолоки. Проделав все это, я открыл двери старого, подозрительного кафе и уселся за столиком. Посетителей почти не было: насколько помню теперь, я не принял в счет багрового старика и пышной прически его дамы, считая их примелькавшимися аксессуарами. Против меня сидел скверно одетый молодой человек, с лицом, взятым напрокат из модных журналов. Я так и остался бы на его счет очень низкого мнения, не подними он в эту минуту свои глаза: взгляд их выражал серьезное, большое страдание. Пустой стакан из-под кофе некоторое время чрезвычайно развлекал его. Он вертел этот стакан из стороны в сторону, наклонял, побрякивал им о блюдечко, рассматривал дно и всячески развлекался. Затем, к моему великому изумлению, человек этот принялся царапать ногтями стеклянную доску столика.
Подумав, я быстро сообразил, в чем дело. Рекламы в этом кафе заделывались между нижней, деревянной частью стола и верхней доской из толстого стекла, имея вид небрежно брошенных разноцветных листков. Молодой человек находился в состоянии глубокой рассеянности. Его усилия взять один из листков сквозь стекло ясно доказывали это. Человек, рассеянный до такой степени в публичном месте, обращает на себя внимание.
Я обратил на него это внимание, следя, как белые, чисто содержимые пальцы, скользили и срывались; старые мысли о рассеянности посетили меня. Я говорил себе, что все истинно рассеянные люди имеют приличное внутреннее содержание, наконец, мне захотелось поговорить с этим молодым человеком. Будучи общительным по природе, я скоро находил тему для разговора.
Мне оставалось лишь подойти к нему, но в этот момент окровавленный призрак английского капитана занял один из столиков, грозя мне пальцем, унизанным индийскими брильянтами. Я немного смутился, однако наличность прозрачной, как хрусталь, совести дала мне силу презреть угрожающее видение и даже снисходительно улыбнуться. Некоторое время пытались еще задержать меня несчастный старик, путешествовавший из Галича в Кострому, и начальник сибирской каторжной тюрьмы; я с силой оттолкнул их, прошел твердыми шагами нужное расстояние и сказал:
— Принято почему-то делать большие глаза, когда в общественном месте неизвестный человек подходит к вам, предлагая знакомство. Я знаю, мы живем в стране, где медведи добродушны, а люди злы и опасны, но все же бывают исключения. Такое исключение составляю я.
Он прищурился — движение, непредвиденное мной.
— Я пишу, — сказал я. — Моя фамилия — …н, а ваша?
— Лебедев. — Он привстал, недолго подержал мою руку и сел снова. — Присаживайтесь. Мне тоже скучно, как скучно всем в этой прекрасной стране.
Я сел, и тотчас же разговор наш принял определенное направление. Лебедев рассказывал о себе. Это было его больное место. Он говорил тихим, слегка удивленным голосом, поминутно закуривая гаснущую папиросу. У него был пристальный, задумчивый взгляд, манера лизать языком нижнюю часть усов и перекладывать ноги.
Я умею слушать. Это особое искусство состоит в кивании головой и напряженно-сочувственном выражении лица. Полезно также время от времени открывать и тотчас же закрывать рот, как будто вы хотите перебить рассказчика тысячью вопросов, но умолкаете, подавленные громадным интересом рассказа.
То, что он рассказывал, было действительно интересно; он сгущал краски, не заботясь об этом; великолепные, отчетливые границы внешнего и внутреннего миров змеились в пестром узоре его рассказа с непринужденной легкостью и искренностью, намечая коренной смысл пережитых им событий (кость для собаки — тоже событие) в самом недвусмысленном освещении.
Три темы постоянно привлекают человеческое воображение, сливаясь в одной туманной перспективе, глубина ее блестит светом, полным неопределенной печали: «Смерть, жизнь и любовь». Лебедев, один из многих взвихренных потоком чужих жизней, самообольщенных и бессильных людей, рассказывал мне, что произошло с ним в течение двух последних недель. Слишком молодой, чтобы трагически смотреть на любовь, слишком стремительный, чтобы хныкать о будущем смертном исчезновении, он был всецело поглощен жизнью. Жизнь избила его — и он почесывался.
Мы выпили четыре стакана кофе, два — чаю, шесть бутылок фруктовой воды и выкурили множество папирос. В тот момент, когда я, несколько утомленный чужими переживаниями, попросил его записать эту странную историю, а он с тайным удовольствием в душе и деланной гримасой улыбающегося лица выслушал мои технические указания, — неожиданно заиграло электрическое пианино. Развязные, беззастенчивые звуки говорили о линючей, дешевой любви профессионалок.
Кафе наполнялось публикой, и мне в первое мгновение показалось, что страусы, одетые в ротонды и юбки, пришли справиться о ценах на свои перья.
Нижеизложенное принадлежит перу Лебедева, а не английского капитана.
I
В конце лета я поселился на городской черте, у огородника. Комната была очень плоха, несколько поколений жильцов придали ей тот род живописной ободранности, о которой пишут романисты богемы. Одно окно, чистая дырявая занавеска, слегка мебели и разноцветные лоскутья обоев. По вечерам усталое солнце слепило глаза стеклянной чешуей парниковых рам, темно-зеленые, пышные лопухи тянулись у изгороди, заросшей шиповником. Десятина, засеянная фасолью, подымала невдалеке стену вьющихся сквозных спиралей, увенчанных лесом тычин; душистый горошек, мальва, азалии, анемоны и маргаритки теснились вблизи дома в прогнивших от земли ящиках и на клумбах. У окна чернели старые липы.
Утром, в пятницу, пришел Марвин. Я не был ничем занят, шагал из угла в угол и хмурился. Я любил маленькую Евгению, дочь содержателя городских бань, а она дразнила меня; последнее письмо ее привело меня в состояние подавленной ярости. Марвин не застал ярости, она перегорела, выродившись в дрянной шлак, — среднее между горечью и надеждой.
— Федя, я очень тороплюсь… — Марвин, не снимая фуражки, сдвинул ее на затылок. Плотное, нервное лицо его показалось мне слегка обрюзглым, в руках он держал что-то завернутое в бумагу. — Окажи услугу, Федя.
— Хорошо, — сказал я, — особенно, если эта услуга веселого рода.
— Нет, не веселого. Но ты будешь беспокоиться только одни сутки. Завтра я верну тебя в первобытное состояние.
Суетливый, повышенный тон Марвина заставил меня насторожиться. Я не сказал бы ни «да», ни «нет», но он взял мою руку и сжал ее так сильно, что мне передалось его возбуждение: по натуре я любопытен.
— Ради бога, — продолжал он тем же странным, взволнованным голосом. — Да? Скажи «да», не спрашивая в чем дело.
— Да. — Я согласился, а через полчаса ругал себя за это. — Говори.
Марвин прошел мимо меня к столу и опустил на него сверток, бережно двигая руками. Я никогда не видел, чтобы человеческая рука так искусно, почти без звука разворачивала листы газетной бумаги. Две тусклые, небольшие жестянки, блеснувшие в руках Марвина, привели меня в легкое изумление, затем невидимый холодный палец пощекотал мне затылок; я силился улыбнуться.
— Милый, — сказал Марвин, — на одну ночь… спрячь это…
Он посмотрел на меня и осторожно положил бомбы в бумажный ворох. Я ждал. Помню, что в этот момент я чувствовал себя тоже взрывчатым, обязанным двигаться медленно и легко.
— Говорят, что ночью у меня будет обыск. — Марвин почесал лоб. — И это… как его… А ты человек чистый. Ты, разумеется, удивлен… Прости. Но я имел бы право, конечно, не говорить тебе об этом всю жизнь.
— Алексей, — сказал я, очнувшись от непривычного оцепенения. — Ты знаешь, что я держу данное слово, поэтому в течение суток будь спокоен и ты. Но если завтра к вечеру они останутся еще здесь, я истреблю их в лесу.
— Я возьму их.
Он сел. Прозрачный круговорот света, наполняя комнату, жег его вспотевшее лицо солнечной пылью; утро, с далекой зеленью полей, было прекрасно и невыразимо тревожно. Я открыл чемодан и спрятал среди белья тяжеловесные жестянки. Марвин вздыхал.
Этого человека я знал еще с первого курса сельскохозяйственного училища. Мы были с ним в очень хороших отношениях, но я не подозревал в нем разрушительных склонностей. Я начал вопросом:
— Каким образом, Марвин?
Он хмыкнул, ущипнул переносицу и ничего не ответил. Может быть, чувствуя себя передо мной в новом положении, он тяготился этим. Я снова спросил:
— Откуда у тебя это?
— Мне нужно идти. — Марвин поднялся, вздохнул и опять сел. — Все это просто, милый, проще органической клеточки. Я не собираюсь никого убивать. Ты меня хорошо знаешь. Я только делаю. До употребления здесь еще очень далеко. Впрочем…
— Что?
— Я пользуюсь ими по-своему. Если хочешь, я объясню. Но с условием — не смеяться и верить каждому моему слову.
— Я позволю себе посмеяться сейчас над второй половиной этого условия. Но я буду внимателен, как к самому себе.
— Прекрасно. Видишь ли, я рано соскучился. Моя скука имеет, если хочешь, историческое оправдание. Мой дед бил моего отца, отец бил мать, мать била меня, я вырос на колотушках и порке, среди ржавых ломберных столов, пьяных гостей, пеленок и гречневой каши. Это фантасмагория, от которой знобит. Еще в детстве меня тошнило. Я вырос, а жить лучше не стало. Пресно. Люди на одно лицо. Иногда покажется, что пережил красивый момент, но, как поглядишь пристальнее, и это окажется просто расфранченными буднями. И вот, не будучи в силах дождаться праздника, я изобрел себе маленькое развлечение — близость к взрывчатым веществам. С тех пор, как эти холодные жестянки начали согреваться в моих руках, я возродился. Я думаю, что жить очень приятно и, наоборот, очень скверно быть раздробленным на куски; поэтому я осторожен. Осторожность доставляет мне громадное наслаждение не курить, ходить в войлочных туфлях, все время чувствовать свои руки и пальцы, пока работаешь, — какая прелесть. Живу, пока осторожен, — это делает очаровательными всякие пустяки; улыбку женщины на улице, клочок неба.
Я покачал головой. Все это мне мало нравилось. Марвин поднялся.
— Мне надо идти. — Он вопросительно улыбнулся, пожал мою руку и отворил дверь. — Мы еще потолкуем, не правда ли?
— Когда ты освободишь чемодан, — насильно рассмеялся я. — Жду завтра.
— Завтра.
Он ушел. Мне было его немного жалко. Размышляя о странном признании, я подумал, что человек, угрожающий самоубийством бросившей его любовнице, с целью вынудить фальшивое «отстань, люблю», очень бы походил на Марвина. Чемодан пристально смотрел на меня, у его медных гвоздиков и засаленной кожи появился скверный взгляд подстерегающего врага. Я тщательно рассмотрел этот свой старый, знакомый чемодан; он был чужим, зловещим и неизвестным.
Заперев, как всегда, комнату небольшим висячим замком, я, в очень плохом настроении, считая всех встречных незнакомых людей тайными полицейскими агентами, поплелся обедать. Революционером я никогда не был, мои мысли о будущем человечестве представляли мешанину из летающих кораблей, космополитизма и всеобщего разоружения. Тем более я сердился на Марвина. Зарыл бы в землю свои снаряды, и делу конец.
Эта мысль показалась мне откровением. Я хотел уже идти к Марвину и сообщить ему об этом простом, как все гениальные вещи, плане, но вспомнил, что Марвин ждет обыска. Сумрачный, я пообедал в компании старушки с мальчиком, отставного военного и приказчика; прыщеватые служанки столовой пахли кухонным салом; граммофон рвал воздух хвастливым маршем из «Кармен»; кофе был горек, как цикорий. Домой мне не хотелось идти — и я умышленно растягивал свой обед, читая местную газету. Но все кончается, я заплатил и вышел на улицу.
День, приняв с самого утра кошмарный оттенок, продолжался нелепым образом. Я долго бродил по улицам, до одурения сидел в скверах, шатался по пристаням, в облаках мучной пыли, среди рогожных кулей и грузчиков, разноцветных от грязи; к вечеру мной овладело тоскливое предчувствие неприятности. Мучая ноги, я мечтал о таинственном прохладном уголке, где можно было бы теперь лечь, вытянуться и не тревожиться. Одно время был даже такой момент, что я пощупал в боковом кармане тужурки свое портмоне с тремя золотыми и медью и решил провести ночь в Луна-парке, но устыдился собственного малодушия.
Подходя к дому, я замедлил шаги. Прохожие казались все подозрительнее, некоторые смотрели на меня с тайным злорадством, взгляды их говорили: «Брать бомбы на сохранение считается государственным преступлением». Отогнав призраки, я, тем не менее, стал полусерьезно соображать, как поступить в случае обыска. Быть хладнокровно дерзким, улучить минуту и выбросить их в окно? Не годится. Или не теряя времени на позировку, выбросить в окно себя? Повесят меня или дадут лет десять каторги?
Поблекшее солнце опускалось за отдаленной рощей, на рдеющих облаках чернели стволы лип. Сеть глухих переулков с высохшими серыми заборами оканчивалась буграми старых, заросших крапивой ям; когда-то здесь было кладбище. Дальше, за ямами, зеленели ставни белого одноэтажного дома, в котором жил я. Духота гаснущего дня делалась нестерпимой, голова болела от усталости, ноги ныли, на зубах скрипела мелкая, сухая пыль. В это время я успокоился, и недавнее тревожное состояние казалось мне результатом прошлого возбуждения. Я шел с намерением пить чай и перелистывать прошлогодний журнал.
Городовой, которого я увидел не далее двадцати шагов от себя, сначала наградил меня ощущением, сродным зубной боли, затем я почувствовал прилив решимости, основанный на презрении к мнительности, но тут же остановился. Секунду спустя громкое сердцебиение сделало меня тяжелым, как бы связанным, с парализованной мыслью. Городовой стоял за решеткой палисада; сквозь редкие кустики акации ясно был виден его красноречивый мундир, беленькие усики и загорелая деревенская физиономия. Он стоял ко мне боком, наблюдая что-то в направлении парников. Я повернулся к нему спиной и пошел назад. Рябина, усеянная воробьями, отчаянно щебетала, звуки, похожие на: «вот он!», неудержимо лились из маленьких птичьих глоток. Я шел медленно: в этот момент вся тяжесть сознания, что скорее идти нельзя и что до ближайшего забора — целая вечность, оглушила меня до потери способности почувствовать несомненный перелом жизни. Я думал только, что в это время огородник обыкновенно возится с рамами, и городовой подозрительно рассматривал его действия, не видя меня.
С пересохшей от волнения глоткой, желая только забора, я вступил, наконец, в переулок и побежал, но остановился через несколько времени. Бежать было глупо. Дьячок в соломенной шляпе благочестиво осмотрел мою наружность и, кажется, обернулся. Возвратившаяся способность мыслить бросила меня в безнадежный вихрь отрывочных фраз — это были именно фразы, достигавшие сознания с некоторым опозданием, благодаря чему мысли, рождаемые ими, отталкивались, как люди, протискивающиеся одновременно в узкую дверь. «Марвин арестован и выдал меня. Бежать. Марвин не арестован, а его проследили. Бежать. Его не проследили, а нас обоих кто-нибудь выдал. Огороднику за комнату семь рублей. Все к черту. Милая, дорогая Женя. Вешает палач с маской на лице. Бежать».
Ускоряя шаги, я пришел к заключению, что сегодня же должен покинуть город. Денег, за исключением 30 рублей, у меня не было. Нелепость случившегося приводила меня в бешенство: ни белья, ни пальто, ни паспорта. Страх тянул в ломбард, напоминая о золотых часах, подарке деда, умершего год назад, любовь толкала к городским баням, рядом с которыми жила Женя. Я нуждался в сочувствии, в утешении. Очнувшись на извозчике от нестерпимой паники, я подъехал к дорогому для меня каменному, пузатому дому с блестящими от заката окнами верхнего этажа, скользнул мимо швейцара и судорожно позвонил.
— Барышни нету дома, — сказала унылая горничная в ответ на мой поспешный вопрос, — а братец и папаша чай кушают, дома они. Пожалуйте.
Слабый от горя, пошатываясь на ослабевших ногах, я был близок к слезам. Головка Жени с немного бледным цветом лица, волнистой прической и дружескими глазами болезненно ожила в моем воображении. Я сказал, мотая головой, так как воротничок душил меня:
— Ничего, ничего. Я, скажите, напишу, я уезжаю, у меня заболела тетка.
Теток у меня не было. Волнующий, безнадежный запах знакомой лестницы преследовал мою душу до дверей ломбарда. Смеркалось; строгие линии фонарей наполнили перспективу улицы светлыми, матовыми шарами; кой-где из пожарных труб дворники поливали нагретый асфальт; дамы, шелестя юбками, несли покупки, хлопали двери пивных; все было точно таким, как вчера, но я из этой точности был вычеркнут на неопределенный срок, оставлен «в уме».
Ломбард в нашем городе оканчивал операции к восьми часам; придя, я нашел двери запертыми. Именно в этот, казалось бы, плачевный момент я понял, как легко прижатый к стене человек сбрасывает свою привычную шкуру. Доведись мне еще вчера умирать с голода, я отошел бы от запертых ломбардных дверей с мыслью, что они откроются завтра, — и только; теперь же я знал твердо, что часы нужно продать, и не колебался; напротив, как будто всю жизнь занимаясь этим, хладнокровно открыл дверь ювелирного магазина и подошел к прилавку. Но здесь мужество оставило меня, и в ответ на механический вопрос любезного человека, сделанного из воротника, брелоков и прически ежиком, я тихо, как вор, произнес:
— Не купите ли золотые часы?
За конторкой поднялось истощенное лицо подмастерья; он молча посмотрел на меня и погрузился в свою работу. Любезный человек с обидной небрежностью взял мою драгоценность, — здесь я почувствовал, что он презирает меня, часы и все на свете, кроме своих брелоков. Он щурился, хлопал крышками, разглядывал в лупу, не переставая презирать меня, что-то в механизме, наконец, поднял брови и сказал, упираясь сгибами пальцев в стекло витрины:
— Сколько просите?
Назначив мысленно двести, я вслух произнес «сто», но не удивился, когда сто, путем таинственной психологической игры между мной и этим человеком, с помощью взаимно тихих слов превратились в семьдесят.
Получив деньги, я скомкал их в руке и вышел, вспотев. Поезд отходил ровно в одиннадцать.
До одиннадцати я провел время в состоянии огромного напряжения, измучившего меня, наконец, так сильно, что вокзальное помещение второго класса, где, усевшись на всякий случай спиной ко входу, я без надобности тянул пиво, стало казаться мне вечным отныне местом моего пребывания. Стоголосый шум, искусственные пальмы, прейскуранты, лакеи и резкое позвякивание жандармских шпор — весь этот мир грохочущей задержки в неопределенном стремлении массы людей тягостно подчеркивал важность обрушившегося на меня несчастья. Я чувствовал себя чем-то вроде части машины, перековываемой в новые формы для службы машине совсем иной конструкции. Я не мог видеть Женю, ходить в университет, засыпать в комнате, полной запаха свежей земли и зелени, — я должен был мчаться.
В Петербурге были у меня знакомые, два-три человека, знающие нашу семью; кроме того, большой город, как я узнал из романов, — лучшее место для темных личностей. Я был темной личностью, нуждался в укрывательстве, фальшивом паспорте. Войдя в вагой после первого же звонка, я рассчитывал, что поезд, если только он не прирос к рельсам, тронется ровно через сто лет. Против меня сидел человек в старом пальто и синих очках; я старался не смотреть на него. Звонок, свисток — перрон поплыл мимо окна, залезающее в вагоны лицо жандарма ударило меня взглядом; наконец, деловой стук колес прозвучал около семафора, — и я ожил.
Через пять минут человек в синих очках, важно порывшись в карманах, заявил кондуктору, что потерял билет. Он не был шпионом. Он был заяц — и его ссадили на первой станции.
II
Когда после однообразных дач, березовых перелесков и зеленых полей в окна стали видны вылезшие за городскую черту железнодорожные депо, сараи, ряды товарных вагонов и почерневшие фабричные трубы, я выскочил на площадку.
Поезд замедлил ход. Пасмурное небо пропустило в узкую голубую щель солнечный ливень, в лицо било веселым паровозным дымом, влажным воздухом; зеленые тени лужаек сверкали мокрой травой. Зданий становилось все больше, гудок локомотива долго стонал и смолк. Я застегнул пальто, выпрямился; смутный мгновенный страх перед неизвестным показал мне свое хмурое лицо, бросился прочь и замешался в толпу.
Под железной крышей вокзала меня увлекло стремительное движение публики; я прошел в какие-то двери и с сильно бьющимся сердцем увидел площадь, неуклюжий конный памятник, водоворот извозчиков. Петербург!
Немного пьяный от невиданного размаха улиц, я шел по Невскому. Под витринами колыхалось белое полотно маркиз, груды деревянных шестиугольников, звонки трамваев, равнодушная суета пестрой толпы — все было свежо, ново и привлекательно. Выяснившееся утро обещало жаркий, хороший день. Нельзя сказать, чтобы я очень торопился разыскать необходимых знакомых; прогулка погрузила меня в хаос внутренних безотчетных улыбок, торопливых грез, отчетливых до болезненности представлений о будущем. У громадного зеркального окна, за блестками которого громоздились манекены с черными усиками на розовых лицах, одетые в штатские и форменные костюмы, я выбрал себе костюм синего шевиота, белый в полоску пиджак и, неизвестно для чего, тирольку с галунами. Все это пришлось бросить так же, как турецкие наргиле, гаванские сигары, а далее — изящная фаянсовая посуда с лиловыми и голубыми цветочками, масса цветного стекла — все это было так же прекрасно и нужно мне, человеку с выговором на «о».
Да, я переходил от витрины к витрине и нисколько не стыжусь этого. Мечты мои были безобидны и для кармана необременительны. Я забыл свое положение, я жадничал, я хотел жить, — жить красиво, полно и славно; через три квартала я обладал мраморным особняком, набитым электрическими люстрами, резиновыми шинами, цветами, картинами, персиками, фотографическими аппаратами и сдобными кренделями. У Аничкова моста, полюбовавшись на лошадей, я сел на извозчика и, не торгуясь, сказал:
— 14 линия, 42-й.
Я ехал. На меня смотрело небо, адмиралтейский шпиц, каналы и женщины. Стук копыт был невыразимо приятен — мягкий, отчетливый, петербургский, и я представлял себя гибкой стальной пружиной, не сламывающейся нигде; Марвин, нелепая, счастливо избегнутая опасность, хмурый провинциальный город, тоска бесцветных полей — это было два дня назад; между этим и извозчиком, на котором я ехал теперь, легла пропасть.
Я радовался перемене, как мог. Неизвестное засасывало меня. Но понемногу, отточенная глухой, внутренней работой, с десятками пытливых вопросов — куда? как? где? что? зачем? — в душу легла тень, и строгий контур ее провел резкую границу света и сумрака.
Я тряхнул головой и постарался больше не думать.
* * *
Квартира состояла из трех комнат, здесь было немного книг, покосившаяся этажерка, рыжие занавески, открытки на революционные темы, сломанная лошадка и резиновая кукла-пищалка. Я сел; за притворенной дверью шушукались два голоса, один медленный, другой быстрый; где-то плакал ребенок. В окне напротив, через двор, кухарка вытирала стекла, перегибаясь и крича вниз; глухое эхо каменного колодца путало слова. Наконец, тот, кого я ожидал, вышел. Это был смутнопамятный мне человек с серым, как на фотографиях, лицом, лет сорока, а может быть, меньше. Он пристально посмотрел на меня и не сразу узнал.
— Что вам?.. А! — сказал он. — Сынок Николая Васильевича! Какими чудесами в Питере?
Я откашлялся и сразу огорошил его; он слегка побледнел, нервно теребя жилистой рукой грязный воротничок. Наступило молчание.
— Так. — Он встал, подержал в руках сломанную лошадку и сел как-то боком. Неизвестно почему мне сделалось стыдно.
— Затруднительное… гм… положение.
— Затруднительное, — подтвердил я.
— И паспорта нет?
— Нет.
— Ну, что же я могу? — заговорил он после тягостной паузы. — Ведь вы знаете, я простой служащий… Знакомств у меня… Жалованье небольшое… да…
— У меня деньги есть, — перебил я, — кроме того, я могу ведь и заработать. Вероятно, я вынужден буду уехать за границу или поселиться где-нибудь в России под чужим именем. Ведь вы сидели в тюрьме, я знаю это, у вас должны же быть хоть отдаленные…
— Ш-ш-ш, — быстро зашипел он, прикладывая палец к губам. — Вот тут у меня сидит один молодой человек… Постойте одну минутку.
Он проскользнул в соседнюю комнату, и я опять услышал понурое бормотанье. Это продолжалось минут пять, затем вместе с моим знакомым я увидел худенького, обдерганного юношу, малокровного, с чрезвычайно блестящими глазами и резкой складкой у переносья. Он прямо подошел ко мне; хозяин квартиры, потоптавшись, куда-то скрылся.
— Здравствуйте, товарищ, — сказал молодой человек. — Вы на него, — он метнул бровями куда-то в бок, — не обращайте внимания: жалкий человек. Осунулся. Выдохся. Вы к какой партии принадлежите?
— Я не принадлежу ни к какой партии, — ответил я, — я просто попал в глупое положение.
Он поморгал немного, улыбка его стала натянутой.
— Вам нужен паспорт? Но у нас с этим сейчас затруднение. — Он шмыгнул носом. — Но… может быть… вы… все-таки… хотите работать?
— Нет, — сказал я. — Извините.
— Почему?
Вопрос этот прозвучал машинально, но я принял его всерьез.
— Потому что не верю в людей. Из этого ничего не выйдет.
— Выйдет.
— Я не думаю этого.
— А я думаю, что выйдет справедливость.
Я пожал плечами. Я чувствовал себя старше этого наивного человека с печальным ртом. Он вынул портсигар, закурил смятую папироску и выжидательно смотрел на меня.
— Я тоже не люблю людей, — сказал он, прищурившись, точно увидел на моем воротнике паука. — И не люблю человечество. Но я хочу справедливости.
— Для кого?
— Для всех и всего. Для земли, камней, птиц, людей и животных. Гармония.
— Я вас не понимаю.
Он глубоко вздохнул, пожевал прильнувшую к губам папироску и сказал:
— Вот видите. Например — гиена и лебедь. Это несправедливо. Гиену все презирают и чувствуют к ней отвращение. Лебедь для всех прекрасен. Это несправедливо. Комок грязи вы отталкиваете ногой, но поднимаете изумруд. Одного человека вы любите неизвестно за что, к другому — неблагодарны. Все это несправедливо. Надо, чтобы изменились чувства или весь мир. Нужна широта, божественное в человеке, стояние выше всего, благородство. Простой камень и гиена не виноваты ведь, что они такие.
— Это — отвлеченное рассуждение, оно не имеет силы. Вы сами понимаете это.
— Мне нет дела до этого. — Его бледное лицо покрылось красными пятнами. — Мир должен превратиться в мелодию. Справедливость ради справедливости. А паспорт я вам достану. Вы Мехову сообщите свой адрес; да он, кажется, хочет и ночевать вас устроить где-то. Прощайте.
Он затоптал нечищенным сапогом изжеванный окурок, обжег мою руку своей горячей, цепкой рукой и вышел. Вошел Мехов.
— Девочка ушибла висок, — беспокойно сказал он, — так я утешал. Я бы вам чаю предложил, да жены нет, у нее урок. Что же вы думаете делать? А тот… ушел разве? Приходил мне литературу на сохранение навязать. Да я того… боюсь нынче. И не к чему. А вы расскажите про родной городок, что там? Как ваши?
Я передал ему провинциальные новости. Он теребил усы, искоса взглядывая на меня, и, видимо, томился моим присутствием.
Я сказал:
— Может быть, вы мне устроите сегодня где-нибудь ночевку? Войдите в мое положение.
— Это… это можно. — Он сморщил лоб, лицо его стало еще серее. — Я вам записочку напишу. Встречался с одним человеком, у него всегда толчется народ, и революцией там даже не пахнет. Там-то будет удобно… Без всякого подозрения. Шальная квартира.
Я не стал спрашивать о подробностях. Мне нестерпимо хотелось уйти из этого серого помещения, в котором пахло нуждой, чем-то кислым, наболевшим и маленьким. Мехов, согнувшись у стола в другой комнате, строчил записку.
Со двора, из призрачных, гулких, певучих голосов дня вылетали звуки шарманки. Звенящий хрип разбитого мотива вдруг изменил настроение: мне стало неудержимо весело. Я вспомнил, что ступил бесповоротно обеими ногами в круг странной игры, похожей на какие-то азартные жмурки, игры, проигрыш в которую может быть наверстан множество раз, пока душа не расстанется с телом. Будущее было неясно и фантастично. Я встал. Мехов протянул мне конверт.
— По этому адресу и пойдете. Ну, и всего вам хорошего. Оправитесь, может… все переменчиво.
Он искренно, тепло пожал мою руку, так как я уходил. Я вышел на набережную. Синяя Нева в объятиях далеких мостов, пароходики, морские суда и дворцы дышали летней свежестью воды. Я хотел есть. Ресторан с потертым каменным подъездом бросился мне в глаза. Я выдержал профессиональный взгляд швейцара, прошел в пустой зал и съел, торопясь, обед из четырех блюд. Этот первый мой обед в столичном ресторане отличался от всех моих других обедов тем, что мне было неловко, жарко, я потерял аппетит и часто ронял вилку.
Вдруг неожиданное соображение заставило меня вспомнить о газетах. Поискав глазами, я увидел на соседнем столике «Обозревателя», развернул и отыскал телеграфные известия. Это доставило мне совершенно неожиданное ощущение — чувство потери веса, тупого страдания и отчаяния. Я прочел:
«Башкирск. В доме крестьянина Шатова, в комнате, занимаемой дворянином Лебедевым, обнаружены бомбы. Поводом к обыску послужило исчезновение Лебедева: он скрылся бесследно».
— А полицейский? — машинально сказал я, кладя газету. Лакей зорко посмотрел на меня, продолжая вытирать тряпкой запыленные пальмы. Полицейский мог, конечно, прийти по другим делам. Это мне пришло в голову теперь, но положение было то же. Я расплатился и направился к выходу.
III
В трамвайном вагоне, куда я вошел, предварительно справившись о маршруте у кондуктора, сидело человек шесть старых и молодых мужчин и две дамы. Пожилое, энергичное лицо одной и хорошенькое другой — девушки — очень походили друг на друга. Я сидел против девушки. Скоро я нашел, что смотреть на нее приятно; она отвернулась к окну, и больше я не видел ее глаз, но всю дорогу служило мне развлечением, сократившим путь, — мечтать о любви, вспыхивающей с первого взгляда. Покинув вагон не без сожаления, я тотчас же забыл о незнакомке, меня потянуло к Жене; взволнованное воображение представляло ее испуг, тревогу и жалость.
Решив написать ей сегодня же, я стал отыскивать дом, указанный Меховым.
Пыльная улица громыхала подводами и извозчиками. Усталый, я ткнулся, наконец, в полутемную арку ворот, нашел лестницу, снаружи которой, меж другими номерами квартир, был и 82-й, и одолел с полсотни грязных ступенек. На двери не было карточки. Я нажал кнопку звонка, и дверь открылась.
Войдя, я увидел оплывшего мужчину лет тридцати пяти, без жилета, в подтяжках и нечистой сорочке; его черные, коротко остриженные волосы серебрились на висках, сонные глаза смотрели добродушно и устало. Я объяснил цель своего посещения, пока мы проходили из маленькой передней в маленькую комнату-кабинет.
— Моя фамилия — Гинч, — начал я врать с вежливым и скромным лицом, садясь на продранную кушетку.
— Пиянзин. — Он протянул мне свою пухлую, влажную руку и стал читать Меховскую записку. — Вам ночевать нужно?
— Да, как я уже имел честь объяснить вам.
— Ночуйте. — Пиянзин зевнул. — Вы еврей?
Было бы соблазнительно сказать «да» и тем, понятно, положить конец его любопытству, но я просто сказал:
— Не имеющий права жительства.
Это, по-видимому, удовлетворило его. Он замолчал, рассматривая ногти. Раздался звонок.
Пиянзин что-то пробормотал и вышел, а я стал осматриваться. Кабинет был завален бумагами, папками, картонными ящиками, комплектами старых юмористических журналов; большой некрашеный стол, несколько венских стульев, небольшой шкаф, мандолина, валявшаяся на кушетке, на полу — сломанный хлыст, газеты — все это выглядело неряшливым деловым помещением. Стены почти сплошь были покрыты рисунками тушью, карандашом, в две-три краски, чернилами. Содержание их отличалось разнообразием, преобладали сатирические и эротические сюжеты.
По-видимому, я был в какой-то цыганской редакции. Хлопнула дверь, шумные голоса наполнили квартиру. Я подошел к столу; он был завален картинками, вырезанными из разных журналов, большинство рисунков изображало полуодетых женщин, разговаривающих с мужчинами в цилиндрах на затылке, тут же лежали цветные обложки с заглавиями: журнал «Потеха», «Острое и пряное», «Кукареку», «Смотрите здесь».
Все это, перемешанное с корректурными листами и кисточками с засохшим клеем, очень заинтересовало меня. Но я должен был сесть, так как сразу вошли три человека и за ними Пиянзин.
Первый был худ, истощен, вылизан и прилизан, с глазами навыкате. Серый, довольно приличный костюм сидел на нем, как на вешалке. Второй, плотный и смуглый, поддерживал за локоть третьего с изжитым лицом умной свиньи. Все трое разом осмотрели меня, и затем каждый по очереди. Пиянзин сел, взял мандолину и, опустив глаза, трынкал.
Мы познакомились, как-то полупроизнося фамилии, и через две минуты я снова не знал их имен, они — моего.
— Липский приехал, — сказал второй. — А пиво есть?
— Пива нет, — ответил Пиянзин.
— Работаешь?
— Да.
Смуглый посмотрел в мою сторону, засвистел и, изогнувшись на кушетке, внимательно улыбнулся третьему. Прилизанный заявил:
— Через неделю я переезжаю на дачу. А Липский что же?
— Без денег, конечно, — сказал смуглый, — издавать журнал хочет.
— А типография?
— Есть.
— А бумага?
— Все есть. И разрешение.
— Как будет называться журнал? — спросил третий.
— «Город». — Смуглый почесал голову и прибавил: — Журнал острой жизни, специально для горожан.
— Шевнер, — сказал третий, — я управляю конторой. Идет?
Шевнер пожал плечами; он искусно говорил и «да» и «нет». Прилизанный человек махнул рукой.
— Послушай. — Он обращался преимущественно к Шевнеру. — Ты про этот журнал говоришь третий год.
Он стал рассказывать, что нынешнее журнальное дело требует осмотрительности. Слишком много спекулируют на психологии толпы, нужно не следовать вкусу, а прививать вкус. Толпа — женщина: изменчива. Анонсов и журнальных названий не напасешься. Что-нибудь попроще, подешевле, а главное, без надувательства. На это пойдут.
Я вполне согласился с этим человеком и кивнул головой, но никто не заметил моего скромного одобрения. На меня не обращали внимания.
— Глосинский, — сказал Шевнер, — твой шаблон не годится. А ты, Подсекин?
Очеловеченное лицо свиньи захохотало глазками.
— Вам денег нужно? Все способы хороши — издавай, что хочешь. Издавать полезно и приятно. Маленькое государство.
Он говорил сочно и веско, округляя рот, говорил пустяки, но пустяки эти делались интересными; он весь трепыхался в своих словах, как в подушках; слово «деньги» особенно звонко и вкусно раздавалось в комнате. Он говорил о том, что всем и ему нужно очень много денег.
Все четверо производили странное впечатление. Положим, я считал их писателями, но любое из этих лиц на улице показалось бы мне принадлежащим всем профессиям и ни одной в отдельности. От них веяло конторами и трактирами, редакциями и улицей, смесью серьезного и спиртного, бедностью и кафе-шантаном. В них было что-то вульгарное и любопытное, души их, вероятно, походили на скверную мещанскую квартиру, где в углу, на ободранном круглом столике, неузнанный, запыленный и ненужный, стоит Бушэ.
— Проблема города, — сказал Глосинский, — для меня совершенно разрешена. Летом следует жить на крышах, под тиковыми навесами. А зимой ближе к ресторанам. Женщинам — свобода и инициатива.
Пиянзин, опустив глаза, меланхолично играл.
— Шевнер, идешь в клуб? — спросил Подсекин.
— Зачем?
— Я пойду. Я видел во сне третье табло. Дублировать.
— Нет… — Шевнер почесал плечо. — Идите вы. Да я, вероятно, приду посмотреть. Ты куда?
— Нужно. Дело есть.
Подсекин встал. Глосинский тоже поднялся, но тут же оба сели. Снова начался отрывочный разговор, в котором упоминались десятки имен, строчки, перепечатки, вспоминали о вчерашнем дне — бокалы пива, бильярд, скандалы и женщины. Светлый табачный дым плыл в растворенное окно — голубое окно с крышей на заднем плане. Когда все ушли и Пиянзин молчаливо проводил их, мне стало грустно. Я чувствовал себя лишним. Пиянзин сказал:
— Вы, может быть, отдохнуть хотите? Ложитесь на кушетку.
— А вы?
— А я буду работать.
Меня действительно клонило ко сну. Я лег и вытянулся на зазвеневших пружинах; Пиянзин расположился у стола и взял ножницы, вырезывая из какого-то журнала легкомысленные картинки.
Я так устал, что не чувствовал ни стеснения, ни удивления перед самим собой, развалившимся на чужой кушетке в Петербурге, через два дня после комнаты огородника; набегал сон, я отгонял его, боясь уснуть прежде, чем соображу и приведу в порядок мучительные мысли о загранице, жене, безденежьи, бесприютности, полиции, тюрьмах и о многом другом, что расстилалось перед глазами в виде городских улиц, полных трезвона, бегущих физиономий, пыли и пестроты. Я уснул глубокой полудремотой и, весь разбитый, встал, когда почувствовал, что кто-то трясет мою руку. Открыв глаза, я увидел Пиянзина с молодым человеком; знакомое лицо напомнило мне о камнях, гиене и паспорте.
— Вы к нему? — спросил Пиянзин у юноши. — Он к вам? — Взгляд на меня.
Смущенно просияв, я сказал:
— А, здравствуйте!
Мой гость цепко стиснул мне руку. Жалкое летнее пальто, запыленное у воротника, придавало ему сиротский вид. Пиянзин исподлобья покосился на нас и вышел.
— Есть! — сказал юноша, присаживаясь на край кушетки. — Я шепотом сказал, что вы экс сделали.
— Спасибо, — горячо сказал я, — я этого не забуду.
— Забудьте. Вот чистый бланк, настоящий и действительный. Нет ли чернил? Мне Мехов указал, где вы, я все мигом обделал.
Он вытащил из бокового кармана черненькую, глянцевитую паспортную книжку и дал мне. Я испытал маленькое разочарование, перелистывая ее пустые страницы. Мне хотелось знать, как меня зовут, теперь это надо было еще придумать.
— Гинч, — сказал я, вспомнив выдержку, — Александр Петрович.
Он взял у меня книжку и, присев к столу, среди пикантной литературы, вывел четким, четыреугольным почерком: «Гинч Александр Петрович» и дальше; все было кончено через четверть часа. Я был личный почетный гражданин, двадцати пяти лет, Томской губернии.
Я следил за его уверенным почерком и невысохшей, витиевато сделанной подписью полицмейстера «Габе» так, что дальше ничего нельзя было разобрать, с особого рода приятным и тревожным волнением, напряженно улыбаясь. И был совсем восхищен, когда, осмотрев свое произведение, он вынул из тайников одежды маленький резиновый шлепик и прижал его к бумаге побелевшими от усилия пальцами. Круглая синяя печать эффектно легла на хвостик полицмейстерского росчерка.
Я взял драгоценность с тем, вероятно, чувством, какое смятая бабочка испытывает, освобождаясь весной от куколки; я решил выучить наизусть эту шагреневую книжку и считал себя важным преступником. Мой благодетель запахнул пальтецо и встал.
— Прощайте. Желаю вам… — Он неопределенно тряхнул рукой и прибавил: — У нас мало работников. А что Мехову передать?
— Устроюсь теперь, — сказал я, любя в этот момент юношу. От паспорта и оттого, что помогли, мне стало тепло. Я развеселился. — Глупая история… Передайте поклон, спасибо. Спасибо и вам большое.
Он сконфуженно заморгал и ушел с моим благодарным взглядом на своей узкой спине. Я мог ночевать, где хочу, снять номер, квартиру, комнату. Оставшись один, я представил себе узкое, смуглое лицо Гинча, — сообразно его фамилии, и бессознательно оттянул нижнюю челюсть.
Вошел Пиянзин, гладя рукой затылок; взъерошенный, он напоминал сонного бычка. Вышло как-то, что мы закурили разом, прикуривая друг у друга; он начал разговор, сообщил, что Мехов должен ему по клубу десять рублей, и сказал:
— У меня есть три рубля. Пройдемте в ресторанчик.
— Это ничего, — у меня есть деньги. Я… я ночевать не буду у вас.
— Что так? — Вопрос не звучал сожалением.
— Получил деньги, — соврал я, — устроюсь у знакомых.
Он не расспрашивал и не настаивал. Разговор делался непринужденнее. Вечерело, пыльный воздух двора дышал в окно теплой вонью, косое солнце слепило стекла внутреннего фасада бликами воздушного золота; крики детей звучали скучно и невнятно. Предоставив Пиянзину одеваться, я взял несколько рисунков, изучил их и телом вспомнил о женщинах. Рисунки представляли почти одни контуры; эта грубая схема красивых женских тел заставила работать воображение, воображением делать их теплыми и живыми. Я стоял и грешил — и снова мысль о том, что я в Петербурге, где царствует ненасытный размах желаний, представила мне, по ассоциации, внутренний мой гарем, дитя мужчины, рожденное без участия матери. Я любил Женю, девушку провинциальной чистоты, и любил всех женщин. В огромной и нежной массе их вспыхивали передо мной, наяву и во сне, целые хороводы, гирлянды женщин, я хотел жену — для преданности и глубокой любви, высшего ее воплощения; жена представлялась мне благородством в стильном, дорогом платье; хотел женщину-хамелеона, бешеную и прелестную; хотел одну-две в год встречи, поэтических, птичьих.
Размышляя, я выпустил картинки из рук; меня потянуло в Башкирск, к знакомому, дорогому голосу. За перегородкой возился хозяин; я отыскал на столе листок почтовой бумаги и, когда явился Пиянзин, я уже заканчивал тоскливое, серенькое письмо, с тщательно нарисованными точками и запятыми. Выражая уверенность, что наша любовь взаимна, я туманно, романтически излагал причины быстрого своего отъезда и надеялся в тридцати строках скоро обнять возлюбленную.
Когда мы пришли в ресторан и скромно сели в углу, Пиянзин сказал:
— Здесь хорошее пиво. Возьмем для начала дюжину.
Я поднял брови, но рассудил, что в предложении его есть смысл. Почему хотелось напиться этому человеку — не знаю, но почему хотелось этого же мне — я знал. Жизнь представилась мне вдруг нудной галиматьей, с центром в виде ресторанного столика, окутанного атмосферой вечной тоски о прекрасном; я выпил и улыбнулся.
Мы перекидывались незначительными фразами, говоря обо всем, что было нам обоим одинаково интересно, а бутылки с холодной влагой цвета свежего табака то и дело наполняли наши стаканы. После шестой — жизнь понемногу стала приобретать острую привлекательность, сделалась осмысленной, занятной и послушной; Пиянзин сказал:
— Я люблю неизвестных женщин. Поэтому я никогда не женюсь (перед тем я открыл ему любовную часть души, промолчав о бомбах). Жену я скоро узнаю, а неизвестную женщину — никогда. Я — поэт в душе.
Он был весь красненький, раззадоренный, вихрастый и смачно блестел глазами. Я открыл в его словах нечто огромное, оно показалось мне восхитительным; оркестр играл волнующую мелодию венгерского танца. Умилившись музыкой, со спазмой в горле, я наклонился к Пиянзину, закивал головой и, от значительности нахлынувших мыслей, почувствовал желание осмотреться во все стороны.
Светлый, нагретый воздух пел над белыми столиками о счастье сидеть здесь просветленными, как дети, и мудрыми.
— Итак, — сказал я, — вы говорили о неизвестной женщине. Во мне что-то смутно шевелится. Женщина! Самый звук этого слова дышит мечтой!
— Да. — Он утопил в пивной пене усы и посмотрел на меня. — Я говорю это всем. Вы никогда не знаете, какова она — дурная, красивая, пикантная, веселая, грустная, строгая, полная, тоненькая, рыжая, блондинка или брюнетка. Вы ее не знаете, стремитесь к ней, а когда получите все, когда все, включительно до ее имени и двоюродных теток, станет вашим, — маетесь.
— Хорошо, верно, — сказал я. — Это правда.
— Неизвестных люблю, — медленно, отяжелев, проговорил Пиянзин. — Они нами владеют.
В этот момент у моего плеча заструился душистый шелк и, дразня белыми, голыми до плеч руками, прошла женщина, на тонкой ее шее сидела насурмленная голова ангела. Я влюбился. Я встал, голова кружилась; одну руку мою тянул к себе Пиянзин, другая нахлобучивала шапку. Я хотел выйти на улицу и догнать женщину.
— Не пущу, — сказал Пиянзин, — сидите. Это мгновенное, пленное раздражение.
Умолкла музыка. Мне стало скучно. Я вырвал руку и устремился к выходу, с головой, полной игривых мотивов, пиянзинских рассказов о производстве игривых журнальчиков, и жадно побежал на тротуар. Но женщина уже скрылась, вдали загремел извозчик, темная улица наполнилась силуэтами домовых громад, полутенями, полусветом дышала кухонными запахами, вечерняя духота испортила мне настроение; оглядевшись и не видя Пиянзина, я, с жаждой необыкновенных встреч, помня о неистраченных пятидесяти рублях, отправился бродить, как попало, из переулков в переулки, но людным и глухим улицам, с быстро бегущими мыслями, с настроением, укладывающимся в двух словах: «Все равно».
IV
Отличаясь всегда буйным и капризным характером, я причинял отцу множество огорчений, он и моя мать умерли, когда я был еще в раннем возрасте, требующем особого попечения. Я воспитывался у тетки, вместе с геранями, фуксиями и мопсами. Тетушка эта умерла от пристрастия к медицине: чтобы лекарство действовало сильнее, она выпивала его сразу из чайного стакана и, напав однажды на какой-то красивого цвета аптечный ликер, отдала богу душу на крылечке в солнечный ясный день.
Мой старший брат, Ипполит, напиваясь после двадцатого, стрелял в луну, потому что, как говорил он, тринадцатая пуля, отвергая земное притяжение, непременно убивает какого-нибудь лунного жителя. Это невинное занятие принесло ему множество огорчений и обеспечило постоянный холодный душ в желтом доме, где он и скончался в то время, когда я, после смерти тетушки, изгнанный из сельскохозяйственного училища за облитие чернилами холеной бороды учителя математики, пресмыкался в казенной палате на должности регистратора. Теперь я был сирота, без друзей и близких, денег и положения, с каторгой за спиной.
Все это по контрасту припомнилось мне теперь, когда я, колеблясь между желанием снять меблированную комнату или дешевый номер и желанием провести ночь разгульно, бродил между Фонтанкой и Екатерининским каналом, путаясь в незнакомых улицах. Меж гранитным отвесом и барками блестела черная вода; созвездия электрических лампочек манили издалека цветными узорами; молчаливые пары, стискивая друг другу руки, в пальцах которых болтались измятые розы, делали вид, что меня не существует на свете; упорная, равнодушная площадная брань неслась из-под ворот в пространство. А я все шел, изредка покачиваясь и улыбаясь элегическим мыслям, плавно баюкавшим встревоженную мою душу. Незаметно для самого себя я очутился, наконец, перед большим, массивным подъездом, напоминавшим жерло пушки, выславшей лунных путешественников Жюля Верна; над подъездом сиял белый электрический шар, сквозь стекло двери блестели внушительные галуны швейцара. «Жилище миллионера! — подумал я. — Запретный рай».
Я остановился, наблюдая, как из этого внушительного подъезда выскакивали, роясь в жилетных карманах, господа в белых шарфиках и потертых пальто, затем, набравшись решимости, обратился к извозчику, одному из многих в темной гирлянде лошадиных морд, и задал ему вопрос: вечер здесь, бал или похороны?
— Этто клуб, барин, — ответил извозчик, раскуривая в горсточке трубку, — пожалуйте!
Да. Я сказал: «да» вслух, резюмируя бессознательное. Тысячи эмоций наполнили меня известного рода зудом, нетерпеливым желанием ворваться в круг света, золотых стопок и взять то, что принадлежит мне по праву, — мои деньги, разбросанные в чужих карманах. Решение это явилось, вероятно, не сразу; некоторое время я стоял понурый, пощупывая вчетверо сложенные бумажки и разжигая себя фейерверком внутреннего блаженства, если из ничтожных моих крупиц образуется состояние. В течение этих трех или пяти минут я сто раз повторил мысленно, что мне терять нечего, приценился к жизни в Калькутте, купил слона в подарок радже; затем, учитывая оборотную сторону медали, вспыхнул от радости, что, прогорев, можно отправиться пешком в Клондайк или пуститься во все тяжкие, и, с веселым облегчением в душе, пошел на рожон.
Швейцар, как показалось мне, прочел мои намерения по выражению глаз; я прошел мимо него с достоинством и, удерживая биение сердца, попал в сводчатую, арками, переднюю, где соболя, светлые пуговицы и фуражки занимали все стены. Костюм мой к тому времени состоял из нанковых серых брюк, летнего пиджака альпага в полоску, недурного коричневого жилета и зеленого галстука. Воротничок, помятый в дороге, был почти чист, и в блистательном трюмо я отразился с некоторым удовлетворением. А затем, чувствуя, как странно легки мои шаги, скользнул по паркету к проволочной решетке кассы, догадываясь, что нужно иметь билет.
Строгий джентльмен в очках, смахивающий на служащего из профессорских клиник, молча посмотрел на меня, протянув руку в окошечко. Я дал три рубля, он зазвенел серебром и выкинул мне два сдачи. И тут же подскочили ко мне три служителя, спрашивая, что мне угодно.
— Я хочу поиграть, — сказал я, подавая билет, — я из Пензы, у меня там имение.
Они отошли, пошептались, пока я не повернулся к ним спиной и не стал подыматься по широкой, мраморной, в темных коврах, лестнице, скользя рукой по мраморным перилам. Навстречу мне спускались декольтированные розовые и бледные женщины, гвардейцы, толстенные, с высокомерным выражением лиц, сытые старики; брильянты, лакеи с подносами, вьющиеся растения в белых консолях — все сразу утомило меня, сделало жалким и тяжело дышащим. Было так светло, что, казалось, исчез воздух, праздничный свет горел на шелках платьев, в зрачках людей; пахло тонкой сигарой, дыханием толпы, духами и цирком. На верхней площадке лестницы со всех сторон сияли богатые апартаменты, а прямо передо мной, из чуть притворенной двери неслись монотонные восклицания — равнодушный, отчетливо громкий счет. Я отворил дверь и очутился перед лицом судьбы.
В большом зале, за длинными, накрытыми лиловым сукном столами, сидело множество народа, в напряженной тишине склонившись над карточками лото. Преобладали пожилые франты с провалившимися щеками, пузанчики-генералы, напудренные дамы и артистические шевелюры. На остальных тошно было смотреть. Безусый мальчик в ливрее, стоя на трибуне, вертел аппарат, выкрикивая сонным голосом молодого охрипшего петушка номера падающих костяшек; после каждого его возгласа нервный, замирающий трепет наполнял залу, словно перед глазами собравшихся мучился привязанный к дереву человек, а в него летела за пулей пуля, и никто не знал, после какого выстрела белый лоб обольется кровью. В простенках висели старинные портреты полунагих женщин и стариков с лицом Мольтке, предки дворянской семьи взирали прищуренными глазами на новое поколение, освежающее затхлую атмосферу покинутого дворца жаргоном ночной улицы и лимонадом-газес. Я сел, путаясь коленями в ножках стульев, меж красивым, с лысым черепом, краснощеким пожилым человеком и маленькой, с усиками, женщиной, полной, черненькой и востроглазой. Они не обратили на меня никакого внимания. Купив за рубль карту, я, пока вокруг шумел оживший после чьего-то выигрыша зал, отпечатал в своем мозгу неизгладимые цифры; меж них было много мне симпатичных — 7 — 17–41 — 80, а верхний ряд весь состоял из больших двузначных. В это время меня стало томить предчувствие выигрыша; не умея хорошо описать такое душевное осложнение, скажу, что это — ощущение тяжелой, напряженной подавленности и сердцебиения, руки тряслись.
Опять наступила тишина; поглазев вправо, я увидел на высоком шесте таблицу с цифрой — 180. Мне предстояло получить сто восемьдесят рублей. Я не хотел отдавать их ни лысому, ни черненькой женщине; потекли долгие секунды, воздух крикнул:
— Шестнадцать!
У меня заболела шея от напряжения, я поднял руку с деревянным кружком, твердя: «Сорок один, сорок один, сорок один!» Судьба прыгала вокруг этого номера, как сорока в весенний день: сорок три, сорок шесть, сорок… и переходила к двадцатым или девяностым. Вдруг сказали: «единица!»
Моя рука без всякого с моей стороны участия убила деревянным кружком единицу; в этом была реальность, одна пятая успеха, я обратил все свое внимание на этот ряд, дрожа над тридцатью четырьмя. Зала погрузилась в туман; в голове, один за другим, разрывались снаряды, помеченные выкрикиваемыми номерами; я стал гипнотизировать мальчишку в ливрее, твердя: «Скажи. Ты обязан. Сейчас ты скажешь. Скажи. Скажи!»
Время, превращенное в пытку, тянулось так медленно, что от нетерпения болели виски; не сиделось, стул щекотал меня. Закрыв три цифры подряд, я через три номера закрыл четвертую и затрясся: у меня была кварта.
Сейчас! Как только назовут пятый номер, возбуждение всех ста восьмидесяти человек разрядится во мне одном. В горле подымалась и опадала спазма; посмотрев в стороны, я увидел множество карточек с застывшими над ними руками: там существовали кварты. Сейчас меня должны были ударить по голове выигрышем или проигрышем; я возлелеял свою последнюю цифру, оживил ее, вдохнул в нее душу и молился ей. Цифра эта была семнадцать. Она походила на молодую девушку; семь — с перегибом в талии и зонтик — единица; я любил и ненавидел ее всем кипением крови.
Ливрея сказала:
— Шестьдесят три!
— Четырнадцать!
— Семнадцать!
Мальчик в ливрее стал мне родным братом. Бешеный восторг облил меня с головы до ног. Я задохнулся, вспотел, крикнул:
— Хорошо, я! — и нервный тик задергал левое мое веко, переходя в щеку стреляющей болью; кругом зашумели — я выиграл.
Пока на меня смотрели в упор и искоса игроки, я запустил обе руки в поставленное передо мной лакеем серебряное блюдо с кружкой, стиснул пачку бумажек, почти больной, пересчитал их, бросил два рубля в кружку, встал и вышел. Я чувствовал себя дерзким авантюристом, Александром Калиостро, Казановой и смело, даже выразительно улыбнулся мимо идущей красивой фее с волосами телесного цвета. В ресторане, среди люстр, сотен взглядов и татарской фрачной орды лакеев, я выпил у буфета шесть рюмок коньяку и устремился к выходу.
— Хочу перекинуться в картишки, — сказал я кому-то с официальным видом. — Где здесь играют в карты?
Идя в указанном направлении, я был настроен торжественно, смотрел твердо, ступал уверенно и отчетливо. В карточной негде было упасть яблоку; черные груды спин копошились над невидимыми мне столами; иногда бледный человек, отклеиваясь от какой-нибудь из этих груд и сжимая в кармане нечто, шел к другому столу, зарывался в новой груде и пропадал. В проходах важно стояли служители; никто не вскрикивал, не ругался; что-то тихо звенело и шелестело; некоторые, выжидая момент, раскачивались на стульях, прихлебывая напитки; в просветах сюртуков и бутылок мелькали холеные руки банкометов; движения их казались благословляющими, кроткими и ласковыми. Различные замечания шепотом и вполголоса порхали в накуренном помещении; большинство их отличалось загадочным содержанием.
— Две тройки — комплект.
— Девятка? Жир после девятки.
— Раздача.
«Раздача» произносилось вокруг меня все чаще и чаще, то с улыбкой, то смачно, то безучастно; казалось, толпе дан лозунг, передающийся из уст в уста; мне представился человек с озорным лицом, сидящий на стуле и спрашивающий: «Вам сколько? — Тысячу? — Будьте добры, возьмите тысячу. А вам? — Пятьсот? — Пожалуйста, вот деньги».
Работая локтями, я протолкался к столу, вокруг которого, брызжа слюной, шептали: «раздача!» — отделил на ощупь из кармана бумажку и прежде, чем поставить ее, присмотрелся к игре. Мудреного в ней ничего не было. Метал, отдуваясь, человек с фатально-унылым лицом, лет пятидесяти; в галстуке его горел брильянт; синева под глазами, желтый кадык и узловатые пальцы делали его наружность неряшливой. Я посмотрел на свою бумажку — она оказалась двадцатипятирублевым билетом, — замялся и поставил туда, где лежало больше денег.
Денег на столе было вообще очень много; они валялись без всякого почтения, но за каждым рублем следила горящая пара глаз. Банкомет заявил: «игра сделана» таким тоном, словно он был Ротшильдом, и привел в движение руки. Порхая, летели карты и на мгновение все стихло.
— Девять, — услышал я сбоку.
— Три!
— Восемь!
— Очко, — сказал банкомет; посерел, оттянул пальцем тесный воротничок и стал платить деньги. На мой билет упало три золотых, я взял их вместе с бумажкой, подержал в кулаке и поставил на то же место. Опять замелькали карты, угрожающе быстро падая на четыре стороны света, и я услышал:
— Семь.
— Пять.
— Жир.
— Свой жир, — сказал банкомет. — Два куша в середину, крылья пополам, шваль пополам, шваль полностью.
И он стал платить деньги. Я снял сто.
Это повторилось несколько раз; я ставил то пять, то пятьдесят, куда попало, у меня брали или я брал, с пересохшей глоткой, утеряв способность соображать что-либо, чувствуя, что тяжелеет левый карман и что на меня легло сзади, по крайней мере, три человека; я сносил эту тяжесть, как какую-нибудь пылинку; чужие руки, извиваясь около моих щек, протягивались через меня, брали или поспешно прятались. Бумажки я запихивал комочками в карманы жилета, рубли и золото сыпал в брюки, пиджак; как пиявка, я присосался и не отходил; я дрожал, чувствуя растущую свою мощь, кому-то улыбался, как заговорщик, находил то симпатичными, то отвратительными одних и тех же людей в течение двух минут; курил папиросы, роняя пепел с огнем на чьи-то плечи и рукава; я был в азарте. Наконец, банкомет встал; вокруг загудели, стали толкаться. Встал еще один из шести сидевших вокруг стола; я шлепнулся на его место, отбросив розового жандармского офицера. Почему-то вдруг переменились лица, подошли новые, и я увидел себя соседом породистого брюнета, а с другой стороны — рыжего хищника. Теперь я ставил немного, собирая, так как мне упорно везло, рублями и трешками, а когда подошла моя очередь метать — подумал, что это будет последний и решительный бой.
Стасовав колоду и исколов при этом руки углами новеньких карт, я, подражая игрокам, сказал:
— Ответ. Делайте вашу игру.
Первый удар дал мне рублей семьдесят. На втором я отдал, пожалуй, триста и дрогнул; колода готова была выскользнуть у меня из рук с решительными словами: «более не играю», но я бессознательно прикинул в уме, сколько на столе денег, жадность взяла верх — и я сдал.
— Девять.
Породистый брюнет услужливо, даже подобострастно кинулся собирать деньги. Куча бумажек, выросшая почти до подбородка, испугала меня задним числом: я сообразил, что моих денег могло не хватить в случае проигрыша. Испуг этот не был настоящим — я выиграл; на душе стало вдруг легко и просто. Очертя голову, я стал метать.
То, что произошло дальше, можно для краткости назвать избиением. Я бил шестерки семерками, жиры двойками, восьмерки девятками. Мне некуда было класть деньги, я совал их под левый локоть, прижимал к столу так крепко, что ныли мускулы; мне помогали со всех сторон, так как я еще не вполне освоился и медлил; при этом я заметил, что помогающие сами не ставят, а просто любят меня, бескорыстно делая за меня расчет; это держало меня некоторое время в напряженном состоянии благодарности, а затем я стал презирать всех. Прошло еще два-три удара, после которых понтеры откидываются на спинки стульев; я взял последние выигранные деньги, подумал, сдал еще, заплатил шестисотрублевый комплект, сказал: «Довольно» и с горячей головой встал, покачиваясь на одеревеневших ногах. Свита помощников тронулась за мной рысью, я на ходу бросил лакеям несколько золотых, и мне показалось, что они ловят их ртом; скользнул, извиваясь в толпе, пробежал коридор, едва не уронив горничную, заметил уборную, потянул дверь, убедился, что никого нет, и весь звеня и шурша, щелкнул задвижкой.
Отдышавшись, я посмотрел в зеркало и увидел лицо ужаленного змеей, махнул рукой и принялся выгружать деньги в раковину умывальника. Это был экстаз осязания, торжество пальцев, восторг кожи; я находил пачки, плотные комки, холодные струйки золота, сторублевки, завернутые в трешницы, ворох бумажек рос, топорщился, хрустел и пух, достигая трубочки крана, из которого капала вода; начав считать, быстро упаковал две тысячи, положил их в карман и рассмеялся. «Это сон, — сказал я, — бумажки сейчас превратятся в сапоги или огурцы». Но требовательный стук в дверь был реален и изобличал стоявшего в сюртуке человека, как очень нетерпеливого. Я забыл о нем, начав считать дальше, и к тому времени, когда стук сделался неприличным, в карманах моих лежало верных десять тысяч двести одиннадцать рублей.
Состояние, в котором тогда находился я, естественно предполагает полное расстройство умственных способностей. С головой, набитой фигурами игроков, арабскими сказками и бешеными желаниями, не чувствуя под собой земли, я отворил дверь, пропустил человека с искаженным лицом, рассыпался в легких щегольских извинениях и, порхая, выбежал в коридор.
V
Воспоминания изменяют мне в промежуток от этого мгновения до встречи с Шевнером. Я где-то бродил, наступал на шлейфы и трены, приставал к дамам, присоединялся к группам из двух-трех человек, о чем-то спорил, курил купленную в буфете гаванскую сигару, часто выпивал, но не пьянел.
Переходя из залы в залу, я вступил, наконец, в совершенно неосвещенное пространство; впереди высились начинающие бледнеть четырехугольники огромных окон, наискось прикрытые шторами; у моих ног тянулся по ковру в темноту свет не притворенных мною сзади дверей. Массивная темнота была, казалось, безлюдна, но скоро я заметил огоньки папирос и силуэты, шевелившиеся в разных местах; тихий разговор по уголкам делал меня нерешительным; не зная, что происходит здесь, и боясь помешать, я хотел уйти, как в это время кто-то крепко стиснул мой локоть. Обернувшись, я разглядел Шевнера; он смотрел на меня радостными глазами и, не выпуская локтя, приложил палец к губам. Он часто дышал, затем, приложившись губами к моему уху и обдавая меня горячими ресторанными запахами, зашептал:
— Поздравляю, не уезжайте, будет интересно. Я уже все устроил. Я сообщу вам сейчас программу. Проживем тысячу, а? Шальные деньги. Молчите, молчите, не говорите громко. Тут импровизированное собрание. Все поэты или беллетристы, а один студент привел поразительную девушку — Раутенделейн, мимоза. Я уже подъезжал, но ничего не выходит; хотите, познакомлю.
Сообщив мне таким стремительным образом весь запас накопленной по отношению ко мне дружеской теплоты, Шевнер, кривя ногами, побежал в мрак и, возвратившись, уселся сзади. Осмотревшись, я заметил, что в зале не так темно, различил кресло и сел рядом с Шевнером. Он, по-прежнему часто и горячо дыша, назвал мне десять или двенадцать известнейших в литературе фамилий. Польщенное мое сердце облилось гордостью, и быстро, на смех, для утоления невольной зависти, сообразив, что мог бы я написать сам, я сказал:
— Я набит деньгами. Я бил их, знаете, как новичок, я выиграл пятьдесят тысяч.
— Хе-хе, — сочно хихикнул он и шлепнул меня по колену. — Я все устроил.
Я хотел сказать что-то тонкое и циничное, но тут один из силуэтов с бородкой встал, выпрямившись на тускло-бледном фоне окна. Светало, мрак переходил в сумерки, а сбоку, линяя, как румяна на желтом лице, полз к ногам электрический свет; в его направлении за дверной щелью мелькали плечи и галуны.
— Тише! — раздалось по углам, и я рассмотрел прилипшие к креслам и диванам, словно вдавленные, фигуры: подглазная синева лиц составляла вместе с бровями род очков, и все было серое в усиливающемся свете, зала представлялась сумеречным, роскошным сараем; на круглом мозаичном столе белели каемки салфеток, кофейные чашечки. Все вместе напоминало строгое тайное судилище, где судьи соскучились и, расковав невидимого преступника, поцеловались с ним с чувством братского отвращения и сели пить.
Бородка изящного силуэта дрогнула, он стал теребить галстук и ласково, с искусно впущенной в интонацию струей интимной тоски, прочел стишки.
— Прекрасно! Изумительно! — сказали усталые голоса вразброд, и кто-то принялся размеренно хлопать. Рассвело почти совсем; я увидел лица талантов, известные по журнальным портретам, и мои десять тысяч потеряли несколько свое обаяние. Шевнер опять засуетился, забегал и объявил мне, что человек с прядкой на выпуклом лбу и толстыми губами — капитан Разин и что он прочтет сейчас сказку.
Опять я испытал восхищение, видя грузно подымающуюся фигуру писателя, и как будто подымался он для меня, серенького провинциала. Никто из этих людей не посмотрел на меня — и это придавало им еще больше значительности. Разин, положив руку на спинку кресла у затылка испитой барышни, просто сказал:
«Я пришел в царство, где нет теней, и вот, вижу — нет теней, и все прозрачно-светло, как лед».
Он умолк, поднял брови, насупился, сел, а я посмотрел вправо и влево. Лица стали значительно скорбными, взгляды — тяжелыми и ресницы поникли, — тужились понять смысл произнесенных слов.
Окна из бледных стали светлыми, просветлел зал; медленно, словно ценя каждое свое движение, поднялась среди всех девушка с приветливыми глазами на овальном лице, в черном шелковом платье, гибкая, высокая, болезненная и прекрасная. Шевнер вился около нее, скаля зубы, а она смотрела на него добродушно, почти материнским взглядом; тут я не выдержал; умиленный, зачумевший, сытый удачей, я твердо встал и, горячась, потому что вялым тоном таких вещей не предлагают, сказал:
— Русские цветы, взращенные на отравленной алкоголем, конституцией и Западом почве! Я предлагаю снизойти до меня и наполнить все рестораны звонким разгулом. Денег у меня много, я выиграл пятьдесят тысяч!
— Он прекрасный человек! — закричал Шевнер с вытянутым лицом. — У него гениальная шишка! Я вас познакомлю… Да здравствует просвещенный читатель!
Я очутился в тесном кругу, мне шутливо жали руку, и кто-то сказал: «Джек Гэмлин!» Высокая девушка стояла позади всех, я рвался к ней, но крепко стиснутый Шевнером локоть мой ныл зубной болью, а молодой студент, толстый, деревянно хохоча, гладил меня по жилету. Жаркое солнце, не выспавшись, облило нас пыльным, дрянным светом; полинялые, замузганные бессонницей, вышли мы все, толкаясь в дверях, и, пройдя к лестнице, рделись внизу, вышли на панель, где с закружившимися от свежего воздуха головами попарно расселись на извозчиков. Толкаясь впереди всех, я завладел смущенно улыбавшейся, трезвой, высокой девушкой, и мы с ней поехали сзади всех. На пустых улицах бродили дворники, подметая тротуары. Светлая пустота перспектив, с ясным небом, облитым солнцем, ставнями запертых магазинов, казалась мне особого рода искусственным освещением, придуманным для разнообразия ночи.
Трясясь в пролетке, я, прижимаясь к своему милому спутнику и обнимая ее негнущуюся талию, сказал:
— Отчего вы грустная и молчаливая? Не презирайте нас. И, пожалуйста, не говорите вашего имени. Не знаю почему — я чувствую к вам нежность. Мне вас жаль. Вы добрая.
— Нет, — возразила она очень серьезно, — вы меня не знаете. Я жестока и зла.
— Вы — чудо! — шепнул я, млея. — Я недостоин поцеловать вашу руку. Но я, между прочим, в вас влюбился. Я счастлив, что сижу с вами.
— Отчего вы все говорите одно и то же? — спросила она с некоторым злорадством. — Я часто это слышу.
— Знаете, — искренно сказал я, стараясь не ударить в грязь лицом в искренности, — все мы дрянь. Женщина обновит мир. Лучшие из нас, натыкаясь на женщину нешаблонной складки, мучительно раскаиваются в своих пошлостях. «Вот мы прошли мимо света, и свет погас», — так скажут они.
Я произнес эту тираду спокойно и вдумчиво, с оттенком грусти, и умиление от собственной глубины защекотало мне в горле. Она повернулась ко мне лицом, придерживая шляпу, так как с речки полыхал ветер, и долго смотрела на меня угрожающими глазами. Я не сморгнул и блеснул глазами, расширив зрачки и плотно сжав губы. Затем выражение ее лица стало простым, и я перевел дух.
— Мы куда сейчас едем?
— Не знаю, — сказал я, — и не надо знать этого. Может, будут неожиданные развлечения. Заранее знать — скучно. А вам что нужно здесь, с нами?
— Я случайно, через знакомого студента. Мне интересно, я никогда не бывала ни в такой обстановке, ни с такими людьми.
«Эта девушка мучительно напрягает душу», — подумал я и, уловив конец нитки, потянул клубок.
— Вы думаете, вам здесь сверкнет что-нибудь? — спросил я. Сердце мое билось глухо и жадно; сквозь драп пальто я чувствовал тепло ее тела.
— Все может быть, — серьезно сказала она. — Вы кто?
— Стрела, пущенная из лука, — значительно проговорил я. — Сломаюсь или попаду в цель. А может быть, я вопросительный знак. Я — корсар.
На ее щеках появились ямочки, она добродушно рассмеялась, а я стиснул ее молчаливую руку и, помогая сойти у подъезда, шепнул, стараясь как можно загадочнее произнести следующую ерунду:
— Далекая, милая, похожая на цветок, шаг за шагом звучит в пустыне.
Тут же, сконфузившись так, что заболели скулы, быстро оправился; и, внутренно усмехаясь, пошел за этой женщиной.
VI
Я слыхал от многих компетентных и всеми уважаемых людей, что не следует много говорить о пьянстве и безобразиях, производимых вывернутым наизнанку человеком во всякого рода увеселительных местах. По их мнению, все подобные описания грешат неточностью, вернее — произволом фантазии, так как велик соблазн говорить о невладеющих собой людях, что угодно. Я же думаю, что человек, сумевший напоить Калиостро, Марию Башкирцеву и Железную Маску, вполне удовлетворил бы свое любопытство.
За низко кланяющимся лакеем мы прошли всей гурьбой по засаленным коридорам в обширный, дорогой кабинет с наглухо завешенными окнами. Горело электричество. Большой стол, убранный канделябрами, гиацинтами и тюльпанами, рояль, паутина в углах, цветной линолеум на полу, дубовые панели — все это, еще не согретое пьянством, выглядело скучновато. Слегка засмеявшись, не зная, с чего начать, я подарил Шевнеру три умоляющих взгляда, и он, ласково хохоча, принялся нажимать звонки, а семейный человек во фраке, почтительно шевеля губами, стал кланяться, запоминая, что нам угодно.
Нас было десять: три дамы, из которых одну вы уже знаете, остальные представляли молчаливо улыбающиеся и беспрестанно щупающие прически фигуры, недурненькие, но чванные; я, Шевнер, капитан Разин, пасхальный студент, поэт с надтреснутым лицом и бородкой цвета пыльных орехов, старик — по осанке бывший военный — и один самой ординарной наружности, но именно вследствие этого резко выделяющийся из всех; он был прозаик и звали его Попов.
Сосчитав всех, я вдруг сообразил, кто мои гости, и стало мне лестно до говорливости. Я поднял бутылку, отбил горлышко черенком ножа, облил скатерть, встал, прихлебывая шестирублевую жидкость, и закричал:
— Знаете ли вы, что все хорошо и прекрасно, — и земля, и небо, и вы, и мы, и всякая тварь живая? Я всем сочувствую! Пью за ваше здоровье.
Помедлив и посмеявшись, все стали пить; больше всех пили я, Разин и Шевнер. Я суетился, кричал, острил и выражал желание подарить каждому сто рублей. Уставая, я наклонялся к высокой девушке, шептал ей на ухо нежные слова любви, не помню — что, но, кажется, выходило неудачно. Каждый раз, как я начинал говорить, она медленно поворачивала ко мне лицо и была очень внимательна, смотрела, не мигая, изредка улыбаясь левым углом губ; обратив на это внимание, я заметил, что рот у нее яркий, маленький и упругий. Когда я дотронулся до ее талии, она механически откачнулась, а я сказал:
— Это ничего, что я нелеп. Я потом вымоюсь вашим взглядом. Все нелепо. Я нелеп. Все — негры. Я негр. Я держу свою душу в руках, я буду собирать песчинки, приставшие к вашим ногам, и каждую поцелую отдельно.
— Вы не пейте больше, — серьезно произнесла она, — видите, я все еще с одной рюмочкой.
Я сделал отчаянное лицо, запел фальшиво, изо всех сил стараясь изобразить большую мятущуюся душу, но стало противно. Стол шумел, пел и свистал; по временам удушливый туман скрывал от моих глаз происходящее, а вслед затем опять и очень близко, словно у себя на носу, я видел ведерки с шампанским, за ними круг лиц — и так болезненно, что, переводя глаза с одного на другого, становился на один момент то Шевнером, то Поповым, то стариком. Иногда все замолкали, но и тут не было тишины; казалось, ворошится и бормочет сам воздух, сизый от табачного дыма.
Мы говорили о женщинах, радии, душе медведя, повестях Разина, поэзии будущего, способах перевозки пива, старинных монетах, гипнозе, водопроводах, смерти, новой оперетке, мозольном пластыре, воздушных кораблях и планете Марс. Шевнер сказал, споря с Поповым:
— Все продажно, а земля — лупанарий.
Отупелый, я чувствовал все-таки, как меня кто-то просит уйти… С трудом сообразив, что это говорит девушка, я повернулся к ней и увидел, что она громко смеется, а старичок, гладя ее по плечу, покручивает усы. И вдруг, почувствовав сильнейшее утомление, я встал среди множества больших глаз, бросил на стол горсть бумажек, стиснул маленькую, ответившую слабо на мое пожатие, руку и направился к выходу. Обернувшись у двери, я увидел, что все задерживают мою спутницу, долго прощаясь с ней, и закричал:
— Скорее! Скорее!
Шевнер подбежал ко мне, выдергивая из-за галстука салфетку, но покачнулся и, отлетев в сторону, упал; я подхватил девушку, спрашивая:
— Домой хотите? Хотите домой? Где вы живете?
— У меня голова кружится, — проговорила она, поспешно сбегая с лестницы.
Я нагнал ее внизу, подал пальто и вывел, сунув швейцару рубль. Моросил дождь, было тепло, утро вспоминалось далеким. Поняв, что день прошел, я мгновенно припомнил многое, утраченное во хмелю, но теперь ясное, сделавшее минувший день долгим. Я вспомнил, что кто-то спал на диване и что был промежуток, в течение которого я сидел вдвоем с Поповым, рассказывая ему свою жизнь. Меня мутило. Усадив девушку на извозчика, я долго не мог попасть на сиденье, наконец, отдавив ей колени, устроился. Выслушав адрес, извозчик долго бил клячу, она вышла из терпения и помчалась трамвайной линией, где в тусклой мгле светились красные огоньки вагонов.
Под ветром и дождем я раскис. Десять тысяч казались плюгавым пустяком; грузная скука села на горб, сгибая спину, и все прелести возбуждения, кроме одной, ушли.
Я обхватил рукой талию спутницы. Но инстинкт говорил мне о ее внутреннем упорстве и настороженности.
— Возьмите руку, — сказала она.
— Зачем? — спросил я. — Вам неудобно?
— Да, неудобно.
Я отнял ставшую мне чужой руку и отправил ее в карман, за папиросами. Помолчав, я сказал:
— Не сердитесь на меня.
— Я не сержусь.
Она отвернулась.
— Мария Игнатьевна, — сказал я, вспомнив, что ее сегодня так называли, — вы служите где-нибудь?
— Нет. — Она уселась свободнее и повернулась ко мне. — Я уехала от родителей.
— Так, — проницательно заметил я. — Вы, конечно, горды. Отец вас проклял, вы разочаровались в своем возлюбленном и живете в мансарде. Там у вас много книг, грязно, тесно и пахнет студентами, а на полу окурки. И питаетесь вы колбасой с чаем.
— Нет, не так, — поспешно и как бы задетая, возразила она. — У меня хорошая комната с красивой мебелью и цветами. Есть пианино. Я грязи и сора не люблю. А обед мне носят из очень хорошей кухмистерской — шестьдесят копеек. И я никогда никого не любила.
Я саркастически захохотал и поцеловал ее руку.
— Я простофиля, — сказал я, — скажите, может быть глубокое чувство с одного взгляда?
— Это вы про себя?
— Нет, вообще.
— Нет, это вы про себя говорите, — уверенно проговорила она. — Голос у нее был тихий и ровный. — Вы меня любите?
— Да, — храбро сказал я. — А вы меня?
Она смотрела с таким видом, как будто я и не говорил слов, повергающих женщин в трепет и волнение. Прошло несколько минут. Нева в отражениях огней расстилалась таинственной, глубоко думающей гладью.
— Вы врете, — холодно произнесла девушка, и мне стало не по себе, когда я услышал у самого подбородка ее дыхание. — Вы врете. Зачем вы врете?
— А вы грубы, — сказал я, озлившись. — Что я вам сделал?
— Да, вы мне ничего не сделали. — Она помолчала и тихонько зевнула. — А мне показалось…
Взбешенный, я понял этот обрывок. Мне захотелось резнуть словами — и так, чтобы это не прошло бесследно.
— Да, — горячо начал я бросать словами, — когда мужчина высказывает свое желание в самой тонкой, поэтической, нежной форме, когда он лезет из кожи, чтобы вам понравиться, когда он старается взволновать вас мягкостью и простодушием, насилуя себя, — вы гладите его по головке, блюдете себя и ждете, что он еще покажет вам разные фокусы-покусы, перевернет земной шар! А если тот же мужчина просто и честно протягивает вам руку, причем самый жест этот говорит достаточно выразительно, — вы или бьете его по щеке, или ругаете. Разве не так? Что там! Ведь полюбите же кого-нибудь.
Разгоряченный, я уронил папиросу, замолчал и искоса взглянул на Марию Игнатьевну. Она смотрела перед собой, казалась беспомощно усталой. Я вдруг потянулся к ней, но удержался и скис.
— О чем вы думаете? — врасплох спросил я.
— О разных вещах, — просто и, как мне показалось, даже приветливо сказала она. — Я думаю, что белые хризантемы, выросшие на этом черном небе до самого зенита, выглядели бы очень красиво.
— Вы не любите жизни, — угрюмо заметил я. — Что вы любите?
— Нет, — я бы ее исправила.
— Как?
— Как-нибудь интереснее. Хорошо бы земле сделаться белой и теплой. Трава должна быть серая, с золотистым оттенком, камни и скалы — черные. Или жить как бы на дне океана, среди водорослей, кораллов и раковин, таких больших, чтобы в них можно было залезть. Потом хорошо бы быть богу. Такому крепкому, спокойному старику. Он должен укоризненно покачивать головой. Или подойти ко мне, взять за подбородок, долго смотреть в глаза, сделать гримасу и отпустить.
— Только-то, — сказал я, сконфуженный ее усилиями отдалиться от меня на словах. — Никуда вы не уйдете, сокровище. Вас везет грязный, заскорузлый сын деревни по грязной земле, а в том, что я вас люблю, — есть красота.
Я перегнулся к Марье Игнатьевне и, полный трусливой хищности, опасаясь, что девушка закричит, но в то же время почти желая этого, как истомленный жарой, стал расстегивать левой рукой теплую кофточку. Она не сопротивлялась; в первый момент я не обратил на это внимания, а потом, возненавидев за презрительную покорность, принялся тискать весь ее стан. Девушка, прижав руки к груди, сидела молча. Я видел, что губа ее закушена, и вдруг холодность ее сделала мне противными всех женщин, улицу, себя и свои руки; отняв их, я зябко вздрогнул, остыл и увидел, что мы подъехали к хмурому пятиэтажному дому.
Я слез, заплатил извозчику; девушка продолжала сидеть в той же позе, как бы окаменев; присмотревшись, я заметил, что правая ее рука медленно, словно крадучись, застегивает пальто.
— Сойдите же, — сказал я.
— Я хочу, чтобы вы ушли. — Зубы ее стучали. — Уйдите.
— Мария Игнатьевна, — сказал я и замолчал. Невольная тоска налила мне ноги свинцом, я говорил сдавленным, виноватым голосом. — Мария Игнатьевна, ведь я ничего…
— Извозчик, вероятно, заинтересован, — быстро произнесла она. — Уйдите, слизняк.
Я открыл рот, не будучи в силах сказать что-либо, сердце быстро забилось. Девушка сошла на тротуар и, поспешно склонившись, исчезла под цепью калитки. Я нырнул за ней, догнал ее у черной дыры лестницы и взял за руку.
— Мария Игнатьевна, — уныло проговорил я, стараясь идти в ногу, — вы способны сделать безумным святого, а не то что меня. Простите.
Она не отвечала, взбегая по ступенькам; я спешил вслед, наступая на подол платья. В третьем этаже девушка остановилась, повернулась ко мне и вызывающе подняла голову. В свете керосинового фонаря лицо ее было изменчивым и прекрасным; лицо это дышало неописуемым отвращением. Чувствуя себя гнусно, я упал на колени и с раскаянием, а также с затаенной усмешкой, поцеловал мокрый от дождя ботинок; запахло кожей.
— Мария Игнатьевна, — простонал я, подползая на заболевших коленях, стараясь обхватить ее ноги и прижаться к ним головой, — молодая душа простит. Я люблю вас!
— Отойдите, — глухо произнесла она. — Дайте мне подумать.
Я встал, но она уже была на подоконнике и, нагнувшись, отнесла руки назад; большое окно лестницы мгновенно нарисовало ее фигуру, по контуру изогнувшегося тела желтели освещенные окна квартир. Я зашатался, застыл; в миг все чудовищное выросло передо мною: сознав, что надо отойти, сбежать хоть бы пять ступенек, я тем не менее, пораженный ожиданием кровавой тяготы, стоял, крича хриплым голосом.
— Что вы делаете со мной? Я уйду, уйду, ухожу!
В то же мгновение ноги мои вдруг обессилели, задрожав; окно мелькнуло платьем, а внизу, подстерегая падение, шумно ухнул двор, и отвратительно быстро наступила полная тишина. Чувствуя, что меня тошнит от страха и злобы, я поспешно сбежал вниз и, с холодным затылком, плохо соображая, что делаю, выбежал к калитке, закрывая руками голову, чтобы не увидеть. На улице, повернув за угол, я пустился бежать изо всех сил, не чувствуя ни жалости, ни угрызений, преследуемый безумным, скалящим зубы ужасом; мой топот казался мне шумным падением бесчисленных тел: тяжелая, мерзлая, хватающая за ноги мостовая родила слепой гнев; сжав кулаки, я бросался из переулка в переулок, отдышался и пошел тише, дрожа, как беспощадно побитый циническими ударами во все части тела.
VII
Сколько времени я шел и в каких местах — не помню. Раз или два я сильно стукнулся плечом о встречных прохожих. Моросил дождь, в косом, прыгающем его тумане чернели, раскачиваясь, зонтики; светлые кляксы луж и журчанье сбегающей по трубам воды казались мне огромным притворством улиц, очень хорошо знающих, что произошло со мной, степенно лживых и равнодушных. Судорожно переворачивая в памяти окно третьего этажа и глухой стук внизу, я шел то быстрее, когда представления делались совершенно отчетливыми, то тише, когда их затуманивала усталость мозга, пресыщенного чудовищной пищей. Немного спустя, я увидел ровно освещенное окно игрушечного магазина с голубоглазыми куклами в коробках, маленькими барабанами и лошадками, вспомнил, что и я был некогда маленьким, что Мария Игнатьевна тоже играла в куклы, и унылая горесть засосала сердце; внезапная глубокая жалость к «Марусе», как мысленно называл я ее теперь, слезливо напрягла голову. Прислонившись к стене, я заплакал скупыми, тяжелыми слезами, вздрагивая от рыданий. В это время я слышал, что за моей спиной шаги прохожих несколько замедлялись. Вероятно, они взглядывали на меня, пожимая плечами, и отходили. Среди многих терзавших меня в этот момент мыслей раскаяния и сокрушения я постепенно начал жалеть себя и представил, что какая-нибудь женщина, с лицом ангельской доброты, подходит сзади, кладет нежную руку мне на плечо и спрашивает музыкальным голосом:
— Что с вами? Успокойтесь, я люблю вас.
Отерев слезы, я поспешно тронулся дальше.
Заходя по дороге в пивные лавочки и трактиры, я выпивал у стоек, чтобы забыться, как можно более водки и пива, затем хлопал дверью и шел без всякого направления, поворачивая из стороны в сторону. Прохожих становилось все меньше; улицы из широких проспектов с модернизированными фасадами пяти- и шестиэтажных домов незаметно превращались в кривые низенькие ряды деревянных мезонинчатых домиков; воняло прелью помойных ям; где-то в стороне далеко и глухо просвистел паровоз. Зачем и куда я шел — неизвестно; смутная тревога подгоняла вперед, остановиться было физически противно и трудно. Казалось, мостовая и улицы были намотаны на какие-то огромные катушки и, скатываясь, двигались надо мною назад, заставляя перебирать ногами.
Заблудившись, я выбрался из кучи мрачных строений, напоминавших разбросанные как попало спичечные коробки; одолев паутину каменных и деревянных заборов, среди которых, подобно одинокому глазу, мерцал красный фонарь, я очутился на границе обширного пустыря. Он начинался прямо от моих ног обрывками заброшенных гряд, канавой и бугорками с репейником; далее громоздилось темное пространство — и трудно было рассмотреть во мгле характер этой пустынной местности. По-видимому, мне следовало возвратиться назад, но я двинулся вперед из какого-то злобного упрямства, в состоянии полной невменяемости, в одном из тех видов ее, когда невнятнейший посторонний звук может вызвать страшный припадок бешенства или, наоборот, погрузить в тягчайшую апатию. Мной в полной силе управляли зрительные впечатления, вид пространства вызывал потребность идти, темнота — желание света; я каждую секунду соединялся с видимым, пока это состояние не рождало какого-либо образного, по большей части фантастического представления; затем, насытившись им, переходил к следующим вспышкам фантасмагории. Так, например, я очень хорошо помню, что желание идти в пустырь соединялось у меня с воображенной до полной действительности, где-то существующей хорошенькой и уютной дачей, где меня должны были ожидать восхитительные, странные и сладкие вещи; я шел к той даче, наполовину веря в ее существование. Охваченный мрачной пустотой, я перепрыгивал ямы, месил ногами грязную почву. Голос, раздавшийся впереди, привел меня в сильное раздражение. Голос этот сказал:
— Кто идет?
Я остановился. «Кто-то идет в стороне от меня, — подумал я, — и этого человека спрашивают». Вопрос был громкий и отчетливый, рассчитанный, очевидно, на то, чтобы быть сразу услышанным и понятым. Оглянувшись, я тронулся; в тот же момент голос упорно крикнул:
— Кто идет, дьявол? Вороти в сторону.
— Это мне, — сказал я, прислушиваясь. Ветер прилег к земле, качнулся и загудел. Неподалеку, у низкой стены, едва отделяясь от нее, чернела маленькая человеческая фигура. Я всматривался, пытаясь сообразить, в чем дело. Я спросил громко и недовольно:
— Кто кричит? Чего кричишь?
— Отойди, — непреклонно повторил голос. — На пост лезешь! Часовой тут, пороховой погреб. Не велено.
Тогда я понял. Солдат не подпускал меня к охраняемому зданию. Он боялся, что я украду ящик с порохом или взорву пороховой погреб. Это было глупо до скуки; я определил солдата, как глупейшее существо в свете, и рассмеялся, вызывающе подбоченившись, а шляпу сдвинул на затылок. Вероятно, солдат не видел моей позы, как я его, но в те минуты воображение играло большую роль, и я считал себя видимым так же ясно, как яичко на бархате.
Мы оба тонули во мгле грязного пустыря.
— Пороховой погреб! — сказал я, настроенный залихватски и брезгливо по отношению к человеку, вооруженному магазинкой. — Милый, это бессмыслица. Мне хочется пройти в прямом направлении. Разве погреб провалится? Ты рассуждаешь по инструкции, но до здравого смысла тебе далеко.
Я говорил не совсем твердо, часовой молчал. Я знал, что человек этот в данный момент счастлив, что морда его осмысленна и дышит невидимо для меня всей непреклонностью устава. Я вздумал разочаровать его, отравить ему радостное мгновенье сложной и острой сетью произвольных заключений, сделать его смешным в его же глазах, раздражить и уйти.
— Я уйду, — продолжал я. — Сию минуту уйду. Я пьян. Не тронешь же ты пьяного человека. Но мне нужно сообщить тебе нечто. Ты — часовой. Ты стоишь два часа, охраняя пороховой погреб. От кого?
Враждебная тишина внимала мне. Я подумал и покатился по тем же рельсам и говорил, говорил.
Зачем я говорил — выскочило у меня теперь из памяти. Язык мой неудержимо трепался, как хороший бубенец в чаще, я говорил, не слыша ни возражений, ни поощрений; одно время мне показалось, что часовой даже ушел, но я тотчас сообразил, что уйти он не мог, а стоит тут, против меня и слушает, слушает напряженно, стараясь не проронить ни одного слова, и ждет, чтобы выстрелить, когда я сделаю хоть один шаг к нему. Я знал, что он не задумается спустить курок, так как в этом было его оправдание. Он слушал.
— Там, — я махнул рукой по направлению к городу, — там красавицы, золото, роскошь и удовольствия… Сейчас я найму автомобиль и проеду мимо, обдав тебя шлепками грязи с резиновых шин. У тебя денег нет? На! Возьми. У меня в кармане лежит несколько тысяч. Возьми пятьсот. Подойди и возьми. Брось винтовку, спрячь деньги, иди в город, надень щегольский костюм и напейся. Потому что ты человек, когда пьян. «Мы што — не люди?» Люди!
Мой голос перешел в крик, я осип, задыхался и радовался. Мои пули были мои слова.
— Отойди! — вдруг глухо и угрожающе сказал часовой. — Чего распоясался? Проходите, барин!
— Барин! — азартно закричал я. — Ты думаешь: вот он будет куражиться, а я пристрелю его и в рапорте благодарность получу? Нет, этого удовольствия я тебе не доставлю. Я уйду, уйду, а ты будешь, рыдая, звать меня, чтобы опять услышать мои слова. Но я более не приду, понял? Стой и плачь, тюлень в наморднике!
Я знал, что он трясется от бешенства и высматривает меня в темноте, чтобы пробуравить насквозь. Я сам трясся; меня приводил в восхищение этот не смеющий сойти с своего места человек. Услышав мягкий треск стали, я понял, что он приготовил затвор и, если я не уйду, выстрелит, но всякая опасность была в этот момент бессильна заставить меня смириться. Я отошел в сторону, ступая мягко, чтобы солдат, целясь на звук голоса, дал верный промах.
— Последний раз — уходите, — быстро проговорил часовой, чем-то зазвякал, и я сообразил, что теперь надо держать ухо востро. Поспешно отбегая на носках влево, я крикнул изо всех сил:
— Я и мой товарищ бежим на тебя. Молись богу!
Гулкий толчок выстрела заключил мои слова. Сверкнула бледная нежная полоска, пуля, шушукнув неподалеку, унеслась с заунывным свистом. Затея эта могла обойтись дорого. Я несколько протрезвился и побежал. Сзади тревожно заливался свисток часового, он дал тревогу; еще минута — и я ночевал бы в участке, избитый до полусмерти. Я убежал с чувством легкого, ненастоящего страха, тяжелой скуки и бесцельной злобы. Завернув в ближайшую улицу и вспомнив Марусю, я почувствовал, что глубоко ненавижу всех этих расколотых, раздробленных, превращенных в нервное месиво людей, делающих харакири, скулящих, ноющих и презренных.
— Тяжковиды! — шептал я, стиснув зубы. — Яд земли, радостной, веселой, мокрой, солнечно-грязной, черноземной, благоухающей! Что вы хотите, что? Легко жить надо, а не разбивать голову!
— Тяжковиды проклятые! — сосредоточенно повторил я и кликнул извозчика. И от мысли о множестве бесцельных, беспризорных существований, рассеянных по мощному лицу земли в виде уличной пыли, которую ежечасно стирает рука жизни, чтобы ярче блестели румяные щеки дорогой нам планеты, что-то соколиное сверкнуло во мне; я гордо поднял голову и утешился. «Благодарю тебя, боже, за то, что не создал меня таким, как этот мытарь», — задумчиво, серьезно сказал я, сел на извозчика и снял шляпу. Небо выяснилось, пахло смоченной дождем мостовой; над головой ясно и как-то значительно блестели кроткие звезды.
— Извозчик, — сказал я тихо и вежливо, чтобы даже эти произнесенные мною слова соответствовали торжественному моему настроению, — поезжайте в самую лучшую гостиницу в центре города.
Проезжая среди огненных шаров моста, я подумал, что я, в сущности, человек хороший и деликатный, с больной, несколько капризной волей, интересный и жуткий.
VIII
Переутомление и ряд нервных потрясений, должно быть, сделали меня временно паралитиком. Я повалился на кровать, испытал мучительное нытье всего тела и, с мгновенно закружившейся головой, исчез. Затем, проснувшись, приподнял голову — дряблая смесь электрического и дневного света показалась мне плохим сновидением; я снова исчез и проснулся с головной болью. Было темно и, как мне показалось, кто-то, уходя, поспешно притворил дверь. То был, как я узнал после, лакей, приходивший послушать, дышу я или сплю вечным сном. Наконец, я проснулся в третий раз и окончательно; мысль о сне вызвала отвращение — значит, я выспался.
На столе дрожали утренние световые зайчики. Сидя на кровати, как был — в сапогах и прочем, я тихо покачивался из стороны в сторону, прикладывал ладони к вискам, и было мне плохо. Организм тоскливо стонал, горло пересохло, во рту чувствовался такой вкус, как будто я долго жевал свинец, выплюнул и выполоскал зубы известковым раствором. На круглом мраморном столике от графина с водой сияла радужная полоска, я долго смотрел на нее, припоминая недавние свои переживания, вспомнил деньги — и ласковый холодок радости пробежал в спине, возвращая телу упругость. Я стал умываться, причесался, затем позвонил и, когда подали самовар, сказал слуге:
— Я уже заявил полиции, что у меня между последней станцией и Петербургом украли весь багаж. Вот, милейший, двести рублей: отправляйтесь, куда следует, купите мне пару хороших поместительных чемоданов, пикейное и теплое одеяло, дюжину простынь, дюжину наволочек, две подушки и дюжину пар белья. Сдачу возьмите себе.
Но от него отделаться так скоро было нельзя. Он хотел знать в точности размер, цвет и качество. Наконец, поклонился, едва не сломав себе спину, посмотрел на меня взглядом парализованного и, пятясь, скрылся. Я сел к столу, чрезвычайно довольный собой, задумался, не заметив, как перестал петь и остыл самовар, с жадностью выпил несколько стаканов теплого чаю, затем долго стоял у окна с благодарным лицом, предвкушая наслаждение считать деньги. Пересчитав их, уютно рассовал по карманам, согрев ими душу, надел шляпу и отправился за покупками.
Часа три я слонялся по магазинам, удивляя приказчиков робким тоном вопросов и несоответствующим ему швырянием деньгами. Я брал сдачу, не считая, демонстративно комкал бумажки, опуская их в наружный карман пиджака, и вообще вел себя ничуть не лучше заправского вора, которому повезло. День был пекуче жарок; обливаясь потом, я тащил от дверей к дверям толстые свертки, страдая и наслаждаясь. Я купил два костюма — синий и серый, два пальто, золотые часы, калейдоскоп галстуков, массу белья, три котелка, английскую шляпу, кольцо с брильянтом, настоящую панаму, желтые, зеленые и черные ботинки, усовершенствованный самолов для рыбы, тросточку с серебряной ручкой, кавказские туфли и гетры, кашне. Не понимаю, как я донес это до ближайшего угла, где стояли посыльные: вручив им свой адрес и свое имущество, я, мокрый с головы до ног, пошел медленно, расслабленный и довольный…
Вид почтового ящика заставил меня сунуть руку с карман брюк, покраснеть, вытащить измятое письмо к Жене и опустить его. Глаза мои были, вероятно, растроганные и грустные, жгучее раскаяние сопровождало меня до первой встречной молодой женщины. Увидев, что она недурна, я подумал:
«На свете много женщин».
Я начал снова думать о Жене, о странной своей судьбе, о том, что Женя приедет и мы будем счастливы, но скоро заметил, что эти мысли оставляют меня равнодушным к далекой девушке, и отдался полусознательным, беглым размышлениям. Все, о чем я ни думал, казалось мне безразличным. Вспомнив бросившуюся из окна Марию Игнатьевну, я ощутил нечто вроде болезненного сотрясения, а затем хладнокровно восстановил памятью всю эту сцену, пожал плечами, приказал самому себе держать язык за зубами и завернул в прохладу кафе.
IX
В течение следующих пяти дней не произошло ничего особенного. Я жил в гостинице, бегал по ресторанам, садам, трактирам, дух беспокойной тоски швырял меня из одного конца города в другой, я силился не уснуть в музеях, уходя из них с головой, раздутой до чудовищных размеров всякого рода изображениями; пил чай у знакомых (все упомянутые ранее лица стали моими знакомыми), ездил в клуб, но лукаво отходил прочь, когда непритворенная дверь карточной дымилась силуэтами игроков, пьянствовал с певичками и, вообще, жил. Скука одолевала меня. Я болел душой о яркой, полной и красивой жизни. От скуки я заговаривал с городовыми, посещал грязные чайные. Я вел длинные разговоры о семейных делах продавщиц кваса в кинематографах, говорил о боге среди извозчиков в воровском притоне; пережил ночные романы в подвальных логовищах. От Жени я получил три письма с обещаниями приехать к началу учебного года на курсы; первое вызвало у меня припадок страсти и нежности, содержание второго забыл, а в третьем нашел четыре орфографические ошибки: Все более начинало казаться мне, что я живу в дрянном преддверии настоящей жизненной музыки, бросающей в дрожь и огненный холод, что меня ждут нетерпеливо страны алмазной красоты, буйного ликования и щедрот. Я стал чрезвычайно подвижным, нервным и беззастенчивым.
Время от времени, сосредоточиваясь на своем положении, я пугался, покупал заграничные путеводители и расписания поездов, собираясь в дорогу, подозревал в каждом человеке шпиона, а затем, под влиянием случайной встречи или просто хорошего настроения, плевал на все и успокаивался. Гораздо более озабочивало меня незавидное мое положение — положение человека, хапнувшего тысчонки. Гордый и самолюбивый, я мечтал быть победителем жизни, но, не обладая никакими специальными знаниями, естественно, стремился открыть в себе какой-нибудь потрясающий, капитальный талант; издавна меня привлекала литература, к тому же, сталкиваясь почти каждый день с журналистами и поэтами, я воспитал в себе змеиную зависть.
Результатом этих мозговых судорог было однажды то, что я нарезал пачку небольших квадратных листов, на каких, как где-то читал, писал Бальзак, вставил перо и сел. В голове носились гоголевские хутора, обсыпанные белой мучкой лунного света; героини с тонкой талией, классические герои, охота на слонов, павильоны арабских сказок, шекспировская корзина с бельем, провалившиеся рты тургеневских стариков, кой-что из Гонкуров, квадратная челюсть Золя. Понемногу я сочинил сюжет на тему прекрасных жизненных достижений, преимущественно любви, вывел заглавие — «Голубой меч» — и остановился. Тысячи фраз осаждали голову. «И не оттого, что… и не потому… а оттого… и потому…» слышались мне толковые удары по голове толстовской дубинки. Чудесная, как художественная, литая бронза, презрительная речь поэта обожгла меня ритмическими созвучиями. Брызнула огненная струя Гюго; интимная, улыбающаяся, чистая и сильная, как рука рыцаря, фраза Мопассана; взъерошенная — Достоевского; величественная — Тургенева; певучая — Флобера; задыхающаяся — Успенского; мудрая и скупая — Киплинга… Хор множества голосов наполнил меня унынием и тревогой. Я тоже хотел говорить своим языком. Я обдумал несколько фраз, ломая им руки и ноги, чтобы уж, во всяком случае, не подражать никому.
Переменив несколько раз сюжеты, я сильно устал и бросил. На следующий день мне понравилось заглавие «Рубин в пустыне». Я сел к столу и стал придумывать фабулу, но, побившись, не мог ничего придумать, кроме умирающей от чахотки женщины. Она потеряла рубин, и герой отправляется разыскивать его. Все это возмутило меня; утомленный, апатичный, я вышел из накуренного помещения и отправился гулять, размышляя о способах наискорейшего написания романа страниц в пятьсот. Но в этот же день произошло событие, заставившее меня забыть о литературной славе; в этот роковой день я, как ручей, вышел из берегов рассудка, был несколько минут нежным тигром, тяжело страдал и любил. Да, я первый раз в жизни любил по-настоящему — умом и телом.
Все это сложно, необыкновенно и требует тщательного рассказа. Мне многие не поверят, но я знаю, что будь у человечества хоть немного нахальства — на каждом шагу происходили бы занятнейшие истории, так как каждый хочет быть героем таких историй, — героем и рассказчиком.
Все началось с того, что мне понравился в окне табачного магазина мундштук. Недолго думая, я зашел, купил эту вещицу и хотел выйти, но продавец задержал меня, рекомендуя новый табак. Надо заметить, что дверь этого маленького, узкого магазинчика выходила на нижнюю площадку общей домовой лестницы, так что покупатель, не отходя от прилавка, мог видеть всех проходящих в дом или на улицу. Пока я отнекивался, хлопнула наружная дверь, и сквозь стекло я поймал беглым взглядом два мелькнувших лица — мужчины и женщины. Они вошли с улицы; фигура и лицо женщины врезались, как печать, в мою память; бросив табак на пол, потому что получил нечто вроде электрического сотрясения, я выскочил на площадку лестницы, остановился и стал смотреть. Сквозь лестницу, во всю вышину дома, торчал светлый пролет. Подымавшиеся не видели меня; рука дамы, маленькая, невинно-белая, скользила по лакированным перилам над моей головой.
Я изобразил статую изумления, священного ужаса. Господин, правда, был недурен: смуглое, иностранного типа лицо его отличалось смелым, смеющимся выражением; широкоплечий, стройный, с беззаботными движениями, он был изящно, но небрежно одет — и я его ненавидел. Женщина шла на ступеньку или две впереди. Ах! Она была сказочно хороша. Ее лицо умертвляло желание смотреть на других женщин. Я чувствовал себя так, как будто всю жизнь, от пеленок, не переставая, рыдал, а теперь, восхищенный, смолк, чуть-чуть всхлипывая, и высохли слезы, и блаженная улыбка просится на лицо.
— Поразительная красавица! — пробормотал я. Сильное волнение помешало мне запомнить мелочи ее туалета и фигуры; сверкнуло дивное благородство профиля, темный огонь глаз; казалось, от присутствия ее согрелся весь дом, и воздух наполнился веянием женской нежности.
Они подымались не быстро и не тихо, и я, с заболевшей шеей, задрав голову, смотрел снизу. Господин шагнул несколько быстрее, взял даму за руку и хотел, видимо, поцеловать пальцы, но она вырвалась, в три-четыре прыжка достигла площадки третьего этажа и рассмеялась, а он побежал к ней. Слушая смех, я страдал, я был болен от этих милых, заразительных, музыкальных звуков, как будто женщина подняла обе руки, полные звонких драгоценностей, и бросила их, и звеня, прыгая со ступеньки на ступеньку, достигли они меня, — такой был смех. Господин ступил на площадку, смеясь, протянул к ней руки, а она, ласково извернувшись, скользнула мимо него выше, а он за ней, она все быстрее — и вот оба, задыхаясь, зашумели по лестнице над моей головой; струясь, шелестел шелк, белая с серым шляпка птицей взвилась на шестом этаже; господин нагнал женщину, когда некуда уже было больше бежать, обнял, прижал к себе, а она, утомленная, перегнувшись спиной через перила, счастливо смеясь, стихла. Он приник к ее губам долгим поцелуем, их головы висели надо мной, может быть пять секунд: для них это была вечность.
Я вышел; вдогонку мне щелкнула далеко вверху дверная задвижка. Выразительная любовная игра, свидетелем которой я был, сделала меня сладко помешанным. Я любил эту женщину. Страна страстного очарования, издеваясь, показала мне мгновенный свой ослепительный свет.
— Радостный яд любви! Торжество упоения! — сказал я, отуманенный, содрогающийся, с пересохшим ртом.
Неиссякаемый образ женщины плыл передо мной среди равнодушных прохожих; косой, в тенях вечера, пыльный свет солнца утомительно жег лицо.
— Ну, что же, теперь все равно, — сказал я, замедляя шаги; не было сил уйти от таинственно чудесного дома, покрытого вывесками. «Пилюли слабительные Фузика» — прочел я кровавые аршинные буквы. Сразу же, в состоянии, близком к горячечному, стал я обдумывать способы проникнуть в рай. Ничто не казалось мне достаточно дерзким или предосудительным.
Вне времени и пространства, повинуясь первым движениям мысли, вошел я в ювелирный магазин. План мой был гениален и прост. Я был уверен, что посредством его сумею остаться наедине с ней, а там — что будет. Я предвкушал долгие взгляды, от которых бледнеют и загораются. Взволнованный томительными сладкими предчувствиями, я потребовал алмазные серьги и взял первые попавшиеся. Денег у меня к тому времени оставалось около шести тысяч. Было немного обидно выбросить за пару стекол пятьсот пятьдесят рублей, но я сделал это, сунул футляр в карман и вышел на улицу.
Дыша глубоко и часто, чтобы хоть немного утишить биение сердца, предвкушая приятные, острые, необыкновенные переживания, я перешел на другую сторону тротуара и стал следить за подъездом, рассчитывая, что господин с иностранным лицом рано или поздно должен выйти из дома. Стемнело, засветились электрические узоры кинематографов, вечерняя суета улицы, теряя деловой вид, показывала медленно гуляющих франтов, кокоток и генералов. Стреляя, как митральезы, пролетали автомобили, украшенные грандиозными шляпками. Ноги мои болели, я методично прохаживался, тоскуя и представляя будущее. Вопрос — кто эта женщина? — не давал покоя. Жена, артистка, куртизанка, девушка, вдова? — на каждый я отвечал утвердительно. Лет пять назад я слышал рассказ одного моего знакомого, как, путешествуя по берегу моря, он захотел пить. Сумасшедшая жара калила песок, слева горела степь, кричали тарбаганы и суслики, расплавленное море лежало у его ног. Ближайший рыбный промысел, где этот человек мог напиться, лежал не ближе двадцати верст. Человек шел тихо, стараясь не утомляться, но быстро выпотел, ослабел — и жажда постепенно превратилась в ощущение глыбы соли, разъедающей внутренности нестерпимой болью. Он пошел быстрее, затем побежал, теряя сознание. У ног его тихо плескалась вода. Он продолжал бежать. Это была вечность нечеловеческого страдания. Завидев низкие крыши промыслов, он пулей промчался сквозь кучку рабочих, испуганных его тусклыми от бешенства глазами, повалился на край бочки с водой и пил. Затем с ним произошел обморок.
Похоже на это чувствовал себя я. Возможные последствия моей решимости казались мне не стоящей внимания чепухой. Прильнув глазами к подъезду, я, наконец, вздохнул глубоким, как сон, вздохом и пересек мостовую. Он вышел, я видел, как он сел на извозчика, купил у подбежавшего мальчишки газету и, теряясь в разорванной цепи экипажей, скрылся. Тогда я, замирая и холодея, прошел в подъезд, а когда ступил на площадку шестого этажа, соображение, что я не знаю, в которой из квартир живет богиня, на мгновение остановило меня; затем я увидел, что на каждой площадке находится только одна дверь, и успокоился.
Самое трудное для меня было позвонить: я знал, что как только сделаю это — прекратится трусливое волнение, сменившись напряженной осмотрительностью, стиснутыми зубами и хладнокровием.
Так это и было. Я позвонил; далеко, чуть слышно прозвенел колокольчик; звук его казался чудесным, необыкновенным. Мне открыли; я вошел и первое время не в состоянии был заговорить, но, сделав усилие, поклонился высокой, в переднике с кармашками, горничной и приступил к делу.
В передней, где я стоял, было почти темно; блестело темное зеркало, откуда-то, вероятно, из коридора, тянулась игла света, падая на кружевное манто.
— Вам что? — вертясь по привычке, спросила горничная.
— Серьги госпоже из магазина Дроздова, — сказал я, держа руки по швам, — расписочку пожалуйте.
— Я скажу, обождите.
Она внимательно осмотрела меня и остановилась, подошла к дверям и исчезла, а я, машинально тиская вспотевшей ладонью футлярчик, тяжело дышал. Виски болели от напряжения, было душно и страшно. В голове носились отрывочные, подходящие к делу слова: «Красавица… объятия… поцелуи твои… у ног…» Я переступал с ноги на ногу, входя в роль, хотя через несколько минут приказчик должен исчезнуть, уступая место влюбленному. Горничная вернулась, бойко щелкая каблучками.
— Идите сюда, барыня на балконе…
Я нервно хихикнул. Девушка посмотрела на меня с изумлением, и я сказал:
— Чудесно! Квартирочка у вас замечательна!
Промолчав, она быстро пошла вперед, а я, невольно расшаркиваясь на скользком паркете, семенил сзади. Меня словно вели на виселицу. Я смутно замечал в сумерках просторных высоких комнат отдельные предметы; дремлющая в полутьме роскошь дышала чужой, таинственно налаженной жизнью. Мы, как духи, скользили по анфиладе четырех или пяти комнат; по мере приближения к цели вокруг становилось светлее, в последней — круглом небольшом зале — меня окружил грустный свет вечера, падавший из растворенной настежь двери, за ними вытянулся к разбросанным внизу крышам полукруглый балкон. Там было нечто восхитительное и неясное. Вокруг меня, по стенам и у потолка, что-то сверкало, висело; на полу все нежное, круглое, цветное; картины меж окон; к потолку тянулись выхоленные тропические растения. Золоченые решетки у ленивых креслиц, коврики и меха, улыбки темных статуэток — все я забыл, ступив на порог последней, неземной двери.
Она сидела в качалке, склонив голову вперед и чуть-чуть на бок, ее детские, тонкие руки в разрезах сиреневой материи поглаживали гнутый бамбук сиденья. Я видел, что шея ее открыта; у меня перехватило дыхание; слабый и близкий к обмороку, я усиленно раскланялся, овладел собой и проговорил:
— Извините, господин Дроздов, мой хозяин, поручил доставить брильянты.
— От кого? Какие брильянты? — спросила убивающая меня своим существованием женщина. — Скажите, от кого?
Изгрызанный страстью, я понял, что это важный момент. Я ненавидел горничную, сонно дышавшую за моим плечом, ей следовало удалиться.
— Тайна, — глухо сказал я и посмотрел многозначительно. Мой тоскующий, полный просьбы взгляд скрестился с ее взглядом; маленькие, тонкие брови медленно поднялись, все лицо стало замкнутым и рассеянным. Она испытующе смотрела на меня.
Я сказал:
— Тайна.
Затем приложил палец к губам, кашлянул и опустил глаза.
— Катерина, — сказала женщина, — посмотрите, не звонят ли с парадного.
Я повернулся к горничной и посмотрел на нее в упор. Она вышла, смерив меня с головы до ног великолепным взглядом служанки, разъяренной, но обязанной слушаться.
— Говорите, что это значит? — осторожно, тем тоном, от которого так легок переход к выражениям удовольствия или гнева, произнесла она.
Медленно, вспотев от стыда и страха, я стал на колени, продолжая нервно улыбаться. Я увидел край нижней юбки и пару несоразмерно больших глаз. Я слышал стук своего сердца; он напоминал швейную машину в полном ходу.
— Я действительно принес серьги, — сказал я, возбуждаясь по мере того, как говорил, — но это, я должен сказать, уловка. Я торжественно, свято, безумно люблю вас. Я не знаю вашего имени, я видел вас три часа тому назад на улице — и моя жизнь в ваших руках. Делайте со мной, что угодно.
Я видел, что она побледнела и хочет вскочить. Вместе с тем, высказав самое главное, я почувствовал, что мне легче; я мог действовать более развязно и умоляюще протянул руку.
— Несравненная, — сказал я, — мне тяжело видеть испуг на вашем божественном лице. Я уйду, если хотите, но не относитесь ко мне, как к уличному нахалу. Я не мог поступить иначе.
— Тайна! — воскликнула она, едва переводя дыхание и вставая. Я тоже встал. — Нечего сказать, тайна! — Какая-то мысль, вероятно, смутила ее, потому что она вдруг покраснела и неловко пожала плечами. — Кто вы такой?
— Гинч, — покорно ответил я. — Я из хорошей фамилии. Могу вас уверить, что…
— Нет, — сказала она, прислонившись к решетке и глядя на меня так, как если бы прямо ей в лицо летела птица. — Нет, вы меня решительно испугали. Как вы смели?
— Выслушайте, — подхватил я, инстинктом чувствуя, что паузы могут быть гибельными. Руки я держал перед собой, сложив их наполовину молитвенным, наполовину скромным жестом, а говорил сдавленным, хватающим за душу голосом. — Я презираю бедную жизнь мою, она заставляет ненавидеть людей и землю. Я жажду глубоких страданий, вздрагивающего от смеха счастья, хочу дышать полной грудью. Я увидел вас и затрясся. Вы наполняете меня, я задыхаюсь от вашего присутствия.
Я стиснул пальцы сложенных рук так сильно, что они хрустнули. Она, сдвинув брови, подошла к столику, взяла крошечную папироску и поднесла к губам, тут я нашелся. Выхватив из кармана дрожащей рукой десятирублевый билет, я чиркнул спичкой, зажег ассигнацию и поднес красавице. Искоса взглянув на меня и не торопясь, хотя обгоревшая бумага начинала палить пальцы, она закурила, тотчас же пустив из пленительно оттопыренных губок облачко дыма, опустила глаза и произнесла:
— Я успокоилась. До свиданья.
Я застонал и шагнул вперед; она отскочила в сторону, лениво протянув руку к львиной голове с кнопкой.
— Вы жестоки! — мстительно прошептал я. — За что? Я раб ваш.
— Я не могу любить каждого, — нетерпеливо и быстро сказало прекрасное чудовище, — каждого, который придет с улицы, и, наконец, вы мне неприятны. Затем — я несвободна. Уйдите с воспоминанием, что я осталась к вам добра и не приняла мер против вашего вторжения.
— Я богат, — грубо сказал я. — Вот брильянты.
Встав между ней и звонком, я хлопнул футляром о столик. Мне хотелось броситься на это двигающееся, живое, красивое тело.
— Вы забываетесь, — бледнея от испуга и гнева, сказала она, — уходите сию минуту! Вон!
Футляр полетел мне в лицо и рассек бровь. Я невольно отступил; оскорбленный, я почувствовал желание задеть и унизить ее, смешать с грязью. Я сказал, наслаждаясь:
— Врете вы. Врете. Вам лестно, что приходит человек именно с улицы, потеряв голову. Вы такая же, как и все. Вы лжете перед собой, боитесь своего любовника. Возьмите меня!
— Ради бога… — сказала она, с усилием поднимая руку к лицу и роняя папироску. — Вы…
Не договорив, она неловко села в качалку боком и запрокинула голову.
Испуганный, я тихо подошел к ней; она, плотно сжав губы и закрыв глаза, осталась недвижимой. Это был обморок. С минуту я стоял, полный тревоги, думая о стакане воды, о докторе, о том, что лучше всего уйти; а затем, похолодев, наклонился и поцеловал влажные губы с воровским чувством случайной власти; готовый на все, я приподнял красавицу, прижимая ее грудью к своей груди, и тотчас выпустил, почти бросил: сзади послышались быстрые шаги, кто-то шел к нам, рассеянно напевая из «Жосселена».
«Херувимы-ы хранят… те-е-бя-я!»Я отскочил, заметался, глаза мои неудержимо, бессознательно отыскивали, где скрыться. В дверях мелькнул силуэт идущего — и секунду спустя мы стояли лицом к лицу: он и я.
Он посмотрел на меня, на женщину, бросился к ней, приподнял ее голову и, тотчас же вернувшись ко мне, загородил дорогу. Было жутко и тихо.
— Гинч, — с фальшивой твердостью сказал я, — позвольте представиться. — Мне казалось, что я растворяюсь в атмосфере грозного ожидания, распыляюсь, превращаюсь в бестелесный контур. Было мгновение, когда мне хотелось закрыть голову руками и согнуться; сзади раздался слабый крик.
Насилу оторвав глаза от моего страдальческого в этот момент лица, он подошел к качалке; я видел, как женские руки легли ему на плечи, и почти разобрал несколько быстро сказанных вполголоса слов, но тотчас парализованное сознание потеряло их смысл; по всей вероятности, она объясняла, в чем дело. Мне хотелось бежать, но я был не в силах пошевелиться, я растерялся. Он снова подошел ко мне, верхняя губа его приподнялась, обнажив зубы; гневно хмыкнув, он качнулся вперед и дал мне пощечину. Это был умелый, хлесткий удар: голова как будто оторвалась, а затем, обваренная, возвратилась на свое место. Захрипев от стыда и боли, я кинулся, не видя ничего, вперед, получил еще два удара и, нелепо размахивая руками, полетел к выходу.
Стулья цеплялись за меня, острый удар в голову дал мне на один момент потерянную решимость; сжав кулаки, я обернулся и увидел занесенную надо мной палку и искаженное преследованием лицо с черными усиками; посыпался град ударов; я защищался, как мог, но, прижатый в угол, с разбитыми руками, не мог ничего сделать. Он бил меня, как хотел; мы оба молчали; наконец, заплакав навзрыд и взвизгивая, я вырвался от него, прошел, дрожа от слабости, в переднюю, сразу же нашел шляпу и вышел, унося памятью какие-то испуганные лица, глядевшие на меня в передней.
X
Описать всепожирающее чувство стыда, сумасшедшей ненависти и полного внутреннего разорения я бессилен. Я напоминал раздавленную колесом собаку, объеденный саранчой сад. Это было ощущение совершенной потери жизни, тупое, безразличное всхлипывание, смесь мрака и подлости. Выйдя на улицу, я закружился, не помня — куда идти; я принимал одно за другим сотни отчаянных решений, и такова была сила моего озлобления, что представление о способе мести давало мне некоторое насыщение. Я быстро свернул в боковые улицы, прикрывая руками пылающее лицо; прежде всего следовало купить револьвер, вернуться и убить. Остановившись на этом, последовательно дойдя воображением до каторги и виселицы, я несколько охладел к убийству и вспомнил о дуэли. В глазах моих она равнялась проявлению бессмысленного атавизма, варварству. Ничто не могло изгладить побоев; хорошо — я убью его, но, умирая, он посмотрит на меня с торжеством. «Я бил тебя», — скажут его потухающие глаза. Это не годилось. Благополучно выскочив из-под трамвайного вагона, едва не перерезавшего меня пополам, я быстро составил план западни для женщины, которую только что насильно поцеловал, и решил отомстить ей. Это было бы для него больнее. Как? То, что мне представилось в ответ на этот вопрос, — достаточно мрачно.
Быстрая ходьба вернула мне то ненормальное состояние унылого равновесия, которое называют висельным. Я осмотрел руки — они были покрыты ноющими ссадинами и опухолями; к глазу было больно притронуться; спина не болела, но по ней разливалась особенно неприятная теплота. Проходя мимо какого-то универсального магазина с сотнями блестящих предметов за освещенными электричеством окнами, я понял, что наступил вечер. Я думал беспорядочно и зло о жизни; она вдруг представилась мне в новом, хихикающем и подмигивающем виде; она была омерзительна. Я чувствовал глубокое отвращение к женщинам, земле, людям, самому себе, мостовой, по которой шел, к разгорающимся в темноте огонькам папирос. Город был как будто весь облит сероводородом, замазан грязью, населен идиотами. «Я не хочу этого, — твердил я, десятый раз переживая мелочи своего унижения. — Это не жизнь, а пытка; я всегда страдал, томился, грустил, я не жил, где конец этому?» Смерть, умереть сгоряча, сразу, пока кажется немыслимым жить. «Смерть», — повторил я, прислушиваясь к этому пустому, как скелет, слову; это было безносое, выеденное, таинственное соединение букв, обещавших успокоение.
Я осмотрелся; незаметно, в горячке стыда и ярости, я прошел половину города; передо мной уходил к небу синий туман Невы; чернели судовые мачты; холодные отражения огней разбивались в светлую чешую волнением от быстро снующих пароходиков. Пахло свежей рыбой и сыростью. Я ступил на печальную дугу моста, лелея темные мысли, развивая и укрепляя их. Я думал, что все бесцельно и скоропреходяще, что слава, любовь, радость и горе кончаются в гробу, что миром правят черт и растительная клеточка.
Остановившись над серединой реки, я посмотрел вниз. Там невидимо текла глубокая холодная вода — и мне захотелось погрузиться в равнодушную нежность ее и тайно приобщиться к величавому покою чистой материи. Я чувствовал себя в душной, накуренной комнате подошедшим к бьющей в лицо холодной форточке; в черном кружке ее горела маленькая звезда — смерть.
— Умирать, так умирать! — сказал я и, поняв, что решился, был удивлен искренно: это оказалось простым. Механическое представление о прыжке, коротком ощущении сырости и тьме. — Женя! — сказал я, — я ведь тебя люблю. Ей-богу.
Затем, вспомнив, что самоубийцы в критический момент видят ряд картин золотого детства, я попытался воскресить памятью что-либо значительное и светлое, а в голову мне назойливо лезло воспоминание о том, как я однажды прищемил кошке хвост и как меня за это били скалкой по голове.
Я перегнулся через перила, повиснув на них, как мешок, от страха и слабости; озяб, наклонил голову, повалился в пространство, пронзительно закричал, исступленно желая, чтобы меня вытащили, звонко ушел в воду и задохнулся.
Не знаю — прежде, сейчас, или это еще случится, — у меня осталось смутное ощущение водяных, влекущих в неизвестное вихрей, словно все тело вбирает и высасывает большой рот, полный холодной жидкости.
— Встань! Держись за стол! Ну, не падай! Да ну же, черт!
Сильная рука, стискивая мне плечо, качалась вместе со мной. Я чувствовал тоску, слабость и заплакал.
Чувствуя, что все кружится, я повалился навзничь; было тепло и мягко.
Я долго не открывал глаз; вероятно, я спал; как бы то ни было, приподняв веки, я почувствовал себя значительно лучше. Помещение, где я был, имело странный для меня вид; удивившись и рассмотрев окружающее, я стал припоминать случившееся, вспомнил — и весь затрясся от ужаса. Я был жив.
У длинного стола, примыкающего одним концом к деревянному столбу, сидел, положив голову на руки и пристально следя за мной, человек в затасканном матросском костюме, рыжий, как пламя, с блестящими глазами и белым лицом. Я сел; кругом по стенам тянулись в два яруса штук десять матросских коек; невдалеке круто уходил вверх, к люку, узкий трап. Железный фонарь, покачиваясь над головой матроса, бросал вокруг унылый, лижущий свет. В полукруглое отверстие люка, прикрытого чем-то вроде суфлерской будки, чернела в синей тьме неба пароходная труба. Матрос встал.
— Где я?
Мой голос был слаб и робок. Человек подошел вплотную, потрепал зачем-то мои уши и невесело улыбнулся. Казалось, мое спасение не доставляло ему ни малейшего удовольствия: зевнув, он сел против койки на скамью, вытянул ноги и забарабанил по коленкам мохнатыми пальцами.
— Где вы? — сказал, наконец, он. — Хотел бы я знать, где были бы вы теперь, если бы не были здесь. Я выловил вас ведром и кошкой. Но вы тяжеленьки: право, я думал, что тащу рождественскую свинью. Вот выслушайте — я сидел на баке, в полнейшем одиночестве. Наши гуляют; в машинной команде дрыхнет один кочегар, это верно, но он дрыхнет. Увидев труп, то есть вас, я опустил на шкоте ведро — первое, что попало под руку; вы очень быстро неслись по течению и надо было уменьшить ход. Ведро поймало вас поперек туловища; тогда, привязав веревку, я сбегал за кошкой и разорвал вам костюм, но в результате все-таки вытащил. Интересно вы висели над водой, когда я вас вытаскивал, — как рак: ноги и усы вниз, ей-богу! Поддержитесь!
Опустив руку под стол, он вытащил откуда-то бутылку водки и ткнул ею меня прямо в лицо. Я отпил с чайный стакан, задохнулся и разгорелся. Драгоценная жизнь забушевала во мне; рассыпавшись в выражениях самой горячей признательности и долго, усиленно всматриваясь в простое лицо этого славного малого, я взял в обе руки его волосатую клешню и прослезился. Он посмотрел на меня сбоку, встал, исчез где-то в углу и возвратился с суконными брюками, парусиновой блузой и башмаками. Все это было в одной его руке, а другой он держал закуску: тарелку с яйцами и рыбой.
— Мордашка, — сказал он, нахлобучивая мне на голову скверный картуз, — надень все это; потом мы выпьем и выслушаем твою историю. Влюблен был, а?
Из ящика, где мельком я увидел сверток полосатых фуфаек, горсть раковин и трубку, он извлек еще две бутылки. Водка, по-видимому, составляла в его обиходе нечто нужное и естественное, как, например, воздух или здоровье.
— Люблю моряков! — воскликнул я. — Бравый они народ!
— Твоя очередь! — сказал он, чокаясь со мной круглой жестяной посудиной. — Я этих рюмок не признаю.
Растроганный еще более, я полез целоваться. Мое положение казалось мне дьявольски интересным; я сдвинул картуз на бок и расставил локти, подражая спасителю.
Он говорил благодушно и веско; через полчаса я жестко жалел его, так как оказалось, что у него в Сингапуре возлюбленная, но он не может никак к ней попасть, высаживаясь в разных портах по случаю ссор и драк; большую роль играло также демонстративное неповиновение начальству; таким образом, попадая на суда разных колоний (с места последней высадки), он кружился по земному шару, тратясь на марки и телеграммы к предмету своей души. Это продолжалось пять лет и было, по-видимому, хроническим состоянием его любви.
— Монсиньор! — сказал он мне, держа руку на левой стороне груди. — Я люблю ее. Она, понимаете ли, где-то там, в тумане. Но миг соединения настанет.
Я выпил еще и стал рассказывать о себе. Мне хотелось поразить грубого человека кружевной тонкостью своих переживаний, острой впечатлительностью моего существа, глубоким раздражением мелочей, отравляющих мысль и душу, роковым сплетением обстоятельств, красотой и одухотворенностью самых будничных испытаний. Я рассказал ему все, все, как на исповеди, хорошим литературным слогом.
Он молча слушал меня, подперев щеку ладонью, и, сверкая глазами, сказал: — Почему вы не утонули? — затем встал, ударил кулаком по столу, поклялся, что застрелит меня, как паршивую собаку (его собственное выражение), и отправился за револьвером.
Сначала я ничего не понял; затем, видя, что этот страшный, неизвестно почему ощетинившийся человек деятельно роется в ящике, я, изумленный до испуга, бросился вон. Выскакивая на палубу, я услышал, что подо мной внизу изо всех сил бьют молотком по дереву: пьяное чудовище стреляло по моим ногам, превращая таким образом акт милосердия в дело бесчеловечной травли.
* * *
На этом рукопись Лебедева и оканчивалась. Из устных с ним разговоров я узнал потом, что, прожив остальные деньги, он пережил все-таки в заключение страшную и яркую фантасмагорию.
Дело было неподалеку от дач, в лесу. Золотистый лесной день видел начало пикника, в котором, кроме Лебедева, участвовали доступные женщины, купеческие сынки и литературные люди в манишках. Загородная оргия с кэк-уоками, эротическими сценами и покаянными слезами окончилась к ночи. Все разбрелись, а Лебедев, или, как он стал сам называть себя, Гинч, в темном состоянии мозга заполз в кусты, где проснулся на другой день самым ранним утром, к восходу солнца.
Сонные видения мешались с действительностью. Он лежал на обрыве, край которого утопал в светлом утреннем тумане; вокруг свешивалась зелень ветвей, перед глазами качались травы и лесные цветы. Гинч смотрел на все это и думал о девственной земле ледниковой эпохи. «Первобытный пейзаж», — пришло ему в голову. Думая, что грезит, он закрыл глаза, боясь проснуться, и снова открыл их. На обрыве, чернея фантастическими контурами, шевелилось что-то живое, напоминающее одушевленное огородное чучело. У этого существа были длинные волосы; кряжистое, тяжеловесное, оно передвигалось, припадая к земле, а выпрямляясь, — пересекало небо; тень урода ползла к лесу.
Выкатилось петербургское солнце, заиграло в траве. Гинч думал о чудовище, рождающемся из недр земли; первобытным человеком казалось оно ему, девственным произведением щедрой земли. Наконец, Гинч проснулся совсем, встал, озяб и узнал окрестность. Невдалеке желтели дачные домики.
Чудовище подошло ближе. Это был безногий, с зверским лицом, калека-нищий, изодранный, голобрюхий и грязный.
— На сотку благословите, барин, — сказало отрепье. Гинч порылся в карманах — там было всего две копейки: он отдал их и побрел к станции.
Гинч заходил ко мне все реже и реже; ему, видимо, не нравились мои расспросы о некоторых подробностях. Однажды он сообщил, что приезжала Женя и что они разошлись. Я хмыкнул, но ничего не сказал.
Затем он исчез; слился с болотным туманом дымных и суетливых улиц.
Трагедия плоскогорья Суан
Кто из вас приклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего.
(Исаия, 42, 23)I
Честь имею представить
В полной темноте комнаты чиркнула спичка. Свет бросился от стены к стене, ударился в мрак ночных окон и разостлал тени под неуклюжей старинной мебелью.
Человек, спавший на диване, но разбуженный теперь среди ночи нетерпеливым толчком вошедшего, сел, оглаживая рукой заспанное лицо. Остаток сна боролся в нем с внезапной тревогой. Через мгновение он, вскочив на ноги, босиком, в нижнем белье, стоял перед посетителем.
Вошедший не снял шляпы; свечка, которую он едва разыскал среди разных инструментов и книг, загромождавших большой стол, плохо освещала его фигуру в просторном, застегнутом на все пуговицы пальто; приподнятый воротник открывал между собой и нахлобученными полями шляпы полоску черных волос; лицо, укутанное снизу до рта темным шарфом, казалось нарисованным углем на пожелтевшей бумаге. Вошедший смотрел вниз, сжимая и разжимая губы; тот, кто проснулся, спросил:
— Все ли благополучно, Хейль?
— Нет, но не вздрагивайте. У меня простужено горло; ухо…
Два человека нагнулись одновременно друг к другу. Они могли бы говорить громко, но укоренившаяся привычка заставляла произносить слова шепотом. Хозяин комнаты время от времени кивал головой; Хейль говорил быстро, не вынимая рук из карманов; по тону его можно было судить, что он настойчиво убеждает.
Шепот, похожий на унылый шелест ночной аллеи, затих одновременно с появлением на лице Хейля мрачной улыбки; он глубоко вздохнул, заговорив внятным, но все еще пониженным голосом:
— Он спит?
— Да.
— Разбудите же его, Фирс, только без ужасных гримас. Он человек сообразительный.
— Пройдите сюда, — сказал Фирс, шлепая босыми ногами к двери соседней комнаты. — Тем хуже для него, если он не выспался.
Он захватил свечку и ступил на порог. Свет озарил койку, полосатое одеяло и лежавшего под ним, лицом вниз, человека в вязаной шерстяной фуфайке. Левая рука спящего, оголенная до плеча, была почти сплошь грубо татуирована изображениями якорей, флагов и голых женщин в самых вызывающих положениях. Мерное, отчетливое дыхание уходило в подушку.
— Блюм, — глухо сказал Фирс, подходя к спящему и опуская на его голую руку свою, грязную от кислот. — Блюм, надо вставать.
Дыхание изменилось, стихло, но через мгновение снова наполнило тишину спокойным ритмом. Фирс сильно встряхнул руку, она откинулась, машинально почесала небритую шею, и Блюм сел.
Заспанный, щурясь от света, он пристально смотрел на разбудивших его людей, переводя взгляд с одного на другого. Это был человек средних лет, с круглой, коротко остриженной головой и жилистой шеей. Он не был толстяком, но все в нем казалось круглым, он походил на рисунок человека, умеющего чертить только кривые линии. Круглые глаза, высокие, дугообразные брови, круглый и бледный рот, круглые уши и подбородок, полные, как у женщины, руки, покатый изгиб плеч — все это имело отдаленное сходство с филином, лишенным ушных кисточек.
— Блюм, — сказал Хейль, — чтобы не терять времени, я сообщу вам в двух словах: вам надо уехать.
— Зачем? — коротко зевая, спросил Блюм. Голос у него был тонкий и невыразительный, как у глухих. Не дожидаясь ответа, он потянулся к сапогам, лежавшим возле кровати.
— Мы получили сведения, — сказал Фирс, — что с часу на час дом будет оцеплен и обстрелян — в случае сопротивления.
— Я выйду последним, — заявил Хейль после короткого молчания, во время которого Блюм пристально исподлобья смотрел на него, слегка наклонив голову. — Мне нужно отыскать некоторые депеши. У вас каплет стеарин, Фирс.
— Потому ли, — Блюм одевался с быстротой рабочего, разбуженного последним гудком, — потому ли произошло все это, что я был у сквера?
— Да, — сказал Хейль.
— Улица была пуста, Хейль.
— Полноте ребячиться. Улица видит все.
— Я не люблю ложных тревог, — ответил Блюм. — Если бы я вчера, убегая переулками, оглянулся, то, может быть, не поверил бы вам, но я не оглядывался и не знаю, видел ли меня кто-нибудь.
Хейль хрипло расхохотался.
— Я забыл принести вам газеты. Несколько искаженный, вы все же можете быть узнаны в их описаниях.
Он посмотрел на Фирса. Лицо последнего, принадлежащее к числу тех, которых мы забываем тысячами, вздрагивало от волнения.
— Торопитесь же, — вполголоса крикнул Хейль. Блюм завязывал галстук, — если вы не хотите получить второй, серого цвета и очень твердый.
— Я никогда не тороплюсь, — сказал Блюм, — даже убегая, я делаю это основательно и с полным расчетом. Вчера я убил двух. Осталась сырая, красная грязь. Как мастер — я, по крайней мере, доволен. Позвольте же мне спасаться с некоторым комфортом и без усталости, — я заслужил это.
— Вы, — сказал Хейль, — я и он.
— Да, но я не держу вас. Идите — я могу выйти без посторонней помощи.
— До вокзала. — Хейль вынул небольшое письмо. — Вы слезете в городке Суан; там, в двух милях от городской черты, вас убаюкает безопасность. На конверте написан подробный адрес и все нужные указания. Вы любите тишину.
— Давайте это письмо, — сказал Блюм. — А вы?
— Мы увидимся.
— Хорошо. Я надел шляпу.
— Фирс, — Хейль обернулся и увидал вполне одетого Фирса, заряжавшего револьвер, — Фирс, уходите; ваш поезд в другую сторону.
Более он не оборачивался, но слышал, как хлопнула выходная дверь; вздохнул и быстро опустошил ящики письменного стола, сваливая на холодную золу камина вороха писем и тощих брошюр. Прежде, чем поджечь кучу, Хейль подошел к окну, осмотрел темный провал двора; затем сунул догорающую свечку в бумажный арсенал, вспыхнувший бледными языками света, вышел и два раза повернул ключ.
На улице Блюм остановился. Звезды бледнели; вверху, сквозь черную кисею тьмы, виднелись контуры крыши и труб; холодный, сухой воздух колол щеки, умывая заспанные глаза. Блюм посмотрел на своего спутника; унылый рот Фирса внушал Блюму желание растянуть его пальцами до ушей. Он встрепенулся и зашагал быстрее. Фирс сказал:
— Вы едете?
— Да. И вы.
— Да. Возможно, что мы больше не встретимся.
— В лучшем мире, — захохотал Блюм. В смехе его звучал оскорбительный, едва уловимый оттенок. — В лучшем мире.
— Я не думаю умирать, — сухо сказал Фирс.
— Не думаете? Напрасно. Ведь вы умрете. — Он потянул носом холодный воздух и с наслаждением повторил: — Вы умрете и сгниете по всем правилам химии.
Фирс молчал. Блюм повернулся к нему, заглядывая в лицо.
— Я, может быть, уеду в другую сторону, — сказал он тоном благосклонного обещания. — Вы и пироксилин мне, — как говорят в гостиных, — «не импонируете». Свернем влево.
— Вы шутите, — сердито ответил Фирс, — как фельетонист.
— А вы дуетесь, как бегемот. Кровавые ребятишки, — громко сказал Блюм, раздражаясь и начиная говорить более, чем хотел, — в вас мало едкости. Вы не настоящая серная кислота. Я кое-что обдумал на этот счет. В вас нет прелести и возвышенности совершенства. Согласитесь, что вы бьете дряблой рукой.
— В таком случае, — объяснитесь, — хмуро сказал Фирс, — нас немного, и мы спаяны общим доверием, колебать это доверие небезопасно.
— Милые шутки, Фирс. Для того, чтобы разрушить подъезд у заслужившего вашу немилость биржевика или убить каплуна в генеральском мундире, вы тратите время, деньги и жизнь. Нежно и добродушно говорю вам: вы — идиоты. Наблюдаю: лопаются красные пузырики, чинят мостовую, хлопочут стекольщики — и снова пыль и свет, и опоганенное чиханьем солнце, и убивающие злобу цветы, и сладкая каша влюбленных, и вот — опять настроено проклятое фортепиано.
Задыхающийся полушепот Блюма оборвался на последнем слове невольным выкриком. Фирс усмехнулся.
— Я люблю жизнь, — уныло сказал он. — И я поражен, да, Блюм, вы действуете так же, как мы.
— Развлекаюсь. Я мечтаю о тех временах, Фирс, когда мать не осмелится погладить своих детей, а желающий улыбнуться предварительно напишет духовное завещание. Я хочу плюнуть на веселые рты и раздавить их подошвой, так, чтобы на внутренней стороне губ отпечатались зубы.
Рассвет обнажал землю; тихий, холодный свет превращал город в ряды незнакомых домов на странных вымерших улицах. Блюм посмотрел на Фирса так, как будто видел этого человека в первый раз, замолчал и, обогнув площадь, увидел фасад вокзала.
— Прощайте, — сказал он, не подавая руки. — Отстаньте тихонько и незаметно.
Фирс кивнул головой, и они расстались как волки, встретившиеся на скрещенном следу коз. Блюм неторопливо купил билет; физиономия его, вплоть до отхода поезда, сохраняла мирное выражение зажиточного, многосемейного человека.
Когда запели колеса и плавный стук их перешел в однообразное содрогание летящих вагонов, Блюм почувствовал облегчение человека, вырытого из-под земляного обвала. Против него сидел смуглый пассажир в костюме охотника; человек этот, докурив сигару, встал и начал смотреть в окно. У него были задумчивые глаза, он тихо насвистывал простонародную песенку и смотрел.
Стены душили Блюма. Сильное возбуждение, результат минувшей опасности, прошло, но тоскливый осадок требовал движения или рассеяния. Охотник протирал глаз, стараясь удалить соринку, попавшую из паровозной трубы, лицо его болезненно морщилось. Блюм встал.
— Позвольте мне занять у окна ваше место, — сказал он, — я не здешний, и мне хочется посмотреть окрестности.
— Что вам угодно?
— Глоток свежего воздуха.
— Вы видите, что здесь стою я.
— Да, но вы засорили глаз и смотреть все равно не можете.
— Это правда, — охотник скользнул взглядом по лицу Блюма, сел и, улыбаясь, закрыл глаза. Улыбка не относилась к Блюму, — он помнил о нем только один миг, затем мысленно опередил поезд и ушел в себя.
Блюм смотрел. Равнина, дикая и великолепная, лениво дымилась перед ним, медленно кружась под светлой глубиной неба; серый бархат теней и пестрые цветные отливы расстилались у рельс высокой помятой ветром травой с яркими венчиками. Он повернул голову, окинул круглыми замкнутыми глазами нежное лицо степи, вспомнил что-то свое, ухнувшее беззвучной темной массой к далекому горизонту, и плюнул в сияющую пустоту.
II
Деревья в цвету
У прохода колючей изгороди стоял негр с белыми волосами, белыми ресницами и белой небритой щетиной; голова его напоминала изображение головы в негативе. Босой, полуголый, в одних грязных штанах из бумажной цветной ткани, он курил трубку, смотрел старческими глазами на каменистую тропу, бегущую вверх, среди агавы и кактусов, пел и думал.
Отвесные лучи солнца плавили воздух. Пение, похожее на визг токарного резца по железу, обрывалось с каждой затяжкой, возобновляясь, когда свежий клуб дыма вылетал из сморщенных губ. Он думал, может быть, о болотах Африки, может быть, о сапогах Тинга, что валяются у входа на расстоянии двух аршин друг от друга, — их надо еще пойти и убрать, а прежде — покурить хорошенько.
Всадник, подъезжавший к изгороди, лишил негра спокойствия, песни и очередной затяжки. Крупная городская лошадь подвигалась неровной рысью; человек, сидевший на ней, подскакивал в седле более, чем принято у опытных ездоков. Негр молча снял шляпу, сверкая оскаленными зубами.
Приезжий натянул поводья, остановился и тяжело слез. Старик подошел к лошади. Блюм сказал:
— Это дом Тинга?
— Тинга, — подобострастно сказал негр, — но Тинг уехал, господин мой; он проедет через Суан. Я жду его, добрейший и превосходнейший господин. Тинг и жена Тинга.
— Все-таки возьми лошадь, — сказал Блюм. — Я буду ждать, так как я приехал по делу. А пока укажи вход.
— Я слушаю вас, великолепнейший господин; идите сюда. Тинг заедет в Суан, там жена Тинга. Он возьмет жену Тинга, и оба они приедут на одной лошади, потому что жена Тинга легкая, очень легкая жена, справедливейший и высокочтимый господин мои, он носит ее одной рукой.
— Неужели? — насмешливо произнес Блюм. — Может быть, он носит ее в кармане, старик?
— Нет, — сказал негр, уродливо хохоча и кланяясь. — Тинг кладет в карман руки. Добрый — он кладет руки в карман; сердитый — он тоже кладет руки в карман; когда спит — он не кладет руки в карман.
Блюм шел за ним в полуденных, зеленых сумерках высоких деревьев по узкой тропе, изборожденной бугристыми узлами корней; свет падал на его сапоги, не трогая лица, и пятнами кропил землю. Негр болтал, не останавливаясь, всякий вздор; слушая его, можно было подумать, что он сердечно расположен к приезжему. Но черный морщинистый рот столько же отвечал, сколько и спрашивал. На протяжении десяти сажен старик знал, что Блюма зовут Гергес, что он издалека и Тингу не родственник. Это ему не помешало снова залиться соловьем о Тинге и «жене Тинга»; слово «Тинг» падало с его языка чаще чем «Иисус» с языка монаха.
— Тинг молодой, высокий. Тинг ходит и громко свистит; тогда Ассунта кладет ему в рот самый маленький палец, и он не свистит. Тинг ездит на охоту один. Тинг никогда не поет, он говорит только: «трум-трум», но губы его закрыты. Тинг не кричит: «Ассунта», но она слышит его и говорит: «Я пришла». Он сердитый и добрый, как захочет, а гостям дает одеяло.
Имя это, похожее на звон меди, он произносил: «Тсинг». Тень кончилась, блеснул свет; прямо из сверкающих груд темной листвы забелели осыпанные душистым снегом апельсинные и персиковые деревья; глухой, томительный аромат их наполнял легкие сладким оцепенением. Полудикие дремлющие цветы пестрели в траве и никли, обожженные зноем.
Блюм осмотрелся. Невдалеке стоял дом — низкое, длинное здание с одноэтажной надстройкой и крышей из древесной коры, — дом, срубленный полстолетия назад руками переселенцев, — грубый выразительный след железных людей, избороздивших пустыню с карабином за плечами. Старик отворил дверь; затем серебряная шерсть его накрылась шляпой и оставила приезжего в одиночестве, с кучей самых отборных пожеланий отдохнуть и не скучать, и не сердиться за то, что бедный старый негр пойдет убрать лошадь.
Блюм внимательно разглядывал помещение. Земляной пол, бревенчатые стены, отполированные тряпками и годами, убранные сухими листьями, похожими на лакированные зеленые веера; низкая кровать с подушкой и меховым одеялом; большой некрашеный стол; несколько книг, исписанная бумага, соломенные занавеси двух больших окон, жесткие стулья, два ружья, повешенные над изголовьем, — все это смотрело на Блюма убедительным, прихотливым сочетанием земли с кружевной наволочкой, ружейного ствола — с печатной страницей, бревен — с туалетным зеркалом, дикости — с мыслью, грубой простоты — с присутствием женщины. Потолок, закрашенный желтой краской, казался освещенным снизу. Занавеси были спущены, и солнце боролось с ними, наполняя комнату красноватым туманом, прорезанным иглами лучей, нашедших щели.
Блюм потер руки, сел на кровать, встал, приподнял занавесь и выглянул. Каменистая почва с разбросанной по ней шерстью жестких, колючих трав круто обрывалась шагах в тридцати от дома ломаным убегающим вправо и влево контуром; на фоне голубого провала покачивались сухие стебли — граница возвышенного плато, шестисотсаженного углубления земной коры, затянутого прозрачным туманом воздуха. Всмотревшись, Блюм различил внизу кусок светлой проволоки — это была река.
Он тоскливо зевнул и опустил занавесь, подергивая плечами, как связанный. Конечно, он был свободен, но где-то разминались руки, назначенные поймать Блюма; здоров, но с веревкой на шее; спокоен — жалким суррогатом спокойствия — привычкой к ровному страху. Он сел на кровать, обдумывая будущее, и думал не фразами, а отрывками представлений, взаимно стирающих друг о друга мгновенную свою яркость. Опустив голову, он видел лишь микроскопические, красные точки, медленно ползающие в туманных сетях улиц далекого города. И эта перспектива исчезла; мерное движение точек соединилось с однообразным стуком идущего к Суану поезда; воображаемые вагоны толклись на одном месте, но с быстротой паровоза близились тревога и ужас, взмахивая темными крыльями над девственной равниной, цепенеющей в остром зное.
Беспокойный толчок сердца заставил Блюма вскочить, сделать несколько шагов и сесть снова. Дьявольские видения преследовали его. В Суане стучат копыта рослых жандармских лошадей. Тупой звук подков. Блестящие прямые сабли. Белая пыль. Красные мундиры, однообразные лица — густой солнечный лак обливает все; отряд двигается уверенной, твердой рысью, вытягивается гуськом, толпится, делится на отдельных всадников. Копыта! Блюм видел их так же близко, как свои руки; они тупо щелкали перед самым его лицом; все ближе, с выцветшей шерстью лодыжек, покрытые трещинами, копыта равнодушных пожилых лошадей.
Он встал, не имея сил одолеть страх, вытер холодный пот и застонал от ярости. Красноватый свет занавесей пылил воздух. Блюм потрясал руками, стискивая кулаки, как будто надеялся поймать предательскую тишину, смять ее, разбить в тысячи кусков с блаженным, облегчающим грохотом. Припадок утомил его; вялый, осунувшийся, опустился он на кровать Тинга с злобным намерением уснуть наперекор страху. В продолжение нескольких минут состояние тяжелой дремоты обрывалось и рассеивалось, переходя в бесплодную работу сознания; наконец густой флер окутал глаза, и Блюм уснул.
Прошел час; голова негра показывалась в дверях, скалила зубы и исчезала. Лицо Блюма, багровое от духоты, металось на измятой подушке; изредка он стонал; странные кошмары, полные благоухающей зелени, гримас, цветов с глазами птиц, света, кровяных пятен, белых, точно замороженных губ душили его, мешаясь с полусознанием действительности. Вскрикивая, он открывал глаза, тупо встречал ими красноватые сумерки и цепенел снова в удушливом забытьи, — потный, разморенный зноем и тишиной.
Солнце торопилось к закату; ветер, налетая с обрыва, отдувал занавесь, и в мгновенную, опадающую щель ее виднелись широкие смолистые листья деревьев, росших за окнами. Блюм проснулся, вскочил, глубоко вдыхая онемевшими легкими спертый воздух, и осмотрелся. То же безмолвие окружало его; прежнее красноватое освещение лежало на всех предметах, но теперь стены и одуряющий, пристальный свет штор, и мебель, и тишина таили в себе зловещую, утонченную внимательность, остроту человеческих глаз. Блюм расстегнул воротник рубашки, вытер платком мокрую грудь, отвел рукой штору и выглянул. На черте обрыва маячили, покачиваясь, сухие стебли; глубокий туман пропасти и светлая проволока реки блестели оранжевыми тенями угасающего дня, и в этом тоже было что-то зловещее. Блюм вздрогнул, с отвращением опустил штору, надел шляпу и вышел.
За дверью никого не было. Он двинулся по тропам сада, в душистой прохладе осыпанных белизной цвета высоких крон; живой снег бесчисленных, в глубине розовых, венчиков гудел миллионами насекомых; каскады остроконечной, иглистой, круглой, гроздьеподобной, резной листвы свешивались над головой и впереди узорами таинственных светлых сумерек; в конце тропы, за изгородью, ослепительно белела вечерней пылью каменистая, бегущая на холмы среди груд камней, дорога в Суан. Блюм вышел к ней, остановился, посмотрел влево и вправо: пустыня, поросшая кактусами. Потом резко повернул голову, прислушиваясь к ритмическим отголоскам, похожим на стук пальцами о крышку стола.
Через минуту Блюм мог с уверенностью различить твердую рысь лошади. Лицо его, обращенное к повороту дороги, еле намеченному кустами и выбоинами, осталось неподвижным, за исключением зрачков, сузившихся до объема маковых зерен. Сначала показалась голова лошади, затем шляпа и лицо всадника, а между плеч его — другое лицо. Женщина сидела впереди, откинув голову на грудь Тинга; левая рука его придерживала Ассунту спереди осторожным напряжением кисти, правая встряхивала поводья; он смотрел вниз и, по-видимому, говорил что-то, так как лицо женщины таинственно улыбалось.
Под гору лошадь шла шагом; верховая группа мерно колыхалась на глазах Блюма; на лицо Тинга и его жены падали отлогие, вечерние лучи солнца, тающего на горизонте. Блюм снял шляпу и поклонился, испытывая мгновенное, но тяжелое замешательство. Тинг натянул поводья.
— Ассунта, — сказал он, окидывая Блюма коротким взглядом, — иди в дом, я не задержусь здесь.
— Уйду, я устала, — она, по-видимому, торопилась и спрыгнула на землю; ухватившись руками за гриву лошади, она ни разу не подняла глаз на Блюма и, оставив седло, прошла мимо незнакомца, наклонив голову в ответ на его вторичный поклон. Он успел рассмотреть ее, но уже через минуту затруднился бы определить, темные у нее волосы или светлые: так быстро она скрылась. Лицо ее отражало ясность и чистоту молодости; небольшое стройное тело, избалованное выражение рта, — все в ней носило печать свободной простоты, не лишенной, однако, некоторой застенчивости. Тинг улыбнулся.
— Я тоже узнал вас, — сказал Блюм, ошибочно толкуя эту улыбку, — и должен извиниться. У меня много крови, я задыхаюсь в вагонах и буду задыхаться до тех пор, пока правительство не устроит для полнокровных какие-нибудь холодильники.
— Вы говорите, — удивленно произнес Тинг, — что вы тоже узнали меня. Но я, кажется, вас не видал раньше.
— Нет, — возразил Блюм, — сегодня утром в вагоне. Вы засорили глаз.
— Так. — Тинг рассеянно обернулся, ища глазами Ассунту. — Но что же вы имеете мне сказать?
— Пусть говорят другие, — вздохнул Блюм, вынимая письмо Хейля. — Это, кажется, ваш бывший или настоящий знакомец, Хейль. Прочтите, пожалуйста.
Тинг разорвал конверт. Пока он читал, Блюм чистил ногти иглой терновника — манера, заимствованная у Хейля, — поглядывая исподлобья на сосредоточенное лицо читающего. Темнело. Тинг сунул письмо в карман.
— Вы — господин Гергес, — а я — Тинг, — сказал он. — Здесь все к вашим услугам. Хейль пишет, что вам нужен приют дня на три. Оставайтесь. Кто вы сверх Гергеса, не мое дело. Пожалуйте. Тогда вот это письмо, — Тинг снял шляпу и вынул из нее небольшой пакет, — будет, конечно, вам; я получил его сегодня в Суане для передачи Гергесу.
Блюм с неудовольствием протянул руку; письмо это означало, что Хейль вовсе не намерен дать ему отдых.
Затем оба постояли с минуту, молча разглядывая друг друга; по неестественному напряжению лиц южный вечер прочел взаимную тягость и антипатию.
III
Ассунта
Веранда, затянутая черным бархатом воздуха, напоминала освещенный плот в океане, ночью, когда волнение дремлет, а слух болезненно ловит малейший плеск влаги. На длинном столе горела медная старинная лампа, свет ее едва достигал ближайших ветвей, листья их тянулись из мрака призрачными посеребренными очертаниями. Негр собрал остатки ужина и ушел, шаркая кожаными сандалиями; благодаря цвету кожи, он исчез за чертой света мгновенно, точно растаял, и только секунду-другую можно было наблюдать, как белая посуда в его руках, потеряв вес, самостоятельно чертит воздух.
Тинг сидел лицом к саду и пил кларет. Блюм-Гергес помещался против него, глотая водку из плетеного охотничьего стакана. И совсем близко к Тингу, почти касаясь его головы закутанным шалью плечом, стояла, прислонившись к стене, Ассунта.
— Я был нотариусом, — придирчиво сказал Блюм. Охмелев, он чувствовал почти всегда непреодолимое желание ломать комедию или балансировать на канате осторожной, веселой дерзости. — Вы, честное слово, не удивляйтесь этому. Битый час мы говорили о новых постройках в Суане, и вы, пожалуй, могли принять меня за проворовавшегося подрядчика. Я был нотариусом. Жестокие наследники одного состояния строили, видите ли, козни против прелестнейшей из всех девушек в мире; а она, надо вам сказать, любила меня со всем пылом молодости. По закону все состояние — а состояние это равнялось десяти миллионам — должно было перейти к ней. Меня просили, мне грозили, требовали, чтобы я это завещание уничтожил, а я отказался. Тут ввязались министры, какие-то подставные лица, и я подвергся преследованию. Убежав, я сжег свой дом.
Он выкладывал эти бредни, не улыбаясь, с чувством сокрушения в голосе. Широко открытые глаза Ассунты смотрели на него с недоумением, замаскированным слабой улыбкой.
— Я знал Хейля, — сказал Тинг, стараясь переменить разговор, — он напечатал мою статью в прошлом году. Он ведь служит в редакции «Знамя Юга», а зимой, во время последних восстаний, был военным корреспондентом.
— Политическую статью, — полуутвердительно кивнул Блюм. — Я знаю, вы требовали уничтожения налога на драгоценности. Эта мера правительства не по вкусу женщинам; да, я вас понимаю.
Невозможно было понять, смеется или серьезно говорит этот человек с круглым, дрожащим ртом, неподвижными глазами и жирным закруглением плеч.
— Тинг, — сказала Ассунта, и улыбка ее стала определеннее, — господин Гергес хочет сказать, конечно, что ты не занимаешься пустяками.
Блюм поднял голову; взгляд ее остановился на нем, спокойный, как всегда; взгляд, рождающий глухую тоску. Он почувствовал мягкий отпор и внутренно подобрался, намереваясь изменить тактику.
— Политика, — равнодушно произнес Тинг, — это не мое дело. Я человек свободный. Нет, Гергес, я написал о серебряных рудниках. Там много любопытного.
Он посмотрел в лицо Блюма; оно выражало преувеличенное внимание с расчетом на откровенность.
— Да, — продолжал Тинг, — вы, конечно, слышали об этих рудниках. Там составляются и проигрываются состояния, вспыхивает резня, разыгрываются уголовные драмы. Я описал все это. Хейль исправлял мою рукопись, но это неудивительно, — я учился писать в лесу, столом мне служило седло, а уроками — беззубая воркотня бродяги Хименса, когда он бывал в хорошем расположении духа.
— Тинг — сын леса, — сказала Ассунта, — он думает о нем постоянно.
— Бродячая жизнь, — торжественно произнес Блюм, — вы испытали ее?
— Я? — Тинг рассмеялся. — Вы знаете, я здесь живу только ради Ассунты. — Он посмотрел на жену, как бы спрашивая: так ли это? На что она ответила кивком головы. — Родителей я не помню, меня воспитывал и таскал за собой Хименс. В засуху мы охотились, в дожди — тоже; охотились на юге и севере, западе и востоке. А раз я был в партии золотоискателей и не совсем несчастливо. Я жил так до двадцати четырех лет.
— Придет время, — угрюмо произнес Блюм, — когда исчезнут леса; их выжгут люди, ненавидящие природу. Она лжет.
— Или говорит правду, смотря по ушам, в которых гудит лесной ветер, — возразил Тинг, инстинктивно угадывая, что чем-то задел Гергеса. От лица гостя веяло непонятным, тяжелым сопротивлением. Тинг продолжал с некоторым задором:
— Вот моя жизнь, если это вам интересно. Я иногда пописываю, но смертельно хочется мне изложить историю знаменитых охотников. Я знал Эйклера, спавшего под одеялом из скальпов; Беленького Бизона, работавшего в схватках дубиной, потому что, как говорил он, «грешно проливать кровь»; Сенегду, убившего пятьдесят гризли; Бебиль Висельник учил меня подражать крику птиц; Нежный Артур, прозванный так потому, что происходил из знатного семейства, лежал умирающий в моем шалаше и выздоровел, когда я сказал, что отыскал тайник Эноха, где были планы бобровых озерков, известных только ему.
Глаза Тинга светились; увлеченный воспоминаниями, он встал и подошел к решетке веранды. Блюм, красный от спирта, смотрел на Ассунту; что-то копилось в его мозгу, укладывалось и ускользало; входило и выходило, ворочалось и ожидало конечного разрешения; эта работа мысли походила на старание человека попасть острием иглы в острие бритвы.
— А что вы любите? — неожиданно спросил он таким тоном, как будто ответ мог помочь решить известную лишь ему сложную математическую задачу. — Я полагаю, что этот вопрос нескромен, но мы ведь разговорились.
В последних его словах дрогнул еле заметный насмешливый оттенок.
— Ну, что же, — помолчав, сказал Тинг, — я могу вам ответить. Пожалуй — все. Лес, пустыню, парусные суда, опасность, драгоценные камни, удачный выстрел, красивую песню.
— А вы, прелестная Ассунта, — льстиво осклабился Блюм, — вы тоже? Между нами говоря, жизнь в городах куда веселее. Женщины вашего возраста делают там себе карьеру, это в моде; честолюбие, благотворительность, влияние на политических деятелей — это у них считается большим лакомством. Вы здесь затеряны и проскучаете. Как вы живете?
— Я… не знаю, — сказала молодая женщина и засмеялась; краска залила ее нежное лицо, растаяв у маленьких ушей. Она помолчала, взглядывая из-под опущенных ресниц на Гергеса. — Я очень люблю вставать рано утром, когда еще холодно, — несмело произнесла она.
Блюм громко захохотал и поперхнулся. Сиплый кашель его бросился в глубину ночи; брезгливая тишина медленно стряхнула эти звуки, чуждые ее сну.
— Жизнь ее благословенна, — сухо сказал Тинг, — а значение этой жизни, я полагаю, выше нашего понимания.
Блюм встал.
— Я пойду спать, — заявил он, зевая и щурясь. — Негр приготовил мне отличную постель вверху, под крышей. Мой пол — ваш потолок, Тинг. Спокойной ночи.
Он двинулся, грузно передвигая ногами, и скрылся в темноте. Тинг посмотрел ему вслед, задумчиво посвистал и обернулся к Ассунте. Один и тот же вопрос был в их глазах.
— Кто он? — спросила Ассунта.
— Я это же спрашиваю у себя, — сказал Тинг, — и не нахожу ответа.
Блюм остановился за углом здания; он слышал последние слова Тинга и ждал, не будет ли чего нового. Слепящий мрак окружал его; сердце билось тоскливо и беспокойно. За углом лежал отблеск света; слабые, но ясные звуки голосов выходили оттуда — голоса Ассунты и Тинга.
— Вот это я прочитаю тебе, — расслышал Блюм. — Для стихов это слишком слабо, и нет правильности, но, Ассунта, я ехал сегодня в поезде, и стук колес твердил мне отрывочные слова; я повторял их, пока не запомнил.
Блюм насторожил уши. Короткая тишина оборвалась немного изменившимся голосом Тинга:
В мгле рассвета побледнел ясный ореол звезд, Сон тревожный, покой напрасный трудовых гнезд Свергнут небом, где тени утра плывут в зенит, Ты проснулась — и лес дымится, земля звенит; Дай мне руку твою, ребенок тенистых круч; Воздух кроток, твой голос звонок, а день певуч. Там, где в зное лежит пустынный, глухой Суан, Я заклятью предаю небо четырех стран; Бархат тени и ковры света в заревой час, Звезды ночи и поля хлеба — для твоих глаз. Им, невинным близнецам смеха, лучам твоим, Им, зовущим, как печаль эха, и только им, Тьмой завешенный — улыбался голубой край Там, где бешеный ад смеялся и рыдал рай.Он кончил. Блюм медленно повторил про себя несколько строк, оставшихся в его памяти, сопровождая каждое выражение циническими ругательствами, клейкими вонючими словами публичных домов; отвратительными искажениями, бросившими на его лицо невидимые в темноте складки усталой злобы…
Разговор стал тише, отрывистее; наконец, он услышал сонный и совсем, совсем другой, чем при нем, голос Ассунты:
— Тингушок, возьми меня на ручки и отнеси спать.
IV
Последняя точка Хейля
Расширение лесной медленно текущей реки оканчивалось грудой серых камней, вымытых из почвы разливами и дождями. Человек, сидевший на камнях, посмотрел вверх с ощущением, что он находится в глубоком провале. Меж выпуклостей стволов реял лесной сумрак; пышные болотные папоротники скрывали очертание берегов; середина воды блестела густым светом, ограниченным тенью, падавшей на реку от непроницаемой листвы огромных деревьев. У ног Блюма мокли на круглых с загнутыми краями листьях белые и фиолетовые водяные цветы, испещренные красноватыми жилками; от них шел тонкий сырой аромат болота, сладковатый и острый.
Блюм посмотрел на часы; девственный покой леса превращал их тиканье в громкий, суетливый шепот нетерпеливого ожидания. Он спрятал их, продолжая кусать губы и смотреть на воду; затем встал, походил немного, стараясь не удаляться от берега, возвратился и сел на прежнее место.
Прошло несколько времени. Маленькое голубое пятно, только что замеченное им слева, пропадало и показывалось раз двадцать, приближаясь вместе с неровным потрескиванием валежника; наконец, бритые губы раздвинулись в сухую улыбку, — улыбку Хейля; он шел к Блюму с протянутой рукой, разглядывая его еще издали.
Хейль был одет в праздничный степенный костюм зажиточного скотовода или хозяина мастерской: толстые ботинки из желтой кожи, светлые брюки и куртка, пестрый жилет, голубой с белыми горошками пластрон и шляпа с низко опущенными полями. Он, видимо, недавно покинул седло, так как от него разило смешанным запахом одеколона и лошадиного пота.
— Я шел берегом, пробираясь сквозь чащу, — сказал Хейль, — лошадь привязана за полмили отсюда; невозможно было вести ее в этой трущобе. Как ваше здоровье? Вы, кажется, отдохнули здесь. Мое письмо, конечно, вами получено.
— Я здоров, с вашего позволения. — Блюм сел в траву, подобрав ноги. Хейль продолжал стоять. — Письмо, план этой жилой местности и милостивые ваши инструкции я получил, потому-то и имею счастье взирать на вашу мужественную осанку.
Он проговорил это своим обычным, тонким, ворчащим голосом, похожим на смешанные звуки женской брани и жиканье точильного камня.
— Вы не в духе, — сказал Хейль, — высморкайтесь, это от насморка. Как живет Тинг? Я видел его полгода назад, а жену его не встречал ни разу. Довольны ли вы их отношением?
— Я? — удивленно спросил Блюм. — Я плачу от благородства. Я благословляю их. Я у них, как родной, — нет, — внезапно бросая тон кривляющегося актера прибавил Блюм, — в самом деле, и теперь вы можете мне поверить, я очень люблю их.
Хейль рассеянно кивнул головой, присел рядом с Блюмом, бегло осмотрел речку и задумался, всасывая ртом нижнюю губу. Молчание длилось минут пять; посторонний наблюдатель мог бы смело принять их за людей, размышляющих о способе переправиться на другой берег.
— Ваше положение, — сказал, наконец, Хейль, — очень затруднительно. Вам надо исчезнуть совсем, отправиться в другие края. Там вы можете быть полезны. Я точно обдумал весь маршрут и предусмотрел все. Согласны вы ехать?
Блюм не пошевелил бровью, как будто этот вопрос относился к совершенно другому человеку. Он молчал, невольно молчал и Хейль. Несколько времени они смотрели друг другу в глаза с таким вниманием, словно ими были исчерпаны все разговорные темы; Хейль, задетый непонятным для него молчанием Блюма, отвернулся, рассматривая свесившуюся над головой ткань цветущих вьюнков, и заметил вслух, что роскошные паразиты напоминают ему, Хейлю, блестящих женщин.
— Нет, — сказал Блюм и бросил в воду небольшой камень, пристально следя за исчезающими кругами волнения. — Я не поеду.
— Не-ет… Но у вас должны быть серьезные причины для этого.
— Да, да, — Блюм поспешно обернулся к Хейлю, проговорив рассудительным, деловым тоном: — Я хочу от вас отделаться, Хейль, от вас и ваших.
— Какой дьявол, — закричал Хейль, покраснев и вскакивая, — вкладывает в ваш мозг эти дерзкие шутки!.. Вы ренегат, что ли?..
— Я преступник, — тихо сказал Блюм, — профессиональный преступник. Мне, собственно говоря, не место у вас.
— Да, — возразил изумленный Хейль, овладевая собой и стараясь придать конфликту тон простого спора, — но вы пришли к нам, вы сделали два блестящих дела, третье предполагалось поручить вам за тысячу миль отсюда, а теперь что?
— Да я не хочу, поняли? — Блюм делался все грубее, казалось, сдержанность Хейля раздражала его. — Я пришел, и я ушел; посвистите в кулак и поищите меня в календаре, там мое имя. Как было дело? Вы помогали бежать одному из ваших, я сидел с ним в одной камере и бежал за компанию; признаться, скорее от скуки, чем от большой надобности. Ну-с… вы дали мне переночевать, укрыли меня. Что было мне делать дальше? Конечно, выжидать удобного случая устроиться посолиднее. Затем вы решили, что я — человек отчаянный, и предложили мне потрошить людей хорошо упитанных, из высшего общества. Мог ли я отказать вам в такой безделке, — я, которого смерть лизала в лицо чаще, чем сука лижет щенят. Вы меня кормили, одевали и обували, возили меня из города в город на манер багажного сундука, пичкали чахоточными брошюрами и памфлетами, кричали мне в одно ухо «анархия», в другое — «жандармы!», скормили полдесятка ученых книг. Так, я, например, знаю теперь, что вода состоит из азота и кислорода, а порох изобретен китайцами. — Он приостановился и посмотрел на Хейля взглядом продажной женщины. — Вы мне благоволили. Что ж… и дуракам свойственно ошибаться.
Сильный гнев блеснул в широко раскрытых глазах Хейля; он сделал было шаг к Блюму, но удержался, потому что уяснил положение. Отпущенный Блюм, правда, мог быть опасен, так как знал многое, но и удерживать его теперь не было никакого смысла.
— Не блещете вы, однако, — глухо сказал он. — Значит, игра в открытую. Я поражен, да, я поражен, взбешен и одурачен. Оставим это. Что вы намерены теперь делать?
— Пакости, — захохотал Блюм, раскачиваясь из стороны в сторону. — Вы бьете все мимо цели, все мимо цели, милейший. Я не одобряю ваших теорий, — они слишком добродетельны, как ужимочки старой девы. Вы натолкнули меня на гениальнейшее открытие, превосходящее заслуги Христофора Колумба. Моя биография тоже участвовала в этом плане.
Хейль молчал.
— Моя биография! — крикнул Блюм. — Вы не слышите, что ли? Она укладывается в одной строке: публичный дом, исправительная колония, тюрьма, каторга. В публичном доме я родился и воспринял святое крещение. Остальное не требует пояснений. Подробности: зуботычины, пощечины, избиение до полусмерти, плети, удары в голову ключом, рукояткою револьвера. Пощечины делятся на четыре сорта. Сорт первый: пощечина звонкая. От нее гудит в голове, и все качается, а щека горит. Сорт второй — расчетливая: концами пальцев в висок, стараясь задеть по глазу; режущая боль. Сорт третий — с начинкой: разбивает в кровь нос и расшатывает зубы. Сорт четвертый: пощечина клейкая, — дается липкой рукой шпиона; не больно, но целый день лицо загажено чем-то сырым.
— Мне нет дела до вашей почтенной биографии, — сухо сказал Хейль. — Ведь мы расстаемся?
— Непременно. — Крупное лицо Блюма покрылось красными пятнами. — Но вы уйдете с сознанием, что все вы — мальчишки передо мной. Что нужно делать на земле?
Он порылся в карманах, вытащил смятую, засаленную бумажку и начал читать с тупым самодовольством простолюдина, научившегося водить пером:
«Сочинение Блюма. О людях. Следует убивать всех, которые веселые от рождения. Имеющие пристрастие к чему-либо должны быть уничтожены. Все, которые имеют зацепку в жизни, должны быть убиты. Следует узнать про всех и, сообразно наблюдению, убивать. Без различия пола, возраста и происхождения».
Он поднял голову, немного смущенный непривычным для него актом, как поэт, прочитавший первое свое стихотворение, сложил бумажку и вопросительно рассмеялся. Хейль внимательно смотрел на него, — нечто любопытное послышалось ему в запутанных словах Блюма.
— Что же, — насмешливо спросил он, — синодик этот придуман вами?
— Я сообразил это, — тихо сказал Блюм. — Вы кончили мою мысль. Не стоит убивать только тех, кто был бы рад этому. Это решено мной вчера, до тех пор все было не совсем ясно.
— Почему?
— Так. — Тусклые глаза Блюма сощурились и остановились на Хейле. — Разве дело в упитанных каплунах или генералах? Нет. Что же, вы думаете, я не найду единомышленников? Столько же, сколько в лесу осиных гнезд. Но я не могу объяснить вам самого главного, — таинственно добавил он, — потому что… то есть почему именно это нужно. Здесь, видите ли, приходится употреблять слова, к которым я не привык.
— Почтенный убийца, — хладнокровно возразил Хейль, — я, кажется, вас понимаю. Но кто же останется на земле?
— Горсть бешеных! — хрипло вскричал Блюм, уводя голову в плечи. — Они будут хлопать успокоенными глазами и нежно кусать друг друга острыми зубками. Иначе невозможно.
— Вы сумасшедший, — коротко объявил Хейль. — То, что вы называете «зацепкой», есть почти у каждого человека.
Блюм вдруг поднял брови и засопел, словно его осенила какая-то новая мысль. Но через секунду лицо его сделалось прежним, непроницаемым в обычной своей тусклой бледности.
— И у вас? — пристально спросил он.
— Конечно. — Яркое желание бросить в отместку Блюму что-нибудь завидное для последнего лишило Хейля сообразительности. — Я честолюбив, люблю опасность, хотя и презираю ее; недурной журналист, и — поверьте — наслаждаться блаженством жизни, сидя на ящике с динамитом, — очень тонкое, но не всякому доступное наслаждение. Мы — не проповедники смерти.
— У вас есть зацепка, — утвердительно сказал Блюм.
Хейль смерил его глазами.
— А еще что хотели вы сказать этим?
— Ничего, — коротко возразил Блюм, — я только говорю, что и у вас есть зацепка.
— Вот что, — Хейль проговорил это медленно и внушительно: — Бойтесь повредить нам болтовней или доносами: вы — тоже кандидат виселицы. Я сказал, — ставлю точку и ухожу. Кланяйтесь Тингу. Прощайте.
Он повернулся и стал удаляться спиной к противнику. Блюм шагнул вслед за ним, протянул револьвер к затылку Хейля, и гулкий удар пролетел в тишине леса вместе с небольшим белым клубком.
Хейль, не оборачиваясь, приподнял руки, но тотчас же опустил их, круто взмахнул головой и упал плашмя, лицом вниз, без крика и судорог. Блюм отскочил в сторону, нервно провел рукой по лицу, затем, вздрагивая от острого холодка в груди, подошел к трупу, секунду простоял неподвижно и молча присел на корточки, рассматривая вспухшую под черными волосами небольшую, сочащуюся кровью рану.
— Чисто и тщательно сделанный опыт, — пробормотал он. — Револьвер этой системы бьет удивительно хорошо.
Он взял мертвого за безжизненные, еще теплые ноги и потащил к реке. Голова Хейля ползла по земле бледным лицом, моталась, ворочалась среди корней, путалась волосами в папоротниках. Блюм набрал камней, погрузил их в карманы Хейля и, беспрестанно оборачиваясь, столкнул труп в освещенную темно-зеленую воду.
Раздался глухой плеск, волнение закачало водоросли и стихло. Спящее лицо Хейля проплыло в уровне воды шагов десять, сузилось и опустилось на дно.
V
Тишина
Блюм проснулся в совершенной темноте ночи, мгновенно припомнил все, обдуманное еще днем, после того, как бледное лицо Хейля потонуло в лесной воде, и, не зажигая огня, стал одеваться с привычной быстротой человека, обладающего глазами кошки и ногами мышонка. Он натянул сапоги, тщательно застегнул жилет, нахлобучил плотнее шляпу, шею обмотал шарфом. Все это походило на приготовления к отъезду или к тихой прогулке подозрительного характера. Затем, все не зажигая огня, вынул карманные часы, снял круглое стекло их острием складного ножа и ощупал циферблат пальцами, — стрелки показывали час ночи.
Он постоял несколько минут в глубоком раздумьи, резко улыбаясь невидимым носкам сапог, подошел к окну и долго напряженно слушал стрекотанье цикад. Сердце тишины билось в его душе; тьма, унизанная роскошным дождем звезд, приближала свои глаза к бессонным глазам Блюма, сном казался минувший день, мрак — вечностью. Это была вторая ночь гостя; настроенный торжественно и тревожно, как доктор, засучивший рукава для небольшой, но серьезной операции, Блюм отворил дверь и стал спускаться по лестнице. На это он употребил минут десять, делая каждый шаг лишь после того, как исчезало даже впечатление прикосновения ноги к оставленной позади ступеньке. Выходная дверь открывалась в сад. Он прикоснулся к ней легче воздуха, увеличивая приоткрытую щель с медленностью волокиты, проникающего к любовнице через спальню ее мужа, и так же медленно, осторожно ступил на землю.
Влажный мрак поглотил его; он исчез в нем, растаял, слился с тьмой и двигался, как лунатик, протягивая вперед руки, но зорко улавливая оттенки тьмы, намечавшие ствол дерева или угол дома. Через несколько минут слабо заржала лошадь, его лошадь, привязанная негром к столбу небольшого деревянного заграждения, где стояли две лошади Тинга. Блюм гладил крутую шею; теплая кожа животного скользила под его рукой; присутствие живого существа наполнило человека жесткой уверенностью. Блюм размотал коновязь, расправил захваченную узду, взнуздал лошадь и потянул ее за собой.
Теперь, обеспеченный на случай тревоги, он двинулся быстрее, шел тверже. Копыта глухо переступали за его спиной. Блюм пересек пустое, неогороженное пространство, заворачивая со стороны обрыва; миновав второй угол здания, он привязал лошадь к кустарнику, прополз на четвереньках вперед, выступил головой из-за третьего угла и припал к земле, пораженный тяжелым хлестким ударом неожиданности.
Из окна бежал свет; косая бледная полоса его терялась в сумрачном узоре листвы. Тинг, по-видимому, не спал; причина этого была понятна Блюму не более, чем воробью зеркало, так как, по собственным словам Тинга, он ложился не позднее двенадцати. С минуту Блюм оставался неподвижен, тоска грызла его, всевозможные, один другого отчаяннее и нелепее, планы боролись друг с другом в бешено заработавшей голове. Он наскоро пересмотрел их, отбросил все, решил выждать и пополз вдоль стены к полосе света.
Чем более приближался он, тем яснее и мучительнее касался его ушей негромкий перелив разговора. Под окном он остановился, присел на корточки и переложил из левой руки в правую небольшой сильный револьвер. Блюм был почти спокоен, холодно созерцая риск положения, как в те дни, когда взламывал чужие квартиры. Ему предстояло дело, он жаждал выполнить его тщательнее. И видел совершенно отчетливо одно: свои руки, делающие в неопределенный еще момент бесшумные жуткие усилия.
Он поднял голову, рассчитал, что нижний край окна придется в уровень глаз, и встал, выпрямившись во весь рост. В этот момент рука его приросла к револьверу, дыхание прекратилось. Глаза встретили яркий свет. Блюм привалился к стене грудью, безмолвный, застывший, почти не дышащий. Вместе с ним смотрела, слушая, ночь.
Горели две свечи: одна у окна, на выступе низенького темного шкафа, другая — у противоположной стены, на круглом столе, застланном цветной скатертью. В глубине толстого кожаного дивана, развалившись и обхватив колени руками, сидел Тинг. Огромный звездообразный ковер из меха пумы скрывал пол; в центре этого оригинального украшения, подпирая руками голову, лежала ничком Ассунта; ее длинные, пушистые волосы, распущенные и немного растрепанные, падали на ковер; из их волнистого маленького шатра выглядывало смеющееся лицо женщины. Она болтала ногами, постукивая одна другую розовыми голыми пятками. В этот момент, когда Блюм увидел все это, Тинг продолжал говорить, с трудом приискивая слова, как человек, боящийся, что его не точно поймут.
— Ассунта, мне хочется, чтобы даже тень огорчения миновала тебя. Долго ли я пробуду в отсутствии? Полгода. Это большой срок, я знаю, но за это время я успею побывать во всех странах. Меня дразнит земля, Ассунта; океаны ее огромны, острова бесчисленны, и масса таинственных, смертельно любопытных углов. Я с детства мечтаю об этом. Буду ли я здоров? Конечно. Я очень вынослив. И я не буду один, нет, — ты будешь со мной и в мыслях, и в сердце моем всегда. — Он вздохнул. — Хотя, я думаю, было бы довольно и пяти месяцев.
— Тинг, — сказала Ассунта, улыбаясь, с маленьким тайным страхом в душе, что Тинг, пожалуй, уедет по-настоящему, — но я тоже хочу с тобой. Разве ты не любишь меня?
Тинг покраснел.
— Ты глупая, — сказал он так, как говорят детям, — разве ты вынесешь? Мне не нужны гостиницы, я не турист, я буду много ходить пешком, ездить. Мне страшно за тебя, Ассунта.
— Я сильная, — гордо возразила Ассунта, осторожно стукая сжатым кулачком мех ковра, — я, правда, маленького роста и легкая, но все же ты не должен относиться ко мне насмешливо. Я могу ходить с тобой везде и стрелять. Мне будет скучно без тебя, понял? И ты там влюбишься в какую-нибудь… — Она остановилась и посмотрела на него сонными, блестящими глазами. — В какую-нибудь чужую Ассунту.
— Ассунта, — с отчаянием сказал Тинг, подскакивая, как ужаленный, — что ты говоришь! В какую же женщину я могу влюбиться?
— А это должен знать ты. Ты не знаешь?
— Нет.
— А я, Тингушок, совершенно не могу знать. Может быть, в коричневую или посветлей немного. Ну вот, ты хохочешь. Я ведь серьезно говорю, Тинг, — да Тинг же!
Лицо ее приняло сосредоточенное, забавное, сердитое выражение; тотчас же вслед за этим внезапным выражением ревности Ассунта разразилась тихим, сотрясающим все ее маленькое тело, долгим неудержимым смехом.
— Тише ты смейся, — сказала она по частям, так как целиком эта фраза не выговаривалась, разрушаемая хохотом, — ты смейся, впрочем…
Оба хотели сказать что-то еще, встретились одновременно глазами и безнадежно махнули рукой, сраженные новым припадком смеха. Темный, внимательный, смотрел на них из-за окна Блюм.
— Ассунта, — сказал Тинг, успокаиваясь, — правда, мне слишком тяжело будет без тебя. Я думаю… что… в первый раз… хорошо и три месяца. За это время много можно объехать.
— Нет, Тинг, — Ассунта переместилась в угол дивана, подобрав ноги, — слышишь, из-за меня ты не должен лишаться чего бы то ни было. Я избалованная, это так, но есть у меня и воля. Я буду ждать, Тинг. А ты вернешься и расскажешь мне все, что видел, и я буду счастлива за тебя, милый.
Тинг упорно раздумывал.
— Вот что, — заявил он, подымая голову, — мы лучше поедем вместе, когда… у нас будет много денег. Вот это я придумал удачно, сейчас я представил себе все в действительности и… безусловно… то есть расстаться с тобой для меня невозможно. С деньгами мы будем поступать так: ты останавливаешься в какой-нибудь лучшей гостинице, а я буду бродить. Почему раньше мне не приходило этого в голову?
Он щелкнул пальцами, но взгляд его, останавливаясь на жене, еще что-то спрашивал. Ассунта улыбнулась, закрыв глаза; Тинг наклонился и поцеловал ее задумчивым поцелуем, что прибавило ему решительности в намерениях.
— Я без тебя не поеду, — заявил он. — Да.
Лукавое маленькое молчание было ему ответом.
— Совершенно не поеду, Ассунта. А я и ты — вместе. Или не поеду совсем. Денег у нас теперь, кажется… да, так вот как.
Ассунта обтянула юбку вокруг колен, прижимаясь к ним подбородком.
— Ты ведь умненький, — наставительно сказала она, — и довольно смешной. Нет, ты, право, ничего себе. Бывают ли с тобой, между прочим, такие вещи, что неудержимо хочется сделать что-нибудь без всякого повода? Меня, например, тянет подойти к этому окну и нагнуться.
Блюм инстинктивно присел. Тинг рассеянно посмотрел в окно, отвернулся и спрятал руки Ассунты в своих, где им было так же спокойно, как в гнезде птицам.
— Усни, — сказал он. — Почему мы не спим сегодня так долго? Глухая ночь, а между тем меня не клонит к подушке, и голова ясна, как будто теперь утро. Пожалуй, я поработаю немного.
Блюм переживал странное оцепенение, редкие минуты бесстрастия, глубочайшей уверенности в достижении своей цели, хотя до сих пор все было, по-видимому, против этого. Он не мог прыгнуть в комнату; как произойдет все, не было известно ему, и даже намека на сколько-нибудь отчетливое представление об этом не ощущал он в себе, но благодушно вздыхал, переминаясь с ноги на ногу, и ждал с настойчивостью дикаря, покорившего свое несовершенное тело отточенному борьбой инстинкту. Ручная, послушная ярость спала в нем, он бережно, любовно следил за ней, томился и радовался.
— Ты идешь спать? — сказал Тинг, перебирая пальцы Ассунты. — Ну да, и мне кажется, что ты дремлешь уже.
— Нет. Я выйду и похожу немного. — Ассунта встала, и Тинг заметил, что и капли сна нет в ее блестящих глазах, полных серьезной нежности. — Как душно, Тинг, — мне душно, и я не знаю, отчего это. Мое сердце торопится и стучит, торопится и замирает, как будто говорит, но не может высказать. Мне грустно и весело.
Она закинула руки, потянулась, стремительно обняла Тинга и вышла в темный узкий коридор дома. Некоторое время Блюм не видел и не слышал ее, но вскоре уловил легкий шелест вблизи себя, прислушался и затрепетал. Прежде, чем двинуться на звук шагов, он сунул в карман револьвер, это оружие было теперь ненужным.
Ослепительный, торжественный мрак скрывал землю. Бессонные глаза ночи дышали безмолвием; полное, совершенное, чистое, как ключевая вода, молчание стерегло пустыню, бесконечно затопив мир, уходило к небу и царствовало. В нем, обрызганные созвездиями ночных светил, толпились невидимые деревья; густой цвет их кружил голову тонким, но сильным запахом, щедрым и сладким, волнующим и привольным, влажным и трогательным, как полураскрытые сонные уста женщины; обнимал и тревожил миллионами воздушных прикосновений и так же, как тишина, рос бесконечно властными, неосязательными усилиями, бескрылый и легкий.
Ассунта бессознательно остановилась в глубине сада. Руки ее прильнули к горячему лицу и медленно опустились. Воздух глубоко наполнял легкие, щекотал самые отдаленные поры их, как шмель, перебирающий мохнатыми лапками в глубине венчика; неугомонно и звонко стучало сердце: немой голос его не то звал куда-то, не то спрашивал. Женщина снова подняла руки, прижимая их к теплой груди, и рассмеялась беспричинным, беззвучным смехом. Недолго простояла она, но уже показалось ей, что нет ни дома, ни земли под ногами, что бесконечна приветная пустота вокруг, а она, Ассунта, стала маленькой, меньше мизинца, и беззащитной, и от этого весело. Неслышный призрачный звон ночи пришел к ней из бархатных глубин мрака, звон маленьких колокольчиков, пение земли, игра микроскопических цитр, взволнованная жизнь крови. Звон шел к ней, разбиваясь волнами у ее ног; неподвижная, улыбающаяся всем телом, чем-то растроганная, благодарная неизвестному, Ассунта испытывала желание стоять так всегда, вечно, и дышать и трогать маленькое свое сердце — оно ли это стучит? Оно влажное, теплое; она и сердце — и никого больше.
Блюм скорее угадал ее, чем увидел; соображая в то же время расстояние до оставленной позади лошади, он тихо подвигался вперед. Правая рука его торопливо что-то нащупывала в кармане; Блюм сделал еще несколько шагов и почувствовал, что Ассунта совсем близко, против него. Он глубоко вздохнул, сосредоточился и холодно рассчитал время.
— Это ты, Тинг? — задумчиво сказала Ассунта. — Это пришел ты. Я успокоилась, и мне хорошо. Иди, я сейчас вернусь.
Запах непролитой еще крови бросился Блюму в голову и потряс его.
— Тинг, — проговорил он наполовину трепетным движением губ, наполовину звуком, мало напоминающим человеческий голос. — Не придет Тинг.
Глухая боль внезапного страха женщины мгновенно передалась ему, он оттолкнул боль и занес руку.
— Кто это? — медленно, изменившимся голосом спросила Ассунта. Она отступила, инстинктивно закрывая себя рукой. — Вы, Гергес? И вы не спите. Нет, мне просто послышалось. Кто здесь?
— Это ваша рука, Ассунта, — сказал Блюм, сжимая тонкую руку ее уверенными холодными пальцами. — Ваша белая рука. А это — это рука Гергеса.
Он с силой дернул к себе молодую женщину, ударив ее в тот же момент небольшим острым ножом — удар, рассчитанный по голосу жертвы — правее и ниже. Слух его смутно, как во сне, запомнил глухой крик, остальное исчезло, смертельный гул крови, отхлынувшей к сердцу, обдал Блюма горячим паром тревоги. Через минуту он был в седле, и головокружительная, сумасшедшая скачка показалась ему в первый момент движением черепахи.
Взмах, удар, крик раненой мелькнули далеким сном. Он мчался по дороге в Суан, изредка волнуемый страхом быть пойманным, прежде чем достигнет города. Конвульсивное обсуждение сделанного странно походило на галоп лошади; мысли, вспыхивая, топтали друг друга в беспорядочном вихре. Сознание, что не было настоящей выдержки и терпения, терзало его. «Ничего больше не оставалось», — твердил он. Лошадь, избитая каблуками, вздрагивала и бросалась вперед, но все еще оставалось впечатление, будто он топчется на одном месте. Иногда Блюм овладевал собой, но вспоминал тут же, что прошло десять — пятнадцать минут, не более, с тех пор, как скачет он в темноте пустыни; тогда этот промежуток времени то увеличивался до размеров столетия, то исчезал вовсе. По временам он ругался, ободряя себя; попробовал засмеяться и смолк, затем разразился проклятиями. Смех его походил на размышление; проклятия — на разговор со страхом. Неосиленная еще часть дороги представлялась чем-то вроде резинового каната, который невозможно смотать, потому что он упорно растягивается. Зудливая физическая тоска душила за горло.
Наконец Блюм остановил лошадь, прислушиваясь к окрестностям. Отдуваясь, обернувшись лицом назад, он слушал до боли в ушах. Было тихо; тишина казалась враждебной. Пустив лошадь шагом, он через несколько минут остановил ее, но одинокое, хриплое дыхание загнанного животного не подарило Блюму даже капли уверенности в своей безопасности; он прислушался в третий раз и, весь всколыхнувшись, ударил лошадь ручкой револьвера; сзади отчетливо, торопливо и тихо несся дробный, затерянный в тишине, уверенный стук копыт.
VI
Тинг догоняет Блюма
Тинг выбежал на крик с глухо занывшим сердцем. За минуту перед этим он был совершенно спокоен и теперь весь дрожал от невыразимой тревоги, стараясь сообразить, что произошло за окном. Тьма встретила его напряженным молчанием.
— Ассунта, — громко позвал он и, немного погодя, крикнул опять: — Ассунта!
Собственный его голос одиноко вспыхнул и замер. Тогда, не помня себя, он бросился в глубину сада, обежал его в разных направлениях с быстротой лани и остановился: глухой внутренний толчок приковал внимание Тинга к чему-то смутно белеющему у его ног.
Он наклонился и первым прикосновением рук узнал Ассунту. Теплое, неподвижное тело ее, вытянувшись, повисло в его объятиях с тяжелой гибкостью неостывшего трупа.
— А-а, — болезненно сказал Тинг.
Глухое, невероятное страдание уничтожало его с быстротой огня, съедающего солому. Это было помешательство мгновения, тоска и страх. Он не понимал ничего; растерянный, готовый закричать от ужаса, Тинг тщетно пытался удержать внезапную дрожь ног. Бережно приподняв Ассунту, он двинулся по направлению к дому, шатаясь и вскрикивая. Действительность этого момента по всей своей силе переживалась им, как сплошной кошмар; жизнь сосредоточилась и замерла в одном ощущении дорогой тяжести. Он не помнил, как внес Ассунту, как положил ее на ковер, как очутился стоящим на коленях, что говорил. По временам он встряхивал головой, пытаясь проснуться. Побледневшее, с плотно сомкнутыми губами и веками лицо жены таинственно и безмолвно говорило о неизвестном Тингу, только что пережитом ужасе. Он взял маленькую, бессильную руку и нежно поцеловал ее; это движение разрушило столбняк души, наполнив ее горем. Быстро расстегнув платье Ассунты, пропитанное кровью с левой стороны, под мышкою, Тинг разрезал рукав и осмотрел рану.
Нож Блюма рассек верхнюю часть левой груди и смежную с ней внутреннюю поверхность руки под самым плечом. Из этих двух ран медленно выступала кровь: сердце едва билось, но слабый, обморочный шепот его показался Тингу небесной музыкой и разом вернул самообладание. Он разорвал простыню, обмыл раненую грудь Ассунты спиртом и сделал плотную перевязку. Все это время, пока дрожащие пальцы его касались нежной белизны тела, изувеченного ножом, он испытывал бешеную ненасытную нежность к этой маленькой, обнаженной груди, — нежность, сменяющуюся взрывами ярости, и страдание. Скрепив бинт, Тинг поцеловал его в проступающее на нем розовое пятно. Почти обессиленный, приник он к закрытым глазам Ассунты, целуя их с бессвязными, трогательными мольбами посмотреть на него, вздрогнуть, пошевелить ресницами. Все лицо его было в слезах, он не замечал этого.
То, что произошло потом, было так неожиданно, что Тинг растерялся. Веки Ассунты дрогнули, приподнялись; жизнь теплилась под ними в затуманенной глубине глаз, — возврат к сознанию, и Тинг водил над ними рукой, как бы гладя самый воздух, окутывающий ресницы. Теперь, в первый раз, он почувствовал со всей силой, какие это милые ресницы.
— Ассунта, — шепнул он.
Губы ее разжались, дрогнув в ответ движением, одновременно похожим на тень улыбки и на желание произнести слово.
— Ассунта, — продолжал Тинг, — кто ударил тебя? Это не опасно… Кто обидел тебя, Ассунта?.. Говори же, говори, у меня все мешается в голове. Кто?
Глубокий вздох женщины потонул в его резком, похожем на рыдание смехе. Это был судорожный, конвульсивный смех человека, потрясенного облегчением; он смолк так же внезапно, как и начался. Тинг встал.
— Ты здесь? — Это были первые ее слова, и он внимал им, как приговоренный к смерти — прощению. — За что он меня, Тинг, милый?.. Гергес… Сначала он взял меня за руку… Это был Гергес.
Она не произнесла ничего больше, но почувствовала, что ее с быстротой молнии кладут на диван и что Тинг исчез. Еще слабая, Ассунта с трудом повернула голову. Комната была пуста, полна тоски и тревоги.
— Тинг, — позвала Ассунта.
Но его не было. Перед ним в кухне стоял разбуженный негр и кланялся, порываясь бежать.
— Как собака! — хрипло сказал Тинг. — Возьми револьвер. — Он топнул ногой; волна гнева заливала его и несла, в стремительном своем беге, в темной пучине инстинкта. — Беги же, — продолжал Тинг. — Стой! Ты понял? Будь собакой и сдохни, если это понадобится. Я догоню, я догоню. Пожелай мне счастливой охоты.
Он подбежал к сараю, вывел гнедую лошадь, одну из лучших во всем округе, взнуздал ее и поскакал к Суану. Все это время душа Тинга перемалывала тысячи вопросов, но ни на один не получил он ответа, потому что еще далеко был от него тот, кто сам, подобно ножу, холодно и покорно скользнул по красоте жизни.
Задыхающийся, привстав на стременах, Блюм бил лошадь кулаками и дулом револьвера. Другая лошадь скакала за его спиной; пространство, выигранное вначале Блюмом, сокращалось в течение получаса с неуклонностью самого времени и теперь равнялось нулю. Лязг подков наполнял ночную равнину призраками тысяч коней, взбешенных головокружительной быстротой скачки. Секунды казались вечностью.
— Постойте! Остановитесь!
Блюм обернулся, хриплый голос Тинга подал ему надежду уложить преследователя. Он поворотился, методически выпуская прыгающей от скачки рукой все шесть пуль; огонь выстрелов безнадежно мелькал перед его глазами. Снова раздался крик, но Блюм не разобрал слов. Тотчас же вслед за этим гулкий удар сзади пробил воздух; лошадь Блюма, заржав, дрогнула задними ногами, присела и бросилась влево, спотыкаясь в кустарниках. Через минуту Блюм съехал на правый бок, ухватился за гриву и понял, что валится. Падая, он успел отскочить в сторону, ударился плечом о землю, вскочил и выпрямился, пошатываясь на ослабевших ногах; лошадь хрипела.
Тинг, не удержавшись, заскакал справа, остановился и был на земле раньше, чем Блюм бросился на него. Две темные фигуры стояли друг против друга. Карабин Тинга, направленный в голову Блюма, соединял их. Блюм широко и глубоко вздыхал, руки его, поднятые для удара, опустились с медленностью тройного блока.
— Это вы, Гергес? — сказал Тинг. Деланное спокойствие его тона звучало мучительной, беспощадной ясностью и отчетливостью каждого слова. — Хорошо, если вы не будете шевелиться. Нам надо поговорить. Сядьте.
Блюм затрепетал, изогнулся и сел. Наступил момент, когда не могло быть уже ничего странного, смешного или оскорбительного. Если бы Тинг приказал опуститься на четвереньки, и это было бы исполнено, так как в руках стоящего была смерть.
— Я буду судить вас, — быстро произнес Тинг. — Вы — мой. Говорите.
— Говорить? — спросил Блюм совершенно таким же, как и охотник, отчетливым, тихим голосом. — А что? В конце концов я неразговорчив. Судить? Бросьте. Вы не судья. Что вы хотите? Нажмите спуск, и делу конец. Убить вы можете меня, и с треском.
— Гергес, — сказал Тинг, — значит, конец. Вы об этом подумали?
— Да, я сообразил это. — Самообладание постепенно возвращалось к Блюму, наполняя горло его сухим смехом. — Но что же, я хорошо сделал дело.
Палец Тинга, лежавший на спуске курка, дрогнул и разжался. Тинг опустил ружье, — он боялся нового, внезапного искушения.
— Вы видите, — продолжал Блюм, оскаливаясь, — я человек прямой. Откровенность за откровенность. Вы грозитесь меня убить, и так как я влез к вам в душу, вы можете и исполнить это. Поэтому выслушайте меня.
— Я слушаю.
— «Ассунта, — кривляясь, закричал Блюм. — О, ты, бедное дитя». Вы, конечно, произносили эти слова; приятно. Очень приятно. Она милая и маленькая. Вы мне противны. Почему я мог думать, что вы не спите еще? Вам тоже досталось бы на орехи. План мой был несколько грандиознее и не удался, черт с ним! Но верите ли, это тяжело. Я это поставлю в счет кому-нибудь другому. Хотя, конечно, я нанес вам хороший удар. Мне сладко.
— Дальше, — сказал Тинг.
— Во-первых, я вас не боюсь. Я — преступник, но я под защитой закона. Вы ответите за мою смерть. Вероятно, вы гордитесь тем, что разговариваете со мной. Не в этом дело. У меня столько припасено гостинцев, что глаза разбегаются. Я выложу их, не беспокойтесь. Если вы прострелите мне башку, то будете по крайней мере оплеваны. Если бы я убил вас раньше ее… то… впрочем, вы понимаете.
— Я ничего не понимаю, Гергес, — холодно сказал Тинг, — мне противно слушать вас, но, может быть, этот ваш бред даст мне по крайней мере намек на понимание. Я не перебью вас. Я слушаю.
— Овладеть женщиной, — захлебываясь и торопясь, продолжал Блюм, как будто опасался, что ему выбьют зубы на полуслове, — овладеть женщиной, когда она сопротивляется, кричит и плачет… Нужно держать за горло. После столь тонкого наслаждения я убил бы ее тут же и, может быть, привел бы сам в порядок ее костюм. Отчего вы дрожите? Погода ведь теплая. Я не влюблен, нет, а так, чтобы погуще было. У нее, должно быть, нежная кожа. А может быть, она бы еще благодарила меня.
Раз сорвавшись, он не удерживался. В две-три минуты целый поток грязи вылился на Тинга, осквернил его и наполнил самого Блюма веселой злобой отчаяния, граничащего с исступлением.
— Дальше, — с трудом проговорил Тинг, раскачиваясь, чтобы не выдать себя. Дрожь рук мешала ему быть наготове, он сильно встряхнул головой и ударил прикладом в землю. — Говорите, я не перебью вас.
— Сказано уже. Но я посмотрел бы, как вы припадете к трупу и прольете слезу. Но вы ведь мужчина, сдержитесь, вот в чем беда. В здешнем климате разложение начинается быстро.
— Она жива, — сказал Тинг, — Гергес, она жива.
— Ложь.
— Она жива.
— Вы хотите меня помучить. Вы врете.
— Она жива.
— Прицел был хорош. Тинг, что вы делаете со мной?
— Она жива.
— Вы помешались.
— Она жива, говорю я. Зачем вы сделали это?
— Тинг, — закричал Блюм, — как смеете вы спрашивать меня об этом! Что вы — ребенок? Две ямы есть: а одной барахтаетесь вы, в другой — я. Маленькая, очень маленькая месть, Тинг, за то, что вы в другой яме.
— Сон, — медленно сказал Тинг, — дикий сон.
Наступило молчание. Издыхающая лошадь Блюма забила передними ногами, приподнялась и, болезненно заржав, повалилась в траву.
— Ответьте мне, — проговорил Тинг, — поклянетесь ли вы, если я отпущу вас, спрятать свое жало?
Блюм вздрогнул.
— Я убью вас через несколько дней, если вы это сделаете, — сказал он деловым тоном. — И именно потому, что я говорю так, вы, Тинг, освободите меня. Убивать безоружного не в вашей натуре.
— Вот, — продолжал Тинг, как бы не слушая, — второй раз я спрашиваю вас, Гергес, что сделаете вы в этом случае?
— Я убью вас, милашка. — Блюм ободрился, сравнительная продолжительность разговора внушала уверенность, что человек, замахивающийся несколько раз, не ударит. — Да.
— Вы уверены в этом?
— Да. Разрешите мне убить вас через неделю. Я выслежу вас, и вы не будете мучиться. Вы заслужили это.
— Тогда, — спокойно произнес Тинг, — я должен предупредить вас. Это говорю я.
Он вскинул ружье и прицелился. Острые глаза его хорошо различали фигуру Блюма; вначале Тинг выбрал голову, но мысль прикоснуться к лицу этого человека даже пулей была ему невыразимо противна. Он перевел дуло на грудь Блюма и остановился, соображая положение сердца.
— Я пошутил, — глухо сказал Блюм. Холодный, липкий пот ужаса выступил на его лице, движение ружья Тинга было невыносимо, оглушительно, невероятно, как страшный сон. Предсмертная тоска перехватила дыхание, мгновенно убив все, кроме мысли, созерцающей смерть. Его тошнило, он шатался и вскрикивал, бессильный переступить с ноги на ногу.
— Я пошутил. Я сошел с ума. Я не знаю. Остановитесь.
И вдруг быстрый, как молния, острый толчок сердца сказал ему, что вот это мгновение — последнее. Пораженный, Тинг удержал выстрел: глухой, рыдающий визг бился в груди Блюма, сметая тишину ночи.
— А-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! — кричал Блюм. Он стоял, трясся и топал ногами, ужас душил его.
Тинг выстрелил. Перед ним на расстоянии четырех шагов зашаталась безобразная, воющая и визжащая фигура, перевернулась, взмахивая руками, согнулась и сунулась темным комком в траву.
Было два, остался один. Один этот подозвал лошадь, выбросил из ствола горячий патрон, сел в седло и уехал, не оглянувшись, потому что мертвый безвреден и потому что в пустыне есть звери и птицы, умеющие похоронить труп.
VII
Самая маленькая
— Тинг, ты не пишешь дней двадцать?
— Да, Ассунта.
— Почему? Я здорова, и это было, мне кажется, давно-давно.
Тинг улыбнулся.
— Ассунта, — сказал он, подходя к окну, где на подоконнике, подобрав ноги, сидела его жена, — оставь это. Я буду писать. Я все думаю.
— О нем?
— Да.
— Ты жалеешь?
— Нет. Я хочу понять. И когда пойму, буду спокоен, весел и тверд, как раньше.
Она взяла его руку, раскачивая ее из стороны в сторону, и засмеялась.
— Но ты обещал написать для меня стихи, Тинг.
— Да.
— О чем же? О чем?
— О тебе. Разве есть у меня что-либо больше тебя, Ассунта?
— Верно, — сказала маленькая женщина. — Ты прав. Это для меня радость.
— Ты сама — радость. Ты вся — радость. Моя.
— Какая радость, Тинг? Огромная, больше жизни?
— Грозная. — Тинг посмотрел в окно; там, над провалом земной коры, струился и таял воздух, обожженный полуднем. — Грозная радость, Ассунта. Я не хочу другой радости.
— Хорошо, — весело сказала Ассунта. — Тогда отчего никто меня не боится? Ты сделай так, Тингушок, чтобы боялись меня.
— Грозная, — повторил Тинг. — Иного слова нет и не может быть на земле.
Проходной двор
I
Извозчик Степан Рощин выехал к Николаевскому вокзалу в семь часов утра, встал от подъезда девятым и стал ждать. Сначала, как это всегда бывает перед приходом поезда, подъезд был пуст. Потом, вслед за первой же вынесенной артельщиком картонкой, запрыгали вниз со спин носильщиков тяжелые чемоданы, ящики, портпледы; извозчики засуетились, бодря лошадей и выкрикивая:
— Вот сюда, недорого свезу, пожалуйте.
Рощину как не повезло при выезде из извозчичьего трактира «Пильна», когда он, стукнувшись задним колесом о тумбу, повредил ось и пришлось чинить ее, потеряв час, — так и теперь не повезло. Вокруг него, подпрыгивая в колясках, один за другим ехали в гущу городских улиц обложившиеся вещами приехавшие господа, а с той стороны подъезда, где стоял он, извозчиков брали все время так капризно и туго, что разъезд стал редеть, а Рощин все еще стоял третьим по очереди. Подходили не в очередь и к нему, да все шантрапа нестоящая: один рядил в Гавань за рубль и, сторговавшись, полез в кошелек, после чего сказал, рассмотрев деньги:
— Нет, восемь гривен, больше не дам.
Рощин вспылил, но промолчал; ругаться не позволяют, и, кроме того, городовые номер записывают, а после в участке нагайкой, а то штраф или номерную жестянку отберут.
Этот восьмигривенный отошел, носильщик, бросив Рощину на сиденье чемодан какого-то старика в крылатке, уже сказал адрес, но ничего не вышло, барин другого нанял, и чемодан сняли. А два раза было так, что Рощин сам заупрямился, не хотел дешево ехать, потом слышал, как другим те же господа больше дали, уселись и покатили.
Рощин был извозчик невидный, непредставительный, сутуловатый, с красными от болезни глазами, сидел он на козлах как-то не крепко, горбом, и лошадь у него была пегая, маленькая, мохноногая, грязная, с большой головой на тощей шее; словом, прохожий, видя Рощина в тылу какого-нибудь орловского или ярославского парня, с глазами навыкате и крутой грудью, думал: «Старый хрен, повезет плохо да еще ворчать будет, возьму пригожего Ваньку». По этому ли всему или потому, что неудачливые дни бывают у всякого человека, Рощин от вокзала поехал порожняком. «На Знаменской стать, — подумал Рощин, — или еще туда на Фурштатскую или Шпалерную, трамвай не грохотнет, нет-нет, да и клюнет какой, не все господская шантрапа».
II
Постояв на углах и у подъездов попроще, откуда не гоняли швейцары, Рощин, вздохнув, тронул к Летнему саду. У Рощина вчера была неполная выручка, своих сорок копеек доложить хозяину пришлось, так что сегодня рубля четыре непременно добыть было бы надо.
«Незадача», — подумал Рощин, когда в пятый, шестой раз барин из «самостоятельных», пройдя мимо Степана, взял поодаль стоящего извозчика по набережной, меж поплавком и Летним.
Все время мчались извозчики; окидывая привычным взглядом восседающих в колясках господ, Рощин механически отмечал про себя: «Этот — сорок копеек, с бородой — шесть гривен, девчонка — за двадцать».
Солнце поднялось выше, наряднее, гуще и суетливее пошла уличная толпа, стало пыльно и жарко, а за Невой, в крепости, прозвонили куранты.
«Никак десять, — вздохнул Рощин, — и никогда же не бывало такого, господи упаси».
Прислушавшись, стал он считать и насчитал одиннадцать колокольных ударов.
— Одиннадцать, — сказал Рощин, почесывая затылок, — копейки не заработал.
Досадливое, томительное беспокойство овладело им. Оглядываясь по сторонам и с ненавистью конкурента сплевывая вслед фыркающим щеголеватым моторам, Рощин, степенно похлестывая лошадь, выехал к Марсову полю, обогнул его, свернул на Моховую, остановился и, загнув полу армяка, вытащил шерстяной кисет.
— Вот, — пробормотал он, закуривая, — какие дела, без почина.
Студент шел по тротуару, зевая и щурясь. Рощин спохватился, удачная от неудач мысль пришла ему в голову:
— Садитесь, ваше степенство, — сказал он, — вот провезу.
— Денег нет.
— А без денег. Для почину, куда прикажете.
— Нет, не хочу, — подумав и уходя сказал студент, — некуда торопиться.
«Черт, вот черт, — подумал Рощин, — известно, с анбицией».
Он стал размышлять о сущности и естестве жизни господской. А господ видел Рощин на своем веку много, во всем городе, почитай, половина господ, и никак ума не приложишь, чем эти господа существуют. Конечно, банки, конторы, присутственные места и все такое, там эти господа и сидят. С другой же стороны, господ как будто несоизмеримое множество. Одет в сюртучок, манишку, сапоги чищены и взгляд строгий — господин, иначе не назовешь, а чем он промышляет…
— И вот сколько в Питере бар, — сказал Рощин, — так и во все конторы не втиснешь, ан, втиснешь. Нет, не упоместятся, — сказал, вздохнув, он, — а чем живут, поди же ты, все господа…
Через полчаса затосковал Рощин о седоке так крепко, что дернул со злости вожжами, и лошадь, испуганно вздрогнув всем телом, стала грызть удила.
— Извозчик! — крикнули с тротуара.
— Я-с… вот-с, — стремительно отозвался Рощин, перегибаясь с козел, и даже просиял: перед ним, одетый с иголочки, молодой, краснощекий здоровяк-барин помахивал нетерпеливо тросточкой.
— По часам, — сказал барин, — согласен?
— Хорошо-с, рублик-с, — угодливо сказал Рощин, — а долго прикажете ездить?
— Там увидим.
Барин вскочил, уселся и закричал:
— Ну, пошел живо на Сергиевскую.
Рощин снял шапку, торопливо перекрестился, дернул вожжами, и в тот же момент пушечный гулкий удар раскатился над городом.
«Двенадцать, — подумал Рощин, — только бы сидел, да ездил, а пятерку я выстребую».
Седок был человек молодой, здоровый, с высоким лбом, безусый, с серыми, близорукими, часто мигающими глазами.
На Сергиевской остановились чуть-чуть; барин подбежал к швейцару и спросил что-то, на что, высокомерно дернув вверх головой, швейцар сказал:
— Никак нет-с. Выехали.
— А куда?
— Это нам неизвестно.
— Но, поймите же… — начал седок и вдруг, как бы спохватившись, отошел, вытирая платком лоб.
«Нет, поездишь», — подумал Рощин.
Седок стоял на тротуаре, опустив голову, затем сел.
— Невский, угол Морской, — сказал он в раздумьи и тотчас же крикнул: — Нет-нет, пошел на Лиговку, да живее, смотри, номер двести тридцатый!
«Эка хватил», — подумал Рощин, послушно завернул и помчался. Отстоявшаяся лошадь бежала бойко, но по часам торопиться невыгодно, и Степан пустил ее коночным шагом.
— Извозчик, живее! — крикнул за спиною Рощина барин.
Рощин прибавил рыси. Через полчаса подъехали к месту, барин, соскочив на ходу, скрылся в подъезде и вышел минут через десять сердитый, злым голосом говоря:
— Гороховая, 16.
С Гороховой же заехали еще неподалеку — на Офицерскую, Вознесенский, и везде барин проводил времени пять — десять минут, выходя все более усталый и бледный, и уже не торопил Рощина, а спокойно говорил:
— Извозчик, поезжай теперь туда и туда.
К трем остановились у Английской набережной, и седок не выходил с полчаса. Кроме Рощина, у подъезда стояли еще извозчики, один знакомый, Сидоров. Сидоров спросил:
— Кого возишь?
— А кто знает, сел по часам, рубль за час.
— Давно?
— Трешку наездил.
— А не удерет? — зевнул Сидоров. — Намедни возил я одного шарлатана, бродягу, да у Пяти Углов его и след простыл, из магазина выскочил, я и не видал, когда.
— Ну, — сказал Рощин, — видать, ведь… — Прибавил: — А черт его знает.
Поддаваясь невольному беспокойству, он стал смотреть на ворота, не выйдет ли седок в ворота с целью удрать, но в этот момент он вышел из подъезда и, по рассеянности, стал садиться на другого извозчика.
— Сюда, сюда, барин! — крикнул Рощин. — Куда ехать?
— Куда ехать, — повторил седок.
Рощин передернул плечами и усмехнулся: чудной барин.
— Ты поезжай шагом, — торопливо заговорил седок, — тихонько поезжай, я тебе скажу.
— Слушаюсь, — лениво и уже с оттенком пренебрежения ответил Рощин.
Он проехал три фонарных столба, думая: «А кого посадил? Попросить бы расчету, да в сторону, вдруг удерет? Лошадь запылилась и самому чаю охота». Но, подумав так, вспомнил, что два целковых еще взять хорошо. Было в унылом лице седока, в нерешительных движениях его и в голосе что-то возбуждающее сомнение. Много таких есть, ездят, а за деньгами потом на другой день просят приехать.
— Что же теперь будет? — тихо, говоря, по-видимому, сам с собой, неожиданно сказал седок. — Да… — прибавил он и замолчал.
Рощин подозрительно оглянулся.
— Это насчет чего? — спросил он. — Адрес изволите?
Седок не ответил, он вдруг выскочил из коляски и бросился стремглав к тротуару. Рощин замер от удивления, барин же остановил какую-то барышню из молодых, стал трясти ей руку и заговорил, а она поспешно отошла от него, вскрикнув, тяжело дыша и блестя глазами. Рощин подъехал шажком ближе, но уже ничего не услышал, разговор кончился. Барышня, не оглядываясь, поспешно шла вперед, а седок, махнув рукой, остался стоять. Наконец, повернулся он к Рощину разгоревшимся лицом и стал улыбаться, смотря прямо извозчику в глаза так, как слепые улыбаются наугад, — в какую попало сторону.
«То ли пьян, то ли как не в своем уме», — подумал Рощин и, закряхтев, сказал:
— Ехать изволите?
— Да, — стремительно ответил барин, сел и, поворочавшись беспокойно, сказал:
— Ты вот что… да… на Караванную. Ты не торопись.
«Этот конец доеду, — подумал Рощин. — Рубля четыре вымотаю. Удерет он, сердце у меня за него болит. За деньги свои вроде как он заездился. Пущай пока что».
Лошадь трусила мелко, понурясь, Рощин вздремнул. За спиной было тихо, седок больше не проронил ни слова, только на углу Невского сказал:
— Куда ты? Направо держи.
Рощин очнулся. Сверкнул раскаленный, жаркий Невский. Белые карнизы окон бросали скудную тень. Взад и вперед мчались извозчики, и в лице каждого седока Рощин читал: полтинник, тридцать, четвертак, рубль.
— Вот и приехали, — глухо, как бы присмирев весь, сказал седок. Он слез, медленно говоря:
— Ты подожди, я, может, еще поеду.
— А деньги, барин, коли не поедете? — беспокойно спросил Рощин. — Четыре рублика.
— Да, деньги.
Барин полез в карман, порылся в кошельке, и Рощин заметил, что он еле приметно покачал головой.
— Сейчас, может быть… — Седок быстро повернулся и зашел в магазин.
«Не удерет, — подумал Рощин, — из магазина-то как», — и, покосившись на ворота, у которых остановился, вспомнил, что это и есть тот самый проходной двор, куда месяц тому назад скрылся господин, по виду вполне порядочный. Снова тревога овладела извозчиком. «Да ведь не во двор зашел, — успокаивал он себя, — из магазина сквозь стену не пролезешь!»
Рощин закурил, вспоминая прежние удачные дни и мечтая о будущих.
«Вот хорошо провезти рублика за два с барышней на стрелку, а оттуда в ресторанчик да за простой — рубль, да махнуть в „Аквариум“ или „Олимпию“, а поутру на тони. И все бы так подряд, до утра. Десятка уж тут как тут». Вспоминались ему швыряющие деньгами пьяные котелки, манишки грудастые, пальцы с перстнями. «Это все есть, не уйдет». Рощин повеселел, выпрямился и вдруг увидел, как из магазина, куда зашел седок, выскочил, махая руками, приказчик, тут же собралась кучка народа и, расправляя усы, устремился к магазину городовой.
Рощин не успел тронуть вожжами, чтобы подъехать и расспросить в чем дело, как из толпы закричали:
— Извозчик!
Недоуменно мигая, приблизился он к толпе и остановился.
— В больницу повезешь. Эй, — крикнул городовой, пятясь задом, и что-то с усилием вынес из дверей; ему помогал приказчик.
Рощин вздрогнул, похолодел и перекрестился. На руках приказчика и городового висел, согнувшись, повернув набок окровавленное лицо, седок.
— Тут же леворвер купил, — сочувственно сказал дворник на вопрос любопытного прохожего, — оружейный магазин это.
— Господин городовой… — затосковав, сказал Рощин, — а кто мне деньги — четыре я рубля выездил, пропадут, што ль? А за больницу-то?
— Ты поразговаривай, — мстительно прошипел городовой, — я тебе дам, — и, повернувшись к толпе, крикнул:
— Расходись, чего не видали!
В коляску, торопясь, укладывали мертвого седока; обхватив труп рукой, сел полицейский, сказав неизвестно кому:
— Череп навылет, тут доктора известные — гроб да земля.
Еще не опомнившийся от случившегося, Рощин машинально дернул вожжами, бормоча вполголоса:
— В больнице продержут, пропал день; барина, оно, конечно, жалко, да своя ближе рубашка к телу, ужо просить буду, чтоб обыскали, деньги пускай дадут. Подождал бы стреляться-то, — сказал он, подумав, — или на леворверт денег тебе не хватило?
И, озлясь, больно стегнул лошадь.
Жизнь Гнора
Большие деревья притягивают молнию.
Александр ДюмаI
Рано утром за сквозной решеткой ограды парка слышен был тихий разговор. Молодой человек, спавший в северной угловой комнате, проснулся в тот момент, когда короткий выразительный крик женщины заглушил чириканье птиц.
Проснувшийся некоторое время лежал в постели; услышав быстрые шаги под окном, он встал, откинул гардину и никого не заметил; все стихло, раннее холодное солнце падало в аллеи низким светом; длинные росистые тени пестрили веселый полусон парка; газоны дымились, тишина казалась дремотной и неспокойной.
«Это приснилось», — подумал молодой человек и лег снова, пытаясь заснуть.
— Голос был похож, очень похож, — пробормотал он, поворачиваясь на другой бок. Так он дремал с открытыми глазами минут пять, размышляя о близком своем отъезде, о любви и нежности. Вставали полузабытые воспоминания; в утренней тишине они приобретали трогательный оттенок снов, волнующих своей неосязаемой беглостью и невозвратностью.
Обратившись к действительности, Гнор пытался некоторое время превратить свои неполные двадцать лет в двадцать один. Вопрос о совершеннолетии стоял для него ребром: очень молодым людям, когда они думают жениться на очень молодой особе, принято чинить разные препятствия. Гнор обвел глазами прекрасную обстановку комнаты, в которой жил около месяца. Ее солидная роскошь по отношению к нему была чем-то вроде надписи, вывешенной над конторкой дельца: «сутки имеют двадцать четыре часа». На языке Гнора это звучало так: «у нее слишком много денег».
Гнор покраснел, перевернул горячую подушку — и сна не стало совсем. Некоторое время душа его лежала под прессом уязвленной гордости; вслед за этим, стряхнув неприятную тяжесть, Гнор очень непоследовательно и нежно улыбнулся. Интимные воспоминания для него, как и для всякой простой души, были убедительнее выкладок общественной математики. Медленно шевеля губами, Гнор повторил вслух некоторые слова, сказанные вчера вечером; слова, перелетевшие из уст в уста, подобно птицам, спугнутым на заре и пропавшим в тревоге сумерек. Все крепче прижимаясь к подушке, он вспомнил первые осторожные прикосновения рук, серьезный поцелуй, блестящие глаза и клятвы. Гнор засмеялся, укутав рот одеялом, потянулся и услышал, как в дальней комнате повторился шесть раз глухой быстрый звон.
— Шесть часов, — сказал Гнор, — а я не хочу спать. Что мне делать?
Исключительное событие вчерашнего дня наполняло его светом, беспричинной тоской и радостью. Человек, получивший первый поцелуй женщины, не знает на другой день, куда девать руки и ноги; все тело, кроме сердца, кажется ему несносной обузой. Вместе с тем потребность двигаться, жить и начать жить как можно раньше бывает постоянной причиной неспокойного сна счастливых. Гнор торопливо оделся, вышел, прошел ряд бледных, затянутых цветным шелком лощеных зал; в последней из них стенное зеркало отразило спину сидящего за газетой человека. Человек этот сидел за дальним угловым столом; опущенная голова его поднялась при звуке шагов Гнора; последний остановился.
— Как! — сказал он, смеясь. — Вы тоже не спите?! Вы, образец регулярной жизни! Теперь, по крайней мере, я могу обсудить с вами вдвоем, что делать, проснувшись так безрассудно рано.
У человека с газетой было длинное имя, но все и он сам довольствовались одной частью его: Энниок. Он бросил зашумевший лист на пол, встал, лениво потер руки и вопросительно осмотрел Гнора. Запоздалая улыбка появилась на его бледном лице.
— Я не ложился, — сказал Энниок. — Правда, для этого не было особо уважительных причин. Но все же перед отъездом я имею привычку разбираться в бумагах, делать заметки. Какое сочное золотистое утро, не правда ли?
— Вы тоже едете?
— Да. Завтра.
Энниок смотрел на Гнора спокойно и ласково; обычно сухое лицо его было теперь привлекательным, почти дружеским. «Как может меняться этот человек, — подумал Гнор, — он — целая толпа людей, молчаливая и нервная толпа. Он один наполняет этот большой дом».
— Я тоже уеду завтра, — сказал Гнор, — и хочу спросить вас, в каком часу отходит «Епископ Архипелага»?
— Не знаю. — Голос Энниока делался все более певучим и приятным. — Я не завишу от пароходных компаний; ведь у меня, как вы знаете, есть своя яхта. И если вы захотите, — прибавил он, — для вас найдется хорошенькая поместительная каюта.
— Благодарю, — сказал Гнор, — но пароход идет прямым рейсом. Я буду дома через неделю.
— Неделя, две недели — какая разница? — равнодушно возразил Энниок. — Мы посетим глухие углы земли и напомним самим себе любопытных рыб, попавших в золотые сети чудес. О некоторых местах, особенно в молодости, остаются жгучие воспоминания. Я знаю земной шар; сделать крюк в тысячу миль ради вас и прогулки не даст мне ничего, кроме здоровья.
Гнор колебался. Парусное плавание с Энниоком, гостившим два месяца под одной крышей с ним, казалось Гнору хорошим и скверным. Энниок разговаривал с ней, смотрел на нее, втроем они неоднократно совершали прогулки. Для влюбленных присутствие такого человека после того, как предмет страсти сделался невидимым, далеким, служит иногда горьким, но осязательным утешением. А скверное было то, что первое письмо Кармен, подлинный ее почерк, бумага, на которой лежала ее рука, ждали бы его слишком долго. Это прекрасное, не написанное еще письмо Гнор желал прочесть как можно скорее.
— Нет, — сказал он, — я благодарю и отказываюсь.
Энниок поднял газету, тщательно сложил ее, бросил на стол и повернулся лицом к террасе. Утренние, ослепительные ее стекла горели зеленью; сырой запах цветов проникал в залу вместе с тихим ликованием света, делавшим холодную пышность здания ясной и мягкой.
Гнор посмотрел вокруг, как бы желая запомнить все мелочи и подробности. Дом этот стал важной частью его души; на всех предметах, казалось, покоился взгляд Кармен, сообщая им таинственным образом нежную силу притяжения; беззвучная речь вещей твердила о днях, прошедших быстро и беспокойно, о болезненной тревоге взглядов, молчании, незначительных разговорах, волнующих, как гнев, как радостное потрясение; немых призывах улыбающемуся лицу, сомнениях и мечтах. Почти забыв о присутствии Энниока, Гнор молча смотрел в глубь арки, открывающей перспективу дальних, пересеченных косыми столбами дымного утреннего света, просторных зал. Прикосновение Энниока вывело его из задумчивости.
— Отчего вы проснулись? — спросил Энниок зевая. — Я выпил бы кофе, но буфетчик еще спит, также и горничные. Вы, может быть, видели страшный сон?
— Нет, — сказал Гнор, — я стал нервен… Какой-то пустяк, звуки разговора, быть может, на улице…
Энниок взглянул на него из-под руки, которой тер лоб, вдумчиво, но спокойно. Гнор продолжал:
— Пойдемте в биллиардную. Мне и вам совершенно нечего делать.
— Охотно. Я попытаюсь отыграть вчерашний свой проигрыш раззолоченному мяснику Кнасту.
— Я не играю на деньги, — сказал Гнор и, улыбаясь, прибавил: — у меня их к тому же теперь в обрез.
— Мы договоримся внизу, — сказал Энниок.
Он быстро пошел вперед и исчез в крыле коридора. Гнор двинулся вслед за ним. Но, услыхав сзади хорошо знакомые шаги, обернулся и радостно протянул руки. Кармен подходила к нему с недоумевающим, бледным, но живым и ясным лицом; движения ее обнаруживали беспокойство и нерешительность.
— Это не вы, это солнце, — сказал Гнор, взяв маленькую руку, — оттого так светло и чисто. Почему вы не спите?
— Не знаю.
Эта изящная девушка, с доброй складкой бровей и твердым ртом, говорила открытым грудным голосом, немного старившим ее, как бабушкин чепчик, надетый десятилетней девочкой.
— А вы?
— Сегодня никто не спит, — сказал Гнор. — Я люблю вас. Энниок и я — мы не спим. Вы третья.
— Бессонница. — Она стояла боком к Гнору; рука ее, удержанная молодым человеком, доверчиво забиралась в его рукав, оставляя меж сукном и рубашкой блаженное ощущение мимолетной ласки. — Вы уедете, но возвращайтесь скорее, а до этого пишите мне чаще. Ведь и я люблю вас.
— Есть три мира, — проговорил растроганный Гнор, — мир красивый, прекрасный и прелестный. Красивый мир — это земля, прекрасный — искусство. Прелестный мир — это вы. Я совсем не хочу уезжать, Кармен; этого хочет отец; он совсем болен, дела запущены. Я еду по обязанности. Мне все равно. Я не хочу обижать старика. Но он уже чужой мне; мне все чуждо, я люблю только вас одну.
— И я, — сказала девушка. — Прощайте, мне нужно прилечь, я устала, Гнор, и если вы…
Не договорив, она кивнула Гнору, продолжая смотреть на него тем взглядом, каким умеет смотреть лишь женщина в расцвете первой любви, отошла к двери, но возвратилась и, подойдя к роялю, блестевшему в пыльном свете окна, тронула клавиши. То, что она начала играть негромко и быстро, было знакомо Гнору; опустив голову, слушал он начало оригинальной мелодии, веселой и полнозвучной. Кармен отняла руки; неоконченный такт замер вопросительным звоном.
— Я доиграю потом, — сказала она.
— Когда?
— Когда ты будешь со мной.
Она улыбнулась и, улыбаясь, скрылась в боковой двери.
Гнор тряхнул головой, мысленно докончил мелодию, оборванную Кармен, и ушел к Энниоку. Здесь были сумерки; низкие окна, завешанные плотной материей, почти не давали света; небольшой ореховый биллиард выглядел хмуро, как ученическая меловая доска в пустом классе. Энниок нажал кнопку; электрические тюльпаны безжизненно засияли под потолком; свет этот, мешаясь с дневным, вяло озарил комнату. Энниок рассматривал кий, тщательно намелил его и сунул под мышку, заложив руки в карман.
— Начинайте вы, — сказал Гнор.
— На что мы будем играть? — медленно произнес Энниок, вынимая руку из кармана и вертя шар пальцами. — Я возвращаюсь к своему предложению. Если вы проиграете, я везу вас на своей яхте.
— Хорошо, — сказал Гнор. Ироническая беспечность счастливого человека овладела им. — Хорошо, яхта — так яхта. Во всяком случае, это лестный проигрыш! Что вы ставите против этого?
— Все, что хотите. — Энниок задумался, выгибая кий; дерево треснуло и выпало из рук на паркет. — Как я неосторожен, — сказал Энниок, отбрасывая ногой обломки. — Вот что: если выиграете, я не буду мешать вам жить, признав судьбу.
Эти слова произнес он быстро, чуть-чуть изменившимся голосом, и тотчас же принялся хохотать, глядя на удивленного Гнора неподвижными, добрыми глазами.
— Я шутник, — сказал он. — Ничего не доставляет мне такого, по существу, безобидного удовольствия, как заставить человека разинуть рот. Нет, выиграв, вы требуете и получаете все, что хотите.
— Хорошо. — Гнор выкатил шар. — Я не разорю вас.
Он сделал три карамболя, отведя шар противника в противоположный угол, и уступил место Энниоку.
— Раз, — сказал тот. Шары забегали, бесшумными углами чертя сукно, и остановились в выгодном положении. — Два. — Ударяя кием, он почти не сходил с места. — Три. Четыре. Пять. Шесть.
Гнор, принужденно улыбаясь, смотрел, как два покорных шара, отскакивая и кружась, подставляли себя третьему, бегавшему вокруг них с быстротой овчарки, загоняющей стадо. Шар задевал поочередно остальных двух сухими щелчками и возвращался к Энниоку.
— Четырнадцать, — сказал Энниок; крупные капли пота выступили на его висках; он промахнулся, перевел дух и отошел в сторону.
— Вы сильный противник, — сказал Гнор, — и я буду осторожен.
Играя, ему удалось свести шары рядом; он поглаживал их своим шаром то с одной, то с другой стороны, стараясь не разъединить их и не оставаться с ними на прямой линии. Попеременно, делая то больше, то меньше очков, игроки шли поровну; через полчаса на счетчике у Гнора было девяносто пять, девяносто девять у Энниока.
— Пять, — сказал Гнор. — Пять, — повторил он, задев обоих, и удовлетворенно вздохнул. — Мне остается четыре.
Он сделал еще три удара и скиксовал на последнем: кий скользнул, а шар не докатился.
— Ваше счастье, — сказал Гнор с некоторой досадой, — я проиграл.
Энниок молчал. Гнор взглянул на сукно и улыбнулся: шары стояли друг против друга у противоположных бортов; третий, которым должен был играть Энниок, остановился посередине биллиарда; все три соединялись прямой линией. «Карамболь почти невозможен», — подумал он и стал смотреть.
Энниок согнулся, уперся пальцами левой руки в сукно, опустил кий и прицелился. Он был очень бледен, бледен, как белый костяной шар. На мгновение он зажмурился, открыл глаза, вздохнул и ударил изо всей силы под низ шара; шар блеснул, щелкнул дальнего, взвившегося дугой прочь, и, быстро крутясь в обратную сторону, как бумеранг, катясь все тише, легко, словно вздохнув, тронул второго. Энниок бросил кий.
— Я раньше играл лучше, — сказал он. Руки его тряслись.
Он стал мыть их, нервно стуча педалью фаянсового умывальника.
Гнор молча поставил кий. Он не ожидал проигрыша, и происшедшее казалось ему поэтому вдвойне нелепым. «Ты не принесла мне сегодня счастья, — подумал он, — и я не получу скоро твоего письма. Все случайность».
— Все дело случая, — как бы угадывая его мысли, сказал Энниок, продолжая возиться у полотенца. — Может быть, вы зато счастливы в любви. Итак, я вам приготовлю каюту. Недавно наверху играла Кармен; у нее хорошая техника. Как странно, что мы трое проснулись в одно время.
— Странно? Почему же? — рассеянно сказал Гнор. — Это случайность.
— Да, случайность. — Энниок погасил электричество. — Пойдемте завтракать, милый, и поговорим о предстоящем нам плавании.
II
Зеленоватые отсветы волн, бегущих за круглым стеклом иллюминатора, ползли вверх, колебались у потолка и, снова, повинуясь размахам судна, бесшумно неслись вниз. Ропот водяных струй, обливающих корпус яхты стремительными прикосновениями; топот ног вверху; заглушенный возглас, долетающий как бы из другого мира; дребезжание дверной ручки; ленивый скрип мачт, гул ветра, плеск паруса; танец висячего календаря на стене — весь ритм корабельного дня, мгновения тишины, полной сурового напряжения, неверный уют океана, воскрешающий фантазии, подвиги и ужасы, радости и катастрофы морских летописей, — наплыв впечатлений этих держал Гнора минут пять в состоянии торжественного оцепенения; он хотел встать, выйти на палубу, но тотчас забыл об этом, следя игру брызг, стекавших по иллюминатору мутной жижей. Мысли Гнора были, как и всегда, в одной точке отдаленного берега — точке, которая была отныне постоянной их резиденцией.
В этот момент вошел Энниок; он был очень весел; клеенчатая морская фуражка, сдвинутая на затылок, придавала его резкому подвижному лицу оттенок грубоватой беспечности. Он сел на складной стул. Гнор закрыл книгу.
— Гнор, — сказал Энниок, — я вам готовлю редкие впечатления. «Орфей» через несколько минут бросит якорь, мы поедем вдвоем на гичке. То, что вы увидите, восхитительно. Милях в полутора отсюда лежит остров Аш; он невелик, уютен и как бы создан для одиночества. Но таких островов много; нет, я не стал бы отрывать вас от книги ради сентиментальной прогулки. На острове живет человек.
— Хорошо, — сказал Гнор, — человек этот, конечно, Робинзон или внук его. Я готов засвидетельствовать ему свое почтение. Он угостит нас козьим молоком и обществом попугая.
— Вы угадали. — Энниок поправил фуражку, оживление его слиняло, голос стал твердым и тихим. — Он живет здесь недавно, я навещу его сегодня в последний раз. После ухода гички он не увидит более человеческого лица. Мое желание ехать вдвоем с вами оправдывается способностью посторонних глаз из пустяка создавать истории. Для вас это не вполне понятно, но он сам, вероятно, расскажет вам о себе; история эта для нашего времени звучит эхом забытых легенд, хотя так же жизненна и правдива, как вой голодного или шишка на лбу; она жестока и интересна.
— Он старик, — сказал Гнор, — он, вероятно, не любит жизнь и людей?
— Вы ошибаетесь. — Энниок покачал головой. — Нет, он совсем еще молодое животное. Он среднего роста, сильно похож на вас.
— Мне очень жалко беднягу, — сказал Гнор. — Вы, должно быть, единственный, кто ему не противен.
— Я сам состряпал его. Это мое детище. — Энниок стал тереть руки, держа их перед лицом; дул на пальцы, хотя температура каюты приближалась к точке кипения. — Я, видите ли, прихожусь ему духовным отцом. Все объяснится. — Он встал, подошел к трапу, вернулся и, предупредительно улыбаясь, взял Гнора за пуговицу. — «Орфей» кончит путь через пять, много шесть дней. Довольны ли вы путешествием?
— Да. — Гнор серьезно взглянул на Энниока. — Мне надоели интернациональные плавучие толкучки пароходных рейсов; навсегда, на всю жизнь останутся у меня в памяти смоленая палуба, небо, выбеленное парусами, полными соленого ветра, звездные ночи океана и ваше гостеприимство.
— Я — сдержанный человек, — сказал Энниок, качая головою, как будто ответ Гнора не вполне удовлетворил его, — сдержанный и замкнутый. Сдержанный, замкнутый и мнительный. Все ли было у вас в порядке?
— Совершенно.
— Отношение команды?
— Прекрасное.
— Стол? Освещение? Туалет?
— Это жестоко, Энниок, — возразил, смеясь, Гнор, — жестоко заставлять человека располагать в виде благодарности лишь жалкими человеческими словами. Прекратите пытку. Самый требовательный гость не мог бы лучше меня жить здесь.
— Извините, — настойчиво продолжал Энниок, — я, как уже сказал вам, мнителен. Был ли я по отношению к вам джентльменом?
Гнор хотел отвечать шуткой, но стиснутые зубы Энниока мгновенно изменили спокойное настроение юноши, он молча пожал плечами.
— Вы меня удивляете, — несколько сухо произнес он, — и я вспоминаю, что… да… действительно, я имел раньше случаи не вполне понимать вас.
Энниок занес ногу за трап.
— Нет, это простая мнительность, — сказал он. — Простая мнительность, но я выражаю ее юмористически.
Он исчез в светлом кругу люка, а Гнор, машинально перелистывая страницы книги, продолжал мысленный разговор с этим развязным, решительным, пожившим, заставляющим пристально думать о себе человеком. Их отношения всегда были образцом учтивости, внимания и предупредительности; как будто предназначенные в будущем для неведомого взаимного состязания, они скрещивали еще бессознательно мысли и выражения, оттачивая слова — оружие духа, борясь взглядами и жестами, улыбками и шутками, спорами и молчанием. Выражения их были изысканны, а тон голоса всегда отвечал точному смыслу фраз. В сердцах их не было друг для друга небрежной простоты — спутника взаимной симпатии; Энниок видел Гнора насквозь, Гнор не видел настоящего Энниока; живая форма этого человека, слишком гибкая и податливая, смешивала тона.
Зверский треск якорной цепи перебил мысли Гнора на том месте, где он говорил Энниоку: «Ваше беспокойство напрасно и смахивает на шутку». Солнечный свет, соединявший отверстие люка с тенистой глубиной каюты, дрогнул и скрылся на палубе. «Орфей» повернулся.
Гнор поднялся наверх.
Полдень горел всей силой огненных легких юга; чудесная простота океана, синий блеск его окружал яхту; голые обожженные спины матросов гнулись над опущенными парусами, напоминавшими разбросанное белье гиганта; справа, отрезанная белой нитью прибоя, высилась скалистая впадина берега. Два человека возились около деревянного ящика. Один подавал предметы, другой укладывал, по временам выпрямляясь и царапая ногтем листок бумаги: Гнор остановился у шлюпбалки, матросы продолжали работу.
— Карабин в чехле? — сказал человек с бумагой, проводя под строкой черту.
— Есть, — отвечал другой.
— Одеяло?
— Есть.
— Патроны?
— Есть.
— Консервы?
— Есть.
— Белье?
— Есть.
— Свечи?
— Есть.
— Спички?
— Есть.
— Огниво, два кремня?
— Есть.
— Табак?
— Есть.
Матрос, сидевший на ящике, стал забивать гвозди. Гнор повернулся к острову, где жил странный, сказочный человек Энниока; предметы, упакованные в ящик, вероятно, предназначались ему. Он избегал людей, но о нем, видимо, помнили, снабжая необходимым, — дело рук Энниока.
— Поступки красноречивы, — сказал себе Гнор. — Он мягче, чем я думал о нем.
Позади его раздались шаги; Гнор обернулся: Энниок стоял перед ним, одетый для прогулки, в сапогах и фуфайке; у него блестели глаза.
— Не берите ружья, я взял, — сказал он.
— Когда я первый раз в жизни посетил обсерваторию, — сказал Гнор, — мысль, что мне будут видны в черном колодце бездны светлые глыбы миров, что телескоп отдаст меня жуткой бесконечности мирового эфира, — страшно взволновала меня. Я чувствовал себя так, как если бы рисковал жизнью. Похоже на это теперешнее мое состояние. Я боюсь и хочу видеть вашего человека; он должен быть другим, чем мы с вами. Он грандиозен. Он должен производить сильное впечатление.
— Несчастный отвык производить впечатление, — легкомысленно заявил Энниок. — Это бунтующий мертвец. Но я вас покину. Я приду через пять минут.
Он ушел вниз к себе, запер изнутри дверь каюты, сел в кресло, закрыл глаза и не шевелился. В дверь постучали. Энниок встал.
— Я иду, — сказал он, — сейчас иду. — Поясной портрет, висевший над койкой, казалось, держал его в нерешительности. — Он посмотрел на него, вызывающе щелкнул пальцами и рассмеялся. — Я все-таки иду, Кармен, — сказал Энниок.
Открыв дверь, он вышел. Темноволосый портрет ответил его цепкому, тяжелому взгляду простой, легкой улыбкой.
III
Береговой ветер, полный душистой лесной сырости, лез в уши и легкие; казалось, что к ногам падают невидимые охапки травы и цветущих ветвей, задевая лицо. Гнор сидел на ящике, выгруженном из лодки, Энниок стоял у воды.
— Я думал, — сказал Гнор, — что отшельник Аша устроит нам маленькую встречу. Быть может, он давно умер?
— Ну, нет. — Энниок взглянул сверху на Гнора и наклонился, подымая небольшой камень. — Смотрите, я сделаю множество рикошетов. — Он размахнулся, камень заскакал по воде и скрылся. — Что? Пять? Нет, я думаю, не менее девяти. Гнор, я хочу быть маленьким, это странное желание у меня бывает изредка; я не поддаюсь ему.
— Не знаю. Я вас не знаю. Может быть, это хорошо.
— Быть может, но не совсем. — Энниок подошел к лодке, вынул из чехла ружье и медленно зарядил его. — Теперь я выстрелю два раза, это сигнал. Он нас услышит и явится.
Подняв дуло вверх, Энниок разрядил оба ствола; гулкий треск повторился дважды и смутным отголоском пропал в лесу. Гнор задумчиво покачал головой.
— Этот салют одиночеству, Энниок, — сказал он, — почему-то меня тревожит. Я хочу вести с жителем Аша длинный разговор. Я не знаю, кто он; вы говорили о нем бегло и сухо, но судьба его, не знаю — почему, трогает и печалит меня; я напряженно жду его появления. Когда он придет… я…
Резкая морщина, признак усиленного внимания, пересекла лоб Энниока. Гнор продолжал:
— Я уговорю его ехать с нами.
Энниок усиленно засмеялся.
— Глупости, — сказал он, кусая усы, — он не поедет.
— Я буду его расспрашивать.
— Он будет молчать.
— Расспрашивать о прошлом. В прошлом есть путеводный свет.
— Его доконало прошлое. А свет — погас.
— Пусть полюбит будущее, неизвестность, заставляющую нас жить.
— Ваш порыв, — сказал Энниок, танцуя одной ногой, — ваш порыв разобьется, как ломается кусок мела о голову тупого ученика. — Право, — с одушевлением воскликнул он, — стоит ли думать о чудаке? Дни его среди людей были бы банальны и нестерпимо скучны, здесь же он не лишен некоторого, правда, весьма тусклого, ореола. Оставим его.
— Хорошо, — упрямо возразил Гнор, — я расскажу ему, как прекрасна жизнь, и, если его рука никогда не протягивалась для дружеского пожатия или любовной ласки, он может повернуться ко мне спиной.
— Этого он ни в коем случае не сделает.
— Его нет, — печально сказал Гнор. — Он умер или охотится в другом конце острова.
Энниок, казалось, не слышал Гнора; медленно подымая руки, чтобы провести ими по бледному своему лицу, он смотрел прямо перед собой взглядом, полным сосредоточенного размышления. Он боролся; это была короткая запоздалая борьба, жалкая схватка. Она обессилила и раздражила его. Минуту спустя он сказал твердо и почти искренно:
— Я богат, но отдал бы все и даже свою жизнь, чтобы только быть на месте этого человека.
— Темно сказано, — улыбнулся Гнор, — темно, как под одеялом. А интересно.
— Я расскажу про себя. — Энниок положил руку на плечо Гнора. — Слушайте. Сегодня мне хочется говорить без умолку. Я обманут. Я перенес великий обман. Это было давно; я плыл с грузом сукна в Батавию, — и нас разнесло в щепки. Дней через десять после такого начала я лежал поперек наскоро связанного плота, животом вниз. Встать, размяться, предпринять что-нибудь у меня не было ни сил, ни желания. Начался бред; я грезил озерами пресной воды, трясся в лихорадке и для развлечения негромко стонал. Шторм, погубивший судно, перешел в штиль. Зной и океан сварили меня; плот стоял неподвижно, как поплавок в пруде, я голодал, задыхался и ждал смерти. Снова подул ветер. Ночью я проснулся от мук жажды; был мрак и грохот. Голубые молнии полосовали пространство; меня вместе с плотом швыряло то вверх — к тучам, то вниз — в жидкие черные ямы. Я разбил подбородок о край доски; по шее текла кровь. Настало утро. На краю неба, в беспрерывно мигающем свете небесных трещин, неудержимо влеклись к далеким облакам пенистые зеленоватые валы; среди них метались черные завитки смерчей; над ними, как стая обезумевших птиц, толпились низкие тучи — все смешалось. Я бредил; бред изменил все. Бесконечные толпы черных женщин с поднятыми к небу руками стремились вверх; кипящая груда их касалась небес; с неба в красных просветах туч падали вниз прозрачным хаосом нагие, розовые и белые женщины. Озаренные клубки тел, сплетаясь и разрываясь, кружась вихрем или камнем летя вниз, соединили в беспрерывном своем движении небо и океан. Их рассеяла женщина с золотой кожей. Она легла причудливым облаком над далеким туманом. Меня спасли встречные рыбаки, я был почти жив, трясся и говорил глупости. Я выздоровел, а потом сильно скучал; те дни умирания в океане, в бреду, полном нежных огненных призраков, отравили меня. То был прекрасный и страшный сон — великий обман.
Он замолчал, а Гнор задумался над его рассказом.
— Тайфун — жизнь? — спросил Гнор. — Но кто живет так?
— Он. — Энниок кивнул головой в сторону леса и нехорошо засмеялся. — У него есть женщина с золотой кожей. Вы слышите что-нибудь? Нет? И я нет. Хорошо, я стреляю еще.
Он взял ружье, долго вертел в руках, но сунул под мышку.
— Стрелять не стоит. — Энниок вскинул ружье на плечо. — Разрешите мне вас оставить. Я пройду немного вперед и разыщу его. Если хотите, — пойдемте вместе. Я не заставлю вас много ходить.
Они тронулись. Энниок впереди, Гнор сзади. Тропинок и следов не было; ноги по колено вязли в синевато-желтой траве; экваториальный лес напоминал гигантские оранжереи, где буря снесла прозрачные крыши, стерла границы усилий природы и человека, развертывая пораженному зрению творчество первобытных форм, столь родственное нашим земным понятиям о чудесном и странном. Лес этот в каждом листе своем дышал силой бессознательной, оригинальной и дерзкой жизни, ярким вызовом и упреком; человек, попавший сюда, чувствовал потребность молчать.
Энниок остановился в центре лужайки. Лесные голубоватые тени бороздили его лицо, меняя выражение глаз.
Гнор ждал.
— Вам незачем идти дальше. — Энниок стоял к Гнору спиной. — Тут неподалеку… он… я не хотел бы сразу и сильно удивить его, являясь вдвоем. Вот сигары.
Гнор кивнул головой. Спина Энниока, согнувшись, нырнула в колючие стебли растений, сплетавших деревья; он зашумел листьями и исчез.
Гнор посмотрел вокруг, лег, положил руки под голову и принялся смотреть вверх.
Синий блеск неба, прикрытый над его головой плотными огромными листьями, дразнил пышным, голубым царством. Спина Энниока некоторое время еще стояла перед глазами в своем последнем движении; потом, уступив место разговору с Кармен, исчезла. «Кармен, я люблю тебя, — сказал Гнор, — мне хочется поцеловать тебя в губы. Слышишь ли ты оттуда?»
Притягательный образ вдруг выяснился его напряженному чувству, почти воплотился. Это была маленькая, смуглая, прекрасная голова; растроганно улыбаясь, Гнор зажал ладонями ее щеки, любовно присмотрелся и отпустил. Детское нетерпение охватило его. Он высчитал приблизительно срок, разделявший их, и добросовестно сократил его на половину, затем еще на четверть. Это жалкое утешение заставило его встать, — он чувствовал невозможность лежать далее в спокойной и удобной позе, пока не продумает своего положения до конца.
Влажный зной леса веял дремотой. Лиловые, пурпурные и голубые цветы качались в траве; слышалось меланхолическое гудение шмеля, запутавшегося в мшистых стеблях; птицы, перелетая глубину далеких просветов, разражались криками, напоминающими негритянский оркестр. Волшебный свет, игра цветных теней и оцепенение зелени окружали Гнора; земля беззвучно дышала полной грудью — задумчивая земля пустынь, кротких и грозных, как любовный крик зверя. Слабый шум послышался в стороне; Гнор обернулся, прислушиваясь, почти уверенный в немедленном появлении незнакомца, жителя острова. Он старался представить его наружность. «Это должен быть очень замкнутый и высокомерный человек, ему терять нечего», — сказал Гнор.
Птицы смолкли; тишина как бы колебалась в раздумьи; это была собственная нерешительность Гнора; подождав и не выдержав, он закричал:
— Энниок, я жду вас на том же месте!
Безответный лес выслушал эти слова и ничего не прибавил к ним. Прогулка пока еще ничего не дала Гнору, кроме утомительного и бесплодного напряжения. Он постоял некоторое время, думая, что Энниок забыл направление, потом медленно тронулся назад к берегу. Необъяснимое сильное беспокойство гнало его прочь из леса. Он шел быстро, стараясь понять, куда исчез Энниок; наконец, самое простое объяснение удовлетворило его: неизвестный и Энниок увлеклись разговором.
— Я привяжу лодку, — сказал Гнор, вспомнив, что она еле вытащена на песок. — Они придут.
Вода, пронизанная блеском мокрых песчаных отмелей, сверкнула перед ним сквозь опушку, но лодки не было. Ящик лежал на старом месте. Гнор подошел к воде и влево, где пестрый отвес скалы разделял берег, увидел лодку.
Энниок греб, сильно кидая весла; он смотрел вниз и, по-видимому, не замечал Гнора.
— Энниок! — сказал Гнор; голос его отчетливо прозвучал в тишине прозрачного воздуха. — Куда вы?! Разве вы не слышали, как я звал вас?!
Энниок резко ударил веслами, не поднял головы и продолжал плыть. Он двигался, казалось, теперь быстрее, чем минуту назад; расстояние между скалой и лодкой становилось заметно меньше. «Камень скроет его, — подумал Гнор, — и тогда он не услышит совсем».
— Энниок! — снова закричал Гнор. — Что вы хотите делать?
Плывущий поднял голову, смотря прямо в лицо Гнору так, как будто на берегу никого не было. Еще продолжалось неловкое и странное молчание, как вдруг, случайно, на искристом красноватом песке Гнор прочел фразу, выведенную дулом ружья или куском палки: «Гнор, вы здесь останетесь. Вспомните музыку, Кармен и биллиард на рассвете».
Первое, что ощутил Гнор, была тупая боль сердца, позыв рассмеяться и гнев. Воспоминания против золи головокружительно быстро швырнули его назад, в прошлое; легион мелочей, в свое время ничтожных или отрывочных, блеснул в памяти, окреп, рассыпался и занял свои места в цикле ушедших дней с уверенностью солдат во время тревоги, бросающихся к своим местам, услышав рожок горниста. Голая, кивающая убедительность смотрела в лицо Гнору. «Энниок, Кармен, я, — схватил на лету Гнор. — Я не видел, был слеп; так…»
Он медленно отошел от написанного, как будто перед ним открылся провал. Гнор стоял у самой воды, нагибаясь, чтобы лучше рассмотреть Энниока; он верил и не верил; верить казалось ему безумием. Голова его выдержала ряд звонких ударов страха и наполнилась шумом; ликующий океан стал мерзким и отвратительным.
— Энниок! — сказал Гнор твердым и ясным голосом — последнее усилие отравленной воли. — Это писали вы?
Несколько секунд длилось молчание. «Да», — бросил ветер. Слово это было произнесено именно тем тоном, которого ждал Гнор, — циническим. Он стиснул руки, пытаясь удержать нервную дрожь пальцев; небо быстро темнело; океан, разубранный на горизонте облачной ряской, закружился, качаясь в налетевшем тумане. Гнор вошел в воду, он двигался бессознательно. Волна покрыла колени, бедра, опоясала грудь, Гнор остановился. Он был теперь ближе к лодке шагов на пять; разоренное, взорванное сознание его конвульсивно стряхивало тяжесть мгновения и слабело, как приговоренный, отталкивающий веревку.
— Это подлость. — Он смотрел широко раскрытыми глазами и не шевелился. Вода медленно колыхалась вокруг него, кружа голову и легонько подталкивая. — Энниок, вы сделали подлость, вернитесь!
— Нет, — сказал Энниок. Слово это прозвучало обыденно, как ответ лавочника.
Гнор поднял револьвер и тщательно определил прицел. Выстрел не помешал Энниоку; он греб, быстро откидываясь назад; вторая пуля пробила весло; Энниок выпустил его, поймал и нагнулся, ожидая новых пуль. В этом движении проскользнула снисходительная покорность взрослого, позволяющего ребенку бить себя безвредными маленькими руками.
Третий раз над водой щелкнул курок; непобедимая слабость апатии охватила Гнора; как парализованный, он опустил руку, продолжая смотреть. Лодка ползла за камнем, некоторое время еще виднелась уползающая корма, потом все исчезло.
Гнор вышел на берег.
— Кармен, — сказал Гнор, — он тоже любит тебя? Я не сойду с ума, у меня есть женщина с золотой кожей… Ее имя Кармен. Вы, Энниок, ошиблись!
Он помолчал, сосредоточился на том, что ожидало его, и продолжал говорить сам с собой, возражая жестоким голосам сердца, толкающим к отчаянию: «Меня снимут отсюда. Рано или поздно придет корабль. Это будет на днях. Через месяц. Через два месяца». — Он торговался с судьбой. — «Я сам сделаю лодку. Я не умру здесь. Кармен, видишь ли ты меня? Я протягиваю тебе руки, коснись их своими, мне страшно».
Боль уступила место негодованию. Стиснув зубы, он думал об Энниоке. Гневное исступление терзало его. «Бесстыдная лиса, гадина, — сказал Гнор, — еще будет время посмотреть друг другу в лицо». Затем совершившееся показалось ему сном, бредом, нелепостью. Под ногами хрустел песок, песок настоящий. «Любое парусное судно может зайти сюда. Это будет на днях. Завтра. Через много лет. Никогда».
Слово это поразило его убийственной точностью своего значения. Гнор упал на песок лицом вниз и разразился гневными огненными слезами, тяжкими слезами мужчины. Прибой усилился; ленивый раскат волны сказал громким шепотом: «Отшельник Аша».
— Аша, — повторил, вскипая, песок.
Человек не шевелился. Солнце, тяготея к западу, коснулось скалы, забрызгало ее темную грань жидким огнем и бросило на побережье Аша тени — вечернюю грусть земли. Гнор встал.
— Энниок, — сказал он обыкновенным своим негромким, грудным голосом, — я уступаю времени и необходимости. Моя жизнь не доиграна. Это старая, хорошая игра; ее не годится бросать с середины, и дни не карты; над трупами их, погибающих здесь, бесценных моих дней, клянусь вам затянуть разорванные концы так крепко, что от усилия заноет рука, и в узле этом захрипит ваша шея. Подымается ветер. Он донесет мою клятву вам и Кармен!
IV
Сильная буря, разразившаяся в центре Архипелага, дала хорошую встрепку трехмачтовому бригу, носившему неожиданное, мало подходящее к суровой профессии кораблей, имя — «Морской Кузнечик». Бриг этот, с оборванными снастями, раненный в паруса, стеньги и ватерлинию, забросило далеко в сторону от обычного торгового пути. На рассвете показалась земля. Единственный уцелевший якорь с грохотом полетел на дно. День прошел в обычных после аварий работах, и только вечером все, начиная с капитана и кончая поваром, могли дать себе некоторый отчет в своем положении. Лаконический отчет этот вполне выражался тремя словами: «Черт знает что!»
— Роз, — сказал капитан, испытывая неподдельное страдание, — это корабельный журнал, и в нем не место различным выкрутасам. Зачем вы, пустая бутылка, нарисовали этот скворешник?
— Скворешник! — Замечание смутило Роза, но оскорбленное самолюбие тотчас же угостило смущение хорошим пинком. — Где видали вы такие скворешники? Это барышня. Я ее зачеркну.
Капитан Мард совершенно закрыл левый глаз, отчего правый стал невыносимо презрительным. Роз стукнул кулаком по столу, но смирился.
— Я ее зачеркнул, сделав кляксу; понюхайте, если не видите. Журнал подмок.
— Это верно, — сказал Мард, щупая влажные прошнурованные листы. — Волна хлестала в каюту. Я тоже подмок. Я и ахтер-штевен — мы вымокли одинаково. А вы, Аллигу?
Третий из этой группы, почти падавший от изнурения на стол, за которым сидел, сказал:
— Я хочу спать.
В каюте висел фонарь, озарявший три головы тенями и светом старинных портретов. Углы помещения, заваленные сдвинутыми в одну кучу складными стульями, одеждой и инструментами, напоминали подвал старьевщика. Бриг покачивало; раздражение океана не утихает сразу. Упустив жертву, он фыркает и морщится. Мард облокотился на стол, склонив к чистой странице журнала свое лошадиное лицо, блестевшее умными хмурыми глазами. У него почти не было усов, а подбородок напоминал каменную глыбу в миниатюре. Правая рука Марда, распухшая от ушиба, висела на полотенце.
Роз стал водить пером в воздухе, выделывая зигзаги и арабески; он ждал.
— Ну, пишите, — сказал Мард, — пишите: заброшены к дьяволу, неизвестно зачем; пишите так… — Он стал тяжело дышать, каждое усилие мысли страшно стесняло его. — Постойте. Я не могу опомниться, Аллигу, меня все еще как будто бросает о площадку, а надо мною Роз тщетно пытается удержать штурвал. Я этой скверной воды не люблю.
— Был шторм, — сказал Аллигу, проснувшись, и снова впал в сонное состояние. — Был шторм.
— Свежий ветер, — методично поправил Роз. — Свежий… Сущие пустяки.
— Ураган.
— Простая шалость атмосферы.
— Водо- и воздухотрясение.
— Пустяшный бриз.
— Бриз! — Аллигу удостоил проснуться и, засыпая, снова сказал: — Если это был, как вы говорите, простой бриз, то я более не Аллигу.
Мард сделал попытку жестикулировать ушибленной правой рукой, но побагровел от боли и рассердился.
— Океан кашлял, — сказал он, — и выплюнул нас… Куда? Где мы? И что такое теперь мы?
— Солнце село, — сообщил вошедший в каюту боцман. — Завтра утром узнаем все. Поднялся густой туман; ветер слабее.
Роз положил перо.
— Писать — так писать, — сказал он, — а то я закрою журнал.
Аллигу проснулся в тридцать второй раз.
— Вы, — зевнул он с той сладострастной грацией, от которой трещит стул, — забыли о бесштаннике-кочегаре на Стальном Рейде. Что стоило провезти беднягу? Он так мило просил. Есть лишние койки и сухари? Вы ему отказали, Мард, он послал вас к черту вслух — к черту вы и приехали. Не стоит жаловаться.
Мард налился кровью.
— Пусть возят пассажиров тонконогие франты с батистовыми платочками; пока я на «Морском Кузнечике» капитан, у меня этого балласта не будет. Я парусный грузовик.
— Будет, — сказал Аллигу.
— Не раздражайте меня.
— Подержим пари от скуки.
— Какой срок?
— Год.
— Ладно. Сколько вы ставите?
— Двадцать.
— Мало. Хотите пятьдесят?
— Все равно, — сказал Аллигу, — денежки мои, вам не везет на легкий заработок. Я сплю.
— Хотят, — проговорил Мард, — чтобы я срезался на пассажире. Вздор!
С палубы долетел топот, взрыв смеха; океан вторил ему заунывным гулом. Крики усилились: отдельные слова проникли в каюту, но невозможно было понять, что случилось. Мард вопросительно посмотрел на боцмана.
— Чего они? — спросил капитан. — Что за веселье?
— Я посмотрю.
Боцман вышел. Роз прислушался и сказал:
— Вернулись матросы с берега.
Мард подошел к двери, нетерпеливо толкнул ее и удержал взмытую ветром шляпу. Темный силуэт корабля гудел взволнованными, тревожными голосами; в центре толпы матросов, на шканцах блестел свет; в свете чернели плечи и головы. Мард растолкал людей.
— По какому случаю бал? — сказал Мард. Фонарь стоял у его ног, свет ложился на палубу. Все молчали.
Тогда, посмотрев прямо перед собой, капитан увидел лицо незнакомого человека, смуглое вздрагивающее лицо с неподвижными искрящимися глазами. Шапки у него не было. Волосы темного цвета падали ниже плеч. Он был одет в сильно измятый костюм городского покроя и высокие сапоги. Взгляд неизвестного быстро переходил с лица на лицо; взгляд цепкий, как сильно хватающая рука.
Изумленный Мард почесал левую щеку и шумно вздохнул; тревога всколыхнула его.
— Кто вы? — спросил Мард. — Откуда?
— Я — Гнор, — сказал неизвестный. — Меня привезли матросы. Я жил здесь.
— Как? — переспросил Мард, забыв о больной руке; он еле сдерживался, чтобы не разразиться криком на мучившее его загадочностью своей собрание. Лицо неизвестного заставляло капитана морщиться. Он ничего не понимал. — Что вы говорите?
— Я — Гнор, — сказал неизвестный. — Меня привезла ваша лодка… Я — Гнор…
Мард посмотрел на матросов. Многие улыбались напряженной, неловкой улыбкой людей, охваченных жгучим любопытством. Боцман стоял по левую руку Марда. Он был серьезен. Мард не привык к молчанию и не выносил загадок, но, против обыкновения, не вспыхивал: тихий мрак, полный грусти и крупных звезд, остановил его вспышку странной властью, осязательной, как резкое приказание.
— Я лопну, — сказал Мард, — если не узнаю сейчас, в чем дело. Говорите.
Толпа зашевелилась; из нее выступил пожилой матрос.
— Он, — начал матрос, — стрелял два раза в меня и раз в Кента. Мы его не задели. Он шел навстречу. Четверо из нас таскали дрова. Было еще светло, когда он попался. Кент, увидев его, сначала испугался, потом крикнул меня; мы пошли вместе. Он выступил из каменной щели против воды. Одежда его была совсем другая, чем сейчас. Я еще не видал таких лохмотьев. Шерсть на нем торчала из шкур, как трава на гнилой крыше.
— Это небольшой остров, — сказал Гнор. — Я давно живу здесь. Восемь лет. Мне говорить трудно. Я очень много и давно молчу. Отвык.
Он тщательно разделял слова, редко давая им нужное выражение, а по временам делая паузы, в продолжение которых губы его не переставали двигаться.
Матрос испуганно посмотрел на Гнора и повернулся к Марду.
— Он выстрелил из револьвера, потом закрылся рукой, закричал и выстрелил еще раз. Меня стукнуло по голове, я повалился, думая, что он перестанет. Кент бежал на него, но, услыхав третий выстрел, отскочил в сторону. Больше он не стрелял. Я сшиб его с ног. Он, казалось, был рад этому, потому что не обижался. Мы потащили его к шлюпке, он смеялся. Тут у нас, у самой воды, началось легкое объяснение. Я ничего не мог понять, тогда Кент вразумил меня. «Он хочет, — сказал Кент, — чтобы мы ему дали переодеться». Я чуть не лопнул от смеха. Однако, не отпуская его ни на шаг, мы тронулись, куда он нас вел, — и что вы думаете?.. У него был, знаете ли, маленький гардероб в каменном ящике, вроде как у меня сундучок. Пока он натягивал свой наряд и перевязывал шишку на голове, — «слушай, — сказал мне Кент, — он из потерпевших крушение, — я слыхал такие истории». Тогда этот человек взял меня за руку и поцеловал, а потом Кента. У меня было, признаться, погано на душе, так как я ударил его два раза, когда настиг…
— Зачем вы, — сказал Мард, — зачем вы стреляли в них? Объясните.
Гнор смотрел дальше строгого лица Марда — в тьму.
— Поймите, — произнес он особенным, заставившим многих вздрогнуть усилием голоса, — восемь лет. Я один. Солнце, песок, лес. Безмолвие. Раз вечером поднялся туман. Слушайте: я увидел лодку; она шла с моря; в ней было шесть человек. Шумит песок. Люди вышли на берег, зовут меня, смеются и машут руками. Я побежал, задыхаясь, не мог сказать слова, слов не было. Они стояли все на берегу… живые лица, как теперь вы. Они исчезли, когда я был от них ближе пяти шагов. Лодку унес туман. Туман рассеялся. Все по-старому. Солнце, песок, безмолвие. И море кругом.
Моряки сдвинулись тесно, некоторые встали на цыпочки, дыша в затылки передним. Иные оборачивались, как бы ища разделить впечатление с существом выше человека. Тишина достигла крайнего напряжения. Хриплый голос сказал:
— Молчите.
— Молчите, — подхватил другой. — Дайте ему сказать.
— Так было много раз, — продолжал Гнор. — Я кончил тем, что стал делать выстрелы. Звук выстрела уничтожал видение. После этого я, обыкновенно, целый день не мог есть. Сегодня я не поверил; как всегда, не больше. Трудно быть одному.
Мард погладил больную руку.
— Как вас зовут?
— Гнор.
— Сколько вам лет?
— Двадцать восемь.
— Кто вы?
— Сын инженера.
— Как попали сюда?
— Об этом, — неохотно сказал Гнор, — я расскажу одному вам.
Голоса их твердо и тяжело уходили в тьму моря: хмурый — одного, звонкий — другого; голоса разных людей.
— Вы чисто одеты, — продолжал Мард, — это для меня непонятно.
— Я хранил себя, — сказал Гнор, — для лучших времен.
— Вы также брились?
— Да.
— Чем вы питались?
— Чем случится.
— На что надеялись?
— На себя.
— И на нас также?
— Меньше, чем на себя. — Гнор тихо, но выразительно улыбнулся, и все лица отразили его улыбку. — Вы могли встретить труп, идиота и человека. Я не труп и не идиот.
Роз, стоявший позади Гнора, крепко хватил его по плечу и, вытащив из кармана платок, пронзительно высморкался; он был в восторге.
Иронический взгляд Аллигу остановился на Марде. Они смотрели друг другу в глаза, как авгуры, прекрасно понимающие, в чем дело. «Ты проиграл, кажись», — говорило лицо штурмана. «Оберну вокруг пальца», — ответил взгляд Марда.
— Идите сюда, — сказал капитан Гнору. — Идите за мной. Мы потолкуем внизу.
Они вышли из круга; множество глаз проводило высокий силуэт Гнора. Через минуту на палубе было три группы, беседующие вполголоса о тайнах моря, суевериях, душах умерших, пропавшей земле, огненном бриге из Калифорнии. Четырнадцать взрослых ребят, делая страшные глаза и таинственно кашляя, рассказывали друг другу о приметах пиратов, о странствиях проклятой бочки с водкой, рыбьем запахе сирен, подводном гроте, полном золотых слитков. Воображение их, получившее громовую встряску, неслось кувырком. Недавно еще ждавшие неумолимой и верной смерти, они забыли об этом; своя опасность лежала в кругу будней, о ней не стоило говорить.
Свет забытого фонаря выдвигал из тьмы наглухо задраенный люк трюма, борта и нижнюю часть вант. Аллигу поднял фонарь; тени перескочили за борт.
— Это вы, Мард? — сказал Аллигу, приближая фонарь к лицу идущего. — Да, это вы, теленок не ошибается. А он?
— Все в порядке, — вызывающе ответил Мард. — Не стоит беспокоиться, Аллигу.
— Хорошо, но вы проиграли.
— А может быть, вы?
— Как, — возразил удивленный штурман, — вы оставите его доживать тут? А бунта вы не боитесь?
— И я не камень, — сказал Мард. — Он рассказал мне подлую штуку… Нет, я говорить об этом теперь не буду. Хотя…
— Ну, — Аллигу переминался от нетерпения. — Деньги на бочку!
— Отстаньте!
— Тогда позвольте поздравить вас с пассажиром.
— С пассажиром? — Мард подвинулся к фонарю, и Аллигу увидел злорадно торжествующее лицо. — Обольстительнейший и драгоценнейший Аллигу, вы ошиблись. Я нанял его на два месяца хранителем моих свадебных подсвечников, а жалованье уплатил вперед, в чем имею расписку; запомните это, свирепый Аллигу, и будьте здоровы.
— Ну, дока, — сказал, оторопев, штурман после неприятного долгого молчания. — Хорошо, вычтите из моего жалованья.
V
На подоконнике сидел человек. Он смотрел вниз с высоты третьего этажа, на вечернюю суету улицы. Дом, мостовая и человек дрожали от грохота экипажей.
Человек сидел долго, — до тех пор, пока черные углы крыш не утонули в черноте ночи. Уличные огни внизу отбрасывали живые тени; тени прохожих догоняли друг друга, тень лошади перебирала ногами. Маленькие пятна экипажных фонарей беззвучно мчались по мостовой. Черная дыра переулка, полная фантастических силуэтов, желтая от огня окон, уличного свиста и шума, напоминала крысиную жизнь мусорной ямы, освещенной заржавленным фонарем тряпичника.
Человек прыгнул с подоконника, но скоро нашел новое занятие. Он стал закрывать и открывать электричество, стараясь попасть взглядом в заранее намеченную точку обоев; комната сверкала и пропадала, повинуясь щелканью выключателя. Человек сильно скучал.
Неизвестно, чем бы он занялся после этого, если бы до конца вечера остался один. С некоторых пор ему доставляло тихое удовольствие сидеть дома, проводя бесцельные дни, лишенные забот и развлечений, интересных мыслей и дел, смотреть в окно, перебирать старые письма, отделяя себя ими от настоящего; его никуда не тянуло, и ничего ему не хотелось; у него был хороший аппетит, крепкий сон; внутреннее состояние его напоминало в миниатюре зевок человека, утомленного китайской головоломкой и бросившего, наконец, это занятие.
Так утомляет жизнь и так сказывается у многих усталость; душа и тело довольствуются пустяками, отвечая всему гримасой тусклого равнодушия. Энниок обдумал этот вопрос и нашел, что стареет. Но и это было для него безразлично.
В дверь постучали: сначала тихо, потом громче.
— Войдите, — сказал Энниок.
Человек, перешагнувший порог, остановился перед Энниоком, закрывая дверь рукой позади себя и слегка наклоняясь, в позе напряженного ожидания. Энниок пристально посмотрел на него и отступил в угол; забыть это лицо, мускулистое, с маленьким подбородком и ртом, было не в его силах.
Вошедший, стоя у двери, наполнял собой мир — и Энниок, пошатываясь от бьющего в голове набата, ясно увидел это лицо таким, каким было оно прежде, давно. Сердце его на один нестерпимый миг перестало биться; мертвея и теряясь, он молча тер руки. Гнор шумно вздохнул.
— Это вы, — глухо сказал он. — Вы, Энниок. Ну, вот мы и вместе. Я рад.
Два человека, стоя друг против друга, тоскливо бледнели, улыбаясь улыбкой стиснутых ртов.
— Вырвался! — крикнул Энниок. Это был болезненный вопль раненого. Он сильно ударил кулаком о стол, разбив руку; собрав всю силу воли, овладел, насколько это было возможно, заплясавшими нервами и выпрямился. Он был вне себя.
— Это вы! — наслаждаясь повторил Гнор. — Вот вы. От головы до пяток, во весь рост. Молчите. Я восемь лет ждал встречи. — Нервное взбешенное лицо его дергала судорога. — Вы ждали меня?
— Нет. — Энниок подошел к Гнору. — Вы знаете — это катастрофа. — Обуздав страх, он вдруг резко переменился и стал, как всегда. — Я лгу. Я очень рад видеть вас, Гнор.
Гнор засмеялся.
— Энниок, едва ли вы рады мне. Много, слишком много поднимается в душе чувств и мыслей… Если бы я мог все сразу обрушить на вашу голову! Довольно крика. Я стих.
Он помолчал; страшное спокойствие, похожее на неподвижность работающего парового котла, дало ему силы говорить дальше.
— Энниок, — сказал Гнор, — продолжим нашу игру.
— Я живу в гостинице. — Энниок пожал плечами в знак сожаления. — Неудобно мешать соседям. Выстрелы — мало популярная музыка. Но мы, конечно, изобретем что-нибудь.
Гнор не ответил; опустив голову, он думал о том, что может не выйти живым отсюда. «Зато я буду до конца прав — и Кармен узнает об этом. Кусочек свинца осмыслит все мои восемь лет, как точка».
Энниок долго смотрел на него. Любопытство неистребимо.
— Как вы?.. — хотел спросить Энниок; Гнор перебил его.
— Не все ли равно? Я здесь. А вы — как вы зажали рты?
— Деньги, — коротко сказал Энниок.
— Вы страшны мне, — заговорил Гнор. — С виду я, может быть, теперь и спокоен, но мне душно и тесно с вами; воздух, которым вы дышите, мне противен. Вы мне больше, чем враг, — вы ужас мой. Можете смотреть на меня сколько угодно. Я не из тех, кто прощает.
— Зачем прощение? — сказал Энниок. — Я всегда готов заплатить. Слова теперь бессильны. Нас захватил ураган; кто не разобьет лоб, тот и прав.
Он закурил слегка дрожащими пальцами сигару и усиленно затянулся, жадно глотая дым.
— Бросим жребий.
Энниок кивнул головой, позвонил и сказал лакею:
— Дайте вино, сигары и карты.
Гнор сел у стола; тягостное оцепенение приковало его к стулу; он долго сидел, понурившись, сжав руки между колен, стараясь представить, как произойдет все; поднос звякнул у его локтя; Энниок отошел от окна.
— Мы сделаем все прилично, — не повышая голоса, сказал он. — Вино это старше вас, Гнор; вы томились в лесах, целовали Кармен, учились и родились, а оно уже лежало в погребе. — Он налил себе и Гнору, стараясь не расплескать. — Мы, Гнор, любим одну женщину. Она предпочла вас; а моя страсть поэтому выросла до чудовищных размеров. И это, может быть, мое оправдание. А вы бьете в точку.
— Энниок, — заговорил Гнор, — мне только теперь пришло в голову, что при других обстоятельствах мы, может быть, не были бы врагами. Но это так, к слову. Я требую справедливости. Слезы и кровь бросаются мне в голову при мысли о том, что перенес я. Но я перенес — слава богу, и ставлю жизнь против жизни. Мне снова есть чем рисковать, — не по вашей вине. У меня много седых волос, а ведь мне нет еще тридцати. Я вас искал упорно и долго, работая, как лошадь, чтобы достать денег, переезжая из города в город. Вы снились мне. Вы и Кармен.
Энниок сел против него; держа стакан в левой руке, он правой распечатал колоду.
— Черная ответит за все.
— Хорошо. — Гнор протянул руку. — Позвольте начать мне. А перед этим я выпью.
Взяв стакан и прихлебывая, он потянул карту. Энниок удержал его руку, сказав:
— Колода не тасована.
Он стал тасовать карты, долго мешал их, потом веером развернул на столе, крапом вверх.
— Если хотите, вы первый.
Гнор взял карту, не раздумывая, — первую попавшуюся под руку.
— Берите вы.
Энниок выбрал из середины, хотел взглянуть, но раздумал и посмотрел на партнера. Их глаза встретились. Рука каждого лежала на карте. Поднять ее было не так просто. Пальцы не повиновались Энниоку. Он сделал усилие, заставив их слушаться, и выбросил туза червей. Красное очко блеснуло, как молния, радостно — одному, мраком — другому.
— Шестерка бубей, — сказал Гнор, открывая свою. — Начнем снова.
— Это — как бы двойной выстрел. — Энниок взмахнул пальцами над колодой и, помедлив, взял крайнюю. — Вот та лежала с ней рядом, — заметил Гнор, — та и будет моя.
— Черви и бубны светятся в ваших глазах, — сказал Энниок, — пики — в моих. — Он успокоился, первая карта была страшнее, но чувствовал где-то внутри, что кончится это для него плохо. — Откройте сначала вы, мне хочется продлить удовольствие.
Гнор поднял руку, показал валета червей и бросил его на стол. Конвульсия сжала ему горло; но он сдержался, только глаза его блеснули странным и жутким весельем.
— Так и есть, — сказал Энниок, — карта моя тяжела; предчувствие, кажется, не обманет. Двойка пик.
Он разорвал ее на множество клочков, подбросил вверх — и белые струйки, исчертив воздух, осели на стол белыми неровным пятнами.
— Смерть двойке, — проговорил Энниок, — смерть и мне.
Гнор пристально посмотрел на него, встал и надел шляпу. В душе его не было жалости, но ощущение близкой чужой смерти заставило его пережить скверную минуту. Он укрепил себя воспоминаниями; бледные дни отчаяния, поднявшись из могилы Аша, грозным хороводом окружали Гнора; прав он.
— Энниок, — осторожно сказал Гнор, — я выиграл и удаляюсь. Отдайте долг судьбе без меня. Но есть у меня просьба: скажите, почему проснулись мы трое в один день, когда вы, по-видимому, уже решили мою участь? Можете и не отвечать, я не настаиваю.
— Это цветок из Ванкувера, — не сразу ответил Энниок, беря третью сигару. — Я сделаю вам нечто вроде маленькой исповеди. Цветок был привезен мной; я не помню его названия; он невелик, зеленый, с коричневыми тычинками. Венчик распускается каждый день утром, свертываясь к одиннадцати. Накануне я сказал той, которую продолжаю любить. «Встаньте рано, я покажу вам каприз растительного мира». Вы знаете Кармен, Гнор; ей трудно отказать другому в маленьком удовольствии. Кроме того, это ведь действительно интересно. Утром она была сама как цветок; мы вышли на террасу; я нес в руках ящик с растением. Венчик, похожий на саранчу, медленно расправлял лепестки. Они выровнялись, напряглись — и цветок стал покачиваться от ветерка. Он был не совсем красив, но оригинален. Кармен смотрела и улыбалась. «Он дышит, — сказала она, — такой маленький». Тогда я взял ее за руку и сказал то, что долго меня терзало; я сказал ей о своей любви. Она покраснела, смотря на меня в упор и отрицательно качая головой. Ее лицо сказало мне больше, чем старое слово «нет», к которому меня совсем не приучили женщины. «Нет, — холодно сказала она, — это невозможно. Прощайте». Она стояла некоторое время задумавшись, потом ушла в сад. Я догнал ее больной от горя и продолжал говорить — не знаю что. «Опомнитесь», — сказала она. Вне себя от страсти я обнял ее и поцеловал. Она замерла; я прижал ее к сердцу и поцеловал в губы, но силы к ней тотчас вернулись, она закричала и вырвалась. Так было. Я мог только мстить — вам; я мстил. Будьте уверены, что, если бы вы споткнулись о черную масть, я не остановил бы вас.
— Я знаю это, — спокойно возразил Гнор. — Вдвоем нам не жить на свете. Прощайте.
Детское живет в человеке до седых волос — Энниок удержал Гнора взглядом и загородил дверь.
— Вы, — самолюбиво сказал он, — вы, гибкая человеческая сталь, должны помнить, что у вас был достойный противник.
— Верно, — сухо ответил Гнор, — пощечина и пожатие руки — этим я выразил бы всего вас. В силу известной причины я не делаю первого. Возьмите второе.
Они протянули руки, стиснув друг другу пальцы; это было странное, злое и задумчивое пожатие сильных врагов.
Последний взгляд их оборвала закрытая Гнором дверь; Энниок опустил голову.
— Я остаюсь с таким чувством, — прошептал он, — как будто был шумный, головокружительный, грозной красоты бал; он длился долго, и все устали. Гости разъехались, хозяин остался один; одна за другой гаснут свечи, грядет мрак.
Он подошел к столу, отыскал, расшвыряв карты, револьвер и почесал дулом висок. Прикосновение холодной стали к пылающей коже было почти приятным. Потом стал припоминать жизнь и удивился: все казалось в ней старообразным и глупым.
— Я мог бы обмануть его, — сказал Энниок, — но не привык бегать и прятаться. А это было бы неизбежно. К чему? Я взял от жизни все, что хотел, кроме одного. И на этом «одном» сломал шею. Нет, все вышло как-то совсем кстати и импозантно.
— Глупая смерть, — продолжал Энниок, вертя барабан револьвера. — Скучно умирать так от выстрела. Я могу изобрести что-нибудь. Что — не знаю; надо пройтись.
Он быстро оделся, вышел и стал бродить по улицам. В туземных кварталах горели масляные фонари из красной и голубой бумаги; воняло горелым маслом, отбросами, жирной пылью. Липкий мрак наполнял переулки; стучали одинокие ручные тележки; фантастические контуры храмов теплились редкими огоньками. Мостовая, усеянная шелухой фруктов, соломой и клочками газет, окружала подножья уличных фонарей светлыми дисками; сновали прохожие; высокие, закутанные до переносья женщины шли медленной поступью; черные глаза их, подернутые влажным блеском, звали к истасканным циновкам, куче голых ребят и грязному петуху семьи, поглаживающему бороду за стаканом апельсиновой воды.
Энниок шел, привыкая к мысли о близкой смерти. За углом раздался меланхолический стон туземного барабана, пронзительный вой рожков, адская музыка сопровождала ночную религиозную процессию. Тотчас же из-за старого дома высыпала густая толпа; впереди, кривляясь и размахивая палками, сновали юродивые; туча мальчишек брела сбоку; на высоких резных палках качались маленькие фонари, изображения святых, скорченные темные идолы, напоминавшие свирепых младенцев в материнской утробе; полуосвещенное море голов теснилось вокруг них, вопя и рыдая; блестела тусклая позолота дерева; металлические хоругви, задевая друг друга, звенели и дребезжали.
Энниок остановился и усмехнулся: дерзкая мысль пришла ему в голову. Решив умереть шумно, он быстро отыскал глазами наиболее почтенного, увешанного погремушками старика. У старика было строгое, взволнованное и молитвенное лицо; Энниок рассмеялся; тяжкие перебои сердца на мгновение стеснили дыхание; затем, чувствуя, что рушится связь с жизнью и темная жуть кружит голову, он бросился в середину толпы.
Процессия остановилась; смуглые плечи толкали Энниока со всех сторон; смешанное горячее дыхание, запах пота и воска ошеломили его, он зашатался, но не упал, поднял руки и, потрясая вырванным у старика идолом, крикнул изо всей силы:
— Плясунчики, голые обезьяны! Плюньте на своих деревяшек! Вы очень забавны, но надоели!
Свирепый рев возбудил его; в исступлении, уже не сознавая, что делает, он швырнул идола в первое, искаженное злобой, коричневое лицо; глиняный бог, встретив мостовую, разлетелся кусками. В то же время режущий удар по лицу свалил Энниока; взрыв ярости пронесся над ним; тело затрепетало и вытянулось.
Принимая последние, добивающие удары фанатиков, Энниок, охватив руками голову, залитую кровью, услышал явственный, идущий как бы издалека голос; голос этот повторил его собственные недавние слова:
— Бал кончился, разъехались гости, хозяин остается один. И мрак одевает залы.
VI
«Над прошлым, настоящим и будущим имеет власть человек».
Подумав это, Гнор обратился к прошлому. Там была юность; нежные, озаряющие душу голоса ясной любви; заманчиво кружащая голову жуткость все полнее и радостнее звучащей жизни; темный ад горя, — восемь лет потрясения, исступленной жажды, слез и проклятий, чудовищный, безобразный жребий; проказа времени; гора, обрушенная на ребенка; солнце, песок, безмолвие. Дни и ночи молитв, обращенных к себе: «спасайся»!
Он стоял теперь как бы на вершине горы, еще дыша часто и утомленно, но с отдыхающим телом и раскрепощенной душой. Прошлое лежало на западе, в стране светлых возгласов и уродливых теней; он долго смотрел туда, всему было одно имя — Кармен.
И, простив прошлому, уничтожая его, оставил он одно имя — Кармен.
В настоящем Гнор видел себя, сожженного безгласной любовью, страданием многих лет, окаменевшего в одном желании, более сильном, чем закон и радость. Он был одержим тоской, увеличивающей изо дня в день силы переносить ее. Это был юг жизни, ее знойный полдень; жаркие голубые тени, жажда и шум невидимого еще ключа. Всему было одно имя — Кармен. Только одно было у него в настоящем — имя, обвеянное волнением, боготворимое имя женщины с золотой кожей — Кармен.
Будущее — красный восток, утренний ветер, звезда, гаснущая над чудесным туманом, радостная бодрость зари, слезы и смех земли; будущему могло быть только одно единственное имя — Кармен.
Гнор встал. Звонкая тяжесть секунд душила его. Время от времени полный огонь сознания ставил его на ноги во весь рост перед закрытой дверью не наступившего еще счастья; он припоминал, что находится здесь, в этом доме, где все знакомо и все в страшной близости с ним, а сам он чужой и будет чужой до тех пор, пока не выйдет из двери та, для которой он свой, родной, близкий, потерянный, жданный, любимый.
Так ли это? Острая волна мысли падала, уничтожаемая волнением, и Гнор мучился новым, ужасным, что отвергала его душа, как религиозный человек отвергает кощунство, навязчиво сверлящее мозг. Восемь лет легло между ними; своя, независимая от него текла жизнь Кармен — и он уже видел ее, взявшую счастье с другим, вспоминающую о нем изредка в сонных грезах или, может быть, в минуты задумчивости, когда грустная неудовлетворенность жизнью перебивается мимолетным развлечением, смехом гостя, заботой дня, интересом минуты. Комната, в которой сидел Гнор, напоминала ему лучшие его дни; низкая, под цвет сумерек мебель, бледные стены, задумчивое вечернее окно, полуспущенная портьера с нырнувшим под нее светом соседней залы — все жило так же, как он, — болезненно неподвижной жизнью, замирая от ожидания. Гнор просил только одного — чуда, чуда любви, встречи, убивающей горе, огненного удара — того, о чем бессильно умолкает язык, так как нет в мире радости больше и невыразимее, чем взволнованное лицо женщины. Он ждал ее кротко, как дитя; жадно, как истомленный любовник; грозно и молча, как восстановляющий право. Секундой он переживал годы; мир, полный терпеливой любви, окружал его; больной от надежды, растерянный, улыбающийся, Гнор, стоя, ждал — и ожидание мертвило его.
Рука, откинувшая портьеру, сделала то, что было выше сил Гнора; он бросился вперед и остановился, отступил назад и стал нем; все последующее навеки поработило его память. Та же, та самая, что много лет назад играла ему первую половину старинной песенки, вошла в комнату. Ее лицо выделилось и удесятерилось Гнору; он взял ее за плечи, не помня себя, забыв, что сказал; звук собственного голоса казался ему диким и слабым, и с криком, с невыразимым отчаянием счастья, берущего глухо и слепо первую, еще тягостную от рыданий ласку, он склонился к ногам Кармен, обнимая их ревнивым кольцом вздрагивающих измученных рук. Сквозь шелк платья нежное тепло колен прильнуло к его щеке; он упивался им, крепче прижимал голову и, с мокрым от бешеных слез лицом, молчал, потерянный для всего.
Маленькие мягкие руки уперлись ему в голову, оттолкнули ее, схватили и обняли.
— Гнор, мой дорогой, мой мальчик, — услышал он после вечности блаженной тоски. — Ты ли это? Я ждала тебя, ждала долго-долго, и ты пришел.
— Молчи, — сказал Гнор, — дай умереть мне здесь, у твоих ног. Я не могу удержать слез, прости меня. Что было со мной? Сон? Нет, хуже. Я еще не хочу видеть твоего взгляда, Кармен; не подымай меня, мне хорошо так, я был твой всегда.
Тоненькая, высокая девушка нагнулась к целующему ее платье человеку. Мгновенно и чудесно изменилось ее лицо: прекрасное раньше, оно было теперь более чем прекрасным, — радостным, страстно живущим лицом женщины. Как дети, сели они на полу, не замечая этого, сжимая руки, глядя друг другу в лицо, и все, чем жили оба до встречи, стало для них пустым.
— Гнор, куда уходил ты, где твоя жизнь? Я не слышу, не чувствую ее… Ведь она моя, с первой до последней минуты… Что было с тобой?
Гнор поднял девушку высоко на руках, прижимая к себе, целуя в глаза и губы; тонкие сильные руки ее держали его голову, не отрываясь, притягивая к темным глазам.
— Кармен, — сказал Гнор, — настало время доиграть арию. Я шел к тебе долгим любящим усилием; возьми меня, лиши жизни, сделай, что хочешь, — я дожил свое. Смотри на меня, Кармен, смотри и запомни. Я не тот, ты та же; но выправится моя душа — и в первое же раннее утро не будет нашей разлуки. Ее покроет любовь. Не спрашивай; потом, когда схлынет это безумие — безумие твоих колен, твоего тела, тебя, твоих глаз и слов, первых слов за восемь лет, — я расскажу тебе сказку — и ты поплачешь. Не надо плакать теперь. Пусть все живут так. Вчера ты играла мне, а сегодня я видел сон, что мы никогда больше не встретимся. Я поседел от этого сна — значит, люблю. Это ты, ты!..
Их слезы смешались еще раз — завидные, редкие слезы — и тогда, медленно отстранив девушку, Гнор первый раз, улыбаясь, посмотрел в ее кинувшееся к нему, бледное от долгих призывов, тоскующее, родное лицо.
— Как мог я жить без тебя, — сказал Гнор, — теперь я не пойму этого.
— Я никогда не думала, что ты умер.
— Ты жила в моем сердце. Мы будем всегда вместе. Я не отойду от тебя на шаг. — Он поцеловал ее ресницы; они были мокрые, милые и соленые. — Не спрашивай ни о чем, я еще не владею собой. Я забыл все, что хотел сказать тебе, идя сюда. Вот еще немного слез, это последние. Я счастлив… но не надо об этом думать. Простим жизни, Кармен; она — нищая перед нами. Дай мне обнять тебя. Вот так. И молчи.
Около того времени, но, стало быть, немного позже описанной нами сцены, по улице шел прохожий — гладко выбритый господин с живыми глазами; внимание его было привлечено звуками музыки. В глубине большого высокого дома неизвестный музыкант играл на рояле вторую половину арии, хорошо известной прохожему. Прохожий остановился, как останавливаются, придираясь к первому случаю, малозанятые люди, послушал немного и пошел далее, напевая вполголоса эту же песенку:
Забвенье — печальный, обманчивый звук, Понятный лишь только в могиле; Ни радости прошлой, ни счастья, ни мук Предать мы забвенью не в силе. Что в душу запало — останется в ней: Ни моря нет глубже, ни бездны темней.Гостиница Вечерних Огней
I. Порт-Саид
Я стоял у руля; араб-лоцман, подъехав к пароходу на паровом катере, сменил меня в тот момент, когда настроенный уныло и буйно, я собирался посадить нашу «Христину» на мель. Это была хорошо, тщательно обдуманная месть капитану за две вахты не в очередь и сутки ареста. Она не удалась. Я покинул штурвал, вздыхая, помощник капитана окинул меня язвительным, многообещающим взглядом и промолвил вскользь:
— Как ошвартуемся, приготовь расчетную книжку. Я хорошо знал, чем насолил капитану и этой рыжей палке — помощнику. Им не нравилось мое критическое отношение к политике Германии. Частенько, разглагольствуя в кубрике, я указывал матросам на то, что (извините за скудность политической терминологии) сосиски получат от Франции хороший реванш. Франция съест сосиски и запьет их пивом в Берлине. После сказанного совершенно ясно, что капитан и помощник «Христины» были чистокровные немцы. Они мстили мне, как могли, а боцман (дальний родственник капитана) изводил меня мытьем шлюпок и матов. Третьего дня я сказал:
— Так более продолжаться не может.
Конечно, боцман донес об этом. Иначе вовсе необъясним змеиный взгляд рыжей палки.
«Ах ты, сосиска!» — хотел сказать я, но удержался, вспомнив, что за это может влететь штраф. Две мухи занялись флиртом на моей правой руке, я отправил их в лучший мир, думая: «Почему это не немцы?» Ответив официально и так сухо, что мог случиться неурожай в трех губерниях, я сбежал вниз, в кубрик и, довольный уже тем, что сегодня не нужно работать, насвистывая веселую песенку, занялся укладыванием вещей.
Через два часа я был в гавани, с мешком за плечами, одетый, как всегда матросы на берегу, в лучшее свое платье, и шел к маклеру. Мне хотелось снова и как можно скорее получить место; маклер устраивал это за половину месячного жалованья. Отойдя на приличное расстояние от ненавистной «Христины», я погрозил ей кулаком и, каюсь, вздохнул.
Скучно, скучно настоящему моряку очутиться на неподвижной, твердой земле; вытряхнутым, пустым чувствует он себя, смотря в заповедную глубину морской дали; не плещет в шлюзах вода, стих ветер, остановилось движение. Сам, неуклюже и медленно, как бы не доверяя спокойствию земной палубы, движется моряк на расшатанных качкой ногах, грустит, и хочется ему выпить.
Чудесно Средиземное море, лазурнее самой лазури оно, полно косых на горизонте парусов, задумчивой величавой нежности, легендами обвеяна его даль, и часто, воровски удаляясь от крейсера, парит в воздушной границе голубого круга черный боевой флаг пирата.
Хо-хо! Раз это море обесчещено ненавистной «Христиной», не хочу о нем думать три дня и говорить.
II. Гостиница Вечерних Огней
Маклера не оказалось дома; я не очень удивился этому: когда уж не везет, так не везет до самого «тпру»; маклер уехал в Александрию. Это сообщила мне жена маклера, грязная, но симпатичная женщина; так как я маклера ехать в Александрию не просил, то это мне мало понравилось.
Я пожелал доброй женщине спокойной ночи и вышел; наступал вечер, пламенное дыхание зноя — воздушной лавы африканского материка — перебивалось свежим зюйд-остом. Я шел по улице, населенной рыбаками, торговцами, проститутками и матросами.
У меня было много денег, за шесть месяцев службы на проклятой «Христине» я заработал, выиграл и наторговал контрабандой более восьмисот франков. Да, я мог поселиться в лучшей гостинице. К сожалению, мне в таких местах оказывали мало почтения и плохо чистили сапоги, поэтому я избегал слишком блестящих отелей. Проходя мимо арабской харчевни, я полюбовался знаменитым танцем живота, очень похожим на всем известный матчиш, только грубее, и стал зевать, потом, чувствуя, что голоден, сердито и грозно принялся отыскивать гостиницу того типа, который, как известно, всего лучше определяется словами: «Мне это понравилось».
«Гостиница Вечерних Огней» — прочел я наконец в глухом переулке, где было так тесно, что бродячая собака, встретив меня, посторонилась; но не было никаких огней в этом доме, исключая корабельный фонарь, висевший над дверью. «Постучим», — сказал я, ударяя ногой в доски, обитые циновками. Дверь, скрипнула и открылась в глубь коридора; черная дыра смотрела на меня глухо и выжидательно.
«Наверное, отворил негр, — подумал я, — негра в темноте увидеть не так просто». Действительно, это был негр, он вышел на полусвет переулка, щурясь и кланяясь. Он был в своем полном национальном костюме, то есть без ничего, кроме синего холста вокруг бедер. Я сказал:
— Мне нужно комнату. Комнату с водой, мылом и постелью. А также поесть и выпить.
— Выпить, мыло, комната, поесть можно, — ответил он на ужасном английском языке, но мне и в голову не пришло улыбнуться, мое внимание привлекли глаза негра, глаза, хватающие за горло; неестественно внимателен и остер был их тягучий взгляд, полный высокомерия и раздумья. Старые мысли о непочтительности и плохо вычищенных сапогах посетили меня. Устыдившись их в таком месте, я крикнул полным, штормовым голосом:
— Ну, давай! Живо! Есть! Пить! Спать!
Он медленно поклонился, исчез и через минуту появился с маленькой жестяной лампой. Я шел за ним, сначала по грязному коридору с земляным полом, затем по узкой, меж двух глухих стен, поскрипывающей, ще-левидной лестнице. Наверху негр остановился, щелкнул ключом — и я очутился в небольшой, но чистой, с настоящей кроватью комнате.
— Ну, ничего, — успокоительно сказал я. — Сколько стоит?
— Один франк.
Негр говорил грудным, низким, но очень приятным голосом. Я сел, осматриваясь.
— Неси же скорее, — сказал я, — неси что хочешь, было бы горячо и вкусно.
Негр пристально поглядел на меня, оставил на столе лампу, повернулся и вышел. Более я его не видел. Я рассказывал пока что, как вы заметили, вероятно, сами, немного юмористически. Человек, испытавший тот ужас, который пережил я, имеет право шутить.
III. Флейта
Прежде всего представьте полную тишину. Голодный, я сидел на плетеном стуле и ждал негра; было так тихо, что шипение масла в лампе казалось единственным звуком, знакомым этому дому. Было еще не поздно, но до ушей моих, как я ни старался прислушиваться, не долетал ни шум шагов, ни звуки голоса, ничего, что обычно, почти не замечаемое нами, присуще всякому, не погрузившемуся еще в сон жилому помещению, и трогает слух. Я сразу отметил это, так как стал испытывать беспричинное раздражение; после крикливой уличной суеты этот глухонемой дом озадачивал крайне неприятным, тягостным впечатлением тишины, не нарушающейся даже звуками улицы; по-видимому, я был в центре дома.
Бросив мешок в угол, я лег на кровать, вытянулся и закрыл глаза. Прошло немного времени, я размышлял о том, поступать ли мне на пароход немедленно или же отдохнуть и повеселиться, — как вдруг, заставив меня вздрогнуть, снизу, отчетливо и явственно донесся полный, приятный звук; он оборвался, перешел в более высокий тон, и я услышал монотонную, странную и оригинальную мелодию, исполняемую невидимым музыкантом.
— Играй, играй, — сказал я, — это увеличивает аппетит.
По-видимому, играли на флейте, но сказать в точности, что это была флейта, я не могу, может быть, это было что-нибудь вроде туземной волынки. Звуки носили совершенно особый характер, переливы их, не заглушаясь перегородками стен, проникали в мою комнату так свободно, словно играли у меня под кроватью. Я скоро убедился, что слушаю слишком внимательно, в этом была странная смесь удовольствия и печали. Звуки, достигая моего сознания, приобретали легкую силу прикосновения ко мне, к моему телу, меня как бы трогали осторожно и мягко, в чем-то убеждая и успокаивая.
Я нервен, нервен настолько, что иногда мелочь, пустяк, могут заставить меня думать о них с волнением. Флейта продолжала играть, тягучий, медленный темп мотива лишал меня способности думать, беспричинная глубокая тоска овладела мною. Вдруг почувствовал себя смертельно усталым, слабым и огорченным.
«Эй ты, дьявольская канарейка! — крикнул я. — Брось!»
Мой рот остался закрытым, я крикнул мысленно. С минуту я остался неподвижным, вытаращив глаза на полог кровати. По-прежнему не было ничего слышно, кроме шипения масла в лампе и проникающих тяжестью во все тело звуков удивительного инструмента; испуганный, еще не зная хорошенько — чем, я сделал усилие и вскочил. Я вскочил мысленно, в чем я убедился тотчас же, так как продолжал лежать на кровати; сделав усилие, я представил, со всей мгновенной яркостью страха, как упираюсь ногами, приподнимаюсь и вскакиваю, но этого не было.
Гадливый, полный омерзения и тяжелого холода в груди ужас овладел мною, ужас болезненного кошмара, паника человека, связанного по рукам и ногам и брошенного на рельсы под надвигающийся паровоз.
Флейта продолжала играть. В мотив вошли две-три новые ноты, пронзительные и грозные. Я беспомощно внимал им, задыхаясь от страха. Я не понимал, что со мною: изнурительная, предательская слабость росла в теле; это соединялось с сильным душевным страданием; я мучился так, как если бы лишился любимой женщины или бы пережил невероятную низость; я вздохнул и заплакал. Слезы не принесли мне облегчения. Мои мысли приняли мрачное, определенное направление, я думал о смерти. Мне казалось, что я умираю; немного спустя я был уже совершенно уверен в этом. Жизнь покидала меня. Сердце билось так слабо, что замирающая в артериях кровь вызвала головокружение, в глазах темнело, дыхание сделалось отрывистым и неровным.
Флейта продолжала играть. Флейта убивала меня, я ясно различал оттенки звуков, несущие смерть.
Постепенно тоска, страдание, ужас и слабость достигли своего крайнего, немыслимого для человека предела, и я потерял сознание.
IV. Жизнь
Не знаю, долго ли я пробыл без чувств. Очнувшись, я услышал шум, топот и голоса в коридоре. Флейта молчала. С трудом подняв руку, я вскрикнул от радости — это не был мысленный акт, а настоящее, живое движение тела.
Я встал, шатаясь; в комнате было светло и страшно, шум за стеной продолжался, но мне он не принес ничего, кроме нового страха, я не знал, где я, кто возится за стеной в коридоре и что меня ждет. Моим первым и единственным желанием было бежать.
Я подошел к двери, прислушиваясь… Тотчас же сильный удар ногой в дверь заставил меня крикнуть:
— Чего вы хотите?
— Кто вы? — спросили по-английски.
— Эмиль Кош, матрос, войдите, ради Бога, скорее!
— Дверь заперта.
Сказавший это, по-видимому, не любил долго искать ключ. Дом задрожал от его ударов, я помогал, как мог.
В выбитую дверь ввалилось шесть человек, четыре из них были английские матросы, а остальные — полиция.
— Это не тот, — сказал один из матросов, обращаясь к полицейскому.
— Что вы здесь делаете?
— Я хотел ночевать.
Все молчали, рассматривая меня.
Полицейский сказал:
— Мы ищем английского подданного, лейтенанта Ричарда Джонсона. Неделю тому назад он исчез бесследно; матрос, провожавший его, утверждает, что он остановился в этой гостинице.
— Я не знаю Джонсона, — сказал я. — Верно лишь то, что, не приди вы, я был бы, наверное, там же, где теперь лейтенант Джонсон.
— Что вы знаете? — спросил матрос.
— Флейту, — сказал я. — Вот, выслушайте меня.
И я рассказал подробно о странной игре, лишившей меня сознания. Все выслушали молча, внимательно, но кое-кто улыбнулся.
— Может быть, это был кошмар, — сказал старый матрос, — особенно после хорошей выпивки. Мы спрашивали хозяина этой гостиницы, его слугу-негра, жену хозяина. Все говорят, что Джонсон встал рано утром и ушел неизвестно куда. Но с ним было много денег.
— Кошмар? — возразил другой. — Но вы забыли, что, когда мы подходили к гостинице, внизу действительно слышались какие-то звуки, очень напоминавшие флейту.
— Я глух для этих вещей, — сердито возразил старик, — что же, вы заставите меня тому поверить?
— Я поверил, — сказал я, — но это, наконец, не важно даже и для полиции. Каждый имеет право в своем доме играть на флейте и даже на чем угодно… Тем более когда этим можно беспокоить одного-единственного жильца.
— Да, в других комнатах никого нет, — подтвердил матрос.
Мы постояли и вышли. Светало. На рейде горели бледные огни мачт… Сонный полицейский зевал, закрывая рукой рот.
Мы плохо знаем Восток.
Зимняя сказка
Ты сейчас услышишь то, о чем спрашиваешь.
РедклифI
Ранний морозный вечер незаметно проступил в бледном небе желтой звездой. Улица стала неясная, снег — мглистый; скрипели, раскатываясь на поворотах, сани; редкая ярмарочная толпа сновала у балаганов: купцы-самоеды, мужики в малицах, бабы и девки; возле галантерейной лавки хмельной парень размахивал кумачовой рубахой; над калиткой кое-где болтались прибитые гвоздиками куньи и горностаевые шкурки: пушная торговля; мерзлые говяжьи туши, задрав ноги вверх, войском стояли на площади.
Ячевский, с целью занять три рубля, пришел в город из подгородной деревни, зашел в несколько квартир, но денег нигде не добился, остановился на углу, думая, к кому бы зайти еще, наконец, смерз, повернул в переулок и поднялся в верхний этаж гнилого деревянного дома. У обшарпанной двери, облизываясь, подобострастно мяукала кошка; Ячевский пустил ее, хотел войти сам, но женский голос сказал: — «Кто там, нельзя». Ячевский притворил дверь и громко, отчего слабый его голос стал похож на тонкий голос спросившей женщины, крикнул:
— Я это, Ячевский: можно?..
За дверью начался спор, женщина испуганно спрашивала: — «где же мне… где же мне», — а быстрый, злой голос мужчины твердил: — «ну, выйди, я тебя прошу… слышишь… надо же мне принимать где-нибудь». Слово «принимать» звучало мелочной болью и желанием произвести впечатление. Наконец, дверь открыл длинноволосый с лицом раскольника человек в синей, низко подпоясанной блузе, сказал быстро: «Входите», — и, отойдя к столу, прикрытому обрывком клеенки, напряженно остановился, пощипывая бородку. Ячевский увидел брошенные на грязный диван юбку, лоскутки, нитки, подумал: «нет мне сегодня денег», — и неловко сказал:
— Извините, Пестров, я помешал… супруга ваша работает, а я ведь так себе зашел, давно не был.
— А, да… ну, отлично, — бегая глазами, проговорил Пестров. Видно было, что визит этот почему-то неприятен и мучителен для него, но уйти вдруг Ячевский не решался; взяв стул, он сел и сгорбился.
— Вот как… живете вы, — медленно, чтобы сказать что-нибудь, произнес Ячевский и тут же подумал, что этого говорить не следовало — голые стены, груда книг на окне, сор и юбка кричали о нищете. О Пестрове было известно, что он где-то там пишет, уверяя, будто одна нашумевшая, подписанная псевдонимом книга принадлежит ему; над этим смеялись.
— Вы… выпьете чаю? — спросил Пестров; крикнул за перегородку: — Геня, самовар… впрочем, не надо. — Затем, обращаясь к Ячевскому, небрежно сказал: — Я забыл купить сахару… булочная, кажется, заперта… Нет.
— Я совсем, совсем не хочу чаю, — поспешно ответил Ячевский, — вы, пожалуйста, не беспокойтесь. — После этого ему стало вдруг нестерпимо тяжело; он растерялся и покраснел. — Нет… я вас спрошу лучше, как ваши работы, вы, вероятно, всегда заняты?
— Да, — словно обрадовавшись, сказал Пестров и сел, смотря в сторону. — Я очень занят.
За перегородкой что-то упало, резко звякнув и тем неожиданно пояснив Ячевскому, что в соседней комнате, затаившись, сидит человек.
— Не давай ножницы Мусе, — зло крикнул Пестров, — я говорил ведь! — Потом, видимо, возвращаясь мыслью к самовару и булочной, сказал, легко улыбаясь.
— Мои обстоятельства несколько стеснены, что редкость в моем положении, но я скоро получу гонорар.
Ячевский приятно улыбнулся и встал.
— Да, это хорошо, — сказал он, — ну… будьте здоровы, извините.
— Помилуйте, — шумно рванулся Пестров, крепко сжимая и тряся руку Ячевского, лицо же его было по-прежнему затаенно враждебным, — помилуйте, заходите… нет, непременно заходите, — закричал он на лестницу, в спину удаляющемуся Ячевскому.
Ячевский, не оборачиваясь, торопливо пробормотал:
— Хорошо, я… спасибо… — и вышел на улицу.
II
Придя домой, Ячевский чиркнул спичкой и увидел, что в комнате сидят двое: Гангулин за столом, положив голову на руки, а Кислицын возле окна. Спичка, догорев, погасла, и Ячевский, раздеваясь, сказал: — Отчего же вы не зажжете лампу?
— В ней, Казик, нет керосина, — зевнул Гангулин. — Мы шли мимо и забрели. Керосин имеешь?
— Нет. — Ячевский вспомнил о денежных своих неудачах и сразу пришел в дурное настроение. — Хозяева же легли спать, — прибавил он. — я мог бы занять у них. Нехорошо.
— Наплевать, — бросил Кислицын. — Физиономии наши друг другу известны.
В комнате было почти темно. Голубые от месяца стекла двойных рам цвели снежным узором; пахло табаком, угаром и сыростью. Ячевский сел на кровать, снял было висевшую у изголовья гитару, но повесил, не трогая струн, обратно; он был печален и зол.
— А вы как? Что нового? — сказал он.
— Ничего, собственно. «Пусто, одиноко сонное село», — продекламировал Гангулин, встал, сладко изогнулся, хрустя суставами, сел снова и вздохнул. — У Евтихия мальчик родился; щуплый, красный, еле живой; Евтихий в восторге.
— Ты видел?
— Нет, я заходил в лавку, там встретил акушерку, она принимала.
Наступило молчание. Гангулин думал, что в темноте сидеть не особенно приятно и весело, но лень было подняться, надевать пальто, идти по тридцатиградусному морозу в дальний конец города, а там, нащупав замок, попадать в скважину, зажигать лампу, раздеваться и все затем, чтобы очутиться в ночном молчании занесенной снегом избы, одному прислушиваясь к змеиному шипению керосина. Ясно представив это, он снова опустил голову на руки и затих Кислицын же, отвернувшись к окну, вспоминал девушку, умершую два года тому назад; при жизни она казалась ему обыкновенным, не без досадных недостатков, существом, а теперь он ужасался этому и не понимал, как мог он не чувствовать ее совершенства, и душа его замкнуто болела тонким очарованием грусти, похоронившей горе.
Ячевский неохотно ждал продолжения уныло-беспредметного разговора; все подневольные жители города и пригородных деревень прочно, основательно надоели друг другу. Но гости молчали; изредка, за окном, судорожно скрипели полозья, слышался глухой топот; тараканы, пользуясь темнотой, суетливо шуршали в обоях. Молчание продолжалось довольно долго, делаясь утомительным; Ячевский сказал:
— Гангулин, вы спите?
— Нет. — Гангулин откинулся на спинку стула. — А так, просто, говорить не хочется. А разговор я послушал бы; даже не разговор, а чтобы вот сидел передо мной человек и говорил, а я бы слушал.
Ячевский лег на кровать, закрыл глаза и сказал:
— Я раньше был очень разговорчив и сообщителен, а теперь выветрился.
— Почему? — рассеянно спросил Кислицын.
— А так. Жизнь. Сухая молодость и три года в снегах — прохладное состояние души.
— Слушайте, — после небольшого молчания таинственно заговорил Кислицын, — вот вам обоим задача. Дня четыре тому назад мне нечто приснилось, не помню — что, и я проснулся среди ночи в страшном волнении. Это я потому рассказываю, что ко мне сейчас, в темноте, вернулось то настроение. Было темно, вот так же, как теперь, я долго искал свечу, а когда нашел, то сон этот, — как мне показалось спросонок, заключавший в себе что-то лихорадочно важное, — пропал из памяти; осталось бесформенное ощущение, которому я никак не могу подыскать названия; оно, если можно так выразиться — среднее между белым и черным, но не серое, и чрезвычайно щемящее… На другой день, неизвестно почему, только уж наверное в связи с этим, стали в голове рядом три слова: «тоска, зверь, белое». Они нет-нет вспомнятся мне, и тогда кажется, что если обратно уяснить связь этих слов — я, понимаете, буду как бы иметь ключ к собственной душе.
Он замолчал, потом рассмеялся и стал курить.
— Это мистика, — наставительно произнес Гангулин, — а ты — тоскующий белый медведь!
Кислицын снова рассмеялся грудным детским смехом.
— Нет, правда, что же это может быть, — сказал он, — «тоска, зверь, белое»?
— Бывает, — тихо заметил Ячевский, — еще и не то в тишине. Бывает иногда… — Он смолк и быстро закончил: — Этим выражается настроение. А твои три слова, как умею, переведу.
— Ну, — сказал Гангулин, — только не страшное.
— Вот что, — Ячевский приподнялся на локте, и в воздушной месячной полосе блеснули его глаза. — В ослепительно-белом кругу меловых скал бродит небольшой, нервный зверь-хищник. Не знаю только, какой породы. Небо черно, луна светит; зверь беспомощно мечется от скалы к скале, ища выхода, припадает к земле, крадется в тени, бьет хвостом, воет и прыгает высоко в воздухе, а иногда станет, как человек. Положение его безвыходное.
— В темноте бродят всякие мысли, — задумчиво проговорил Кислицын, — нет, мне решительно не нравится жить в этом городе.
Никто не ответил ему, но все трое, скользнув памятью в глубину прошедшего года, сморщились, как от скверного запаха. Жизнь города слагалась из сплетен, выносимой на показ дряблости, мелочной зависти, уныния, остывших порывов и скуки.
Из тишины выделился однообразный, призрачно далекий, тоненький звон колокольчика, замер, затем, после короткого перерыва, раздался вновь, окреп и, медленно приближаясь, пронесся мимо окна, рисуя воображению пару лохматых лошадей, сонное лицо внутри качающегося на ходу возка и свежий, бегущий, в рыхлом снегу, след саней.
— Иной раз, — сказал Ячевский, — после бесконечных взаимных жалоб мне кажется, что в нашем терпеливо-безнадежном положении мы все ждем появления какого-то неизвестного человека, который вдруг скажет давно знакомое. Но от этого произойдет нечто такое, как если сонному бросить в лицо лопату снега или крепко натереть уши.
— Послушайте, — оживился Гангулин, — я вспомнил рассказ о том, как одна сельская учительница…
Он не договорил, так как в сенях скрипнуло, треснул настил, раздались увесистые шаги, и дверь стремительно распахнулась, взрывая теплую духоту помещения хлынувшим из сеней холодом. Ячевский встал. Вошедший остановился у печки.
III
— Кто это? — спросил, недоумевая, Гангулин. В полумраке чернела высокая фигура закутанного человека; он сказал низким, незнакомым всем голосом:
— Вы — ссыльные?
— А вы кто? — спросил, зажигая спичку, Ячевский, — мы — да, ссыльные.
Перед ним стоял покрытый до пят меховой одеждой широкоплечий, неопределенного возраста, человек. В обледеневшем от дыхания вырезе малицы[35] скупо улыбалось красное от мороза лицо, безусое, скуластого типа, спутанные русые волосы выбивались из-под шапки на круглый лоб, черные, непринужденно внимательные глаза поочередно смотрели на присутствующих. Спичка погасла.
— Я тоже ссыльный, — однотонно и быстро сказал вошедший, — я бегу из Усть-Цильмы, сюда меня довез здешний мужик… Я рассказываю все, вам нужно знать, почему и как я зашел сюда…
— Зачем же, все равно, — немного теряясь, перебил Ячевский, — садитесь, все равно.
— Нет, я скажу. — Речь беглеца потекла медленнее. — Здесь город, я еду на вольных перекладных, паспорт фальшивый, мужик ищет лошадей на следующий перегон. Сидеть в избе, среди разбуженных мужиков и баб, быть на глазах, врать, ждать, может быть, час, — неудобно. У них памятливые глаза. Ямщик указал вас, я зашел, а теперь разрешите мне ожидать у вас.
— Странно спрашивать, — сдержанно отозвался Кислицын.
— Да садитесь, какие же церемонии, — засмеялся Ячевский. — Как вам удобнее. Но вот темно, это случайно, а неприятно.
— Мы придумаем, — сказал неизвестный и что-то проговорил заглушенным одеждой голосом; он скидывал малицу, ворочаясь и принимая в темноте уродливые очертания и пыхтя. Мех шумно упал на пол. — Да. — отдуваясь, но заботливо и покойно продолжал он, — я говорю — нет ли у вас лампадки?
— Ну, как же, мы про это забыли, — радостно удивился Ячевский, — конечно, есть.
Он скрылся в углу, затем осторожно поставил на стол запыленную лампадку и зажег фитиль. Остатки масла, треща, прососались сквозь нагар огоньком величиною с орех, месячное окно померкло, тени людей, колеблясь, перегнулись у потолка.
Приезжий, в свою очередь, быстро пробежал взглядом по усатому, с детскими глазами, лицу Кислицына, брезгливым чертам Гангулина, задумчивому, легкому профилю Ячевского и, двигая под собой стул, подсел к свету, застегнув на все пуговицы двубортный темный пиджак, из-под которого, шарфом обведя короткую шею, торчал русский воротник кумачовой рубахи.
Гангулин, потупясь, рассматривал ногти, Ячевский обдумывал положение, а Кислицын спросил:
— Вы давно в ссылке?
— Шесть дней, — показывая улыбкой белые зубы, сказал проезжий.
Гангулин взглянул на него круглыми глазами, проговорив:
— Быстро.
— Быстро? Что?
— Быстро вы убегаете, очертя голову, стремительно.
— Так как же, — сказал проезжий, — я не могу путешествовать с меланхолическим, томным видом, скандировать, останавливая лошадей на лесных полянах, чувствительные стихи, а затем, потребовав на станции к курице бутылку вина, ковырять в зубах перед каминной решеткой, вытягивая к тлеющим углям благородные, но усталые ноги… Я впопыхах…
Он, подняв брови, ждал, когда рассмеются все, и, дождавшись, громко захохотал сам.
— Значит, — сказал Гангулин, — значит, вы улепетываете?
— Вот именно. — Проезжий, вытащив из кармана портсигар, угостил всех и закурил сам, говоря. — Слово это очень подходит. Но мне, видите ли, здесь не нравится. Я не привык.
— Вас могут поймать; поймают — риск, — серьезно сказал Ячевский.
— Ну… поймают… — Он сморщился и развел руками, как будто, услышав иностранное слово, переводил его в уме на свой, скрытый от всех язык. — Поймают. Разве вы, делая что-нибудь, останавливаетесь в работе потому только, что не угадываете ее успеха или фиаско? Так все.
Три человека с чувством любопытствующего оживления смотрели на него в упор, Кислицын сказал:
— Куда же, если не секрет, едете?
— А, боже мой, — уклончиво ответил проезжий, — мало ли где живут… — Он заметил по выражению лица Кислицына, что собеседники готовы рассмеяться и что его слушают с удовольствием. — Вы думаете, конечно, что я словоохотлив, — верно, поговорить люблю, это здорово, к тому же дух мой опережает меня, и теперь он далеко, а это действует, как вино. Так что же? Да, вы спрашиваете… У вас здесь еще зима, а там, — он махнул рукой в угол, — начало весны.
— Весна дальнего севера, — брезгливо сказал Гангулин, — не очень приятна. Бледное солнце, изморозь, сырость, чахоточная и нудная эта весна здесь.
— Весна в наших краях, — заговорил, помолчав, проезжий, — весна сильная, такая веселая ярость, что ли. В один прекрасный день всходит весеннее солнце и толчет снег; он загорается нестерпимым блеском, сердится, пухнет, проваливается и вот: черная с прутиками земля, зеленые почки, белые облака, вода хлещет потоками, брызжет, каплет, звенит; так вот некоторые у рукомойника женщины утром — смокнут до нитки. Потом земля сохнет, — тоже быстро, появляется трава, коровы с бубенчиками и вы, — в белом костюме, на руке же у вас висит нежно одна там… шалунья. Ей-богу.
— Даже слюнки потекли, — сердито сказал, смеясь, Гангулин.
Кислицын, не переставая улыбаться, кивнул безотчетно головой, и всем троим глянул в лицо апрель, когда синяя разливается холодными реками весна.
— Вы жили в деревне? — после недолгого молчания спросил Кислицын.
— Да.
— Как там?
— Плохо.
— А ссыльные?
— Нос на квинту.
— Да, — угрюмо сказал Гангулин, — вы жили, может быть, всего дня два, но проживи вы два года… Это я к тому, что тяжело жить.
Проезжий ничего не ответил. Затрепанный номер иллюстрированного журнала, валявшийся на столе, привлек его внимание; он перевернул несколько страниц, пробежал глазами рисунок, стихотворение и встал.
— Ямщика нет, — озабоченно проговорил он, — мужик хотел зайти сказать — и не идет. Свинья.
— Я предложил бы закусить вам, да нечего, — покраснев, сказал Ячевский, — пустовато.
— Я не голоден, — быстро сказал проезжий, — правда, не голоден.
Он вздохнул и обернулся. Неслышно оттянув дверь, вполз заиндевевший мужик, перекрестился и стал у порога; озорное, хилое лицо мужика хитро смотрело вокруг.
— Едем, — вскочил проезжий.
— Уготовил, — откашливаясь в кулак, пробормотал мужик. — Лошадей наладил, как стать, в одночасье, свояк едет мой, пару запрег вам.
— Ах ты, умная миляга, — сказал неизвестный, — хитрая, жадная, но умная; ну, так я готов, веди меня.
Он проворно надел малицу, рукавицы, шапку и подошел к столу. Все стояли, мужик у печки вытирал усы, стряхивая сосульки в угол.
— Прощайте, спасибо. — Проезжий крепко тряхнул протянутые руки, добавив: — Может, увидимся.
— Жаль, уезжаете, — располагаясь к этому человеку, простодушно сказал Кислицын, — опять сядем и заскучаем.
— Полноте, — ответил, неповоротливо двигаясь, человек в мехах, — скука… Я еду, думаю… все скучаем, это сон, сон, мы проснемся, честное слово, надо проснуться, проснемся и мы. Будем много и жадно есть, звонко чихать, открыто смотреть, заразительно хохотать, сладко высыпаться, весело напевать, крепко целовать, пылко любить, яростно ненавидеть… подлости отвечать пощечиной, благородству — восхищением, презрению — смехом, женщине — улыбкой, мужчине — твердой рукой… Тело из розовой стали будет у нас, да… А я все-таки заболтался. Прощайте.
Он поклонился и вышел, а мужик, мотнув головой, опередил его, загремев по лестнице Кислицын, стоя у двери, улыбнулся в то место тьмы, где, как думалось ему, находится лицо беглеца, и, так же задумчиво улыбаясь, закрыл дверь. Огонь, сильно колеблясь, трепетал в пыльном стекле лампадки мутным погибающим светом.
IV
У оврага, возле кривой избы, где ныряющая в перелесок дорога чернела при луне навозом и выбоинами, — стояла, поматывая головами, пара кобыл; подвязанный к дуге колоколец тупо брякал, а мужик, расставив ноги, затягивал мерзлый гуж. Тут же, по привычке оглядываясь во все стороны, бросал в возок охапки сена проезжий, поверх сена растянул ватное одеяло, устроил выше, для головы, подушку и стал ходить от избы к возку и обратно, нетерпеливо дергая головой. В мутной, холодно осиянной дали темнел черный лес; черные, без огней, избы, изгороди тянулись от леса к городу; тени, как сажа на молоке, резали глаз. Две собаки лаяли за версту от оврага, но так звонко, словно вертелись за спиной.
— Тпру-у, — подымая голову, зашипел мужик, — околеть тебе, нечистая сила, калека, падло несчастное. Тпрусь.
— Шевелись, борода, ехать надо, — сказал проезжий, — раньше смотреть надо было.
Мужик, молча тряхнув оглоблей, нахлобучил шапку, потоптался, шмыгнул носом и свалился боком на облучок, вытянув ноги, как неумеющие ездить верхом дамы, а пассажир, колыхая возок, разлегся внутри и блеснул спичкой, закуривая.
— Ну, тряси вожжами, — сказал он, — поехали… Да смотри, по деревням зайцем лупи, бутылка водки в кармане, тебе отдам.
— Уж я такой, — деловито оживился мужик, — со мной ничего… ничего, покойно, значит, сенца взял.
— Постойте, — запыхавшись, крикнул Ячевский. Он подбежал из-за избы и, торопясь, смущенно улыбнулся, заглядывая в возок.
— Это, ведь, вы… сейчас… были там… так вот я…
Он запнулся, и возбуждение его улеглось.
— Ах, вы, — сказал пассажир, — что вы, пальцы отморозите, зачем пришли?
— Я, — снова заговорил Ячевский, покоряясь внезапному чувству беспомощности, в котором задуманное разом обмякло и перегорело, — я очень прошу меня извинить, задерживаю, не можете ли вы… наложенным платежом русско-немецкий словарь, сделайте одолжение.
Горький стыд потопил его. В возке точками блестели глаза.
«Зачем я все это говорю? — подумал Ячевский. — Никакой словарь не нужен, и черт вас всех побери».
— Словарь? А какой? — нетерпеливо спросил проезжий, заворочался и прибавил: — Ну, хорошо, только это?
— Да, больше ничего, извините, — тихо сказал Ячевский. — Моя фамилия Ячевский. До востребования.
— Прощайте, — раздалось из возка, — трогай.
Ячевский отошел в сторону, а коренная, тряхнув дугой, рванула возок, и лошади побежали мелкой рысью. Воровской дребезг колокольца рассыпался по оврагу коротким эхо, на бугре, падая вниз, возок скакнул, мужик занес кнутовище над головой, и снежный вихрь, брызнув из-под копыт, комьями полетел в возок. Скрип полозьев, удаляясь, затих.
Ячевский, растирая отмороженную щеку, долго смотрел в перелесок, зяб и думал, что все, вероятно, к лучшему. Он шел с целью просить неизвестного беглеца достать и выслать ему хороший подложный паспорт; этому помешали различные практические соображения.
«Бежать, — думал Ячевский, идя домой, — это, в сущности, не так просто, чего я? Шальная вспышка; сорвался, побежал… русско-немецкий словарь, противно все это. Два года — пустяки. И здесь люди живут».
Он спустился к занесенному снегом мостику; на перилах его, вися грудью и подбородком, какой-то захмелевший, без шапки, человек скользил, шаркая ногами, и горько плакал навзрыд.
Рассказ о странной судьбе
I
Молодой человек, с деловым и сухим лицом, сказал:
— Мы с вами беседуем целый час, а вы и не подозреваете, что я вас встречал раньше, давно, несколько лет назад.
— А где это было?
— В Самаре. Посмотрите на меня.
Он встал, жалостно опустил углы губ, взъерошил волосы, сунул под мышку салфетку и согнулся, как кланяющийся театру виртуоз, опустив руки по-обезьяньи.
— Суп с лапшой, — пробормотал он, бегая глазами, — на второе голубцы, колдуны, чего изволите? Кисель с молоком.
— Ясно, — сказал я. — Митька-свистун.
— Персонально. — Он уселся и спокойно посмотрел на меня. От неожиданности я даже покраснел. Трудно было теперь узнать в щегольски одетом, с сносными манерами господине бывшего трактирного полового.
— Да, хорош, хорош, — сказал я. — Пять лет назад я почти каждый день бывал в «Порт-Артуре», где вы служили.
И он заговорил о себе. Мне оставалось только удивляться, слушать и разводить руками. Его звали Антипов.
II
— Вы знаете, — сказал Антипов, — что у нас была революция. Ей я обязан всем — моим положением, богатством и даже семейным счастьем.
Мне даже удивительно вспоминать об этом. В трактире, где я служил, повар читал нелегальные брошюрки и ходил по праздникам в лес на митинги.
— Митька, — сказал он мне однажды вечером, — присоединись к общему делу. А дело это вот такое-то и такое-то…
Я слушал, затаив дыхание. Нельзя сказать чтобы он тронул или взволновал меня; я был страшно заинтересован таинственными и опасными сторонами этого дела. Смутный голос твердил мне, что нужно ухватиться за повара. Зачем? Не знаю. Это было чутье охотника.
Я так долго и голодно жил по мерзким каморкам кабаков, так долго выносил брань, так устал от постоянной работы, что в словах и рассказах восторженного хилого повара о прекрасных незнакомцах, жертвующих ради нашего брата всеми преимуществами жизни, о полном благородства и достоинства обращении их, о том, как они дают всем книжки и как всем говорят «вы», — мне почудилась для умного человека возможность изменить свою собачью жизнь.
В ближайшее воскресенье я умылся, подстригся и отправился с поваром. На краю города, в низеньком мещанском домике, собралось шесть человек рабочих.
Скоро пришел пропагандист и стал говорить нам о разных вещах. В самом патетическом месте его речи я встал, хлопнул об пол шапкой и заплакал… Пропагандист пожал мне руку и назвал меня «товарищем».
Прошла неделя, и мне уже было поручено организовать новый кружок. Я составил их два. Мне доверяли, и я не употреблял этого во зло. К тому времени я мог сам кое-что объяснить фабричным мальчишкам, пользуясь прокламациями, брошюрками и наставлениями пропагандистов. Повар поцеловал меня.
Весной произошли аресты. Многих очень нужных рабочих арестовали, и я был выбран в рабочий комитет. По делам мне часто приходилось сноситься с комитетом партийным, и я быстро усвоил не только правила конспирации, но и всю революционную психологию. Скоро арестовали и меня.
В тюрьме был свободный режим. Сидело человек двадцать мужчин и женщин. С воли нам приносили книги, цветы, мягкие булки, пироги, дичь, конфеты, чай, сахар, табак и деньги. Я пополнел, отоспался и, пользуясь вынужденным досугом, обложился книгами. Читал напролет дни и ночи. От природы у меня способность говорить образно, красиво и энергично. Скоро я был в состоянии поражать на дискуссиях наших партийных противников, а к концу года был выбран старостой.
По моему делу можно было ожидать лет пять Восточной Сибири. Я стал внушать товарищам, что решился выполнить одно очень трудное и важное дело. Мне организовали побег, он не удался; люди, помогавшие этому «с воли», были арестованы, а один даже подстрелен.
Тогда, после бессонной ночи, я пришел к решению, что наступило время воспользоваться жизнью, благо я был вооружен для нее известным опытом, знаниями и знакомствами. Я заявил жандармскому полковнику, что имею отношение к делу партии в — ском уезде.
Меня перевезли для следствия в уездную тюрьму, и там, не опасаясь, что это станет известным, я дал властям разные полезные сведения, но в меру, ровно столько, сколько это было необходимо для моего освобождения, стараясь избегнуть лишних арестов и щадя женщин.
III
На этом месте Митька-свистун остановился, съел бутерброд со свежей икрой, запил его стаканом отличного вина и выразительно пожал плечами, как бы говоря: «Так было, что же я с этим поделаю?!» Я слушал.
Мне предстояло сделаться агентом на недурном жалованье. Однако, зная хорошо, что среди революционеров я могу устроиться лучше и выгоднее, я решил обождать с этим и, будучи освобожден, выехал с фальшивым паспортом в Одессу. Явки и пароли были у меня еще свежи в памяти; заявив по приезде, что хочу работать вовсю, я с помощью некоторых уловок получил в свое. распоряжение несколько сот рублей и сделался разъездным организатором.
Через месяц начался роман с глупой, богатой и доброй девушкой, видевшей во мне по меньшей мере Лассаля. Я убедил ее пожертвовать в пользу дела все ее личные деньги — двадцать тысяч; взял их себе и уехал за границу.
Я посетил все, чем интересовался, живя в России: Париж, Лондон, Рим, выдавая себя за богатого фабриканта, но деньги тратя очень разумно. Это было как бы распутье — я не знал, продолжать ли мне вращаться в радикальных кругах или покончить с этим. Наконец я уехал в Москву, думая, что «там видно будет».
Так и вышло. Мне помог случай.
Я встретил в театре свою бывшую любовь, она просто посмотрела на меня, но после этого взгляда я понял, что со старым покончено и опасно возвращаться к нему.
По объявлению я отыскал сваху и, легализовавшись, то есть еще раз войдя в сношения с охранкой, получил отпущение грехов. Сваха дала мне полупомешанную старуху и наличными приданого семьдесят тысяч да незаложенный дом.
Вот и все. Я удовлетворяю потребности сердца на стороне, конечно; у меня два трактира и сырная лавка. Что вы на это скажете?
IV
Я уже не слышал его. Простая убедительная речь умного человека увлекла меня, как всегда, в мир грез, чуждых жизни и Митьке.
Я видел в лунном свете глухую пустыню и много теней. Маленькие черные тени скользили, припадая, за песчаными буграми, опущенные хвосты их вертелись меж задних ног, а морды смотрели жадно и осторожно. Это пробирались шакалы.
Чей труп привлекал их? Для этого надо было посмотреть с вершины горы, тогда у черной впадины водопоев ясно был виден скорченный труп охотника и маленькие тени вокруг.
Как сказал Соломон: «Живому псу лучше, нежели мертвому льву».
Лужа Бородатой Свиньи
I
Образ свиньи неистребим в сердце человеческих поколений; время от времени природа, уступая немилосердной потребности народов, наций и рас, производит странные образцы, прихлопывая одним небольшим усилием все радостные представления наши о мыле, зубных щетках и полотенцах.
В мае 1912 года двое любопытных молодых людей стояли у высокого деревянного забора; один из них наклонил голову и, уперев руки в бедра, держал на своих плечах товарища, который, схватившись за край ограды, усаженный гвоздями, смотрел внутрь двора.
В лице нижнего было выражение физического усилия и нескрываемой зависти к стоявшему на его плечах человеку; пошатываясь от тяжести, нижний ежеминутно спрашивал:
— Ну, что? Что там? А? Видно что-нибудь, нет?
Нижнего звали Брюс, а верхнего Тилли.
— Постой, — шепотом сказал Тилли, — молчи, мы сейчас уйдем.
— В тебе пять пудов, если не больше, — ответил Брюс.
— Просто ты слаб, — возразил Тилли, — постой еще две минуты.
Вдруг Тилли наклонил голову и спрыгнул; одновременно с этим Брюс услышал за стеной выстрел и хриплый голос, выкрикивающий угрозы.
— Он увидел меня, — вскричал Тилли, — удерем, а то он спустит собаку.
Оба стремглав бросились в переулок, перескакивая через заросшие крапивой канавы, и остановились на деревенской площади. Тилли сказал:
— Ничего особенного. Мне наговорили про него столько диковинных вещей, что я даже разочарован. Но что это? Неужели мне отстрелили ухо?
Он схватился рукой за мочку, и пальцы его стали красными.
— Пустяки, — сказал Брюс, — ухо лишь оцарапано; вообрази, что была кошка.
— Однако, прыжок этой кошки мог сделать меня мертвом мышью… еще вершок влево, и кончено. Сядем здесь, у ворот, в этой каменной нише, остатке феодальных времен.
— Ты демократ, тогда я на будущих выборах отдам свой голос Бородатой Свинье.
— Свирепая шутка, — сказал Тилли, — нет, подвинься немного, и я расскажу тебе о том, что, стоя на твоих плечах, видел я в Луже Бородатой Свиньи.
II
Та, мрачный человек с веселыми глазами, здесь гость — и многие сплетни местечка неизвестны тебе. Бородатая Свинья, как его прозвали, иначе Зитор Кассан, веселился тут десять лет и жирел, как сумасшедший, не по дням, а по часам. Он нажил большие деньги на торговле человеческим мясом. Не делай больших глаз, под этим понимается только контора для найма прислуги. Ценой неусыпной бдительности и настоящих коммерческих судорог Зитор Кассан достиг своего идеала жизни. Существование его — бессмысленный танец живота и… тайна, таинственность, обнесенная той самой стеной, возле которой оцарапала меня кошка.
Дом его прозвали «Лужей», а его самого — «Свиньей», еще «Бородатой»; изобидели человека в хвост и пятку. Но он сам виноват в этом. Он показывается — правда, редко — на улицах, в самых оцепенелых от грязи покровах и запускает свою растительность. Относительно его души я и заглянул сегодня во двор к Зитору Бородатому, но вижу, что мне много соврали.
Прежде всего, согласно уверениям женщин, я ожидал встретить большой чудесный цветник, среди которого из самых вонючих отбросов разведена лужа симпатичного зеленовато-черного цвета; над ней якобы стаи мух исполняют замысловатый танец, а Бородатая Свинья купается в этой самой жидкости. Но женщины — вообще очаровательные существа — не знают жизни; для такой лужи нужна выдумка и легкая ржавчина анархизма, где же взять это бедной свинье?
Нет, я видел не картину, а фотографию. Зитор Кассан лежал голый до пояса в самом центре огромного солнечного пятна, между собачьей будкой и дверью своего логова. У трех тощих деревьев стоял стол. Высокая, согбенная старуха служанка, с отвисшей нижней губой и медной серьгой в ухе, выносила различные кушанья. От них валил пар; телятина и различные птичьи ножки торчали со всех сторон блюд, а Бородатая Свинья пожирал их, сверкая зубами и белками на кувшинном своем портрете, и после каждой смены ложился на солнцепек, нежно поглаживая живот ладонью; все время он пил и ел и, надо тебе сказать, пообедал за шестерых.
Двор не представлял ничего особенного: он был пуст, — вот все, что можно сказать о нем, безотраден и пуст, как сгнившая яичная скорлупа; в будке, свесив язык, лежала цепная собака да у старых костей под забором скакали вороны. Когда Зитор Кассан кончил шлепать губами, в дверях дома появилась женщина. Это была маленькая, но упитанная особа лет тридцати, с челкой на лбу и выдавшейся нижней челюстью. Она вышла и остановилась, а Зитор, стоя против нее, смотрел на нее, она на него, и так, с минуту, склонив, как быки, головы, смотрели они, не улыбаясь, в упор друг на друга, почесали шеи и разошлись.
— Простая штука, — сказал Брюс, — после этого он выпалил в тебя из револьвера?
— Вот именно. Он заметил, что я смотрю, и сказал громко: «Эй, эй, воры лезут ко мне, слезайте, воришка, а то будет плохо». Затем, без дальнейшего, выпустил пулю. Отомстим Зитору, Брюс.
— Есть. Давай бумагу и карандаш.
— Что ты придумал?
— Разные вещи.
— Посмотрим.
Брюс положил на скамейку листок бумаги и стал, посмеиваясь, писать, а Тилли читал через плечо друга, и оба под конец письма звонко расхохотались.
Было написано:
«Многочисленные тайные силы управляют жизнью животных и человека. Мне, живущему в городке Зурбагане, имеющему внутренние глаза света и треугольник Родоса, открыта твоя судьба. Ты проклят во веки веков землей, солнцем и мыслью Великой Лисицы, обитающей под Деревам Мудрости. Неизбежная твоя гибель ужасает меня. Отныне, лишенный всякого аппетита, сна и покоя, ты будешь сохнуть, подобно гороховому стручку, пожелтеешь и смертью умрешь после двух лун, между утренней и вечерней зарей, в час Второго красного петуха.
Бен-Хаавер-Зюр, прозванный „Великаном и Постоянным“».
— А! — сказал Брюс, перечитывая написанное.
Тилли корчился от душившего его хохота. Повесы, похлопывая друг друга по коленкам, запечатали диковинное послание в конверт и опустили в почтовый ящик.
III
Лето подходило к концу. Вечером, загоняя коров, пастух играл на рожке, и Тилли, прислушиваясь к нехитрому звуку меди, захотел прогуляться. Он взял шляпу, тросточку и прошел в рощу. Он думал о жизни, о боге.
— Ну, смотрите, — сказал он вдруг, — вот еще меланхолик, бродящий, подобно мне, запинаясь о корни.
Неизвестный приблизился; Тилли, рассмотрев его, вздрогнул. Ужасен был вид у встреченного им человека: всклокоченная борода спускалась на грудь, синие, впалые щеки сводило гримасой, глаза блестели дико и жалобно, а руки, торча из ободранных рукавов, напоминали когтистые лапы зверя. Тряпка-шарф болтался на худой шее, неприкрытые волосы тряслись при каждом шаге, тряслась голова, трясся весь человек.
— Господин Зитор Кассан, — сказал Тилли, не веря глазам, — что с вами?
— А, сынок помещика, — хрипло, облизывая губы, произнес Зитор и уныло рассмеялся, — а что со мной? Что, удивительно?
— Ничего, — сказал Тилли, но подумал: «Он исхудал на пять пудов, это ясно». Вслух он прибавил: — Что вы здесь делаете? Не ищете ли здесь лисицу под Деревом Мудрости?
Он не успел засмеяться и отойти, как Зитор положил обе руки на его плечи, обыскивая лицо Тилли подозрительным взглядом. И такова была сила его внимания, что Тилли не мог пошевелиться.
— Вы знаете, — сказал Зитор, — а что вы знаете? Это мне стоит жизни.
— Успокойтесь. — Тилли побледнел и необдуманно выдал себя. — Это была шутка, — сказал он, — я и Брюс сочинили для развлечения. Пустите меня.
Зитор держал его стальным усилием злобы и не думал отпускать. Пока он молчал, Тилли не знал, что будет дальше.
— Я думал над этим письмом, — сказал, наконец, Зитор. — Поэтому я и умру сегодня, в час красного петуха. Так это вы устроили мне, щенок? Ваше письмо взяло у меня жизнь. Я лишился аппетита, сна и покоя. До этого ел и спал хорошо. Я мало жил. Я много наслаждался едой, сном и женщиной, но этого мало. Я хотел бы еще очень много есть, спать и наслаждаться женщиной.
— В чем же дело? — сказал Тилли. — Вам никто не мешает.
— Нет, — возразил Зитор, — я могу наслаждаться, но ведь я умру. Ведь я думал об этом. Когда я умру, — я не смогу наслаждаться. Я сегодня умру, умру голодный, несытый, не съевший и четверти того, что мог бы скушать. Теперь мне все равно. Дело сделано.
— Охотно извиняюсь, — сказал, струсив, Тилли.
— Меня прозвали Бородатой Свиньей, — продолжал Зитор. — Свинья казнит человека.
Быстрее, чем Тилли успел сообразить в чем дело, Кассан Зитор ударил его по голове толстой дубовой тростью, и молодой человек, пошатнувшись, упал. Он был оглушен. Зитор наклонился над ним и стал что-то делать, а когда выпрямился, Тилли успел забыть о письме к Зитору навсегда.
— Два месяца я худел и думал, думал и худел, — пробормотал Зитор. — Довольно с меня этой пытки. Ах, все пропало! Но я бы охотно съел сейчас пару жареных куриц и колбасу. Все равно, жизнь испорчена.
Он удалился в глубину рощи, и скоро под его тяжестью заскрипел сук, а в деревне, невинный и безучастный, запел рыжий петух свое надгробное Бородатой Свинье слово:
— Ку-ка-реку!
Примечания
1
Махальный — солдат, на обязанности которого лежит показывать красным значком, в какое место мишени попала пуля. Если стрелок даст промах — махальный машет белым значком. (Здесь и далее примечания автора.)
(обратно)2
Фельдфебель, взводный, подвзводный, ефрейтор, унтер, — В дореволюционной армии эти звания присваивались младшему командному составу из солдат.
(обратно)3
Немврод — древний сказочный царь, знаменитый охотник.
(обратно)4
По-ефрейторски на караул — отдавать честь ружьем (особый воинский ружейный прием).
(обратно)5
Штабс-капитан — офицерский чин в царской армии (между поручиком и майором).
(обратно)6
Хоругвь — воинское знамя. Церковная священная хоругвь — большое полотнище на длинном древке с изображением Христа или святых.
(обратно)7
Гренадер — здесь: рослый солдат. Так называли солдат особого рода войск, вооруженных гранатами (фр. grenade), а впоследствии солдат высокого роста из отборной части войск.
(обратно)8
«Пузырем» называли в то время мешок для хранения сыпучих продуктов.
(обратно)9
Дневальство — дневное наблюдение за порядком и чистотой в помещении роты.
(обратно)10
Взять под микитки — под ребра.
(обратно)11
Скатал валенки, отдал пушку (жарг.) — приврал, обманул, подшутил.
(обратно)12
Пушкарь (жарг.) — обманщик, болтун, пустослов. В прямом значении: артиллерист.
(обратно)13
Каптенармус — должностное лицо в армии, отвечающее за хранение имущества в ротном складе (кладовой).
(обратно)14
Цейххауз (цейхгауз) — воинский склад оружия, обмундирования, снаряжения и т. п.
(обратно)15
Кунстштюки (кунштюки) — разные проделки, фокусы, ловкие штуки.
(обратно)16
Словесность — здесь: воинские уставы в дореволюционной армии.
(обратно)17
«Нет у тебя Бози инии, разве мене…» (церковнослав.) — Нет у тебя Бога иного, кроме меня.
(обратно)18
Глазок — круглое отверстие в дверях камеры.
(обратно)19
Лошадиное мясо.
(обратно)20
Каботаж — плавание в пределах одного моря.
(обратно)21
Ватер-вейс — желоб для стока воды, проходит у бортов.
(обратно)22
Майна — вниз (жарг.).
(обратно)23
Хабарда — берегись.
(обратно)24
Декофт — голодовка.
(обратно)25
Вира — вверх (жарг.).
(обратно)26
Кубрик — общая матросская каюта.
(обратно)27
Ракло — вор.
(обратно)28
Кнек — чугунный столбик с утолщением наверху, служит для заматывания вокруг него канатов, в переносном смысле — остолоп, чугунная башка.
(обратно)29
Скандебобр — волосы, выпущенные из-под фуражки на лоб полукруглой прядкой, матросское кокетство.
(обратно)30
Тимберсы — ребра судна.
(обратно)31
Гальюн — отхожее место.
(обратно)32
Клотик — верхушка мачты.
(обратно)33
Лаг — прибор, показывающий пройденное расстояние.
(обратно)34
Шланг — пожарный рукав.
(обратно)35
Малица — меховой мешок с капюшоном и рукавами.
(обратно)

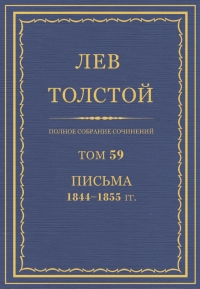
Комментарии к книге «Том 1. Рассказы 1906-1912», Александр Степанович Грин
Всего 0 комментариев