Е. КЛЮЕВ
Книга теней
РОМАН-БУМЕРАНГ
Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям,
и буду искать того, которого любит душа моя...
Книга Песни Песней Соломона (3, 2)
Глава ПЕРВАЯ
С.Л.
- Господин Статский! Господин Статский!
М-да, неуместное довольно обращение - тем более здесь-и-теперь: на одном из московских бульваров, по самое некуда занесенном снегом, шестнадцатого января тысяча девятьсот восемьдесят третьего года...
Высокий и очень худой молодой человек по фамилии Ставский, одетый до крайности модно и потому вполне нелепо, даже не сразу понял, что это к нему обращаются. А обращались между тем несомненно к нему, поскольку прозвище "Статский" было его прозвищем. Однако "господин"... Все-таки пришлось обернуться и увидеть старушку с мальчонкой, бежавших за ним по бульвару, причем мальчонка исправно спотыкался, правда, без последствий.
- В чем дело? - спросил "господин Статский", решив почему-то сделать вид, что дореволюционное это обращение нисколько его не удивляет, как не удивляет и то, что странной парочке известно его прозвище.
А старушка, приблизившись, оказалась старушенцией - и пакостной, надо сказать. Прежде всего, выглядела она очень грязной: на коричневом сморщенном лице темные какие-то разводы, черное пальто забрызгано грязью, резиновые сапоги измазаны свежей глиной... Откуда все это, когда кругом давно уже снег?.. Зато на плечах у старушенции была прекрасная черная шаль с японскими, вроде бы, цветами - новехонькая, только что из магазина: сбоку еще этикетка болтается.
Все это как-то само собой быстро увиделось, а тем временем чумазый мальчишка споткнулся около него, кажется, уже в последний раз и плюхнулся в снег. "Господин Статский" кинулся поднимать его и с ужасом обнаружил, что и не мальчишка это вовсе, что карлик это вовсе - причем карлик преклонного возраста. Пальто ему было велико, и брюки были велики, ботинки - здорово велики, между прочим (вот почему он спотыкается каждую минуту... да).
- Дяденька! - тонким, ультразвуковым каким-то голоском пропищал карлик. - Дай на мороженое, етит-твою-мать!
- Мороженое зимой есть вредно. - Ставский мужественно продолжал относиться к нему как к ребенку...
- ...малолетнему, - неизвестно к чему сказала старушенция и добавила нежным басом: - Мой сын. Сто лет. - При этом бурые зубы ее торчали вперед и глядела она непременно цыганскими глазами.
- Так, слушаю... - от всего сразу поежился Ставский.
- Ща, я токо высморкаюсь. - Зажав нос двумя грязными пальцами, она проделала ловко и гадко важное это дело ("Фу ты... чтоб тебя!" - отвернулся Ставский). - Ну вот, милок. Денег я у тебя взять хотела.
- Сколько? - поинтересовался милок, денег давать, разумеется, не собираясь.
- Все какие есть.
- Понятно, - понял милок, отстраняя карлика, уже самозабвенно игравшего брелоком на молнии его куртки. Карлик сразу оскорбился и заявил:
- Куртка у тебя дутая, сапоги дутые и сам ты весь дутый.
- Ну-ну, - поощрил его Ставский и отправился было восвояси, но настиг его старушечий нежный бас: "Погибнет душа твоя, господине". И замер Ставский, и было ему от чего замереть, потому что как раз об этом думал он, идя по Суворовскому. Кажется, даже успел сказать себе: "Погибнет душа твоя..."
- Откуда Вам известно мое прозвище? - Ставский обернулся.
- Удивляться лучше вовремя, - скучно сказала старушенция. - Цыганка я, вишь. Погадать?
- Не надо. - И опять хотел уходить.
- Чего ж тебе надо? Воланды на дороге не валяются. - Старушенция смеялась беззвучно. Ставский вздрогнул.
- Дядь, а сапоги такие где достал? - заорал вдруг карлик. - С рук небось?
- С рук, - безразлично ответил Ставский и выгреб из кармана деньги "все какие есть". - Возьмите.
- Оставь, - ухмыльнулась цыганка и добавила протяжно: Госпо-ди-и-не... - Дернула карлика за руку, быстро-быстро пошла по бульвару - карлик запрыгал за ней, истошно визжа: - Жрать с мамкой неча, жрать обратно неча, с голоду подохнем, сук-кины дети!
- Вы же погадать обещали! - в паузу вклинился Ставский.
- Дуракам не гадаем... - и продолжали убегать. А денег, между тем, на полу-еще-протянутой руке Ставского не было больше. Вот оно как.
- Пропади все пропадом! - И он перешел улицу. Стал на троллейбусной остановке, дождался троллейбуса, сел и уехал. А троллейбус - не посмотрел какой. Впрочем, троллейбус вообще никакой был ему не нужен: Ставский до этого на метро ехать собирался. Но, наверное, забыл. Потому что, кажется, произошло наконец событие "из ряда вон". Произошло же оно бездарно.
- Простите, это какой троллейбус?
- Пятнадцатый.
- Спасибо.
Пятнадцатый троллейбус увозил его от события "из ряда вон". Ставский никак не мог сосредоточиться - хотя бы на том, зачем вообще оказался на бульваре, по самое некуда занесенном снегом. Вышел человек из дому - попал на бульвар: другой конец города. То есть не конец, конечно, - центр города, но от дома все равно далеко. Да-ле-ко-ва-то... Господи-и-ине. Дурацкая какая-то встреча... будет ли продолжение?
Спешу уведомить читателя, что продолжения у этого эпизода не будет и что он никогда не узнает, кем были старушенция и карлик с бульвара. Это ружье не выстрелит. Поговорить, может быть, еще поговорим, но не больше. Прошу считать приведенный инцидент исчерпанным. Автор не совсем уверен даже в том, происходили описанные им события в действительности или были всего-навсего плодом его так-сказать-творческой фантазии. Впрочем, автор не видит причины, почему бы всей этой чертовщине не происходить. Мало ли что происходит вокруг нас! И не такое еще происходит - не искать же в каждой несуразице смысла... Забудем об этом. Простите меня, любезный читатель.
Вернемся лучше к растерянному Ставскому, которого мы оставили едущим пока в троллейбусе. По Москве идет троллейбус, и в Москве снег, снег, снег. Ставский думает о снеге, снеге, снеге - и правильно, между прочим, делает. Думать о том, что случилось на бульваре, ни к чему. Конечно же, это надо понимать как знак... как, может быть, извините за выражение, чудо: цыганка и все такое. Но чуда из этих рук (которыми она, пардон, высмаркивалась в снег) ему не хочется. И верить в реальность старушенции с карликом нет желания. Потому он не очень-то верит. Потому не очень-то верит и автор. Тем более что бывают вещи и похитрее. У нас дома, например, - давно уже, правда, неизвестно куда пропал огромнейший флакон одеколона. И до сих пор не обнаружился.
Между прочим, Ставского зовут Петр, пора бы уже это сказать. Петр значит "камень". Но слово "камень" не подходит Ставскому, он не камень. Может быть, даже наоборот. А родители, наверное, хотели, чтобы он был камень. Впрочем, это дело прошлое - теперь родители махнули на него рукой и завели себе кота по имени Кот. Отныне Петр живет как-то сам по себе. Когда Кот вырастет, он тоже будет жить сам по себе: у котов так принято. Но пока Кот чудак человек и без конца мяукает. Бог с ним.
Погибнет душа твоя, господине... Это само всплыло в сознании Петра, автор тут ни при чем. Такое всегда само всплывает. Да оно и крутилось уже у Петра в голове: душа, жизнь души, смерть души. Здравствуйте, дескать, гражданин Воланд. Тут вот у меня душа... так сказать. И некуда ее девать. Маленький, видите ли, сентиментальный такой механизм. Он все время работает и все время работает вхолостую. И нету почвы ему, на которой трудиться. Но некому сказать об этом. Начнешь говорить с кем-нибудь - слышишь: "Вы, простите, о чем?" Да ни о чем... это я так, сдуру, живите спокойно, я больше не буду. И живут, как ни странно, спокойно! Так живут, словно и в самом деле нет ничего, кроме того, что явно есть. И ты живи спокойно (мама). Я уже через это прошел (папа). Ой, Петь, ну хва-атит (Наташа, которой было его жалко, и она с родителями переехала жить в страну Израиль)... Вот и все.
Погибнет душа твоя, господине... Вам-то какое дело? Ну, погибнет. Не я первый, не я последний. Нелепый, доложу я вам, поворот: жил человек, жил никто душой его не интересовался, как вдруг - на тебе! Берется неизвестно откуда чумазая цыганка и озабочивается состоянием души - зимой, в Москве, прямо в сердце, извините, Родины... Озабочивается - и уходит со своим карликом. Хоть-стой-хоть-падай, как сказала бы Наташа. А "господине" - это звательный падеж. Боже, друже, человече... Старче. Приплыла к нему рыбка, спросила: - Что тебе надобно, старче?.. Лучше бы уж рыбка, а то цыганка с карликом. А я б тогда ответил: - Ничего мне не надобно, рыбе (такой у нее, что ли, звательный падеж?), потому как я ни в жизнь не сформулирую того, что мне надо. Хоть меня тут режь. Вроде бы все вообще-то в порядке, а внутри черт знает что происходит. Ну вот... этого только не хватало!
Последнее соображение относилось к контролерам, которые с двух сторон приближались к Петру, - деятельные такие тетки в коричневых пальто и пуховых платках, несущие на своих плечах бремя заботы-о-высокой-нравственности-пассажиров-московского-транспорта. Центурионши Мосгоравтотранса, душой и телом преданные великой идее "обилеченного" проезда каждого москвича-и-гостя-столицы. От них не уйдешь...
- Ваш билетик?
У них и повадки-то садистские: "билетик", видите ли, - не то чтобы, скажем, "билет". Дескать, возьмем-ка мы эту иголочку да загоним ее Вам под ноготочек. Скупые ласки палача... А сами небось уже вычислили Петра из двух десятков обилеченных пассажиров. Опытные, стало быть: глаз наметан!
- Нету билетика, - пришлось отвечать Петру со всевозможной сокрушенностью: понимаю, мол, что преступил, и готов понести заслуженное наказание.
- Штрафик тогда заплатим, - хорошо отрепетированным дуэтом пропели тетки, предвкушая кровь.
"Заплатим" - это так называемое множественное присоединительное. .. нет, множественное солидарности: его любят употреблять врачи. "Ну-с, что у нас болит?" Хотя понятно, что у них-то самих ничего не болит, у меня у одного болит, но врач, стало быть, готов присоединиться и разделить. Тетки тоже вроде как готовы "присоединиться и разделить": скажем, взять на себя часть штрафа. Ну что ж, заплатим так заплатим.
- Вы свою часть платите, - отмежевался Петр, - а мне нечем: у меня денег нет.
- Какую это свою часть? - в четырех глядящих на него глазах загорелись огни-Москвы.
И тут ой какой мягкий, ой какой глубокий и мягкий смех послышался за спиной Петра! Ой какой хороший смех!.. Точным попаданием смех этот в мгновение ока сразил ту самую область естества Петра, которая, по предсказаниям цыганки, должна была скоро погибнуть. Петр немедленно навеки забыл "огни-Москвы" и обернулся на смех. Бледное усталое лицо с глубокими и чуть ли не прекрасными морщинами, аккуратно подстриженные седеющие усики, тонкие и чуть искривленные губы. Берет, забывший, какого он цвета, серое пальто, шарфик в шотландскую клетку. На коленях - авоська с одинокой маленькой плюшкой в целлофановом пакетике. А впрочем, явно не Воланд. И этот явно-не-Воланд смеется - теперь уже только глазами. Но как все-таки замечательно смеется - даже просто глазами!
А Петру между тем уже выкручивают руку: силища у этих контролеров зверская... И Петр возвращается к четырем огням-Москвы, сжигающим его своим адским пламенем.
- Будем платить?
- Вместе? - усугубляет Петр.
- А так вот не надо делать, молодой человек. - Ответ теток не очень подходит к данной ситуации, но у теток этих набор речевых формул не варьируется: он задан раз и навсегда. - Иначе пойдем в милицию.
- Меня посадят? - ужасается Петр.
- Может быть, и посадят, - говорят страшные тетки.
- Тогда я начинаю убегать, - предупреждает Петр и делает несильный предупредительный рывок.
А теткам только того и надо: они тут же повисают на Петре и висят безучастно, как колбаса за окном.
- Сдаюсь, - устает Петр. - Едем в милицию. - И оборачивается в сторону явно-не-Воланда в надежде еще раз услышать смех. Явно-не-Воланд, однако, открывает уже маленький кошелек, достает рубль и протягивает центурионшам. Те не понимают ситуации и, продолжая висеть, негодуют:
- У Вас же есть билет, папаша!
- Это не мой билет, - признается папаша. - Я отнял его у данного молодого человека силой и присвоил. Теперь я раскаялся и плачу штраф.
- За него? - бледнеют тетки, уже немного порозовевшие при виде рубля.
- Как Вам угодно, - уступает папаша.
Тетки отваливаются от Петра и начинают шепотом обсуждать недежурную ситуацию. Явно-не-Воланд держит рубль. Петр смотрит странно на странного пассажира. Обычные пассажиры постепенно включаются в обсуждение инцидента. А у Петра уже щиплет глаза: вот еще новости... не разреветься бы тут: слишком уж как-то это все - ну, не знаю, трогательно. Обидно, трогательно... как?
- Полно, детка, полно. О чем? - говорит явно-не-Воланд, и сделать ничего уже нельзя... На виду у всех по щеке Петра начинает ползти слеза: нервы... да... - Вот и будет, - говорит старик, Петр осторожно вытирает слезу, не отрываясь глядя на него; рубль исчезает из поля зрения, исчезают тетки в коричневых пальто и в пуховых платках, исчезает троллейбус, бульвар, Москва... - Сивцевражек, - поет голос извне, слезы продолжают ползти... Будет, будет, - утешают Петра, и возникает перед его глазами носовой платок - аккуратный четырехугольник в зеленую клетку, чуть пахнущий то ли мылом несоветским, то ли несоветским одеколоном - несоветским, в общем, образом жизни, и, вытирая слезы, Петр послушно следует за расстегнутым серым пальто и краешком шотландского шарфика...
- Теперь сюда, Петр, - пальто и шотландский шарфик сворачивают в переулок и в скором времени останавливаются перед особнячком с какою-то даже лепниной.
Одномаршевая лестница тоненько эдак поскрипывает и приводит к ничем не обитой двери.
- Так, сюда ваш ватерпруф, сюда шапку - и ступайте в зало, а я чаю поставлю.
Петр ступает в "зало" через внутреннюю какую-то, странную для квартиры арку... арочку и вяло раздумывает о том, почему все сегодня знают, что его зовут Петр. А "зало", между прочим, пустое - нет, почти пустое... нет, совсем не пустое: мебель - простая и громоздкая, пятидесятых каких-нибудь годов, когда еще было слово "гардероб", но уже исчезало слово "канапе". Нормальная московская квартира без затей...
- Без детей, - со смехом поправляют из кухни и оттуда же представляются: - Станислав Леопольдович.
Петр не представляется в ответ: его имя и так всем, по-видимому, известно.
- Вы там садитесь где придется, - гудят из кухни, - я чай ставлю, это серьезная процедура.
Петр садится на стул у стола с маленькой стеклянной вазой, в которой сосредоточенно стоит невероятно живой цветок... вроде бы полевой... вроде бы только что с поля. А слева от стола - настенная книжная полка. И Петр привстает, чтобы рассмотреть книги. Их четыре.
- С библиотекой знакомитесь? - Станислав Леопольдович возникает на пороге с беленьким чайником в руке. - Тут четыре книги. Библиотека поэта, большая серия. Ахматова, Цветаева, Пастернак, Мандельштам.
- Только четыре? - спрашивает Петр и думает: "Маловато, в общем".
- Остальные неинтересные, - объясняется Станислав Леопольдович.
- Вы что же, читали все, какие есть на свете? - это Петр за литературу обиделся.
- Все, - просто отвечает Станислав Леопольдович, с сожалением глядя на Петра, тут же, впрочем, сожаление подавляя. Петр продолжает смотреть на книжную полку и вежливо говорит:
- Очень хорошие книги.
- Скоро еще одна будет - Рильке. Толстый. Страниц четыреста.
- Разве у нас выходил такой?
- Нет, это немецкий. Мне пришлют.
- Вы знаете немецкий?
- Да.
- А еще какие языки знаете?
- Все.
- И бенгальский? - Непонятно, что происходит с Петром: он, кажется, раздражен после глупой сцены с непрошенными, так сказать, слезами.
- И бенгальский, - спокойно отвечает Станислав Леопольдович, раздражение гостя иг-но-ри-ру-я.
- Вы, что же, лингвист?
- Нет, я... ветеринар.
- А животных держите каких-нибудь?
- Держал многих. Но всех отпустил на свободу. Кроме одной собаки. Ее зовут Анатолий.
- Почему же Анатолий?
- А она на Анатолия похожа. Но ее сейчас нет дома. Она к Игорю пошла.
- Игорь это тоже собака?
- Игорь - это человек. Маленький человек, восемь лет ему. Он с первого этажа. У него нет собаки. Только родители, но злые. Они не дают ему завести собаку. Поэтому, когда родители уходят, я посылаю к нему Анатолия. Стоит только родителям появиться на углу Сивцева Вражка - моя собака моментально возвращается сюда как ни в чем не бывало. До сих пор ни разу не попалась.
- А какой она у Вас породы?
- Шут ее знает. Разной. Как-то мы с ней... не думали об этом. Скаучная материя. Вот вы, скажем, какой породы?
- Человеческой, - сострил, что ли, Петр.
- А она собачьей, - исчерпал вопрос Станислав Леопольдович и добавил: Вы не нервничайте сейчас... Потом нервничать будем. А с Анатолием я Вас за чаем познакомлю. Он чай любит пить - из блюдца. Чай должен быть горячий и сладкий. Я бы Вас еще с кроликом познакомил, его звали Козлов. Но он ускакал в лес и теперь живет там. Наверное, в качестве зайца. Однако я устал держать чайник в руке.
Поставив чайник на стол, Станислав Леопольдович подошел к платяному шкафу, приоткрыл его и достал две чашки - себе средних размеров желтую, а гостю большую зеленую. Потом подмигнул и, запустив руку в недра шкафа, извлек из недр этих крохотную бутылочку без наклейки. В бутылочке, как следовало из его пояснений, был прекрасный ликер, который вот уже много лет сохранялся для какого-нибудь хорошего гостя.
- Знаете, сколько он ждал Вас?
- Наверное, очень долго, теперь таких не выпускают.
- Пожалуй. Мне подарили этот ликер в 1798 году. - Станислав Леопольдович усмехнулся. - С тех пор никто так и не заходил ко мне в гости. М-м... шутка.
Ликер он поставил на стол, к чайнику и чашкам. Потом принес из кухни чайник побольше, блюдечко с нарезанной плюшкой, банку варенья, масло и вазочку, на дне которой лежали две карамели без оберток.
- Кажется, больше ничего нет к чаю. Я бедно живу, видите ли.
- Это грустно, что бедно, - отнесся Петр.
- Да нет! Жить надо бедно. Впрочем, Вам трудно понять... не будем об этом.
- Почему же трудно... мне не трудно понять, я...
- Одеты Вы очень модно - пардон, что воспользовался паузой!
- А надо как? - Петр приготовился к конфронтации.
- А надо - никак. Чтобы не быть иллюстрацией места и времени... это привязывает и лишает свободы. - Станислав Леопольдович разливал чай.
- Я не понимаю, - сказал Петр.
- Я предупреждал, что Вам будет трудно понять. Вы молоды - немножко слишком. Это пройдет.
- К счастью, - пошутил Петр.
- К счастью, - очень серьезно и чуть ли не холодно повторил Станислав Леопольдович, от чего у Петра засосало под ложечкой. - Вы вот... чай пейте с этими, как их... яствами. И сейчас будем открывать ликер.
Пробка на бутылочке оказалась притертой - Петр никогда не видел ничего подобного на посуде такого назначения - и не поддавалась.
- Можно я попробую? - предложил он, покрутил бутылочку в руках, потряс ее, подергал за пробку. Пробка не поддавалась. - А тогда надо подержать ее под горячей водой - и легко будет открыть.
Станислав Леопольдович проводил его в кухню к огромному мраморному умывальнику и стал лить на горлышко бутылки кипяток из чайника, однако никаких перемен не обозначалось. Петру начинала уже надоедать вся эта возня вокруг ликера, тем более что он и вообще-то ликеров не любил, так что оценить достоинства данного "прекрасного ликера" все равно бы не смог.
- Но это действительно прекрасный ликер, - возразил Станислав Леопольдович, читая мысли Петра, и улыбнулся: - Надо же, досада какая!..
И Петру сделалось его жалко: смешные они люди, старики, и трогательные с этими своими "цацками" - ликерами незапамятных времен и прочее, и прочее... "Бахнуть ликер об умывальник мраморный - и дело с концом. Чтобы уж никаких больше проблем", - подумал Петр, неловко эдак повернулся и - бах!... Бутылочка выскользнула и, ударившись об угол умывальника, разлетелась вдребезги. Крохотная липкая лужица со странно правильными очертаниями ("загустел ликер-то...") нарисовалась возле туфель Станислава Леопольдовича, который произнес: "Так-ну-и-ладно" - и, покачав головой, проследовал в "зало".
Петр поплелся за ним. Он устал уже бесконечно: надо как-нибудь отсюда... что-то тут неловко все и ни к чему... зря я вообще сюда и так далее, - тускло обозначалось в его голове. Между тем опять сели за стол. Молчали. Петр не поднимал глаз и вдруг ни с того ни с сего произнес:
- Ужасна, ужасна жизнь.
- Вы полагаете? - безобидно, вроде бы, начал Станислав Леопольдович, а закончил обидно: - Просто, видите ли, как аукнется... Относитесь Вы к ней ужасно - вот она и ужасна для Вас.
Петр смолчал, восприняв это заявление как обиду по поводу разбитой бутылочки.
- Да бог с ней, с бутылочкой, - не в первый раз уже поймал его мысль Станислав Леопольдович. - Не о бутылочке я вовсе.
- А о чем Вы вовсе? - без интереса спросил Петр, уйдя уже в сердце своем из этого дома.
- О чем? Да вот... ушли Вы отсюда, например, рановато: не все еще случилось. Ситуация, так сказать, не исчерпана - она, я полагаю, начала только вырисовываться, а ведь интерес в подробностях... или как по-Вашему?
"Никак", - хотел сказать Петр, но опять смолчал, потому что до конца не понял, о чем он, Станислав этот Леопольдович.
- Люди живут быстро. Вы не замечали? - продолжал раскачивать его тот.
- Быстро - это... это Вы что имеете в виду? - разговор надо было поддерживать, а чай, между прочим, остывал, и чая, между прочим, хотелось. С плюшкой. И с вареньем.
- Вы пейте - с плюшкой и с вареньем, а я в виду вот что имею...
- Вы телепат? - не выдержал Петр.
- Телепат, - скучно согласился хозяин, - или, - веселее продолжал он, просто немножко более внимателен... медлителен, я хочу сказать, чем Вы.
Петр пил чай.
- М-да... внимателен и медлителен. Впрочем, на самом деле и я недостаточно внимателен и медлителен, раз успел уже Вас запустить. Угу, кивнул он на опять не понявший реплики взгляд Петра. - Я запустил уже Вас. Я допустил, что Вам сделалось со мной - ну, тоскливо, скажем. Не протестуйте, голубчик, - к чему протестовать? А между тем фокус-другой я бы мог Вам показать - дело, как говорится, нехитрое. Но это, видите ли, слишком уж немудрящий путь, мне стыдно таким путем идти к сердцу Вашему. Да и не надо Вам, чтобы таким путем... Вы же человек тонкий, а?
- Толстый, - сказал Петр.
- Запустил. - Станислав Леопольдович пожевал нижнюю губу и сказал себе: - Хотя... это у Вас уже рефлекторное, пожалуй.
- Что - рефлекторное? Было бы хорошо, если бы все-таки как-нибудь менее загадочно. - Петр пил чай.
- Вы воспитанный мальчик, - без насмешки заключил хозяин. - В самом деле, Вы очень деликатно сделали мне замечание. Деликатно, но зря. Я ведь не стремлюсь к загадочности - я всего-навсего переоцениваю уровень нашего... ну, взаимопонимания, что ли. И опускаю некоторые слова - вроде бы, сами собой разумеющиеся. Отсюда получается загадочность, как Вы изволили это квалифицировать. Ну ладно. А можно Вас попросить, Петр... Пожалуйста, относитесь ко мне хорошо - или хотя бы без враждебности.
- Но я хорошо... - начал Петр и осекся. Вдруг сделалось ему не по себе - сразу как-то не по себе. Он вскинул глаза на Станислава Леопольдовича и спросил: - Почему мы быстро живем? Что значит "быстро"? - И, спросив, понял уже смысл этого "быстро" и даже поежился: он знал теперь, о чем речь, - правда, в общих самых чертах.
- Вот-вот-вот, задержитесь на этом своем ощущении, задержитесь -стоп. Быстро мы живем, мальчик. Если бы мы жили не так быстро, мы могли бы заметить кое-что... кое-что интересное. Но мы действуем как бы наизусть, то есть пробегаем нашу жизнь, проборматываем, не вдаваясь, что называется, в частности, в подробности каждой ситуации, которую посылает нам судьба. Дети так читают стихи - зная уже наперед, что там дальше, и галопом скача к финалу: буря-мглою-небо-кроет-приумолкла-у-окна-своего-веретена. Нам, конечно, будут даны и другие жизни... много других жизней, поскольку с первого раза трудно все рассмотреть и расслышать, но ведь каждая ситуация уникальна и не обязательно повторится из жизни в жизнь. Схема повторится детали не те, детали повторятся... даже одна деталь, глядь - схема другая. Так что очень желательно осмотреться, помедлить... вкус, я бы сказал, ощутить. - И Станислав Леопольдович принялся долго-долго дуть на чай, уже остывший чай в своей чашке.
А у Петра во рту был привкус мяты - холодок такой специфический, тревожный. Слова Станислава Леопольдовича задевали слух как-то по касательной: вжи-ик, вжи-ик, вжи-ик... И были, вроде бы, понятны, но в конце концов непонятны. Манили. Манили в область - нет, не обозначить эту область, не зафиксировать. Однако теперь уже молчал Станислав Леопольдович.
- Простите... я... я слушаю Вас... очень внимательно, - напомнил минуты через три Петр.
- Я не забыл. Вот ситуация с ликером, кстати. Она загублена.
- Ликер загублен, - неожиданно для себя поправил Петр. - А ситуация завершена.
- Да? - не поверил Станислав Леопольдович и поднялся со стула. Пошел опять к платяному шкафу, запустил туда руку и извлек на свет божий такую же точно бутылочку. При этом он поморщился и быстро, но потрясающе внятно пробормотал: - Фокус, конечно, да что ж поделаешь, люди добрые!..
Петр наконец обалдел - и, в общем, довольно основательно. Он не мог оторвать глаз от бутылочки - абсолютной копии только что разбитой.
- У Вас, значит, много таких бутылочек?
- Может быть, может быть, - пропел Станислав Леопольдович и так подозрительно счастливо рассмеялся, что Петр засомневался, а был ли сам Станислав Леопольдович действительно уверен в удаче, запуская руку в шкаф. Между тем тот опять поскучнел - видимо, что-то в этом эксперименте все-таки не устраивало его - и, не глядя на Петра, спросил: - Как теперь Вы намерены действовать?
- Очень осторожно, - на полной искренности сказал Петр, взял в руки бутылочку и отправился на кухню к мраморному умывальнику.
- Ну, с богом, - настигло его уже на пороге.
Однако в этот раз горячая вода не потребовалась. Притертая пробка поддалась легко - оказалось достаточно снять с нее какую-то тонкую пленку. А на столе уже стояли совсем маленькие рюмочки, таких маленьких Петр не видел никогда. Ликеру хватило только на один раз - правда, рюмочки были наполнены до краев.
- Это надо пить очень медленно, - предупредил Станислав Леопольдович и немножко хитро добавил: - Лучше все делать медленно. Очень и очень медленно. - Тут он пригубил ликеру и поставил рюмочку на стол. Петр поступил так же.
Вкус ликера не исчезал долго. Пожалуй, это был слишком крепкий ликер: от него немела гортань. Потом слизистую начало покалывать - и только спустя некоторое время ощущались, почти неуловимо чередуясь, горечь и сладость, задерживавшиеся постепенно на более продолжительный срок.
- А Вы всегда один жили?
- Ну, у меня есть Анатолий. Раньше был Козлов и другие. А еще раньше я жил с одной прекрасной дамой. Я очень любил ее. Мы прожили... дай бог памяти, всего лет десять. Двести с лишним лет назад.
- Понятно. - Надо было слышать эту интонацию Петра!
- Неподражаемая интонация, - оценил Станислав Леопольдович. - Кстати, я все чаще думаю о том, что любить - это значит преувеличивать.
Петр кивнул, устыдившись интонации своей и давясь чрезмерным глотком спасительного чая. Непростая он штучка, этот Станислав Леопольдович, очень непростая.
У дверей послышалось царапанье. Станислав Леопольдович едва успел повернуть замок, как на грудь ему прямо-таки упала недюжинная собака.
- У нас гость, - сказал Станислав Леопольдович. Анатолий смело подошел к Петру и протянул лапу.
- Привет, - поздоровался Петр, уважительно эту лапу пожав. Пес один раз качнул огромным хвостом и пошел пить чай из блюдца возле канапе. Станислав Леопольдович стоял над ним с двумя чайниками и ждал, когда блюдце опустеет. Блюдце опустело почти сразу и тотчас же было наполнено вновь.
- А сами Вы чаю не пили, - заметил Петр.
- Я ликер пил, - оправдался хозяин.
Петр взглянул на рюмочку Станислава Леопольдовича и усомнился: вид у нее был нетронутый. Тогда он поднял свою и произнес: - Авось приманенная радость...
- Еще заглянет в угол наш, - без долгих раздумий откликнулся хозяин, несколько все же ошарашив Петра, для которого эта цитата из Баратынского была полной случайностью: ее занесло в память на одной давней вечеринке бог знает когда.
- Вот уж не ожидал, что Вы тоже знаете... - не очень-то вежливо констатировал Петр и услышал потрясающий ответ: -Я все знаю,-будничным совершенно голосом.
Относиться к этому Петр не стал никак. Анатолий допил чай и развалился возле дивана, не глядя ни на кого. А Петр допил ликер, не дожидаясь Станислава Леопольдовича. Теперь следовало попрощаться, поблагодарить и уйти.
- Мне не хочется уходить от Вас, - вместо всего этого сказал Петр и не ушел.
- Очень рад, - серьезно, с жутковатой даже серьезностью, отвечал Станислав Леопольдович. - Да и ситуация еще не исчерпана. Если бы Вы знали, насколько не исчерпана...
- Мне спросить, насколько?
- Во-о-от насколько! Станислав Леопольдович, смеясь, широко развел руки. - Дайте-ка Вашу ладонь. Петр протянул руку ладонью вверх.
- Все уже не так, - сказал Станислав Леопольдович.
- Хиромантия?
- Я ветеринар, - напомнили в ответ. - А Вас интересует эта область хиромантия, евгеника, гороскопы?
- Не так чтобы...
- Ну да, конечно. Вы ведь практик, лингвист.
- Послушайте, Станислав Леопольдович! Не слишком ли много Вы обо мне знаете для первой встречи? - Петру становилось уже просто страшно.
- А что я знаю? - со всевозможным простодушием.
- Ну, имя вот... и еще это, как его... род занятий... что я лингвист, например!
И опять смех. Мягкий, успокаивающий, убаюкивающий смех. - Я старый-старый, - это уже отсмеявшись, всерьез. - И потом, я уже говорил, что живу внимательно и медленно. Стало быть, успеваю заметить кое-что. Скажем, в троллейбусе сумка Ваша прямо у меня перед носом моталась, а оттуда тетрадь торчала - с надписью по корешку: Грамматика. Петр Ставский. Так что у всего бывают простые объяснения. И зря Вы паникуете, голубчик. Знаете, телепередача такая есть - "Это вы можете" называется? Уверяю Вас: это и Вы можете. И никакой мистики.
Нельзя сказать, что признание Станислава Леопольдовича успокоило Петра до конца, - правда, отлегло, что называется, но общее ощущение аномальности ситуации в целом осталось. Было нечто такое в поведении Станислава Леопольдовича, что не поддавалось осмыслению, ускользало, улетучивалось - ну да ладно.
- Знаки, знаки... - бурчал, однако, тот. - Подлинные знаки - вот чего мы напрочь не умеем воспринимать. Казалось бы, все уже яснее ясного и сердце знает: подан знак, ан нет! Не верит, соглашаться не хочет, сопротивляется. Что же мы так толстокожи-то, а? Вы вот - почему так толстокожи?
В ответ на темный... темноватый этот монолог Петр тут же почему-то вспомнил цыганку с бульвара, благополучно выпавшую из его сознания на все это время, и спросил, боясь своего вопроса:
- Вы... Может быть, Вы что-то конкретное имеете в виду?
- Ах, да ничего конкретного я в виду не имею, - беспечно отозвался хозяин. - Я ведь вообще говорю... ingsgesamt, так сказать. А у Вас что-нибудь конкретное на памяти?
- Цыганка у меня на памяти. И сын ее. - Только не смотреть, не смотреть в это время на Станислава Леопольдовича: сейчас хозяин выдаст себя как человек "оттуда" (откуда, боже мой?). Но скучное-скучное, вялое-вялое в ответ:
- Цыга-анка... Ну их к лешему, этих цыган, знаете ли. Кто их поймет! Странный народ, не обращайте внимания.
- На что не обращать внимания? - Вот он и пойман, милейший хитрован этот. А ну-ка, еще раз: - На что не обращать внимания, Станислав Леопольдович? - И - глаза в чай.
- Да на цыганок, на гадалок, на фокусников, на заклинателей змей... Видите ли, ручное все это.
- Какое? - несколько обалдел Петр, вообще не поняв определения.
- Ручное. Hand made, не по-русски говоря. Впрочем, у Вас второй язык...
- Английский, - успокоил Петр. - Только у нас второй язык плохо преподают. Почему hand made?
- Да кто ж их знает почему? Так они предпочитают, должно быть.
- Не понимаю я, - сдался Петр.
- А не все нужно понимать, - просто реагировал Станислав Леопольдович. - Есть и непонятные вещи. Много непонятных вещей.
- Для Вас - тоже?
- Конечно. Для всех. Я вот не понимаю, например, как это - телефон? Или, допустим, - телевизор! Вы можете мне объяснить? Петр помотал головой и улыбнулся.
- А Вы, между прочим, в первый раз улыбнулись. Поздравляю Вас. Теперь я спокоен. То есть спокоен, что Вы спокойны.
Надо было сказать эту фразу, чтобы и в самом деле покой пришел в душу Петра. Он смотрел на Станислава Леопольдовича, на милое мудрое лицо его и не понимал теперь уже себя. Чего дергаться? Зачем искать скрытого смысла в простых словах будничного этого человека? Ну, с причудами... ну, с хитрецой - старик как старик. Хорошо, экстравагантный старик. Но ведь "явно-не-Воланд", что, в общем, с самого начала ясно. И даже не из свиты Воланда. Из другой свиты. Или вовсе не из свиты. Сам-по-себе-старик. Замечательный.
- Вы замечательный, - сказал Петр, глядя теперь уже прямо в глаза Станиславу Леопольдовичу.
- Замечательный? - И снова этот смех - нет, уникальный все-таки смех... легкий, как бабочка!
- Мне надо спросить Вас, Станислав Леопольдович... - а тот плывет куда-то, и над ним появляется еще один Станислав Леопольдович - такой же, как этот, только чуть выше и правее, и, может быть, чуть хитрее и чуть забавнее...
- Вы перешли бы на диванчик, - слышит Петр откуда-то издалека, как будто из Австралии или из Новой даже Зеландии... из-новехонькой-зеландии-такой; и вот он с трудом передвигает ноги, и его клонит, клонит куда-то. Последнее, что застревает в его сознании, - странное определение "троллейбусный старичок".
- Петр, голубчик, Вам, наверное, домой пора, Вы проспали четыре часа.
И Петр открывает глаза. Он укутан пледом; клетка белая - клетка черная. Прислонившись к дивану, посапывает рядом с ним пес Анатолий. У стола сидит троллейбусный старичок и смотрит на них прозрачными глазами.
- Десятый час, - говорит он. - Около одиннадцати только будете на "Соколе".
- На "Соколе"? - и опять привкус мяты во рту: откуда он знает? Сна - ни в одном глазу.
- Ничего-то Вы, голубчик, не помните, - качает головой Станислав Леопольдович. - Вы же сами перед сном мне сказали, что на "Соколе" живете!
- Простите, я уснул... конфуз такой, - 6ормочет Петр, опуская ноги (в сапогах на диван!) на пол. Привкус мяты проходит, с появлением воспоминания "явно-не-Воланд". - Мы ведь так и не поговорили как следует. Что же это я...
- Поговорим еще, будет время. Вы ведь придете?
И Петр понимает ясно: он придет. Он придет не один раз. Он будет заходить сюда часто. Как к себе домой.
- Я приду... если я Вам не слишком... неинтересен.
- Мне, честно говоря, никто не интересен. Но в данном случае не в этом дело. Я, видите ли, как-то уже полюбил Вас, что ли, - трудно объяснить. Смею надеяться, что и я Вам не интересен - в смысле... как бы это сказать... "встречи-с-интересным-человеком"! Вы лучше, голубчик, забудьте обо всем, что я тут Вам наговорил. Это я так, под настроение. Все ведь под настроение. Если бы мы встретились с Вами вчера или, скажем, завтра, я бы наговорил чего-нибудь другого. Может быть, тогда я не был бы уже ветеринаром, и собаку мою звали бы не Анатолий, и второй бутылочки в платяном шкафу не оказалось бы.
- Понимаю, - нечестно ответил Петр.
- Или еще поймете, - подмигнул Станислав Леопольдович.
- Тогда я пойду, пожалуй... Только вот... телефон мой я хочу Вам оставить - мало ли что.
- Так Вы дали уже - перед сном. - В руках Станислава Леопольдовича клочок бумаги, на котором действительно записан телефон Петра.
- Ага, - глупо говорит он, одеваясь в темной прихожей, куда хозяин и заспанный Анатолий выходят его провожать.
И вот он спускается по лестнице - лестница тоненько эдак поскрипывает, - делает два шага по снежному тротуару, оборачивается. Станислав Леопольдович, заслонив грудь ладонью, кричит ему из форточки:
- Вы знайте, что Ваша душа бессмертна!
Вернуться? Спросить обо всем? То есть что же... уличить? Вспомнить подробности дня: моя сумка была застегнута на молнию и ничего из нее не торчало, я не говорил, что живу на "Соколе", не оставлял своего телефона! Не было, не было всего этого, в своем же я пока уме!.. "Поговорим еще, будет время", - откликается вдруг в нем. Время, конечно, будет: все только начинается... И Петр крикнул:
- До завтра!
У метро машинально сунул руку в карман, да ведь денег-то нет! Денег нет - есть бумажка. Вынул, развернул. Увидел пятачок и сопроводительную записочку: "Память тренируйте, голубчик. Это Вам на метро". Подпись: "С. Л.". А жутко не стало - стало легко. И Петр взглянул на небо - перед тем как войти в метро.
Глава ВТОРАЯ
А ЕЩЕ Эвридика!
Вечером того же дня в немыслимой-одной-компании прямо-таки погибала уже Эвридика. С ней и вообще в последнее время происходило что-то неладное: "Дичаем", - говорил отец. И в компанию эту пришла она из чистого упрямства: ее явно не хотели приглашать, а она - нате вам! С-поздравлениями-новобрачным!.. Принесла в подарок молодой, наспех состряпанной семье большую-дешевую-вещь - вроде бы, соковыжималку... она не помнила точно; просто в магазине электротоваров ткнула пальцем в первый попавшийся предмет: заверните-это-сколько-с-меня - и пешком отправилась на Новокировский, где жила ничем не примечательная знакомая, в данный момент выходившая замуж за ничем не примечательного незнакомого из технического какого-то института, потому что, кажется, была беременной, а может быть, и нет.
Прихода Эвридики и не заметили бы, если б не соковыжималка-или-как-ее-там. Соковыжималку-или-как-ее-там сразу отнесли в спальню (спать), а Эвридику посадили между двумя весельчаками, тут же с веселыми прибаутками завалившими тарелку ее замечательно мелко нарезанной пищей кирпичного цвета и наперебой благодарившими судьбу за "такое общество".
Между прочим, их нетрудно понять, потому что красивее Эвридики не было на этом торжестве никого. Сомневаюсь, кстати, что такие вообще бывают. Если только где-нибудь далеко-далеко, в горных грузинских селениях...
Родители ее, давно обрусевшие и осевшие в Москве грузины, уже настолько обрусели и осели, что даже не научили дочь грузинскому языку, однако не настолько еще, чтобы не подарить ей одно из причудливых литературно-мифологических имен, красота которых до сих пор не даст покоя народу-солнечной-Грузии. Но народ-солнечной-Грузии, по-видимому, не вполне отчетливо понимает, до какой степени ответственное это дело - давать имена... И что же? Именем своим Эвридика с самого рождения отделена была от прочих смертных: имя сделалось печатью, тавром, клеймом, обрекающими на нездешность, на ненужность-тут-никому. Знаете, у нас во дворе есть одна девочка, которую зовут Эв-ри-ди-ка! - Да ну! - Точно. - Побежали смотреть И бежали смотреть - принцессу, заморскую царевну, маленькую фею... А видели замухрышку какую-то - худую, с прямыми волосами, с неприветливыми глазами в пол-лица. В общем, гадкий утенок... даже, пожалуй, очень гадкий. И молчит все время. И одна. А еще Эвридика!
Аещеэвридика!.. - это и стало эмблемой ее. Что ни скажешь, что ни сделаешь, о чем ни подумаешь даже - "аещеэвридика"! И - непомерные требования, которых не выдержало бы гораздо более могучее существо. Если всем ставили четверки и тройки - Эвридика за то же самое получала пару. Если всех отчитывали в классе, Эвридику просили "прийти с родителями". Ну-а-что-скажет-нам-Эвридика, ну-а-что-по-этому-поводу-думает-Эвридика, Эвридика-и-кавалеры-успокойтесь... Хотя и кавалеров-то никаких у нее не было: вплоть до десятого класса от нее чуть ли не шарахались. Поручить кому-нибудь сделать подарок Эвридике к 8 Марта или навестить ее во время болезни означало наказать человека.
Трудно вырасти жизнерадостной и общительной, если зовут тебя Эвридика. В этом лесу валь, галь, надь, свет, оль, лар... Они - семья, они - сестры, они - одной породы. Их приглашают на бал. Им примеряют башмачок хрустальный башмачок, потерянный на балу первой красавицей. Им, на худой конец, через весь класс - диковинным белым цветком, хризантемой! - бросают записку: валь-пошли-в-кино-после-школы! А от "Эвридики" даже уменьшительного никакого имени не образуется: не обращаться же к ней Эвря... или Дика, в самом деле' Вот и обращаются - если обращаются вообще - Эвридика, так это же язык сломаешь... Плюс фамилия Эристави. Эвридика Эристави - полный бред. Пойдешь фотографироваться: ваша фамилия? Как-как, простите? Нет уж, давайте по буквам. И долго-долго, нудно-нудно: э...в...р...и...д...и...к...а...э...р...и...с...т...а...в...и...
Ну, слава богу, записали. Правда, Эвридика такие ситуации довольно рано уже из жизни исключила. Везде, где не требовалось особенной точности (опять же - фотография, мастерская по ремонту обуви, прачечная и т.п.), она гордо и громко представлялась: Лена Фролова. И никаких проблем. Лена Фролова - и все тут. Скушали? Так-то! В школе - хуже... В школе знают, что никакая ты не Лена Фролова. Появится новый учитель - и поехало! По всему журналу поехало от А до Э: Эвридика в журнале последняя. Класс притаился, ждет. Константинов, Леонова, Лукина... ближе, ближе... Соколов, Тиль (на Наташу Тиль - ноль внимания, проскакивает без запинки!), Уваров, Федоровская (Светка Федоровская - первая статс-дама), Хохлов, Царева, Чугунов... ближе, ближе... Шаров, Щепкин - ну, здравствуйте: Э-э... Э-э-э... (тишина, как в морге)... Эрн... Эрп... Эрис... Эристаева! Вот оно, наконец! Народ в отпаде: впереди еще имя. В восьмой класс практикантом назначили молоденького такого - студентика. Красивый, черт. И зовут - просто и красиво: Сергей Петрович Рыбкин. Этот, дойдя до конца журнала и промучившись положенное время, прочитал в конце концов правильно, головой покачал. Потом узнал имя, руками развел: дескать, чего только не бывает! - и пообещал: "Тебя я ни разу к доске не вызову: пока выговорю - урок пройдет". Шутка, что называется. Очень смешно.
Мама с папой, конечно, не знали ничего об этом. Их совсем другое волновало - заикание Эвридики и плохая успеваемость по всем почти предметам. Впрочем, они не требовали от дочери больше того, на что она была способна. А одна способность у Эвридики все-таки была. Даже не способность - талант. Талантище, как говорили в музыкальной школе. Скрипка. Скрипка была музыкой, а музыка презирает слова. Музыке неважно, заикаешься ты или нет. Музыка об этом и знать не хочет. Музыка, может быть, и сама заикается - особенно старинная: долго-предолго не может выговорить всю фразу целиком, штурмом ее берет - такт за тактом... чуть-чуть вперед - наза-а-ад, еще чуть-чуть вперед - наза-а-ад. Как Эвридика.
Заикание стало невыносимым в седьмом классе, это Эвридика точно помнила. Ничего, вроде бы, не случилось - ни особенно радостного, ни трагического, а говорить сделалось невозможно. Ходили к логопеду - велел правильно дышать. Показал, как именно. Дышала. Потом велел петь. Показал, как именно. Эвридике не понравилось так петь. Однако пела. И - никаких результатов. Через некоторое время попала в одну "перспективную группу", где всех унижали страшно и ставили в совершенно дикое положение друг перед другом, это называлось "ломать "я"". Эвридика сказала руководителю: "Ф...ф...ф-фа-шист", - и ушла. Ломать "я" она считала преступным.
Второе событие, имевшее место в седьмом классе, тоже принесло массу хлопот. Ни с того, ни с сего начали буйно виться волосы. Опять завилась? ежедневно встречал ее завуч ("завыч", - называла завуча Эвридика) и спроваживал в-туалет-для-девочек, под кран. Эвридика шла туда молча, не сопротивляясь, на уроках сидела с мокрой головой, высыхала только к концу занятий, дома - ни слова, а утром, сразу же за школьной дверью: опять завилась? - и под кран. Продолжалось это полтора месяца и кончилось воспалением легких. Мама узнала о причине от доброжелателей - и больше завыч не разговаривала с Эвридикою. Никогда. И не отвечала на "здравствуйте". И гордо несла мимо нее свою огромную, как у дракона, голову с безукоризненно прямыми волосами, подстриженными "под горшок".
Никто не понимал, а я не хочу придумывать, почему Эвридика не решилась поступать в консерваторию, а предпочла музыкально-педагогическое училище после восьмого класса, хотя уже к этому времени легко играла Паганини. От разговоров о консерватории она постоянно уходила - впрочем, и вообще уходила от разговоров на какую бы то ни было тему с кем бы то ни было последние год-два. Скорее всего, сказался комплекс неполноценности, любовно воспитанный в ней ее окружением. Девочка отказывалась замечать в себе малейшие признаки исключительности, а заметить между тем кое-что уже было можно. Во-первых, конечно же, скрипка - тут и обсуждать нечего. А во-вторых... во-вторых, произошло то, что неизбежно происходит со всеми гадкими утятами на свете: они имеют обыкновение превращаться сами знаете в кого. Изменения такого рода становились все более разительными, и в один прекрасный день, случайно подняв глаза от земли, Эвридика засомневалась, не забыла ли она одеться, выходя из дома: на нее смотрели все. И, что самое поразительное, во всех взглядах - безразлично, мимолетных или пристальных, была любовь. Любовь мира обрушилась на нее, как горные водопады той страны, о которой не имела она даже смутных воспоминаний, но имя которой Г-р-у-з-и-я - навсегда застыло на губах ее.
В училище Эвридика была отличницей по музыке и двоечницей по всем остальным дисциплинам. Но за Музыку и за Красоту даже самые сумрачные люди склонны прощать и большие прегрешения... А потом... что же потом? Ничего, кроме того, что способно дать музыкально-педагогическое училище. Воспитатель по музыке в детском саду №165. И как случилось, что год спустя оказалась Эвридика на филологическом факультете МГУ, могла бы рассказать она одна. Могла бы... да не рассказала. Видимо, судьба решила все же один раз улыбнуться этой сильно заикающейся и плохо подготовленной по всем школьным предметам красавице. Как бы там ни было, на данный момент она студентка первого курса МГУ. Эвридика немножко старше всех, несравненно красивее всех... а козни имени продолжаются. Только старая песенка под названием ".Аещеэвридика" спета - начинается новая песенка, песенка под названием "Ещебыэвридика"... Знаете, она почти ни с кем не разговаривает. - Еще бы... Эвридика! - Она отказалась ехать на картошку. - Еще бы... Эвридика! - У нее столько клевых тряпок! - Еще бы... Эвридика! - Она ходит по Москве со скрипкой. - Еще бы... Эвридика!.. Ну и так далее. Впрочем, "Аещеэвридика" или "Ещебыэвридика" - какая разница! Пусть люди поют свои песенки, если так им легче живется. В крайнем случае, можно ведь и не слушать.
Да она и не слушает, что, между прочим, раздражает всех еще больше. Сейчас, например, она не слушает слов невесты, обращенных непосредственно к ней.
- Ну же, Эвридика! - шипит соседка напротив. - От тебя ждут тост...
То-о-ост? Ах, понятно. Невеста на минуточку забыла, что Эвридика заикается, и хочет напомнить об этом себе и всем остальным - за компанию. Веселенькое будет зрелище.
И Эвридика встает. Поднимает бокал. Улыбается. Смотрит на жениха и невесту. Жених никогда раньше не видел Эвридику, а сегодня не заметил ее появления. Сейчас он забыл о том, что жених - это без пяти минут муж. Он тупо глядит на Эвридику и промокает покрытый испариной лоб тончайшим лепестком красной рыбы. Но оставим жениха. Эвридика, вперед!
- Я... (ну же, Эвридика!)... я хочу (молодец, Эвридика!)... я хочу предложить (и еще чуть-чуть, Эвридика!)... я хочу предложить музыкальный...
Слово "тост" (трудное слово!) можно и не произносить: и так понятно, о чем идет речь. Довольно, пожалуй, Эвридика. Все обошлось. Пора доставать из футляра скрипку.
И она достала скрипку, еще не зная, что будет играть, - взяла первый попавшийся аккорд и поняла: Сибелиус, "Грустный вальс". Он начался уже сам, без ее воли, она ни при чем тут... просто в Москве зима и снег. И чужая свадьба в снегу. Можно было и не сомневаться, что выйдет из всего этого только Сибелиус, только "Грустный вальс". Он полетел по Москве, тот "Грустный вальс". Тот грустный вальс. По Москве, по снегу, по всем бульварам. Легонько подхватил пешеходов, легонько завертел - в воронки случайных встреч, случайных разговоров в снегу. В воронки случайных зимних сюжетов: внезапных узнаваний, диковинных открытий, сумбурных признаний... Эвридика играла слепой троллейбус, ощупью пробирающийся в снегу; молодого человека, одетого до крайности модно и потому вполне нелепо, окликаемого судьбой на перекрестке жизни; загадочного старика: бледное усталое лицо с глубокими и чуть ли не прекрасными морщинами, аккуратно подстриженные седеющие усики, тонкие и чуть искривленные губы... берет, забывший, какого он цвета, серое пальто, шарфик в шотландскую клетку, на коленях - авоська с одинокой маленькой плюшкой в целлофановом пакетике... люди живут быстро, Вы не замечали? если бы мы жили не так быстро, мы могли бы заметить кое-что... кое-что интересное... буря-мглою-небо-кроет-приумолкла-у-окна-своего-веретен а... нам, конечно, будут даны и другие жизни... много других жизней... Господи, что она играет, она же не знает всего этого, откуда оно пришло, какой это опус - ах, да!.. Сибелиус, "Грустный вальс". Грустный вальс.
- Эвридика, ты прелесть! - запах духов с дурацким названием "Анна Каренина" душит ее. - Эвридика, какая роскошная музыка! - От жениха вовсю пахнет рыбой. - Эвридика, это потрясающе' - Весельчак-сосед пахнет замечательно мелко нарезанной пищей...
- А теперь давайте споем все вместе! Ну же, ребята! Эвридика аккомпанирует: начинай!..
Прости меня, Сибелиус, прости меня, грустный вальс, прости меня, скрипка: я аккомпанирую. Я аккомпанирую этой компании, но я не в ней - я только аккомпанирую, аккомпанирую - и ничего больше. Потом я искуплю свой грех - двух-... нет, трехдневным не-при-кос-но-ве-ни-ем к музыке, все-таки двух-, двухдневным: я клянусь не дотрагиваться до музыки, не думать о музыке, не брать музыку в руки!
А на улице смеркается - и вот уже все окончательно опьянели, дуются в карты, не обращая внимания на Эвридику, которая машинально уничтожает шоколадные конфеты, благо в них нет недостатка. Щуря глаза, смотрит на играющих, на танцующих, на празднующих-бесконечно-свой-праздник, но на часах начало одиннадцатого и, стало быть, пора убираться отсюда. Она пришла по-английски - по-английски же и уходит: ни с кем сначала не поздоровавшись и ни с кем потом не простившись. Скрипку под мышку - и поминай как звали: Эвридикой звали, мол, - нет, не Эвридикой... Леной, например, Фроловой - так и запомните, так и запишите.
Что-то скрипка стучит... В скрипке что-то стучит. Эвридика села на скамеечку в снегу, открыла футляр, вынула скрипку, потрясла - стучит. Перевернула. Из отверстия выпал окурок. Вот как бывает, значит... прямо так, значит, и бывает. Ну что ж, пусть. И в отместку всему свету она еще раз пережила в себе грустный вальс - здесь, на скамеечке-в-снегу, в чистоте зимы. Оказалось, что ситуация еще не исчерпана... если бы вы знали, насколько не исчерпана... (Какие странные фразы вытаскивает на свет божий этот грустный вальс - Эвридика не понимает, откуда!) А не все нужно понимать... есть и непонятные вещи... много непонятных вещей... - и чей-то смех, уникальный смех - легкий, как бабочка, залетевшая в вальс: забудьте, дескать, обо всем... это так, под настроение... все ведь под настроение... в том-то и есть чертовщина жизни, что-в течение получаса все может измениться на полную свою противоположность! ("Голоса, голоса, - думает Эвридика и придумывает голосам имена: молодому - Петр, старому - Станислав Леопольдович. - Ну, это уж слишком, такого нет в "Грустном вальсе", довольно!")... Поговорим еще, будет время: все только начинается.
Она тряхнула головой и поднялась со скамеечки. И стала жить дальше: вечер, ночь, утро.
Консультация по античной литературе во втором гуманитарном корпусе на Соответствующих Горах...
А на консультацию Эвридика, как всегда и на все вообще, опоздала. Правда, дверь в аудиторию была еще открыта, и она остановилась на секунду, чтобы отдышаться. За секунду успело, однако, кое-что произойти.
- Статский! Статский!..
На зов обернулся высокий молодой человек и помахал рукой громадной-одной-девице, одетой-под-пятилетнюю-крошку.
- Ты сдал?
- Сдал.
- А я завалила. Кутить будем?
- Лучше потом, когда сдашь.
- Значит, никогда... - со вздохом, потрясшим второй гуманитарный корпус до основания.
И - разбежались кто куда: она - вперед по коридору, он - вниз по лестнице, на ходу пару раз крикнув "привет".
Эвридика вошла в аудиторию, кивнув сразу всем - здрасьте, и села за стол с краю: думать о Статском, потому что Статский этот был тем-самым-Петром-из-грустного-вальса... "Ва1ауеs pour toujours"", - почти беспечно сказала она себе уже на улице, решив забыть о молодом человеке по фамилии (или прозвищу?) Статский. Он забывался плохо, но в конце концов все-таки если не забылся, то подзабылся, по крайней мере, - и тогда Эвридика отправилась в "Головные уборы" на Пушкинскую, имея в кошельке восемьдесят рублей ("Вот-тебе-деньги-купи-наконец-что-нибудь-на-голову-смотреть-холодно" ).
Этой зимой температура не опускалась ниже минус пяти, этой зимой была весна, но люди свято соблюдали законы января и парились в шубах (правда, распахнутых) и меховых шапках (правда, съехавших набок или на затылок). Только негры ходили, как всегда, в ослепительно белых штанах, дружно противопоставляя африканский конформизм московскому. Москвичи, впрочем, не видели их белых штанов в упор. Эвридика полюбовалась штанами двух или трех негров, постояла у витрины с сарафанами и купальниками, сказала себе: "Какая глупость покупать зимнюю шапку", - и решила истратить деньги на что попало. На "Частную коллекцию" вот... Однако пришлось только глубоко вздохнуть: с "Частной коллекцией" ее не поймут дома. И потом... глупо: ходить в джинсах и пахнуть "Частной коллекцией". Если в джинсах - надо пахнуть "Диореллой". Но "Диореллы" в данный момент нет. Ладно, оставим духи. Оставим духи и купим... купим-купим-купим... ну-ка, за чем тут очередь, - это и купим! Нет, не купим, пожалуй: тут мужские рубашки. А вот интересно, изменится ли что-либо в моей жизни, начни я с завтрашнего дня носить, скажем, во-он то платье?.. красивое, между прочим, платье! Ведь заведет же оно меня куда-то, платье это, а? Не может быть, чтобы от покупки его ничего не изменилось: это ведь уже разные пути - жить, имея такое платье, и жить, не имея такого платья. Да что платье - даже вот этот аккуратно сложенный носовой платок в зеленую клетку, и тот способен повернуть жизнь на сто восемьдесят градусов! А потом, в старости, спросишь себя: с какого момента жизнь пошла в этом направлении? - и ни за что не вспомнишь об аккуратно сложенном носовом платке в зеленую клетку, который один, может быть, и стал главной причиной всего... Осторожнее, осторожнее: каждый предмет стоит уже наизготове, он приготовился влиять, только качнись в его сторону, и... пошло-поехало! Стало быть, идем мимо: мимо платья (нет, а красивое все-таки платье!), мимо носового платка, мимо длинного красного шарфа - уж этому-то попробуй дать волю! Окрутит, заманит, обманет. Значит, и мимо шарфа идем - и вообще мимо всего идем, на улицу идем, на воздух.
...А в воздухе - прямо возле галантерейного магазина - покачивался на ветру толстощекий пузырь: наверное, родителей дожидался.
- Тетя, ты цыганка?
- Цыганка! - страшным голосом сказала Эвридика, но смелый пузырь засмеялся в ответ.
- Не цыганка, а девушка.
- Девушки тоже цыганками бывают, - поделилась опытом Эвридика, смутив самоуверенного пузыря этим заявлением - впрочем, ненадолго.
- У цыганки шаль, а у тебя нету, вот, - с жаром возразил он и посмотрел на Эвридику строго.
- Нет так будет, стой здесь, - пообещала Эвридика. Как все-таки легко говорить с детьми: куда только девается заикание! Надо, надо было остаться в детском саду №165... там я никогда не заикалась: дети не давали. А что теперь? Поступила в МГУ - и снова-здорово! Не могу говорить, хоть меня режь. Вот отдел, где шали. Дороговато они стоят, шали эти... Но надо ведь становиться цыганкой: пузырь явно шутить не любит.
- С...с...- ну вот, начинается! - с-семьдесят п-пять...
- Куда? - с места свирепеет кассирша.
- Шаль. (Смотри-ка, сказала!)
Теперь надо выбрать: пузырь придирчив.
- Вам какую?
- Ч-ч-черную.
Прекрасная черная шаль с японскими цветами. Пусть не завертывают, я все равно разверну, чтобы, так сказать, во всей красе! Эвридика набросила шаль и вышла из магазина. Пузырь ждал.
- Ну что, доволен?
- Почем? - пузырь знал толк в шалях.
- Семьдесят пять рублей.
- Хорошая. Теперь ты настоящая... даже страшная.
Эвридика засмеялась. Классный какой пузырь!
- Зовут-то тебя как?
- Юра-Пузырев-улица-Юных-ленинцев-дом-пять-квартира-сорок-два, отрапортовал тот.
- Длинно тебя зовут! - восхитилась Эвридика. - Апельсин хочешь?
- Конечно. - Юра-Пузырев-улица-Юных-ленинцев-и-так-далее посмотрел на нее как на дуру. Эвридика вынула из сумки апельсин.
- Почистить тебе его?
- Ну, - сказал тот, и она принялась чистить апельсин. Тут-то и застала ее на месте преступления мамаша-пузыря - молодая энергичная бабенка с двумя сумками в одной руке.
- Девушка, Вы ему, что ли? - И с ужасом воззрилась на апельсин. - Ему цитрусовых нельзя, у него аллергия от них, Вы бы хоть спросили сначала!
- У тебя аллергия, извини, - подмигнула несчастному Эвридика и отправилась восвояси. Аллергический пузырь сопроводил ее уход душераздирающим воплем: - Хочу цитрусовых!
Не оборачиваясь и на ходу дочищая злополучный цитрусовый, Эвридика исчезала в толпе.
Дальше был ворон. Он сидел на карнизе в Столешникове и никуда не летел, мрачно глядя на прохожих и не любя их, потому что карниз был невысоким - и, следовательно, каждый мог схватить и искалечить. Увидев Эвридику, ворон качнулся на карнизе, но удержался. Эвридика присела на корточки и протянула ворону цитрусовый. Цитрусовый не заинтересовал ворона.
- Та-а-ак, - отнеслась Эвридика. - А чего же ты тут сидишь? - И она одним пальчиком погладила ворона по голове. Тот вел себя спокойно.
- Все ясно, ты не просто спокойный, ты больной. Пойдешь ко мне на руки?
Она несла его на руках по Пушкинской. Удивительно все-таки смирное существо - даже не трепыхнется. А может, он при смерти? Вот идиотка, куда я его дену! И потом... если он умрет прямо так, в руках... Эвридика заглянула ему в глаза: хорошие оказались глаза, ясные.
- Ты тут у меня не умри, смотри. - И вздохнула: - Эх, ворон-ворон, навязался ты на мою голову!
В телефонном автомате она держала его под мышкой. Как скрипку.
- Алло, мама? Я вот шаль купила. Да, хорошую. Японскую. Ничего не холодная, нормальная. Плотная. В общем, я уже домой иду. Только у меня ворон. Ну как... обыкновенный. Большой такой, серый. Умный. Да нет, птица. Живая. Зачем... я не ловила, он сам. Он просто сидел на карнизе в Столешникове. Заболел, наверное. Или устал. Короче, я его несу, пусть у нас живет. Ну пусть поживет. Да ничего страшного, он тихий. Даже, может быть, ручной... дрессированный, то есть. Нет... не знаю, поддаются, значит. Ладно, привет.
...В час пик неудобно идти по Москве с вороном. Со скрипкой - и то неудобно, но скрипка дело привычное. А ворон - дело непривычное, даже если он тихий и, допустим, дрессированный. Все равно он остается птицей, так что держать его в руках как-то не вполне... естественно. Противоестественно, в общем. А он пригрелся и чуть ли не спит, бродяга. Жалко, что за пазуху не влезет, большой очень... Ноги у него жесткие и неприятные на ощупь. Куриные довольно ноги. То есть лапы, конечно.
Войдя в метро, Эвридика одной рукой подняла ворона над головой, а второй предъявила проездной. Дежурная обалдела и, выскочив из будки (как собака, чтоб ее!), заорала вслед:
- Совсем с ума посходили! Скоро с крокодилами ездить будут! Назад! Назад!
Зря, Эвридика с вороном уже без остатка растворилась в толпе, миролюбиво размышляя: "Если с крокодилами ездить будут, это уже нехорошо, конечно. Со змеями тоже нехорошо - особенно с большими, питонами там, удавами, кобрами... Вообще эти два класса - рептилий и земноводных - надо запретить для провоза в метро. А то собак запрещают, нашли кого запрещать!.." Она все еще держала ворона над головой, потому что иначе его могли задавить в толпе, и создавала вокруг себя эдакие завихрения из наиболее любопытных москвичей-и-гостей-столицы, никогда, что ли, ворона не видевших (?). Допрыгала благополучно до распахнувшейся прямо перед ней двери и, посадив птицу на колени, бухнулась в относительно широкий проем между двумя толстыми бабками, через этот проем, как через реку, обсуждавшими некоего Пахомыча. Из обсуждения Пахомыч получался пьяницей-алкоголиком. Впрочем, тут же сконцентрировалось внимание толстых бабок на вороне.
- Миленька, это у тебя тут ворона, поди?
Эвридика кивнула.
- А как же это у тебя тут ворона-то?
Эвридика пожала плечами: вопроса она не поняла.
- Ворону везешь, а сама и не знаешь как! - сделала замечание правая бабка - и обе они чему-то засмеялись; Эвридика опять не поняла, чему именно, и закрыла глаза.
- Ты не спи, - посоветовала правая бабка в правое ухо Эвридики, - а то ворона-то твоя улетит - и ищи-свищи! Эвридика, не открывая глаз, помотала головой. - Ну, как знаешь, а то, смотри, улетит ворона-то: ей - что, птица вольная!
- Да она дрессированная, не видите разве? - это уже откуда-то сверху голос: ситуация, кажется, становилась общеинтересной. - У меня у соседа змея дрессированная - тоже тихая.
- Кастрированная, небось?
Эвридика приоткрыла глаза: посмотреть, кто это спросил. Оказалось, вполне вменяемый на вид человек.
- Очнулась, миленька, - констатировала наблюдательная правая бабка. - А то, гляди, как бы ворона-то твоя не улетела: у них это раз - и готово!
А наверху уже горячо обсуждался вопрос о том, возможно ли кастрировать змею при условии, что можно кастрировать кота. Предмет обсуждения не заинтересовал Эвридику, и она опять закрыла глаза.
- Как бы ворона-то не улетела у ней! - отчаявшись найти собеседницу в Эвридике, обратилась правая бабка к левой. Дискриминированная было левая бабка перестала дуться на правую и живо включилась в диалог:
- Знамо дело, улетит. Это уж понятно. Я сома на днях купила снулого несу по улице-то, а он возьми да стрепенись!!
- Ой, батюшки!..
- Стрепенулся, да как спрыгнет с рук-то - и на снег....
- Ой, батюшки!..
- И давай скакать - ну как точно черт, прости господи, а мне-то жалко его, сердешного, я и примись хлестать его чем ни попадя - да по морде норовлю, значит, чтоб подох, значит, сердешный...
- Он, чай, и сам бы подох. - Правая бабка оказалась гуманней левой.
- Как же, сам бы подох! Он ить не убиенный, а снулый тока, я и давай его охаживать, а самой-то жалко.
Эвридика прижала ворона к груди и перешла в конец вагона: развязку истории-про-снулого-сома ей лучше было не знать.
Остальную часть пути проехали без приключений, если не считать одного весьма и весьма странного взгляда, брошенного на Эвридику, когда она вышла уже из вагона. Впрочем, об этом взгляде ничего Эвридика не знала, так что и я пока умолчу. Дверь ей отпирала мама с закрытыми глазами.
- Ты спишь? - не поняла Эвридика.
- Я не вижу его, я его не вижу. Папа с бабушкой гулять пошли, а я его не вижу, - твердо сказала мама, не давая Эвридике войти хотя бы в прихожую.
- Кого - ворона что ли? - не сразу уразумела Эвридика.
- Никого не вижу, - суеверно боясь даже произнести слово "ворон", настаивала мама.
- Он ить не убиенный, а снулый тока! - успокоила ее Эвридика, и от этого речевого оборота глаза у Наны Аполлоновны открылись сами. Открылись и увидели ворона.
- Ой, несчастный какой!
И запрыгала Нана Аполлоновна вокруг ворона, против которого она, оказывается, ничего не имела, но надо-ведь-думать-головой, увещевала она дочь, ощупывая птицу.
- У него просто упадок сил. - Диагноз наконец был поставлен. Мама Эвридики работала библиотекарем. - А что они едят?
Как раз в эту самую минуту зазвонил телефон.
- П-п-привет, Алик. П-п-прости, т-ты не знаешь, что едят в-в-во-роны?
- Мертвечину, - сказал грубый Алик. - Сегодня на консультации ты забыла тетрадь.
- Д-дурак ты, Алик. - Эвридика повесила трубку. Звонок тут же раздался снова.
- Свеженькую мертвечинку заказывали? - И короткие гудки.
- Смотри, он съел хлебушек! - умилилась мама, гладя ворона по спине.
- Ну, с-с-съел так съел, - неожиданно безразлично проговорила Эвридика и уселась в кресло. И в самом деле, чего она притащила этого ворона домой? Нашлась тоже... защитница-всего-живого' "Он, чай, и сам бы подох". И в эту минуту, сделав маленький перелет, ворон очутился на плече у Эвридики. Та, скосив глаза, посмотрела на него с ужасом, а ворон вдруг сказал веселеньким низким голосом:
- Res judicata!*
______________ * Решенное дело (лат.)
Мама Нана замерла на пути в кухню - одной-ногой-касаясь-пола, другую не зная куда поставить.
Что и говорить, на протяжении всего оставшегося вечера Эвридика только и делала что пыталась стимулировать ворона к беседе. Но тот оказался существом молчаливым и на вопросы не отвечал. Он лишь поглядывал на нее умнющим глазом и нахально безмолвствовал: дескать, все-то я знаю и много чего мог бы сказать, да не хочу, потому что и без слов давно уже все ясно с вами, гражданка Эвридика Александровна Эристави. Такое примерно выражение лица было у ворона - и наконец Эвридика отступилась: "Ну и бог с тобой".
- Мам, он г-говорить не хочет больше. Д-давай как-нибудь его на-зовем? Давай назовем его... Марк Теренций Варрон.
- Кто это - Марк Теренций Варрон?
- Один ученый в д-д-древнем Риме.
- Да ну... длинно очень.
- А о-о-он в Риме, м-м-между п-п-прочим, публичную библиотеку основал!
Подробность эта, как и предполагалось, сразила библиотекаря Нану Аполлоновну Эристави.
- Коллега, - ласково сказала она, подойдя к Марку Теренцию Варрону.
Так и стал жить в семье ворон по имени Марк Теренций Варрон, с этого памятного вечера обожаемый всеми домочадцами. Правда, бабушка все порывалась вымыть его яичным шампунем: ей казалось, что Марк Теренций Варрон грязный ну ведь грязный же? - но ей не давали, потому что птицы ухаживают за собой сами. Ворон в семейных разговорах не участвовал (наверное, языка не знал), но все понимали, что молчит он из чистого упрямства и что когда-нибудь он такое скажет!.. Да, любезные друзья, Марк Теренций Варрон еще скажет свое слово на страницах нашего с вами романа, где уготовано ему высокое и прекрасное назначение. Но давайте пока не будем об этом, потому что рано еще, дорогие мои, рано. Все только начинается, как справедливо заметил Петр Ставский, двигаясь в направлении метро "Кропоткинская".
А Эвридика... что ж Эвридика: она тем же вечером прошлась перед всеми-своими в новехонькой черной шали с японскими цветами: я-прямо-в-магазине-ее-и-надела.
- Как - прямо в магазине? - захотел уточнить отец. - Не оторвав этикетки? Так и шла с ней?
Огромная пестрая этикетка действительно висела на длинной нитке и опускалась, пардон, Эвридике прямо на попу.
- Красиво было, - вяло отнеслась бабушка, а Эвридика расхохоталась.
- С вороном над головой и с этикеткой на заднице! С-с-сделано в Японии.
- Прошу без задницы, - обиделась бабушка и прыснула, услышав себя.
"М-да, - размышляла Эвридика уже в постели. - Странный день.Странный-странный-странный день. Сперва этот Петр из "Грустного вальса"... не надо думать о нем, потому что мы больше не встретимся никогда, так... Потом шаль-с-этикеткой-на-всю-Москву. Потом ворон, Марк Теренций Варрон. Глупое какое-то стечение обстоятельств - все вопреки нормальной жизни, вопреки нормальному ходу событий... против, так сказать, жизненной правды. Ох-ты-боже-мой! С вороном над головой и с этикеткой на заднице! Очень выразительно, кто понимает. И главное, что невозможно не заметить. По-видимому, кто-то должен был заметить... Так и запишем: ворон над головой и этикетка на заднице - это все специально, чтобы кто-то меня заметил. Стало быть, заметили - и очень скоро все изменится в жизни моей. Если бы к лучшему!" - и она повернула ручку на маленьком радиоприемнике. Сначала в эфире было пусто, потом какие-то гудки, потом кто-то говорил по-кажется-бенгальски - Эвридика рассеянно крутила ручку... музыка. Удивительная музыка, неземная музыка - на одном только инструменте... инструментике, вроде флейты-пикколо. Простая мелодия - на трех нотах, наивных трех нотах: до слез! И надо бы взять и расплакаться о том, что жизнь ужасна, ужасна жизнь... Но возник в эфире низкий голос по высокому следу музыки - легкий низкий голос с прибалтийским, вроде бы, акцентом: "Ви слуш-шаэттэ радио Атлантит-ты. Просфучаля маленькайя пиэса тля флейтты-пикколо пот насфаниэм "Мусикка тля Эфритики". Пиэса испольнилас на форминг".
На мгновение - только на мгновение - Эвридика вскинула голову. Но в это уже мгновение поняла, что отныне удивляться чему бы то ни было бессмысленно и поздно. Мелькнула, правда, мысль о форминге - что такое форминг? Но тут и закончился этот ненормальный день: как сквозь землю провалившись в сон.
СОН ЭВРИДИКИ
Маленькая Эвридика (какого же она возраста? у таких маленьких еще не бывает возраста!) в хороводе вокруг елки - в белом платье (капрон, что ли... нет, газ), белых гольфах и белых же туфельках. Хоровод кружит вокруг елки и поет, вроде бы, "Frere Jacques"... но слов не разобрать. И будто бы большая Эвридика за собой, маленькой, наблюдает. Елка же стоит не в доме, а прямо в лесу на снегу. Ночь темная, но на елке много огней. Маленькой Эвридике, думает большая, совсем не холодно: вон как она весело ступает белыми туфельками по снегу! А снег не приминается, странно... Ведь сколько-же-нибудь она весит? Или нисколько не весит... Тут приходят родители забрать детей по домам. А мама этой маленькой Эвридики не приходит - и тогда большая Эвридика протягивает ей руку и ведет в комнату, где другие девочки уже переодеваются. А рука у маленькой Эвридики не теплая и не холодная никакая. Большая Эвридика одевает маленькую: вот почти уже одела, да на правом сапожке змейку заклинило; большая Эвридика нервничает, сильно дергает змейку - и та впивается маленькой Эвридике в ногу. Ребенок кричит, а змейка все глубже и глубже в ногу впивается - и маленькая Эвридика умирает. Тогда большая Эвридика начинает ее хоронить - причем без слез, как куклу, которая все равно живая не была... значит, и умереть не может. И большая Эвридика говорит речь, очень короткую: "Мы хороним сегодня время". Потом эта единственная теперь Эвридика входит в город, в городе зима, но солнечная - и Эвридика смотрит на свою тень, которая все время удлиняется, и чем длиннее тень, тем меньше Эвридика. Вот тень сделалась огромной, а сама Эвридика вовсе исчезла. Вокруг прохожие идут - не чужие, вроде бы, люди: Эвридика пытается что-то сказать им, но они не слышат ее. И потом возникает низкий такой мужской голос: он поет очень знакомую мелодию, но никак не вспомнить и тогда тень начинает укорачиваться: Эвридика понемножку появляется снова сначала маленькая, потом больше, больше, потом уже наконец столько, сколько надо, но голос внезапно смолкает - и почти состоявшаяся Эвридика тут же начинает переливаться в тень, тая на глазах. Как жидкость - из одного сосуда в другой, думает Эвридика и с ужасом понимает, что на сей раз это уже навсегда.
"Ну и сны снятся тебе, милочка, - слышит она собственный полусонный голос и вполне сознательно уже добавляет: - Аещеэвридика!"
Глава ТРЕТЬЯ
SANS lieu, SANS annee.
Не забыли ли читатели, как по заснеженным страницам романа гулял некто Петр Ставский? Не задают ли они уже вопроса, куда исчез этот симпатичный, кажется, пешеход? Всем, кого он интересует, спешу сообщить, что Петр жив и здоров и что мы, если хотим, можем еще застать его в раздевалке Московского-государственного-университета-имени-М.-В.-Ломоносова, второй гуманитарный корпус на Известных горах. Он как раз делает последний виток шарфа вокруг шеи, собираясь отправиться в Столешников за тортом - пить чай у Станислава Леопольдовича и, может быть, даже не говорить ничего, и, может быть, даже просто слушать. Потому что, в общем-то, нечего ему и сказать Станиславу Леопольдовичу, кроме "здравствуйте". А впрочем, этого, наверное, достаточно. Было, правда, много вопросов, да забылось, каких. Хотя... забыться-то не забылось, но глупые все вопросы, глупые. Их и задавать стыдно. А потом, с какой стати задавать их именно Станиславу Леопольдовичу? Рассмеется, отшутится: ветеринар я, что с меня взять!.. Но на самом-то деле он кто?
Целый день Петр думает, думает. А ухватиться не за что: вспомнишь, как все было, - вроде ничего особенного и не было. Ну, штраф заплатили за тебя... оно, конечно, не каждый день случается, но в принципе - с общегуманистических, скажем, позиций - что же в этом такого? И всего-то-навсего рубль какой-то... мелочь, в общем. Красивая, разумеется, мелочь - даже очень красивая, до слез красивая - хорошо, поплачем, хорошо, спасибо. Потом в гости пригласил - тоже нечасто бывает, незнакомый все-таки человек, а с другой стороны - и что? Увидел: расстроился парень ни с того ни с сего, нервы сдали - вот и пригласил... чаю выпить. Квартира обычная, в хозяйстве - шаром покати: нормальный советский быт. Собака с дурацким именем и привычками дурацкими - заурядная экстравагантная собака, не акула ведь, не тюлень в доме. Ликер какой-то времен Меровингов - из шкафа платяного: там у него, наверное, запасы довоенные... или трофейные. Говорили о разном - ни о чем как бы. Даже и в памяти не осталось, вроде бы, ничего, а все равно... Бес-по-ко-ит. Беспокоит! Мысли он мастер читать, этот Станислав Леопольдович (имя у него, однако...): все время немножко вперед забегает, не успеешь подумать - он тут как тут. Хотя что уж у меня за мысли тогда такие особенные были? Невелик труд и прочитать, а потом, говорят, у меня на морде все курсивом написано. Старый человек - сто раз таких, как я, видел. Видел, что называется, перевидел... Но бес-по-ко-ит. Не по отдельности чем-то, а вот сразу всем беспокоит. Заморочкой какой-то маленькой - пустяковой, в общем, заморочкой. Пустяковой и неуловимой. Манера речи, что ли, странная: все книги читал, все языки знаю - и бенгальский знаю... постоянно безответственные довольно заявления. И туманные. Как сквозь туман. Как с другого берега... берега чего? Берега, допустим, реки. Впрочем, это уже ерунда - с другого берега реки и все такое... Короче, встреча была никакой, неинтересной была встреча. А цыганку с карликом из головы вытеснила: померкла цыганка, и карлик померк - и не хочется о них думать. Что же касается Станислава Леопольдовича, то думается о нем все время и крутятся в голове безостановочно эти его полуфразы, полумысли, получертзнаетчто! И легкий, как бабочка, хороший смех. Если б я еще не заснул... вот тоже нонсенс был - заснуть среди бела дня!
Тортов в Столешникове оказалось мало, а народу много. Петр изнывал в очереди, глядя на улицу, где все текло и таяло как сумасшедшее - это посередине-то января. И солнце светило без передышки. Когда Петр дошел до прилавка, ему предложили только ванильный торт - чахоточный такой, с буйной, но бесцветной растительностью.
- Как он у Вас называется? - без интереса спросил Петр.
- Господи, молодой человек, да не все ли Вам равно? - заорала очередь, довольно бесстрастно, однако.
- Это принципиально, - обратился к ней Петр.
- "Ванильный" и называется, - обозлилась почему-то продавщица.
- Красивое название. - Он вздохнул и пошел выбивать подозрительно точную сумму - два рубля тридцать две копейки.
Два-рубля-тридцать-две-копейки упаковали в столь же бесцветную и столь же обильную растительностью коробку с развеселой надписью "С Первомаем!" так с-первомаем и двинулся Петр в направлении Сивцева Вражка... Волхонка уже, переход, поворот на Гоголевский бульвар: ну, где там цыганка с карликом - не видны ли еще? - не видны; угол Сивцева Вражка - и вот он наконец, особнячок с какою-то даже лепниной. Форточка открыта: Станислав Леопольдович дома. Опять деревянная лестница тоненько этак поскрипывала, а звонок, которого Петр в прошлый раз не слышал, оказался хорошо поставленным басом.
- Кто там?
- Это я, Петр, - машинально ответил Ставский, задним числом сообразив, что голос-то женский. Дверь не открывали, пришлось пояснить: - Я к Станиславу Леопольдовичу.
- Нету тут таких, - сказала дверь.
Здра-а-асьте!.. Как же нет, когда были? Квартиру он, что ли, перепутал? Да нет, та же самая квартира, и не мог он ошибиться, он эту квартиру на всю, кажется, жизнь запомнил.
- Простите, он... Станислав Леопольдович уехал?
- Нету тут таких.
- Это я уже слышал, - начал раздражаться Петр, не понимая прелести разговора через дверь. - Откройте же наконец!
За дверью - сначала издалека, но тотчас же у самого порога - вдруг мелко-мелко и хрипло залаяли, окончательно доконав Петра, мгновенно вообразившего себе раз в пятьдесят уменьшенного Анатолия.
- Боря, разберись, - послышалось сквозь лай - и затопали, с трудом попадая в собачьи паузы, толстые ноги в тапках без задников. Лязгнул затвор: сверху за дверью, придерживаемой цепочкой (цепью!), обозначилось лицо Бори, лицо борова; снизу, придерживаемая своей цепочкой (цепью!), полувыскочила жирная шавочка на тоненьких лапках.
- Что Вам угодно? - неожиданно интеллигентно спросил боров, стремясь попадать выдохами в щель.
- Войти, - Петр был краток. Шавочка сильно бранилась.
- Почему Вы хотите войти в чужую квартиру? - Боров, видимо, был педагогом. Шавочка охрипла окончательно.
- Потому что я был тут вчера. - Дверь еще немножко приоткрылась - и Петр понял, что не был он тут вчера: часть передней, доступная взгляду, пестрела корешками книг.
- Зачем же говорить неправду? - задал риторический вопрос педагог-боров. Шавочка, кажется, задохнулась.
- Вы много читаете, Боря.
У борова вытянулось рыльце, а опочившая было собачонка опять зашлась в хриплом лае. Плохо понимая, что происходит, Петр начал спускаться по лестнице. Уже на улице машинально поднял глаза: рыло борова Бори торчало в форточке. На нем горела печать-незаслужен-ного-оскорбления. "Хулиган!" крикнул Боря, и форточка захлопнулась.
Петр огляделся вокруг. Вокруг было пусто. "Если бы мы встретились с Вами вчера или, скажем, завтра, - вспомнил вдруг Петр, - я бы наговорил чего-нибудь другого. Может быть, тогда я не был бы уже ветеринаром и собаку мою звали бы не Анатолий..." Как глупо все-таки вел он себя в обществе странного этого человека: заснул ни с того ни с сего - глупее не придумаешь! Именно тогда, когда надо было правильно использовать единственную, по всей вероятности, замечательную случайность в его жизни. Когда надо было вцепиться в странного-этого-человека... эх, что ж говорить! Петр немного постоял и снова пошел к дому с лепниной. Теперь он не стал подниматься по лестнице, а позвонил у одной из дверей на первом этаже. На звонок вышел мальчик.
- Здравствуй, - сказал Петр. - Тебя зовут Игорь?
- Игорь. А что?
- Я Петр. Я должен спросить тебя вот о чем: где Анатолий?
- Анатолий? - Он наморщил лоб, внимательно посмотрел на Петра честными серыми глазами. - Я не помню.
- Чего ты не помнишь? - Петру хотелось, чтобы получилось как можно мягче, - получилось довольно строго.
- Я не помню, где Анатолий.
У Петра закружилась голова, он выждал некоторое время.
- Но кто такой Анатолий, ты помнишь?
- Помню. Анатолий - это собака.
Так... Так-так-так-так-так. Привкус мяты во рту. Будем вести себя спокойно.
- А чья это собака? - голос почти безучастный.
- Я не помню. Помню только, что Анатолий - собака. Большая такая, разноцветная. Мне всегда такую хотелось.
- Ну, конечно! - настаивал Петр. - И собака эта приходила к тебе в гости от Станислава Леопольдовича, старичка такого... милого, когда уходили куда-нибудь родители. А стоило лишь им появиться на углу Сивцева Вражка, собака Станислава Леопольдовича - помнишь? - моментально возвращалась к нему как ни в чем не бывало! Ну... Ведь так? Я правильно рассказываю? Это же и вчера было!
- Нет. - Честные серые глаза... - Это было давно. Я тогда был еще маленький. Ужасно давно.
И больше он решительно ничего не помнил.
А собака Анатолий все-таки была...
- Теперь вот что. - Петр попытался улыбнуться. - Ты очень хороший человек. С Первомаем тебя! - И, сунув ему в руки торт, Ставский быстро пошел к двери.
- Спасибо, - сказали ему в спину. - Только пока еще рано... с Первомаем.
На Гоголевском текло и журчало. "Вовсе не рано", - громко произнес Петр, быстро идя куда попало. Самое важное сейчас было не думать ни о чем, связанном с Сивцевым Вражком. Нет Сивцева Вражка в городе Москве. Если только когда-нибудь раньше... Но-это-было-давно-я-тогда-был-еще-маленький-уж асно-давно. И как-то занесло меня в существовавший тогда посреди Москвы Сивцев Вражек, как-то занесло... познакомило со Станиславом Леопольдовичем, обмануло, расстроило. А сегодня вспомнилось - вот и отправился с какой-то стати в Сивцев-этот-Вражек. Прихожу и вижу: нет Сивцева Вражка в городе Москве. Такая, значит, история.
И в самом деле: как уже далеко все отодвинулось - в прошлый век, в позапрошлый... в тысяча-семьсот-восемьдесят-какой-нибудь-год! И даже еще отодвигается: я вот иду, а оно отодвигается - скоро станет совсем ничего не видно, не слышно ничего. Да и так почти уже не видно, не слышно. Все. Не было. Не происходило. Потому-то и тоска такая неопределенная - не поймешь о чем. Ни о чем, знаете ли...
Сейчас надо вынуть из кармана бумажник, а из бумажника вынуть записочку - память-тренируйте-голубчик-это-Вам-на-метро-С.-Л. - и выбросить эту записочку: пусть она летит по ветру. А уже через полчаса покажется, что и ее не было никогда: так, обман чувств!
Петр вынул бумажник, потянул молнию... стоп. Записочки там, конечно, тоже уже нет, это яснее ясного. Исчезли все следы. Глупо было бы искать ее, а все-таки, все-таки - за-га-да-ем: если записочка там, значит... Нет, лучше по-другому: если записочки там нет, значит, это окончательно. Станислав Леопольдович пропал окончательно, и уже никогда мы с ним больше не встретимся. Я буду жить-учиться-и-бороться, стану человеком-средних-лет и выброшу из головы это воспоминание: к тому времени оно начнет мешать мне, как заноза. А если я выброшу его из головы, жизнь сделается легкой, приятной... независимой. Я успокоюсь - и ничто уже не сможет потревожить меня, потому что тогда я погибну. М-да... Если же записочка там, значит ну, не знаю, всякое может случиться и надо будет ждать.
В бумажнике записочка - была. Теперь оказалось, что Петр с самого начала знал: она там. И пришел к нему покой. Впрочем, не покой, конечно, пришло к нему легкое какое-то отупение. В самом деле, ничего страшного ведь не случилось. Страшно было бы другое, если бы Станислав Леопольдович, например... умер. Но он не умер, он просто исчез куда-то, исчез, а потом даст о себе знать. У него есть телефон Петра - и однажды Петр поднимет трубку и услышит: "Ну те-с, голубчик мой, что же Вы ко мне не приходите?" Надо ждать, только ждать - больше сейчас ничего не требуется. А то, что Станислава Леопольдовича нет в Сивцевом Вражке, так это даже естественно! Противоестественно для него именно быть там. Это подчеркивало бы заурядность происшедшего: два незнакомых человека встретились на улице, один пригласил другого в гости, пошли, чайку выпили, поговорили, превратились в добрых-друзей... А дальше - обсуждали бы текущие-события, обменивались соображениями-по-поводу (Вы читали вчерашнюю "Литературку"? Прочтите, там интересная статья, это надо прочесть!), потом наскучили бы друг другу до умопомрачения (ох, мне опять сегодня к Станиславу...) и постепенно отошли бы друг от друга далеко-далеко. Нет, замечательно, что его не оказалось в Сивцевом Вражке. В сущности, так и должно было быть! Недаром же что-то в этой истории бес-по-ко-и-ло Петра. Теперь казалось ясно, что именно. А именно случайность всего, случайность каждого момента события... непредсказуемость, непредусмотренность, непреднамеренность. Система бесконечно малых совпадений бесконечно многих фактов.
Между прочим, Петр был совершенно прав, в чем автор, дорогие мои читатели, клятвенно уверяет вас, испытав подобное на собственной шкуре. К тому же, испытав совсем недавно - на днях, можно сказать. Он, автор то есть, решил тогда сам проделать весь путь, который проделал Петр шестнадцатого января тысяча девятьсот восемьдесят третьего года, последствием чего оказалась встреча Петра со Станиславом Леопольдовичем. Автор шел себе по Суворовскому бульвару и был очень внимательным, поскольку с некоторых пор понял, что все вокруг надо замечать. И, представьте себе, уже на Гоголевском автор заметил старичка с тросточкой, прогуливавшегося в сопровождении аккуратного беленького шпица.
- Вы, я вижу, тоже гуляете, молодой человек? - полюбопытствовал старичок и, получив утвердительный ответ, продолжил: - А не окажете ли Вы мне в таком случае одну любезность?
- С удовольствием, - ответил автор.
- Пять минут, только пять минут подержите моего шпица на поводке, пока я зайду в эту вот булочную? Он не кусается, честное слово. Он тихий.
И автор взял из рук старичка поводок. Действительно, не прошло и пяти минут, как старичок вышел из магазина, неся в прозрачном целлофановом пакетике длинный французский батон за двадцать две копейки.
- Очень Вам обязан, - сказал он.
- Какие пустяки, - сказал авторр
- Ваше имя... позвольте узнать.
Автор назвал свое имя.
- Очень приятно. А меня зовут Станислав Леопольдович. Почему Вы улыбаетесь?
- Так зовут героя в романе, который я сейчас пишу.
- Это положительный герой? - строго осведомился Станислав Леопольдович.
- Более чем, - ответил автор. - И похож на Вас. Только собака у него другая и тросточки нет. А в остальном - вылитый Вы.
- Прекрасно, - сказал Станислав Леопольдович и хорошо засмеялся. - Вот уж не предполагал, что стану когда-нибудь героем романа. А то, что собака другая и тросточки нет, - это пустяки, не обращайте внимания! Дело не в них. У меня тоже могло бы не быть тросточки. Если б не ишиас. И собака могла бы быть не такой, если б я не такую завел. Поверьте мне, дело не в этом.
- А в чем, Станислав Леопольдович^
- Душа, голубчик Вы мой, душа. Душа душе весть дает. Подлинные знаки вот чего мы напрочь не умеем воспринимать. Казалось бы, все уже яснее ясного и сердце знает: подан знак, ан нет!..
После этих слов автор, ей богу, даже бровью не повел: он был не до такой степени прост, чтобы удивляться данному совпадению после всего, что он уже написал и намерен еще написать.
- Значит, мне можно, - только и сказал он, - например, завтра прийти к Вам в гости? И о многом с Вами поговорить?
- Весьма и весьма сожалею, - развел руками (насколько позволяли шпиц и целлофановый пакетик) Станислав Леопольдович. - В гости я могу пригласить Вас только сегодня, потому что завтра утром я очень далеко уезжаю, в Хабаровск. И вернусь оттуда... если вернусь, а в моем возрасте уже позволительно делать такие оговорки, да... вернусь тогда, когда Ваш роман, наверное, будет уже закончен. Но у Вас ведь не слишком длинный роман?
- Надеюсь, что не слишком, - охотно согласился автор.
- Видите ли, у меня в Хабаровске правнук родился. А у Вашего героя тоже родился правнук?
- Увы, - отвечал автор, - у моего героя правнук не родился. И думаю, что вряд ли родится. Дело в том, что мой герой совсем одинокий, страшно одинокий человек. И давно уже, я затрудняюсь даже сказать сколько, никого у него нет.
- Грустно. А Вы не хотите подарить ему правнука? Тогда он, может быть, не будет так одинок.
- Ему нельзя подарить правнука, - загадочно произнес автор.
- Ну что ж... нельзя значит нельзя, - просто сказал Станислав Леопольдович, оттащил шпица от оброненного кем-то носового-платка-в-аленький-цветочек и поднял глаза на автора: - Ну так как же, пойдемте ко мне в гости?
Автор не пошел в гости к Станиславу Леопольдовичу - стыдно вспомнить, из чистого суеверия. Ситуация и без того уже грозила повториться один к одному. О, все в жизни можно повторить, да не все нужно. Кроме того, автор ведь знал, как будут развиваться события. Тем более что назавтра Станислав Леопольдович все равно уезжал - и, наверное, навсегда - к новорожденному правнуку в страшно-сказать-Хабаровск. А Хабаровск - это очень далеко.
- Очень далеко, - откликнулся Станислав Леопольдович почти уже из Хабаровска и оттуда же вдруг добавил: - Если Вы думаете, что я не одинок, то... то не думайте так.
- Не буду, - принял предложение автор. - Будь Вы не одиноки, Вы не поехали бы в Хабаровск. Но все к лучшему: Вы приедете в Хабаровск - и больше не будете так одиноки.
- Это правда, - улыбнулся Станислав Леопольдович. - Надеюсь также, что когда-нибудь перестанет быть одиноким и Ваш герой, а?
Тут автор уже просто рассмеялся - не слишком, правда, весело, но все-таки...
- Не сомневайтесь в этом, Станислав Леопольдович: мой герой уже сейчас перестает быть одиноким, как я заметил.
- Прекрасно, прекрасно. Одиночество - замечательная штука, но только пока человек молод. А в старости это невыносимо. Вы уж помогите ему чем можете, Вашему герою: перестать быть одиноким, когда тебе уже за шестьдесят, - задача не из простых. Ну что ж... Вы идите тогда, а то мы с Вами друг к другу привыкнем.
- До свиданья, - произнес автор решительно.
- До свиданья, - решительно произнес и Станислав Леопольдович, а беленький шпиц решительно помахал хвостом.
И все они нерешительно начали расходиться, и все обернулись напоследок.
- Вы пишите только Ваш роман... не бросайте их, героев своих, нельзя теперь.
- Знаете, Вы действительно невероятно похожи на Станислава Леопольдовича!
- А я и есть Станислав Леопольдович. - И хороший-хороший смех.
А потом повалил такой снег, что, когда окончательно распрощавшийся и уходящий все дальше автор обернулся, никого не было на бульваре, кроме снега, снега, снега.
Вот как бывает, дорогие мои, а вы говорите! Так что Петр абсолютно прав, размышляя о полезной роли случайностей. И, конечно, по всем добрым законам, должен он встретиться со Станиславом Леопольдовичем хотя бы еще раз - и автор как-нибудь постарается это устроить. А пока пусть он дойдет наконец до библиотеки Ленина; пусть даже бездарно просидит там допоздна, не заказывая книг и ни разу не спустившись в буфет, пусть в довершение всего потеряет контрольный листок и будет до десяти разыскивать его на пути между началом лестницы и своим столом в третьем зале, чтобы в конце концов обнаружить пропажу под прозрачной пленкой пачки сигарет, - стало быть, пусть произойдет все это, лишь бы Петр успел бросить один случайный взгляд сначала на прекрасную черную шаль с японскими цветами, а потом на большую пеструю этикетку, шлепающую по попе немыслимо красивую девушку с вороной над головой: бросить взгляд из вагона, в котором ему самому предстоит проехать только на одну станцию дальше - до "Сокола". Не померещилось ли ему все это, спросит он себя и упрямо решит, что нет, не померещилось и что шаль с этикеткой, а также ворона над головой были предназначены именно для него.
Значит, вот каким образом обстояли дела. И ничего не обещал завтрашний день - пустой-каникулярный-день... Уже неделю назад Петр сдал все положенные экзамены за первый семестр пятого курса филологического факультета МГУ (он учился на отделении романо-германской филологии) и должен был теперь приступить к оформлению диплома, однако не приступил, поскольку внезапно понял, что все это вообще не его дело... да и "оформлять" было фактически нечего: как-то не написался диплом.
И плавало в тумане будущее, в котором ему не хотелось быть никем: как в детстве, когда его спрашивали: - Кем-ты-станешь-когда-вырастешь? - и он отвечал: - Никем. Так оно, по-видимому, и случится. Немецкоговорящее Никто. Правда, хорошонемецкоговорящее. Даже, пожалуй, оченьхорошонемецкоговорящее. Но ведь было бы с кем говорить!
Дурацкое время - время-для-завершения-дипломного-проекта. Одно утешает - дают пропуск в Ленинку. Когда еще доведется! И Петр ходит в Ленинку чуть не каждый день - низачем, между прочим, ходит. Слоняется по этажам, листает книги в подсобном фонде, чтобы не заказывать из книгохранилища: как-то это уж слишком основательно... Перебирает журналы в зале периодики, скучает в ЦСБ - маленькой полутемной комнатенке со словарями и справочниками вдоль стен: выдумывает себе разные проблемы и тут же решает их, обратившись-к-справочной-литературе. Торчит в курилке, невнимательно прислушиваясь к разговорам неопрятных седобородых библиофилов: есть в Ленинке два таких совершенно одинаковых старика-завсегдатая, у которых одна-но-пламенная-страсть - рассуждать о том, что пишут в книгах. Два выцветших табачных деда, по которым, должно быть, психиатрия плачет. Они так подробно знают все, что Петра от этого даже подташнивает...
А в общем, нормальное времяпрепровождение - ничуть не хуже любого другого. И кофе желтого цвета в буфете - жидкий, как хорошая акварель, и неизменные полпачки-вафель-пожалуйста (для тех, кто не знает: пачку вафель разрезают пополам большим ножом, поскольку распаковывать пачки и продавать вафли по отдельности почему-то буфетчицам неудобно), и сваренные накануне яйца - всегда только холодные... эдакие земноводные яйца, омерзительные; и намертво приклеенные к фольге оплывшие сырки, именуемые плавлеными, которые едят с руки или с куска хлеба; и одинаковые на вкус шоколадные конфеты, покупаемые поштучно, с названиями полевых цветов; и липкие даже сквозь фантик леденцы-на-сдачу, главная хитрость в употреблении которых - не положить в карман... И вечная, скучная, как телепрограмма, очередь за-всеми-этими-делами - очередь, состоящая всегда из одних и тех же людей, которые упрямо остаются незнакомыми, и длящаяся годами, годами, столетиями... Библиотечная жизнь.
И такое заунывное явление, как ка-та-лог. Петр перебирает карточки. Не для того, чтобы заказывать книги, - упаси боже!.. Публичная библиотека среда, где удобнее всего воспитывать библиофобов: обилие карточек в каталожных ящичках неизменно раздражает несоизмеримостью с масштабами человеческой жизни - читай, что называется, не читай... конец один.
Между тем в странную область забрел нынче Петр, наугад вытащив один из ящичков в каталоге ЦСБ, - в весьма и весьма странную область, именуемую "Руководства разные". Под этим названием сосредоточены были книги, предполагавшие обращение к таким материям, о которых Петр и не думал никогда, поскольку вообще не догадывался об их существовании. Сами посудите: "Руководство по изучению пекулярных звезд", "Руководство по исследованию архианнелидов", "Руководство по наблюдению за ревертазами при переносе генетической информации", "Руководство по нахождению спикул в солнечной хромосфере", "Руководство по определению тиксотропии дисперсных систем))... дальше, дальше... Петр перебирает карточки... "Руководство по ориентации в Элизиуме", "Руководство по распознанию..." минутку, минутку... Петр вернулся на одну карточку назад: что-то там задело взгляд его, кольнуло краешек глаза - и это было (Петр перечитывал карточку: РУКОВОДСТВО ПО ОРИЕНТАЦИИ В ЭЛИЗИУМЕ. S.L., S.A. - 284 с.), это было... вот оно: S.L.! Две буквы, так прочно засевшие в нем, что, казалось, никогда уже не забудет он: "Память тренируйте, голубчик. Это вам на метро. С.Л." С.Л. - S.L. На сей раз, правда, латинскими буквами. А впрочем, и само название "Руководства" записано в карточке по-немецки. Петр сразу не заметил этого. Привкус мяты во рту. Да нет же, конечно, при чем тут "С.Л." из записки! Это совсем разные С.Л. Одно дело С.Л. и совсем другое дело S.L. ... А что там в названии? "Руководство по ориентации в Элизиуме"... Элизиум, Элизиум... Царство мертвых, что ли? Мрачно как!
Думая об этом, Петр заполнял требование - машинально заполнял, так, словно ежедневную проделывал операцию: откуда что взялось!
- Пожалуйста, можно заказать?
- Минуту, сейчас принесу.
Ах, ну да... В ЦСБ не надо ждать по два часа: здесь книги выдаются сразу: минуту-сейчас-принесу - и готово. И действительно: вот уже протягивают ему тоненькую книжицу, переплетенную в картон с желтовато-серыми разводами, - переплет поздний, взамен пришедшего в негодность прежнего. Это вместо пыльного фолианта с золотым обрезом, как предполагал Петр. Хотя, конечно, и так сойдет.
Книжица была набрана готическим шрифтом и оказалась довольно старой... нет, пожалуй, даже очень старой... нет, просто-таки совсем старой - конец позапрошлого какого-нибудь века; это то, что читается с трудом, - интересно, почему она вообще здесь, почему не в отделе редких книг? Разумеется, именно там ей и место!
Петр вертел книгу в руках, ища S.L. Нигде не было S.L. ни на обложке, ни на форзаце, ни на титуле, ни даже в конце книги. Может быть, это было на старой обложке? Но что ж гадать: теперь все равно не узнаешь. Слишком много прошло времени: века два, наверное, если он правильно определяет время издания. Да и незачем искать: как-то оно ни к чему вроде... Бредовая идея, в правомерности которой и убеждаться-то не хочется. Но надо все-таки кое-что прочесть, не зря же требование заполнял!
Нельзя сказать, чтобы с охотой приступал Петр к этому чтению: Элизиум маячил в памяти туманным каким-то островком (античная литература, 1-й курс университета), мимо которого проехали уже, забыли... кажется, место, куда попадают праведники после смерти, одно из заблуждений древних, не знавших географии, биологии и чего-то там еще. Чепуха... вроде того, что земля покоится на трех китах и проч. "Лес, Элизиум братств!"... Елисейские поля... "Я в хоровод теней, топтавших нежный луг"... "О, Шанз-Елизе!" Вот и все, что имеется в голове по данной теме.
Петр сел в уголок: в уголке было свободное место. Темновато в ЦСБ к вечеру: освещение совсем не подходит, чтобы читать шрифт, которым обычно набирают словари и справочники. И готический шрифт - тоже.
"Автор предлагаемого вашему благосклонному вниманию руководства не намерен навязывать читателю аподиктические истины, которых надо во что бы то ни стало придерживаться. Опус этот является лишь опытом систематизации наблюдений над некоторой группой необыденных явлений жизни, не поддающихся ординарному истолкованию и потому часто вызывающих превратное к себе отношение. Сразу следует оговориться, что происходит это, по-видимому, вследствие недооценки роли случайностей в условиях повседневности".
Петр остановился. У него отчего-то слегка закружилась голова: он не понял даже, что именно он такого прочитал, от чего она могла бы закружиться. Он еще раз перечел абзац - и теперь осознал, что сама судьба посылает ему книгу эту, поскольку о случайностях и думает он, оказывается, все последнее время, когда вообще о чем-нибудь думает, - с той самой не-бывшей не-встречи на не-Суворовском-не-бульваре. Вот и сейчас: в ответ на эти его мысли книга о том же самом. И вспоминает Петр: так бывало всегда. Стоило ему на чем-то сосредоточиться, как тотчас начинали подтягиваться к этому "чему-то" события, разговоры, книги... С такою же самою обязательностью, с какой записываемое тобой в данный момент слово непременно повторяется кем-нибудь около тебя - другом ли твоим, диктором радио или телевидения, просто случайным человеком... Но-дальше, дальше: книга с первого абзаца не то что взяла - просто-таки схватила Петра за самое сердце. И тащит за собою понять бы только куда!
"Между тем роль случайностей в условиях повседневности велика чрезвычайно - и при внимательном взгляде на них выстраиваются случайности эти в определенные "разряды" или классы, один из которых и дерзнет описать автор настоящего руководства, дабы читателю легче было взаимодействовать с оными случайностями и дабы был у него путеводитель вроде Вергилия, открывшего глаза достославному Данте на устройство бытия за гробом. Ибо, как полагает автор, многие из случайностей свой исток не здесь имеют. Но - к делу.
Приходилось ли благосклонному читателю предаваться размышлениям о географических представлениях древних греков? Презабавная тема, доложу я вам... И презабавный концепт выявляется при подобных размышлениях, а именно Крайний Запад. Что есть крайний запад для древних греков? А крайний запад для древних греков есть теперешняя граница восточного полушария, то есть крайний запад для древних греков есть крайний запад как таковой, если действительно иметь в виду восточное полушарие.
Может быть, смущает благосклонного читателя сомнительный атрибут "крайний" при субъекте "запад": дескать, возможно ли теперь говорить о "крайности", разделяя всеобщее убеждение о шаровидной форме земли? Однако из того, что земля имеет форму шара, следует, по меньшей мере, два равноправных вывода: у земли нет края (1): у земли все - край (2)".
О-хо-хо, зачем Петру эти умствования? Схоластические эти шалости... Логические игры угасшего уже ума... Да еще сформулированные таким образом, что мозг отказывается своевременно переваривать поступающую столь хитрым путем информацию! О-хо-хо...
"На краю земли, или на крайнем западе, что то же, существовало могущественное некогда государство Атлантида, исчезнувшее под водой. Автор не возьмется в точности припомнить, что уж там случилось, - говорят, землетрясение; но пропал остров, сгинул, утонул... затонул, словно судно, набитое атлантами. И Платон в диалогах "Тимей" и "Критий" передает сведения эти как миф: задолго до Платона, стало быть, описываемые события происходили. Отчего же время не утеряло тех сведений в течении своем? Отчего и поныне косвенным образом намекает нам на Атлантиду? Хотя бы названием одним - Атлантический океан: откуда-то взялось оно, это название!.. Кушающий атлантические сельди бывает что и задумывается о странности имени тех сельдей. А ведь язык отнюдь не склонен шутить... Вот еще и слово "океан" - с ним тоже много неясного. Греки называли так мифическую, дескать, реку, окружавшую землю, в то время как мы вкладываем в слово "океан" иное уже значение.
Кому-то из благосклонных читателей приведенные рассуждения могут представиться умствованиями, схоластическими шалостями или логическими играми угасающего ума, что было бы, однако, странно, если иметь в виду пропажу целого государства, а именно Атлантиды -не удивительно ли это всякому? Не могло же целое государство, остров целый, бесследно исчезнуть не один ведь человек! Не иголка же в конце концов это государство, чтобы так вот взять и сгинуть! Или, может быть, и не было никакой Атлантиды? Миф и так далее... гм, детство человечества. Однако дерзнем построить некоторое логическое сооружение. Значит, в Атлантиде жили атланты, о коих известно из книг, что обитали они на крайнем западе, - отсюда, по всей вероятности, происходит имя Атлантического океана, который для древних греков и есть крайний запад. Стало быть, та самая мифическая река (Океан) в представлении древних греков - не что иное, как известный всякому Атлантический океан. Атлантида и затонула в Атлантическом океане, то есть на крайнем западе, то есть для древних греков - на краю земли. А меж тем край земли... как бы это поделикатнее выразиться, уже занят, ибо там, по свидетельству тех же самых древних греков, расположен Элизиум. Причем он первый занял это место, потому что слово "Элизиум" - до-греческое и в греческом языке для него нет объяснений. Следовательно, идя за языком, который, как мы помним, отнюдь не склонен шутить, мы приходим к выводу: Атлантида исчезла в Элизиуме, где, в соответствии с представлениями древних, исчезнем, между прочим, и все мы. Правда, существуют версии (Гесиод, Пиндар), что не все, но только праведники, однако это поздняя версия. А первоначально считалось, что попасть в Элизиум - дело обычное и никакое это не воздаяние за добродетели.
Впрочем, как помнит благосклонный читатель, совершенно случайно отправились мы по следам самых древних греков (да и греков ли, если вспомнить о том, что слово "Элизиум" - до-греческое слово?) и совершенно случайно привели нас следы эти в сии места. А более заметные следы привели бы в Аид - в царство неинтересных, в общем, теней, в обиталище бестелесной массы, толпы парообразных каких-то духов... Или в Тартар - огненный Тартар, где истязают грешников. Но все это мрачно, так что пусть уж лучше будет Элизиум, Елисейские поля... оно, по крайней мере, красиво.
Есть, кстати, и другие красивые имена, с помощью которых разные народы обозначали лучший мир. Гульчеман, Тлалокан, Болоту, Ракитеруа, Плу, Аменти, Валгалла, Шеол... Не каждое из этих мест так уж приятно, но зато какие слова! А если вспомнить еще Блаженные Острова Гесиода... впрочем, они-то в гимне Калистрата и были отождествлены с Елисейскими полями; или Благородный остров на западном океане... впрочем, кажется, это всего-навсего Англия, Великобритания то есть, географическое положение которой обеспечило ей славу страны смерти, страны теней.
Стало быть, как ни назови лучший мир - все правильно. И как ни расположи его в пространстве (глядя все-таки на запад: так уж принято в верованиях древних!), лучший мир есть лучший мир. Некоторые считали, что существует он на земле, некоторые - что под землей, а были и такие, кто искал его на небе; давайте не станем углубляться в эти частности. Договоримся, что мы не можем знать, где он расположен, лучший тот мир, а назовем его все же Элизиум, первое слово всегда самое точное!
Значит, Элизиум. Елисейские поля... Поля на краю земли. Несколько тысячелетий принимали они странников - не то чтобы самих странников (сами странники оставались в земле), но их тени, ибо все равно мертвые тени не имут. Тени имут живые, да не так уж часто обращают на это внимание".
Ну и довольно. Петр, только что, как мы с вами помним, пойманный автором книги на случайных своих мыслях по поводу "умствований, схоластических шалостей" и проч., готов был закрыть книгу: в самом деле, многовато уже подробностей (отделение классической филологии, 2-й курс), как вдруг: "Невнимательный они народ, живые... И слишком быстро живут. Если бы они жили не так быстро, они могли бы заметить кое-что... кое-что интересное. Но они действуют как бы наизусть, то есть пробегают свою жизнь, проборматывают, не вдаваясь в частности, в подробности каждой ситуации, которую посылает им судьба. Дети так читают стихи - зная уже наперед, что там дальше, и галопом скача к финалу: tiefe-Stille-herrscht-im-Wasser-und bekummert-sieht-der-Schiefer-Todesstille furchterlich-reget-keine-Welle-sich".
Петру моментально сделалось очень холодно, потом тут же очень жарко: он достал платок - вытереть лоб, забыл об этом и сунул платок в карман. Прочитанный текст он помнил. Он помнил его слово в слово: искажения были незначительные. Вместо "мы" в тексте везде стояло "они" и вместо русского примера приводился немецкий. Текст принадлежал Станиславу Леопольдовичу. Значит, S.L. - это...
- Простите, - он бросился к столу выдачи книг - наверное, слишком стремительно: грузинская дама за столом взглянула на него с удивлением: "Потише, молодой человек!" - Простите, пожалуйста... я заказывал книгу... там в карточке... я списывал из каталога... были буквы... S.L. - я не нашел их в книге, мне нужно знать, что они обозначают. - И Петр протянул контрольный листок.
- Вот Ваше требование. - Дама нашла уже в ящичке заполненный Петром формуляр. - Так что Вас интересует? Ах, S.L., S.А.... понятно. Это означает sans lieu, sans annee... ну, то есть без места издания и без года, по-французски, понимаете?
- Почему по-французски? - спросил Петр первое, что пришло в голову.
- Так принято.
- Когда принято?
- Что значит "когда", молодой человек?
И в самом деле, что значит "когда"? Принято - и все. Неизвестно когда. Давно принято - чего он прицепился к грузинской даме этой с идиотскими вопросами!
- Извините, - Петр вернулся к своему столу. Он еще раз перечитал последнюю фразу: та же самая фраза. Очередная случайность, стало быть. Не просто даже случайность - Случайность Случайностей. Раз в... двести лет бывает. Если не реже. Если не реже... и никакая не случайность это вовсе! Теперь уже нет ни малейшего сомнения в том, что... Додумывать было страшно. Да как-то, честно говоря, и не очень получалось это - додумывать. "Мне послан знак", - сказал он в сердце своем наконец и без остановок уже читал дальше.
"Отныне позволим себе обращаться лишь к тем из благосклонных читателей, кто любит частности и подробности жизни, а значит, не раз наблюдал такую, например, картину: идет по улице человек и отбрасывает сразу две тени. Причем одна тень определенно его, а вот другая...
Однако оборвем себя на полуфразе и попытаемся хотя бы в самых общих чертах постичь необыкновенный этот феномен - Феномен Тени. О нет, не физическую (resp. оптическую) его природу - оставим физику физикам. Сосредоточимся на той области, в которую досточтимый Аристотель забросил все, для чего не существует естественнонаучных объяснений, - на области метафизики. Вот сфера, достойная нашего внимания, а именно то, что следует после физики, что остается от физики таким недоучкам и доморощенным философам, как ваш покорный слуга. А между прочим, не так-то уж мало им остается. Например, те представления о тени, которые закреплены в значениях многозначного этого слова. Неясные очертания фигуры человека, животного, предмета... Отражение внутреннего состояния в чертах живого существа... Призрак, дух... Слабое подобие чего-то... Подозрение.
Не берет ли благосклонного читателя оторопь, едва лишь принимается он сопоставлять поименованные здесь значения? Не веет ли на него хладом иной жизни? Если и так, то пусть не порицает себя благосклонный читатель за избыточную мнительность: опасения его отнюдь не лишены основания. Не произвольно складываются значения в языке: все они звенья когда-то долгой и прочной цепи, которую разорвало время. Прежде опоясывала цепь эта единое в своем роде пространство бытия-небытия вместе, темное пространство абсолюта, бездну универсума. Дерзнем же осторожно перебрать сохранные еще звенья пусть и неполной теперь цепи, продвигаясь от конца ее к началу и блюдя верность гению языка. Итак, первоначально ощущаю я некоторое подозрение, подозреваю присутствие тела. И вот вижу я наяву слабое подобие чего-то. Я склонен рассматривать это "что-то" как призрак, дух. Но дух есть внутреннее состояние тела и неизбежно оставляет следы на материи, отражается в ней. И точно: вот передо мною неясные очертания фигуры человека, животного, предмета, еще мгновение - и я увижу то, темное отражение чего явлено мне. Я трепещу от близости разгадки: вот оно!
Допускаем, что в построении нашем логические переходы не вполне безупречны, но мы ведь воспользовались лишь сохранившимися звеньями. А сколько их утрачено!.. Намекают на эти утраты те идиомы, которые сберегаемы языком в состоянии нерасчлененном и смысл компонентов которых угадывается только весьма приблизительно - настолько приблизительно, что, пожалуй, нет нужды и утруждать себя. Достаточно попросту привести известные нам идиомы, варьирующие тему тени. Ср.: тень обиды; ни тени насмешки; тени под глазами; тень прошлого; держаться в тени; бросать тень на...; стать чьей-нибудь тенью; ходить тенью; одна тень осталась (так говорят о том, кто слишком худ)...
А в скольких языках "душа" и "тень" вообще обозначаются одним и тем же словом!
Остается ли теперь, и особенно по более продолжительном размышлении, хоть какая-нибудь почва для сомнений в том, что перед нами - целый мир, еще один мир данностей, игнорируемых человеком в быстроте дней его? Впрочем, слово "мир" есть, разумеется, метафора, ибо этот "мир" (мир теней) вне мира умопостигаемого не существует, он отражение его, он другая сторона жизни. Теневая сторона жизни. А ведь далеко не всегда бывала она в небрежении, подобном сегодняшнему. Впрочем, и сегодня некоторые африканские народы боготворят тень: наступить на тень человека считается у них грехом. Что же касается времен минувших, то уж времена минувшие трудно упрекнуть в недостатке внимания к теневой стороне жизни: задумаемся, как много поверий связано с ней. По отсутствию тени узнавалась нечистая сила. Да и у тех, кто просто связан был с нечистой силой - колдуны, ведьмы, - с тенями тоже не все благополучно обстояло. Так, сами они могли считать себя в безопасности, даже если кому-то приходило в голову расправиться с ними физически: никакие побои не оставляли следов на их теле. Казалось, они и вовсе не чувствовали ударов - только презрительно улыбались в лицо тому, кто посмел посягнуть на них. Однако стоило только дотронуться до их тени - тут с ними начинало твориться нечто неописуемое. А уж попробуй кто-нибудь стукнуть их тень, скажем, палкой или начать топтать ее!.. И конвульсии случались, и припадки, и помрачение ума, даже смерть могла приключиться. Так что колдуны и ведьмы пуще глаза берегли тени свои - простой же народ, прознав об этом, их самих и пальцем не трогал: прыг на тень - и давай плясать! Пока колдун или ведьма в корчах не кончались. Непонятно только, почему инквизиция, например, посылала спознавшихся с нечистой силой на костер: сколько невинных пали жертвами невежества! А всего-то и надо было, что проверить, опасается ли подозреваемый за тень свою, - не понадобились тогда бы никакие костры.
Известна история магистра черной магии Андреаса Тотенгребера, жившего в прошлом веке, тень которого была арестована самолично герцогом Брауншвейгским, хотя достославный этот герцог одним из первых среди германских государей прекратил преследования колдунов и ведьм, отменил пытки за чародейство. Однако Андреас Тотенгребер был личностью самою что ни на есть отпетою и занимался гаданием на крови младенцев. Герцог же Брауншвейгский, муж чрезвычайно просвещенный, не стал подвергать преступника истязаниям - он приговорил тень его к аресту, чем вызвал недоумение добрых сограждан своих, не слыхавших прежде о такой мере наказания. Андреас Тотенгребер был заточен в совершенно темное помещение, куда не могли проникнуть лучи никакого источника света, где преступник и скончался в самое короткое время вследствие утраты тени - утраты, как оказалось, непереносимой для колдунов. Личный врач герцога Брауншвейгского констатировал смерть в результате асфиксии (удушья), между тем для асфиксии не было никаких причин.
Не правда ли, что следует, в частности, из этой истории, а также из предшествующих наших выкладок и рассуждений некоторая самостоятельность тени, некоторая, может быть, даже независимость ее от носителя своего? Данное предположение способно, вероятно, несколько устрашающе подействовать в особенности на нетвердые умы, полагающие видеть во всем исключительно естественные причины. Подобным естествоиспытателям мы сочли бы своим долгом напомнить, что естественнонаучному объяснению интересующих нас феноменов была уже отдана дань в самом начале нашего повествования и что в ходе его мы обращались главным образом к тем читателям, которые приемлют за объяснения и объяснения метафизические. Прежде всего для того прибегаем мы к такому напоминанию, чтобы предупредить оставшихся с нами читателей о стремлении в дальнейшем и вовсе пренебрегнуть самою возможностью естественнонаучной интерпретации фактов, которые мы намерены последовательно отражать в данном сочинении, полагая, между прочим, метафизику весьма достойной и надежной методой постижения истины.
После этих признаний будет, по всей вероятности, отнюдь не вполне неправомерным обратиться к некоторым явлениям, настойчиво привлекавшим к себе наше внимание в продолжение последних лет. Так, по причине присущей нам склонности к праздному времяпрепровождению и пустому созерцанию, а также вследствие природной медлительности и лености ума мы имели возможность подолгу наблюдать за поведением различных теней, отбрасываемых как живыми существами, так и неодушевленными предметами. И вот что обнаружилось в ходе подобных наблюдений. Престранно ведут себя иные тени. Часто очертания их не имеют ничего или имеют совсем мало общего с соответствующими им объектами, так что не годится даже называть оные объекты соответствующими, а пристойнее, кажется, называть их несоответствующими объектами, если не возникало бы в ходе подобной риторической операции терминологической путаницы. Судите сами: рассматривая с прилежностью отдельные тени и, может быть, не глядя заранее, кем или чем они отброшены, мы весьма часто рискуем обмануться в определении и идентификации объекта. А такое, к примеру, зрелище, как театр теней, едва ли не предумышленно вводит нас в заблуждение относительно действительных объектов, предлагая нам созерцать на специальным образом освещенной поверхности то гуся, то пса, то змея, а то и внешность маленького человека, меж тем как изображения эти суть простые следствия хитроумного сложения перстов мастера. Так стало быть, тень представляет собою некоторый пластический материал sui generis, коим возможно работать как глиною? Или это жидкая субстанция, способная принимать форму заключающего ее сосуда? Или же, наконец, это летучее вещество - результат сгущения содержащихся в воздухе частиц? Может быть, восточные легенды о джиннах, запечатанных в бутылях и по неосторожности освобождаемых некоторыми недальновидными представителями рода человеческого, имеют под собою основу более надежную, нежели это кажется с первого взгляда. Ведь отнюдь не понятно, как возможно заключить в бутыль существо телесное, хотя очевидно, что нет никаких препятствий поместить туда тень, заманив ее в сосуд некоторым причудливым способом, о коем, впрочем, не нам судить. Тем более если она - вещество летучее...
Однако мы отклонились от темы соответствия (или же несоответствия) тени физическому ее носителю. Отношения между ними, прямо сказать, далеко не взаимообусловленные. Они весьма напоминают отношения между обликом человека и отражением оного в кривом зеркале - из рода тех, что служат на потеху публике. Точно так, как в кривом зеркале получаем мы искаженную видимость пропорций, возможно наблюдать и трансформацию их при обращении к тени. Однако зеркальное отражение все же не отличается от физического объекта столь разительно, сколь тень отличается от носителя своего, не только видоизменяя оного, но и вовсе как бы уничтожая любые черты подобия таковому. Кроме того, тени имеют способность появляться и исчезать, увеличиваться и уменьшаться, постоянно менять очертания. Наконец, один и тот же объект может отбрасывать сразу несколько теней в разные стороны - и тени эти, заметим, иногда сильно отличаются друг от друга. Бывает так, что теней больше, чем предметов, - бывает так, что меньше... В общем, тени ведут себя, как захотят, и никому не известно, как именно захотят они вести себя в следующую минуту.
Вот к этим-то странным и, может быть, даже не слишком веселым размышлениям приводят человека многолетние наблюдения за повадками теней, однако было бы довольно нелепо с нашей стороны - даже при упомянутой выше склонности к праздному времяпрепровождению и пустому созерцанию, а также с учетом природной медлительности и лености ума - в течение нескольких лет ограничиваться положением стороннего надзирателя, никак не пытаясь внедриться в круг, что называется, теней, дабы изнутри понять их природу и особенности поведения. Сама по себе задача такая может показаться не столько дерзкой или даже безрассудной, сколько по сути своей попросту несуразной, несообразной со здоровой психикой и надлежащим состоянием ума. Впрочем, автор этих строк отнюдь не склонен настаивать на том, что психика его здорова, а ум крепок. Весьма вероятно, что как психика, так и разум его оставляют желать лучшего с точки зрения нормального человека, почитающего упомянутые качества достоинствами личности, в каковой характеристике автор очень и очень сомневается. Так или иначе, а мысль о том, чтобы стать среди теней своим, чтобы постигать язык теней, настолько овладела безумным, если хотите, автором, что все свои силы употребил он на соответствующую деятельность. Избавим читателей от перечня ухищрений и приемов, к которым он прибегнул, и вернемся к едва лишь начатому и тут же оборванному на полуфразе пассажу по поводу некоего человека, идущего по улице и отбрасывающего сразу две тени. Одна из них, как мы имели уже сообщить, определенно его, а вот другая...
Оставим в покое случайного этого человека и сосредоточим внимание на второй тени, тем более что она вполне заслуживает внимания. Приглядимся к ней: вот она послушно следует за человеком и послушно же повторяет его движения, а вот уже - смотрите, смотрите! - отделилась от него, переметнулась к дереву, на минутку присоединилась к тени дерева, скользнула по мостовой, остановилась и побыла тенью-самой-по-себе... будьте внимательнее... и - раз! Исчезла.
Автор знаком с тенью этой и готов познакомить с ней читателей, прилежно следовавших за ним на протяжении всех его путаных рассуждений. Будем называть запримеченную нами тень Тенью Ученого. Вот что можно сообщить о ней тем, кто согласен и дальше двигаться вперед по уже намеченному пути.
Тень Ученого при его жизни ничем не отличалась от прочих теней: она сопровождала Ученого и была обычной, очень хорошо знающей свое дело тенью. Увеличивалась или уменьшалась в зависимости от количества света, старалась копировать Ученого во всем и потому была весьма и весьма респектабельной тенью - в мантии и профессорской шапочке.
А когда Ученый умер, то есть (как мы теперь это понимаем) полностью перелился в собственную тень, сообщив ей не только внешнее сходство с собой, но и абсолютное внутреннее подобие - которое было абсолютным внутренним бесподобием! - Тень Ученого перестала быть примерной тенью. И стоило лишь Тени Монарха в очередной раз призвать ее к порядку (довольно-фокусов-будьте-как-все), Тень Ученого шарахалась в сторону: именно этого - быть-как-все - она и не желала. Совершенно ненормальная тень...
Совершенно ненормальная эта тень постоянно покидала Элизиум и более или менее продолжительное время пребывала в миру, чем, конечно же, могла смутить покой наблюдательного какого-нибудь человека, случайно обнаружившего бы нерелевантную для данных условий места и времени тень, - и, следовательно... В общем, скандал. А если это к тому же догадливый человек? "Уложением №1 по Елисейским полям" категорически запрещалось провоцировать какие бы то ни было ситуации, способные натолкнуть догадливого человека пусть даже на тень-мысли об Элизиуме, на тень-мысли о теневой стороне жизни. И не только запрещалось, но и строго каралось при получении нежелательного результата. Нарушившая "Уложение №1" тень принудительным образом лишалась возможности в надлежащее время (по истечении срока пребывания в Элизиуме) вновь обрести носителя в подлунном мире и, следовательно, совершить еще одну полную земную жизнь. Методика наказания была хорошо отработана.
Впрочем, на Тень Ученого давно махнули тенью-руки: совершенно ненормальная тень так часто нарушала "Уложение №1", что вообще потеряла возможность хоть когда-нибудь обрести носителя. Этим, надо сказать, она нанесла непоправимый вред потенциальному своему носителю: носитель навеки был обречен оставаться лишь потенциальным, чтобы никогда уже не материализоваться вновь (какое там вновь-и-вновь-и-вновь!). Ведь носитель без тени мог бы стать в земной жизни лишь нечистой силой, на что, согласитесь, не каждый пойдет. Итак, Тень Ученого навсегда обрекла носителя оставаться лишь тенью, не способною перелиться в новую материальную оболочку. Зачем она это сделала?
Данный вопрос мучил Элизиум вот уже почти два века, но вразумительного ответа не было. Тень Ученого стала фетишем: на нее как на отщепенца, нарушавшего законы общежития теней, то и дело показывали тенью-пальца. Вступать с ней хоть в какие-нибудь отношения означало ронять достоинство, которое высоко ценится и в царстве теней. Тень Ученого даже не избегали - ее бежали, как чумы. Она сделалась первым и единственным мифом Элизиума - мифом о непослушании, о нарушении Единства. Миф этот так часто пересказывался, что вновь прибывающие тени даже не знали в точности, существует Тень Ученого реально или представляет собой некий абстракт, некоторый аморальный критерий. Она приобрела для Элизиума значение символическое.
Как относилась ко всему этому сама Тень Ученого? Она плевала на все это. И совершенно правильно делала, поскольку причины того поведения, которое было избрано ею, действительно весьма и весьма серьезны. Однако позвольте все по порядку...
Два века назад, в один из зимних на Земле месяцев Тень Ученого вступила, как принято говорить, в круг теней. После совершения всех необходимых в подобных случаях формальностей Тень Ученого была посвящена в звание Примарной Тени и причислена к Единству. Отныне Тень Ученого должна была изжить в себе индивидуальность и полюбить законы универсума. Впоследствии предполагалось обретение новой индивидуальности - правда, уже на Земле, где тень прекращала суверенное существование и соединялась с новым носителем... Этим правилам бог знает уже как давно подчинялись все обитатели Элизиума. Тень Ученого стала первой - и совершенно не предусмотренной паршивой овцой, портившей стадо. Склонность к неконформному поведению обнаружилась у нее еще тогда, когда она пребывала среди примарных теней. Тень Ученого совершила немыслимый по законам Элизиума поступок: она позволила себе вступить в контакт с тенью-не-человека. Нормы "сословной иерархии" Элизиума исключали возможность смыкания круга человеческих и круга нечеловеческих теней. Во втором круге объединялись тени неодушевленных объектов.
Причины разобщенности кругов уходили корнями в далекое прошлое и имели глубокий смысл... Известно, например, что в гробницы фараонов помещали не только самих фараонов, но и вещи, им принадлежавшие. Правда, заточали в эти гробницы и людей, что автор (вместе, как он надеется, с читателями) считает вандализмом, свидетельствующим еще и о полной некомпетентности современников фараонов в вопросах загробной жизни. А вот положение в гробницу вещей фараона можно только приветствовать: это было гениальной догадкой древних, смысл которой становится ясным лишь теперь, спустя тысячелетия. Действительно, объекты неодушевленные циркулируют между лучшим и, по-видимому, худшим миром гораздо энергичнее, чем люди и даже животные. И это естественно: сроки жизни неодушевленных объектов чрезвычайно продолжительны, а потому не грех и прерывать существование оных когда вздумается: уже через некоторое время они иногда даже в прежнем виде неизбежно снова возвращаются на Землю, поскольку, как правило, законов Элизиума не нарушают...
И благосклонные читатели мои - сами тому свидетели, только вряд ли обращают на это внимание и не задумываются особенно, почему потерянная нами вещь уже через несколько дней обычно возвращается к нам в том же самом или несколько измененном виде: она находится или попросту снова приобретается по случаю, даже если утраченный предмет более не производится. Частичное же несходство объясняется просто: вещь уже успела побывать в Элизиуме. Или другое: скажем, дерево или цветок, по каким бы то ни было причинам небезразличные для вас. Буря сломала дерево, цветок увял... или же вы просто уехали из тех краев, где дерево в лесу и цветок в саду, но вот что странно: в иной земле находите вы чуть ли не то же самое дерево, чуть ли не такой же самый цветок - и сердце ваше успокаивается. Однако если вы теряете любимого человека... Тут уж не найдете вы двойника и, дорогие мои, всю оставшуюся жизнь ловите себя на ошибках (простите-обознался), гоняетесь за подобиями, ищете знакомые детали - для того только, чтобы снова и снова убеждаться в неповторимости и невозвратимости утраченного вами, в неповторимости и невозвратимости никогда, никогда, никогда!..
Да что там человек - пес или кот и те исчезают навеки. Стало быть, правы власти Элизиума, не смешивая одушевленное с неодушевленным.
Впрочем, поступок Тени Ученого, вступившего в контакт с тенью-кисета, который заканчивал бог весть какое уже по счету пребывание в Элизиуме, был прощен и вскорости забыт. Тем более, что Тень Ученого с невероятной быстротой усваивала премудрости Элизиума и обучалась таким непростым вещам, как ускользание-образа-из-памяти-близких, утрата-портретного-сходства-с-сохранившимся-изображени-ем, исчезновение-образа-из-снов-родственников-и-друзей: все это необходимо, чтобы родные и близкие умерших постепенно забывали о них, - минимальные самопроявления были разрешены теням в холодном, что называется, режиме. Тень Ученого делала такие явные успехи для Примарной Тени, что казус с тенью-кисета просто в конце концов проигнорировали: никто, кстати, и не понял, чего добивалась Тень Ученого от тени-кисета, да и добиться чего бы то ни было от тени-кисета, как известно, невозможно.
Однако через некоторое время Тень Ученого позволила себе новую вольность. Она вдруг сбежала в мир и материализовалась там в качестве второй тени человека! В-т-о-р-о-й т-е-н-и ч-е-л-о-в-е-к-а!!! В один, понимаете ли, солнечный день... Никто, правда, не заметил, что у этого человека две как-то слишком уж явно разные тени, но ведь могли бы и заметить. Заметить, в сущности, было легко. Тень Ученого подвергли первому наказанию: время ее воссоединения с носителем отсрочили на десять лет. Странно, однако, что Тень Ученого нимало не огорчилась: ей, в общем-то, было не до того. Все помыслы ее сосредоточились на одном: хоть как-то поддержать на Земле воспитанника ученого, его ученика, единственную и последнюю его надежду. После смерти ученого тот остался в полном одиночестве - люди, которые при жизни считались друзьями ученого, сделались почему-то его врагами, а значит, и врагами ученика. И он отвернулся от них. Целыми днями метался он по улицам города, и не было для него утешения.
Дать знать о себе - вот что стало целью Тени Ученого. Дать знать о себе и дать понять ученику, что не один только раз живем мы на свете, а кажется, жили и еще будем жить... и еще, и еще, и вечно. Но как дать о себе знать? Прямой путь исключался: Тень Ученого уже утратила носителя. Оставались косвенные пути, оставались намеки: случайно найденный на дороге кисет (боже мой, тот кисет, тот самый кисет!), вторая тень у ног - знаки, знаки... Умеющий видеть да видит. Однако не удался опыт с кисетом: добиться от тени-кисета понимания оказалось невозможно, она упорно не желала взять в толк, что воспроизвестись кисету нужно в самом неподходящем месте - далеко от обычных путей ученика: ведь этот кисет с инициалами ученого за два года до его смерти случайно сгорел на глазах ученика... Тщетной оказалась и другая попытка: ученик просто не заметил второй тени у своих ног, потому что брел, и брел, и брел, и ничего не видел вокруг себя.
Времени, между тем, оставалось совсем мало: если сообразовываться с планами Элизиума, то изжить в себе индивидуальность Тень Ученого должна была уже очень скоро. Ее ждал универсум - и, растворившись в нем, Тень Ученого забыла бы о своем прошлом... Тогда-то она и вспомнила об Атлантиде.
Вот теперь наконец настала пора рассказать об Атлантиде - весьма и весьма загадочном явлении в истории Элизиума. "Уложением №2 по Елисейским полям" категорически запрещалось распространять какие бы то ни было сведения о затонувшем острове. Впрочем, остров напоминал о себе постоянно. Дело в том, что это был огромный остров, жители которого достигли немыслимо высокой степени цивилизации. А затонули они все вместе - все вместе и внезапно... Города и селения, постройки, сады и поля. Такого массового пополнения Элизиума тенями прежде еще не случалось - и на первых порах Атлантида была выделена в как бы самостоятельное государство, что, собственно, и было ошибкой Теней Руководства Элизиума. Государство принялось бороться за суверенность - к счастью, сугубо парламентскими методами, - и в конце концов его оставили в покое, распространив, правда, как уже говорилось, "Уложение №2'". Между прочим, в уложении этом запрещалось даже упоминать об Атлантиде, даже намекать на существование Атлантиды... А причина в том, что с самого начала на Атлантиде возникло странное поветрие: островитяне принялись изучать формы и способы контактов с тенями живых. Потенциально же каждая елисейская тень была склонна к таким контактам: у всех остались на Земле какие-то родные-и-близкие - и до той поры, пока елисейская тень не изживала в себе индивидуальность, воспоминания о них беспокоили ее.
Впрочем, слухи об Атлантиде все же просачивались в круг нормальных теней, даже несмотря на то, что уличенные в общении с островитянами отправлялись в ссылку - в область тьмы, где тень самоуничтожалась. Атлантида была для многих землей обетованной, мечтой, грезой. Есть-далеко-отсюда-страна...
Есть-далеко-отсюда-страна! Тень Ученого услышала эти слова, когда к концу подходил второй век ее пребывания в Элизиуме. Когда давным-давно случилось уже все, что могло случиться на Земле, - даже самое страшное случилось: покончил жизнь самоубийством ученик. Его доконали одиночество и враждебность окружающих. Некому было остановить его, только Тень Ученого оставалась с ним до последней минуты и постоянно посылала ему сигналы, тщетные какие-то сигналы, тем самым отсрочивая время повторного воссоединения с носителем на век, еще на два века, на десять веков... Да что там считать дальше века!
Но была Далеко-Отсюда-Страна: вот куда стоило стремиться. В той стране все иначе. Веками сохраняют островитяне связь с Землей, дорожат связью этой, приветствуют любые открытия, облегчающие контакты с живыми. Dahin, dahin !.. Там никто не станет посягать на твою индивидуальность - напротив: там будут заботиться о ней, пестовать ее. Надо искать дорогу к Атлантиде, надо искать. И дорога туда была найдена - правда, лишь через сто семьдесят лет.
На собрании Теней Верховного Руководства Элизиума вопрос о Тени Ученого обсуждался специально. Тени Судей проявили даже некоторую гуманность. Они оказались в состоянии понять, что означал ученик для Тени Ученого, или, по крайней мере, сделали вид, будто поняли это. Епитимья с Тени Ученого была частично снята. Естественным образом предполагалось, что после самоубийства ученика Тень Ученого остепенится и вскорости изживет в себе индивидуальность: ведь теперь уже никаких интересов на Земле у нее, вроде бы, не оставалось. Но не тут-то было: на решение собрания ответила Тень Ученого новой эскападой совершенно диких поступков. Какое изживание индивидуальности, помилуй бог! Она опять искала контактов, эта нелепая, смешная, бескорыстная тень: о, с кем-нибудь, теперь уже все равно с кем дать знать, намекнуть хоть одному из живущих-там, что не раз только рождаемся мы на свет, не два раза - много раз! И что все мы еще встретимся, правда, вряд ли узнаем друг друга, утратив прежнюю и приобретя новую индивидуальность, но ведь если очень постараться узнать...
Тень Ученого была убеждена: людям нужно сообщить об этом, знание такое никому не принесет вреда... нелепая, смешная, бескорыстная тень! Со-вер-шен-но ненормальная тень. Она приставала к случайным прохожим, к бродягам, нищим, убогим, да мало кто из них видел ее, а видевшие не разумели. Живые мертвых не разумеют.
Я не буду рассказывать и, честно говоря, не знаю, каким образом Тени Ученого все же удалось проникнуть на затонувший остров, но случилось это в 1971 году по земному летосчислению. Нечего было больше делать на Елисейских полях: Тень Ученого объявили тенью-нон-грата. Отныне ее могли поймать и истребить в любой момент. На воссоединение же с носителем был наложен окончательный запрет. Но спасительным кораблем всплыла тогда Атлантида... Привет, Атлантида, дом, кров! Тень Ученого и не подозревала, что у островитян существуют свои законы.
В соответствии с этими законами, например, тени-новички не принимались в круг теней Атлантиды. Дело в том, что по способу существования атлантические тени сильно отличались от прочих елисейских теней: еще в незапамятные времена на Атлантиде раз и навсегда отказались от повторных воссоединений с носителями. Ведь атланты давно исчезли из мира, становиться же тенями простых смертных... Впрочем, для Тени Ученого сделали исключение кстати, может быть, в пику Верховному Руководству Элизиума. Тень Ученого была причислена к кругу атлантических теней именно потому, что в Элизиуме ее объявили тенью-нон-грата, первой тенью-нон-грата в царстве мертвых; она, как и тени Атлантиды, уже распростилась таким образом со всеми своими будущими носителями сразу.
Правда, в награду за это Тень Ученого получила Знание. Знание сотен способов общения с живыми, из которых островитянами использовалась лишь малая часть - десяток-другой - и которые, как ни странно, разочаровали Тень Ученого. Это все были так называемые щ-а-д-я-щ-и-е контакты... Контакты в гомеопатических дозах. По мнению теней Атлантиды, прямое вмешательство теней в жизнь людей приносит вред. По мнению теней Атлантиды, слаб человеческий рассудок. Да, люди ищут связь с миром иным, с жадностью ловя любой сигнал оттуда, но, увы, сходят с ума, получая привет-с-того-света. Они боятся привидений. Боятся огней над могилами на ночных кладбищах. Боятся шорохов в темноте. Боятся снов об умерших близких. Но, как это было доказано на Атлантиде экспериментальным путем, больше всего боятся именно того, чего особенно хотят и о чем чаще всего молятся, - воскресения из мертвых. Широта взглядов (включая склонность к самым буйным фантазиям), уровень культуры, социальная принадлежность человека - все это не играет никакой роли, когда тень в облике прежнего носителя ненадолго посещает мир, воочию, что называется, представая перед тем, кто так просил небеса вернуть ему любимое существо. Ужас, неверие, протест - вот что встречает дерзнувшую воспроизвестись тень... те самые темные и слепые чувства, которые заимствуются людьми не у ближайших поколений, а непосредственно у пещерных предков. В облике прежнего носителя тень безопасно может являться, пожалуй, только к самым маленьким детям, да и то, вроде бы, неизвестно, как скажется воспоминание о таком визите на последующем развитии ребенка.
Всего несколько раз атлантические тени много веков назад испытали формы прямых контактов с живыми и поставили на этом крест. И приняли в торжественной обстановке клятву не прибегать к прямым контактам ни-ког-да. Нарушение клятвы считалось преступлением и наказывалось рассредоточением тени. Тень рассредоточивалась специальным способом, над разработкой которого трудились тысячу лет. Впрочем, за все время существования Атлантиды рассредоточению не подверглась ни одна тень: клятва не нарушалась ни разу. Щадящие контакты вполне устраивали обитателей Атлантиды.
Нечто во всем этом сильно смущало Тень Ученого. На первых порах не было времени разобраться, что именно: Тень Ученого со всевозможным рвением принялась осваивать разрешенные на острове формы контактов, тем более что набор их был весьма широк и включал в себя довольно эффективные и тонкие способы контактирования. Атлантические тени переняли у людей почту, телеграф, радио и телевидение - конечно, тоже на уровне теней. Так, в частности, появились тень-радио и тень-телевидения - с их помощью можно было передавать тени-звуков и тени-изображений. Мало ли какие голоса и сигналы блуждают по радиоволнам, мало ли какие затемнения появляются на телеэкранах!.. Лишь один раз в год (из осторожности) выходила в эфир передача "Радио Атлантиды" - сразу на нескольких наиболее распространенных языках... вернее, на тенях-языков, поскольку в произношении атлантических теней никакой язык не был представлен точно - возникал легкий акцент, напоминавший один из прибалтийских.
Понятно, что едва ли не с первого дня Тень Ученого активнейшим образом включилась в развернутую программу разработки новых форм контактов. Она пока не так уж много умела и понимала, однако заметила, что работа велась вяло и шла как бы по кругу, поскольку ничего принципиально нового не предлагалось: фактически вся деятельность сводилась к незначительному усовершенствованию уже известного. В любом случае, за несколько последних столетий Совет Атлантических Теней никого не наградил ни тенью-ордена, ни тенью-хотя-бы-медали. Островитянам явно был необходим приток свежих сил, но свежим силам сами же они и закрывали на остров дорогу, замкнувшись в эзотерическом своем государстве, лелея пусть и прекрасные, но давно уже оторванные от подлинных проблем человечества знания.
И поговаривали уже на Атлантиде о том, что изжила себя атлантическая вольница, и что во второй теперь раз зашла в тупик атлантическая цивилизация, и что неизвестно, какая стихия, но какая-нибудь стихия снова поглотит ее - вот тогда-то точно не останется от Атлантиды даже тусклого следа хотя бы и в царстве мертвых. Мало-помалу паника начиналась на острове - правда, не у всех еще, не у всех. Однако кое-кто сумел уже оценить тот факт, что за предельно короткое время пришлая тень - Тень Ученого сумела теоретически разработать и предложить на обсуждение в Совет Атлантических Теней проект абсолютно оригинальной программы, подобных которой не знала Атлантида.
Программа представляла собой совокупность форм взаимодействия с живыми, получившую название "контактной метаморфозы". Теоретические основы контактной метаморфозы были изложены Тенью Ученого в тени-манускрипта, одобренной Советом Атлантических Теней. У САТ, правда, возникла тень-сомнения в том, что контактная метаморфоза выдержит практические испытания, однако, по мнению Тени Ученого, дело было за небольшим проверить действие контактной метаморфозы на объектах и включить ее в состав щадящих форм контактов, обучив ей прочие атлантические тени.
Практические испытания контактной метаморфозы были вскоре разрешены впрочем, не без оговорок. Самую существенную из них Совет Атлантических Теней сформулировал как правило-выбора-объекта. В соответствии с ним выбор объекта полагалось осуществлять по принципу случайности: личные пристрастия не принимались во внимание. Личные мотивы нарушали бы чистоту эксперимента и обусловливали бы оценку его результатов с поправкой на родственные или дружеские чувства Тени Ученого. Так что избранный объект не должен был даже в прошлом находиться ни в каких отношениях с прежним носителем Тени Ученого: только соблюдение этого условия сообщало бы эксперименту необходимую чистоту, а также придавало ему статус сугубо атлантического эксперимента. Кроме того, предполагалось, что в ходе эксперимента Тень Ученого будет строить свою партию на категориях абстрактною гуманизма, не испытывая к объекту ни симпатий, ни антипатий. Появление же тех или иных чувств к объекту следовало рассматривать, таким образом, как фактор, снижающий научную ценность эксперимента. Повторный контакт с тем же самым объектом исключался.
Вознамерясь действовать в соответствии с этими обязательствами, Тень Ученого приступила к исполнению "контактной метаморфозы". Но ведь это была совершенно ненормальная тень..."
- Молодой человек... молодой человек! Библиотека закрывается, сдайте книгу, пожалуйста. Петр поднял глаза и не понял ни слова.
- Что, простите? - спросил он, может быть, даже по-немецки.
- Поскольку мы закрываем библиотеку, я прошу Вас сдать книгу, грузинская дама улыбнулась. - Дочитаете завтра.
- Завтра? - рассмеялся он и недоверчиво покачал головой. - Завтра... Интересное предложение.
- Тогда послезавтра... или... или когда сможете, - растерялась библиотекарша, не видя причин для смеха.
- Ни завтра не смогу, ни послезавтра, ни вообще когда-нибудь. - И совершенно безумные какие-то глаза: глаза собаки, забежавшей в универсам.
- Почему? - спросила библиотекарша, явно для того, чтобы хоть что-то сказать.
- Потому что завтра этой книги здесь уже не будет, вот увидите.
- Да я клянусь Вам...
- А если и будет, - перебили ее, - то написано в ней окажется совсем другое. Даже название изменится, помяните мое слово'
Внезапный оглушительный звонок, сигнализировавший окончание рабочего дня, как бы несколько отрезвил сошедшего с ума читателя. Он осмысленно взглянул на библиотекаршу и кивнул.
- Секундочку, одну секундочку!.. Я только наведу справку, это очень важно, подождите, ради бога!..
Библиотекарша отошла к столу, присела: ей сделалось немножко не по себе. Молодой человек листал страницы назад, но, по-видимому, не мог найти нужной строки. Он начинал заметно волноваться, все громче бормоча: тысяча-девятьсот-какой-год?-тысяча-девять-сот-семьдесят-первый-говорите?-тел еграф-телефон-радио-телевидение-говорите?-но-как-же-простите-Вы-это-говорите -когда-Вы-говорить-этого-не-можете-когда-Вам-до-семьдесят-первого-года-не-до жить-извините-ни-при-каких-обстоятельствах!-нет-но-Вы-позвольте-мне-уточнить -про-тысяча-девятьсот-семьдесят-первый-год-это-ужасно-интересно-просто-ужасн о-интересно!..
Библиотекарша взглянула на часы: без двадцати десять. А в зале -никого, кроме нее и сумасшедшего мальчика.
- Молодой человек, - получилось, что она пискнула. - Я не могу больше ждать, я права, наконец, не имею больше ждать, верните книгу. Вот, - увидев, что на нее не обращают внимания, она перешла почти на крик: - Вы слышите меня, молодой человек, верните книгу!
Не переставая листать страницы, Петр мельком взглянул на нее.
- Я-же-сказал-Вам-одну-секунду-завтра-будет-поздно!
- Из чего... нет, Вы объясните... из чего Вы это заключаете? - кричала библиотекарша.
В ответ раздался до странности резкий смех.
- Из того, - а в глазах безумие, форменное безумие! - из того, что говорил Он. Он говорил: в том-то и есть чертовщина жизни, что в течение получаса все может измениться на полную свою противоположность. Вы это понимаете? - Молодой человек больше не листал страниц: он в упор смотрел на библиотекаршу. От его смеха, от его взгляда у бедной женщины в животе настала зима. Несчастная медленно поднялась со стула, медленно попятилась к двери за ее спиной, вздрогнула, коснувшись ручки, и - за дверь. Только там переведя дух, она бросилась в отдел каталогов. Лелечка быстро просматривала библиографические карточки и бросала ненужные в мусорное ведро.
- Лелечка, милая... у меня сумасшедший мальчик в зале, он книжку не отдает, и смеется... и смотрит...
Коренастая и веснушчатая Лелечка-милая скомандовала: - Вы к этой двери - стоять, а я - через Вашу. Мы его оцепим.
Сумасшедший мальчик даже понравился Лелечке. Облокотившись на руку, он смотрел в книгу, лежавшую перед ним, а губы его немножко шевелились. Лелечка придвинулась ближе, еще ближе, но задержалась на безопасном все-таки расстоянии.
- Сдайте книгу, - распорядилась Лелечка голосом пионервожатой. - Мы закрываемся.
- Да-да, простите, сейчас, - он даже не взглянул на нее. Покачал головой и глухо сказал: - Все-таки семьдесят первый, м-да, - потом повторил: - Простите, иду. Иду. - И подошел к столу. И протянул книгу. И улыбнулся.
- Отложите, пожалуйста... до завтра.
- До завтра? - Лелечка повертела книгу в руках. - Нет необходимости, книга в открытом доступе, придете и возьмете.
Миловидный сумасшедший мальчик направился к выходу. Нажал на дверь, дверь не поддавалась. Нажал посильнее - в возникшей щели обозначилось бледное лицо.
- Вы сдали книгу? - беззвучно нарисовали в воздухе белые губы.
- Конечно, - шепотом ответил Петр. - Пустите.
- Все в порядке, - крикнула Лелечка в направлении двери. - Иди сюда.
Петр вышел и удивленно посмотрел на топтавшуюся у входа в зал даму-средних-лет теперь уже с красными пятнами на лице.
- До свидания, - сердечно произнес он.
- До сви... - пискнула та, а ...дания донеслось уже из подсобного фонда, куда библиотекаршу как ветром сдуло.
Внизу Петра отругали трижды: когда сдавал контрольный листок, когда получал сумку и когда протягивал номерок в гардеробе. Он не прислушивался к словам. В голове его было бы совсем пусто, если бы не кружилась в пустом пространстве упрямая одна мысль: завтра-книги-уже-не-будет, завтра-книги-уже-не-будет, завтра-книги-уже-не-бу-дет.
Он остановился у входа в метро и негромко сказал вслух: "Ее там и сейчас уже нет". Круговращение упрямой мысли прекратилось, и Петр не пошел в метро, а пошел по Моховой, то есть по Маркса, конечно же... мимо университета - привет-михал-василич! - мимо милиционера, стерегущего улицу Герцена пуще глаза, мимо "Националя", вниз - в переход под улицей Горького.
Необыкновенная, конечно, была книга, что говорить. Но содержание ее, скорей всего, надо забыть сразу же, сейчас. Просто выбросить из головы: иначе свихнешься. Петр потряс головой и вдруг не увидел своей тени. Вздрогнул, принялся озираться по сторонам. Ах да, слишком грязно под ногами... слякоть. Слякоть поблескивает. Откуда же взяться тени! Нет, не думать, не думать! Вся эта катавасия с тенями... сон-разума-рождает-чудовищ. Начал человек со случайностей - кончил тенями: ничего себе скачок! Дальше он запутается, наверное, этот С.Л. Хотя... S.L. означает, дай бог памяти, что-то вроде "без места издания". Без места, без года. То есть? То есть Везде и Всегда. Остроумный ход, а? Книга о Вечности... Книга Вечности. Конечно, глупо сопровождать Вечность выходными данными. Вечность-тысяча-восемьсот-такого-то-года, гм... Хотя, с другой стороны, у Рильке: von Ewigkeit bi Ewigkeit. Рильке-толстый-страниц-четыреста-это-немец кий-мне-пришлют... А не слишком ли много уже требуется забыть? И цыганку-с-карликом, и Станислава-Леопольдовича-с-Анатолием, и Книгу-Вечности... Эдак вообще-то и жить трудно: взять и выбросить из головы все самое интересное. Тем более что обнаруживается - и обнаруживается постоянно - прогрессирующая взаимосвязь событий. Эта сегодняшняя книга, которая, как Станислав Леопольдович, то и дело ловила его на еще не высказанных мыслях, а потом прямо-таки взорвалась монологом самого Станислава Леопольдовича... все неспроста, неспроста. И в довершение ко всему книга "забыла", какого она века, "проговорилась" об актуальном настоящем, начала путать следы, но не тут-то было: Петр успел поймать ее на оговорке!
Эта прогрессирующая взаимосвязь событий... Темная взаимосвязь, темная. Одно откликается в другом, перекличка не прекращается, но непонятно, где источник звука; непонятно, что звук, что отзвук, и плохо слышно, о чем шумят. Однако шумят ведь, шумят - и долетают из шума этого отдельные фразы, слова отдельные, и хватают за душу, а потом бросают душу - одну, на снегу, посередине Москвы. Снова ничего не слыхать, как вдруг - опять далекий какой-нибудь гул, сперва еле различимый, но постепенно нарастающий, разрастающийся: нет, не забыли еще о душе твоей, помнят еще, стерегут пока твою душу, чтобы не пропасть ей, не заблудиться одной, в снегу, посередине Москвы. То одно подбросят, то другое: лови, мол, поймаешь - твое. Уметь бы еще читать эти знаки-внимания, эти знаки... Знаки-знаки-подлинные-знаки-вот-чего-мы-напрочь-не-умеем-воспринимать! А может быть, никуда и не исчез он, Станислав этот Леопольдович? Пробрался, может быть, хитроумным каким-нибудь путем в самую твою душу - живет там поживает, добра тебе наживает! Или вот... тенью стал и сопровождает тебя в ночной этой прогулке. Петр поискал вокруг себя: обнаружил две тени. Одна сбоку, почетче, другая - чуть правее, более размытая, более светлая, что ли. Станислав Леопольдович, ау!..
Побеседуем? У меня к Вам есть теперь один вопрос: знаете книгу такую, про Элизиум? А не Вы ли, например, эту книгу написали? Тогда еще скажите: найду я ее завтра или нет? Очень желательно было бы дочитать, а то пока непонятно, к чему Вы клоните, если, конечно, это Вы клоните, если не кто-нибудь другой клонит. Но едва ли другой: слишком уж точно удар рассчитан - прямо в сердце, прямо в мое. Это ведь меня метафизика всегда интересовала больше, чем физика. Это ведь я готов идти за любой бредовой идеей - и тем дальше идти, чем она бредовее. Это ведь для меня здоровая психика и крепкий ум отнюдь не представляют собой непременных достоинств личности... И многое, многое, многое другое.
Значит, что же... Сегодня некто-из-Вечности (без-места-без-года) обратил мое внимание на теневую сторону жизни. Стало быть, искать надо там: там, скорей всего, и сосредоточено то, для чего я никак не могу найти точной формулировки и вообще никакой формулировки не могу найти. Кажется, это никак и не называется. Нечтотакое. Какая-то добавка к жизни, которая одна способна придать ей смысл и оправдать однообразную и, в сущности, унылую череду дней, месяцев, лет. Кордамон-корица-гвоздика. Приправа! - покупайте-приправу!.. Запах приправы поманил меня сегодня. И я пошел на запах, но не успел проделать весь путь: кончился день, и продавцы разошлись по домам, унеся с собой травы - и мою траву, а я теперь не знаю ее имени. Впрочем, вот... мята. Привкус мяты во рту. Это было позавчера, шестнадцатого января, и вчера, семнадцатого: вот и сегодня это вернулось ко мне в библиотеке... И сейчас. Что я знаю о мяте? Ни-че-го. Нет, почему же: "Их родина - дремучий лес Тайгета, Их пища - время, медуница, мята". А вот и синонимический ряд, где время и мята вместе! Наверное, время дает мятный привкус - время в смысле вообще время, вечность. Мандельштам очень мятный, да... "Когда Психея-жизнь спускается к теням, В полупрозрачный лес, вослед за Персефоной..." Ну да, именно так: время, мята. Элизиум. Елисейский привкус. Петр вздрогнул, повернув голову вправо: Елисеевский магазин. Это уже просто ни в какие ворота...
- Das soll sein, weil das nicht sein kann!** - со смехом произнес кто-то за спиной Петра. Петр обернулся и еле удержался на ногах: группа хохочущих немцев, налетев на него, чуть не повалила его на землю. Однако тут же подхватили Петра под руки - опять-таки смеясь.
______________
** Это должно быть, потому что этого быть не может! (нем.)
- Кушя маля! - пропел звонкий женский голос и, тщательно артикулируя: Исфинитэ-пошялюста!
- Oh, ich muss doch um Verzeihung bieten ... ich bin schuld daran !*** - тоже со смехом ответил Петр и посмотрел на толстяка, одетого в зеленый Loden*****. - Кажется, это на Вашу фразу я обернулся...
______________
***О, я сам должен извиниться: моя вина! (нем.)
*****Тип пальто со встречной складкой на спине.
- Клаус, - представился толстяк и, гордо похлопав себя по груди, добавил: - На мою. Тут, кроме меня, никто ничего интересного сказать не может.
- Вот как, оказывается, - сокрушенно вздохнула бабуля с голубыми волосами и узко развела ручками под хохот остальных.
- А что? - напыжился толстяк. - Не так уж часто можно услышать на улице что-нибудь стоящее! Правда ведь, молодой человек? - Он подмигнул Петру крохотным развеселым глазом.
- Истинная правда, - грустно кивнул тот.
- Вот видите? - загремел толстяк на всю улицу Горького. - Оценить меня способны только в России... По достоинству, я имею в виду.
- А Вы кто? - спросил Петр.
Толстый Клаус потупился, потом вскинул на Петра виноватые глазки и с огромным сожалением произнес:
- Увы, молодой человек... я капиталист. Живу на доходы с акций.
- Он паразит, - сказал высоченный блондин откуда-то с неба. - Ему бы раньше сюда приехать: уж точно оценили бы по достоинству!
Они немножко слишком выпили, эти немцы, и теперь расхаживали по безрадостной ночной Москве - сырой, бесприютной, полной закрытых магазинов и закрытых кафе... Москва-столица-мира. На следующий день они должны были уезжать и увозить с собой самые-при-ятные-впечатления. Петр немножко погулял с ними по Горького.
На прощание симпатичный капиталист отколол от пиджака большой круглый значок:
- Это Вам, Петер. От фирмы, с которой я стригу... как их... купоны. Она выпускает музыкальные инструменты. Будьте здоровы и не падайте на улицах.
Распрощались у входа в "Националь". Оставшись один, Петр на свету рассмотрел подаренный ему значок. На ослепительно белом фоне - что-то вроде флейты, под ней - огромными синими буквами - название фирмы.
Прежде чем закончить эту главу, автор хочет сообщить читателям, что только через много дней Петру удастся снова попасть в библиотеку. Еще неизвестно, получит ли он там "Руководство...", - даже с учетом того, что оно действительно в открытом доступе. Впрочем, может быть, в книге этой и нет того, чего Петр от нее ждет, - как знать! И принадлежит она, скорее всего, не Станиславу Леопольдовичу, а например, какому-нибудь философу-мистику какого-нибудь XVIII века...
"Но к концу я не помню уже, чтобы шрифт был готическим", - вздыхает Петр, спускаясь в подземный переход.
Глава ЧЕТВЕРТАЯ
Один ЗНАКОМЫЙ Бог
- Следующий!.. Здесь-билеты-сюда-зачетку-так-номер-шестнадцатый-очхорош о!.. Продолжайте-продолжайте-почему-вы-замолчали?
Последние слова относились уже не к Эвридике, которая, держа в руке экзаменационный билет "номер-шестнадцатый-очхорошо", отправилась за столик к окну, а к студентке по фамилии Гаврилова. Она исподлобья глядела на Сергея Борисовича (Парисовича, как называли его студенты: он преподавал античную литературу... - плохо) - тот вконец измотал ее, добиваясь каких-нибудь еще сведений о Гомере.
На ходу дочитав билет, Эвридика присела на краешек стула: ей можно было не готовиться. Первый вопрос - периодизация античной литературы - оказался тем самым, который (в отличие от прочих вопросов) она знала назубок: не слишком основательно готовясь к экзаменам, Эвридика, помнится, все никак не могла сдвинуться с места, постоянно пробегая глазами один и тот же параграф в учебнике - "Периодизация античной литературы". Второй вопрос был сформулирован так: "Образ Орфея в древнегреческой мифологии". Образ, стало быть, того самого героя, который "чуть-ли-не-качал-мою-колыбель", усмехнулась про себя Эвридика. Это Орфей был виновен в том, что она, Эвридика, превратилась когда-то давно в каменный столб, - так вот теперь и живет... каменным столбом в аду. Все детство, все бесконечно долгое мучительное детство бабушка рассказывала ей на ночь второй вопрос ее билета - "Образ Орфея в древнегреческой мифологии", причем рассказывала очень и очень странно... Помнишь-Эвридика-что-с-тобой-было-раньше-давным-дав но-до-твоего-рождения?.. Лет, наверное, до двенадцати, если не больше, Эвридика и в самом деле пребывала в полной уверенности, что это святая правда: про подземное царство, про царя Аида, про Орфея... про голову его, плывущую по Гебру. И так страшно далее... Временами тогда ей казалось, даже сейчас иногда кажется, что она помнит и сама: танцы на зеленом лугу, подземное царство, музыка Орфея... Но он обернулся - и все тут же пропало, как не бывало. А условие ставилось одно - не обернуться.
Заметив, что изрядно потрепанная в неравном бою Гаврилова чинно покидает аудиторию, видимо, вынудив все-таки Парисовича поставить ей тройку, Эвридика приподнялась: можно? - и перешла за стол к Парисовичу: других желающих не оказалось. Она глубоко вздохнула и, с короткими передышками, полетела по периодам, боясь только одного - остановиться: остановишься потом с места уже не сдвинуться, застопоришься на первом попавшемся звуке... особенно "т"... или "п"... или "к"... Не думать! Периоды сошли благополучно - и подозрительный Парисович расслабился: он, кажется, любил науку главным образом за то, что она устанавливала периоды - огромное количество периодов, дикое количество! Парисович неприятно улыбнулся Эвридике и кивнул, поощряя ее ко второму, уже не интересному для него по причине отсутствия периодов, вопросу.
- Образ Орфея... - выпалила Эвридика и тут же поняла, что больше ничего не скажет. Она опустила голову и прочитала на столе афоризм, выцарапанный, должно быть, Гавриловой в припадке отчаяния: "Экзамен страшнее дефлорации". Эвридика вздохнула и перевела взгляд на Парисовича, немедленно, однако, пожалев об этом: перед ней сидел врач-педиатр.
- Так что же образ Орфея? - вкрадчиво спросил врач-педиатр.
- А н-н-ничего, - резюмировала Эвридика краткое свое выступление.
- Вы не знаете второго вопроса! - возликовал врач-педиатр, стремительно превратившийся назад в Парисовича.
- Ну и что? - поинтересовалась Эвридика, не без любопытства поглядывая на метаморфозы Парисовича. Парисович забеспокоился. Заерзал.
- Ну и... ничего. - Он медленно и некрасиво розовел.
- Не волнуйтесь, - посоветовала Эвридика.
- Я и не волнуюсь, - тихо, но запальчиво, черт возьми! - А почему Вы не знаете мифа об Орфее?
Эвридика подумала о том, почему бы она могла не знать мифа об Орфее, но ничего не придумала.
- По личным причинам, - схулиганила она и потупилась.
- Извините, - рефлекторно отреагировал воспитанный Парисович, сразу же и рассердившись на себя за такую реакцию. Педагог победил в нем человека, и педагог порекомендовал: - Вы подумайте. Могу Вам помочь, учитывая, что Вы блестяще справились с первым вопросом. Скажите, например, пожалуйста, кто он вообще был - этот Орфей? Эвридике наскучило играть с Парисовичем.
- Музыкант, - хмуро сказала она.
- Прекрасно! - чуть не описался Парисович. - А какой музыкант, - он так налег на слово "какой", что оно чудом не треснуло, - обыкновенный?
- Н... н-необыкновенный.
- А в чем заключалась его необыкновенность? Он как играл? Подумайте хорошенько и скажите.
- П... п-прекрасно он играл, совершенно замечательно... д-даже Аид н-не выдержал.
- Все-то Вы знаете, - обиделся вдруг Парисович, как-то даже разочаровываясь в Эвридике. - Чего Вы капризничаете? Рассказывайте сами.
Что ж это за несуразная форма взаимоотношений - экзамен!.. Надо ведь было такое придумать: чтобы один человек рассказывал другому человеку то, что другой человек и без него знает! Этакая дурацкая игра для дошкольного возраста...
- М-м-меня зовут Эвридика, - неожиданно для себя сказала Эвридика и отвернулась от Парисовича.
- Это не освобождает Вас от необходимости знать материал.
Ну и ну... Да он просто идиот. Эвридика замолчала.
- Хорошо, продолжим, - оживился Парисович. - А у Орфея была кто?
- Ж-жена.
- А как звали жену Орфея?
- Эвридика ее звали, - почти простонала Эвридика.
- А что случилось с Эвридикой, женой Орфея?
Эвридику уже бесконечно утомила эта его манера - чуть ли не каждый вопрос начинать с "а".
- Ну, умерла она... - И через паузу: - П... п-послушайте, отпустите меня, п-пожалуйста!
- Не-е-ет, (- недаром Мерль назвал экзамен "садо-мазохистским актом"! -) сначала Вы мне все расскажете! А где умерла Эвридика?
- На зеленом лугу! - чуть не плакала уже девушка.
- А кто укусил Эвридику?
- Собака б-б-бешеная, - крикнула Эвридика.
- А вот и нет. - И вздох... нет, выдох облегчения, как будто он из омута вынырнул, Парисович этот.
- М... м-можно м-мне уже...
- Довольно ставить условия! - заорал Парисович и на слове "условия" дал петуха, да какого!
- Змея ее укусила, змея, - испугалась за Парисовича Эвридика и уже самостоятельно, с нежностью почти, продолжала: - И Эвридика попала в Тартар, а Орфей за ней п-п... пришел, но Аид не хотел отпускать Эвридику, и тогда Орфей заиграл, т-т-тут Аид говорит: я отпущу, д-д... дескать, Эвридику... и-п-пусть она идет за т-т-тобой, т-т-только ты не оборачивайся.
Эвридика умолкла, ощутив просто-таки космическую глупость пересказа этого и думая о том, кто у Парисовича жена.
- А Орфей не обернулся?
И вдруг Эвридика заплакала. И закрыла лицо руками. И тушь, конечно же, потекла, но дело не в этом. Бабушка-на-краю-кровати-до-вольно-уже-я-наизусть -знаю-свою-историю-теперь-я-каменный-столб-оставьте-меня-в-покое... Безжалостно размазывая тушь, Эвридика заговорила жестко и монотонно:
- Орфей не обернулся, он хотел обернуться, но не обернулся, и Эвридика не стала каменным столбом, и...
- Вы свободны, - перебил Парисович, платком вытирая лысую голову. - Вы можете идти! Вы... я уже поставил Вам отлично... До свиданья!
- Нет-нет. Вы же просили, а потом Орфея не растерзали мойры, и голова его не была брошена в Гебр, и она не плыла по Гебру, и лира не уверяла: мимо! а губы ей вослед: - увы, и Орфей вообще не сошел в Аид - сам, а послал лишь голос - свой! только голос послал во тьму, сам на пороге лишним встав, Эвридика же по нему, как по канату, вышла.
И она поняла, что ведет себя глупо. Поняла и сказала: - Извините. Извините, Сергей Борисович. - Взяла зачетку и вышла из аудитории.
- Что это с ней? - спросил Парисович у оставшихся.
- Она же Вам сказала, что ее зовут Эвридика, - охотно откликнулась Света Колобкова, безбоязненно засовывая шпаргалку в бюстгальтер. - Не надо было так. - Она повела плечиками, чтобы привести бюстгальтер в надлежащее состояние, и укоризненно покачала глупой своей головой.
Парисович сделался пунцов. Парисович тоже повел плечиками, словно и на нем был бюстгальтер.
А Эвридика шла по коридору и больше не плакала. Надо-смыть-тушь-стыдно-так-идти-с-тушью-на-лице-размазанной. Зашла, смыла, посмотрела в зеркало, сказала себе: - привет! - улыбнулась как могла; девушка-закурить-не-будет? Я-не-курю-к-сожалению; вот уж что верно - то верно: к сожалению; вышла, постояла, посмотрела в окно, там январь и ничего больше. Тряхнула головой и отправилась к телефону - как в костер. Набрала номер.
- Его нет дома. Что-нибудь передать?
Что ж тут передашь...
- Нет, спасибо. А когда вернется, Вы не знаете?
- Я этого никогда не знаю, - весело сказали там. Вы можете оставить свой телефон.
- У меня нет телефона. - "Не обманешь-не-проживешь-гм..." - Я позвоню сама. Позднее. Спасибо.
Надела пальто, - красивая-все-таки-шаль-молодец-Юра-Пузырев-улица-Юныхленинцев-и-проч., шагнула под снег: холодно, сыро. Между прочим, худо-бедно сдала экзамен, можно поздравления принимать и кутить. Кутить пойдем в кафе "Мороженое", там и накрасимся: в ту-а-ле-те.
Вот так, значит. Ну что ж: очхорошо.
И красивая-прекрасивая Эвридика, забыв обо всем, вошла в зал. Сколько людей, оказывается, ест мороженое в январе, удивительное дело, а вон и наш молодой человек - и надо бы нам еще раз ему понравиться, тем более, что мы нынче в шали. Зачем он все-таки здесь работает, в этом кафе? Как-то оно несерьезно... хотя, конечно, ему решать, я-то тут при чем, мое дело нравиться.
- Здравствуйте: маленький двойной, пожалуйста, - и улыбнемся. А в очереди за ней никого нет, и молодой человек тщательно варит маленький-двойной, от смущения повернувшись спиной к Эвридике, между тем как ему спиной кофе варить неудобно. Эх-ма!.. Надо что-то менять в жизни, давно уже надо что-то менять: очень тоскливая жизнь.
Кофе сварен и протянут.
- Спасибо. Вам, простите, сколько лет?
- Двадцать, - с трепетом в голосе. А самому, конечно, восемнадцать, если не меньше. Сразу после десятого класса варит человек кофе. И в ус себе не дует.
- А мне двадцать два. - Эвридика кисло улыбнулась. - Вас как зовут? - С ним можно не заикаться: все равно что с детьми.
- Александр. (Хм... царское имя).
- Очень приятно. Галя.
- Га-аля?
- Галя. - Она попробовала кофе: кофе, видимо, тройной. - Что-нибудь не так?
- Да нет... Только мне казалось, что у Вас должно быть какое-то очень... очень необычное имя. - И - спеша исправиться: - Но и Галя - очень хорошо.
- Спасибо. - Эвридика опять улыбнулась, теперь веселее. - А знаете что, Александр... Я вот подумала, почему бы Вам не предложить мне выйти за Вас замуж?
- С Вас двадцать четыре копейки. Если больше ничего не берете. - И стал прилавок вытирать: дитя дитем.
- Тут двадцать пять. - И, подмигнув ему: - Сдачу оставьте себе, богатым будете.
За столиком - мама с ребенком: сюда и сядем.
- Тетя пришла.
- Ешь спокойно!
Ну вот, села, называется... Но сесть ведь больше некуда. Впрочем, ребенок ест - спокойно, как велели, тетей больше не интересуется, мама смотрит ему в рот - красота. В окне все то же: январь. Бармен-или-как-его-там обиделся, чудак человек. Почему его на эту работу приняли, он же профнепригоден, он же дитя - вроде вот... который с мамой и ест спокойно. Другой бы на его месте - вечерочек, телефончик, разговорчик... И было бы с ним все ясно: бармен он и есть бармен... простите, пожалуйста, я пошутила неудачно, настроение плохое, а вообще-то я замужем и у меня восемь детей: мать я героиня... и все такое. А тут - с Вас двадцать четыре копейки, и давай прилавок вытирать. Конфуз. Странно: нормальная человеческая реакция, э-ти-че-ски со-сто-я-тель-на-я. Притом что кругом все мерзко и мерзко. Надо будет подойти к нему: пусть не думает, что я серьезно. Как-то это даже принципиально важно, чтобы он так не думал.
Эвридика открыла сумку - неизвестно зачем. Ах, вот зачем: там жвачка португальская - отец принес откуда-то, сказал: жуй... смешной отец.
- На тебе, ребенок, жвачку португальскую.
Хороший все-таки ребенок: ест - спокойно, ручку протянул - ладошкой кверху, жвачку сразу маме отдал.
- Ой, спаси-ибо! - это мама, конечно. - Что надо сказать девушке? Ну!
- Ничего не надо сказать девушке, - подмигнула Эвридика ребенку, а ребенок ей подмигнул. Мама в это время спрятала жвачку к себе в карман: сама она, что ли, ее сжует?
- До свиданья, - Эвридика щедро улыбнулась обоим, быстро подошла к стойке, облокотилась на нее. Александр взглянул исподлобья. - Вы не огорчайтесь, что так по-дурацки получилось: на самом деле я немножко лучше, чем кажусь. - И пошла к выходу. Обернулась: Александр улыбался во все лицо и махал рукой - дескать, еще приходите, всегда приходите... Дитя дитем. Надо было и ему жвачку, да больше нет. Привет, Александр, который-абсолютно-не-интересует-меня! Пока.
Статский - вот кто интересует меня. Эвридика шла по улице и опять думала о Статском; опять - это потому, что она о Статском теперь уже часто думала. Очень хороший Статский: никакой. Замечательно, когда никакой просто нормальный, милый, грустный немножко. На факультете его не видно... может, он вообще с другого факультета. Нет, вряд ли с другого: он гуманитарный очень. В свитерке каком-то смешном, волосы в разные стороны, шарф длиннющий. Плохо, что я ни с кем никогда не знакомлюсь, - она усмехнулась: вот с "Александром" только бес попутал! - а то был бы круг какой-нибудь общий... Послушай-а-ты-Статского-не-знаешь? Статского?-конечно-знаю-он-сегодня-ко-мне-придет-ты-ведь-тоже-обещала? Обещала-приду-обязательно! Так ведь и бывает у нормальных людей. Но для этого надо как минимум считаться нормальным человеком. Каковым я не считаюсь. И поделом мне. А вообще-то со Статским лучше не знакомиться. Эвридика опять усмехнулась: иметь-и-потерять или ждать-и-не-дождаться... Женитьба Бальзаминова. Не надо знакомиться со Статским: пусть так и остается - молодой человек из "Грустного вальса", и все. Романтический, извините за выражение, образ.
Она опять оказалась около университета: глупо как... Попробовать еще раз позвонить? Достала две копейки, набрала номер, состоящий почти из одних восьмерок.
-Да-а. (- Значит вернулся? Ну, что ж...)
- Здравствуйте. С Вами г-г-говорит Эвридика.
- Я понял. Добрый день, чем могу служить?
- Служить?.. Ну да. Я д-д-должна... я д-должна п-п-попросить Вас...
- Не нервничайте, Эвридика, что Вы?
- Я, видите ли, д-думала - много. Я ходила по улицам и д-думала обо всем. Я твердо решила, я т-т-т... т... т-т-т...
- Твердо решила, Вы хотите сказать. Послушайте, Эвридика, давайте Вы сначала успокоитесь, а потом позвоните...
- Я с-спокойна, к-как к-каменный столб. Я твердо решила просить Вас об одном одолжении. П-пожалуйста, убейте меня уже.
- Вы с ума сошли! Эвридика. Я не хочу продолжать этого разговора!
- П-п... п-о... подождите, я... я ведь знаю, что Вы м-можете убить, что в н-некотором смысле это даже Ваша профессия. В-вп-впрочем, мое д-дело сторона - я не берусь с-судить и не за этим звоню. Мне надоело все - мое имя, мое заикание, моя скрипка, моя шаль с японскими цветами!
Некоторое время абонент молчал.
- У Вас истерика - и Вы... Вы уже не первый раз звоните в таком состоянии, Эвридика. Скоро я, кажется, начну сожалеть о том, что поставил Вас в известность о некоторых вещах...
- И т-т-тогда, - охотно подхватила Эвридика, - т-тогда же Вы все равно меня убьете... ведь рано или поздно Вы д-должны меня убить, я же п-п-понимаю, не д-дурочка совсем... И, к-кроме т-т-того, Вы д-действительно п-поступили опрометчиво, к-когда рассказали мне, Вы вообще зря это сделали: я н-не гожусь для Вас, я все Вам испорчу.
- Когда бы Вы хотели, чтобы я выполнил Вашу просьбу? - абонент казался заинтересованным.
- С-сейчас, н-немедленно. Или нет, лучше к вечеру. Хотя...
- У меня такое чувство, что по-настоящему Вы не решили еще ничего.
- Господи, да что Вы обо мне знаете!.. Я же н-не т-т-такая совсем, к-как Вы себе напридумывали, - я ведь живой ч-человек, и у меня д-д-должна быть к-какая-то история, и в конце-то концов я имею п-право на собственную жизнь. Тем более, что Вы в-взяли меня, т-так сказать, уже в готовом виде, а распоряжаетесь мной, к-к-как Вам угодно, словно я всегда Вам п-принадлежала... И вспоминаете обо мне т-только т-тогда, к-когда я Вам нужна, - не чаще. Н-надо что-то менять: или отпустите меня на все ч-четыре стороны... но Вы этого н-не сделаете!.. или к-как я Вам п-п-предлагаю д-другим п-путем освободите меня от всего.
- Вы слишком устали, Эвридика. Это я виноват: я взвалил Вам на плечи... ну ладно, неважно. Хотите в Крым? Или нет - в Сицилию, а еще лучше - на Корсику? Я дам Вам все - друзей, денег, я оставлю Вас в покое, хотите?
- Н-нет.
- А как же Статский?
Статский?
И уже через несколько секунд Эвридика смеялась неприятно и хрипло:
- Дура я, к-какая дура!.. Я ведь, г-грешным д-де-лом, решила, что Статский - это извне, что он не имеет отношения к нашим п-проблемам. - Смех сбивался на плач - и некоторое время они боролись в трубке, смех и плач, а потом наступила тишина.
- Эвридика!.. Эвридика, подождите же... давайте я познакомлю Вас со Статским, он должен Вам понравиться. Правда, он немножко... как бы это сказать, - ну, отрешенный, что ли... Статский, видите ли, наблюдатель: потому Вам, наверное, и показалось, что он извне. Одним словом, аутсайдер прямо из "Степного волка", только гораздо моложе, а вместе с тем, пожалуй, закоренелее... если есть такое слово. Вы же должны понимать; Ваше ведь поколение... лучший, что называется, представитель - совершенно безынициативен, интроверт чистой воды, всегда в стороне от всего. В общем, социально непродуктивный тип с потенциями бродяги. Антиобщественная, антиколлективная, антикомпанейская личность - как раз то, что Вам надо, соглашайтесь.
Это и в самом деле было как раз то, что надо Эвридике, - и она сказала высохшим уже голосом:
- Спасибо, н-не нужно меня ни с кем знакомить, г... г-глу-бокоуважаемый сводник. У м-меня от т-таких п... предложений сразу п-пропадает всякий интерес к кому бы то ни было.
- Вы больше не плачете?
- Я смеюсь. М-да... Только вот иногда д-думаю: к-к-какие счастливые люди - те, к-кто п-пребывает вне Вашего круга! Они имеют возможность жить к-как нормальные люди: Вам они не п-попались.
- Но... Эвридика, голубушка, все ведь до поры: мне не попались - еще кому-нибудь попадутся. Все мы в конце концов попадемся. И потом... скажите, разве я плохо к Вам отношусь? К другим относятся гораздо, гораздо хуже считайте, что Вам повезло, дорогая моя. И не завидуйте тем, кто пребывает, как Вы изволили выразиться, вне нашего круга: жизнь их буднична, Эвридика, у них всегда масса проблем, которые Вам и неведомы. А у Вас есть все, что Вам нужно, и даже еще чуть-чуть. Я ведь готов исполнить любой Ваш каприз капризничайте! Скажите, например, чего Вам сейчас хочется?
Эвридика промолчала.
- Вот видите... А на счет того, убью я Вас когда-нибудь или нет, - это уж от Вас зависит: от того, как Вы будете себя вести, как научитесь жить. И, кроме всего прочего, убивать - это, видите ли, не моя профессия. Не отрицаю, что я могу прибегнуть к такой крайности, но только как к крайности: когда совсем уже не удается договориться, когда меня отказываются понимать... и прочее.
- Послушайте, - осенило вдруг Эвридику, - а не уехать ли Вам самому в Крым? В Сицилию, на Корсику?
- Да нет, спасибо... У меня сейчас дома ремонт. И потом, я ведь тоже не отвечаю за себя сам.
- Вы? - Эвридика даже закашлялась. - Вы?
- Поверьте мне. Пока на слово. Может быть, когда-нибудь попозже... впрочем, умолкаю. Так что же, познакомить Вас со Статским?
- Ни в к-коем случае, б-благодарю Вас. А Вы расскажете ему о нашем разговоре?
- Да бог с Вами, я никогда не передаю никакой информации от одного к другому в пределах нашего круга, будьте спокойны.
- Что ж, это даже к лучшему. Т-так, значит, Вы решили н-не убивать меня п-п-пока?
- Разумеется, - облегченно вздохнула трубка. - Живите.
- Ну, т-т-тогда... т-тогда я п-пойду жить. Целую Вас, странный Вы ч-человек!
И, развернувшись в автомате, Эвридика нос к носу столкнулась со Светой Колобковой: похоже, что, стоя у полуприкрытой дверцы, Колобкова слышала весь разговор.
- Света Колобкова, - вздохнула Эвридика, нельзя-подслушивать-чужие-разговоры-читать-чужие-письма-подглядывать-в-замоч ную-сква-жину. Привет!
-А я и не подслушивала не подслушивала, - жарко залепетала Света Колобкова, изо всех сил держа Эвридику за рукав (не вырываться же, в самом деле!). И - полетела на одном дыхании, только изредка переводя дух, чтобы не умереть от асфиксии: - Я хотела сказать тебе одну вещь когда увидела как ты идешь к автомату и побежала за тобой но не успела а ты уже говорила (вдох) Парисович очень смутился я ему напомнила что тебя зовут Эвридика и он сидел красный весь а я ведь поняла почему ты так расстроилась этот миф об Орфее он для тебя слишком личный да? (вдох).
Эвридика давно уже не слушала - только согласно кивала, стараясь попадать в периоды вдохов, потому что на выдохе Колобкова смотрела прямо перед собой, даже если собеседник перемещался, и могла не заметить кивков. Очередной вдох оказался затяжным: Колобкова вплотную приблизила широкое личико к Эвридике - глаза в глаза:
- Как я понимаю тебя Эвридика (- да уж ты, Колобкова Света, все понимаешь, что особенно ужасно в тебе! -)... - и понеслась душа в рай! Колобкова порождала текст с такой скоростью, как будто через минуту должна была улететь на далекую звезду, откуда она никогда уже не вернется. - Я и не думала подслушивать но когда ты сказала убейте меня я больше не могу жить я ужасно начала волноваться сама посуди (вдох) до чего же ты интересно живешь ты живешь полнокровной жизнью у тебя такие знакомства я всегда знала что ты необыкновенная что ты нам не чета (вдох) я так поняла что он тебя содержит и это может быть совсем не так плохо в нашем положении иметь человека который ради тебя на все готов но на твоем месте и я бы сказала или убей или отпусти иначе я тебе испорчу жизнь и себе испорчу (- не задохнулась бы, испугалась Эвридика, однако последовал вдох - слава богу!).
- Ты высказалась? - Эвридика очень удачно встроилась в паузу. - Тогда всего хорошего, я спешу, извини, - и к троллейбусной остановке, бегом.
- Постой, - догнала ее Колобкова, - я понимаю тебе не до меня у тебя трудный период и не буду навязываться но ты скажи мне только одно и я тут же исчезну кто это с тобой говорил? (вдох).
Эвридика поняла, что не услышь Колобкова ответа - тут же упадет замертво, и, скроив беспримерную морду, заявила:
- Да так... один знакомый бог.
- Понима-а-аю, - присела Колобкова, истратив на это свое "по-нима-а-аю" все ресурсы неистощимых, казалось, легких.
Подошел троллейбус - и Эвридика уехала в бессмысленном направлении. Она только слегка повернула голову - посмотреть, что сталось с Колобковой: та стояла на краю тротуара, и грудь ее вздымалась до неба... Бедная-ты-моя-Колобкова-ничегошеньки-то-нет-в-твоей-жизни! "И не завидуйте тем, кто пребывает, как Вы изволили выразиться, вне нашего круга: жизнь их буднична, Эвридика". Как грустно, если он прав, этот один-знакомый-бог! И неужели вправду есть единственный только способ относительно пристойного (не то чтобы полноценного - просто пристойного!) существования - такой, как у нее? Пребывая в этом двусмысленном, ложном этом положении, которое прельстило Свету-Колобкову, заставив грудь ее вздыматься до неба...
Конечно, с другой стороны, не так уж плохо, когда один-знакомый-бог взял на себя ответственность за пустую твою жизнь: сколько хороших людей даром глядят в небо, умоляя кого-то там обратить на них хоть какое-нибудь внимание! Что ж с того, что она, Эвридика, всецело в его руках? Они вместе делают, пусть даже сомнительное, но дело, у них общая тайна. И он имеет право быть безжалостным, один-знакомый-бог. Однако сегодня он был любезен с ней, успокаивал как мог, со Статским предложил познакомить... Интересно, знает ли Статский, что он уже увяз, или действует вслепую, полагая, что сам себе князь? Пожалуй, не знает: об этом вообще редко кто догадывается. Да один-знакомый-бог и не раздает своего телефона направо и налево.
Понятно, что со Статским ей рано или поздно придется познакомиться, теперь в этом уже нет сомнений: не так-то много людей способен втянуть в свою сферу один-знакомый-бог. С большим количеством людей он вряд ли справится, хотя... как знать! Смотря что у него за планы. Но со Статским мы познакомимся. Предположим, он ничего не будет знать - рассказать ему? Это зависит от того, как он относится к тому, что один человек манипулирует другими. Ми-лый-Стат-ский-Вы-игру-шка-и-все-события-случившиеся-с-Вами-специ ально-подстроены... Или один-знакомый-бог выдает желаемое за действительное - и Статский не из их числа? Боже мой, я устала: из их числа, не из их числа - какая разница! Даже и число-то толком неизвестно - сколько их, таких, как Эвридика: десять? сто? двести? Сама Эвридика, например, вообще ни с кем еще из этого круга не знакома - маячит, правда, впереди знакомство с Петром, но о перспективе знакомства она только что узнала, а так ничего не знала и могла бы никогда не узнать, не будь случайного звонка по телефону! "Считайте, что Вам повезло, дорогая моя". Да в чем, в чем мне повезло? Точно так же, как и все остальные, я не знаю, что со мной будет дальше. Правда, я, в отличие от прочих, понимаю, что играю в какую-то игру может быть, даже страшную игру: правила игры от меня скрыты. Я обязана выполнять определенные действия - на первый взгляд, ничем не отличающиеся от тех, которые миллиардами людей осуществляются чисто механически, но это только на первый взгляд! А на самом деле каждое действие мое имеет тайный, закодированный смысл, каждый мой шаг приводит в движение другие элементы системы, заставляя их крутиться, перемещаться, меняться функциями. Я все время излучаю сигналы, предназначенные для того, чтобы кто-то, кого я не знаю, определенным образом реагировал на них, - и при этом делаю вид, будто я свободна...
Эвридика часто подумывала, что однажды ее схватят... схватят и привлекут к ответственности, а инкриминироваться ей будет вся ее запутанная и полная загадок жизнь. И судья спросит:
- Скажите, гражданка Эристави, для чего семнадцатого января тысяча девятьсот восемьдесят третьего года в магазине, что в Столешникове переулке, Вы приобрели японскую шаль по цене 75 рублей 00 копеек?
- Чтобы убедить Юру-Пузырева-улица-Юных-ленинцев-и-так-далее в том, что я цыганка, - пролепечет она.
- А с какой целью Вы вводили в заблуждение гражданина Юру-Пу-зырева-улица-Юных-ленинцев-и-так-далее, делая вид, что вы цыганка?
Молчание.
- И зачем в означенный день Вы шли по городу Москве в шали с неоторванной этикеткой, неся в руке птицу, принадлежащую к семейству воронов?
Молчание.
- С кем второго февраля тысяча девятьсот восемьдесят третьего года Вы говорили по телефону, выйдя из заведения под вывеской "Мороженое"?
- С одним знакомым богом...
- Ха-ха-ха! Введите свидетеля Колобкову Светлану Николаевну, 1966 года рождения, русскую, комсомолку, проживающую по адресу...
Колобкова быстро говорит, много говорит, долго говорит. И, что самое страшное, все понимает. Все, чего не понимает и никогда не поймет Эвридика эта запутавшаяся преступница, которую сейчас растерзают на глазах у всех.
- Гражданка, - Эвридика вздрогнула, ударившись головой о троллейбусное стекло. - Тут конечная.
- Конечная?
- С добрым утром! - И водитель троллейбуса - крепкий дед - рассмеялся так, словно у него в троллейбусе никто никогда не засыпал.
Эвридика машинально поблагодарила и вышла у Киевского вокзала. Купить билет на самый дальний, самый скорый поезд. Сесть в красный вагон и даже само слово "Москва" забыть. Что-то запоет тогда один-знакомый-бог! Не помчится же, в самом деле, за ней: не велика птица Эвридика Эристави!.. Но увы, она слишком-много-знает. Увы, она слишком-много-думает. Увы, она слишком-много-понимает. Так или иначе ее надо убить.
Смоленская, Арбатская... Станция-Площадь-Революции. С-танцами-проще-революции. Эвридика танцевала на зеленом лугу... В переходе на Площадь Свердлова она поняла: нужно снова звонить.
- Алло, это Вы? А это опять я. - И, не давая сбить себя с толку, не заикаясь, дальше: - Прошу Вас убить меня немедленно. Я не хочу знать, в какую игру Вы меня втянули, но она мне не нравится. Мне нравится, когда все происходит спонтанно. Убейте меня сейчас или я сделаю это сама, клянусь Вам. Однако тогда я все Вам испорчу, а я... я не желаю Вам зла, не знаю почему.
- Вы измучили меня, Эвридика. Кажется, Вы все-таки истеричка. Но дело не в этом. Дело в том, что Вы, наверное, не способны оправдать моих надежд. Как, впрочем, я и подозревал. Вы - одна из них. Одна из всех. Человек из массы.
- Да, я человек из массы. И мне неинтересно то, что Вы говорите. Сейчас как раз крайний случай: Вас отказываются понимать. Делайте же то, что нужно в таких случаях делать.
- Может быть, Вы все-таки выслушаете меня? Статский...
- Статский тоже навязан Вами, это не мой выбор.
- Да опомнитесь же Вы наконец!.. - трубка чуть ли не ударила Эвридику по лицу. - Я же столько времени потратил на Вас...
- Вы бы хоть из приличия жалели меня, а не свое время. Вы противны мне. Противны именно тем, что считаете себя вправе распоряжаться чужими...
- Довольно, Эвридика. Вы... Вы дура.
- Вам непременно надо оскорбить меня перед тем, как убить, жалкий человек?
- Замолчите. Где Вы сейчас находитесь?
- Странный вопрос. Ну хорошо: я звоню Вам с Пушкинской улицы, из автомата напротив Колонного зала... то есть от Вас поблизости, видимо. Как Вы собираетесь меня убить?
- Это мое дело. Слушайте внимательно. Вы медленно, очень медленно перейдете Пушкинскую улицу и пойдете по проспекту Маркса, мимо Госплана, через подземный переход на ту сторону улицы Горького - медленно, очень и очень медленно, мимо "Националя", вниз к библиотеке Ленина. Одно условие: Вы не должны оглядываться. Сегодня я убью Вас.
- Спасибо, - серьезно ответила Эвридика, - я все поняла. - Повесила трубку, вышла из автомата. Ну, кажется, сговорились.
Что бы такое начать напевать - чушь какую-нибудь: "Лю-бовь та-ка-ая глупость больша-ая..." и медленно двинулась вперед, через Пушкинскую улицу к Колонному залу, наискосок, завернула за угол, пошла мимо Госплана - лю-бовь та-ка-ая глупость больша-ая, - а вот взять сейчас и свернуть на Горького, резко вправо: интересно, как обернется дело, но уговор есть уговор и к тому же я сама навязала ему развязку - раньше, чем он задумал!
Медленно, очень медленно, очень и очень медленно продвигалась она по обозначенному ей пути: в конце подземного перехода возникло непреодолимое желание обернуться, как будто на чей-то взгляд в спину; "Миф об Орфее... Только не из Тартара, а в Тартар. Орфей обернулся, а я не обернусь: наоборот так все наоборот", - и она не обернулась. Мимо "Националя" вниз... Господи, как хочется обернуться, да что же это такое! Ведь если бы он не запретил, мне бы и в голову не пришло оборачиваться... переход через улицу Герцена, Святая-Татьяна-сохрани-и-помилуй-нас! - и на последнем шаге, на полу-уже-шаге с тротуара Эвридика вдруг резко обернулась: лю-бовь та-ка-ая глупость... и сначала услышала крик, а потом ощутила... вернее, даже не ощутила - поняла: сильный удар, удар по всему телу, с размаху по всему телу.
Глава ПЯТАЯ
КРАТКОЕ жизнеописание
Марка Теренция Варрона, ВОРОНА
Марк Теренций Варрон (будем называть его по последнему имени, хотя на протяжении сложной и противоречивой судьбы своей он успел сменить несколько имен), ворон, принадлежал к древнему и знатному роду придворных птиц. Родился он в 1749 году в Пруссии, во времена славного царствования Фридриха II, Великого, причем родился прямо под сводами дворца Его Величества.
Вскоре Марк Теренций Варрон был замечен при дворе. Его трудно было не заметить: он принадлежал к чрезвычайно редкой по тем, да и по нынешним, временам породе голубых воронов, о которых (в отличие от белых) по причине крайней их нераспространенности нет даже пословиц. Марк Теренций Варрон был замечен не кем-нибудь, а самим высокородным отпрыском Фридриха II, Великого, - тоже Фридрихом, и тоже II, но Прусским (т.е. не Великим), которому только что исполнилось пять лет.
- Дай! - просто сказал отпрыск, показывая на маленького голубого ворона. Между тем временем, когда он сказал "дай", и тем, когда ему сказали "нате", прошло два дня и одна ночь: за это время трем офицерам отрубили головы и человек пятнадцать прислуги лишилось мест по разным причинам.
Так Марк Теренций Варрон стал собственностью Фридриха-младшсго, о чем отныне свидетельствовало тоненькое золотое колечко с монограммой отпрыска, надетое на лапку ворона, и прикованная к нему золотая же цепочка: ее длина определяла расстояние, на которое Марку Теренцию Варрону позволялось удаляться от Фридриха II Прусского. Расстояние было не таким уж маленьким: золота в Пруссии не жалели, особенно на все, что с легкой руки Фридриха II, Великого, квалифицировалось как поведение "auf seine Facon".
Изредка Марку Теренцию Варрону разрешалось полетать свободно, но только в пределах зала. Ворон не относился к своему заточению трагически, поскольку о том, что это было заточение, не знал: "дай!" прозвучало вскоре после его появления на свет и он полагал его для себя естественным. Более того, Марк Теренций Варрон понимал, что состоит на государственной службе, и вел себя соответственно.
Надо сказать, фортуна сделала его своим избранником не за одну только редкостную окраску, в нем были оценены и другие качества. Прежде всего уникальная способность к языкам и не менее уникальная способность к подражанию разным голосам. Говорить Марк Теренций Варрон начал сразу, причем без всякого насилия извне - по велению, так сказать, сердца. "Автодидакт", сказал о нем Фридрих II, Великий, и был прав. На освоение немецкого языка ушло не так много времени: лексикон Марка Теренция Варрона состоял в основе своей из слов, выражавших, по характеристике К.Маркса (данной, правда, применительно ко всему режиму Фридриха II, Великого), "...смесь деспотизма, бюрократизма и феодализма..." - увы! Не повезло, явно не повезло ворону с выпавшим на его долю периодом истории...
Дальше - больше: ворон заговорил по-французски, отражая тем самым интересы прусской монархии. Первым французским словом, которое произнес Марк Теренций Варрон и которое кое-кого при дворе Фридриха II, Великого, насторожило и обескуражило (не без оснований, как выяснилось впоследствии), было диковатое для политической ситуации первой половины 50-х годов слово "opposition". Где уж ворон его подхватил, оставалось загадкой. Некоторое время слово это веселило недальновидных политиков, но вскорости стало раздражать их - причем все сильней и сильней. К самому же Марку Теренцию Варрону, вопреки его ожиданиям, относились, однако, все лучше и лучше. Конечно, ворон понять этого не мог: откуда бы ему, в самом деле, знать, что он давным-давно уже считался доносчиком, подхватывая слова, которые посторонним слышать не полагалось, да еще давая точную паспортизацию каждого слова... он ведь перенимал слово вместе с особенностями голоса и интонации! К этому времени Марк Теренций Варрон беспрепятственно летал уже по всему дворцу и даже вылетал на улицу: золотую цепочку сняли с него, поскольку он и так аккуратно возвращался в покои кронпринца, когда уставал подслушивать и подглядывать. Теперь лапку ворона украшало лишь золотое кольцо с монограммой.
Неизвестно почему к исходу первой половины 50-х годов, а точнее, в самом начале 1756-го, Фридрихом II, Великим, был выдворен из страны французский посланник вместе со всеми сопровождавшими его лицами и вместе со всеми пожитками. Посланник увез из дворца какую-то скрученную в трубочку бумагу, скрепленную сургучом и предназначенную, кажется, королю Франции, что, по свидетельству очевидцев, и объясняло мрачность лица французского посланника, а также лиц сопровождавших-его-лиц. Инцидент был осмыслен позднее, когда (всего лишь через несколько месяцев) стало известно о союзе, заключенном против Пруссии Францией, Россией, Австрией, Швецией и некоторыми немецкими государствами. Фридриха II, Великого, приветствовали при дворе как провидца.
Между тем лексикон Марка Теренция Варрона постоянно пополнялся. В прямой связи с его пополнением (об этом уже поговаривал двор) находились отставки считавшихся преданными Его Величеству государственных деятелей и назначения на их должности новых лиц, малоизвестных придворным кругам. Фавориты и фаворитки вспыхивали на небосклоне Его Высочайшей Милости как кометы, но - в отличие от комет - через миг не оставляли даже светящегося следа. Цинизм и вероломство монарха обсуждались в открытую.
А Марк Теренций Варрон болтал без умолку - и, будучи в очень незначительной мере способным к диалогу, выдавал восхитительные образцы речи монологической. Ловкие придворные научились по болтовне его узнавать, откуда ветер дует - наиболее же предприимчивые из них исхитрялись играть на способностях Марка Теренция Варрона к языкам и копированию речи: отныне они молились на ворона, как бы невзначай, но очень громко и по многу раз в день произнося при нем фразы, которые - дойди они до нужных ушей - могли круто изменить судьбы их авторов. Марк Теренций Варрон удостаивался почестей языческих божеств, а при прусском дворе никогда не процветали так двуличие и лицемерие. Искусство интриги было доведено до совершенства. Двор превратился в балаган. Головы летели, как листья в октябре. Обозы иностранных посланников курсировали туда-сюда с регулярностью сегодняшних рейсовых автобусов. Марк Теренций Варрон говорил уже на двенадцати языках...
К нему приставили телохранителя, денно и нощно оберегавшего его от покушений. Ворон участвовал во всех приемах, раутах, официальных и интимных обедах короля и его светлейших домочадцев. Домочадцы боялись друг друга и общались преимущественно жестами. К пластическому искусству Марк Теренций Варрон был неспособен.
Вот как обстояли дела до тех пор, пока за пределами Пруссии не начали ходить слухи о том, что прусский король за неимением собственной головы пользуется вороньей, а однажды на каком-то балу (всего-навсего в Баварии) никому не известный барон Кнорре скаламбурил во всеуслышание: "Так мы с легкой руки Пруссии всю Европу провороним". Каламбур расползся быстро. Между тем Его Королевскому Забиячеству совсем не улыбалось, чтобы всякий барон острил по его поводу, и, вынашивая в сердце своем планы войны за Баварское наследство, Фридрих II, Великий, через кого-то передал пресловутого ворона труппе бродячих артистов...
Так Марк Теренций Варрон оставил поприще государственной службы, но долго жила еще во дворце память о нем и впоследствии ему приписывались такие деяния, какие были бы не под силу и стае воронов. Вот куда уходят корни мифа о Вороне Золотой Лапке, к сожалению уже забытого в наше время.
А к богеме Марк Теренций Варрон привыкал трудно. Его снова посадили на цепочку - правда, теперь уже на медную, - и заставляли потешать публику, обучив десятку новых слов, произнесение которых всякий раз вызывало приступы странного веселья "простого народа"... Марк Теренций Варрон не любил этих слов. Автор, с позволения читателей и щадя их, приводить примеров не станет. Однако нет худа без добра: если раньше Марк Теренций Варрон произносил все, что приходило ему в голову, особенно не задумываясь, то теперь выбор слова превращался для него в насущно важную проблему. Понимая, что стилистически сниженная лексика оплачивается хорошей кормежкой, а кодифицированный литературный язык - нет, Марк Теренций Варрон развивал в себе стилистическое чутье. Элементы публицистического стиля проходили на "ура" - элементы официально-делового вознаграждались лишь побоями... Бедняга-ворон, он и не подозревал, что все несчастья, выпавшие на его голову, сделают из него поэта! Пройдя сравнительно короткий этап формализма, за который в труппе устроили ему адскую взбучку, он вплотную подошел к осознанию содержательности формы, то есть стал не просто поэтом, но мастером, за что и должен был возблагодарить судьбу, однако - вследствие непонимания ее поворотов - не возблагодаривал. А судьба между тем заполняла еще один пробел в его образовании: странствия по белу свету основательно расширяли кругозор, наполняли новыми образами восприимчивое сердце Марка Теренция Варрона. И когда теперь в ответ на какой-нибудь окрик ("Пошел отсюда, кыш!") он, склонив голову и грустно глядя на собеседника, беззлобно отвечал: "Я зна-аю жизнь...", - в этом, ей-богу, был большой смысл.
Впрочем, давно уже не подходил Марк Теренций Варрон к кому попало. Кончились те времена, кончилось детство. Тогда, охотно садясь на любое плечо, он наклонялся к самому уху человека и проникновенным шепотом предлагал: "Поговорррим?", за что неизменно получал какое-нибудь угощение. Теперь же все чаще и все печальней произносил Марк Теренций Варрон: "Temporrra mutanturrr...", - ни на кого не глядя, а только слушая и слушая музыку этой фразы. Он умел уже различать людей и гораздо более трезво поглядывал на них: дескать, а ну-ка, милейший, дайте на Вас посмотреть, чего Вы стоите... э-э-эх, да Вы ничего не стоите, что ж тогда разговаривать с Вами, а уж тем более на плечо к Вам садиться, - нет-нет, милейший, ступайте-ка Вы своей дорогой, я - своей, и дело с концом.
Но Фредерика!.. Но эта девочка - тоненькая, как ниточка, по которой она гуляла по небу с двумя большими бумажными лепестками в руках! Но эта маленькая фея, танцевавшая на пальцах нежные танцы Баварии! И южный ее выговор - мягкий, как пух под самыми густыми перьями, выговор, который нельзя повторить, чтобы не задохнуться... Фредерика, первая - первая и взаимная любовь Марка Теренция Варрона!
Ее подобрали на дороге, где она просто сидела и просто ждала, когда ее подберут. Подобрали, посадили в тесный возок, накормили чем бог послал, расспросили... - Я умею танцевать. - Хорошо, будешь танцевать. - Я умею петь. - Хорошо, будешь петь. - А этот ворон, он зачем у вас на цепи? - Чтобы не улетел... - Разве ему плохо с вами, что он может улететь?
Фредерика оказалась необыкновенно способной.
- Как это ты делаешь? - спросила она у Пауля, когда тот шел по канату.
- А иди сюда - покажу.
И Фредерика пошла по канату, смеясь от счастья.
- Сколько тебе лет, Фредерика?
- Четырнадцать.
- Фреде-рика. - сказал Марк Терениий Варрон.
-Ну и ну!- засмеялся папа Сеппль. - Это вообще-то говорящий ворон, но по имени никого из нас не называет. Ты первая.
Конечно, первая! Первая любовь - острая, как клинки папы Сеппля. Как все клинки папы Сеппля.
- Фреде-рика!
Она никогда не разговаривала с Марком Теренцием Варроном, прежде не сняв с него цепь. Тогда он поднимался высоко-высоко и камнем падал на голову Фредерики, в самый последний момент резко уходя в сторону. И Фредерика смеялась - как часто и как негромко смеялась она!
- Rabebreher, Du bist mein Rabebreher** , - ласково говорила она, радуясь, что придумала такое хорошее имя.
______________
**Непереводимая игра слов: Radebrecher - тот, кто коверкает язык, Rabebrecher - тот, кто коверкает "образ" ворона.
А Марку Теренцию Варрону было совершенно все равно, как называет его Фредерика: только бы не умолкала, только бы говорила что-нибудь южным своим, солнечным своим баварским голосом... впрочем, Rabebreher - это правда здорово! Убедиться же в том, насколько это еще и точно, он смог в самом скором времени.
Его давно интересовали другие вороны. Марк Теренций Варрон видел их только несколько раз, да и то мельком: вороны ведь не живут в густонаселенных местах. А бродячие артисты - наоборот. И потом... возок так быстро катился по дорогам: мало что замечалось в пути. Однажды только, не успев доехать до Марбурга, артисты решили заночевать около какого-то поля. Был вечер - теплый, как вся Бавария Фредерики. Марка Теренция Варрона привязали снаружи - и тут он увидел их, других воронов. Они прохаживались по стерне. Марк Теренций Варрон хотел было приветствовать их, но отчего-то смутился. Он только весь подобрался и смотрел на них долгим, как его жизнь, взглядом. Среди воронов была Дама бесподобной красоты и грации. Она что-то ела с земли.
Марка Теренция Варрона заметили не сразу. А заметив, принялись обсуждать вполголоса не то цвет его перьев, не то цепь, удивительную для них ничуть не менее. Кажется, они поссорились при обсуждении, некоторое время дулись друг на друга, потом подошли поближе к возку. Обсуждение возобновилось и снова привело к ссоре. Марк Теренций Варрон не понимал, что именно их интересует, а то он охотно пришел бы им на помощь. Может быть, когда вороны решат что-нибудь по его поводу, они вступят с ним в разговор?
Однако те разошлись не на шутку: Марк Теренций Варрон засомневался даже, не забыли ли они о том, что составляло предмет их дискуссии, - и засомневался, по-видимому, небезосновательно. На него самого внимания больше не обращали: перепалка сделалась слишком жаркой. Но когда уже Марк Теренций Варрон впал в отчаяние, решив, что о нем не вспомнят никогда, два молодых ворона бросились к нему и ни с того ни с сего начали провоцировать его на драку. Он не понял их намерений, он с недоумением смотрел на обидчиков, он, наконец, разозлился...
На крики из возка выбежала Фредерика и, мгновенно оценив ситуацию, кинулась на защиту своего Rabebreher'а, но ее появление внесло в ряды птиц такую панику, что уже через миг Марка Теренция Варрона защищать было не от кого.
- Вот видишь, - приговаривала Фредерика, промывая его раны теплой водой, - как плохо быть Rabebreher'ом... Это тебе за то, что ты "портишь породу"! - и столько горечи было в словах ее, столько участия, на сколько может быть способен лишь товарищ по несчастью... И все-то они были голубыми воронами - бродячие эти артисты, и все-то они "портили породу", правда, свою породу, человеческую. Случалось, что и их гнали из городов и селений, случалось, что и им вслед летели проклятия, - бедные голубые вороны эпохи Просвещения! Гуляющие по канатам, танцующие, поющие, творящие из ничего цветы и ленты... знать ничего не желающие об Австрийском наследстве, о Семилетней войне, о Баварском наследстве, но гуляющие по канатам, но танцующие, но поющие, но творящие из ничего цветы и ленты! И безумно красивое слово - Variola...
- V-а-r-i-о-1-а , - сказал Марк Теренций Варрон.
- Eine Viola?** - переспросила Фредерика и рассмеялась.
______________
** Скрипка? (нем.)
- Vаriо1а***, - повторил Марк Теренций Варрон: уж он-то знал, что говорит!..
______________
***Оспа (нем.)
Vаriо1а, черная оспа, В1аttern**** , шла за их возком, играя на черной скрипке, бросая черные розы...
______________
****Черная оспа (нем.)
Фредерику лихорадило третий день, она не могла подняться, она не выходила из возка.
- Vаriо1а, - настойчиво повторял Марк Теренций Варрон чьим-то чужим, случайно перенятым голосом. Кто сказал при нем это слово?
На светлом лбу Фредерики - множество темно-синих пузырьков: они расползаются по лицу, расползаются по телу. Марк Теренций Варрон склевал бы их, чтобы они не портили так Фредерику, не портили так Фредерику... Но его не пускают в возок. А потом Фредерику вынесли на солнце - страшную черную Фредерику, черную розу к подножию Смерти. Она очнулась только на миг, нашла обезумевшими глазами Марка Теренция Варрона. сказала: "Отпустите", - и умерла. С Марка Теренция Варрона сняли цепь, а Фредерику закопали в землю.
Марк Теренций Варрон не заметил, как сняли цепь: он окаменел. Давно уже укатили в возке умирать - сначала папа Сеппль, потом Пауль, потом каждый, каждый, каждый... Марк Теренций Варрон сидел на земле, в которую закопали Фредерику, весь январь, весь февраль, весь март - и вдруг полетел и летел долго-долго, пока не упал на мостовую и словно умер.
Он очнулся от того, что ему пытались открыть клюв.
- Ну и как наши дела? - спросили (Марк Теренций Варрон не понял - кто)
- Фреде-рика, - сказал он.
- Ах вот что, тебя зовут Фредерико? Очень приятно, - отнесся голос: видимо, тут было в порядке вещей встретить говорящую птицу.
Услышав над собой "Фредерика", Марк Теренций Варрон немножко ожил - он даже трепыхнулся раз-другой и, может быть, подумал - чего не бывает! - что в этих местах знали Фредерику. Его подняли с земли и понесли куда-то, Марк Теренций Варрон не сопротивлялся. Руки были большие и ласковые...
Заботами магистра Себастьяна - так звали спасителя Марка Теренция Варрона - и Петера, его ученика, жившего неподалеку и навещавшего магистра по нескольку раз в день, ворон медленно возвращался к жизни. Не было больше Фредерики, но было имя ее, так часто звучавшее в доме, а имя - это уже много.
И Марк Теренций Варрон готов был верой и правдой служить людям, приютившим имя ее под своей крышей. Впрочем, многого от него не требовалось: время от времени относить в клюве записочки из одного дома в другой. Магистр Себастьян - Петеру, Петер - магистру Себастьяну... Марк Теренций Варрон сделался их телеграфом, их телефоном, по которому в любую минуту можно было соединиться друг с другом.
- Вам депеша! - торжественно произносил он, появляясь то у дверей магистра, то у дверей Петера. - Соблаговолите передать со мной ответ.
А сколько новых красивых слов узнал Марк Теренций Варрон от обожаемых своих покровителей! Абстракция, субстанция, духовность, теодицея, метафизика, элоквенция... Очень скоро он стал включаться в длинные негромкие беседы магистра с Петером - и когда Петер начинал распаляться, а магистр, посмеиваясь, обращался к Марку Теренцию Варрону со словами: "Что скажете, магистр?", - тот неизменно отвечал:
- Sunt pueri pueri, pueri puerlia tractant!**, - да с таким скучающим видом, что даже Петер, которого это вроде бы должно было задевать, покатывался со смеху.
______________
**Мальчикам простиетльны мальчишеские выходки (лат.)
Маленький домик под Кенигсбергом, увитый плющом! Колыбель классической немецкой философии, которая и не помнит, наверное, кому она обязана тем, что самый воздух этих мест накопил в себе электричество мысли, разрядившейся впоследствии бесподобными идеями Канта, ослепительной свежести идеями! Здесь безумствовали фантазии, созревали гроздья грез, проклевывались и буйно цвели пророчества, здесь были предсказаны самые безрассудные открытия будущего, похоронены самые страшные заблуждения человечества. Здесь гремели грозы, отголоски которых не давали спать детям последующих веков, здесь пылали костры, искры которых воспламеняли воображение бесконечно далеких потомков.
И Марк Теренций Варрон был тогда здесь... Сидя на подлокотнике кресла магистра Себастьяна, толковавшего Петеру темные места древних книг. Бодрствуя на плече Петера, вглядывавшегося в безответное ночное небо. Примостившись на письменном столе магистра и подолгу глядя, как тот сосредоточенно водит по белой поверхности пером, оставляющим след в виде тоненькой, ровной и как бы вязаной нитки.
Но все старели, старели - и пришло время, когда магистр не поднялся утром с постели: он лежал и смотрел открытыми в пустоте глазами прямо перед собой. Теперь Марк Теренций Варрон знал, что это означало. Это означало одно: "Отпустите". А разговоры магистра с Петером становились все тише, все темнее - Марк Теренций Варрон слушал, не решаясь уже вмешиваться... он слушал и ждал беды.
Накануне ее он понял: беда случится завтра. Дыхание магистра стало странным: в горле что-то булькало и переливалось. Марк Теренций Варрон собрался в путь. Он давно уже догадался, что люди имеют обыкновение умирать один за другим. И тою же ночью, выхватив взглядом из тьмы нежилую почти комнату, Марк Теренций Варрон снялся и полетел - куда-нибудь, все равно куда, все равно! Подальше от людей: не видеть, как часто они умирают, не знать, как умеют они любить и мыслить!.. Почти век оставался он с ними, но теперь - увольте.
Весь следующий век Марк Теренций Варрон прожил так, как и подобает жить ворону: в окрестностях деревень, на кладбищах, просто в лесах. Другие вороны давно уже не интересовали его, да и он не интересовал их: от долгих странствий роскошное голубое оперение выцвело, сделалось серым... а может быть, и седым. Внешне он мало чем теперь отличался от собратьев-по-перу.
Ни с людьми, ни тем более с воронами Марк Теренций Варрон старался не вступать даже в случайные разговоры: за два с лишним века он понял, что еще в прошлом веке обо всем наговорился и что говорить больше не о чем.
Так превратился Марк Теренций Варрон в самого что ни на есть обыкновенного ворона, о бурном прошлом которого никто не догадывался. Правда, мерцало на лапке золотое колечко, но кому ж известно, что оно золотое!
А третий век тянулся уже просто слишком долго, Марк Теренций Варрон начинал даже подумывать о том, не правы ли люди, определившие себе столь короткий срок жизни, как вдруг непонятная сила схватила его за горло и швырнула высоко в ночное небо. И он полетел так, как летел когда-то от могилы Фредерики, как летел от дома, где умирал магистр Себастьян, стремительно и безрассудно, с запада на восток.
Марк Теренций Варрон никак не мог взять в толк, откуда взялась сила, вытолкнувшая его, как пробку из бутылки, и запустившая в движение. Но Она не была неистощимой, сила эта, и, постепенно скудея, сошла на нет.
Ворон опустился на первый попавшийся карниз с целью умереть. И начался сон, сон, сон - и во сне увидел он Фредерику, идущую прямо к нему по тротуару. Повзрослевшую Фредерику в черной шали с японскими цветами. Фредерика повела себя так, словно не была знакома с Марком Теренцием Варроном: она протянула ему то, чего он не ел вообще никогда. Потом взяла на руки и понесла куда-то.
Ворону стыдно было, что он такой усталый и больной, и он хотел самостоятельно лететь рядом с Фредерикой, но, увы, не мог... А Фредерика все несла и несла его, и принесла к каким-то людям, которых Марк Теренций Варрон не встречал прежде, но люди были хорошие и ворон решил не умирать, а пожить еще хоть сколько-нибудь.
Глава ШЕСТАЯ
Большое собрание И ПРОГУЛКА
- Решением Специальной Комиссии Тень Ученого за успешное проведение эксперимента под названием "контактная метаморфоза" награждается тенью-ордена, - закончила Тень Председателя Специальной Комиссии.
Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты... Пожалуй, аплодировать приходится слишком долго, а между тем никто не идет получить награду, первую за последние двести лет. Никто не идет.
- Никто и не придет, - шепнула Тень Одного Зеленщика Тени Одной Молочницы.
- Откуда Вы знаете? - заинтересовалась та.
- Знаю. - Тень Одного Зеленщика приняла расплывчатые очертания и уклончиво ответила: - Говорят.
Говорят... Это правда. О Тени Ученого давно уже говорят на затонувшем острове. Причем давно уже говорят плохо. Что ж, обычная история: Тень Ученого и здесь не-вписывается-в-общие-рамки. Пока еще трудно упрекнуть ее в чем-то конкретном, однако многим становится ясно, что достойной атлантической тени из нее не получится никогда.
- Специальная Комиссия расценивает отсутствие Тени Ученого на церемонии вручения награды как неуважение ко всем присутствующим, однако значительность сделанного ею открытия под названием "контактная метаморфоза" позволяет членам Специальной Комиссии не слишком строго отнестись к факту отсутствия. Церемония вручения награды переносится на двенадцать часов ночи. И Специальная Комиссия удалилась.
Нет, положительно все сходит с рук этой Тени Ученого! Не явилась получать награду - ничего, перенесем церемонию!
-Ее и в двенадцать не будет, - сказала Тень Одного Зеленщика.
- Откуда Вам это известно? - не удержалась Тень Одной Молочницы.
- Известно, - опять ушла от ответа Тень Одного Зеленщика. - Говорят.
Увы, говорят уже и об этом. В нарушение всех атлантических правил Тень Ученого частенько пропускает полночь, а полночь на Атлантиде пропускать не принято: полночь - начало новых суток - тени Атлантиды встречают все вместе. Время это называется Временем Единения, когда атлантические тени до утра сливаются в одну огромную тень - Тень Атлантиды. Время Единения приходится как раз на те часы, которые в Элизиуме отводятся для Большого Собрания. Там на это Большое Собрание испокон веков слетаются все тени, свободные в данное время от носителей. И не только, между прочим, тени умерших, но и тени спящих. Они встречаются в Элизиуме, а их носителям снятся сны... Ведь спящему не нужна тень: вернее, ему безразлично, есть она или ее нет. Он выключен из материальной действительности - в нем бодрствует только дух, а дух, понятное дело, тени не отбрасывает. Вот почему человек, как бы лишенный на время сна материальной оболочки, может вступать в общение с теми, кто уже умер, и с теми, кто в настоящий момент физически находится в другом месте. Тени спящих свободны и предоставлены сами себе. И каждую ночь тени умерших и живых, далеких и близких, проводят на Елисейских полях в воспоминаниях о старых встречах и в предвкушении новых, которые состоятся по истечении соответствующих витальных циклов на земле.
Тени Атлантиды, разумеется, не участвуют в Большом Собрании: ведь они, как мы помним, раз и навсегда отказались от дальнейших воссоединений с носителями: нет и не будет больше атлантов среди живых... Кроме того, существовало и "Уложение №2 по Елисейским полям", в соответствии с которым, если вы не забыли, тени Атлантиды навсегда изолировались от прочих теней Элизиума. Стало быть, попав на Атлантиду, Тень Ученого должна была поставить крест на Больших Собраниях: участвовать в них она отныне не имела права. При условии, конечно, что это нормальная тень, каковой (см. выше) Тень Ученого не была. И, жертвуя репутацией атлантической тени, она игнорировала Время Единения, то и дело улетая в полночь на Большое Собрание в Элизиуме. А значит, у теней Атлантиды были все основания сомневаться в том, что на сей раз Тень Ученого в полночь останется на затонувшем острове.
Между тем Тень Ученого с полным уважением относилась к островным традициям - в том числе, само собой, и ко Времени Единения. Она еженощно с охотою разделяла бы это время с другими атлантическими тенями, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что до сих пор, на протяжении всех почти двухсот лет пребывания в царстве мертвых, Тени Ученого ни разу не удалось встретиться с Тенью Ученика. Это было непонятно, особенно если учесть, что прежде каждую ночь, а с момента появления на Атлантиде две-три, по крайней мере, ночи в неделю Тень Ученого проводила в поисках. Правда, Большое Собрание есть Большое Собрание: Элизиум напоминает тогда огромный вокзал во время эвакуации. Простите-Вы-не-видели? Нет-а-Вам-не-случалось-встречать? - Да-кажется-припоминаю-это-на-восток-а-по том-на-юго-восток. - Извините-Вам-не-попадалась?.. Нет-по-моему-нет-хотя... Редко, чрезвычайно редко происходят в Элизиуме случайные встречи. Ведь трудно, к тому же, и опознать нужную тебе тень. Вспомните законы театра теней: один из них состоит в том, что тени не должны совмещаться - иначе изображение становится непонятным. А при таком скоплении теней, как в Элизиуме...
Правда, с тенями живых дело обстоит проще: они темнее и, стало быть, заметнее; кроме того, их меньше. Поэтому тень живого проще найти в Элизиуме. И когда с такой тенью встречается елисейская тень, спящему снятся на земле удивительные сны - сны, похожие на явь: встречи, которых уже не может быть или которых еще не может быть... Встречи всех со всеми в любом месте и в любое время!
А на церемонию вручения награды Тень Ученого не явилась по уважительной причине: незадолго до этого она оказалась на Гоголевском бульваре, где на скамеечке - недалеко от дома - плакал маленький, но очень хороший человек Игорь: он вспоминал о собаке - огромной разноцветной собаке, которая приходила в гости к нему, когда-он-был-совсем-еще-маленьким. От того, что слезы все равно уже текли, ему становилось особенно жалко себя: тогда слезы текли еще сильнее, но мальчик даже не вытирал их - просто наклонил голову, чтобы никто не видел. А собаки не было, не было, не могло быть!
Однако возникло вдруг шумное дыхание возле самого уха - Игорь поднял глаза. Собака стояла рядом - именно та, большая и разноцветная, которая навещала его раньше. Игорь заревел в голос, потому что подумалось ему, надувают его, бедного, - и нет на самом деле никакой собаки!
- Уходи, - сказал он ей. - Ты кажешься!
Собака завиляла хвостом - нет, замахала хвостом: такими хвостами не виляют... И легла у ног Игоря. Тогда он протянул к ней руку - собака уронила на руку большущий розовый язык, рука сделалась влажной, а слезы высохли.
- Мальчик, ты потерялся? - вдруг услышал он над собой противный какой-то голос. Вельветовый человек смотрел на него взглядом милиционера. С кем ты разговариваешь?
- С собакой, - растерялся ребенок. - Вы разве не видите?
- Что же я должен видеть? - Вельвет насторожился.
- Вы должны видеть собаку....
- Но я не вижу собаки!
- Тогда, наверное, Вам надо надеть очки, - серьезно сказал мальчик и побежал по аллее.
Большая разноцветная собака все время бежала за ним - и догоняла его, и хватала за пятки, и убегала вперед, а потом возвращалась, обязательно возвращалась. Запыхавшись. Игорь повалился на скамейку и сказал собаке: Зачем ты так редко приходишь?
Собака опустила голову и посмотрела на Игоря исподлобья, но виновато: дескать, дела, брат... времени совсем мало, прости.
- Ты, наверное, очень занятая собака, - понял Игорь. - И, конечно, дружишь со многими мальчиками.
Собака обиделась и отошла в сторону. Отвернулась от Игоря и стала смотреть на урну. Игорь подошел к ней.
- Хорошо, - вздохнул он. - Будем считать, что ты только моя собака, что ты абсолютно моя собака. Ты редкоприходящая абсолютно-моя-собака. Так и должно быть: друг - это когда он мой друг и больше ничей. А если он еще чей-нибудь друг, значит он мне мало друг или полдруга... даже меньше.
Мальчик гладил собаку по спине и говорил. Собака внимательно слушала его и понимала.
- Но если ты только моя собака, я должен тебя кормить. Иначе никто не будет кормить тебя и ты ослабнешь. Ты мороженое любишь?
И они побежали к станции метро "Кропоткинская", там Игорь купил мороженое, достав из-за подкладки пятнадцать копеек. Он разломил мороженое пополам и протянул половину собаке. Та потупилась: извини, не могу, не люблю мороженое... или что-то в этом роде. И качнула хвостом. Мальчик расстроился было, но быстро все понял и рассудил так:
- Ты, значит, не хочешь есть? Тогда я съем один, можно? А обедать я не пойду. Потому что, когда я вернусь, вдруг тебя уже не будет? Я теперь не маленький и знаю одну вещь... сказать? - Он наклонился к висячему уху собаки, приподнял его и прошептал туда: - Уже через минуту все может стать иначе!.. Понимаешь?
И собака не то кивнула в ответ, не то просто опустила голову к земле: голова ее, должно быть, много весила. Потом подошла совсем близко к Игорю, положила огромную голову к нему на колени и вздохнула - тяжело, как море. Наверное, она сейчас уйдет. Игорь хотел, было опять плакать, но не стал.
- Если тебе надо идти, ты иди. Я буду тебя ждать. Всегда буду ждать. На той скамейке, где сегодня. Только ты приходи сразу как освободишься, чтобы я... чтобы я не разуверился. - И он поцеловал собаку в самый нос. Быстро поднялся и быстро пошел в сторону Сивцева Бражка. У маленькой лестницы обернулся: собака смотрела ему вслед. Потом затрусила по бульвару. Игорь перестал смотреть на нее, чтобы не бежать назад.
Тень Ученого проследила за тем, как он перешел дорогу и исчез в переулке - маленький, но очень хороший человек. Она сделалась совсем тусклой, Тень Ученого: так обычно бывает, когда вечер. Конечно, Тень Ученого опоздала уже всюду... впрочем, сцена на бульваре того стоила. Церемонию вручения награды, скорее всего, отменили. Или перенесли на другое время. Только бы не на ночь! Тень Ученого страдала, когда приходилось пропускать Большое Собрание в Элизиуме. Ей постоянно казалось, что именно в эту, пропущенную, ночь как раз и должна была состояться встреча с Тенью Ученика. Сам он погиб, но тень-то его куда исчезла? Тень Ученого предполагала самое страшное, и самое страшное было: ссылка Тени Ученика в область тьмы...
Тени живых становились все более тусклыми: понятное дело, вечер. И пора было подумать о том, чтобы вернуться на Атлантиду. Тень Ученого укоротилась, сжалась, собралась в клубок и, как мячик, катапультировалась в привычном направлении. Привет, Атлантида, дом, кров! Привет всем!
- Ну, что там у них новенького?
Опять эти вопросы, пустые эти вопросы... Вопросы, на которые как ни ответишь - все плохо. Боже мой, что их интересует, тени Атлантиды! Они ведут себя так, словно месяц назад утратили носителей и потому в курсе всех земных событий - сиюминутных, суетных, преходящих...
- У них... - Тень Ученого хорошо понимает, что опять не расскажет ничего интересного этим теням. - У них необыкновенно ранняя весна: представьте себе, уже прилетели все птицы, а на цветочных базарах продают гиацинты - это зимой-то в Москве!
- Ах, Вы опя-я-ять о Москве... И чего Вы туда постоянно летаете!
- Хороший народ, - вздохнула Тень Ученого, - один из последних, в котором отдельные люди пока интересуются вопросами о душе.
- Они все еще строят коммунизм?
- Думаю, что да. Но я ни с кем не обсуждал этой темы.
- А что пишут?
- Каюсь, не поинтересовался. Что-то пишут... Но вот какая штука: огромные очереди за мороженым, один мальчик минут двадцать стоял. Россия она и есть Россия.
- Хоть общее-то настроение там какое?
- Общее? - Тень Ученого не понимала, когда вопросы формулировались таким образом. - Настроение... что же... весеннее настроение, хорошее. Все без шапок давно ходят и улыбаются чаще, чем обычно. Вас это интересует?
Конечно же, их интересует не это. Тень Ученого едва ли способна все-таки понять, что их интересует. Во всяком случае, какие-то странные вещи. Непонятно даже, почему их заинтересовала "контактная метаморфоза": вроде бы, этот аспект жизни не должен был их занимать. Их сферы - политика, идеология, наука... оно, конечно, немножко смешно, если учесть, что речь идет о тенях Атлантиды - острова, затонувшего бог знает когда! Казалось бы, у них было время подумать о вещах более серьезных...
Что и говорить, размышления на подобные темы огорчали Тень Ученого. Атлантида, увы, обманывала его ожидания: она тоже оказывалась всего-навсего государством - пусть и очень развитым, пусть даже идущим впереди прогресса, но г-о-с-у-д-а-р-с-т-в-о-м... Системой. А в пределах Системы Тень Ученого существовать не могла. Конечно, когда-нибудь это плохо для нее кончится тут и думать нечего. Обольщаться же насчет ордена... что такое орден? Одна из форм поощрения Системой верного своего представителя. Способ признания его заслуг перед Системой. Авансирование преданности.
- Решением Специальной Комиссии Тень Ученого за успешное проведение эксперимента под названием "контактная метаморфоза" награждается тенью-ордена, - закончила Тень Председателя Специальной Комиссии уже звучавшее сегодня вступительное слово.
Тень Ученого подлетела к Тени Председателя и получила тень-ордена.
Полагалось, наверное, произнести ответную речь... Тень Ученого взошла на тень-кафедры и растерялась: за последние двести с лишним лет она забыла, как произносятся речи. А-а, была не была: хотите речь - пожалуйста!
- Тени Дам и Тени Господ! - Весьма старомодное, конечно, начало, но дело не в этом. - Я хорошо понимаю, что от меня требуется. От меня требуется поблагодарить членов Специальной Комиссии за оказанную мне честь. Я и благодарю членов Специальной Комиссии за оказанную мне честь. - Тень Ученого вздохнула. Наверное, этого достаточно. Церемония, к счастью, не слишком долгая: можно еще успеть на Большое Собрание в Элизиум.
- Что она говорит?!
- Это неуважение ко всем нам!
- Прежде всего, это попрание наших традиций, причем демонстративное попрание!
- Пусть тогда убирается в Элизиум!
Тень Ученого поняла, что произошло, слишком поздно: она произнесла вслух то, о чем собиралась только подумать!.. А Атлантида уже гудела гудела монотонно, на одной ноте... этакий рой пчел, летящих-в-одном-направлении. Тень Ученого взглянула туда, где была Специальная Комиссия. Члены Специальной Комиссии поспешно совещались. Стало быть, все пропало? И сейчас Тень Ученого под конвоем спровадят в Элизиум, где этого только и ждут... Где каждую ночь Совет Атлантических Теней выделяет специальные тени на время Большого Собрания: следить, не появится ли в Элизиуме тень-нон-грата, чтобы схватить ее и уничтожить тут же, без суда и следствия. Значит, напрасны все предосторожности, предпринимавшиеся Тенью Ученого, все ухищрения, к которым она прибегала, дабы ее не узнали в Элизиуме... Значит, прощай, Тень Ученика?
- Я прошу внимания! - Тень Ученого почти с удивлением услышала свой голос. - Я прошу внимания... Высокочтимые Тени! Прежде чем решать, что со мной делать, вам следует выслушать меня. Это в ваших интересах - один раз узнать правду о себе. Потом вы забудете мои слова, но изредка - время от времени - они все-таки будут беспокоить вас... впрочем, только беспокоить не больше. Не нужно бояться: я не представляю угрозы для вас, что бы ни говорил. Ведь Атлантида сильна единством-своих-рядов: какое бы то ни было брожение умов исключается в вашем обществе, в обществе единомышленников. Так что малая толика сомнения не опасна для столь надежной государственной системы. Напротив, она придаст вашему существованию известную пряность.
...И сделалось тихо на Атлантиде: пчелы насторожились. Члены Специальной Комиссии перестали совещаться. Это не была тишина внимания. Это была тишина ужаса, состояние оцепенения цепи, жесткой фиксации каждого ее звена. Ну что ж... тем лучше.
- Высокочтимые Тени! Легендарные Тени затонувшего острова... Естественная логика жизни предписывает не поручать слепцам строить дороги. По дорогам, проложенным слепцами, невозможно проехать - значит, дороги эти не нужны.
Когда я думаю о том, чем занимаетесь вы, мне все время видится именно эта картина: слепцы строят дороги. Множество слепцов, забывших о своем недуге и с упоением предающихся деятельности, результаты которой заведомо не принесут пользы... Вы, мертвые Тени мертвых людей, добровольно отказавшиеся от жизни в силу, может быть, и объективных обстоятельств (сейчас не время разбираться с этим), взяли на себя задачу просвещения живых. Вы посылаете им "щадящие", как вы их называете, сигналы-с-того-света, приветствуете новые формы "щадящих" контактов и считаете себя великими гуманистами, исполненными самых благих намерений. Но я не возьму на себя смелость говорить о ваших намерениях: они могут быть тысячу раз благими. Я расскажу вам о результатах вашей работы... то есть о безрезультатности вашей работы, в чем мне приходилось неоднократно убеждаться там, на Земле. Вы ведь знаете, что я часто отправляюсь туда - в отличие от вас, не снисходящих... Так слушайте: сигналы, посылаемые вами, не читаются как сигналы, посылаемые вами. Позволю себе вспомнить коротенькое стихотворение Александра Блока, был такой русский поэт. В стихотворении этом говорится о том, как "из ничего - фонтаном синим - вдруг брызнул свет..." И о том, как потянулись к нему, и о том, как он стал принимать различные очертания и оттенки - "зеленый, синий, желтый, красный - вся ночь в лучах! И, всполошив ее напрасно, - зачах". Вам это никого не напоминает, высокочтимые Тени? Мне это напоминает вас. Ведь именно вы ставите перед собой задачу, недостойную атлантических традиций, всполошить живых, и только. В этом, может быть, вы достигли больших успехов - и нужно быть бесчестной тенью, чтобы отрицать их...
Я не отрицаю ваших успехов, поверьте. Хотя бы потому, что тысячи и тысячи теней с благоговением говорят о них в Элизиуме: для этих теней вы служите примером вечного подвига на почве восстановления единства мира. Так думал и я, находясь на Елисейских полях. И усматривал в этом великую гуманистическую миссию Атлантиды. Но уже здесь мне стало понятно, что легенда об Атлантиде сильно искажает реальность. И я заявляю со всей ответственностью: Атлантида - не то, что говорят о ней.
Щадящие контакты... На первых порах, когда мне только объяснили их сущность, я подумал: какая дальновидность! какая забота о человечестве! какое самоотречение! Щадя рассудок живых, они, великие Тени, отказываются от прямых контактов с ними, обрекая себя на вечную изоляцию... Однако чем дальше, тем больше я понимал: предпочтение так называемых щадящих контактов есть следствие крайнего эгоизма атлантических теней. Вместо того, чтобы веками работать над созданием совершенного человека - человека, ощущающего жизнь и смерть как этапы вечного и неуничтожимого круговорота бытия... человека, несущего в себе пространственно-временной универсум, вы, высокочтимые Тени, поощряете в живых узость и косность представлений о бытии, боясь разрушить хоть один из человеческих предрассудков и мотивируя это любовью к человеку! А ведь человека надо воспитывать... надо выращивать в нем свободную личность, не зависящую от условий места и исторических обстоятельств. Да, тысячу, предположим, лет назад щадящих контактов было достаточно, чтобы поколебать уверенность человека в однократности бытия: он видел нечто сверхъестественное и немедленно делал вывод о присутствии в мире п-о-т-у-с-т-о-р-о-н-н-е-г-о. Душа его была открыта для восприятия чуда рассудок обширен, чтобы вместить в себя идею абсолюта: Бога, Мирового Разума... Но человечество постепенно эволюционировало - применительно к развитию человечества должны были развиваться и те формы контактов с тенями, к которым прибегали на Атлантиде. Теперь не хватало щадящих контактов: знаки, посылаемые из мира иного, следовало сделать уже более явными, чтобы каждый знал: не один только раз живем на свете, а жили и будем жить еще. Чтобы каждый верил в реальность встречи потом: просто взглянуть в глаза современнику и просто сказать ему там:
- Ты убил меня.
- Ты обманул меня.
- Ты обокрал меня.
Я не говорю уже о счастливых встречах, о встречах желанных, невозможность которых подтачивает жизнь стольких людей. Просто крикнуть навстречу родному человеку:
- Здравствуй!
И услышать в ответ:
- Здравствуй!
Только религия, эта наглядная философия, одна держала на себе тяжесть заботы о человеке совершенном, о человеке внутреннем - честь и слава ей. Вы же, атлантические Тени, все увеличивали ассортимент щадящих контактов...
И настало время времен, и душа человека закрылась окончательно, а разум закоснел. Прибегнуть ли вам теперь к щадящим контактам - теперь, когда плоть кричит о себе дурным голосом и когда единственно мыслимая для вас форма контактов с живыми есть беспощадный контакт! Тень отца является к Гамлету и требует правды. Тень возлюбленной садится у изголовья постели: - Ты любил меня, помни, я теперь тень. Беспощадный контакт - вот что такое сегодня любовь к человеку. И пока я здесь, я буду работать над исследованием беспощадных контактов - даже вопреки тому, что вся Атлантида занимается щадящими. Поздно, высокочтимые Тени. Вы отстали на много веков. Вы отказались от повторных воссоединений с носителями, интересуетесь теперь лишь внешними сторонами жизни - политика, идеология и прочая дребедень! но, я думаю, вы навсегда утратили чувство почвы. А тень, как известно, можно отбросить лишь на почву. Вне почвы тени нет. Вы самоуничтожились. И сегодня, наверное, никто из вас не сможет сказать в точности, что еще есть в жизни человека, кроме внешних ее сторон...
И последнее. Вы гордитесь тем, что вам некого искать в Элизиуме в часы Большого Собрания: ведь вы все в сборе. Но подумайте о тех, кого вы своим эгоизмом, своим нежеланием следить за эволюцией рода человеческого обрекли на, может быть, вечную разлуку. Какой спрос с теней Элизиума!.. Они утрачивают индивидуальность и забывают о прошлом. Немудрено, что им трудно, иногда невозможно найти друг друга. А повинны в этом вы - хранители индивидуальности, которые не знают, как использовать ее и скучают на огромном своем острове, забавляясь игрушками вроде тени-радио и тени-телевидения... Забыв о тех, кто не хочет или не умеет этого - забывать.
Я в последний раз попал на Елисейские поля двести лет назад - тенью, которая, как и все прочие тени, помнит лишь последний свой витальный цикл. Мне трудно предположить, кем бывал я до этого и почему столь безболезненно расставался с индивидуальностью, вырабатывавшейся в ходе более ранних витальных циклов... Наверное, те формы индивидуальности и в самом деле не стоило сохранять! Но эту, сохраненную мною пусть и частично, я берегу теперь как зеницу ока. Я лишил себя права на новые витальные циклы ценой сохранения памяти о старом и счастлив тем, что мне есть кого искать в часы Большого Собрания. Я ищу одну только тень - тень, которая двести лет назад могла бы крикнуть мне: "Магистр!", но которая к настоящему времени, скорее всего, и не вспомнит обо мне. Я же помню о ней постоянно и буду искать ее до тех пор, пока не утрачу индивидуальность... а добровольно я не утрачу ее никогда! И постараюсь никогда не забыть, кто я такой. Я магистр.
- Магистр!
И полетела по воздуху тень... странного вида тень, а Тень Ученого протянула уже тени-рук - тени островитян расступились. Но в тот самый миг, когда Тень Ученика коснулась Тени Ученого тенью-руки, летящая эта тень вдруг свернулась в подобие мячика, оттолкнулась от Тени Ученого и... Она исчезла из поля зрения, Тень Ученика. Тень Ученого упала замертво, выронив тень-ордена, издавшую тень-звона.
Присутствовавшим было, в общем, понятно, что случилось. Ничего особенно страшного не случилось: просто Тень Ученика срочно понадобилась носителю. Значит, это не была мертвая тень: носитель ее в данное время совершал очередной витальный цикл. Однако совершенно непонятным оставалось, каким образом тень носителя этого сумела сохранить в памяти прежнее свое воплощение: ведь только распростившись со старой индивидуальностью, могла она приобрести новую!
А Тени Врачей уже привели Тень Ученого в тень-чувства. Тень Ученого крутила тенью-головы, не понимая, что произошло... ах, да: магистр! Тень Петра Ставского окликнула его, а уж эту-то тень магистр запомнил как следует. Значит, все-таки не случайно. Не случайно встретились они в троллейбусе, шедшем по Гоголевскому... Однако оставаться на Атлантиде сейчас - тем более после такой "блистательной" речи - форменное безумие. И Тень Ученого - прямо из теней-рук Теней Врачей - ускользнула в мир: точно по знакомой дорожке. Двадцатого января тысяча девятьсот восемьдесят третьего года, ближе к утру...
Точно по знакомой дорожке шел уже известный нам Станислав Леопольдович - высокий сухопарый старик: берет, пальто, шотландский шарфик. Шел и ругал себя на чем свет стоит... А свет, к несчастью, стоял на том, что нет ничего случайного в мире, - и пора бы, пора бы вообще отказаться от этого слова "случайность", придуманного людьми, которые не знают, какими путями ходит провидение! Но ведь только такими - непредсказуемыми! - путями и ходит оно... А он-то, дурак старый, три дня гадает, встречаться ему второй раз с Петром или не встречаться! И до сих пор не решил... Игоря вот повидал -маленького-человека-у-которого-нет-собаки, а Петра повидать испугался. Но Игорь-то принял собаку как данность, как первую просто реальность - отодвинутую, правда, далеко в прошлое. Что же касается Петра... С ним Станислав Леопольдович постоянно, весь вечер балансировал на грани второй, елисейской, реальности, то и дело почти срываясь в пропасть, - так что о второй встрече надо было очень-и-очень-подумать. Удержаться на узенькой полоске между бытием и небытием Станислав Леопольдович не мог гарантировать даже себе самому... Один был выход - раскрыть карты. Но так вот взять и сразу раскрыть?..
Однако - "Магистр!"... Значит, помнит душа Петра прошлую жизнь, живя жизнью этой, - не может помнить, а помнит. Сам-то Петр едва ли помнит: быстро, ох быстро живут люди! Но душа не забыла, тень не забыла - это важнее. Да иначе и быть не могло: понимал ведь он, дурак старый, что над пропастью, над тою самою пропастью подхватил Петра три дня назад! И какая разница - тот Петр, другой Петр: че-ло-ве-ка подхватил он над пропастью, просто человека... и держит над ней - ни туда ни сюда.
Измученный мыслями этими, Станислав Леопольдович до самого утра проходил по Гоголевскому: до Гоголя и обратно, от "Кропоткинской" и обратно, до Гоголя и обратно... У метро торговали мороженым. Стал в очередь, постоял с минуту... махнул рукой - отошел. Забавно все-таки ловить себя на человеческих желаниях: съесть или выпить чего-нибудь - не-воз-мож-но: ты тень. Но сильная штука - моторная память, м-да. Издержки контактной метаморфозы... Полное ощущение просто-жизни, ан не жизнь. Что-то вроде самоощущения спящего: именно так ведут себя люди во сне, когда все дается легко и нет ничего невозможного. Ночью за них живет тень: тело безвольно. Днем же - наоборот: тело живет, а тень безвольна. Ночь компенсирует день, день компенсирует ночь - смерть компенсирует жизнь, жизнь компенсирует смерть. На этой тонкой компенсации и основан эффект контактной метаморфозы: жизнь человека есть "смерть" его тени, смерть человека есть "жизнь" его тени... И сон человека есть "жизнь" его тени.
И шагает по Гоголевскому - до Гоголя и обратно - живая тень мертвого человека...
Но Петр! Где теперь дожидаться его? Здесь ли, на бульваре, - там ли, у "Сокола"? Впрочем, есть Провидение - пусть оно позаботится обо всем. "Петр, - скажу я ему, - тень как дух знает все - плоть как материя ничего не знает; тень как дух не ветшает - плоть как материя изнашивается!" Он поймет меня, он один поймет меня - и пусть хоть в нем одном восстановится универсум: он будет знать жизнь своей тени. И вспомнит тогда то, что так прекрасно сформулировано этим русским мудрецом Ломоносовым: ничто не исчезает, все лишь трансформируется!.. Только и требуется - мостик от человека к его же тени, мостик с того света на этот... и как была бы прекрасна жизнь!
Станислав Леопольдович опустился на скамеечку и не заметил рядом с кем. Сидели уже на этой скамеечке - какая разница кто.
- Жизнь и без того прекрасна, - услышал Станислав Леопольдович, взглянул на соседа и невесело улыбнулся.
-Это Вы, - сказал он без удивления. - Опять Вы.
- Опять. Надоел я Вам? - улыбнулся сосед по скамеечке.
- Ну что Вы, нисколько... Вы, значит, все-таки убеждены, что жизнь прекрасна. Даже жизнь в полном неведении!
- Именно в полном неведении и прекрасна, - откликнулся сосед с поспешностью и горячностью, смутился - не то поспешности, не то горячности и объяснил: - Видите ли, дорогой Вы мой... Только полное неведение готовит почву для случайностей - и кому как не Вам знать это! Самое замечательное в жизни и есть то, что все или почти все в ней происходит случайно. Прелесть новизны, извините за выражение... Каждый витальный цикл - новый набор случайностей, какой же тут может быть опыт? Господи, зачем я все это Вам говорю! Ведь я-то только предполагаю, а Вы знаете! Вы побывали уже там - и стало быть, понимаете...
- Я понимаю! Но иногда... часто, как бы сказать, почва уходит из-под ног, знания кажутся неточными...
- А Вы так уж уверены, что Вам нужны точные знания? Что человеку вообще - нужны точные знания? Например, знание того, что Бог есть? И есть, стало быть, кому предъявлять претензии! А посмотрите: маленькое сомнение... крохотное! - и вот уже непонятно, кто виноват в том, что все так, а не иначе: Бог или ты сам. Или во-он тот прохожий человек... И тысячу, тысячу раз прав был Христос: если бы хоть у кого-нибудь из нас набралось веры с горчичное зерно - мы могли бы горы двигать! Но горы стоят на месте, а люди сомневаются... тем и живут. Ведь должны горы стоять на месте! Точное знание - конец мира. А жизнь так и дается - на пробу: в одном витальном цикле -одно, в другом - другое.
- Вы правы, правы... Но для того, чтобы рассуждать как Вы, надо знать про тени. Вам вот повезло, Вы знаете. Вам известно, например, что такое витальный цикл...
- Известно, но, признаться, сомневаюсь и я. Я знаком с прекрасными людьми, утверждающими, что нет никаких теней... нет Элизиума, нет Атлантиды, - и, представьте себе, люди эти живут в согласии с собой. И они тоже правы... И они тоже правы, и Вы правы, и все правы, - серьезно повторил собеседник. - Но, кажется, с Вами хотят познакомиться. Эта дама в третий раз проходит мимо нас. И я подозреваю, что она сумасшедшая. Держитесь, милый Вы человек! - Собеседник исчез мгновенно - как не было.
И подпорхнула к Станиславу Леопольдовичу дама... м-да. В лакированных туфельках по слякоти. И с лакированной сумочкой - неуместнейшим образом театральной. В пальтеце - выцветшем в прошлом веке - с рыжим мехом диковинного животного. Но, наверное, - когда-то - красивая. Наверное-когда-то-очень-красивая.
- Вы, ради бога, простите меня. - Станислав Леопольдович заунывал сразу. - Меня зовут Эмма... Эмма Ивановна... да... Эмма Ивановна Франк.
- Что само по себе очень приятно. Станислав Леопольдович.
- Видите ли в чем дело... Меня зовут Эмма Ивановна Франк. - Второй круг начался немедленно. - И это дает мне право... нет, простите, я хотела сказать... - И сбилась. И замолчала, и казалось - навеки.
- Это дает Вам все права.
- В самом деле? Вы очень любезны. Я не знаю, с чего начать. Это странно... то, что я намерена Вам сказать, и может... способно... произвести такое дикое впечатление, ужас!.. - Как-то даже немножко перепугался Станислав Леопольдович. - Но я скажу, с Вашего позволения. Вчерашней ночью я видела Вас во сне.
- Именно... меня? Спаси6о, конечно...
- Не перебивайте, умоляю Вас. Разумеется, это выглядит... ну, в смысле там... знакомства - так я не преследую этих целей, клянусь Вам!
- Верю! - присягнул Станислав Леопольдович. - Да мы с Вами и не в том возрасте, чтобы... Дама сочла необходимым обидеться.
- Это Вы, может быть, не в том возрасте, а я, извините, в том самом, в котором нужно.
В общем и целом прошел испуг у Станислава Леопольдовича. А дама была в конце концов смешной... и, как бы это обозначить, прелестной - нет, прелестною.
- Простите меня, - с огорчительностью даже исправился Станислав Леопольдович.
- Вы прощены. Так вот, я видела Вас во сне и очень хорошо запомнила. Не стану скрывать, во сне Вы произвели на меня удивительное впечатление.
- А наяву?
- И наяву, - просто сказала Эмма Ивановна Франк. Вот те раз! Кажется, начинался роман.
- Я должна рассказать Вам о себе. И о Вас, как это ни неожиданно. Выслушайте меня по возможности молча.
- Я весь внимание.
- Спасибо. Меня зовут Эмма Ивановна Франк. Эмма Ивановна Франк. ("Я уже никогда не забуду этого имени!" - с тоской подумал Станислав Леопольдович). Я живу здесь... неподалеку. Я певица, я пела... пою. Через час, например, я буду петь. Я пою в одном вокально-инструментальном ансамбле, он называется "Счастливый случай" - прекрасно, правда? Там милые мальчики и девочки, они разрешают мне спеть два-три романса за вечер... тут, в одном ресторане. И, знаете ли... у меня есть публика, на меня идут, я пользуюсь некоторым успехом, да... Но кроме этих мальчиков и девочек - я не говорю, конечно, о поклонниках, что - поклонники!.. - так вот, кроме мальчиков и девочек этих, у меня никого нет: одна я. Прежде я жила с подругой. Она умерла год назад... видите ли, рак. Теперь я совсем одинока. Мужа у меня не было никогда - по моей вине, разумеется. Знаете, почему? Потому что давно... в юности, а впрочем, не так уж и давно, я придумала себе образ - не смейтесь, умоляю Вас!..
- Ни в коем случае, - умирая от смеха, заверил Станислав Леопольдович.
- Образ... человека, которому я могла бы подарить свое сердце. Я никогда не встречала этого человека, но терпеливо ждала. Я ждала всю жизнь. Это Вы. Вы... удивлены?
- Ничуть, - сделался вдруг серьезным Станислав Леопольдович. - Потому что так оно и бывает.
- Так и есть! - усугубила Эмма Ивановна Франк. - Сначала я увидела Вас во сне и считаю своим долгом рассказать Вам, да... Там, во сне, Вы произносили речь, об эволюции человека, да... И я весь день пыталась вспомнить, однако тщетно. Зато вспоминаю другие какие-то подробности сна; там была долгая жизнь - у меня и у Вас, общая. Потом я что-то сделала - и этого не стало, то есть жизни не стало общей, да... Но после, после, а сначала она была - и забавные из нее вспоминаются вещи: все кисет вышивала.
Эмма Ивановна Франк как бы опомнилась на минутку, чтобы остановиться, может быть, - не говорить чтобы дальше.
- Пожалуйста, прошу Вас... кисет - и как же это было? - Станислав Леопольдович смотрел пристально.
- Ах, да я не помню как... я ведь не умею вышивать в жизни, только во сне умею. Вышивала, значит, кисет... Долго и старательно, но Вы смеялись: зачем, дескать! Вы и вообще все время надо мной смеялись, пока мы жили вместе. Но в конце концов я закончила с кисетом - и он Вам даже понравился.
- Это было, - серьезно сказал Станислав Леопольдович. - Я знаю.
- Откуда Вы можете знать?
- Знаю - и все тут.
- Ах, ну да... - Эмма Ивановна смутилась. - Вы добрый... Я вот никак не решусь спросить - жена есть у Вас? Дети?
- Нет. У меня никого нет.
- Я так и думала! - крикнула дама. - Давайте, - тут она перешла на шепот, - давайте жить вместе! Я стану заботиться о Вас, мы можем у меня жить... Вы кем работаете?
- Я... я работаю экспертом.
- Что-то очень серьезное?
- Чрезвычайно, чрезвычайно. - Станислав Леопольдович начертил в воздухе немыслимую какую-то фигуру. - И вследствие этого со мной вообще нельзя жить. Я в командировки часто уезжаю - длительные. Иногда даже на несколько месяцев... на много месяцев.
- Ну и что? - Эмма Ивановна Франк была сама невинность. - Я, естественно, буду верно ждать Вас...
- Характер у меня дрянной, кроме всего... прочего. Я ведь давно не был женат, сто с лишним... двести, нет... даже еще больше лет!
- Я тоже не сахар, - призналась Эмма Ивановна Франк. - Но я все-таки гораздо моложе - столетия на два с половиной. Раньше меня называли "чертенок". Я и сейчас, в сущности...
- Смелое признание! - рассмеялся наконец Станислав Леопольдович. - Но у меня, знаете ли, куча родственников. Очень старых. И очень больных. Эмма Ивановна Франк не отвечала.
Она достала платочек - белый, батистовый - и приложила к левому глазу. Она плакала.
- Вы же сказали, что у Вас нет никого. Не возражайте, я все поняла. Вы не хотите со мной жить. Скажите честно, Вы решили, что я... порочна?
- Господи, да о чем Вы! Поймите, со мной нельзя жить, у меня... у меня болезнь - страшная, неприятная, отвратительная!
- Я люблю Вас, - сказала Эмма Ивановна Франк в землю. - Мне неважно, какая у Вас болезнь. Я любила Вас всегда. - И - подняв уже глаза: - Ладно. Мне пора петь. Я... я не должна быть такой настойчивой, но на всякий случай Вы запомните мой адрес...
- Это ни к чему, - остановил ее Станислав Леопольдович. - Я найду Вас сам, если... если что.
И Эмма Ивановна Франк начала уходить в сторону - сухонькая старушка на тонких каблучках, с белым батистовым платочком в руке - крохотным флажком капитуляции, капитуляции, капитуляции...
- Прекрасная ты моя Дама! - тихо-тихо сказал Станислав Леопольдович, опустив голову, чтобы не смотреть ей вслед... На руку капнуло. - Слеза, вчуже подумал он и вздрогнул: - Откуда у меня слеза, ведь я тень!
Глава СЕДЬМАЯ
У АИДА Александровича
- На каком это языке?
- Я не поняла... кажется, не по-русски. Ты какой учила?
- Английский, но... это не по-английски.
- Аид Александрович, Аид Александрович, она что-то говорит, мы не можем понять!
Аиду Александровичу было восемьдесят семь лет. Он выглядел лет на двадцать моложе: сухой, как старое дерево, и даже весь немножко поскрипывающий... нет, похрустывающий - халатом, накрахмаленным до одеревенелости. Аид Александрович носил круглые небольшие очки в тонкой стальной оправе: за стеклами были острые, стальные же глаза, впивавшиеся в собеседника, как отравленный дротик. И ходил он странно - буратиньей походкой, педантично сгибая и разгибая колени, словно голень приделана к бедру шарниром. Язык имел острый, как хирургический нож, и рассекал им все, что попадалось под руку, - причем сшивать потом было очень трудно, да и ни к чему: сшитое рассекалось снова - без сожаления. Впрочем, говорил совсем скупо: чуть ли не несколько слов за день. Однако хватало - и большего уже не хотелось. Буратиньей походкой Аид Александрович подошел, прислушался.
- Древнегреческий.
- Ой, Аид Александрович, откуда Вы знаете?
Ответа не последовало. Озадаченная практиканточка подождала даже больше, чем было положено. Она не знала местных традиций и опять спросила:
- Отчего это происходит? Она ведь, вроде бы, не гречанка...
- И не похоже, чтобы древняя, - охотно на сей раз подхватил Аид Александрович. - Двадцать четыре века пролежать в земле - и так сохраниться... сомнительно, а? - Практиканточка заткнулась раз и навсегда, а врач позвал в пространство: - Рекрутов! - И возник из пространства ночи молодой розовощекий херувим.
- Здесь, Сергей Степанович, мы имеем дело с чрезвычайно интересным явлением постепенного включения сознания: сначала начинают работать глубинные клетки мозга и лишь потом - периферийные. Вы свободны.
Освобожденный Рекрутов машинально отправился восвояси, не будучи в силах осмыслить предложение-такой-длины из уст Аида Александровича и все еще заглатывая на ходу последние слова, словно желудочный зонд.
- Я не понял, - сказал он у двери, почти уже выйдя. У херувима оказался густой, подземельный какой-то бас.
- Вернитесь, - потребовал Аид Александрович. Рекрутов вернулся.
- Повторяю. Глубинные клетки мозга хранят информацию, прочно забытую, она и выплывает прежде всего, если считать, что мозг включается постепенно от центра к периферии. По-видимому, в глубине сознания этой девушки греческий... гм, древнегреческий язык: она могла изучать его в кружке, на первом курсе института или где угодно, но со временем язык забылся, ушел в пассив. Когда она выйдет из состояния шока, т.е. мозг ее полностью включится, периферия активизируется - и тогда девушка, может быть, не вспомнит ни одного слова по-древнегречески. Теперь все ясно?
- Почти. Хотелось бы, однако, понять, о чем она говорит, - просто так, из любопытства.
- Что ж, если угодно... Да нет, она просто бредит. В ее словах нет смысла. Судите сами: "Они поставили опыт... он, это он поставил опыт от их имени... за тобой наблюдают... за каждым наблюдают... страшное общество; все наблюдают друг за другом, а он наблюдает за всеми... наблюдающий за наблюдателями... сорок монет"... Достаточно?
Рекрутов пожевал губами, сказал из-под земли: - Достаточно, наверное. Спасибо... А это не могут быть события какие-нибудь - те, которые с ней действительно происходили?
- Чтоб сообщать о них на древнегреческом?
- Почему бы и нет? Если предположить, например...
- Не надо ничего предполагать. Знать надо. Вы свободны опять.
Рекрутов сделал несколько шагов.
- Но, может быть...
- Да замолчите Вы наконец! - вскрикнул, почти взвизгнул Аид Александрович. - Не суйтесь не в свое дело. Выйдите отсюда! И вы тоже! - он ткнул пальцем в насмерть перепуганных практиканток, недавно присланных в отделение соматической психиатрии.
Все трое кинулись вон из палаты - что называется, взапуски. А Аид Александрович быстро опустился на одно колено, приблизил лицо свое к самому лицу бредившей. Он весь дрожал, и глаза были безумными: преступник-маньяк за несколько секунд до преступления. Он вбирал в себя древнегреческий текст, он как бы пил его, хмелея от каждого нового слова.
-...он хочет поймать тебя на невнимательности... но ты не давайся, ты обернись... нужно успеть увидеть все, успеть не пройти мимо... я погибну, но игра стоит свеч... запомни то, что увидел... оно пригодится... это твой козырь... так царь Аид играл с тобой, помнишь... и я погибла тогда... но есть нечто сильнее любви... и я опять погибаю... о, выше любви, больше любви - и я смеюсь над тобой, царь Аид...
Она говорила все тише: Аид Александрович почти припал к ее губам. Он напоминал теперь хищную птицу, вонзающую в жертву клюв, - не дай бог, чтобы кто-нибудь вошел сейчас в палату. Но кончился, кончился шепот, питавший его, - и Аид Александрович отвалился от кровати, словно напившись крови... вампир, удовлетворенный полностью. Все остальное его как бы уже и не интересовало. Он поднялся, вытер о халат вспотевшие руки и улыбнулся - не приведи господи увидеть, какою улыбкой!
- Так-так-так-так... - пропел он над почти-трупом девушки. - Все, стало быть, отлично. Рекрутов! - и не дожидаясь ответа, отправился к двери, в проеме которой белел уже херувим, с почтением врача пропустивший. Посмотрите за ней.
- Посмотрю, - нет, неописуемый все же бас! - Посмотрю, конечно. Теперь уже Рекрутов близко-близко наклонился к постели - и вдруг с тихой улыбкой погладил девушку по щеке, тут же однако от постели отшатнувшись: Аид Александрович возвращался - и не один, а с высоким молодым человеком в случайном халате на плечах: это без двадцати-то двенадцать ночи! Ничего себе, посещение...
- Присядьте, - Аид Александрович нажал на плечо в случайном халате. Быть здесь запрещено, но Вы побудьте недолго, Вы уговорили меня всего. - И к Рекрутову: - Идемте.
...Первое, что увидела Эвридика, было: Orpheus - синим по белому. Она незамедлительно закрыла глаза. Ну, что ж... Тартар так Тартар. Правда, смешно немножко: полное совпадение с мифом. И даже как-то нарочито. А если бы меня назвали Афродита... Клеопатра... Надо припомнить, как я умирала: могут спросить. Смерть показалась ей экзаменом. Значит, сначала я все-таки попыталась обернуться, но, кажется, не успела: был удар по всему телу - с размаху по всему телу. Дальше - долгий полет сквозь длинный темный коридор и в конце его - слово "Orpheus ". Вроде, все так. И она опять открыла глаза: прямо перед ней сидел Статский. Эвридика вздрогнула, зажмурилась, стала наблюдать через щелочки. Действительно, Статский. В белом халате. Лацкан отогнут. Из-под лацкана - свитер. На свитере - большой значок с надписью "Orpheus". Так умерла она или не умерла?.. Эвридика не успела ничего с этим решить: все поплыло перед глазами. Частые сухие шаги по коридору...
- Доктор, - взмолился Петр, - если она открыла глаза, то...
- Глубокий шок. - Аид Александрович мельком взглянул на Эвридику. - С возможным серьезным повреждением центральной нервной системы в случае возобновления соответствующей эмоции. Пока все.
- А дальше?
- Дальше ни за что не ручаюсь. Положение очень серьезное. А Вы муж Эвридики?
- Эвридики?
- Ну да... так ведь зовут девушку?
- Так, так, - поспешил ответить Петр. - Вообще-то я пока что не муж... Но скоро буду мужем. Простите, как Ваше имя-отчество?
- Аид. Аид Александрович.
- Господи!.. - не сдержался Петр.
- Понимаю Вас, - коротко кивнул врач. - Многовато для одной ситуации: Эвридика да еще Аид. - И улыбнулся: - Мужайтесь.
Петр подхватил улыбку на лету - как успел: улыбнулся в ответ почему-то только левой стороной губ.
- Мне можно тут быть... еще?
- Увы, нет. Я не знаю, какое впечатление произведет на нее Ваш вид. А ей сейчас нужны только слабые эмоции. До свиданья.
- До свиданья. - Петр посмотрел на Эвридику. - Но... как я узнаю, когда можно прийти?
- Вызывайте прямо меня - я все сообщу Вам.
- Спасибо. Спасибо... Аид Александрович.
- Да, - остановил его врач. - Тут вот сумочка. Сведения из студенческого билета мы выписали, пока хватит. Родителям, конечно, Вы сами сообщите?
- Сам, - сказал Петр.
- Вы не очень уж... - послал ему вслед Аид Александрович.
- Спасибо.
На улице Петр открыл сумочку. Вот он, студенческий билет: Эвридика Эристави... потрясающе! Записная книжка... на "Э" пусто. Конечно, кто ж записывает собственный телефон, надо просто позвонить по любому номеру: может быть, дадут адрес, если это вообще в Москве. В Москве, а не в Тбилиси, например! Так, буква "К"... Ну, вот хоть, скажем, Колобкова Света.
- Алло?
- Света, меня зовут Петр, здравствуйте. Простите, я поздно...
- Здравствуйте очень приятно а Вы кто?
- Я знакомый Эвридики. Мне в данный момент нужен ее адрес.
- Это очень странно что Вы знакомый Эвридики а адреса ее у Вас нет и как же Вы можете думать что я дам Вам ее адрес когда я не знаю в каких Вы отношениях с Эвридикой и уже ночь!
- Видите ли, тут случилось несчастье, ее машина сбила. Я с ней ни в каких отношениях.
- А откуда Вы знаете что ее машина сбила если Вы ни в каких отношениях простите конечно что я интересуюсь...
- Это долгая история, Света. Мне сейчас не до того, мне адрес нужен.
- Зачем?
- Странный вопрос. - Петр уже почти озверел. - Я должен сообщить ее родителям.
- А ее где машина сбила не около дома?
- Но Света... - взревел Петр. - Я же не знаю, где ее дом, как я могу сказать, около или не около!
- Все-то Вы наверное врете Вам просто адрес ее нужен вот Вы и... а мой телефон откуда у Вас да еще в такое время?
- Вы дура, Колобкова Света. - И Петр повесил трубку: в самом деле, невозможно больше!
Следующим был номер, состоящий почти из одних восьмерок.
- Да, - ответил низкий мужской голос, и тут только Петр заметил, что напротив номера нет ни фамилии, ни даже инициалов.
- Здравствуйте... С Вами говорит Петр... Петр Ставский. Простите, что беспокою Вас так поздно, но ситуация крайняя...
- Добрый вечер, - не представились в ответ.
- Дело в том, что... простите, я не знаю, с кем говорю, мне нужен адрес Эвридики Эристави. Или хотя бы телефон, но лучше адрес. Тут такая история... ее машина сбила на улице, мы имя узнали из студенческого билета, он в сумочке был, а адреса ее нет в записной книжке - и в университет поздно звонить: ночь уже... Ее не насмерть машина сбила, Эвридика жива. Надо как-то родителям сообщить.
- Молодой человек, а Вы были при катастрофе, позвольте спросить?
- Да, - не стал отрицать Петр, - мне едва удалось вытащить ее из-под колес.
- О, господи, - простонали в трубке, - как же Вы нерасторопны, как преступно Вы нерасторопны! Страшно, когда в такую минуту рядом оказывается увалень вроде Вас! Вот уж никому не пожелаешь!
- Я...я не понимаю... Я сделал все, что мог, - оправдывался Петр, смутно начиная чувствовать роковую какую-то свою вину.
- А... ладно, записывайте адрес, чего уж тут!.. Маму Эвридики зовут Нана Аполлоновна, а папу и бабушку... я пока не знаю или забыл. И впредь будьте внимательнее.
Трубку опустили. Петр не понял конца реплики, но вдумываться не стал, а поехал на станцию "Аэропорт": оказалось, что они с Эвридикой жили почти рядом.
Улица Черняховского, писательские дома. Пройти в арку, направо... Он остановился у подъезда: как это все сказать?.. Одно дело - по телефону неизвестно кому... Нана Аполлоновна, значит. Ох-ты-боже-мой.
Дверь в квартиру, конечно, не открыли: смотрели в глазок. Петр подождал, позвонил еще раз, хоть и ясно было, что за дверью кто-то стоит.
- Вам кого, молодой человек? - Женский голос, сильно испуганный.
- Вы Нана Аполлоновна, мама Эвридики?
- Да, но кто Вам сказал? - В голосе - ужас.
- Откройте, пожалуйста... Не могу же я объясняться через дверь!
- Я сейчас мужа позову... Сандрик!
Наконец дверь отворилась. На пороге стоял синий халат с кистями и неприветливым лицом.
- Здравствуйте, - сказал Петр. - Простите, что в такое время...
- Вас, может быть, с лестницы спустить?
Нет, это уже начинает огорчать...
- Не очень-то вы гостеприимны, - не выдержал Петр.
- Зато Вы очень развязны.
- Я? - Петр огорчился окончательно.
- Зачем Вы преследуете мою жену?
Москва - это все-таки город сумасшедших. Надо запомнить: "Москва город сумасшедших", - и успокоиться раз и навсегда.
- Я никогда не видел Вашей жены, - смиренно отвечал Петр.
- Прекрасно видели! Вы на работе ее насмерть перепугали, теперь домой пришли? Да еще ночью!
Петр силился вспомнить, кого в своей жизни он насмерть перепугивал на работе, но вспомнить не смог.
- Простите, тут какое-то недоразумение. Вы меня с кем-нибудь путаете, но дело не в этом. Я по поводу Эвридики...
- Вы знакомы с Эвридикой?
- Да. То есть... нет. Ее пришлось отвезти в больницу.
- Что с ней? - Кисти закачались, заходили ходуном.
- Небольшая авария. Легкий шок, но никаких других последствий, Вы не волнуйтесь.
- Это Вы не волнуйтесь!.. Где она?
- В Склифософского, но не в травматологии... ее уже в отделение соматической психиатрии перевели. Вот сумочка ее... Врача зовут Аид Александрович. Совпадение такое... странное.
- Пожалуйста. - Халат отступил в темную прихожую, Петр вошел. Наночка, выйди на минутку.
Вот и вышла Нана Аполлоновна.
Правда знакомое лицо... ах, ну да, сегодняшняя дама из библиотеки - чем он так сумел ее напугать?
- Наночка, у Эвридики шок. Надо ехать в больницу.
- Ой, - сказала Нана Аполлоновна и села. На маленький стульчик.
- Наночка, нужно сосредоточиться. - Отец Эвридики натягивал короткую куртку поверх халата.
- Что там случилось? - крикнул издалека старенький голос.
- Все в порядке, мама. Закрой за нами, мы отъедем на некоторое время. Он снял куртку. - Вас как зовут?
Петр не успел ответить: слишком стремительно начали вдруг развиваться события. "Петер-р-р!" - захрипел кто-то странным голосом... что-то свалилось на голову и задержалось на ней, прозвучала непонятная фраза "Sunt pueri pueri, pueri pueril tractant", последовали маловразумительные объяснения как из-под земли выросшей старушки: "Я его все-таки вымыла, он сделался совсем голубой... а колечко, по-моему золотое, с монограммой, не поняла какой..."
- У Вас ворон на голове, не пугайтесь... он домашний, ручной, говорящий... Поехали, - устало сказал Эвридикин папа.
Нана Аполлоновна ушла переодеваться, папа наскоро объяснял почти упавшей на пол бабушке плохо понятую им ситуацию, голубой ворон переместился на плечо к Петру и тихо говорил ему что-то на ухо по-немецки... Бред, общий бред жизни! Папа начал раздеваться в присутствии Петра, бросил на бабушку халат, остался в одних трусах, подошел к Петру, снял с его плеча ворона, тот принялся вырываться и клевать папу Эвридики в тело.
- Не беспокойтесь, - сказал Петр, вешая халат на крючок, беря под руку бабушку, подставляя свободное плечо ворону и понимая, что отныне и навсегда он свой среди этих безумных, милых, плохо говорящих по-русски и по-немецки людей и птиц, за чью жизнь он теперь несет ответственность, что бы ни случилось впредь.
Выехали сейчас же - на стареньком семейном "Москвиче": люди и птицы. Нана Аполлоновна, Александр Тенгизович, Русудана Александровна, Марк Теренций Варрон и Петр. Петру недосуг было разбираться в этой ситуации с вороном, но тот говорил "Петеррр" и совсем не разделял общего уныния. Он-то знал, как все будет!
В больницу приехали к двум. Марка Теренция Варрона оставили в машине. Еле допросились вызвать Аида, но тот вышел сразу.
- На некоторое время проснулась. Заснула... или забылась опять. К ней никому нельзя. Советовал бы вам поехать домой. Тем более что жених уже был у нее.
- Жених? - Эристави растерялись. - А кто жених?
- Прошу прощения, - взглянул Аид Александрович на Петра.
- Я жених, - сказал Петр..
- Ах, ну да...- успокоились Эристави.
- Мне бы только посмотреть на нее, - не то попросила, не то отказалась Нана Аполлоновна.
- Идемте, - подставил ей руку Аид Александрович - непредсказуемый, как выяснялось, человек. - Только ни звука, прошу Вас.
Они скоро вернулись.
- Ну как?
- Дышит, - тонюсеньким голоском сказала Нана Аполлоновна и расплакалась. Не переставая плакать, подошла к Петру: - Простите меня, ради бога. Сегодня в библиотеке у Вас безумный такой взгляд был, я испугалась. Она развела руками. - Я, выходит, не могу отличить нормального от ненормального.
- Это и вообще-то трудно, - заметил Аид Александрович. - Поезжайте теперь, поздно.
- Пустяки, - сказал Петр Нане Аполлоновне: он только что вспомнил сцену в библиотеке с подробностями. - Пустяки... Книжка просто была странная, вот я и... Пустяки.
Всю обратную дорогу Петр, на плече которого опять сидел Марк Теренций Варрон, теперь уже в деталях рассказывал, как это случилось. И выходило, что на переходе через улицу Герцена он оказался случайно. Как бы не так! Петр шел за Эвридикой от самого подземного перехода через улицу Горького - с того момента, когда, подняв глаза от подаренного ему значка, увидел ее девушку-с-шалью-и-вороном-над-головой, ночное-видение-через-стекло-вагона-метро. И он умолял ее на всем пути, вплоть до злополучной улицы Герцена: обернись, обернись, обернись! Она обернулась поздно, ступив уже на мостовую, когда с проспекта Маркса сворачивал на Герцена красный автомобильчик...
Водителя, кажется, отправили в милицию - Петр даже не захотел узнавать, кто он; Эвридика шла на красный свет. Не захотели узнавать этого и родители Эвридики. Правда, несколько дней спустя все-таки пришлось встретиться с водителем: им оказался какой-то неказистый человечек-из-Мытищ-у-которого-двое-детей. Однако к тому времени опасность миновала, родители не стали возбуждать судебного дела. Да и Аид Александрович утверждал, что все будет хорошо.
Так и закончить бы седьмую главу, но Рекрутов!.. Этот херувим с подземельным басом, бог знает как попавший в книгу, предназначен был, однако, для серьезного дела. И как раз на другой день, когда окончилось время дежурства и он собрался было надевать пальто, судьба подсунула ему дневник Аида Александровича. Дневник лежал в верхнем ящике стола Аида, чуть выдвинутом - как бы пригласительно выдвинутом... Рекрутов принял приглашение и на синей обложке довольно пухлой тетради прочитал написанную готическим почерком Медынского строчку: "Наблюдения. Глубокий шок". "М-да", - сказал Рекрутов. Не будем осуждать его за это "м-да": кому из нас не приходилось говорить "м-да" и по менее значительным поводам! А тут - важная, между прочим, пропозиция, особенно если учесть, что Рекрутова, кроме глубокого шока, почти ничто в жизни не интересует. Стало быть, вперед, Рекрутов, мы с Вами...
В тетради были разрозненные записи - по одной на каждой странице. Записи шли без комментариев, но с точной датировкой. Сопоставив даты, Рекрутов обнаружил, что Аид Александрович вел тетрадь уже лет тридцать: первые сведения относились к началу пятидесятых годов. Рекрутов принялся читать наугад и, кроме прочего, прочел: "Алина Сергеевна Никонова, 1930 года рождения. Несколько минут (семь-восемь) довольно связно излагала некоторые события войны 1812 года, особенно что касается Бородинского сражения, все время обращаясь к князю Сергею Петровичу Трубецкому с просьбой беречь себя для нее, поскольку она не сможет вынести разлуки с ним... На вопросы по истории, выйдя из состояния шока, не отвечала, имеет образование шесть классов, о Трубецком никогда не слышала"; "Николай Демьянович Савелов, 1911 года рождения, в продолжение трех с небольшим минут страстно требовал учесть заслуги Публия Овидия Назона и внимательно прочесть его "Письма с Понта"', чтобы вернуть его в Римскую империю. Говорил на латыни. На вопрос о том, знает ли латынь, отвечал отрицательно"; "Виктор Борисович Сокольничий. 1956 года рождения, диктовал правильную редакцию "Задонщины", утверждая, что переписчик, с которым он знаком, внес в текст много отсебятины и потомки не простят ему этого. На вопрос, изучал ли когда-нибудь древнерусский язык, отвечал отрицательно"...
Рекрутов все читал и читал стенографические эти сведения, пока капли пота одна за другой с грохотом не начали падать на страницы тетради, немедленно разъедая чернила и оставляя сиреневые потеки. Рекрутов неосторожно промокнул их рукавом халата... ну вот, теперь Аид догадается: впечатление такое, что кто-то рыдал над тетрадью!
Рекрутов захлопнул тетрадь и еще раз сказал: "М-да"... Повторим за ним это "м-да", потому как сказать, действительно, больше нечего.
А комментариев, стало быть, никаких. Ни по ходу записей, ни - Рекрутов заглянул в конец тетради и убедился - после. Все комментарии - в голове у Аида: что-то он там себе настроил на этой почве... Что-то определенно настроил. Нет, Рекрутову не сделалось жутко, как сделалось, например, кому-нибудь из нас: Рекрутов почти понял, в чем дело. Дело, по-видимому, в том, что бред людей, находящихся в состоянии глубокого шока, как известно, более "реален", чем устойчивый психиатрический бред, и может быть основан на знаниях, за которые в данный момент они не несут ответственности, о которых они, скорее всего, и не подозревают. Ведь говорил же Аид: сначала включаются глубинные зоны мозга, хранящие прочно забытую информацию, потом периферийные... Так, а что он записал по последнему случаю? Вот... "Эвридика Александровна Эристави, 1963 года рождения, в течение получаса бессвязно пересказывала миф об Орфее, не упоминая его имени, но призывая его обернуться. Постоянно обращалась к Аиду - весьма и весьма пренебрежительно..." Рекрутов на минуту остановился: вот чего не хватало ему в образе Аида Александровича! Именно этого - мотивировки имени Аид. Теперь мотивировка есть: Аид потому и Аид, что интересуется всем этим, или наоборот: он потому интересуется всем этим, что имя у него Аид. Рекрутов усмехнулся - не очень хорошей усмешкой, "...весьма и весьма пренебрежительно, даже с вызовом. Говорила по-древнегречески. На вопрос о том, изучала ли древнегреческий, ответила..." - для ответа было оставлено место, "...отрицательно", - мысленно закончил Рекрутов и заскучал.
Он подошел к окну, заглянул в темное небо: что там делается? Ничего не делалось там - и он заскучал еще больше. Не заскучал, конечно, в том смысле, что стало-скучно, а за-тос-ко-вал. И хотел взвыть или взреветь, но сдержался. А сказал - раздельно и сухо: "Не скудные воспоминания детства, но богатые картины прошлого. Снимки с истории человечества, пережитой лично. Аид напал на истину".
Да, врач непрост. Впрочем, и не следовало предполагать, что он прост. Впрочем, Рекрутов и не предполагал, что он прост. То есть все и вышло, как предполагал Рекрутов. Значит, Рекрутов молодец. Но Рекрутова это не радует. Аид - вот кто его радует. Весь такой хрустящий, стерильный Аид с буратиньей походкой, с маленькой головой и огромной - космической! - тайной в ней. Надо бы расцеловать Аида, но это то же самое, что расцеловать кактус. Вызвать бы на разговор его - пусть прокомментирует свои записи: лаконичными такими предложениями, по несколько слов. Как же, вызовешь его!.. Рекрутов тихо засмеялся.
На смех вошел Аид Александрович. Дневник раскрытым лежал на столе и был очень заметен. Рекрутов облегченно вздохнул и радостно сообщил:
- Я прочел, сколько успел. Делайте со мной, что хотите.
- Резекцию хочу, - мрачно сказал Аид Александрович. - Или трепанацию черепа.
Рекрутов хохотнул - нервически: с него станется, с Аида этого! Считайте, пожалуйста, что я не Ваш дневник прочел, а... Вашу статью, научную...
Аид Александрович молчал. Он молчал так долго, что зима успела смениться весной, весна - летом, лето - осенью и осень - новой зимой. Когда же новая эта зима закончилась, он заговорил - причем совершенно без эмоций:
- Я не так глуп, чтобы допускать оплошности. Стол специально был приоткрыт. Надеюсь, я вошел не слишком рано - и кое в чем Вы успели уже разобраться. В остальном помогу Вам разобраться я. Вы молоды, умны и талантливы. А я стар и... не знаю, каков еще. Впрочем, не бездарен. Но через некоторое время я умру и оставлю все это Вам. Я, конечно, мог бы пригласить Вас к себе домой - тетрадь там лежала, - предложить Вам прочесть и так дальше... Однако, подумалось мне, лучше, если это произойдет случайно. Вот случайно и произошло: Вы сами заинтересовались записями. В добрый час. Здесь двести восемьдесят два листа - вполне достаточно для обобщений: зачем нам ждать, когда я умру? Вы, разумеется, поняли общую идею?
- Но почему именно мне, Аид Александрович?
- Рекрутов! - Голос сделался деревянным. - Не нужно играть со мной в игры: скучно. Или мне объяснить Вам, что Вы как раз этим и интересуетесь?
И тут Рекрутов обнял Аида Александровича. Дикая, вообще-то, выходка: еще вчера он бы не позволил себе даже поздороваться с завом за руку... руку бы парализовало! А сегодня - нате вам: стоят обнявшись и чуть почему-то не плачут. Аид даже не вырывается. Нет, вырвался: "Хватит", - сказал. Подошел к столу, полистал дневник.
- Так что же, вам действительно все понятно?
- Далеко не все. Например, как вам вообще это пришло в голову?
- Будет смешно, если скажу. Но скажу. Я еще в детстве думал, как угораздило моих родителей назвать меня Аид... Естественно, довольно рано я все про Аида прочитал, что мог. Потом прочитанное перемешалось с прожитым и было уже трудно различить, где какое. Пришлось научиться сортировать переживания: это - мое, это - не знаю чье. И достаточно скоро обнаружилось: моего меньше, чем не-знаю-чьего. В конце концов, разумеется, все мое, раз у меня в голове. Но откуда? Я еще одну тетрадь вел, в войну потерялась. Вам интересно было бы: записи разных ощущений, которые в принципе посещали это бэдное-сэрдце. Среди них очень многие - большинство, честно сказать. - не имели под собой никакой здешней почвы. Дальше - больше: узнал от кого-то про deja vu ... понял неправильно, так и живу.
- Простите, именно как поняли?
- Именно так и понял, буквально... я, дескать, это видел, только давно, не в данной моей жизни, а в другой, прежней, о которой почти забыл, но которая тем не менее была... туманно?
- Нет-нет, почему же, все очень ясно!
- Ну, мне, правда, все не очень ясно, но пусть... Потом познакомился с одним прекрасным человеком, дружил с ним прямо как сумасшедший - и долго дружил, вдруг мне говорят: он душевнобольной. "И вот я здесь" (как поют в опереттах), то есть в психиатрии - с тех самых пор. Меня это слово д-у-ш-е-в-н-о-б-о-л-ь-н-о-й - потрясло тогда: у человека, про которого я рассказываю, никаких явных отклонений от нормы не было, наоборот... немыслимо тонкий человек, удивительная душевная организация. Правда, он часто... может быть, слишком часто, но я не обращал на это внимания, посвящал меня в истории, происходившие вроде бы с ним, которые мне казались явно вымышленными, однако что же... творческая личность и все такое прочее! Короче говоря, с тех пор душевная тонкость стала для меня производной от душевной болезни, и я принялся изучать, систематически изучать состояние бреда как наиболее яркое проявление душевных расстройств... Вы чувствуете связь?
- Да, да! - у Рекрутова это "да, да" получилось, может быть, даже слишком горячо, но он не следил уже за собой, перехватил у Аида Александровича инициативу и заговорил сбивчиво, путано: - Я чувствую связь, я думал об этом... впрочем, я шел от другого, от социальных моментов, то есть вот что... Меня интересовало, почему психические расстройства в среде... ну, у интеллигенции... но Вы понимаете, какую интеллигенцию я имею в виду! - так, стало быть: почему в этой среде они чаще, психические - или душевные, как Вы их называете, - расстройства? По сравнению с рабочими там, крестьянами... опять не то... по сравнению с массой, в общем. И я пришел, то есть я прихожу к выводу, что те, кто живет жизнью духовной, причем из поколения в поколение, понимаете? - у них именно поэтому... из-за духовности случаются психические отклонения. И можно, значит, допустить - хотя бы в качестве гипотезы - обратное: чем глубже душевное расстройство, тем... тем совершеннее, тем выше дух. А значит, безумие, если воспользоваться этим непрофессиональным словом, есть наиболее чистая форма проявления духа, когда дух прозревает первоосновы бытия и вспоминает свои, так сказать, пред-жизни и даже после-жизни... Вы это имели в виду? Дух приобщается к... к универсуму?
Аид давно уже сидел на столе - в позе невероятной... членовредительской. Было похоже, что сам он находится в том состоянии, которое называется "глубокий шок", и сейчас начнет бредить.
- Вы. В один вечер. Поняли. Все. - Он с трудом перевел дыхание. Рекрутов, Вы... Вы бог знает что за человек. Сколько Вам полных лет?
- Много, - сказал Рекрутов. - Года тридцать два.
- Ура, - констатировал Аид Александрович. - Вам еще по меньшей мере пятьдесят лет пропагандировать эти идеи, а при Вашей херувимистости... розовощекости, пардон, - и все восемьдесят. Я счастлив. Представляете себе, что начнется потом! Люди снова станут верить своим безумцам, своим юродивым, как когда-то... да вот, в прошлом еще веке! Нельзя-молиться-за-царя-Ирода-Богородица-не-велит... К их словам начнут прислушиваться. Христос, наверное, был юродивым... прости меня, Господи! Ибо только они знают: их устами говорит Бог. И больше станет юродивых в мире, и будет людям дано святое право отличаться от животных - право бредить, грезить, галлюцинировать, провидеть основы бытия... О, основы бытия только и могут быть постигнуты в бреду, в горячке ума, в болезни души, ибо лишь тогда ничего не значит уже плоть, ничего не значит материя - и свободный дух парит над земною оболочкою мира!
"Я совсем его не знал, я не знаю его!" - почти с отчаяньем думал Рекрутов, забыв слушать и хватая одни обрывки - темные, слепые обрывки этого бреда-по-поводу-бреда, улетевшего уже далеко, за пределы человеческой жизни, и откликающегося оттуда словами:
- Ты убил меня.
- Ты обманул меня.
- Ты обокрал меня.
Рекрутов взял дневник со стола и положил его в свой портфель.
- Ну что ж, и правда пора, - сказал Аид Александрович, вид которого к концу монолога начал уже просто пугать Рекрутова, внушая опасения по поводу вменяемости говорившего.
- Вы не зайдете к Эвридике? - спросил Рекрутов.
- Нет. Мне на нее тяжело смотреть: слишком больна и слишком красива.
- Может быть, все-таки пустить к ней этого молодого человека? Он почти все время в вестибюле, знаете?
- Я не хожу через главный вход... Его появление может вызвать криз, а я не уверен, что криз нам сейчас нужен. Уход же за Эвридикой... Серафима Ивановна хорошо с этим справляется.
- А прозвище Серафимы Ивановны Вам известно? Нянька Персефона... в дополнение к Вам.
- Тартар, - усмехнулся Аид Александрович. - Наш маленький Тартар.
- Не хватает только, чтобы пришел Орфей и сыграл на дудочке!
- На форминге, - уточнил зав.
- Форминг - это... это что?
- То, на чем играл Орфей... а в общем, дудочка.
- Так наш молодой человек из вестибюля, его вроде Петр зовут, - чем он Вам не Орфей? Пустите его к ней.
- Рано. - И снова усмехнулся Аид Александрович. - Рано ему еще появляться в Тартаре.
К няньке Персефоне они, конечно, все-таки заглянули: с Эвридикой все было по-прежнему. Вышли из больницы, побрели по ночным улицам.
- Я живу тут близко, - сказал Аид Александрович вроде как ни к чему, а оказалось вот к чему: - Зайдем?
- Да ведь уже одиннадцатый час, поздно, наверное...
- Ничего не поздно, а нормально. Дверь им открыла самая старая старушка в мире, Вера Николаевна.
- Моя жена, - представил Аид Александрович, - что бы Вы там себе ни думали.
Вера Николаевна рассмеялась - неожиданно звонко, эдаким бубенцом.
- А я ничего там себе и не думаю, - от всей души заверил Рекрутов.
- Бубенец, чаю давай. - Аид Александрович развернул старушку за плечи и сообщил ей некоторое ускорение в направлении кухни: старушка оказалась резва и через две минуты вышла с чаем на подносике.
За столом говорили о таких пустяках, что Рекрутов захмелел. Он и не подозревал этого в Аиде - внимания к фактически неисчислимому количеству вещей, но только не имеющих отношения к медицине, но и вообще безотносительных к чему бы то ни было значительному. Аид, с общечеловеческой точки зрения, просто нес чушь, однако чушь потрясающую, чушь гениальную полную! Обозначить предмет его речи не смог бы никто: в Аиде бурлил язык сам по себе, на себя самого направленный и для одного себя существующий, несущий Аида по волнам своим, как щепку. И несомый стихией языка - не одного языка, разных языков! - Аид забывал, кто он, откуда и зачем здесь. "Бог устной речи! - подумал Рекрутов и еще подумал - во второй уже раз: -Я совсем не знаю его... никто не знает его". И благодарно, рассыпчато, безмятежно заливался подле Аида бубенец - самая старая старушка в мире, Вера Николаевна...
- Аид Александрович, это Вас! - крикнула она из прихожей, выбежав на телефонный звонок.
Разговор по телефону был коротким и каким-то... надломившим Аида.
- Я в институт, Вы со мной? - бросил он Рекрутову из прихожей.
- Конечно! - Рекрутов выскочил из-за стола с пирогом в руке.
- Куда? - обалдела Вера Николаевна, замершая на пороге кухни со свежим чаем на подносике.
- Назад, - ответил Аид наполовину уже с лестничной клетки.
- Боже мой, Эвридика!.. - полетело им вслед.
Глава ВОСЬМАЯ
Остановись, МГНОВЕНЬЕ!
Спустя несколько минут после того, как Аид Александрович и Рекрутов закончили рабочий день и, заглянув в палату Эвридики, вышли на воздух, Серафима Ивановна (она же нянька Персефона), скушавши гранат, задремала на стульчике около эвридикиной постели. Дремать она могла совершенно безбоязненно, потому что сиделкой прослужила сорок лет. Кажется, это вообще была единственная сиделка не только на отделение, но и на весь институт: считаясь с авторитетом Аида Александровича, для него (и только для него!) сохраняли в советском медицинском учреждении данную символическую штатную единицу... Так вот, сиделка с таким стажем могла не беспокоиться уже, что не проснется, когда нужно будет проснуться. Нянька Персефона и не беспокоилась.
Но, как выяснилось, немножко побеспокоиться все же следовало. Нет, ничего особенно страшного не произошло: просто на одну минуту - всего-то лишь на одну минуту! - в палату, вверенную ее попечению, проникло постороннее-лицо. На постороннем-этом-лице был белый халат, и двигалось оно со всевозможной осторожностью. Оно подошло к постели беспамятной Эвридики, наклонилось к ней и поцеловало - причем в самые что ни на есть уста! Эвридика открыла глаза: Петр стоял перед ней.
- Орфей, - шепотом сказала она и шепотом же добавила: - Я тебя люблю.
- Это я тебя люблю, - поправил Орфей, приложил палец к губам и на цыпочках отправился к двери. У двери он, конечно же, обернулся: так всегда поступают Орфеи. Нянька Персефона вздрогнула.
- Да, милая, да? - она поняла, что проснулась поздно.
- Бабуленька, дорогая, у меня к Вам огромная просьба! - Эвридика села на постели.
Нянька Персефона настолько опешила, что засомневалась, проснулась ли она вообще.
- Вы не могли бы позвонить одному человеку? Мне очень нужно!
"Бредит", - успокоилась нянька Персефона и улыбнулась бывшей у нее просветленной улыбкой.
- А чего же не позвонить-то? Позвоню... По какому только телефону, не знаю.
Эвридика наизусть сказала телефон: почти одни восьмерки.
-А Вы не запишете, бабуленька?
- Да я и так не забуду. - С железной, надо отметить, уверенностью. Сказать-то что?
- Сказать? Сказать вот что... Только, бабуленька, если ответит мужчина! Если женщина, то ничего не говорите, не говорите даже от кого...
- И-и, милая! - покачала головой нянька Персефона.
- Значит, так. Скажите ему, что я прошу все отменить. Пусть все отменит.
- А чего отменить? - нянька Персефона успокоилась полностью и окончательно.
- Все. Просто все, он поймет.
- Он-то, может, и поймет, да я ничего не понимаю... - Нянька Персефона развела руками.
- Вам, бабуленька, ничего и не надо понимать! Вы только позвоните ему и скажите то, о чем я прошу!
- Зовут как его?
- Не знаю я, - устало проговорила Эвридика и откинулась на подушку. Через минуту подняла голову: нянька Персефона не двигалась.
- Ну что же Вы, бабуленька?
- Успокойся, успокойся, милая моя, все ж хорошо, - заувещевала нянька Персефона, улыбаясь что есть мочи.
- Да ничего нет хорошего! - Эвридика начинала раздражаться. - Вы не пойдете звонить?
- Зачем? Незачем нам звонить, милая, зачем нам звонить...
- Затем, - почти плакала уже Эвридика, - что жизнь моя в опасности, понимаете Вы?
- Нету никакой опасности, детонька, нету никакой, яхонтовая!
- О, господи! - застонала Эвридика: экая фальшивая бабка! - Я тогда сейчас сама встану и пойду звонить, Вы слышите меня? - И она приподнялась на локте.
- А вот этого нельзя, - ласково сказала нянька, - не то я персонал позову. Ты лучше мне скажи по-простому, чего говорить, я и передам.
- Да ведь я уже сказала! Надо попросить его все отменить и... ну хорошо; передайте, что я больше не хочу умирать, а если уже поздно, пусть... пусть придумает сам, пусть раскрутит все обратно!
- Передам, - засуетилась нянька Персефона, - сейчас же и передам. А ты лежи, детонька, лежи, яхонтовая... - Она бочком пошла из палаты.
- Телефон! - крикнула вслед Эвридика. - Телефон Вы ведь забыли уже!
- Помню, милая, - вернулась нянька Персефона, - как тут забудешь, когда восьмерки одни!
Эвридика опять откинулась на подушку. Дело было сделано. Ужасно захотелось спать, но спать нельзя, надо терпеть и ждать. Нянька Персефона вернулась минуты через три, позвонив Аиду Александровичу.
- Ну что, бабуленька?
- Все отменит. Все как есть отменит, голубонька моя!
- Он так и сказал?
- Так прямо и сказал - слово в слово: все, дескать, отменю, пусть не волнуется, лежит себе спокойно и выздоравливает... а я, говорит, ее скоро навещу.
- Навестит? - подпрыгнула Эвридика.
Нянька Персефона закивала, глядя в глаза Эвридике: уникально просто фальшивая бабка!
- А голос у него какой был?
- Да какому ж ему быть? Мужской и был голос: мужской он и есть мужской...
- Низкий или... или высокий? - все свои силы вложила Эвридика в последнее слово - и попалась бабка!
- Высокий... Высо-о-кий такой, нежный, что у барышни.
- Вы не звонили! - крикнула Эвридика и вскочила с постели. Бабка заверещала, кнопки занажимала, руками замахала. Эвридика оттолкнула ее: Пустите меня! Вы недобрый человек, Вы... Вы бабка! Я же просила Вас... - она боролась с нянькой Персефоной, оказавшейся сильной, как мужик. - Я просила, от этого, может быть, жизнь моя зависит, пустите!
Она медленно приближалась к двери, распахнула ее - кольцо... Кольцо сестер, злых, как продавщицы, кассирши, официантки, - с дежурной врачихой, вроде, во главе! И тут Эвридика вспомнила, что именно с этой сферой - сферой обслуживания - у нее никогда не получалось нормальных отношений.
- Мне надо позвонить, - спокойно сказала она. - А товарищ сиделка меня не пускает и сама не звонит. - Внезапно у Эвридики сильно закружилась голова - и ужасная, ужасная слабость потянула ее сесть... нет, лечь и умереть - прямо здесь, не сходя с места.
- Вам вставать нельзя вообще, Вы с ума сошли!
И они надвигались - все сестры мира, все продавщицы, кассирши, официантки... вся сфера обслуживания шла на Эвридику, чтобы сбить ее с ног, затоптать, растерзать... И тогда она взвыла диким каким-то, степным голосом, бросилась вперед - зверь, волчица! - и с остервенением прорвала кольцо врагов, рыча и давясь своим рыком... выскочила на лестницу и понеслась вниз, дальше, дальше - на улицу, на воздух. Она знала: за ней бегут, а шлепанцы ужасно мешают... Эвридика сбросила их... первый этаж совсем темный... вестибюль... ошалевшая вахтерша, бди-и-ительная... а дверь нараспашку: перед дверью - машина... ах, вы нам кефирчик привезли?..
Ух, какой жгучий снег! Вот-в-детстве-я-так-мечтала-босиком-по-снегу-даслучая-не-было - и понеслась по тротуару: босая, в тяжелом больничном халате и длинной - почему-же-такой-длинной? - ночной рубашке...
Прохожие столбенели - и никому даже не приходило в голову остановить эту бурю, эту взрывную волну - нет, ночную эту молнию, страшную и прекрасную! Она свернула в первый попавшийся переулок - неизвестно какой, потом еще в один, и еще в один, и еще... Эвридика понимала: мороз. А ведь вчера - или когда? - было почти тепло, снег, казалось, растаял весь!
Что я делаю? Что я делаю, дура! Господи, я же сама себе все порчу и сейчас вот испорчу окончательно, сейчас... Она огляделась. Место было незнакомое. Увидела вход в маленький двор, вошла: иначе зачем - вход? Скамеечка посреди двора... Ей нестерпимо захотелось сесть на эту скамеечку и подумать о том, что она уже сделала и что сделает еще. Села, подобрав ноги. Думать не получилось: холодно стало в один миг, внезапно, зуб-перестал-попадать-на-зуб, а раньше, вроде, попадал... И представилась ей маленькая солнечная площадь с домами готическими - бывают такие? - и домами барочными - такие бывают, и люди, одетые смешно: как в учебнике истории не то за шестой, не то за пятый класс... они хлопали в ладоши, глядя на нее. И тогда она начала танцевать - не танцевать даже... выполнять гимнастические упражнения: шпагат, колесо, рыбку... рыбку, колесо, шпагат... прыжок, еще прыжок, сальто. А музыка пела, пела, понуждая к упражнениям, и люди хлопали, понуждая к упражнениям, - она рада была показать им свое искусство, а молодой человек ходил с кружкой по кругу - и люди бросали туда деньги, и деньги звенели: донг, донг, донг; и снова: донг, донг, донг; и опять: донг, донг, донг... Потом надо было идти по канату - и она пошла: с длинной красной лентой на палочке. Вот номер закончился, и молодой человек, проходя с кружкой мимо нее, сказал: "Браво-Фредерика". - "Меня-зовут-Эвридика", хотела поправить его она, но очень устала, смертельно устала, невозможно болело все тело - и она пошла в возок...
В это время в больнице... Страшно даже закончить данное предложение. Аид Александрович и Рекрутов застали няньку Персефону в так-сказать-подвижном-обмороке: она не могла ничего объяснить, только и твердила, что виновата, кругом виновата, - так и ходила: кругами.
Все рассказали сестры, которые уже приняли необходимые экстренные меры и так далее... Аид Александрович, выслушав и поблагодарив их, принялся кругами ходить по следам няньки Персефоны и успокаивать ее сухими словами:
- Довольно, довольно уже, никто не виноват, у нее был прилив сил, а тогда невозможно справиться, это нечеловеческая энергия, энергия безумия, Вы же опытный человек, Вас не осуждают... а? какой телефон?
И нянька Персефона на память назвала номер.
- Вы уверены, Серафима Ивановна?
Но та уже опять ходила кругами. Аид Александрович набрал номер.
- Да. - Голос был низким - ниже, чем у Рекрутова, хоть ниже не бывает.
- Добрый вечер.
- Уже ночь, - сказала трубка.
- Извините, но дело огромной срочности.
- Говорите, пожалуйста.
- Вы знакомы с Эвридикой, Эвридикой Александровной Эристави?
- Да, немного... А кто это говорит?
- Аид Александрович Медынский, врач из Склифосовского. Заведующий отделением соматической психиатрии.
- Очень рад, Аид Александрович.
- Простите, с кем имею честь?
- Это я имею честь, Аид Александрович! Чем могу служить?
- Вы, кажется, не ответили на мой вопрос. Сослужите такую службу: ответьте.
- А Вы считайте, что я уклонился. Но, прошу поверить, у меня есть веские причины.
- Перевешивающие правила вежливости?
- Вежливость не единственное достоинство, Аид Александрович. К тому же, имя мое ничего Вам не скажет... Ну хорошо, извините меня. Предположим, Антон Павлович - устроит Вас?
- Только в том случае, если фамилия - Чехов.
- Нет, фамилия Некрасов.
- М-да. Вам повезло с предками.
- А Вам - нет, Аид Александрович. Но довольно уже, наверное, с любезностями. Вас что конкретно интересует насчет Эвридики?
- Дело в том, что полчаса назад она сбежала из больницы - и, кажется, из-за Вас.
- Вряд ли из-за меня, мы не в таких отношениях, чтобы в подобных ситуациях принимать меня в расчет. Тем не менее... молодец девчонка! Героический, между прочим, характер.
- Трудно разделить Ваш восторг. Девочка выскочила босая на снег... в легком халате, в тоненькой ночной рубашке - и это может плохо кончиться.
- Простите, но от меня-то Вы чего хотите?
- От Вас... некоторых объяснений - всего лишь. Эвридика просила сиделку передать Вам, чтобы Вы все отменили. О чем шла речь, никто не понял.
- А почему Вы рассчитываете получить объяснения? Просто передайте ей, когда найдете... если найдете, что я все отменю. Что я все уже отменил. Правда, я тоже не совсем понимаю, чего именно она хочет... Эвридика ничего больше не говорила?
- Нет, ничего. Хотя... подождите, я спрошу. - И - через паузу: - Я не разобрался в точности, но она, вроде, просила Вас самому решить, как быть, и, если ничего уже нельзя изменить, то... как это... раскрутить все обратно. О чем шла речь?
- Прошу прощения, я не могу посвятить Вас в некоторые подробности... Да Вам это и не нужно. Достаточно будет, если я скажу, что знаю, о чем идет речь?
- Достаточно! - почти крикнул Аид Александрович, хотел бросить трубку, но сдержался и, как мог миролюбиво, добавил: - Только хочу уведомить Вас: мне неприятно, что у Эвридики такие знакомые. Это один из самых скверных разговоров, в которых я участвовал. Будь моя воля... я подозреваю, что здесь что-то нечисто, и вряд ли ошибаюсь: поверьте, мне бы доставило огромное удовольствие испортить Вам жизнь!
- Не думаю, что Вы действительно испытали бы от этого удовольствие, дорогой Аид Александрович... У каждого из нас есть какая-нибудь тайна. Кто-то связан с людьми непонятными для посторонних или непосвященных отношениями, кто-то прячет в столе дневник, в который записывает странные для посторонних или непосвященных вещи... А между тем часто оказывается, что ни тот, ни другой отнюдь не делают ничего криминального - даже напротив.
- Откуда Вам известно про дневник? - с олимпийским презрением спросил Аид Александрович.
- Дневник взят как пример. Никакого конкретного дневника я в виду не имел.
- Ну, знаете ли... Вы кому-нибудь другому об этом расскажите! - И дальше - спокойно-спокойно, внятно-внятно: - Стало быть, и за медициной потихоньку следим? Добро. Большое, как говорится, человеческое спасибо. Ловкий Вы товарищ! Но даже если так - девочку-то Вы на чем поймали?.. Эх, добраться бы до Вас!
- А нам с Вами все равно так или иначе придется встретиться, Аид Александрович: это неизбежно уже. Не теперь - позднее. До свиданья. Не забудьте передать Эвридике то, что я сказал. - И прекратили разговор.
- Чтоб тебя... - крикнул Аид Александрович в опустевшую трубку.
- В чем дело? - Рекрутов вернулся из палаты Эвридики.
-Да вот, поговорил с каким-то... Хотя... Хотя, хотя, хотя! Сейчас я установлю, кто это был. Имя-то он, конечно, придумал, но есть ведь телефон! Аид Александрович набрал ноль-девять.
- Восьмая, - откликнулось готовое пространство.
- Милая восьмая! - на том конце засмеялись. - У меня к Вам необычная просьба: Вы не могли бы назвать мне имя и адрес человека, если мне известен телефон?
- Таких справок не даем. - И частые гудки.
- Идиотка, - сказал Аид Александрович. Почти до утра они просидели в больнице с Рекрутовым. Сестры разошлись по местам. Даму-дежурного врача отпустили домой: у нее многократно принималась быть истерика. Нянька Персефона дежурила в пустой палате и не хотела выходить.
Сведений не поступало ниоткуда, хотя милиция довольно быстро включилась в ситуацию.
На рассвете отправились походить по улицам. Валил снег.
- Какие уж тут следы! - с тоской говорил Аид Александрович, провожая отчаянным взглядом чуть ли не каждую снежинку в отдельности. И совсем скоро должны были уже прийти родители Эвридики, Петр... Скандал. С расстройством центральной нервной системы в перспективе. С воспалением легких и никто не знает чем еще на фоне расстройства. Расстрелять няньку Персефону, да не поможет.
- Который час?
- Девятый, - отозвался Рекрутов из-под снега. Аид Александрович начинал чувствовать дурноту. На пенсию надо.
- Рекрутов, - позвал он, - я на пенсию хочу...
- Валидол дать? - предложил Рекрутов. Понял, называется...
К половине девятого вернулись назад. Служебный телефон надрывался - Аид Александрович снял трубку.
- ... там Вас молодой человек какой-то требует. Петр Ставский. Утверждает, что Вы с ним договаривались...
- Пустите.
Вошел Петр со своим "что-нибудь-произошло": сразу понял, шельмец!
- Эвридика убежала. Ночью. Босая. В халатике. По снегу.
- Кошмар, - сказал Петр. - Разве... разве это отсюда возможно?
- При желании отовсюду возможно. Даже с того света.
Рекрутов хмыкнул.
- Но ведь персонал... - начал было Петр.
- Если Вы сейчас начнете упрекать персонал, я убью Вас, - пообещал Аид Александрович.
И Петр тогда не стал упрекать, а сказал:
- У меня три апельсина есть.
- Люблю-три-апельсина, - спел Аид Александрович. - Давайте нам с Рекрутовым два.
Они ели три апельсина.
- А почему, Вы думаете, она убежала?
- Я думаю, - без готовности откликнулся Аид, - что было нервное потрясение - во сне, должно быть. Она ведь периодически впадала в состояние шока, выводили как могли... В промежутках - сон: наверное, во сне увидела что-нибудь. Напугалась или обрадовалась. А телефона... телефона вот этого, Аид вынул из нагрудного кармана пиджака бумажку, - Вы не знаете?
- Да-да, - сказал Петр, - восьмерки... Я звонил по нему: спрашивал адрес Эвридики - родителям сообщить... мы ведь, как бы это сказать, не знакомы с Эвридикой.
- Понятно, - усмехнулся Аид. - Чей же оказался телефон?
- По-моему, какой-то приятель Эвридики. Странный довольно... И немолодой, вроде бы.
- Он негодяй. - Аид жевал уже апельсиновую кожуру. - Чуть ли не шантажировал меня - причем такими вещами... ну ладно. А Эвридику Вашу он, кажется, поймал на крючок.
- То есть что значит - на крючок?
- Попалась-рыбка-на-крючок-потрепыхалась-и-молчок, - сумрачно пошутил, что ли, Аид Александрович и с неприятной серьезностью продолжил: - На самом деле, я не могу Вам этого объяснить. Тут, прежде чем объяснить, надо хорошо знать Эвридику. Но у меня такое впечатление, что их связывает какая-то очень скверная история. Вы запишите на всякий случай телефон.
- Я сейчас, наверное, позвоню, а? - растерялся Петр.
- Попробуйте.
Восьмерки не отвечали.
- Знаете что... - Аид Александрович принялся уничтожать кожуру от рекрутовского апельсина, - Позвоните-ка лучше родителям Эвридики. Надо бы знать, какие у них планы. Скажите, что Вы здесь, что все пока без изменений и что я запретил всякие посещения до, скажем, вечера. Ведь найдут ее до вечера? - он беспомощно посмотрел на Рекрутова.
- Найдут, - безосновательно заявил тот.
Петр набрал номер и опустил трубку: не могу.
- Будь что будет. - Аид выбросил оставшуюся кожуру в мусорное ведро. Давайте кофейку выпьем.
На спиртовке сварили кофе. Сахара не было. Вообще, кроме самого кофе, ничего не было. Просто кофе и пили. "Адский какой-то" - подумал Петр, обжигаясь и кривясь. Рекрутов ушел с обходом.
Аид постоянно произносил: "Так-с-ну-и-ладно", - фраза была бессмысленной, но создавала ритм. При этом он пил кофе - такими маленькими глотками, как будто бы и не пил.
- А зачем Вы сказали мне, что Вы жених Эвридики, если вы не были даже знакомы? - опомнился вдруг Аид.
- Я действительно жених.
- Она-то хоть видела Вас... вообще? Прежде, я имею в виду.
- Нет, только вчера, - сказал честный Петр и пожалел об этом незамедлительно.
- Вчера? - Аид Александрович с места рассвирепел. - Вы, значит, проникли-таки в палату? Вы что - сумасшедший?
Петр долго и невразумительно рассказывал о коротком и, в общем, прозрачном эпизоде своего посещения Эвридики перед уходом домой.
-Так, - проговорил Аид Александрович, забыл свирепеть и принялся рассуждать. - Это и спровоцировало побег. Расстрелять, конечно, надо Вас, а не няньку Персефону. Я вижу, что-то не сходится... Ваше посещение по непонятным пока причинам заставило ее вспомнить об этом типе - от плохих воспоминаний следовало срочно избавиться, захотелось немедленно порвать с... с восьмерками, потому что появились Вы. Ох, рано Вы появились, милый мой!.. Хоть бы со мной посоветовались... Орфей!
- Вовремя я появился. - Петр сурово посмотрел на Аида Александровича и раздельно повторил: - Во-вре-мя. И не надо беспокоиться за нее. С ней не может случиться ничего плохого. Она выздоровеет... она уже выздоровела.
И зазвонил городской телефон.
- Алло, - испугался в трубку Аид. - То есть... Вы в своем уме? Ах, да... Какой кофе, я сейчас выезжаю... нет, Вы - немедленно сюда! Нет, я. Ждите на месте. - Он нажал клавишу. Он потряс головой. - Петр, это Эвридика звонила. Из дома. Она говорит, что чувствует себя хорошо... И вместе с папой пьет кофе. Надо за ней ехать!
- Не надо за ней ехать! - весело возразил Петр.
- Но она сказала, что ждет...
- Ну, если ждет, поехали. Такси вызывать?
В пути Аид время от времени повторял: "Не постигаю..." - фраза эта была бессмысленной, но создавала ритм.
Дверь открыла Эвридика в толстом свитере и плюшевых штанах. Аид застрял в проеме.
- Угу, - сказала Эвридика. - Оказывается, я Вас совсем не помню, Аид Александрович! Из шока просто видно плохо. Пожалуйста, войдите, мы ас очень ждем.
- Вы себя нормально чувствуете? - Аид медленно снимал пальто с каракулевым воротником и каракулевый же пирожок.
- Почти, - улыбнулась Эвридика,
- Все-таки "почти", - удовлетворился Аид Александрович.
- У меня, извините, маленький насморк, - кротко объяснилась Эвридика, подмигнув Петру.
- Хулиганка, - констатировал Аид и пошел по Эвридикиной квартире, как по своей.
Ломящийся от яств стол левой рукой придерживал Александр Тенгизович, на котором теперь уже был желтый халат - точная копия синего и с теми же кистями.
- Салам-алейкум, падишах! - сказал Аид и усугубил: - Стол держите, держите: сломается. - И уселся за стол, смутив хозяина невероятной своей непринужденностью: тот взялся за кисть, а Аид тут же крикнул: - Занавес! Эвридика с Петром прыснули, в то время как Александр Тенгизович обдумывал выкрик.
- Присаживайтесь, - обратился к нему Аид, - я Вам все объясню насчет занавеса. Халат у Вас на занавес похож, вот я и... ошибся.
Вконец растерявшийся Эвридикин папа опустился на стул и сказал "здравствуйте".
- Привет, - ответил Аид Александрович и вздохнул - весь, всем телом. Слава богу, слава богу... - Он бросил в Эвридику быстрый взгляд, попав ей в самое сердце.
- Какой Вы хороший, - грустно сказала она. - Какой Вы хороший. - И подошла к Аиду, и обняла его за плечи - просто, словно-прожила-с-ним-целую-жизнь.
Аид Александрович закрыл глаза и забормотал, ни на кого не обращая внимания:
- Я не постигаю, не постигаю... Я не постигаю, как это возможно вопреки всей медицине выскочить с того света, надеть свитер и штаны плюшевые, пить кофе, смеяться, тра-та-та... - на одной любви с того света выскочить, не постигаю!
- Вы простите ее, Аид Александрович, - очнулся наконец Эвридикин папа, - бога ради простите, наделала она Вам хлопот!
- Она излечилась, это важнее! - воскликнул Аид Александрович и, отняв руки Эвридики от плеч своих, начал целовать тонкие пальцы и чуть ли не плакать.
Эвридика тоже поцеловала его - в череп, высвободилась, в секунду изготовила бутерброд с рыбой: - Вам, Аид Александрович; - другой: -Тебе, Петр! - а Александр Тенгизович откупорил грузинское какое-то вино, разлил по бокалам...
- Древнегреческий учили Вы когда-нибудь? - спросил ни с того ни с сего Аид, принимая у Эвридики из рук бутерброд.
- Нет... а что?
- Выпьем тогда за Древнюю Грецию! - он поднял бокал. -Золотое время было! Помню, в гостях у меня сидели... - и Аид подмигнул Эвридике, царь подземного царства - жене Орфея.
Выпили вина - хорошего, виноградного, южного.
- Ну, рассказывайте. - Аид вытянул ноги и расположился диагональю относительно стула.
- Рассказываю. - Эвридика вздохнула, опустила ресницы.., подняла. Только сначала Вы скажите мне, Аид Александрович, сейчас... в данный момент я не брежу?
- Да нет, вроде. Или мы все вместе бредим... грезим, то есть, - наяву.
- Так вот... - Эвридика была серьезной, - я прощу вас помнить о том, что в данный момент я не брежу, - постоянно помнить, во все время рассказа... Значит, я убежала из больницы. Я убежала... просто из чувства протеста против несвободы. Кроме того, мне надо было позвонить одному человеку... одному хорошему человеку, а Серафима Ивановна обманула меня и не позвонила, как я просила. И наконец... я не знаю, говорить ли... Но, в общем, произошла еще одна странность: после того, как ушел Петр... Вы наверное, - она виновато взглянула на Аида Александровича, - знаете уже, что он был у меня, - так вот... после его ухода я разговаривала с Серафимой Ивановной... это я от папы узнала, как ее зовут, - долго разговаривала, препиралась - и вдруг поняла, что больше не заикаюсь. Совсем не заикаюсь. А я заикалась, Петр... Страшно, неприлично заикалась. И все это вместе... в общем, я убежала. Мне повезло: нам как раз кефир привезли на утро - и входная дверь была открыта.
- Действительно повезло, - усмехнулся Аид. - У нас на двери психиатрический замок - нипочем не открыть!
- Это судьба, - отмахнулась Эвридика. - Значит, я побежала по снегу. Босиком, между прочим, - первый раз в жизни! Бежала и ругала себя, что дура, что все себе порчу... Ногам было очень холодно, и телу... Снег шел, ветер дул - в общем, воспаление легких, как минимум. Я куда-то постоянно сворачивала... за мной же гнались; потом оказалась в каком-то дворе... дворике. И вот тут все началось... Аид Александрович, милый, можно я возьму Вашу руку? Я... я боюсь сейчас.
- Чего Вы боитесь?
- Рассказывать боюсь. Но я не брежу - правда ведь?
- Вы не бредите. - Аид Александрович протянул ей руку: рука была прохладная, сухая и немножко дрожала.
- Сейчас... Нет, я лучше не буду держать, - она выпустила руку. - Ну вот. У вас, конечно, так бывало: мне многие говорили, что так бывает, когда кажется: это все уже не в первый раз. Вдруг, знаете, такое странное ощущение: было! И обстановка, и внутри... и вот, скажем, сервиз этот на столе стоял и нож еще упал... Почему так? Может, правда - было? И жила уже раньше? Короче говоря, на бегу я поняла: бежала я так, не однажды бежала - и из больницы бежала, и из... ну, не знаю, - из Тартара! - Она усмехнулась. Всю жизнь бежала, убегала всю жизнь. И мне стало ясно: я из убегающих, из тех то есть, кто постоянно убегает. И тут... вспомнить жутко: время кончилось. Нет больше времени. И все остановилось, и дыхание перехватило казалось, не дышу больше, ни одного вдоха не сделаю теперь!.. и села на какую-то скамейку: скамейка в снегу - холодно, значит. Села и... и сижу. Не дышу и не живу - умерла. А в руках - скрипка. Только Вы должны понять: не кажется-что-скрипка, а скрипка! Настоящая - на ощупь скрипка. Дека гладкая, смычок - и все холодное, ледяное. Пальцы совсем заледенели: как играть? Но я играла! Поверьте мне, я не брежу, я действительно играла. Я "Чакону" Баха играла!
- М-м... - произнес Аид Александрович.
- Нет, не м-м, не м-м! Вы слушайте, еще долго рассказывать, еще далеко до конца. Снег падать перестал и висел в воздухе, а я играла - мертвая, бездыханная... Потом танцевать начала - и понимала, что так, как я танцую, больше уж не буду никогда танцевать... на зеленом лугу! - Эвридика перевела дыхание. Отхлебнула кофе из чашки Петра, поморщилась: "Сладко как!" - А близко был город - дома... розовые, желтые, серые. Барокко вперемешку с готикой: так в детских книжках рисуют, когда дома в кучу! И около города я танцую на солнце, люди хлопают, Петр с кружкой ходит. С кружкой! - Она чуть ли не гневно взглянула на Петра. Пулей вылетела в кухню, вернулась с кружкой. - Есть у вас деньги, мелочь?
Аид Александрович выгреб из кармана все, что было, протянул Эвридике.
- Так звенело! - Она принялась бросать монеты в кружку. - Петр, ну помнишь? Петр!
- Помню, Фредерика. - От звука монет Петр вздрагивал.
- Ага-а-а! - в голосе - прямо-таки ликование. - Попался! Тогда ты тоже перепутал имя, я еще хотела сказать тебе, но устала и ушла в возок маленький возок... А, бабушка... - Русудана Александровна вернулась от соседей, присела к столу.
- Простите, - она взглянула на Аида Александровича. - Можно с вами?
- Добрый день. Конечно, о чем Вы...
- Бабушка, вот чай. Пей и слушай, я рассказываю... историю одну, как я из больницы убегала...
- Ой, тогда нет... извините, я не могу... я не могу слышать, - и бабушка отправилась к себе.
- У тебя там Марк Теренций, мы его заперли, не выпускай, - сказал Эвридикин папа ей вслед и обернулся к Эвридике: - Прости.
- Ну вот... я продолжаю. И там, в возке, я видела разные сцены - уже в беспорядке, мне трудно вспомнить сейчас. Я, например, видела Вас, Аид Александрович... И Серафиму Ивановну, только она была Вашей женой, - Вы же знаете, что раньше она была Вашей женой? Не знаете?
- Знаю, была, - твердо сказал Аид Александрович. - Но давно, в войну.
- Вот! И войну я видела - только не бой, а... в общем, вокруг войны, да... события вокруг войны - проводы, например, на войну: я еще в белом зале танцевала на паркете пестром... нет, на трехцветном - танцевала как плакала: навсегда танцевала, со всеми прощаясь навеки... Да, и... - Эвридика приподняла волосы у виска. Там была большая белая прядь. - Смотрите - так бывает, когда снится? Я много увидела, теперь я путаюсь все время, но... Аид Александрович, у Вас ведь есть такая серая хламида, есть?
- Есть, - сказал Аид Александрович, у которого не было никакой серой хламиды.
- Ну вот, Вы и были в серой хламиде в горах. И мирт в руках - знаете мирт? Есть у Вас мирт?
- Есть, - кивнул Аид Александрович, с трудом понимая, как это у него может быть мирт и почему он соглашается с Эвридикой. Но соглашался же, черт возьми!
- А, что я говорила! И еще папа... Сцена с тобой, пап! Кисть начала облезать: волоски выпадали. Кисть лысела, а ты послал меня куда-то за новой, потому что хотел писать меня танцующей. Но почему у тебя сейчас такое лицо? Ведь это же точно было! Ты вспомни, в детстве, даже я помню: мы втроем - ты, мама и я - ходили в "Детский мир", я прошу краски, ты покупаешь, потом кисточку покупаешь и, пока мы идем к выходу, я кисточку уже сгрызла, а ты говоришь: "Наночка, было..." - и замолкаешь. А потом еще говоришь: "Кисть облысела", - и смотришь на маму, а мама смеется. И ты бежишь другую покупать, теперь вспомнил? А сейчас вспомни еще немножко раньше... нет, совсем раньше: ты художник и хочешь писать меня танцующей - ты ведь для этого и назвал меня Эвридикой тогда: мечтал, чтобы я стала балериной, - ну, помнишь?
- Помню, - сдался Александр Тенгизович под пристальным взглядом не Эвридики даже - Аида Александровича, вымогавшего у него это "помню".
- А теперь скажите - выдумала? Приснилось? И ведь все длилось одно мгновение - секунду одну... как я успела увидеть так много?.. Я не хотела рассказывать, я никому никогда, но я не могу больше, я устала, меня память давит! И вы все, кто там со мной были, здесь, я же понимаю, - не со мной. Пусть не против меня, но и не со мной. Посмотрите на себя: вы же не верите мне. Я кричу, я с ума схожу, чтобы напомнить вам: все это было, а вы играете со мной в... я не знаю во что! Наверное, в сострадание... - Эвридика невесело засмеялась. - Да, говорите вы, у меня есть мирт, у меня есть хламида! Да, говорите вы, я помню "Детский мир"! Да, я помню, как деньги о кружку звенели! Вы даже называете меня "Фредерика", как там, но не верите ни во что... А я и без вас знаю: не могло этого ничего быть. Но было. Я без скрипки домой приехала - пусть, пусть так. Только... если сейчас поехать в тот двор, мы найдем скрипку! Поймите меня, я постарела. Я теперь совсем старая, вот... - она опять подняла волосы над виском, - тут прядь седая, есть еще, папа?
- Господи, - тихо сказал Александр Тенгизович, - зачем нам все это... Есть, дочка, есть прядь.
- Папа! - Эвридика. покачала головой. - Ты же утром сам сказал, что со мной все в порядке. Петр, ну скажи им... Почему я говорю тебе "ты"? Ах, да, мы ведь давно знакомы, еще с зеленого луга... Все настороженно молчали.
- Ладно, не пугайтесь, - махнула вдруг рукой Эвридика. - Я видела все это во сне. Я заснула на скамейке. Иначе мы тут с вами с ума сойдем.
- А дома как ты оказалась? - спросил Петр: что-то надо было спросить.
- Просто, - скучным голосом сказала Эвридика. - Вышла из дворика, остановила машину... сказала шоферу, что меня ограбили, - он повез. Ну и... все. Папа сам расплачивался. А папе я только факт побега... только о факте побега рассказала. Он велел позвонить в больницу. - Она растерянно посмотрела на Аида Александровича. - Я правда совсем хорошо себя чувствую. И Эвридика чихнула.
Аид нервно крутил чашку на блюдце: его распирало от желания говорить.
- Что скажете, Аид Александрович? - помог ему Петр.
- Что скажу? - Он послал в Эвридику свой взгляд-дротик. - Скажу, что фантазерка Вы... Это были грезы. Вы грезили. Но сейчас
Вы действительно совершенно здоровы. Только, пожалуй, слишком издерганы. Всё.
- Всё? - обомлел Петр, переглянувшись с Эвридикой и ее папой. - А нам казалось...
- Вам казалось. - исчерпал тему Аид Александрович. - Хотя, пожалуй, Вам, Эвридика, я мог бы дать совет... с Вашего позволения.
- Уехать на море? - не без иронии поинтересовалась та, дав понять, что Аид не оправдал ничьих ожиданий.
- Зачем же так... Другой совет. Постарайтесь забыть все это как можно скорее - иначе память... она будет мешать Вам жить. Нельзя сосредоточиваться на таких вещах. Это были остатки бреда. Остатки бреда, - строго повторил он, гипнотически глядя на Эвридику. И уже будничным голосом: - Кофейку у Вас не найдется еще?
- Иду варить, - сказала Эвридика.
- Можно мне с Вами? Я знаю сорок восемь рецептов. - Аид поднялся, не дожидаясь согласия, и отправился за Эвридикой. Петр попросил выпустить из заточения Марка Теренция Варрона - и Александр Тенгизович пошел за ним в комнату бабушки.
...Аид Александрович плотно закрыл за собой дверь в кухню. Эвридика обернулась на щелчок магнитного запора.
- Я специально закрыл. - Аид перешел на шепот. - Скажите мне, чей это телефон? - Он протянул Эвридике изрядно мятую уже бумажку.
Эвридика долго смотрела на цифры, потом сложила губы эдакой трубочкой: ту-ту-ту...
- Я не могу Вам сказать. - И, тряхнув головой, подошла к плите. Диктуйте, пожалуйста, рецепт... номер девятнадцать.
- Я знаю только номер один. Эвридика, чей это телефон? - Он не допрашивал, он просил, он молил сказать - лучше б уж допрашивал: отказать проще! Но он просил.
- Аид Александрович, не мучьте меня... пожалуйста. Я не скажу.
- Так-с, хорошо. Тогда выслушайте меня. Выслушать - можете?
- Могу.
- Это страшная личность, я говорил с ним. И надо бы Вам... Вы простите, что я вмешиваюсь: наверное, Вы понимаете... я далеко не всегда, я никогда просто не вступаю с моими пациентами в какие бы то ни было отношения, кроме служебных, но Вам надо предпринять все меры для того, чтобы история, связывающая Вас...
- Это невозможно, Аид Александрович. - Эвридика на лету подхватила мысль Аида и на лету отбросила ее. - Это никак невозможно.
- Но я хочу помочь Вам, я знаю людей такого типа: слава богу, не раз и не два попадался...
- Как, и Вы попадались?
Эвридика упустила кофе и теперь вытирала плиту, делая вид, что на самом деле ее совсем не интересует ответ на вопрос, заданный ею же с таким жаром.
- Девочка, - вздохнул Аид, - всякое бывало уже на моем веку. И потому я не могу, не могу спокойно видеть, как эта тварь...
Эвридика поставила новый кофе и строго посмотрела на Аида Александровича.
- Наверное, мы с Вами говорим о разных вещах, Аид Александрович. Я не знаю, что именно Вы имеете в виду, но это слово... "тварь" - оно непригодно в моей ситуации. Тут тоньше все, простите...
- Вы надрываете душу мне, Вы молоды и не отдаете себе отчета в том, к чему приведет Ваша зависимость от него. А что до тонкости, так они все тонкие, все с подходами. Между прочим, я, кажется, тоже увяз.
- В чем увязли?
- Да вот, видите ли... Про меня ему кое-что известно. Причем самое сокровенное, так высокопарно сказать...
И тут Эвридика улыбнулась.
- Кофе! - воскликнул Аид Александрович, но кофе уже побежал - и не догнать его было ни Эвридикиной улыбке, ни Аидову отчаянью: он пузырился и благоухал пережженными маслами...
- Варим по третьему разу? - спросила Эвридика, и словно бы в ответ на ее вопрос раздался магнитный щелчок двери: на пороге кухни во всей красе появился голубой Марк Теренций Варрон с золотым кольцом на лапке.
Он перепорхнул к ногам Аида Александровича, поднял голову и произнес человеческим голосом:
- Ihre Kцnigliche Hoheit?
Глава ДЕВЯТАЯ
Слон-из-слоновой-кости,
ИЛИ застенчивый болтун
Уже знакомая читателю старая женщина по имени Эмма Ивановна Франк сидела в пенной ванне и пела романс "Ах, эти черные глаза". Автору неизвестно, чьи конкретно черные глаза в данном случае имелись в виду, но зато известно, что настроение у Эммы Ивановны Франк было препаршивое. Она допела романс и стала размышлять о том, что нужно сделать, чтобы захлебнуться в ванне. Действия, которые следовало предпринять, показались ей невыполнимыми - и она начала уже подумывать, какой бы еще романс запеть, но раздался звонок в коридоре и с романсом пришлось повременить. Эмма Ивановна Франк дотянулась специальной палкой до двери ванной, толкнула дверь и спросила громко:
- Кто там?
- Это я. - И голос, что самое интересное, был мужской.
"Мужчина", - не ошиблась Эмма Ивановна Франк.
- А кто это "Вы"?
- Дмитриев я, Дмитрий Дмитриевич.
- А, Дмитриев! - радостно воскликнула Эмма Ивановна Франк и, помолчав немного, радостно воскликнула снова: - Кто Вы и откуда, Дмитрий Дмитриевич?
- Я Вам снился! - надсаживался у дверей незваный-гость-хуже-татарина.
- Ах, снились!..
Эмма Ивановна Франк вылезла из ванной - вся в пене, как Афродита, и не смогла вспомнить сна о Дмитриеве Дмитрии Дмитриевиче. Но завернулась в мохнатую простыню и пошла в коридор.
- Я открою сейчас, только я голая, потому что сию секунду из ванной, Вы стерпите или нет?
- Посмотрим, - не поручился за себя Дмитриев Дмитрий Дмитриевич.
Но Эмма Ивановна Франк все равно отворяла уже дверь. - Ой, какой Вы смешной Дмитриев! - отнеслась она прямо здесь. -Ужасно смешной, я таких смешных Дмитриевых не видела никогда, - и упорхнула в ванную, где заперлась от не поручившегося за себя гостя. Они определенно были знакомы, но при каких обстоятельствах - бог весть.
- Мы с Вами в Воронеже встретились, - Дмитрий Дмитриевич перешел на шепот, сознавая некоторую как бы интимность ситуации: говорить приходилось в щелочку двери все той же ванной комнаты. - Вы тогда подошли ко мне и сказали, что я Вам снился и что Вы хотите мне принадлежать... или чтобы я Вам принадлежал... и, в общем, жить вместе и все такое, помните? Я тогда не мог, а теперь вот... могу.
- Жить вместе и все такое? - с ужасом переспросила Эмма Ивановна Франк - рафинированная, как мы помним, особа - и смыла с себя пену "Бадузан", в сердце своем вспомнив все и сказав там: "Кошмар".
- Когда же это было? - И принялась вытираться мохнатой простыней с двумя небольшими драконами.
- В одна тысяча девятьсот семьдесят девятом году.
- В одна тысяча? - акцентировала Эмма Ивановна Франк. - Боже, какая древность...
- Да Вы войдите в комнату и сядьте в ней на что хотите, - сказала она, вытеревшись. - Мне еще минут десять надо.
- Вы не торопитесь, - из-за двери посоветовал гость. - Я навсегда приехал.
- Понятно,- вздохнула Эмма Ивановна Франк и осознала, что погибла. Ну, раз навсегда... - Десяти минут не потребовалось: она так и вышла - в халате, с распаренным лицом. - Что ж... Дайте я на Вас хоть нагляжусь, Дмитриев Вы Дмитрий Дмитриевич.
- Будет еще время, - пообещал тот. - Вы лучше пока в порядок себя приведите.
Да, заявочки... Но делать нечего. И Эмма Ивановна Франк подчинилась.
А был Дмитриев Дмитрий Дмитриевич небольшим пухлым старикашкой с лысою головушкою. И нос пуговкой, причем пуговкой женской, то есть некрупной, красной и блестящей. На пуговке в беспорядке росло несколько волосков очень черных. Глаза же были совсем маленькими и непонятно какими по цвету. Тот еще вид, в общем...
Эмма Ивановна Франк надела зеленое платье с черным поясом и черные же лодочки. Взбила волосы, глаза подвела, попудрилась - все без энтузиазма: не оценят... И - вышла. Старикашка, сняв пальто, оказался одетым в новый с иголочки костюм - отчетливо коричневый, неотчетливо коричневую рубашечку; вокруг шеи имел синий галстук, а на ногах - желтые-прежелтые ботинки нашего-пренашего производства. У ног же имел чемодан, обклеенный многочисленными видами немецких городов и украшенный еще надписью по диагонали (сине-красной) - "С приветом из Германии".
- Так, - сказала Эмма Ивановна Франк. - Вы ко мне с приветом из Германии?
- Нет... то есть да, - не понял старикашка, скосив глаза к чемодану. Это внуков. Он из Германии на той неделе вернулся - и мне сразу стало негде жить.
- На той неделе - это на какой? - придралась Эмма Ивановна Франк.
- На прошлой, - уточнил Дмитрий Дмитриевич.
- Ну-ну... Я сейчас чай поставлю. Чаю хотите, конечно?
- Я ел,- отчитался образцовый гость.
- Есть я Вам пока не предлагаю. Я чаю предлагаю - выпить.
- Сами-то будете?
"Заботливый!" - умилилась Эмма Ивановна Франк и интеллигентно ответила: - Если позволите.
- Ну, что ж, побалуемся...
Вот так и будем с ним - жить и баловаться, жить и баловаться. Заплакать, что ли, тут... на кухне? Поздно, голубушка, плакать: доигралась. И угораздило же - придумать игру эту дурацкую. Зачем? А затем, что с ума сходила от одиночества. В Воронеж поехала - кого навещать!.. Поленьку Лиознову, с которой лет сорок не виделась и могла бы еще сорок, если осталось сорок... Говорить с Поленькой не о чем, скучно, пошла в скверик, там Дмитриев этот Дмитрий Дмитриевич весь в снегу ходил: туда - и обра-а-атно, туда - и обра-а-атно, челночком эдаким. Туда - и обра-а-атно... Ну и сыграла с ним в "Вы-мне-снились". С тоски, конечно, и безо всяких намерений. Текст традиционный. У-каждого-психа-своя-программа, кто это сказал? У нее - игра в "Вы-мне-снились", и что же? Дело, конечно, в объекте, а объект был явно не тот в Воронеже. Но ведь и не планировалось ничего особенного - поговорить планировалось. Поговорить и разойтись... Интересно люди иногда реагируют! Однажды вот какой-то совсем уж ненормальный старичок на бульваре в Москве схватил ее за плечи, целовать начал, умолял ночь с ним провести. Эмма Ивановна Франк бежала тогда по бульвару так быстро, как могла, а могла она не очень быстро. Впрочем, хулиган-старичок, кажется, вообще никак не мог -во всяком случае, не гнался, слава богу. Пришла домой, рассказала Манечке - компаньонке своей... та в ужасе была: Эммочка-как-Вы-можете-это-же-безнравственно-я-бы-со-стыда-умерла! Почему безнравственно? У каждого психа... и так далее, почему безнравственно? Скорее уж глупо... хотя бы и потому, что без-ре-зуль-тат-но: никто всерьез не клюнул на "Вы-мне-снились"! В такие игры в молодости хорошо играть теперь что уж... Теперь только если вот Дмитриев, Дмитрий Дмитриевич с-приветом-из-Германии.
Чайник вскипел быстро, как никогда. И заварился, и настоялся -все в одну минуту. Пожалуй, идти туда пора... Тут где-то конфеты были коробочка и пачка какого-то печенья. Почему неизвестно, но все хотелось унести за один раз - и удалось. Бухнула чайник на стол, почти уронила печенье с конфетами.
- Балуйтесь, - сказала и добавила: - Озорник.
Дмитрий Дмитриевич сконфузился весь и за стол не садился - стоял около.
- Сесть бы Вам, Дмитрий Дмитриевич, а?
- Это можно, - согласился тот, помявшись. - В ногах правды нет.
Мудрый... Будет пословицами говорить, афоризмами. Кладезь, небось, мудрости. Ну, уселся наконец. Жалкий такой... уселся и в комочек съежился.
- Вы чего так съежились, Дмитрий Дмитриевич?
- Стесняюсь еще.
Непосредственный... Скоро перестанет, наверное, стесняться - такое начнется, держись! У меня только пятки замелькают... Но пока стесняется. Чай, вон, остывает - не притронется.
- Ну, Дмитрий Дмитриевич!..
- А?
- Чай же надо пить: холодный невкусно.
- Вы первая начинайте.
Торгуется... Да-а, не жизнь будет - малина. И на меня смотрит: сделаю глоток - как начнет из блюдца баловаться!.. Начал уже: ух, до чего ж замечательно балуется - загляденье просто. Разрозовелся весь, головушка взмокла... Бедная ты Эмма Ивановна Франк!
- Зовут-то Вас не помню как. У меня только адрес записанный.
- Эмма Ивановна меня зовут. Эмма Ивановна Франк.
- Спасибо, Эмма Ивановна. Имя у Вас красивое, нерусское вроде.
- Немецкое. Вы вот... печенье берите.
Дмитрий Дмитриевич ел печенье так, как будто и не печенье это вовсе было, а, скажем, картофель-жареный-фри, ухватывая сразу по две, а то и по три печенины.
"Голодный! - затосковала Эмма Ивановна. - Надо бы супом его накормить, а я чай даю..."
- Я вообще-то мало кушаю, - отрекомендовался тот. - А сейчас - это потому что волнуюсь сильно. Не знал ведь, как Вы меня встретите. Может, думаю, совсем забыли; скажете - не знаю, мол, такого; придется назад уезжать.
У Эммы Ивановны защипало глаза: Дмитрий Дмитриевич был похож на щенка.
- Вас невозможно забыть, - сказала она с трудом.
- Правда? - обрадовался гость. - Мне это лестно. - И стал дальше печенье есть.
А Эмма Ивановна вдруг поняла, что когда женщина хочет есть -это как-то не бросается в глаза, но голодный мужчина представляет собой зрелище невыносимое, невыносимое...
- Мы с Вами немножко погодя супчику поедим, ладно? Сейчас пока червячка заморили, а потом супчику... колбасы пожарю...
- Это можно... тьфу, черт, опять забыл, как Вас зовут!
- Эмма Ивановна Франк.
- Ах, вот что... Ну, извиняйте. А внук - он ничего у меня, вы плохо не думайте.Положительный человек, два года - как один день, от звонка до звонка оттрубил, сержант теперь. Сержант Дмитриев. Я и подумал: квартира-то у нас двухкомнатная казенная, раньше мы с ним в одной комнате жили, а теперь он уж большой вырос - девушка объявится хорошая или что... куда ж я им? Поеду, думаю, в Москву, буду у Вас жить, чтоб молодых не стеснять. Так вот и решил... Правильно решил-то? - И поднял на Эмму Ивановну крохотные глазки свои.
- Правильно, все Вы правильно решили. Вместе веселее, у меня квартира большая.
- Метраж... метра сорок два будет?
- Наверное. По-моему, сорок два и есть.
- У меня глаз как алмаз. А я, если что, и за квартиру платить могу: пенсия-то большая, к восьмидесяти рублям подбирается. Вот только им в Воронеже разве что помогу когда.
- Спасибо, Дмитрий Дмитриевич, но в деньгах нет недостатка.
- Да я уж вижу. В человеческом разговоре недостаток наблюдается, но это мы поправим, дело нехитрое.
- Нехитрое? - Эмме Ивановне ужасно хотелось плакать: сил не было как хотелось!
- А чего же? Из дому меня легко отпустили: поезжай, говорят, раз у ней к тебе такая любовь. Я сказал, что без глупостей жить будем. Ну, если что когда позволю, Вы уж не серчайте.
И заплакала Эмма Ивановна Франк - ничего не поделаешь: слеза, как и пуля, - дура... Не навзрыд, конечно, заплакала, а так, тихонько.
- Я хозяйственный, - утешал ее Дмитрий Дмитриевич. - В магазин там или починить что - это я всегда. Ой, - спохватился, - я же подарочек... сувенир воронежский! - Из чемодана вывалилась куча нестираного белья, потом появилась небольшая коробочка. - Это вам.
- Спасибо. - На коробочке было написано "Воронежский сувенир" точь-в-точь как обещал Дмитрий Дмитриевич, - а оказался в ней утюг.
- Утюг, - сказала Эмма Ивановна Франк. - Хороший утюг. Самый лучший утюг из всех возможных утюгов.
-А то я думал-думал, что бы такое вам привезти, - прервал ее медитацию Дмитрий Дмитриевич. - Мне говорят, книга - лучший подарок.
- Нет, - сквозь слезы возразила Эмма Ивановна. - Лучший подарок утюг. - Она промокнула глаза галстуком платья.
Дмитрий Дмитриевич заулыбался, горячо заговорил о чем-то, а Эмме Ивановне вдруг показалось невероятно странным слово "утюг": утюг, утюга, утюг, утюгу... Утюг вплыл в сознание, как огромный корабль вроде лайнера или крейсера, произвел там чудовищные разрушения и застрял. До слуха долетали обрывки длинной и подробной, подро-о-о-бной истории о том, как Дмитрий Дмитриевич покупал подарок, как сомневался, как долго не решался выбрать...
- Можно я переоденусь? - неожиданно услышала она сквозь утюг и мужественно произнесла:
- Конечно, что за вопрос!
- Только Вы отвернитесь, ладно? Я еще к Вам не совсем привык. - Дмитрий Дмитриевич смутился, как девушка, причем страшненькая. - Или нет... я лучше в туалете переоденусь.
- Господь с Вами! - замахала руками Эмма Ивановна. - Не нужно этого... в туалете. Я ведь могу и выйти. - И вышла в другую комнату.
За дверью переодевающегося долго слышалось пыхтенье. Потом Дмитрий Дмитриевич полупросунулся в комнату к Эмме Ивановне.
- Иголочки с ниточкой не найдется у Вас? - В дверном проеме убедительно заколыхались полосатые штаны.
Уменьшительно-ласкательное отношение к иголке с ниткой растрогало Эмму Ивановну.
- Что там случилось? Я не понимаю по штанам: мне их видно плохо.
- Да вот же! - Дмитрий Дмитриевич развернул штаны как знамя. - Пуговица оторвалась, а мне пока стыдно перед Вами в таком виде.
Он все время говорит "пока"... ах да, мы же с ним отныне вместе вместе до самой смерти!
- Иголка с ниткой на кухне, только Вы вряд ли найдете. Я сейчас принесу.
- Но тогда Вы с закрытыми глазами идите, - потребовал Дмитрий Дмитриевич. - Мы же еще не в таких отношениях...
Эмма Ивановна без страха вошла в комнату и остановила взгляд на Дмитрии Дмитриевиче, стоявшем в трусах и прикрывавшем пижамными брюками мужские части тела.
- Я не умею ходить с закрытыми глазами. У меня от этого голова кружится... Да перестаньте Вы так нервничать - что я, по-Вашему, мужчина трусах не видела?
- Не знаю, - призадумался мужчина-в-трусах, одновременно рдея, как венгерское яблоко.
- Давайте штаны, я сама пришью. Пуговица где?
- Потерялась... - Протягивая брюки, Дмитрий Дмитриевич стыдливо соединил пухлые колени.
И вдруг Эмма Ивановна начала хохотать. Не смеяться, заметьте, хохотать, и не нервически, а от всей души. Неизвестно откуда пришел хохот этот - внезапный, как почтальон. Она в упор смотрела на гостя и просто-таки умирала от смеха. А тот совсем сначала скис, однако через минуту уже тоже улыбнулся... заулыбался, заулыбался и неожиданно, прежде всего для себя, залился тоненьким смехом, время от времени попискивая. Он все-таки удивительно был похож на щенка, ну вылитый щенок! Насмеявшись, они внимательно посмотрели друг на друга - и внезапно смутившаяся наконец Эмма Ивановна отправилась на кухню пришивать пуговицу к штанам. Дмитрий Дмитриевич кряхтел одиночестве, потом сказал:
- Я, извиняюсь, опять забыл, как Вас зовут...
"Склероз... Склеротик еще!" - с непонятной радостью подумалось ей.
- Прошу Вас запомнить: Эмма Ивановна Франк. Постарайтесь, пожалуйста, не спрашивать больше. Эмма Ивановна Франк, 1918 года рождения, немка, беспартийная, незамужняя. - Она сделала паузу и с удовольствием произнесла: - Певица.
- Спойте, пожалуйста, мне какую-нибудь песню, - быстро среагировал гость и умолк, судя по всему собираясь слушать.
-Какую же песню Вы хотели бы услышать, драгоценный Дмитрий Дмитриевич Дмитриев? - Она вернулась с его штанами.
- Можно вас попросить, - обиделся тот и от обиды стал надевать штаны прямо посреди комнаты, - не употреблять моей фамилии: у вас это как-то легкомысленно получается.
- Пардон, - извинилась по-французски Эмма Ивановна. - Так какую же песню?
-"Миллион алых роз", - размечтался Дмитрий Дмитриевич, окончательно облачась в чешскую свою пижаму: причем, стало ясно, что пижам до этого он не носил никогда, поскольку вел себя в ней, как если бы на нем был надет фрак.
- Это не мой жанр, - улыбнулась Эмма Ивановна. - Я исполняю старинные романсы.
- А-а, - разочаровался Дмитрий Дмитриевич, упихивая вещи в чемодан. Ну... тогда можно не петь.
- Я и не собираюсь, - успокоила его Эмма Ивановна и отвернулась к окну.
- Ой, я, кажется, не то сказал...Вы пойте, конечно, я не против!
- Ни за что! - отрезала она и пошла разогревать суп, наказав гостя паузой - достаточной, чтобы воспитать целую гимназию.
Они и суп ели молча. Дмитрий Дмитриевич даже не поднимал глаз от тарелки, с отчаяньем наблюдая за собой, как быстро он ест. Однако после супа отчаянье почему-то пропало - более того, начал он поклевывать носом и даже всхрапывать. Продолжая педагогический террор, Эмма Ивановна без единого слова вымыла посуду, потом нечаянно поймала Дмитрия Дмитриевича за его занятием и улыбнулась. Они перешли в комнату. Гость зевал как заведенный.
- Я всю ночь не спал от волненья перед встречей. Вы извините меня за мой сон сейчас, это неделикатно я делаю.
- Вот Ваша кровать... то есть диван, можете укладываться.
- Только я постельного белья не привез. Я думал, Вы скажете нам надо вместе спать.
- Этого-то уж я Вам никогда не скажу! - возмутилась Эмма Ивановна, готовая было к примирению. - Не пугайтесь, пожалуйста.
- А чего мне пугаться? - расхорохорился сонный Дмитрий Дмитриевич. - Я на своем веку не с одной женщиной спал.
- Думаю, что на Ваш век и хватит, - закрыла тему Эмма Ивановна и поинтересовалась: - Вам руки не надо перед сном помыть?
- Да у меня чистые. - Гость проверил. - Мне вот в уборную хочется - это да. У Вас совмещенная?
- Отдельная, - отчеканила Эмма Ивановна.
- Это я люблю, в Воронеже тоже отдельная была. А то все время кажется, что пока ты там, так сказать, сидишь, кому-нибудь обязательно руки мыть надо.
И бодрым, как ни странно, шагом направился Дмитриев Дмитрий Дмитриевич в туалет - словно в бой, на штурм, в поход! Только что военных песен не пел... и из ружья не стрелял. В ванную пошел все-таки, но по-другому уже, миролюбивее. Там долго фыркал, плевался, вылез мокрый, полотенце попросил. Лег в приготовленную постель, сказал: - Бывайте, - и уснул с пол-оборота.
Эмма Ивановна посидела на кухне, выпила цитрамон: голова разболелась. От цитрамона голова не прошла. Давление подскочило, наверное. Плохо. Это она понервничала - и было, между прочим, от чего. Жизнь, в общем-то, рушилась... не шуточное дело! Значит, что же - обед надо на завтра варить? И не овощной, между прочим, супчик, вроде сегодняшнего, а какой-нибудь борщ там... наваристый. С костью во всю кастрюлю - этой, как ее... мозговой. И на второе - ой, второе теперь будет!.. - опять же мясо. Да, мясо-по-домашнему. По-домашнему... ужас. И компот. Ну уж компот - это дудки. Без компота обойдется... Она закрыла глаза, опустила голову на руки - и нечаянно задремала, даже уже снилось что-то: облако такое пушистое, белое. И вышел из облака этого Дмитриев Дмитрий Дмитриевич с винтовкой, стал стрелять и кричать: - Компот давай, пора! - Пришлось вздрогнуть и проснуться. Из комнаты в кухню и обратно, как маленькая тележка на многих колесиках, катался не то чтобы оглушительный, но густой и вместе рассыпчатый храп именно того самого тембра, который лучше всего улавливает человеческое ухо. "Восхитительно", - вслух сказала Эмма Ивановна и пошла на храп с намерением прекратить его раз и навсегда, но в темноте наткнулась на что-то: прямо под ноги в освещенную переднюю снова вывалилась куча белья - все та же. Замачивая белье, поймала себя на том, что напевает: "Миллион, миллион, миллион алых роз из окна, из окна, из окна видишь ты..."
"Деградируем?", - спросила и взглянула в зеркало: оттуда смотрело моложавое лицо - и написано на лице этом было немыслимое, бурное счастье.
- Чему радуешься, дура? - обратилась она к лицу, стерла всю косметику и пошла спать - мимо тележки на множестве маленьких колесиков, которую все еще возили по квартире, на тележку эту стараясь не глядеть. Между тем с тележки съехало на пол одеяло. Дмитрий Дмитриевич лежал на диване как зародыш: поджав пухлые колени чуть ли не к подбородку - и светился во сне бледным светом чешской пижамы. Пришлось одеяло поднимать и укрывать спящего.
- Спасибо большое, - сказал зародыш и открыл глаза. - Ручку... разрешите поцеловать?
"Версаль!" - подумала Эмма Ивановна и, быстро наклонившись к дивану, неизвестно зачем поцеловала Дмитрия Дмитриевича в губы. И вышла из комнаты. И закрыла за собой дверь. В своей комнате плюхнулась в кресло и сказала: "Ну и глупо". Прислушалась: тележку перестали возить. Значит, начинается... сейчас начнется. Дмитрий Дмитриевич ищет уже ногами под кроватью тапочки тапочки у него новенькие, немецкие... пантофельн. С минуты на минуту он появится перед нею во всей красе. Эмма Ивановна зажмурилась от ужаса и бросилась в ванную - только бы успеть проскочить мимо двери, за которой подозрительно долго уже не возят тележку!.. Успела - и дверь на задвижку: ррраз! Привет, Дмитрий Дмитриевич.
Сидя на краешке ванны, она чувствовала себя в безопасности. Не станет же он дверь ломать, в самом деле! Ему ведь жить тут еще, а со сломанной дверью не очень-то... Господи, что за мысли! Даже если я... как бы сказать... взволновала Дмитрия Дмитриевича, то он, скорее всего, просто встал с диванчика и теперь ждет ее в комнате. Это, между прочим, ужасно... Сколько же мне тут сидеть, на краешке ванны? А пока Дмитрий Дмитриевич не устанет ждать и не пойдет опять к себе на диванчик. Она поднялась, приложила ухо к двери: вроде тихо пока. Постояла... Взяла тюбик с дневным кремом, прочитала: нанести крем тонким слоем. Нанесла. Покончив с этим, тщательно напудрила лоб, нос, щеки, немножко шею. Чуть-чуть подкрасила губы, самую малость подвела глаза... Ну и как? Да в общем опять порядок!
И, громко щелкнув задвижкой, Эмма Ивановна Франк вышла в коридор с совершенно победительным видом... В комнате у нее никого не было. Зато по соседней комнате продолжали возить тележку - причем с удесятеренной скоростью.
"Вот как!" - вслух сказала Эмма Ивановна, покачала головой, подошла к окну и улыбнулась всем, кто шел в этот поздний час по ночным улицам. Спокойной вам ночи, дорогие мои... И осталось совсем немного: еще раз смыть косметику и лечь наконец спать, чтобы прекратить как-нибудь бесконечный день. Лечь спать и назло им, назло нам увидеть-таки до конца тот самый сон, который вот уже много лет кому она только не пересказывала, кому только не дарила! Пресловутый сон о хорошем человеке, о стране, где она не была никогда, - стране по имени Германия. И домик - весь в плюще, и двор - весь в гравии, и стол - весь в рукописях... А хороший человек - Он тогда еще молод, красив и черноус. Она в шутку называет Его "магистр", хотя какой Он магистр!.. Это когда-а-а еще будет! Пока же Он просто весельчак, просто балагур - и основы мироздания, потрясаемые Им, рушатся лишь в Его дознании. Она вышивает Ему кисет - вот, значит, как он выглядит, этот кисет: с узорами желтым по черному. А что, хорошо, между прочим, вышит кисет, со вкусом - и нечего смеяться. Но Он всегда смеется - что с Него взять? Пусть смеется, пусть считает ее девчонкой, но ведь приглашает все-таки на лекцию - и надо наконец послушать эту лекцию, надо наконец узнать, о чем она. Впрочем, кажется, Он прав, когда смеется над ней: лекция слишком трудна для нее... и потом ей плохо слышно, она выбрала неудачное место - долетают лишь отдельные слова. Она напрягается, чтобы уловить хоть какой-то смысл, но - увы... И тогда она начинает смотреть по сторонам.
Проснитесь, Эмма Ивановна Франк, проснитесь немедленно. Пусть Вам запомнится только это, не смотрите свой сон дальше: он ведь должен остаться тем самым сном, о котором в жизни Вашей вы рассказывали и рассказывали случайным людям на случайных бульварах - да и теперь временами рассказываете... теперь, когда Вам далеко уже за шестьдесят и такой способ знакомства кажется немножко неприличным в Вашем возрасте - да, немножко неприличным... Но ведь речь идет о невинном сне, утешаете себя Вы: у-каждого-психа-своя-программа, утешаете себя Вы. А потом... никто уже не принимает Вас всерьез и не предлагает Вам разделить с ним жизнь, и Вы снова и снова остаетесь одна в огромной Вашей квартире, Эмма Ивановна Франк. Правда, только что появился в жизни вашей Дмитриев Дмитрий Дмитриевич, но вглядитесь в него: разве это тот человек, который сейчас снится Вам? Будьте внимательны: молод, красив, черноус... выступает с лекцией, которую слушают, затаив дыхание. Слушают все, кроме Вас... куда Вы смотрите? Ах, вот что... Вы смотрите на одного из слушающих и, пожалуй, находите его интересным. Очень интересным. Потрясающе интересным. Неужели с ним, а не с Вашим "магистром" уйдете Вы с этой лекции, что Вы делаете, Эмма Ивановна Франк? Одумайтесь... Вам снится уже такое, чего никак не следует видеть во сне старушкам вроде Вас! Потому что именно с этого момента и начинается ваш крах, Эмма Ивановна Франк.
Уф-ф-ф!... Скажите спасибо Дмитриеву Дмитрию Дмитриевичу, крадущемуся по коридору. Он прерывает Ваш сон, грозящий превратиться в кошмар: короткими перебежками Дмитриев Дмитрий Дмитриевич пробирается... куда?
- Решили сбежать от меня, Дмитрий Дмитриевич? - Эмма Ивановна приподымается на постели. Старичок останавливается в двери - полувидный и полусонный.
- С добрым утром, - говорит он, - мне надо в одно место. Извиняюсь, что побеспокоил.
- А который час?
- Вы спите, рано еще... половина восьмого только.
- Да нет, пора вставать.
Эмма Ивановна опустила ноги и, не стесняясь Дмитрия Дмитриевича, набросила халат поверх ночной рубашки и прошествовала мимо гостя так, словно познакомились они не вчера, а лет двести назад.
- Вы вот ничего не боитесь, - с завистью сказал тот. - Можете перед малознакомым мужчиной совеем свободно себя вести. А я побаиваюсь еще: вдруг скажу что не так или сделаю... Воспитания, понимаете, не хватает.
- Не огорчайтесь, я воспитаю Вас, - пообещала Эмма Ивановна опрометчиво, между прочим.
Дмитрий Дмитриевич руководил ею весь день, направо и налево давая полезные советы, чем вконец умотал ее уже к трем часам, когда она с облегчением вспомнила, что на пять вечера назначена репетиция, и не без злорадства объявила об этом Дмитрию Дмитриевичу.
- Значит, пообедаем, и... я уйду, а Вы останетесь дома.
- Как - дома? Один дома? Да Вы что, Эмма Ивановна! Я пока еще не могу один дома оставаться, я с Вами пойду.
Эмма Ивановна чуть не стукнула его черпаком по плеши, но сдержалась по причине хорошего воспитания.
Между прочим, Дмитрий Дмитриевич оказался маленьким вулканом: говорил он без остановки, совершенно освоившись и не боясь уже, видимо, сказать что-нибудь не так...
- А интересный я собеседник? - мажорно спросил он Эмму Ивановну за обедом, умудряясь жевать и беседовать одновременно.
- До крайности, - вздохнула Эмма Ивановна. - Как это только Вас не утомляет - пережевывать пищу и вместе с тем быть интересным собеседником?
- Я пока еще стесняюсь немножко, - с полным ртом признался Дмитрий Дмитриевич. - А вообще-то я могу в одно и то же время смотреть телевизор, кушать, читать газету и разговаривать. Я дома всегда так делаю. Меня дочь называет Гаюлий-Цезарь, это, знаете, был такой полководец. - И он начал подробно рассказывать про Юлия Цезаря.
- Господи, как много Вы... знаете! - не выдержала Эмма Ивановна. - И не устаете же Вы так много знать!..
- Не устаю, - охотно согласился Дмитрий Дмитриевич. - Я и вообще-то выносливый - правда, сердце иногда шалит, но я на него ноль внимания. А поговорить люблю. Мне знакомые говорят: с тобой, Дмитрий, как встретишься, так и не знаешь, ей-богу, куда деваться. Вы еще увидите, - туманно пообещал он.
- Да я уже и сейчас вижу, - начала было Эмма Ивановна, но Дмитрий Дмитриевич успел изменить тему и теперь рассказывал про какого-то своего приятеля, у которого кролики.
По дороге на репетицию рот у него уже просто не закрывался. Даже в троллейбусе, где судьба смилостивилась над Эммой Ивановной и откинула интересного-собеседника в другой конец, он через головы пассажиров ухитрился начать историю про одного друга, у которого диабет, пока кто-то из стоявших поблизости не полюбопытствовал: - Вы, папаша, это все кому рассказываете, а? Отдохнули бы!.. Эмма Ивановна не выдержала и тут же вышла - благо случилась остановка, не сделав Дмитрию Дмитриевичу даже никакого знака.
...Боже ты мой, до чего же хорошо одной идти по улице, до чего же тихо! Ее абсолютно не волновало, сумеет ли Дмитрий Дмитриевич найти кафе, где она выступала: кажется, он и название-то кафе прослушал, пока говорил. Она беспечно свернула в первый попавшийся проулок и оставшийся путь проделала пешком, блаженствуя на воле. Вот и кафе... А вот Сергей бежит.
- Сережа! - помахала она рукой.
- Привет, Эм! - Сергей прищурился. - Что-то у Вас на лице так грустно?
- Ах, Сереженька, я, кажется, вышла замуж - и очень неудачно.
Сергей присвистнул.
- Могли бы, между прочим, меня осчастливить... А почему неудачно?
- Он говорит все время. И все время стесняется.
- Застенчивый болтун, - определил Сергей. - Вам крышка, Эм. Срочно разводитесь.
- Не выйдет, Сереженька... - Батюшки, и слезы на глазах!
- Не горюйте, Эм, милая. В крайнем случае я убью его. Едва лишь они открыли дверь в репетиционный зал - вся Италия бросилась к ним в объятия музыкой, которой не слышала прежде Эмма Ивановна или, может быть, слышала, да забыла... и глухой голос Стаса - непевческий, уличный просто какой-то голос - принялся рассказывать что-то: утешая, обнадеживая, обещая... Сергей держал Эмму Ивановну под руку, не держал даже - придерживал.
- Что это было? - хотела спросить Эмма Ивановна, но не успела.
- В исполнении группы "Счастливый случай" прозвучала песня Марио и Паренте "Dduie paravise". Она посвящена всем нам хорошо известной Эмме Ивановне Франк. Сегодня у группы большой праздник: ровно два года прошло с того самого дня, когда Эмма Ивановна Франк стала нашей солисткой. Мы надеемся, что она не откажет нам в любезности и продлит контракт с нами пожизненно.
Аллочка, бас-гитара (ее называли "бес-гитара" или просто Бес) осторожно откинула клетчатую скатерть с уже накрытого стола.
- На семь персон, - сказала она, а элегантный Стас-в-бабочке (разрешите-подать-вам-руку) усадил Эмму Ивановну во главе стола, в кресло с высокой спинкой.
- Пьем во здравие Эм! - Это Володя-ударные-инструменты.
И - самое лучшее на свете шампанское: сладкое-сухое. И самые лучшие на свете фрукты-с-рынка. И самая лучшая на свете ресторанная еда-для-своих... Надо ли говорить, что Эмма Ивановна вот уже минут пять как обливалась слезами - вся, с головы до ног. А Павел нес пакет на вытянутых руках большой, между прочим, пакет, перевязанный шестью лентами разных цветов. От каждого по ленте, и каждый ленту свою сам развязал. Женя заиграл на флейте восточную какую-то мелодию, а Бес голосом сладким и сухим, как шампанское, проговорила:
- Слон индийский. На счастье. Из слоновой кости или под слоновую кость. - Эмма Ивановна прижала слона к груди.
- Будете плакать - слона заберем, - пригрозил Сергей.
- Не забирайте слона! Пожалуйста! - зарыдала уже Эмма Ивановна, и ее обняла Бес - высокая сутулая Бес, дыша ей в макушку и говоря хорошие, разумеется, слова.
Ясно, что репетиции не было. Ясно, что был пир. И воспоминания о том, как однажды вечером к сцене подошла средних-лет-женщина, ужинавшая в компании маленькой испуганной старушки ("Манечки! - засмеялась Эмма Ивановна. - Выпьем за Манечку!"), и сказала Стасу: "Ребята, что-то у вас всех со вкусом, надо другой репертуар"... и как они сначала обалдели-и-невзлюбили, зато потом!..
- Наше министерство культуры, - вздохнул Стас, приобняв Эмму Ивановну.
И на-большооом-веселе ребята отправились на сцену.
- Сделайте вид, что все трезвы! - крикнула вслед Эмма Ивановна и принялась убирать со стола - долго, с удовольствием.
- Эм, Вас объявили.
О, господи... Дмитрий Дмитриевич, наверное, в зале: дошел, небось, за два-то часа! А у нее голова кружится: как петь? Впрочем, если для Дмитрия Дмитриевича... И птичкой выпорхнула на сцену.
Дмитрия Дмитриевича не было. Дмитрий Дмитриевич, наверное, потерялся. Или обиделся и обиженный ходит по Москве. Какое все-таки свинство - бросить его одного посреди столицы-нашей-Родины... Но звучит уже "Снился мне сад..." - и надо потихоньку выходить на авансцену. Это, между прочим, Сергей придумал: сначала начать петь, а потом уже медленно двигаться к освещенному участку сцены.
Смешные они, эти ребята. Эм-у-меня-есть-предложение-как-вас-подать-снач ала-вы-не-видны-а-слышен-только-голос-и-лишь-потом-вы-появляетесь-во-всей-кр асе!.. Эмма Ивановна сказала тогда: "Сереженька, будьте проще. Я слишком стара, чтобы выходить на сцену сразу. Конечно, надо подготовить публику по крайне мере голосом - иначе она же умрет со смеху, увидев на сцене такую развалину!.." Да уж, рискованное это было решение - петь в молодежном ансамбле... Как она вообще отважилась на такой шаг! Манечка впала в транс: вспомни-сколько-тебе-лет-тебе-шестьдесят-три-года-тебя-же-освищут! Между прочим, могли бы и освистать. Запросто. В кафе по вечерам одна молодежь приходит, а тут она - со своими романсами. Бабуля-на-покой-не-пора? И такое бывало... Слава богу, закончилось. Стае говорил, что слышал, как молодой человек в их кафе девушку приглашал: "Пойдем, там одна бабуля поет классно!" Ну, бабуля так бабуля. Когда женщине за шестьдесят, неудивительно, что ее называют "бабуля": бабуля она и есть. А вот "поет классно" - это надо заслужить. И трудно заслужить, кстати говоря. Единственный способ заслужить - петь классно. Так она и поет.
"Снился мне сад в подвенечном уборе.
В этом саду мы с тобою вдвоем.
Звезды на небе, звезды на мо-о-оре..."
И действительно классно поет Эмма Ивановна Франк. Эм-я-от-вашего-голоса-с-ума-схожу! - это Бес... Есть от чего сойти с ума: голос ей сама природа ставила, никто не вмешивался - никакие учителя. И никто не использовал - никакие театрально-зрелищные учреждения: для друзей только всю жизнь пела. Причем по первой же просьбе, безотказно. Хоть и ученики в классе просили - она, сколько себя помнит, немецкий преподавала, хоть кто.
- Эмма Ивановна, спойте, пожалуйста! - Это, как правило, вместо проверки-домашнего-задания.
- Ну, что ж, - и какую-нибудь старонемецкую песню - чем не урок? Ужасно любили Эмму Ивановну Франк в спецшколе, да пришлось уйти на пенсию: ставки в спецшколе нарасхват...
Здесь, в кафе, ее тоже любят. И здесь не надо на пенсию идти. Между прочим, даже какая-то публика образовалась - "своя".
" Я помню вальса звук прелестный
- Весенней ночью в поздний ча-ас:
Его пел голос неизвестный,
И песня чудная лилась..."
Что-то случилось с Эммой Ивановной Франк на строчке "Да, то был вальс, старинный, то-омный..." - в зале даже есть перестали. Стас взглянул на Сергея - тот показал глазами куда-то в направлении входа. Там медленно и постепенно (плешь-лицо-шея-плечи-розы-руки...) образовывался в дверях запыхавшийся старичонка с внушительным букетом-алых-роз.
"Да, то был ди-и-ивный вальс!"
- Пропала наша Эм, - шепнула Павлу Бес.
А Эмма Ивановна смотрела только на старичонку: это ему она изо всех сил жаловалась на то, что теперь-зима, что ели-вроде-бы-те-же, покрытые-сумраком, что за-окном-шумят-метели, но... милый, милый Дмитрий Дмитриевич, звуки-вальса-не-звучат больше, это самое печальное, милый Дмитрий Дмитриевич... жизнь, видите ли, прошла, и один Вы можете ответить мне, "Где ж этот вальс, старинный, то-омный, Где ж этот ди-и-ивный вальс?"!
А переставшие есть уже не смотрели на сцену: они смотрели туда, куда посылала свои жалобы симпатичная-старушка-Эмма-Ивановна-Франк и где совершеннейшим бревном стоял маленький-старичок-вы-полненный-в-коричнево-син ей-гамме - стоял навытяжку, держа перед собой букет, с места не сдвинувшись и даже не шелохнувшись ни разу. Дальше случилось совсем уж невероятное.
- Миллион-алых-роз, - объявил в микрофон несколько обалдевший Стае после того, как Эмма Ивановна Франк наклонилась к его уху, - для нашего гостя из Воронежа Дмитрия Дмитриевича Дмитриева. Музыка Раймонда Паулса на стихи Андрея Вознесенского.
- За месяц предупреждать надо, - заворчал Володя-ударные-инструменты.
"Жил-был художник один..." - начала Эмма Ивановна Франк и сделала из простецкой, в общем, песенки такую трагедию, которая и не снилась ее авторам... Низкий надтреснутый голос, поставленный самою природой, пел о чуде, руками одного человека содеянном и руками другого человека разрушенном, о счастье необладания, о любви без предмета, без цели, без смысла... обо всем. И падали на пол ложки и ложечки, вилки, ножи, чашки, тарелки, сердца - и сваливались в кучу, на которую никто не обращал больше внимания, потому что улетели посетители кафе далеко-далеко, откуда не видно уже этой-жизни, а видна та-жизнь, другая-жизнь, жизнь-вечная-и-прекрасная...
На обратном пути Дмитрий Дмитриевич молчал так, будто его убили. С этого памятного вечера он вообще стал говорить совсем мало - с трудом удавалось вытянуть из него даже односложный ответ. Зато он ежедневно ходил на концерты, а дома эдаким хвостом... хвостиком сопровождал Эмму Ивановну из комнаты в комнату: ей, честно сказать, было неловко.
Разрушил все это телефонный звонок из Воронежа. Дмитрий Дмитриевич опустил трубку и глаза:
- Мне домой надо, внук звонил. Соскучили без меня.
- Ну, если "соскучили"... - Эмма Ивановна в кровь стерла пальцы о терку. "Морковь-с-кровью, блюдо называется". - Тогда, конечно...
Два дня группа "Счастливый случай" скупала в московских магазинах все-что-попадалось-под-руку. В сопровождении ребят и Эммы Ивановны Дмитрий Дмитриевич благополучно отбыл на Казанский вокзал. Воспитанные ребята, погрузив в вагон багаж, откланялись. Дмитрий Дмитриевич стиснул плечо Эммы Ивановны совершенно уголовным образом.
- Хорошая Вы моя, - сказал. - Совсем не я Вам нужен?
- А кто? - машинально спросила Эмма Ивановна.
- Тот, который... ну, снился Вам... на самом деле. Я - что... - И в первый раз за все это недолгое время он очень аккуратно поцеловал Эмму Ивановну в щечку - три раза.
Поезд почти тронулся.
- Это Вам! - опомнилась Эмма Ивановна, выхватив из сумки большой сверток. - На счастье. Хотя... Вы, по-моему, уже счастливы.
- Вы простите, если что не так! - высунулся Дмитрий Дмитриевич из тамбура уходящего уже поезда. - Я ведь по-простому...
- Да что Вы, голубчик! Все было очень хорошо, все правильно было. .. Это уже вдогонку. И пошла по перрону.
В купе Дмитрий Дмитриевич развернул сверток. Большой слон-из-кажется-слоновой-кости лежал на боку.
- Дорогая штука, - отнесся сосед.
- Дорогая... - сказал Дмитрий Дмитриевич и зажмурился.
Глава ДЕСЯТАЯ
Дол зеленый, ЙО-ХО!
Настоящее одиночество наступило через час с небольшим, когда Эмма Ивановна, вернувшись, домой, увидела стакан, на стенках которого собрались минеральные пузырьки. Это был его-стакан.
Эмма Ивановна машинально взяла стакан и воду допила; воды не стало в стакане. Побродив по комнатам, нашла носок. Его-носок - веселенькой такой расцветки с крохотной дырочкой на пальце. Дырочку надо было заштопать. Заштопала. Поискала второй носок, второго не оказалось. "Что же я буду с одним-то носком делать?" - спросила она вслух, стала на разные лады повторять эту фразу, боясь задать себе вопрос, что бы она делала с двумя.
Дмитрий Дмитриевич Дмитриев уехал из ее жизни на поезде. Эмма Ивановна долго смотрела перед собой, глаза начали слипаться - и поезд мысленно отходил, и вагоны мелькали - один, другой, третий, десятый... стосорокпятый: Господи, чтожеэтозадлинныйпоездтакой! Она очнулась от звонка в прихожей: Дмитрий-Дмитриевич-спрыгнул-с-поезда-и-пришел-за-носком!
- Кто там?
- Пожалуйста, откройте, Эмма Ивановна Франк.
- Кому? - хоть и знала уже кому: она вспомнила этот голос сразу.
Что ж такое-то: никого не было всю жизнь, никто не шел, а тут... Одна заря - сменить -другую и так далее.
- Здравствуйте, магистр, - сказала она, стоя в дверях.
Посетитель как-то-даже-несколько-отшатнулся - и его рука, не приподнявшись, словно бы приподнялась, заслоняя лицо от взгляда Эммы Ивановны
- Вы... разрешите? - спросил он между тем, глазами показывая в прихожую.
- Да-да, конечно, - однако с места Эмма Ивановна так и не сдвинулась, не понимая, что возможности пройти не дает гостю. Тот продолжал оставаться в дверях, она же продолжала смотреть на него.
- Я не вовремя. Эмма Ивановна? Вы заняты чем-то?
- Нет... Да. Просто Вы позвонили очень неожиданно, вот я и...
- Мне прийти в другой раз?
Помотав головой, Эмма Ивановна отступила в прихожую - на один только шаг. Посетитель тоже сделал шаг - дверь не закрывалась. Эмма Ивановна еще отступила - гость еще немножко продвинулся. Проклятая дверь по-прежнему не закрывалась. Маленькими шагами прошли все же в прихожую - наконец закрылась дверь, чтоб ее!..
- Вот Вы и вошли, - констатировала Эмма Ивановна.
- Вы позволите мне снять пальто?
- Тут вешалка. - Она смотрела посетителю прямо в глаза.
- Где? - спросил тот, тоже не отводя взгляда.
- Сбоку.
- Спасибо. - Медленно расстегивал он пальто с тысячей, казалось, пуговиц. - Вы уходить куда-то собирались?
- Нет, а... что?
- Просто я подумал: Вы в шляпе...
Эмма Ивановна дотронулась рукой до головы, шляпу стянула: так и стояла со шляпой в одной руке и пестреньким нейлоновым носком в другой. Впрочем, не глядя, бросила шляпу на полку. Вошли в комнату.
- Присаживайтесь, - Эмма Ивановна кивнула на кресло, сама же в кресло это и опустившись - без сил. Гость поискал глазами стул, сел далеко от Эммы Ивановны. Молчали.
- Пожалуйста, говорите, - попросила Эмма Ивановна. - Спросите у меня о чем-нибудь.
- О чем бы, например?
- Я не знаю.
- Хорошо, спрошу. Вы помните мое имя?
- Да. Станислав Леопольдович.
- А имя Клотильда говорит Вам что-нибудь? Вы знаете это имя?
Эмма Ивановна кивнула. Гость молчал.
- Знаю. - Эмма Ивановна кивнула еще раз - на всякий случай. - Это такое немецкое имя. Довольно редкое теперь. И что?
- Да ничего, в общем. У Вас оно с чем связано?
Эмма Ивановна немножко подумала - самую малость:
- Клотильда... Будденброк. Она ела очень много.
- А еще?
- Еще... очень набожная была.
- Да нет, я не о Клотильде Будденброк, я о Вас. Что Вы еще можете об имени этом сказать?
- Ничего больше, - устало ответила Эмма Ивановна.
- Хорошо.
- Хорошо?
- Не знаю, впрочем. Почему Вы тогда назвали меня "магистр"?
- Потому что... сон. Я Вас так во сне называла. Несколько недель назад. Но при чем тут Клотильда?
- Видите ли, это имя моей жены.
- Вы женаты, - заключила Эмма Ивановна очень спокойно.
- Она оставила меня много лет назад.
- Вы были женаты, - так же спокойно исправилась Эмма Ивановна.
- Был. Вот Клотильда... Кло и называла меня тогда "магистр". Я подумал что Вы, может быть, с ней знакомы, раз... раз знаете домашнее мое имя.
- Нет, мы не знакомы.
- Значит, сон вещий.
- Как интересно, - без энтузиазма сказала Эмма Ивановна. Повременила и добавила: - Я догадалась, зачем Вы пришли.
- Это нетрудно: я ведь откликнулся на Ваше предложение.
- Вы послушны, - усмехнулась Эмма Ивановна. - Хоть, помнится, и заставляли себя долго упрашивать.
- Вы ничего не знаете обо мне, что же Вы так... - поморщился Станислав Леопольдович.
- Но и Вы ничего обо мне не знаете. - Эмма Ивановна вздохнула. - Я очень, очень устала. Два часа назад я проводила на поезд человека, который говорил, что любит меня и любил... и я думала, что люблю его, что могу любить его.
Станислав Леопольдович смотрел на носок в руке Эммы Ивановны.
- Носок, - сказал он. - Веселенькой расцветки. Трогательно.
- Как Вы можете! - тихо возмутилась Эмма Ивановна.
- Вы любите до сих пор? - почти смеясь.
- Это мое дело, - она защитила себя как смогла. И вдруг призналась: Сама не пойму. Просто не было никого - и как-то уже неважно стало... люблю, не люблю.
- Важно. Это всегда важно. - Гость продолжал смотреть на носок.
Эмма Ивановна сжала носок в кулаке, сунула в карман платья.
- Он навсегда уехал. В Воронеж. Домой. И сразу Вы пришли, - она опять усмехнулась, - на освободившееся, так сказать, место... Вы тоже ко мне на месяц? Или нет, даже на вечер один - без чемодана!
- У меня нет ничего, Эмма Ивановна, никаких вещей. Но я к Вам навсегда.
- И он говорил, навсегда. А для Вас навсегда - это... сколько?
- Долго, - сказал Станислав Леопольдович.
- Как долго? До смерти?
- Больше, Эмма Ивановна. Больше. Правда, есть одно обстоятельство... Но потом об этом. Вы не думайте, я все понимаю: очень я поздно пришел. Надо было бы мне первому... до него... А после уже - я считал себя не вправе: я наблюдал немножко за вами - издалека. Вы были счастливы... Как и еще одна пара - молодых совсем людей, за которыми я тоже издалека наблюдал: Петр и Эвридика, мои подопечные, они-то уж точно счастливы, им не до меня. Я и не вмешивался... у них тоже все быстро...
- Ваши... дети?
- У меня нет детей. Просто я как бы отвечаю за них, но об этом когда-нибудь совсем потом. Вы успокойтесь только.
- Попробую. - Эмма Ивановна встала: сидеть не могла уже. - Давайте-ка мы с Вами чаю крепкого...
- Спасибо, - с поспешностью - странной - сказал гость. - Я не могу чай пить, спасибо.
- Не можете? Тогда кофе, да?
- И кофе не надо, спасибо.
Отказ был полным. Настаивать не имело смысла.
- У меня еще вина есть немножко. Знаете... сухое, хотите?
Гость покачал головой - энергично.
- Значит, совсем ничего? Или вот... водички минеральной?
- Эмма Ивановна, - он прижал руку к груди, - не беспокойтесь, прошу Вас. Ничего не надо. Мне нельзя этого ничего.
- А что, что вам можно? Сок, компот, кисель - что? Простой воды выпейте! - почти крикнула она. Пожала плечами, села. И начала рассказывать про какого-то своего знакомого, у которого кролики. Знакомый был не ее, а Дмитрия Дмитриевича.
- Это очень интересно. - Станислав Леопольдович внимательно выслушал путаный рассказ про кроликов.
- Нет, но так невозможно, я не знаю о чем с Вами говорить... Я вся издергалась. - Она снова поднялась. Отошла к окну.
- Ничего, - гость полуприкрыл глаза, - сейчас... Я все сам. Я люблю Вас.
Эмма Ивановна не поняла сказанного. Она только испугалась - неизвестно чего. Кажется, слов, которые сама произносила чаще, чем "здравствуйте". Но испугалась до смерти.
- Не пугайтесь. Того, кто Вас любит, чего ж пугаться... А любовь всегда бывает или внезапно, или тогда уж никак. Меня, например, совсем не смущает, что несколько часов назад на моем месте сидел Дмитриев-Дмитрий-Дмитриевич и рассказывал Вам про кроликов. Я ведь знаю... да и Вы знаете: перед любовью обязательно должны быть какие-нибудь дмитриевы-дмитрии-дмитриевичи.
- Дмитрии-Дмитриевичи? - Эмма Ивановна перестала слушать. Она не называла этого имени: гость узнал его не от нее. Вскинула голову, взглянула в упор: - Откуда Вам известно имя?
- Имя?.. От Вас. Вы же сами пять минут назад его называли!
Только на мгновение задумалась Эмма Ивановна.
- Вот что, - сказала она. - Ни пять, ни десять минут назад это имя здесь не звучало. Не нужно считать меня слишком старой. Я пока еще отчетливо помню все, что говорю. И прежде чем мы продолжим наш разговор, я хотела бы знать, кто рассказал вам о Дмитрии Дмитриевиче.
Гость с улыбкой смотрел на Эмму Ивановну и рассмеялся по окончании тирады.
- Милая Эмма Ивановна, до чего же Вы грозны! Вот уж не предполагал, не предполагал... Но не волнуйтесь, прошу Вас. Вы все узнаете своим чередом есть еще время. И я скажу Вам, как я вычислил Дмитрия Дмитриевича - сам, без посторонней помощи. Но сначала... могу ли я попросить Вас ответить на один только вопрос?
- На любой, - холодно сказала хозяйка.
- Я вот говорил, что накануне любви всегда бывают какие-нибудь дмитриевы-дмитрии-дмитриевичи. Но во сне-то Вы, в конце концов, все равно меня увидели... и вопрос в том, что Вы сейчас, в данный момент, ко мне чувствуете. От этого зависит, продолжать мне или нет. Слишком для меня много поставлено на карту.
- Действительно много? - Эмма Ивановна покачала головой. - Уж не целая ли жизнь?
- Если бы только жизнь! - Станислав Леопольдович махнул рукой. - На карту поставлено мое бессмертие.
- Вы бессмертны, значит? - пошутила, было, она, но осеклась. Гость смотрел на нее умными печальными глазами - глазами не человека даже, глазами человечества, обобщенным взглядом живых-и-мертвых. И тогда Эмма Ивановна растерялась.
Она захотела, как можно более честно ответить на вопрос человечества о том, любит ли она этого человека, но не знала, что ответить, и не знала как.
- Я не знаю, - так и ответила она. - Если бы Вы задали мне свой вопрос раньше...
- Я уже задавал Вам его раньше - много лет тому назад. Вы просто забыли. А тогда Вы сказали мне...
На этом самом месте зазвонил телефон.
- Извините, - вздрогнула Эмма Ивановна и подошла к аппарату. - Алло. Я слушаю, алло!
В трубке молчали. Потом заговорили: без "здравствуйте", без "Вас беспокоит" - голым одним текстом, жутким текстом.
- Я хочу предупредить Вас, - докладывал незнакомый мужчина, - у Вас сейчас сидит человек, три часа назад сбежавший из сумасшедшего дома. Это человек с сильным психическим расстройством: синдром навязчивых состояний. Систематический бред по поводу античной мифологии. Нарушение мотиваций. Ничего не отвечайте мне - просто внимательно выслушайте. Ваш посетитель опасен: говорите с ним как можно осторожнее, но весьма твердо. И постарайтесь по возможности быстро от него избавиться. Обещайте ему все, чего бы он ни попросил, однако ограничьтесь обещаниями, пусть и щедрыми. Возле Вашего дома уже стоит машина: его заберут, как только он покинет Вас. Ничего не бойтесь, держитесь спокойно и просто. - В трубке замолчали.
- Спасибо, - сказала Эмма Ивановна. - Могу я узнать, с кем я говорю?
- Можете. Заведующий отделением соматической психиатрии Аид Александрович Медынский. Из Склифософского. Больной не знает меня.
- Я все поняла и... согласна с Вами. Еще раз благодарю Вас. Вы меня очень выручили.
- До свидания, будьте мужественны.
- Всего доброго. Постараюсь.
Эмма Ивановна встряхнула волосами и спокойно взглянула на Станислава Леопольдовича: красивый крупный старик, глаза умнющие - и никаких признаков помешательства. Подумать только...
- У вас совершенно античный профиль, - улыбнулся гость. - Когда Вы говорили по телефону, я вдруг подумал: Эвридика...
Ну вот, поехало... Оказывается, оставаться спокойной отнюдь не так просто. Эмма Ивановна провела рукой по лбу: лоб был мокрым. Систематический бред по поводу античной мифологии. Теперь начнется.
Однако ничего нового не началось.
- Вы так и не ответили мне, - напомнил только Станислав Леопольдович.
- По поводу чего? - Эмма Ивановна уже потеряла нить разговора.
- По поводу того, как Вы сейчас ко мне относитесь... то есть что Вы чувствуете?
Именно сейчас Эмма Ивановна чувствовала только подступающую дурноту - и ничего больше. И не пришли - примчались, прискакали на память слова с бульвара: "У меня болезнь - страшная, неприятная, отвратительная!"
У Эммы Ивановны ноги подкосились: она почти упала в кресло. "Бедняга! думала она. - Вот что это, оказывается, за болезнь. И сам он о ней знает... или иногда знает".
- Как я отношусь к Вам? - спросила Эмма Ивановна чуть ли не беспечно. Я люблю Вас, Станислав Леопольдович.
Старик поморщился: он не поверил ей. Понять бы, какого ответа он ждет...
- И я...- "Боже правый, кто меня за язык тянет!" - я хочу любить Вас вечно. Ведь и Вы этого хотите?
- Еще более вечно? - усмехнулся Станислав Леопольдович.
- Я не понимаю Вас! - она прилежно сыграла полное непонимание.
- Я люблю Вас уже более двухсот лет, - просто объяснился гость.
- Сколько же Вам сейчас?
- Мне двести пятьдесят семь лет. Это тех, которые я помню. Но боюсь, что я не все помню.
Эмму Ивановну затрясло. Она встала и подошла к окну.
- Вы не удивлены? - с интересом спросил сумасшедший.
- Ничуть, - ответила Эмма Ивановна с готовностью. - Вы очень молодо выглядите для своих лет.
Гость опять усмехнулся. На сей раз, усмешка вышла недоброй.
- Самообладание у Вас колоссальное, - сказал он. - Вот уж никогда бы не подумал: там, на бульваре, Вы показались мне совершенно другой.
- Я разная, - поспешила оправдаться Эмма Ивановна. - Но на самообладание не жалуюсь.
- Ну в таком случае...
Что-то, по-видимому, встревожило сумасшедшего: взгляд его сделался беспокойным и каким-то нездешним. Чем она могла его задеть? Вроде бы, вела себя по ситуации...
- В таком случае, - повторил он, - если Вы готовы любить меня вечно, Станислав Леопольдович рассмеялся, и смех его был суховатым, - и если у Вас такая выдержка, я спокоен за Вас: к тому, что я намерен сообщить, Вы отнесетесь как нужно.
Стало быть, начинается уже. И действительно, Станислав Леопольдович начал немедленно. Конечно, это и был тот самый "систематический бред", о котором говорил Аид Александрович Медынский, - кстати, как он узнал, что сумасшедший сейчас у меня... и откуда в Склифософского мой телефон? систематический бред по поводу античной мифологии. Гость пытался убедить ее в том, что перед нею не человек, а тень, сбежавшая из Элизиума. В состав же Элизиума входит, дескать, Атлантида - самостоятельное государство, где последнее время и обретался Станислав Леопольдович в качестве Тени Ученого...
- Какого Ученого? - не выдержала Эмма Ивановна.
Оказывается, неважно какого ученого: имени его, дескать, все равно никто не помнит, давно это было... А годы жизни того Ученого - 1726 - 1798. И якобы Тень Ученого умеет материализовываться чуть ли не во что угодно - в настоящее время материализовалась, например, в человека по имени Станислав Леопольдович...
Между тем совершенно преобразился Станислав Леопольдович: из кроткого, в общем, старика - в оратора, трибуна... маньяка, одержимого. Что пропагандировал он, Господи, перед кем!.. Сумасшедший!
- Значит, Вы все-таки считаете меня сумасшедшим? - Станислав Леопольдович прервался на полуслове.
- Да нет же, поверьте...
Гость неожиданно обреченно взглянул в глаза Эмме Ивановне - и все в них увидел... может быть, даже телефонный разговор увидел. Где-то Эмма Ивановна читала о том, что сумасшедшие дьявольски проницательны. Она съежилась под его взглядом.
- Я так долго готовился к этой встрече. - И Станислав Леопольдович поднялся - впервые за весь вечер; Эмма Ивановна вздрогнула. - Который теперь час? - Он посмотрел на небо.
- Восьмой... десять минут восьмого. Вы спешите? - Если бы он спешил! Или, может быть, мне самой начать спешить?
- Да. Дело в том, что через час или немножко больше мне нужно будет... в общем, я перестану быть виден.
- Как это? - Эмма Ивановна на секунду забыла, что перед ней сумасшедший.
- Я - тень, - напомнил тот.
- А-а... Да-да, конечно, - поспешила согласиться она.
Станислав Леопольдович развел руками:
- Следовало бы исчезнуть на Ваших глазах, чтобы Вы поверили окончательно, но это крайняя мера. Зрелище не из заурядных... Впрочем, я избавлю Вас от него. Я мечтал о том, что Вы поверите мне на слово. И Вы поверили бы, если... - Гость прямо-таки ударил ее взглядом.
- Если... что? - смутилась Эмма Ивановна. Кажется, он догадался обо всем... - Телефон тут ни при чем! - Она вскочила.
- Телефон? Да бог с ним, с телефоном... Если бы Вы действительно любили меня - вот что я имел в виду.
И это смутило Эмму Ивановну Франк. Хотя с какой стати? Она не могла любить сумасшедшего, это же очевидно! Чего он хочет от нее?..
А если вправду дождаться ночи - посмотреть, что с ним станет? Но что с ним может стать: не растворится же он в воздухе, в самом деле... Нет, она пока еще в своем уме. Человек из плоти и крови не способен раствориться нечего и думать. Дождешься ночи, а он уже не уйдет потом. И придется до утра сидеть с сумасшедшим - нет, только не это!
- Послушайте, Станислав Леопольдович...
Гость не дал ей договорить. Он поднял руку и произнес:
- Я уйду. Я уйду, как только Вы меня об этом попросите, клянусь Вам... чем хотите. Не надо придумывать никакого срочного дела - дослушайте, я не сделаю вам зла.
Эмма Ивановна снова села.
Она не могла понять, что произошло, но страх куда-то исчез. Почти спокойно глядела она на Станислава Леопольдовича, а у того глаза были на мокром месте. Он, что же... плачет? Тень не может плакать! Значит, не тень. А если не тень - так сумасшедший, все-таки сумасшедший. Жаль...
- Я сейчас скажу Вам одну вещь. - Эмма Ивановна закрыла глаза - от ужаса перед тем, что она делала. Но она делала это. - Мне позвонили. Мне позвонили из Склифософского. И все рассказали про Вас. Там, - она вытянула руку в сторону окна, - ждет машина. Вас собираются забрать, как только Вы выйдете отсюда. Они уже знают, что Вы здесь. Идемте, я покажу Вам черный ход.
Она не открывала глаз. Если он сейчас задушит ее - так ей и надо.
- Откройте глаза, Эмма Ивановна. Мне хочется в них посмотреть.
Глаза пришлось открыть: не задушит, стало быть. Но как же он измучил ее!..
- Мне ни к чему уходить через черный ход - повторяю, я могу исчезнуть в любую минуту. Но даже если бы мне действительно что-то угрожало... Вы спасали меня, я понимаю и ценю... я бы и тогда не ушел через черный ход. Вы забыли одну частность: я люблю Вас.
"Но что, что мне делать? - хотелось закричать Эмме Ивановне. - Я играла в игру... в "Вы мне снились"! И пришел Дмитриев Дмитрий Дмитриевич - да, смешной, да, убогий... какой угодно, но я уже сказала ему все, чего добиваетесь от меня Вы! Уже сказала, поймите. И не могу теперь говорить то же самое Вам, это... это безнравственно. Ну хорошо, я согласна, я не любила его, я делала вид! Пусть... Но я еще помню, как я делала вид, - ведь и дня не прошло. И я не имею права так быстро отречься... даже от лжи".
- Ладно, - тихо сказал Станислав Леопольдович, словно услышав все это. - Я попробую по-другому. Я попробую объяснить Вам, что мы с Вами, именно мы с Вами обречены, - он почти прокричал слово "обречены", - любить друг друга, только друг друга - и никого больше. Нас обрекла на это... история, если хотите. Помните, я спросил про имя - Клотильда... Кло? Вы должны, Вы обязаны вспомнить! Это Ваше имя.
Эмма Ивановна встала опять. "Боже, - подумала она, - доколе?"
- Меня зовут Эмма Ивановна Франк.
И вдруг ей вспомнилось, вспомнилось очень отчетливо, что в детстве была у нее кукла и куклу звали Клотильда. Она хотела прочь прогнать воспоминание это, а оно прочь не прогонялось. Впрочем... кукла - только кукла, какая разница, Клотильда звали ее или нет'
- Вы что-то вспомнили?
- Нет,- решительно сказала Эмма Ивановна. - Ничего.
- М-м, - простонал гость. - Что ж Вы так не бережете воспоминаний своих! Ну, допустим... теперь вас действительно зовут Эмма Ивановна Франк. А раньше?
- Когда... раньше? - мысль о том, что Станислав Леопольдович сумасшедший, начала куда-то ускользать... именно в тот момент, когда он выглядел совершенно уже безумным: глаза блестят, весь лоб в поту ("Не тень ведь, не тень!").
- Раньше... давно, - бормотал безумный старик, - в сороковых годах осьмнадцатого столетия. - Голос его стал совсем глухим. - Тогда Вы были Клотильдой Мауэр, Кло, моей женой!.. И мы любили друг друга - не в первый раз, как я полагаю, но оставим это, оставим... Итак, в сороковых годах осьмнадцатого столетия мы с Вами любили друг друга. Вам же снилось это! - Он горько покачал головой. - Разве можно забывать свои сны? Снов своих нельзя забывать, заклинаю Вас... У меня тогда был маленький домик, домик моего отца, - весь в плюще. И двор при домике - весь в красном гравии. И Вы, Вы!.. Что в Вас было тогда, Кло? Ах, одна, одна только тирольская песенка была в Вас - крохотная такая старинная песенка, всеми на земле к тому времени забытая уже, - раньше забытая: лет за двести до Вашего появления на свет. Где Вы взяли ее, где взяла она Вас - не знаю. Но без песенки этой не было Вас для меня. Все, все с песенки этой началось тогда: я, помню, прислуживал в храме - и люди, прихожане, на Пасху Христову пели... И вот, слышу вдруг: один голосок выбивается из хора - неправильный голосок, колоратурка такая, явно выбивается. Смотрю по сторонам: нашел - девушка, ребенок почти, лет тринадцати. Волосы совсем льняные... прямые - сосулечки такие. И хрустальные глаза: прямо перед собой смотрят и тоже поют: про дол зеленый. А вокруг никто не замечает, что один голос - выбивается, что про дол зеленый. Я совсем близко придвинулся - песенка и пропала. Потом все из церкви - я за Вами.
- Что это Вы пели в храме? - спрашиваю.
А Вы смутились и молчите. Я настаиваю. Тогда Вы и говорите - тихонько:
- Это моя песенка. Мне бабушка ее завещала. Тирольская песенка... мирская.
- Разве можно мирскую - в храме?
- А нельзя?
Тут уж я смутился. Стою столбом, а Вы мне:
- Догоняйте! - и бежать...
И я догонял Вас - я Вас пять лет потом догонял... и догнал, и обнял, помните?
И все просил песенку мне эту тирольскую... мирскую спеть. И Вы пели просто, как дети поют, каждый раз - безотказно, дол зеленый, йо-хо!
Только песенка и была в Вас, Кло... Она главным в Вас была: а всего-то слов двадцать, остальное - повторы да припев тирольский, ничего больше. Но душа ваша, Кло, - та самая песенка про дол зеленый, как же Вы могли забыть об этом, как могли разрешить себе забыть... даже став Тенью Кло, но не буду, не буду про тени! Пока не буду, рано пока... Так, что еще?
Вы называли меня "магистр", "магистр" Себастьян, а я тогда не был еще магистром - школяром был, студентом в Гейдельберге. Я изучал теологию, а Вы стали моей женой. И я забросил теологию. Я ничего не делал - только любил, видит Бог. Только ходил за Вами, только смотрел на Вас... Лет шесть или семь я не читал, не упражнялся в вере и молитве, я не ходил в храм, потому что Вы стали божеством моим, милая, милая Кло!.. И подумать только, как беззаботно, как весело жили мы! Взгляните на птиц небесных, они не сеют и не собирают в житницы...
Бог свидетель, я опомнился не слишком поздно. Ради Вас, Кло, должно было мне становиться кем-то: шутливое прозвище "магистр" уже чуть ли не обижало меня. И я принялся читать, принялся писать - ежедневно, без остановки, до глубокой ночи. Я стал наконец магистром, Кло! Но Вас не было уже со мной, то есть нет... физически Вы были еще, мы жили вместе - все в том же маленьком домике моего отца... только в сердце своем Вы давно оставили меня. На Вас смотрело слишком много глаз - я посмеивался над Вами, я постоянно шутил по поводу этих глаз, когда нельзя уже было шутить: слишком многие любили Вас и слишком многим тогда Вы платили любовью. А однажды после лекции, после публичной моей лекции, Вы отправились в дом Вебера, из дома Вебера - в другой дом, потом - в третий... О Боже, праведный Боже, что Вы сделали с жизнью своей, бедная, бедная моя Кло!..
Станислав Леопольдович, не стесняясь, вытирал слезы - широкими, грубыми жестами, а слезы текли и текли, текли и текли. Эмма Ивановна не плакала. Ясными сухими глазами смотрела она на безумца, на этого сумасшедшего, сбежавшего из клиники, который метался по комнате и душу ей наизнанку выворачивал воспоминаниями о жизни не бывшей, не бывшей, не имевшей возможности быть! Но щемило в груди и понятно было: ушло что-то безвозвратно, давно ушло, а куда - неизвестно... И буйствовал голос - совсем глухой теперь, страшный. Гость закрыл лицо руками и сидел так.
- Нет, я вспомню сейчас, я вспомню... Я не хотел сегодня об этом, о песенке тирольской! Но вот, оказывается, за тем и пришел к тебе, чтобы сказать про песенку, про дол зеленый... Есть ли он сейчас в тебе, где он? Мука была в глазах его, а Эмма Ивановна подалась вперед - сказать что-то... - Молчи, молчи! - закричал он, - я сейчас, я должен вспомнить.
И тихо, как из-под земли, он запел, нет - завыл, без музыки... без мелодии, без ритма:
Дол зеленый, йо-хо,
дол зеленый, йо-хо...
Собирались...
Собирались... Собирались... Ах, я забыл, Кло! Я не помню, вот дурак старый, забыл про дол зеленый!.. Ты же потом мне много раз пела... да уж не так, но был в тебе дол зеленый, всегда был. И потом - тоже, через много лет, когда ты изменилась, страшно изменилась и я встречал тебя... изредка, всегда с кем-то другим, вдруг - в глазах, в голосе, в походке: дол зеленый, йо-хо! То, чего ни в ком не было... ни в одной праведнице, схимнице ни в одной, все, хватит, я могу умереть от этого. - Он умолк и внезапно захохотал: Умереть? Я? Нет, ты послушай, Кло!.. Я-могу-умеретьот-этого, ну же, смейся! Тень, которая боится умереть! Тень, которая дважды, трижды, четырежды мертва... И которая умирала каждый раз, увидев тебя... ты была красивой, ты была безумно красивой, Кло! Каждый шел за тобой, не будучи в силах не идти, - ты думаешь, это случайно, что в теперешнем твоем витальном цикле не тебя преследуют - ты преследуешь, Кло! Даже в последние годы - по московским бульварам, в воронежском сквере: здесь, на земле, и там, в Элизиуме, в часы Большого Собрания, ты ищешь любовь, красавица Кло... Эмма Ивановна Франк! И не находишь любви. И летят мимо тени - мимо, мимо, мимо... вот какая расплата, страшная расплата...
- Остановитесь, - сказала Эмма Ивановна Франк. - Остановитесь, я не могу больше. Я люблю Вас.
Станислав Леопольдович сел и опустил голову.
- Полчаса назад или... час я говорила Вам, что мне позвонили. Да Вы и сами слышали. Кто-то сказал, что Вы сумасшедший. Что у Вас систематический бред по поводу античной мифологии. Мне посоветовали обещать Вам все, что Вы будете просить. Я поверила... я то верила, то не верила, что Вы безумны. Теперь я точно знаю: Вы безумны.
- И... что же? - не поднимая головы, спросил Станислав Леопольдович.
- Я люблю Вас, - торжествующе крикнула Эмма Ивановна. Станислав Леопольдович, голубчик, я ведь тоже сумасшедшая, мы все сумасшедшие, кругом одни сумасшедшие... да здравствуют сумасшедшие! Но надо уметь сойти с ума так! Сойти с ума на любви... неизвестно к кому! Какое счастье, что Вы сумасшедший, а не тень... - и, бросившись к Станиславу Леопольдовичу (он отпрянул было), она обняла его и хотела поцеловать...
В тот же самый миг, словно обжегшись, она отдернула руки и... и смотрела на них, будто не ее это руки, будто чужие.
И только потом - вздрогнула: всем телом, всем существом своим.
Кожа гостя была холодна, как мрамор, и никакого запаха, никакого человеческого запаха, теплого запаха тела - не было. Лишь слабый запах хорошего ледяного одеколона. Она потрогала свои губы пальцами, подняла глаза.
- Что это было?
- Это тень, - ровным голосом сказал гость.
- Но зачем? - Эмма Ивановна опустилась в кресло, обхватила голову и, раскачиваясь во все стороны, закричала: "А-а-а, а-а-а-а", - без силы, без интонации.
- Не кричите, - тихо попросил Станислав Леопольдович.
Эмма Ивановна подчинилась сразу. Они молчали - недолго: день шел к концу.
- Когда Вы исчезнете? - спросила она.
- Кажется, через полчаса. - Станислав Леопольдович снова взглянул на небо.
- А когда появитесь снова?
- Зачем Вам это, Эмма Ивановна?
- Я спрашиваю, когда? Я люблю Вас. Я Вас больше всех на свете люблю. Так... когда же? Через год? Через десять лет? Я буду ждать Вас, если... если не умру. Я не пойду больше на бульвар - никогда.
- Я могу материализовываться каждый день. Но на Атлантиде есть закон... один из законов: нельзя открывать живым тайну бессмертия. За это тень рассредоточивают. То есть, попросту говоря, уничтожают. Если кто-нибудь узнает...
- Кто может узнать?
- Любая тень.
- И... сейчас? Здесь, с нами, тоже есть какая-нибудь чужая тень?
- Нас в любую минуту подслушивают. И подглядывают за нами в любую минуту. Мы никогда этого не замечаем.
- Что же делать?
- Надеяться на порядочность присутствующих здесь теней, - парламентским голосом произнес Станислав Леопольдович и улыбнулся простой улыбкой. - Не бойтесь, дорогая моя, любимая моя Эмма Ивановна!
- Нет, Кло. Пусть я буду Кло, ладно? И "на ты".
- Хорошо, Кло.
- Как же мы будем жить, магистр Себастьян?
- Как получится, Кло. Как получится и... и сколько получится.
Она медленно, очень медленно подошла к нему и сухонькой, сморщенной рукой провела по его лбу.
- Холодно, - сказала она.
- Холодно, - подтвердил он.
- Скоро? - спросила она.
- Скоро, - ответил он.
- А может быть... - начала она.
- Не может быть, - закончил он.
- Даже если мы свет во всех комнатах?
- Глупышка...
Оба вздрогнули от телефонного звона - долгого, как история их души.
- Подойти, магистр?
Станислав Леопольдович пожал плечами.
- Воронеж вызывает, - сообщил ненужный женский голос,
- У меня никого нет в Воронеже, - ответила Эмма Ивановна и трубку опустила. И пошла к окну. Небо было печальным.
- Сколько осталось, мало?
- Несколько минут... очень мало. Мне лучше уйти. я не хочу. чтобы ты...
- Ничего, мне хватит, - быстро сказала Эмма Ивановна, вышла на середину комнаты и остановилась, опустив руки.
Это была очень старая уже женщина в нелепом зеленом платье с галстуком, из кармана которого торчал пестрый носок чужого человека. У нее немножко подрагивала голова и глаза были мокрыми, блеклыми. Но это была красивая женщина, которая знала, как она красива. Она набрала много-много воздуха может быть, даже слишком много, потому что закашлялась, но, справившись с кашлем, произнесла, словно извиняясь:
- Мне казалось, я не помню, но вот же... помню. Было бы кощунственно забыть навсегда, слушай:
Дол зеленый, йо-хо,
дол зеленый, йо-хо,
собирались вместе,
начинали песню
про зеленый дол.
Дол зеленый, йо-хо,
дол зеленый, йо-хо,
птица пролетела,
песню подхватила
про зеленый дол.
Дол зеленый, йо-хо,
дол зеленый, йо-хо,
кто ж найдет отныне
песню на чужбине
про зеленый дол?
Дол зеленый, йо-хо,
дол зеленый, йо-хо,
а все та же птица
с песней возвратится
про зеленый дол!
Доля моя, доля
птица в чистом поле!
дол зеленый, йо-хо,
дол зеленый, йо-хо,
мой зеленый дом!..
Глава ОДИННАДЦАТАЯ
Обалдеть!..
- "Вознамерясь действовать в соответствии с этими обязательствами, Тень Ученого приступила к исполнению "контактной метаморфозы". Но ведь это была совершенно ненормальная тень..." Все. Больше я ничего прочитать не успел: мама твоя подошла, - закончил Петр.
- Сцену с мамой можно опустить, знаю в подробностях. -Эвридика покачала головой. - Ну, и что ты думаешь? Он написал эту книгу?
- Да нет, вряд ли... Бредовое, конечно, предположение. Чем больше я об этом думаю, тем меньше верю.
- Ничего удивительного. - Эвридика поджала ноги и стала похожа на черного лебедя. - Надо верить не думая. Или верь, или тогда уж думай - одно из двух. Вместе не получится: ни у кого не получалось. А хочешь, - она быстро вскочила со скамейки, - пойдем сейчас прямо в библиотеку и возьмем это руководство, а? Петр! - Эвридика подошла к пруду и, прищурившись, смотрела на двух черных лебедей, про которых Петр сказал: "Это мы. Ты тот, который красивее", - а она ответила: "Они одинаковые".
- Посиди, - попросил Петр. - Посиди, поджав ноги. Будет еще один лебедь.
- Они по три не обитают, - засмеялась Эвридика. - Орнитолог!.. Булочку дать тебе?
- Дать, - сказал Петр.
Булочки они покупали тут же, в Южинском переулке, где их прямо и пекли, - замечательные булочки со всеми делами... изюмом, орехами, цукатами, и очень свежие, всегда очень свежие.
Петр разломил булочку пополам и отдал половину Эвридике. Молча жевал, глядя в пруд; вода была зеленоватой: от весны, наверное. Конец марта.
- Вода зеленая, - сказала Эвридика. - От весны, наверное.
- Ты у меня как Станислав Леопольдович... тоже мысли читал, - вздохнул Петр.
- Прости, - опять засмеялась Эвридика, - я нечаянно. - Она выковыривала из булочки орехи. - А что такое "дол", как ты думаешь?
- Дол?.. Долина. Das Та1. Поэты говорят: die Та1е. Почему ты спрашиваешь?
- Не знаю: просто смотрю на воду и думаю: дол. Странное слово - дол, да? Доля. Плохо не знать немецкого...
- Скорбь... Знаешь, по-немецки тоже: die Та1е - долина и еще скорбь, страдание.
- Юдоль, в общем... Дол - юдоль. - Она протянула ему полбулочки. Продолжай. Когда женщина хочет есть - это как-то не бросается в глаза, но голодный мужчина представляет собой зрелище невыносимое, не-вы-но-си-мо-е.
И Петр продолжил - не без аппетита, надо сказать.
- В библиотеку не пойдем? - беспечно спросила Эвридика.
- Не хочется. - Он опять вздохнул. - И даже не то чтобы не хочется. а... страшно. Я уверен, книги там нет уже. Убедиться страшно. Лучше думать, что она есть. И потом... все равно не он ее написал, чего ты так ухватилась за это мое предположение дурацкое?
- Просто люблю все дурацкое: оно самое надежное, между прочим. Дурак-дураку-сделал-дырку-в-боку, дурак-дураку-сделал-дырку-в-бо-ку... Скороговорка.
- Я не могу представить себе, что ты заикалась, - развел руками Петр.
- Я и сама не могу! А ведь всю жизнь заикалась - вспомнить страшно... Вообще говорить не могла. И всего-то два месяца прошло, а кажется - никогда не заикалась. Я ведь уже приготовилась к тому, что это навсегда - по крайней мере. Бр-р-р... - Эвридика поежилась. - Холодно от этих его сведений. Холодно, но... высоко! И пусть, что холодно.
- Да не его это сведения! - махнул рукой Петр: и ста-а-арая тоска в голосе. - Мы ведь с ним, в сущности, не поговорили как следует - начали только...
- ...и ты сразу заснул. Не понимаю, что с тобой было!
- А он ведь все знает... Хотя, - Петр улыбнулся Эвридике, - меня теперь гораздо меньше интересует все. После того, как появилась ты.
- Плохо, - сказала Эвридика очень серьезно. - Я бы даже, кажется, предпочла не появляться - пусть бы тебя лучше интересовало все. Я - это пустяк. И, знаешь, со мной произошло как раз наоборот. Незадолго до тебя я хотела уже умереть: меня ничто не интересовало. Зато сейчас интересует все.
- И, стало быть, я для тебя - пустяк? - подмигнул ей Петр.
- Да ну... я какие-то важные вещи говорю, а он смеется!
- Потому что я тебя люблю, а ты меня - нет, - резюмировал он.
- Бог-с-вами-барин... - задумалась Эвридика и внезапно, без перехода, предложила; - Хочешь, я устрою тебе встречу со Станиславом Леопольдовичем?
- Ты?!
- Во всяком случае, я могу попробовать - вдруг удастся. - Эвридика низко-низко опустила голову - чуть ли не до земли.
- Но как это может удаться? Эвридика... куда ты смотришь?
- Я сейчас. - Она резко поднялась и пошла по аллее. - Жди меня здесь! помахала она издалека.
- Жду... - тихо ответил Петр, понимая, что его уже не слышат.
Эвридика вышла из скверика, перебежала дорогу - к телефону-автомату.
- Алло... - ответили ей умирающим голосом.
- Добрый день! - пропела она голосом райской птицы. - Это Эвридика.
Абонент молчал.
- У Вас... какие-нибудь неприятности? Что-то случилось?
- Случилось, - буркнул абонент. - Я всю ночь не спал - голова разламывается. Тройничный какой-то нерв!
- Господи... - сказала Эвридика, - я, значит, совсем не вовремя. Мне, наверное, лучше позднее перезвонить, извините.
- Нет уж, сейчас говорите, если что-нибудь срочное.
- Да ничего срочного... я не о себе хотела, но это долгий разговор, давайте мы его отложим, пусть голова сначала пройдет.
- Я слушаю Вас.
- Ну тогда... Видите ли, в чем дело: я подумала, что имеет смысл обратиться к Вам... но мне в самом деле неловко в такой ситуации!
- Довольно уже извинений. Позвонили - говорите, что Вы как маленькая!
- Хорошо, хорошо, говорю. Скажите, пожалуйста, это в принципе в Ваших силах - найти в Москве одного человека, при том что известно имя и кое-какие подробности, в основном странные?
- Я должен найти человека? - возмутились на проводе.
- Да нет же, не должны, конечно... но я хотела попросить Вас помочь нам...
- Вам - это кому? - усмехнулись в трубке.
- Это мне и главным образом Петру... Ставскому, он очень страдает!
- Ничего он не страдает. - отрезал абонент. - Не надо придумывать.
- Я не придумываю, поверьте, он... он страдал.
- Вот так будет точнее. - На том конце провода не давали себя обмануть. - И чего Вы от меня хотите?
- Я просто предположила, что Вы с Вашими возможностями... Ваша профессия - все знать... - Эвридика сбилась.
- Вы же говорили, моя профессия - убивать! - Голос был ироничным.
- Да, я говорила, но не надо поминать старое... Поймите, Вы один могли бы спасти Петра!
- Эвридика, откуда такой пафос... И потом - с чего Вы взяли, что Петра следует спасать? С Петром, насколько мне известно, все в порядке. Я сделал ему королевский подарок.
- Да? Он не сказал...
- Просто не понял, что это мой подарок, - мы же с ним не общаемся. Решил - судьба, мол, и все такое...
- Тогда считайте, что я прошу Вас о чем-то для себя - не для него. Вы же, помнится, обещали исполнять мои капризы! - Тон Эвридики сделался игривым.
- Эвридика, я не расположен сейчас исполнять капризы, у меня голова болит... тройничный, понимаете ли, нерв.
- Вы сами согласились выслушать меня!
- Да, но искать кого бы то ни было в таком состоянии... увольте.
- Я чувствую... - Эвридика запнулась, - что Вы не хотите продолжать этого разговора. Может быть, я в чем-то виновата перед Вами?
- К чему реверансы, Эвридика! Мы же договорились: Вы мне ничем не обязаны. А если так, о какой вине идет речь? Мне, правда, прискорбно сознавать, что Вы звоните только тогда, когда вам что-нибудь нужно... - В трубке усмехнулись. - Наш последний разговор - коротенький, после больницы, помните? - вообще произвел на меня странное впечатление: Вы изволили приказать мне все отменить... я даже не успел ничего сказать в ответ, но я тем не менее далек от того, чтобы ставить Вам в вину такой... м-м... прагматизм.
- Извините меня... тогда мне просто неудобно было говорить, я звонила из дома. Папа мог услышать... мне не хотелось, - оправдывалась Эвридика.
- Но у Вас достаточно было времени потом, чтобы объяснить мне все это. Впрочем, я не в претензии. Не будьте и Вы в претензии: услуга за услугу! Я не хочу заниматься никакими розысками, идет? Давайте поговорим о чем-нибудь другом: я еще в прошлый раз собирался сказать Вам одну вещь... прекрасно, что Вы теперь не заикаетесь. Девушке с Вашими данными это, конечно, было ни к чему.
Абонент замолчал.
Молчала и Эвридика. Ее молчание, однако, благоприятного впечатления явно не производило, потому что довольно сурово было ей сказано:
- Наверное, мы можем попрощаться?
Эвридика опять не ответила. Потом заговорила - внезапно и немного раздраженно.
- Я согласна, что не слишком хорошо воспитана, что постоянно делаю какие-то промахи... но Вы-то, Вы-то ведь прекрасно воспитаны и всегда были так любезны со мной! Что же случилось - Вы ведь даже не выслушали как следует то, о чем я собиралась Вам сказать... и у меня возникают некоторые подозрения. Зная вас, я могу предположить, что и Станислав Леопольдович...
- Кто такой Станислав Леопольдович?
- А Вы спросите у меня еще, кто такой Петр, - за компанию! - с вызовом сказала Эвридика, но вызова абонент не принял. Она подождала некоторое время и продолжала наступление. - Вы, конечно, можете прекратить этот разговор... или продолжать говорить со мной как с дурой...
- Эвридика, выбирайте, пожалуйста, выражения!
- Да не в выражениях уже дело. Дело в другом: я начинаю подозревать, что Вы не всегда, мягко говоря, готовы отвечать за свои действия, что Вы... простите, я затрудняюсь выбрать нужное выражение, частенько увиливаете, когда Вам предлагают разговор начистоту. Но такое поведение для Вас саморазрушительно... Вы не чувствуете, что рубите сук, на котором сидите?
- Все-таки Вы слишком умны. Эвридика, чтобы играть в наши игры, вздохнули в трубке.
- Это уже давно не игры, дорогой мой человек. Слишком долго все продолжается и... слишком крутой замес. Так Вы не знаете, кто такой Станислав Леопольдович? Мне рассказать Вам? Я ведь могу рассказать!.. Боюсь только, Вам слушать будет - мучительно.
- Мне мучительно уже. - Акцент был сделан на слове "уже". - У меня сейчас голова лопнет. Считайте, что я отказался выполнить Вашу просьбу, поскольку она идет вразрез с моими представлениями о... о должном. Но могу дать вам один совет. Человек, который Вам нужен... не ищите его. Смиритесь с мыслью, что он выбыл... выбывает из игры - как раз в данный момент или, во всяком случае, очень скоро. Он сам поставил себя... так сказать, вне игры, нарушив некоторые неписаные правила. Самая логика обстоятельств против него - заметьте, не я, но логика обстоятельств. Она убьет его.
- Маньяк, - почти спокойно сказала Эвридика. - Я ненавижу Вас.
- Меня это не интересует, - ответил он ей.
- Напрасно, - возразила она и с сожалением констатировала: - Это непрофессиональный ответ.
- Ну знаете ли, кому-кому, голубушка моя...
- Вам осталось только напомнить мне, - рассмеялась Эвридика, - что Вы взяли меня с улицы.
- С улицы и взял! - крикнули на том конце провода.
- Так на улицу и пеняйте... если что, - посоветовала Эвридика. Совет прозвучал угрожающе.
- Что Вы имеете в виду? - удивился абонент.
- Мне это трудно предугадать. - От голоса Эвридики можно было замерзнуть. - Одно только обещаю: я сделаю все, что в моих силах, чтобы не дать Вашим планам осуществиться. Я не остановлюсь ни перед чем: скоро весь мир узнает, кто Вы такой!
- Весь мир? - переспросили в трубке, явно недоумевая. Но ответить было уже некому:
Эвридика, прекрасная гневная Эвридика, с алыми пятнами на щеках, бежало к Петру.
- Что с тобой? - вскочил тот ей навстречу.
- Сейчас, Петр, сейчас... - Эвридика схватила его за руку, и они быстро пошли по аллее, потом по Малой Бронной - причем Эвридика без остановки говорила, говорила, говорила... Петр шел молча, изредка на нее взглядывая с ужасом.
Примерно через час их можно было видеть на Садово-Кудринской, прямо посередине улицы: они ловили такси. Машина забрала их, почти не снижая скорости, и притормозила только на Колхозной - напротив Склифософского. Шофер ждал с полчаса - и юная пара, вылетев из подземного перехода, снова прыгнула в машину, которая, развернувшись, понеслась к аэровокзалу: там остановились и стояли минут двадцать, дожидаясь выбежавшего куда-то Петра. Следующую остановку сделали на Черняховского, около дома Эвридики. Шофер не успел покурить даже - Эвридика с голубым вороном, а Петр со спортивной сумкой в руках появились в арке и снова сели в такси. Дверца машины хлопнула и через десять минут хлопнула опять - уже у дома Петра, где тот пробыл совсем недолго.
- Пожалуйста, Шереметьево-1, - сказала Эвридика - и на уголовной скорости они подкатили к стеклянным дверям.
- Ну что, Эвридика, - спросил Петр уже у турникета, - ты потом не пожалеешь?
- Никогда. А ты?
- Никогда. Аид Александрович, наверное...
- Тш-ш-ш! - прижала палец к губам Эвридика, как будто кто-то мог их подслушать, черт побери!
- Тш-ш-ш! - раздалось из пластикового пакета с изображением носорога в джинсах: Марк Теренций Варрон давал понять, что проникся величавостью ситуации, - он летел контрабандой под видом носорога в джинсах.
Рейс 442 был обозначен как "Москва-Тбилиси"
... В то же самое время в Склифософского случилось страшное событие: заведующий отделением соматической психиатрии Аид Александрович Медынский сошел с ума. Он вызвал весь медицинский персонал в свой кабинет и торжественно объявил, что он Фридрих II (Великий), а потому требует отныне относиться к нему с преувеличенным почтением и обращаться не иначе как "Ihre Konigliche Hoheit" - причем все дамы должны делать реверанс, кроме самых пожилых, которым позволителен книксен; мужчинам же вменяется в обязанность отдавать поклон - "вот такой": тут Аид Александрович грациозно изобразил надлежащий поклон... Сотрудники разошлись в ужасе. Нянька Персефона причитала, надрывая всем душу. Рекрутов был мрачнее двух-трех туч. Пока остальные обсуждали случившееся, он проник в кабинет к Аиду, плотно прикрыв за собой дверь. Неизвестно, что произошло за плотно прикрытой за ним дверью, однако через несколько минут выбежал Рекрутов с совершенно невменяемыми глазами и, подойдя к хорошенькой лаборантке Оленьке, на которую до сих пор не обращал внимания никогда, во всеуслышание предложил ей немедленно венчаться с ним в церкви. Волоокая Оленька, похожая на коровку из мультфильмов, реагировала на это странно: она потупила взоры и согласилась. Впрочем, на ее месте так поступила бы каждая. Рекрутов кинулся к телефону и, прибегая к нецензурным выражениям, принялся требовать такси-к-психушке, по-видимому, добился желаемого и, обхватив несколько непомерную для себя Оленьку обеими руками, потащил ее по коридору к выходу. Та была в сабо на тоненьком тринадцатисантиметровом каблуке и постоянно подвертывала то одну, а то совсем другую ногу.
- Вот ужас-то, - перекрестилась нянька Персефона и, утерев слезы, утиной походочкой своею начала опасливо подбираться к кабинету, в котором, к вящему изумлению присутствовавших, и скрылась - впрочем, ненадолго. Возвратясь, она вдруг завизжала и захрюкала, начала метаться по непросторному холлу, остановила бесноватый взгляд на пишущей машинке - надо сказать, внушительных размеров, - вцепилась в машинку эту обеими руками и с удовольствием спихнула ее на пол, сопроводив вредительское сие действие отнюдь не характерным для нее криком: "Банзай!". После чего придурковато улыбнулась и села на стульчик, чинно сложив руки на коленях.
К ней никто не подходил: персонал сбился в стайку и медленно отступал к дверям. Вдруг распахнулся кабинет Аида - и выехал оттуда на палочке верхом Сам Аид Александрович Медынский, белый халат которого был накинут на плечи и развевался, как мантия.
- За мной, вассалы! - скомандовал он и, пришпорив палочку, поскакал по коридору. Обалдевшие вассалы, словно в гипнотическом сне, засеменили следом - сначала по коридору, потом по лестницам и дальше - через двор - по Садовому в сторону Колхозной. Прохожие разбегались и замирали на безопасном расстоянии, а иные поворачивали и тоже шли за нестройной колонной людей-в-белых-халатах, сопровождавших "главного" - лысого старика верхом на палочке. У Самотеки гипнотический сон улетучился из персонала - очнувшийся персонал, ободряемый зеваками, принял меры по обузданию лысого старика - тот взлягивал и грамотно бранился по-немецки. Когда ему скрутили руки, он громко заржал и по-русски потребовал овса. Вели старика, по его просьбе, под уздцы. На пороге больницы в одиночестве стояла нянька Персефона - все с тою же придурковатою улыбкой и маленьким веником в руках. Подпустив процессию к дверям, она злорадно оскалилась и принялась охаживать веником всех подряд. Двери оказались запертыми на психиатрический замок - персонал растерялся и на мгновение упустил из поля зрения Аида Александровича, который воспользовался этим немедленно. Он спрятался за распоясавшуюся няньку Персефону, а та кричала, что не даст в обиду Его Королевское Высочество.
Между тем во двор въехало такси и, подкатив к ступенькам, остановилось. Нянька Персефона ловко впихнула в машину Аида, повалилась на него сверху и захлопнула дверцу. Машина рванула с места, в окошке мелькнула рука няньки Персефоны - ключ от входной двери тенькнул об асфальт.
- Неплохо, - сказал Аид Александрович, вылезая из-под няньки Персефоны, и добавил водителю на ухо: - Точность - вежливость королей.
- Ехать куда?.. король!.. - не проникся водитель.
- На Цветной, - ответил подготовленный пассажир, дождался естественного в такой ситуации "пешком-бы-дошли" и закончил: - Пятерка сверху. - И - через паузу: - А трояк снизу. К цирку!
Водитель не понял, но привез к цирку. Цирк зажигал огни. В белых халатах Аид Александрович и нянька Персефона выглядели странно.
- Пожалуйста, - на шаг отступила билетерша. - А что случилось?
- Будет смертельный номер, - сурово пообещал доктор и независимо прошел без билета, протащив еще и няньку Персефону, по поводу которой сказал: Сестра. - И добавил: - Моя.
Сразу прошли за кулисы, с полчаса побродили там без дела - никто никаких вопросов не задавал. В зал проникли через узкий какой-то лаз, сели на свободные места в третьем ряду...
На арене были дрессированные собачки. Они как раз выстроились в колонну и прикинулись солдатским взводом. Каждая стояла на задних лапках, а передние прижимала к груди, или что-у-них-там. Дрессировщица лет шестидесяти прилежно пыталась сойти за несовершеннолетнюю. На ней была лимонная пачка с красным бантом на копчике, лиф выглядел как ампирный балкон и сверкал от блесток. Собачки жмурились, но терпели. Волосы дрессировщица имела растрепанные-живописно, причем рыжие, как и полагается в цирке. Необходимые черты лица, как-то: брови, ресницы, глаза, рот - были нарисованы на белой поверхности кожи, вследствие чего производили впечатление отдельное и как бы жили самостоятельной личной жизнью, в то время как пунцовый рот оглушительно перекликался с красным-бантом-на-копчике. Толстые ноги дрессировщицы, затянутые в черные чулки, оканчивались крохотными серебряными туфельками, явно напяленными целой армией крепкой прислуги. Туловище - с головой, ногами и руками вместе - казалось реально несуществующим.
Звали дрессировщицу Полина Виардо: то был цирковой псевдоним Иры Марковны Мнацаканян-Мнацакановой. Он просто нравился ей - и всё, этот псевдоним, а никаких ассоциаций не вызывал.
В данный момент Полина Виардо в руках имела горн - и несколько шавок, одетых в хаки, относились к ней, как к полководцу, трепеща и ожидая, когда протрубят поход. Полина Виардо озаботилась было трубить, но вдруг из зала крикнули: "Подождите меня!" - и старик в белом халате пристроился к колонне шавок, поджав верхние конечности. "Трубите!" - властно приказал он, зрители зааплодировали, полагая в старике клоуна. Полина Виардо как ни в чем не бывало улыбнулась, вильнула бантом и протрубила поход. Вымуштрованные ни славу собачки в ногу зашагали вдоль барьера - и в ногу с ними вдоль барьера же отправился старик в халате. Публика взревела.
Полина-Виардо-с-группой-дрессированных-собачек-и-стариком сорвала немыслимый аплодисмент. Проделав несколько атлетических реверансов, почти касаясь пола красным бантом, она подошла к старику и с умильным лицом сказала ему немного тихих слов. Старик реагировал как собака: он стал на четвереньки и злился - рыча. Потом залаял весьма правдоподобно и мастерски.
Зал кончался от смеха. Аид Александрович прекратил лаять, повременил и заорал рыночным голосом, глядя прямо в отдельные глаза дрессировщицы:
- Сахару давай, Полина! Чего ждешь?
Прочие шавки, поджав передние ноги, хотели сахару молча. Услышав слово "сахар", Полина Виардо машинально полезла в карман, располагавшийся в неописуемом месте, и принялась ловко раздавать кусочки, начав, между прочим, не с Аида Александровича. Оскорбленный непочтительностью Аид - кстати, при поддержке зрительской массы, чуткой ко всякого рода дискриминации, - взвыл, ринулся к обидчице с явной недружелюбностью. Притормозив около нее, он прямо скажем, без удовольствия - впился ей в ляжку мертвой достаточно хваткой. Опытная Виардо принялась отрывать от пола "задние" конечности озверевшего старика, но тот не понимал приема и челюстей не разжимал. Мелкие шавки с уважением смотрели на человекоподобного собрата, дисциплинированно не вмешиваясь в конфликтную ситуацию.
- Фу! Фу! - возопила, наконец, Полина Виардо, не понимая, по-видимому, что воплем этим несколько компрометирует себя, поскольку как-то оно странно - "фу!" в собственный адрес...
Публика начала валиться с сидений, прыснул и старик, отпавший от ляжки и виновато затрусивший в хвост-терпеливой-очереди-за-сахаром... Полина Виардо улыбнулась причудливой улыбкой, профессионально не обращая внимания на порванный чулок и, между прочим, до крови прокушенную ногу. Сахару старику она не дала вообще. И даже не позвала его с собой за кулисы - в отличие от тех же шавок, которых позвала.
За кулисами Полина Виардо принялась рыдать, не щадя рисунка лица, и мазать йодом ногу, не щадя рисунка чулка. Рыдая и мажа, она приговаривала:
-Это-Нинка-Майская-со-своими-волкодавами-сука-ну-ничего-я-не-то-что-ста рика-бешеного-я-ей-целый-дурдом-на-арену-пущу-пусть-горло-перегрызут-и-ей-иволкодавам-ее!
- Поленька, - сконфузился возле нее конферансье, напудренный, как обсыпной эклер, - выйти бы надо... это... публика требует.
Поленька, утерев морду кулисой, с лучезарной улыбкой выпорхнула на арену и там поверила наконец нарисованным своим глазам: успех действительно был ошеломляющим. Нинка-Майская-с-ее-волкодавами, если, конечно, это Нинкин старик, просчиталась: шиш ей, а не дурдом на арену, - пусть так и подыхает в безвестности!
Старик спокойно сидел на барьерчике и улыбался в разные стороны. Рабочие у входа на арену обсуждали, как бы эдак его изловить, чтобы получилось естественно, но, увидев Полину Виардо, сложили с себя все полномочия и ушли за кулисы. "Уведите его немедленно!" - спиной услышала несчастная дрессировщица и поняла, что испытания ее не закончились. Старик же дружелюбно поднялся ей навстречу и приветственно залаял. Она смело подошла к нему и, прощаясь со славой, крикнула звонким пионерским голосом:
- За мной, Трезор!
Трезор упал на четвереньки и с лаем бросился за ней в распахнутый занавес.
Изобразив на останках лица победоносный страх, дрессировщица в сопровождении послушного пса исчезла из поля зрения.
Цирк рыдал... Полину Виардо - размягченную, в поту - вызывали еще раз пять. За эти пять раз она больше всех на свете полюбила Нинку-Майскую-с-ее-волкодавами (при условии, конечно, что старик - Нинкин) и даже решила подарить ей наконец свой рыжий парик из Кореи, от которого Нинка с ума сходила: пусть носит парик, сука, мы не жмоты!
А в это время за кулисами Аида Александровича подвергали допросу: в ходе допроса выяснилось, что никакой он не сумасшедший, а просто пьяный, и что по нему давно медвытрезвитель плачет. Старик настойчиво требовал отправить-его-куда-следует: они мне там мозги-то прочистят! - мечтательно приговаривал он, - кузькину мать-то покажут и... справочку на работу-ррраз! Однако мечтам его не суждено было сбыться: великодушная Полина Виардо, проходя мимо, отдала приказ: "Старика отпустить!" - таким убедительным голосом, что уже через пять минут тот стоял у выхода из цирка. Там дожидалась собутыльница - нянька Персефона. Она встретила Аида Александровича бурно и не замедлила сообщить:
- А я у буфетчицы деньги украла! Только она, по-моему, не заметила...
- Много? - с надеждой спросил Аид Александрович.
Нянька Персефона предъявила комок купюр - в том числе и пятидесятирублевых.
- Деньги спрятать в бюстгальтер! - скомандовал Аид Александрович и пояснил: - Арестуют. - Комок, впрочем, тут же и отобрал.
Снова вышли на Самотеку, где незамедлительно подвернулось такси.
- В Прагу! - распорядился пассажир.
- Куда? - обомлел водитель. - Вы с ума сошли, у меня рабочий день кончается!
- Вы не москвич, что ли? - поинтересовался пассажир.
- Не... третью неделю только тут, - сознался водитель.
- А-а... Ресторан "Прага" на Арбатской площади - знаете? Нас туда. Аид Александрович выглядел страшно усталым. У водителя отлегло от сердца.
В чопорном "Зимнем зале" были места. Нянька Персефона предложила снять халаты.
- Сюда только в белом пускают, - отрезал Аид.
- А они не в белом! - показала на посетителей наблюдательная нянька Персефона.
- Их и выгонят, - пообещал кавалер.
Моложавый официант с меню заскучал возле столика.
- Разберетесь?
- Да ни за что! - посетитель замахал руками, после чего смиренно сложил их на коленях, косясь на раскрытый текст. - Семга... - Он зашевелил губами и с ужасом взглянул на официанта. - Кто это?
- Рыба, - криво улыбнулся тот.
- Смотри-ка, е-мое! - восхитился посетитель и добавил, покачав лысой головой: - Дорогая, е-мое...
- Можете не брать, - разрешил официант, старея на глазах. - Салатик возьмите мясной...
- Мясно-о-ой? - обалдел посетитель, словно ему предложили что-то немыслимое. - Нет уж, нет уж... Вы лучше, знаете что... принесите-ка нам тринадцать мороженых.
- Сколько? - моложавый официант состарился окончательно.
- Ice-crem as usual, my sweet? - обратился Аид Александрович к няньке Персефоне.
Та кивнула пустым лицом.
- Наша гостья из штата Мичиган, миссис Кларк, привыкла на ночь съедать дюжину порций мороженого. Одну я для себя заказал. - Старый официант не двигался и не моргал. - Могу я порцию мороженого съесть, е-мое? - возмутился посетитель. Потом снова обратился к молчаливой американке: - He doesn't understand us, this stupid waiter. I'll try to find somebody smarter, wait a little!
- Ноу, - медленно сказал stupid waiter, - ай андэстэнд ю велл анд нау ай бринг айс-крим фор а мэдэм, - оставаясь на том же месте.
- But not for a madam, please! For that madam! - преподал старикан и напомнил: - Yo-moyo!
При последних словах нянька Персефона закивала с такой скоростью, что голова ее чуть не оторвалась от шеи.
- Ай эм сорри... - Древним старцем отошел от их стола официант к массиву прочих, пока еще молодых и моложавых официантов, уже интересовавшихся нерядовой ситуацией... Древним же старцем и вернулся, держа почти перед лицом поднос с мороженым - двумя только вазочками. Поставив их на стол, собрался откланяться, но не тут-то было.
- Миссис Кларк, - сообщил ему посетитель, - привыкла к тому, чтобы все мороженое, которое ей предстоит съесть, стояло перед ней.
Официант улыбался.
- Ну, е-мое, хватит улыбаться уже!
Официант улыбался-таки.
- Excuse me, my sweet, let me kill him, - обратился тогда Аид Александрович к няньке Персефоне, и та возбужденно закивала почти оторвавшейся уже головой.
Aид схватил со стола нож, вскочил и засверкал глазами. Потом взревел и бросился на официанта. Тот кинулся прочь - не по годам резво, а посетители повскакивали-с-мест. Впрочем, тут же, попирая закон сохранения энергии, из ничего возник метрдотель и мягко остановил руку с ножом.
- В чем дело, товарищ?
- Ваш служащий оскорбил честь нашей гостьи из штата Мичиган, миссис Кларк, позволив себе лицом выразить намек на то, что миссис Кларк обжора. Я убью его.
- Не надо, - попросил метрдотель. - Дайте мне нож, пожалуйста.
Аид Александрович нехотя отдал нож.
- Эдуард, - тихо позвал метрдотель.
Официант вышел из-за перегородки, приблизился.
- Это он, я узнал его, - крикнул посетитель и, развернувшись, отвесил Эдуарду роскошную плюху. Тот закачался и крикнул:
- Врет он!
- Не врет, а лжет, - отредактировал метрдотель, за что сразу схлопотал такую же плюху.
Эдуард внезапно захохотал. Его поддержали в зале.
- Я сейчас вызову милицию, - утомленно сказал метрдотель, поправляя скулу. - Довольно уже этого балагана.
- Стольник возьмешь? - аккуратно, в самое ухо, спросил его Аид Александрович, придержав за локоть.
Метрдотель кивнул и, шепнув Эдуарду "обслужи-как-следует", вышел с Аидом Александровичем из зала.
Нянька Персефона осталась сидеть и смотреть по сторонам - прочие посетители, в свою очередь, смотрели на нее. Какой-то вежливый молодой человек, очень пьяный и к тому же грузин, взяв со своего стола бутылку "Напареули", подошел к нянькиному столу и поставил бутылку эту перед ней. Нянька не поняла ситуации и напряглась, готовясь обороняться. А молодой человек улыбнулся ей, огляделся вокруг праздными глазами, остановил их на идущем мимо официанте, который вообще был не в курсе событий, и вдруг с размаху врезал ему по уху. Тот оказался малый-не-дурак и сильным ответным ударом свалил вежливого грузина с ног. Тогда другие грузины, как по команде, бросились на других официантов - и началась ничего-себе-потасовочка. Те из остальных посетителей, кто пожелал в ней участвовать, участвовали тоже. Только Эдуард с совершенно независимым видом катил по полю боя тележку с одиннадцатью порциями мороженого, ловко увертываясь от впрочем-не-ему-предназначенных-ударов.
Возле столика няньки Персефоны Эдуард улыбнулся и принялся выставлять вазочки красивым ромбом.
Когда Аид Александрович и метрдотель вернулись, битва шла славная.
- Та-а-ак, - строго-но-справедливо сказал метрдотель.
- Еще стольник? - предложил Аид Александрович.
- Пожалуй, - прикинул метрдотель, обводя Ватерлоо глазами. Операцию проделали прямо здесь, на-так-сказать-ристалище.
- Нам, наверное, пора. - Аид Александрович нашел глазами няньку Персефону, наблюдавшую за ходом сражения - безо всякого, кстати сказать, интереса.
- За мороженое заплатите только... двадцать рублей восемьдесят шесть копеек, - напомнил метрдотель.
- Это конечно. - Аид Александрович рассчитался копейка-в-копейку, пожал метрдотелю руку и отправился к няньке Персефоне, машинально бия по случавшимся по пути лицам. - Нянечка, бог с ними, пусть их повоюют...
Странная пара вышла из ресторана на прохладную мирную площадь.
- Теперь куда, Ваше Высочество? - спросила старушка, запахивая на ветру легонький воротник халата и глядя на Аида Александровича усталыми от преданности глазами.
Аид Александрович посмотрел в глаза эти и вспомнил: война, молодой военврач, пухленькая санитарка и любовь, жизни которой отпущено было чуть больше трех лет, - три года в подарок за все те века, какие прожиты и какие предстоит еще прожить.
- Вечная ты моя спутница, - сказал он ей, обнял круглые плечи и, сползая ладонями по вечереющему халату, опустился на колени перед маленькой сестрой милосердия, припав к стойко хранящим больничные запахи полам. И целовал, целовал, целовал холодную белую ткань.
- Обалдеть! - сказала прохожая школьница, стряхивая с плеча руку школьника, наверное, влюбленного в нее.
Глава ДВЕНАДЦАТАЯ
Вообще-черт-ЗНАЕТ-что
В помещении Центрального республиканского банка было очень душно. Посетители обмахивались газетами, квитанциями... в ход шло все, что сделано из бумаги.
Рабочий день кончался на малых уже скоростях: медленно передвигали ноги посетители, медленно передвигали рычаги кассиры, медленно обводил глазами зал милиционер - первый день второго весеннего месяца, пятница, почти исчерпал свои возможности.
- Всем оставаться на местах. Руки вверх!
Ну что ж... вот и прозвучала в советском учреждении несоветская... антисоветская эта реплика. Голос был резкий и хриплый - вряд ли человеческий был голос. И неправдоподобный. Не-прав-до-по-доб-ный.
- Всем оставаться на местах. Руки вверх!
Ситуация прояснялась и одновременно запутывалась: голос гремел над залом. Источник его находился как бы на потолке, но виден не был. Делать нечего - все недоверчиво и постепенно принялись оставаться на местах. Некоторые, если не подняли, то уж по крайней мере приподняли руки-вверх. Впрочем, кнопки сигнализации были давно нажаты, пистолет из кобуры милиционера - выхвачен, но пока никуда не направлен.
- У нас такого не может быть! - в полной тишине убедительно выкрикнул неведомый герой.
- Одно движение - и все взлетит на воздух к чертовой матери. У нас в руках бомба. Бросить оружие!
Боже, зловещий какой голос... Милиционер оружие не бросал, но был, в общем, готов и бросить.
- Бросить оружие!
Вот теперь бросил: удар о каменный пол прозвучал внушительно. Остававшиеся неподнятыми руки поднялись.
- Всем выйти на середину зала!
Стало быть, всерьез... Безропотно уже служащие (включая злополучного милиционера) и посетители банка начали стягиваться к середине зала. Вот, значит, как оно бывает... А жутковато!
- Лицом к окну! Лицом к окну, живо!
Хоть и воет на улице уже милицейская сирена, но то на улице. А здесь пока всякое может случиться. Лица повернулись к окну. Снаружи - должно быть, в рупор - крепкий мужской голос произнес:
- Здание оцеплено. Сопротивление бесполезно. Выходите!
- Придурок! - ответили сверху.
И уже через несколько секунд повернувшиеся к окну услышали, как по полу простучали легкие каблучки.
- Берем банк! - пропел звонкий девчачий голос, совершенно безоблачный.
Люди обернулись на голос: от такого голоса нельзя было ожидать ничего плохого. И что же?
Грациозная красавица в джинсиках держала наперевес автомат, дуло которого было весело и безжалостно направлено в сторону масс. На лице красавицы имелась узенькая черная полумаска, закрывавшая лишь глаза, и обворожительная полуулыбка.
- Хороша! - крякнул какой-то бабник.
- Петр, застрели его, - приказала девушка, продолжая улыбаться - теперь уже полной улыбкой.
- Секундочку! - отозвался из окошечка кассы некто Петр - и незамедлительно возник перед обомлевшей толпой высокий молодой человек в такой же, как у девушки, узенькой полумаске и с таким же, как у нее, автоматом на груди.
- Которого? - осведомился он, подойдя к сообщнице и поставив у ног мешок-с-награбленным.
- Четвертого справа! - сообщница дулом автомата указала на толстяка в-кепи-величиной-с-Алазанскую-долину.
- Попробуем, - согласился обаятельный грабитель, приветливо глядя на жертву. Жертва сделался пунцов и скрылся за спиной сухонькой старушенции правда, лишь отчасти...
- Боится. - Бандиточка совсем развеселилась. - Кончай с ним и пошли.
Молодой человек навел дуло автомата на старушку. Та тихо засмеялась.
- Лучше совсем отойдите, прошу вас. Вы только мешаете видеть жертву.
Старушка резво отпрыгнула в сторону, а преступник спустил курок. Короткая очередь свалила толстячка с ног, но Алазанская-доли-на прочно держалась на мертвой уже голове, едва успевшей крикнуть "стой"... Женщины завизжали.
- Марк Теренций Варрон! - в пространство позвала девушка. - Линяем отсюда!
В тот же миг с потолка прямо на плечо ее упала птица невиданной расцветки и оказалась вороном.
- Мокруха... - прохрипел ворон. Подождал и добавил: - Хана.
- Бросай барахло! - скомандовала девушка и, не спуская дула автомата с кучки свидетелей, взяла сообщника под руку. Медленно отступая, они исчезли из поля зрения публики, склонившейся над начавшим стонать толстячком.
Под занавес ворон сказал:
- С первым апреля вас, свидетели! Все свободны.
Однако, исчезнув из поля зрения публики, банда тут же оказалась в поле зрения милиции, действительно оцепившей здание Центрального республиканского банка.
На выходе из первого поля зрения Петр, пересаживая ворона к себе на плечо, шепнул Эвридике:
- Статья 206 УК РСФСР, часть вторая.
- Нас будут судить по грузинским законам, - усмехнулась она. -Паанымаешь? - Эвридика на секунду прижалась к нему и тихонько пожаловалась: "Страшно, Петр...
- Сущщай, генацвали! - со смехом развел руками тот. Она взглянула на неправдоподобно молодого Петра и вздохнула - можно сказать, облегченно.
Банда вышла на улицу. Увидев перед собой чуть ли не целый полк готовых к схватке милиционеров, Эвридика прыснула и громко - с восходящей интонацией, как маршал на параде, - произнесла:
- Здравствуйте-товарищи-милиционеры!
Ответного приветствия не последовало. Шутки кончились. Эвридика и Петр с Марком Теренцием Варроном на плече были препровождены в ожидавший их здесь же фургон, где могли бы поместиться Али-Баба-и-сорок-разбойников. Дверь фургона захлопнулась. Часть милиционеров заняла свои места в принадлежащих им транспортных средствах, другая часть осталась у входа.
Из здания вышли несколько человек, предназначенных в свидетели. под предводительством толстяка-с-Алазанской-долиной-на-голове. Он оказался живее-многих-живых - правда, был слегка сконфужен отсутствием смерти. Заметив милицию, толстячок почтительно и серьезно сказал;
- Здравствуйте-товарищи-милиционеры.
И, словно залп орудий, ответил ему хохот окружающих, хоть чем-то в конце концов вознагражденных за бездарное ожидание красивой развязки.
С позволения читателей, автор воздерживается от комментариев по приведенному выше инциденту, поскольку смысл случившегося непонятен ему совершенно. А так как автор все еще симпатизирует Эвридике и Петру (даже несмотря на то, что глупостей они наделали уже предостаточно), он считает себя вправе воздержаться и от подробного изложения событий, предшествовавших суду. Одному богу известно, до какой степени тяжело было бы автору описывать снятие показаний и камеры предварительного заключения!
Но Марк Теренций Варрон... Бедный Марк Теренций Варрон опять оказался на улице: никакие заявления Эвридики и Петра о том, что перед законом все равны, не смогли смягчить жестокие сердца тех, кто стоял на страже закона: воронам быть в КПЗ не полагалось. Между прочим, Марк Теренций Варрон был первым среди живых - и уж во всяком случае первым-среди-живых-воронов, который мечтал о КПЗ. Дело, конечно, не в том, что ему приходилось на старости лет жить под-открытым-небом, - слава богу, не впервой... Но душа, голубая его душа томилась в разлуке с Эвридикой и Петром. Марк Теренций Варрон не мог постичь, в чем он ошибся, а ведь он в чем-то явно ошибся, если общую их вину равномерно не поделили на три части - часть Эвридике, часть Петру, часть ему, Марку Теренцию Варрону... все одинаково виноваты - всем одинаково и расплачиваться! Тем не менее Эвридика с Петром - в КПЗ, а он на улице. Дискриминация.
Марк Теренций Варрон сидел на суку и смотрел на дверь - ту самую дверь, за которую увели его любимцев. Он буравил дверь эту черным своим глазом, словно мог прямо сквозь нее увидеть все, что происходило внутри, - один день, другой, третий... Эвридика с Петром не появлялись. Многие появлялись страшные, в частности, личности! - а Эвридика с Петром - нет. Правда, пропустить их выход он не мог: Марк Теренций Варрон не отлучался ни на секунду. Он не ел, не пил и не спал - только размышлял и размышлял, в чем все-таки он ошибся, бесконечно повторяя слова, которые по просьбе Эвридики и Петра должен был произнести в тот злополучный день.
- Всем оставаться на местах. Руки вверх! Всем оставаться на местах. Руки вверх! Одно движение, и все взлетит на воздух к чертовой матери. У нас в руках бомба. Бросить оружие! Бросить оружие! Всем выйти на середину зала' Лицом к окну! Лицом к окну! Лицом к окну, живо! С первым апреля вас, свидетели! Все свободны.
Ну конечно... Надо было сказать только это, а он, дурак старый, нагородил отсебятины! Кто, например, просил его отвечать на голос с улицы "Придурок!"? Кто просил его после выстрела выкрикивать "Мокруха..." и "Хана"? Блеснул, называется... Марк Теренций Варрон проклинал себя за эти выходки. Отчего так тянет его все время доказывать людям, что он не попугай, бездумно повторяющий чужие слова, а существо сознательное и рефлектирующее... во всяком случае, говорящее к месту и вовремя! Пусть бы думали - попугай... пусть бы кем угодно считали, так нет же - сам все портит, инициативничает.
К концу третьего дня у дверей, за которыми он наблюдал, появились Нана Аполлоновна и Александр Тенгизович в обществе двух незнакомых ему людей.
- Сандро! - крикнул Марк Теренций Варрон и бросился вниз со своего дерева.
Он радовался так, что Эвридикина мама расплакалась:
- Не пускают тебя туда, бедный, не пускают! - причитала она, взяв Марка Теренция Варрона на руки и целуя голубую его голову в самое-пресамое-темя.
И Марк Теренций Варрон плакал тоже - усталый от бессонных ночей, от голода и, главное, от того, что слова некому сказать человеческого. Плакал Марк Теренций Варрон, плакал еще и потому, что не было у него права сидеть в КПЗ и ждать суда... А ведь это такое счастье - сидеть в КПЗ и ждать суда!
И тут он увидел пакет. На пакете презирал весь мир, повернувшись к нему спиной, уже знакомый Марку Теренцию Варрону носорог - счастливый обладатель самых модных на свете джинсов. В пакете что-то лежало - совсем немного, и Марк Теренций Варрон спрыгнул с рук Наны Аполлоновны, подошел к пакету и забрался внутрь.
- Смотрите, - сказала незнакомая ему женщина, - он уже в пакете! Кушать, должно быть, хочет...
Нана Аполлоновна, вынув из сумки печенье, раскрошила его рядом с пакетом. Но Марк Теренций Варрон даже не взглянул на печенье, давая понять, что в пакете он не за этим.
- Да он просто хочет проникнуть туда вместе с нами! - Александр Тенгизович кивнул на закрытую дверь и поднял пакет с Марком Теренцием Варроном за ручки. - Не волнуйся, дорогой, мы не оставим тебя здесь.
Да, с Сандро не пропадешь, он все понимает, этот милый, милый Сандро!
Марка Теренция Варрона долго несли, ставили на пол, опять несли, опять ставили и наконец стоящим на полу надолго как-бы-забыли. Он не шевелился, он ждал. Ждал шагов - быстрых, легких, знакомых уже почти триста лет... фредерикиных-эвридикиных - и дождался! Услышав их, ворон вылез из пакета и заковылял навстречу, не поднимая головы. Дойдя до узеньких носов темно-зеленых туфель, он остановился, устало сказал "Фредерика" - и упал замертво. Его едва удалось привести в чувство, а потом, сидя уже на руках Эвридики, Марк Теренций Варрон выслушал пересказ событий, участником которых был и он. Эвридика передала только сцену в банке - причем довольно весело, хотя веселья ее никто не разделял. Вспомнила и о том, как готовились к ограблению: покупали в "Детском мире" игрушечные автоматы и полумаски, целый день обучали Марка Теренция Варрона разбойничьему репертуару, отрабатывали тактику поведения. Со смехом рассказывала, до чего же трудно было незаметно спровадить Марка Теренция Варрона под потолок... Все это ворон знал. Впрочем, знал он, вероятно, и другое, о чем Эвридика наотрез отказалась сообщить родителям, а именно - зачем. Зачем-все-это-было-надо.
- Просто так, - сказала она.- От нечего делать.
Нана Аполлоновна и вторая женщина, оказавшаяся мамой Петра (она приехала одна, потому что отец был болен), заплакали обе - как-по-команде.
- Марк Теренций, - вздохнул Александр Тенгизович, - ты бы хоть объяснил, что ли...
Ворон вздрогнул на руках Эвридики, склонил голову...
- От нечего делать, - твердо повторил он.
И, как ни была драматична ситуация, все улыбнулись - даже женщины, поминутно вытиравшие слезы.
- Э-хе-хе... - произнес Александр Тенгизович и погладил Марка Теренция Варрона по спине. Потом поглядел в темные, ах какие темные глаза Эвридики. Но на суде, девочка, ты, конечно же, расскажешь все? Даже, наверное, пораньше: твоего... вашего с Петром адвоката зовут Белла Ефимовна, она должна знать. Ей положено знать, чтобы защищать вас обоих.
- А нечего знать, - беспечно ответила Эвридика. - Все так и было: от нечего делать. По глупости...
- Так не пойдет, - сказал Александр Тенгизович.
- Пойдет, не пойдет, - улыбнулась Эвридика, - все равно.
- Это вы с Петром так решили? - спросила мама Петра.
Эвридика кивнула. Нана Аполлоновна растерянно развела руками:
- Ну мне-то, мне-то ты могла бы сказать... я обещаю, что...
- Мама, - голос Эвридики был очень спокоен. - Если бы я могла сказать хоть что-нибудь - сказала бы. Но... увы.
- Как это - увы? В каком смысле - увы? Ведь вы же с Петром... не сумасшедшие, в самом деле! - Но твердой уверенности в голосе Наны Аполлоновны почему-то небыло.
- Не сумасшедшие? - спросила Эвридика и рассмеялась. - Думаю, что нет. Даже наоборот.
- Ты просто, должно быть, не в курсе, Эвридика. - Александр Тенгизович сложил руки на груди и принялся раскачиваться на стуле. - Белла Ефимовна... адвокат говорит, что в принципе все может обойтись, конечно. Тогда суд определит штраф до двухсот рублей. Но в худшем случае - ты... ты знаешь? До семи лет... тюрьмы... особо злостное... хулиганство или что-то в этом роде, вот... значит, надо объяснить что возможно...
- Объяснить невозможно ничего. Никому. Никогда. - Эвридика сказала это с невероятной, нечеловеческой силой, смутившей всех.
- Но тюрьма! - закричала Нана Аполлоновна. - Тюрьма, ты же должна понять, тюрьма!.. По отдельности, слышишь? Отдельно от... от него... от Петра!
- Я тогда сейчас уйду. - Эвридика поднялась. - Папа, ты ведь знаешь, что я действительно уйду. И мы с Петром откажемся от услуг адвоката. Этот случай тоже оговаривался - так что... лучше не нужно ни на чем настаивать.
- Могу я с Петром поговорить? - спросила мама Петра.
- Наверное, - пожала плечами Эвридика. - Тут разрешают свидания... с близкими. Я, правда, уполномочена, - она усмехнулась, - говорить от нашего с ним имени... Мы вместе вырабатывали стратегию.
- Но Эвридика!.. - Нана Аполлоновна была близка к истерике.
И суровым-суровым, чужим-чужим голосом сказала тогда Эвридика:
- Если мы все уже обсудили, могу я попросить вас... Мне очень нужно, чтобы вы на минуту оставили мне Марка Теренция Варрона и потом пришли за ним. Только на минуту. - Услышав наконец свой голос, Эвридика, кажется, и сама испугалась. Она помолчала и добавила как могла мягко: - Пожалуйста... я очень соскучилась по нему!
Когда - после все-таки долгих препирательств - они с вороном остались одни, Эвридика поставила его на стол и опустила голову на руки, чтобы глаза их оказались на одном уровне.
- Вы, Марк Теренций Варрон, - шепотом начала Эвридика, и от такой вежливости ворон собрался в комок, - знаете все. И я люблю Вас, Марк Теренций Варрон. Вы тоже любите меня, я знаю. Но нам срочно надо расстаться. - Птица насторожилась. - Вы один можете помочь: кто-то должен лететь в Москву, причем немедленно. Я прошу об этом Вас, Марк Теренций Варрон!.. Тут у нас все может кончиться очень плохо, но ты не дожидайся суда. В Москве есть Гоголевский бульвар, знаешь? Там метро - метро "Кропоткинская". И рядом - на повороте с бульвара - Сивцев Вражек. В Сивцеве Вражке живет один человек - дом с лепниной, второй этаж. Зовут человека Станислав Леопольдович. Найди его, Марк Теренций Варрон. Найди и скажи: Станислав Леопольдович, берегитесь. Повтори.
- Магистр Себастьян, - произнес вдруг Марк Теренций Варрон.
- Не балуйся, не время.
- Магистр Себастьян, - сказал ворон с такой уверенностью, от которой замерзла душа Эвридики. - Берегитесь.
И вошла мама. Эвридика поцеловала ее - прямо в слезы. Попрощались. У самых уже дверей Марк Теренций Варрон буркнул:
- Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant!
- Что это? - спросила Нана Аполлоновна.
Эвридика пожала плечами. Дверь почти закрылась.
- Мама! - крикнула вдруг она. - А скрипку вы случайно не привезли?
- Случайно привезли.
- Принесите, если разрешат.
...Встреча Петра с мамой, конечно, ничего не изменила - даже ссылка на почечную-колику-папы-далеко-отсюда не заставила его признаться в том, зачем-они-все-это-сделали. Мама Петра тоже уходила в слезах, едва не забыв сказать о самом главном: ворон исчез...
Отныне Эвридике с Петром следовало приготовиться к тому, чтобы писать в анкетах: "был(а) судим(а) по статье ?... 8 апреля 1983 года". Потому что суд назначили на 8 апреля. Номер статьи, кстати, уже был известен - двести шестая. Как, впрочем, и предполагалось. Правда, оставалось неизвестным: просто двести шестая или двести шестая прим, а от этого - тут Александр Тенгизович совершенно прав - зависело очень многое. Очень многое. И адвокатесса Белла Ефимовна - сухопарая строгая женщина лет пятидесяти с замечательным умением принимать участие в любом важном разговоре, не произнося ни единого почти слова, - решила положить-жизнь-за-этих-двух-идиотов, которые упорствовали и скрывали именно то и исключительно то, что было ей нужно. Мо-ти-вы. У них не было намерения завладеть деньгами - и доказать это Белла Ефимовна считала делом пустяковым. Но ведь такое доказательство вовсе не снимало с подсудимых обвинения в злостном хулиганстве - причем самого что ни на есть извращенного типа. А мотивировать его они предлагали ей... первоапрельским-настроением!.. Бред.
Естественно, что с таким объяснением-в-руках Белла Ефимовна чувствовала себя весьма и весьма неуверенно - более того, она просто вся издергалась. Надо сказать, что "издергалась" она совершенно зря: никакая тактика ее не привела к успеху и вплоть до последнего дня так и не было ей дано хотя бы мало-мальски серьезных объяснений. С тем и вошли в зал суда... с голыми-что-называется-руками.
На суде Эвридика с Петром вели себя так же, как и на многочисленных предварительных встречах. Правда, у Петра хватило ума хотя бы во время допроса сделать заявление о том, что они не хотели причинить вреда или ущерба присутствовавшим в банке 1 апреля 1983 года. Но фактически это было все, что следовало поставить ему в заслугу. Попытка же объяснений - лучше б он вовсе не делал такой попытки! - кончилась полным провалом: все просто пришли в ужас от циничности мотивировок. Еще бы! Безжалостно, преступно надругаться почти над сотней людей - и только затем, чтобы развлечься? Но тогда они подонки, эти молодые люди! И нет им прощения. А между тем допрашивали уже Эвридику.
Вопрос. Скажите, Эвридика Александровна Эристави, для чего 31 марта 1983 года вами был куплен билет на самолет, следующий курсом "Москва-Тбилиси"?
Ответ. Чтобы полететь в Тбилиси.
Вопрос. Почему же именно в Тбилиси? Может быть, вы хотели побывать на родине? Вы ведь грузинка?
Ответ. Да, я грузинка.
Вопрос. Однако, как мне известно, вы никогда не были в Грузии. И поэтому вы решили отправиться в Тбилиси?
Ответ. Нет. Просто мы с Петром взяли билет на первый попавшийся рейс. Куда были билеты.
Вопрос. Значит, до этого вы не знали, в каком направлении полетите?
Ответ. Нет, не знали. Мы летели куда получится. Выбор был сделан случайно.
Вопрос. А зачем вообще вы покинули Москву? Не бегство ли это?
(Голос адвоката: Я протестую.
Голос судьи: Протест отклоняется).
Ответ. Нет, не бегство. Нам просто надоела Москва. Мы решили отдохнуть.
(Гул в зале суда).
Вопрос. Правда ли, что апрель и май - самое горячее время для студентов, особенно для пятикурсников, каковым является второй подсудимый?
Ответ. Для кого как. Для Петра, по-моему, нет. Лучше было бы спросить об этом его.
Вопрос. Тем не менее - почему в самое горячее время вам пришло в голову отправиться на отдых?
Молчание.
Вопрос. Как долго предполагали вы пробыть в Тбилиси?
Ответ. Мы ничего не предполагали. Все было спонтанно.
Вопрос. План ограбления банка возник у вас в дороге?
(Голос адвоката: Я протестую. У моих подзащитных не было намерения ограбить банк.
Голос судьи: Протест принят).
Вопрос. Ваше решение имитировать ограбление возникло у вас в дороге?
Ответ. Нет, уже в Тбилиси.
Вопрос. Когда и как?
Ответ. Мы шли с Петром накануне вечером мимо республиканского банка - и в голову нам обоим одновременно пришла мысль: может быть, банк ограбить?
Вопрос. Мысль действительно пришла одновременно? Но ведь кто-то, наверное, произнес эти слова первым?
Ответ. Кажется, я. Не помню.
Вопрос. И каким же был ответ второго?
Ответ. Я не помню. "Гениально, давай грабить банк"... или что-нибудь в этом роде.
(Гул в зале).
Вопрос. Значит, протеста такое предложение не вызвало?
Ответ. Нет.
Вопрос. По-видимому, оно даже как следует не обсуждалось - я имею в виду само предложение, а не, так сказать, техническую сторону дела?
Отьет. Не обсуждалось.
(Гул в зале).
Вопрос. Для чего вы взяли с собой в Тбилиси говорящего ворона по имени Марк Теренций Барон?
Ответ. Варрон. Варрон, а не барон. Это... такой ученый в Древнем Риме... Для чего взяли? У него глаза были грустные, когда мы собирались уезжать. Вот и взяли. А о том, чтобы как-нибудь его использовать, мы и не думали.
Вопрос. И все-таки он оказался, образно говоря, сообщником. Как это случилось?
Ответ. Когда мы стали обдумывать техническую, по вашему определению, сторону дела, мы поняли, что нас могут не испугаться и запросто обезоружить. Тем более... настроение было не воинственным. Нужен был какой-то устрашающий компонент. Например, голос сверху. Мы и решили запустить Марка Теренция Варрона под потолок.
Вопрос. И как вам это удалось?
Ответ. Вы недооцениваете Марка Теренция Варрона. Он очень умный.
(Смех в зале).
Вопрос. Ворон сейчас с вами?
Ответ. Да нет, как видите...
(Смех в зале).
Вопрос. Я имею в виду - в Тбилиси ли ворон в настоящий момент? И если да, то у кого он?
Ответ. Мне это неизвестно. Птицы летают, где им вздумается: ведь птицы не подлежат уголовной ответственности. Они не сеют и не собирают в житницы.
(Смех в зале).
Вопрос. Были ли взяты вами какие-нибудь деньги из банка?
Ответ. Нет.
Вопрос. Вы испугались или у вас не было такого намерения?
Ответ. Испугались? Мы ничего не боимся. У нас действительно не было такого намерения: мы ведь не ненормальные.
Вопрос. Пока это не очевидно. Какое...
(Голос адвоката: Я протестую. Обвинитель не вправе давать оценки поступкам подсудимых.
Голос судьи: Протест принят).
Вопрос. Какое же намерение было у вас?
Ответ. Такое же, какое бывает у всех первого апреля, - намерение пошутить.
Вопрос. Не кажется ли вам жестокой ваша шутка?
Ответ. Сейчас - да. По прошествии времени.
Вопрос. Сожалеете ли вы о ней?
Ответ. Нет. Ни тогда, ни сейчас.
(Из рук адвоката выпал карандаш и долго катился по полу).
Вопрос. Стало быть, по логике вещей, у вас должны были быть довольно веские причины, чтобы так пошутить?
(Молчание).
Вопрос. Почему все-таки вы сочли возможным сделать это?
(Молчание).
Вопрос. Может быть, вам что-то мешает рассказать о причинах?
(Молчание).
Больше Эвридика не ответила ни на один вопрос. Начался допрос свидетелей. Они шли один за другим и все рассказывали одно и то же, в частности про "убитого" толстяка-с-Алазанской-долиной-на-голове. Когда толстяк наконец появился собственной персоной, зал встретил его смехом и аплодисментами. А когда он начал давать показания, в зале уже просто хохотали.
Адвокатесса была в ударе. Ее формулировки сбивали с толку.
Вопрос. Почему вы упали, когда раздался выстрел?
Ответ. Я решил, что меня убили... Меня еще никогда не убивали - и я не знал, как себя вести...
Вопрос. Но после того, как вы оказались на полу, вы поняли уже, что вас не убили?
Ответ. Не совсем. Мне показалось, что я умер...
Вопрос. Как долго продолжалось это ощущение?
Ответ. Очень долго... мне и сейчас иногда кажется, что я не вполне... жив.
Вопрос. Но в данный момент вы отдаете себе отчет в том, живы вы или мертвы?
Ответ. Сейчас, в данный момент? В данный момент я жив... кажется...
Вопрос. Вы все-таки не вполне уверены в этом?
Ответ. Да нет, уверен... Я просто как-то по привычке...
Вопрос. Считаете ли вы, что лично вам нанесен моральный ущерб?
Ответ. Конечно! Меня ущербили... морально. Я теперь морально ущербный.
Вопрос. В чем это проявляется?
Ответ. Ну как... в чем? Во мне проявляется. У меня бессонница.
Вопрос. Считаете ли вы себя человеком, у которого есть чувство юмора?
Ответ. Конечно! У меня чувство большого юмора.
Вопрос. Не дает ли вам чувство-большого-юмора оснований для того, чтобы рассматривать инцидент как шутку?
(Голос прокурора: Я протестую.
Голос судьи: Протест отклоняется).
Ответ. Конечно! Дает как шутку... как интересную шутку со мной и моими товарищами.
Вопрос. Кого вы называете своими товарищами?
Ответ. Кто был в банке... - их.
Вопрос. Вы дружите с ними?
Ответ. Как дружу, когда их сто человек, вы что - с ума сошли?
... Ну и так далее.
Нужно ли говорить, что зал давно уже валялся под креслами? Усилиями Беллы Ефимовны в серьезной, в общем, ситуации обозначился довольно заметный перелом. И вскоре суд удалился для вынесения приговора. К барьеру подошла мама Эвридики.
- Запрещено, - сказал юный блюститель.
- Я только хочу дать дочери скрипку, - решительно сказала Нана Аполлоновна, протягивая скрипку.
Юный блюститель совсем не был готов к такому повороту: он потянулся было за скрипкой.
- Вы умеете играть? - строго спросила Эвридика.
- Нет, а... что? - испугался тот.
- Тогда я сыграю, - сказала девушка и заиграла сразу - никто даже опомниться не успел. Это была "Чакона" Баха.
Эвридика играла солнечный день. По дороге катился возок с бродячими артистами. Они были молоды и талантливы. Они смеялись и жевали зеленые яблоки. Возок подъезжал к небольшому городку. У въезда в городок стоял патруль: лица солдат... это были те самые лица, которые окружали Эвридику сегодня. Командир патруля с лицом судьи сказал артистам:
- В город нельзя: черная оспа.
...играя на черной скрипке, бросая черные розы... Что-то отвечал командиру патруля папа Сеппль - они смеялись. Потом повозка въехала в город - и бросились люди навстречу, и плакали. Не надо плакать, зачем же... смотрите, какие акробаты!
Эвридика играла "Чакону" Баха. Эвридику слушали все. Когда в зал суда вошли судьи, никто не произнес "встать-суд-идет". Потому что Эвридика играла "Чакону" Баха.
А в городе умирали люди. И особенно умирали дети. Все хоронили всех. Но давали артисты концерты - каждый день по нескольку раз. На всех улицах, где умирали люди и особенно где умирали дети. И куда-то улетали, улетали души мертвых... Эвридика играла "Чакону" Баха. Вот и все... Последний аккорд улетел в открытую форточку. Сидевшие в зале поднялись: они приветствовали Баха.
- Садитесь, - сказал судья. А люди стояли.
- Садитесь, - повторил судья. А люди стояли.
Судья зазвонил в колокольчик. Люди вздрогнули и сели.
Приговор выносили тихо и даже немного стыдливо: Эвридика Александровна Эристави и Петр Васильевич Ставский приговаривались к выплате штрафа в размере двухсот рублей каждый.
Глава ТРИНАДЦАТАЯ
Лексико-стилистическая ИЗБЫТОЧНОСТЬ
Автор приносит извинения за то, что снова вынужден обращаться к событиям, происходившим первого апреля. Но эти события происходили уже в другом месте - так что рассказывать о них в предыдущей главе было совсем не с руки. Трудно ведь говорить обо всем сразу.
В зале заседаний старого корпуса МГУ (проспект Маркса, 20, второй этаж) первого апреля тысяча девятьсот восемьдесят третьего года было особенно много народу: по-видимому, у сегодняшних диссертантов недостатка в родственниках не наблюдалось. Родственники эти либо были занудами, либо очень уж хотели на банкет: они проявляли прямо-таки невиданную выдержку, почти целый час ожидая начала церемонии. Первая защита назначалась на пятнадцать ноль-ноль, однако к пятнадцати сорока в зале едва собралось двенадцать членов Ученого совета по журналистике и было совершенно неизвестно, где находились остальные члены упомянутого совета по упомянутой науке. Правда, к шестнадцати ноль-ноль двое из них по очереди позвонили ученому секретарю интересующего нас совета по интересующей нас науке и поставили его в известность о том, что жены их внезапно заболели одною и тою же болезнью, вследствие чего срочно потребовалось вызывать для них скорую помощь, однако эти два члена все таки обещали прийти. А третий член прислал с какой-то студенткой пространную записку о том, что в квартире данного члена унитаз вдруг начал функционировать посредством горячей воды - и это почему-то помешало обладателю унитаза прийти вовремя, однако с минуты на минуту должен был обнаружиться и он.
В половине пятого четыре члена, на явку которых никто давно уже не рассчитывал, неожиданно нашлись. Присутствовавшие члены затосковали: грозившее было сорваться заседание Ученого совета надвигалось, угрозы сорваться не выполняя. Тут уж и остальные члены не замедлили объявиться включая и не обозначенного выше, который (по причине глубокой старости) просто забыл, что он член. Около пяти образовался кворум. Заседание следовало провести-в-темпе: никому не улыбалось задержаться здесь на ночь.
Первая защита в темпе и прошла. Немолодой человек с бойкими глазами говорил коротко и непонятно - по причине чрезвычайно сильного акцента. Однако на данном этапе защиты от него и не требовалось долгих речей, так что он правильно все делал: по-быстрому внес свой-большой-вклад-в-развитие-отечественной-науки, сделал свой-значительный-шаг-вперед в изучении проблемы-сверхфразовых-единств-на-страницах-молодежной-печати-Дагестана и сел. Совсем лысый ученый секретарь залпом прочитал все отзывы, в которых точно определялся экономический-эффект-от-внедрения-открытия-в-производство. Официальные оппоненты отбарабанили свое. Вопросов не задавалось - и диссертация, представленная на соискание ученой степени кандидата филологических наук, соискала своему автору желаемую степень. После блистательной-защиты новоиспеченный кандидат опять что-то говорил: все расценили это как благодарность-в-разные-стороны, поскольку на данном этапе защиты полагалось уже благодарить. В продолжение всей процедуры люди входили и выходили из зала, почему-то ужасно сильно топая ногами, но как до входящих, так и до выходящих дела никому не было.
Диссертация о сверхфразовых-единствах-на-страницах... была защищена в рекордно короткий срок - за двадцать пять минут.
После непродолжительной передышки, когда дагестанский ученый, сопровождаемый дагестанскими же друзьями-и-близкими, прямо из зала заседаний победоносно отправился в "Славянский базар", совсем лысый ученый секретарь оповестил присутствующих о том, что им предстоит обсудить еще одну диссертацию на тему "Лексико-стилистическая избыточность в газетно-журнальной публицистике конца семидесятых - начала восьмидесятых годов". На сей раз соискателем той же самой ученой степени был некто Продавцов Вениамин Федорович.
Внезапно в зале раздались аплодисменты. Все обернулись на рукоплещущую пару: он круглолицый и румяный, в бороде; она эдакая голландская молочница.
- В чем дело? - интеллигентно спросил председатель Ученого совета.
- Тема зашибенная! - охотно ответила молочница.
- Ах, вот как... - сконфузился председатель Ученого совета и кивнул совсем лысому ученому секретарю продолжать. Тот продолжал; с бешеной скоростью мелькали в руках его бумаги, из которых следовало, что Продавцов Вениамин Федорович не только талантливый ученый, но и председатель культурно-массового сектора где-то-у-себя-там, ответственный за проведение смотра-конкурса со странным названием, профорг кафедры, член общества "Знание", еще раз член, но активный, добровольной народной дружины по охране общественного порядка, руководитель кружка "Светоч", в третий раз член теперь уже общества садоводов-любителей и, кроме того, выполняет многочисленные разовые поручения...
- Я выйду за него замуж! - разгоряченная перечнем подробностей молочница пожирала диссертанта глазами. Тот как бы даже исчез из виду.
Председатель склонился к одному члену и нашептал ему на ухо такое, от чего член только плечами пожал. Прочие члены насторожились.
- Девушка... - начал председатель, - я...
- Извините меня, пожалуйста! - алея щечками, произнесла молочница и волооко потупилась.
Лысый уже без перерывов дочитал бумаги - и на кафедру пригласили Продавцова-Вениамина-Федоровича-в-рост.
В рост он оказался человеком невысоким и серым, довольно здорово упитанным и весьма причудливо причесанным: волосы как бы просто-лежали-на-его-голове-сверху, образуя правильную дугу от одного уха до другого.
- Я позволю себе начать, - сказал он, но, видимо, все-таки не позволил, потому что не начал. Глазки его воровато забегали: создалось впечатление, что непосредственно перед защитой он обокрал всех присутствующих.
- Прошу Вас, - поощрил вора интеллигентный председатель.
И тут Продавцов понес такую ахинею и с такой скоростью, какой не удалось достигнуть даже совсем лысому ученому секретарю. Тот с восхищением глядел на говорящего, все шире и шире открывая рот.
- Помедленнее, пожалуйста! - раздался с галерки исключительно низкий мужской голос. - Некоторые слушают.
Диссертант опять распустил глаза в разные стороны, потом собрал воедино и несколько сбавил темп.
- Все равно слишком быстро! - не унимались сзади. - Вы что, себе это все рассказываете?
- Молодой человек! - вмешался было вышеупомянутый член, которому что-то нашептали на ухо, но, вспомнив, видимо, о нашептанном, примолк.
- Непонятно же ничего! - обиженно произнес тот же голос.
Продавцов, даже не собирая уже окончательно разбежавшихся глаз воедино, заговорил совсем медленно и очень тихо.
- Теперь не слышно... Погромче, пожалуйста! - вежливо потребовали с галерки. И добавили: - Такое впечатление, будто Вы хотите что-то скрыть! то слишком быстро, то слишком тихо.
Продавцов увеличил громкость без увеличения скорости. Теперь можно было слушать, но сделалось очень тоскливо.
- Простите, Вы не хотели бы как-нибудь разнообразить интонации? Скучно очень, - признались сверху.
- Молодой человек! - опять возбудился уже-дважды-вышеупомянутый член.
Однако председатель беззвучно отчитал его одними губами, и стало понятно, что "молодой-человек" - это не-просто-молодой-человек...
- Но если скучно! - голос явно немножко-обнаглел.
И тогда Продавцов начал нести свою ахинею медленно, вразумительно и прочувствованно. Румяный бородач - все искоса поглядывали на неговнимательно слушал.
По окончании выступления было предложено задавать диссертанту вопросы.
- Нет вопросов? - обрадовался совсем лысый ученый секретарь.
- Много вопросов. - Бородач оказался безжалостным. - Можно уже спрашивать?
- Спрашивайте, пожалуйста. - Лысый гневно улыбнулся.
- Я вообще-то очень интересуюсь этой самой избыточностью и хотел защищаться по той же самой теме - причем довольно скоро. Вот откуда у меня такой интерес к выступлению товарища Продавцова... чтобы присутствующие не сочли мое поведение странным. Я ведь, прошу заметить, не требовал от докладчика невозможного. Любой слушатель вправе рассчитывать на то, что речь говорящего будет достаточно внятной, - иначе какой же смысл слушать? Вы согласны со мной? - в упор спросил он у трижды-упомянутого-члена.
Тот нервически дернул головой - в крайнем случае, эту судорогу можно было понять как согласие.
- Так вот... Внимательно слушая докладчика, я подготовил довольно много вопросов - и мне кажется, что в ходе их обсуждения мы еще глубже постигнем сущность лексико-стилистической избыточности в газетно-журнальной публицистике конца семидесятых -начала восьмидесятых годов. Конечно, все члены Ученого совета с радостью примут участие в дискуссии, поскольку в настоящее время трудно представить себе человека, который не интересовался бы этой проблемой. Кстати, мое заявление довольно легко аргументировать. Пусть, например, сейчас поднимут руки те члены Ученого совета, которые считают данную проблему чепухой...
Члены затаились - руки не поднял никто. Продавцов вздохнул - настолько облегченно, что чуть не вылетел в широко открытую форточку. А румяный бородач незамедлительно возликовал:
- Вот видите! Значит, все считают проблему эту исключительно важной. Так давайте же спорить, товарищи! Давайте же открыто и без обиняков высказывать свои мнения! Надо разобраться наконец с лексико-стилистической избыточностью в газетно-журнальной публицистике конца семидесятых - начала восьмидесятых годов. Ведь сказал же товарищ Продавцов, что его занимают цитирую! - "лишь отдельные аспекты этой чрезвычайно интересной и многоплановой проблемы". Заметьте: не вся проблема, а лишь отдельные ее аспекты! Поможем же товарищу Продавцову увидеть значимость его исследования на широком фоне данной проблемы в целом!
- Простите, - прервал говорящего интеллигентный-до-смерти председатель Ученого совета. - Высказаться по поводу проблемы, обсуждаемой в диссертации, каждый сможет потом. Сейчас пока задаются вопросы. У Вас, позвольте узнать, нет вопросов?
- Да что вы! - рассмеялся румяный бородач. - Уйма вопросов! Только я пока к ним еще не подошел. Это я сделал такое вступление, своего рода трамплин построил... чтобы заострить важность проблемы. Потому как многие, тут он сурово обвел зал заседаний всевидящими глазами, - должным образом не оценили, по-моему, ответственности момента. Особенно вот Вы!
Бородач кивнул в сторону уже задетого им однажды члена. Член заметался - мелко: на миллиметр туда - на миллиметр сюда. Его с трудом остановили соседи.
- И еще Вы! - теперь бородач кивнул в сторону совсем лысого ученого секретаря.
Недолго подождал реакции и, не дождавшись, всем корпусом развернулся в сторону удивительно тихого члена, сидевшего на отшибе.
- Я уж не говорю о Вас! - воскликнул он. - Я заметил, что пока диссертант никак не мог выбрать верный тон речевого поведения, Вы, дорогой товарищ, спали все время. Без четверти восемь Вы проснулись, взглянули на товарища Продавцова и снова уснули. Однако Вы не подняли руки, когда я попросил, чтобы это сделали те, кто считает данную проблему чепухой. Как прикажете понимать Вас?
И тут председатель Ученого совета встал. Он сказал:
- Я не потерплю... - и не успел досказать, чего не потерпит, потому что на этом месте кто-то из членов Ученого совета - на вид заурядная, между прочим, личность - перебил его репликой:
- Пусть говорит! Он дело говорит - значит, пусть говорит!
Реплика возымела страшные последствия: присутствовавшие принялись оскорблять друг друга в довольно-таки основательных выражениях - только председатель (интеллигентный-в-доску!) пытался, правда безуспешно, напомнить о необходимости соблюдать академическую манеру дискуссии. Наконец отчаялся и он, стукнул кулаком по столу и возопил:
- Хорош орать, не на базаре!
Беснующиеся оцепенели. Сделалось покойно.
- Позвольте мне все-таки задать вопросы, - любезным голосом напомнил о себе бородач.
- Давай, борода! - поддержал его заурядная-между-прочим-личность.
- Лексико-стилистическая избыточность - это, я не понял, хорошо или плохо, по-Вашему, Вениамин Федорович? - бородач был вежлив, как мертвый профессор.
- Это?.. Это и хорошо, и плохо, - затравленно улыбнулся Продавцов.
- Здорово сказано! - Голландская молочница, о которой почти уже забыли, снова напомнила о себе. - Это все равно, что вы спросите врача: доктор, у меня повышенная температура? А он вам ответит: и повышенная и пониженная.
В зале засмеялись.
- Нет, я что хочу сказать, - попытался объяснить Продавцов, - на избыточность можно по-разному смотреть...
- Можно-то можно, - миролюбиво согласился бас, - да вот хотелось бы понять; именно Вы - как на нее смотрите?
- А и так, и эдак, - Продавцов загадочно хихикнул, - в том-то все и дело...
- Во хитрец! - восхитился удивительно-тихий-член-сидящий-на-от-шибе.
- Вы кончайте там... крутить! - заурядная-между-прочим-личность со всей очевидностью сильно не любила диссертанта.
- Да я не кручу, не кручу... - карасем на сковородке запрыгал Продавцов, и его глаза убежали за спину. - Просто такое сложное явление, как избыточность, не должно рассматриваться однобоко, поймите же!
- А вот этого здесь не надо, - отчеканила борода. - Давайте не будем спекулировать на сложности. Ваша диссертация как раз и призвана устранить сложность... - он помолчал и взревел, - разрубить этот гордиев узел лексико-стилистической избыточности к чертовой матери! Раскр-р-рошить его! Р-р-растолочь: вот так, вот так, вот так!.. - и румяный бородач грузно затоптался на одном месте, как бы давя ногами множество незримых врагов, потом упал в кресло, расслабился и затих.
- Ну что ж, - тонко улыбнулся интеллигентный-до-умопомрачения председатель Ученого совета. - Наш молодой коллега вложил в свое выступление, пожалуй, слишком много эмоций, но давайте надеяться, что усилиями таких вот молодых, самостоятельных умов интересующая нас всех проблема уже в ближайшее время будет решена.
- Да фигня это, проблема ваша! - равнодушно брякнула голландская молочница и засмеялась противоестественным смехом.
- А что вообще не фигня? - взорвался неожиданно вроде-бы-бывший-тихим-Продавцов. - Я на днях защиту одну слушал - про формы повелительного наклонения с нулевой флексией в многотиражной печати, так там вообще ничего, кроме жуй, клюй, плюй, блюй и прочее... а прошла единогласно!
- И то и другое - фигня, - обобщил с места бородач.
Члены Ученого совета, давно уже обалдевшие, привстали со своих кресел и вытянулись в направлении галерки - с целями явно не миролюбивыми.
- Вы извините, - холодным голосом сказал тот, у которого дома остался горячий унитаз, - но фигня эта, как Вы изволили выразиться, представляет собою серьезнейшую филологическую проблему...
- Какую именно фигню Вы имеете в виду, - перебил бородач, - про жуй-плюй или про избыточность? Первую фигню или вторую?
- Первую фигню! - возопил член. - Про жуй-плюй... тьфу, про формы повелительного наклонения с нулевой флексией! А Вы, - обратился он вдруг к Продавцову, - шантрапа!
- Я? - изумился Продавцов, теряя цвет лица.
- Вы, Вы! Пришли сюда и оскорбляете почтенных людей!
- Что я ему сделал? - Продавцов глазами призвал в свидетели всех присутствующих. - Я про Вас ни слова не сказал!
- Сказали! Вы крайне непочтительно отозвались об отличной диссертации: я руководил этой диссертацией, я! Вот. - Член демонстративно отвернулся от Продавцова. Правда, тут же повернулся и напомнил: - А вы со своей избыточностью - шантрапа! - после чего отвернулся уже окончательно.
- Давайте все-таки держаться в рамках... - неуверенно предложил председатель Ученого совета.
- Да какие тут могут быть рамки! - Бородач не унимался. - Пусть дорогой товарищ Продавцов в двух словах изложит суть дела. Если весь смысл его диссертации в том, что чем больше человек повторяет, тем лучше его понимают, - так это, извините, чушь собачья. Сколько бы раз я ни повторил, что я папа римский, вы же никогда не согласитесь со мной!
- Да уж, - ввернул кто-то из членов.
- Но моя диссертация, - заверещал Продавцов, - отнюдь не сводится к объяснению избыточности как таковой! Я предлагаю же еще и пути увеличения избыточности!
Шум, возникший было в зале, смолк...
- То есть, - тихо прокомментировал бородач, - Вы предлагаете увеличить то, что и так избыточно?
- Да, - проговорил совсем убитый Продавцов. И тут его понесло: - Нужно достичь еще большей надежности и гораздо более прочной усвояемости информации. Нужно придать прессе действенный характер, активизировать ее вмешательство в жизнь, дать зеленую улицу... - Он бросил эту мысль и начал другую. - Есть ведь очевидные вещи! И я имею право судить о них: мною было найдено четыреста сорок два факта лексико-стилистической избыточности... я работал с материалами газет "Советская культура" - триста один случай, журналов "Театральная жизнь" - сто двадцать восемь случаев, и "Рыболов-спортсмен" - три случая.
- Отпа-а-ад! - восхитилась молочница. - Он все сосчитал!
- Да! - с вызовом и достоинством произнес диссертант. - В моем распоряжении тысяча карточек - они, между прочим, здесь, если кто желает убедиться...
- Когда же вы жили? - ужаснулась девушка. - Жена у вас есть?
- Девушка, позвольте просить вас не задавать... - это опять председатель вмешался, но молочница, не останавливаясь, продолжала:
- Интересно же, когда он жил! Я бы загнулась с таким мужем! А Вы мозжечок проверяли?.. Я расскажу один случай, можно? - И она затараторила с такой скоростью, что было бы самоубийством бросаться ей наперерез: Известен эксперимент, в ходе которого проверялось, здоров у испытуемых мозжечок или нет. Людям предложили лист бумаги в клетку и попросили ставить в каждой клетке по одной точке. Нормальным это сразу надоедает, а у кого мозжечок поврежден, те весь лист точками утыкали. Им уже говорят: довольно, прекратите, а им хоть бы что, им даже нравится, у них двигательная функция нарушена. У Вас, товарищ Продавцов, тоже, наверное, с мозжечком не все в порядке, если Вы такую нудную работу - да еще с удовольствием! Тысяча карточек! Милый, Вы больной человек... Вас стационировать надо, амбулаторно уже нельзя.
- Да не тарахти ты! - прервал ее румяный бас. - Ты лучше посмотри на него: у него и мозжечка-то нет никакого - не видишь разве?
- Я в последний раз требую! - опять возник председатель...
- Подождите вы! - просто-таки грубо оборвал его субъект с галерки. Тут не до этики, тут человека лечить надо! А вот скажите, у Вас при ходьбе голова не кружится последнее время?
Совсем уже сбитый с толку Продавцов пальцами левой руки потрогал голову - то место, где, по его представлениям, должен был находиться мозжечок.
- Мозжечок не пальпируется, - предупредительно заметила молочница. - Он заключен в черепе... если, конечно, вообще имеется.
- Я не могу защищаться в такой обстановке! - завизжал Продавцов - и, кажется, его нетрудно было понять.
Под общий шум выступил представитель ведущего учреждения и зачитал невнятный отзыв о предложенной-на-рассмотрение-Ученого-совета-диссертации.
- Слово имеет официальный оппонент, доктор филологических наук профессор Илья Семенович Кузин, - благушей заорал вдруг отключавшийся на время совсем-лысый-ученый секретарь.
Продавцов уселся на место, придерживая на голове прядь, перекинутую от уха до уха.
А на кафедре возник плоскоголовый какой-то крокодил, который хорошо поставленным голосом запел:
- Рецензируемая диссертация посвящена исключительно важной и чрезвычайно актуальной теме в ней ставится вопрос на который наша научная общественность давно уже ждет недвусмысленного ответа автор умело подходит к решению интересующей его проблемы работа глубока по содержанию и интересна по форме в ней открываются новые горизонты для комплексных исследований вклад диссертанта в разработку данной темы трудно переоценить в основу диссертации положены новые и оригинальные идеи методы ее выполнения также весьма и весьма новы...
Все это Илья Семенович Кузин пел совершенно обворожительно, в лучших традициях бельканто, то есть демонстрируя только голос - и ничего больше. За время пения он ни разу не изменил позы, да что там позы - пальцем не пошевелил и даже не моргнул ни разу. Сонная одурь накатила на зал: утихомиренные, убаюканные члены немели от удовольствия.
- Таким образом, - заканчивал уже крокодил, - мне кажется что рассматриваемая диссертация является серьезным научным трудом и позволяет ходатайствовать о присвоении ее автору ученой степени кандидата филологических наук.
Когда он допел свою песнь, сонные члены один за другим вернулись к неприглядной яви и насупились. Крокодил сел, не дождавшись ни аплодисментов, ни цветов, на которые, судя по угрюмому теперь выражению его лица, он явно рассчитывал.
- Вениамин Федорович, ответьте, пожалуйста, Вашему оппоненту. - Лысый включился в работу вовсю.
Продавцов поднялся на кафедру, как на гильотину.
- Во-первых, я хотел бы поблагодарить моего глубокоуважаемого оппонента за то, что он внимательно прочел мою диссертацию, и за ценные замечания, сделанные им. Я согласен, первая глава действительно немного длиннее второй, и учту это замечание при переработке диссертации в книгу...
- О-о-ох, - застонали на галерке, - он еще и книгу опубликует!
- Простите, пожалуйста, - не дав никак отнестись к стону голландской молочницы, изумительно вежливо обратился к крокодилу бородач, - Вы действительно внимательно прочли диссертацию?
- Почему этот человек позволяет себе... - начал крокодил, но тут же и умолк от следующего вопроса сверху.
- И пересказать можете? - усомнились там.
- Все, больше нет сил терпеть! - трагически запел Кузин. - Кто он такой? Кто знает этого... этого человека? Скажите, Вы кто такой в самом деле?
- Я папа римский, - смиренно ответили с галерки, - и представляю здесь Ватикан.
- Он же издевается, я сейчас покину зал заседаний. - Кузин вскочил и побежал покидать.
- Вам укол сделать надо, транквилизатор какой-нибудь! - неслось вслед.
Кузина перехватили у дверей и тоже вложили ему в ухо сведения, от которых ему пришлось остановиться и присесть на краешке первого ряда.
- Выведите этих наглецов! - заорал вдруг спавший до этого член, но другой член, бодрствовавший, взял на себя обязанность нашептать ему на ухо все необходимое - и нашептал. Заоравший пожал плечами и нахмурился.
- Садитесь, Продавцов, поблагодарили и - ладно! - взмолился председатель. - Слово предоставляется второму официальному оппоненту Слепокуровой Глории Викторовне, кандидату филологических наук.
Слепокурова Глория Викторовна, робкое существо лет четырнадцати, боязливо переступила в сторону кафедры. На носу ее были квадратные темные очки с темными же стеклами, занимавшими большую часть поверхности лица и тем самым оказывавшими лицу неоценимую услугу. Человек, раз взглянувший на Глорию Викторовну, мог не опасаться, что ему захочется это повторить.
На кафедре официальная-оппонент сразу же сильно изменилась, себя-в-коня-преобразив. Она раздула мощные ноздри и направила свои телескопы сначала на галерку, а потом в сторону наиболее прытких членов.
Зал превратился в относительно-братскую могилу.
- Я надеюсь, - тихо-тихо сказала Слепокурова Глория Викторовна, - что у присутствующих хватит деликатности не перебивать женщину, чтобы мне не зачитывать одно и тоже по многу раз?
Испугав всех таким образом, она еще тише продолжала - и, между прочим, каждое слово было отчетливо слышно... наверное, даже на улице: вот как умела заставить себя слушать эта Слепокурова Глория Викторовна!
- Итак, мы имеем дело с диссертацией, актуальность которой несомненна. Несомненна, - повторила она, строго взглянув сразу на всех окружающих. Лексико-стилистическая избыточность в газетно-журнальной публицистике конца семидесятых - начала восьмидесятых годов была предметом внимания двенадцати советских и одного зарубежного, а именно восточногерманского, исследователя. - Слепокурова упомянула их фамилии, имена, отчества, названия книг и статей, место и год их издания, издательства и количество страниц с указанием тех, на которых речь шла именно об этих материях. - Однако я заметила, - телескопы опять поблуждали по залу, - что диссертанту известно лишь десять исследований, - и это сразу внушило мне опасения. Выяснилось следующее: опасения отнюдь не беспочвенны. Я полностью не принимаю интерпретации фактов лексико-стилистической избыточности на страницах 45, 46, 47, 48, 49, 108, 114, 145, 146, 147 и 163; факты заимствованы автором из газеты "Советская культура" за номерами 18, 32, 39. 47, 58, 116, 291 и из журнала "Театральная жизнь" за номерами 1, 4 и 6. Я также не принимаю интерпретации всех фактов, заимствованных из всех номеров журнала "Рыболов-спортсмен". В каждом из упомянутых случаев мы имеем дело не с избыточностью, а с дополнительными новыми и интересными сведениями. Чтобы не быть голословной, разберу каждый из упомянутых мною примеров.
И Слепокурова Глория Викторовна начала анализ, длившийся ровно полтора часа.
- Теперь позволю себе перейти к примерам, в интерпретации которых мое мнение лишь частично расходится с мнением диссертанта.
Она опять начала называть цифры, которых автор, щадя и без того утомленных читателей, здесь приводить не станет, указав лишь, что официальная-оппонент высказала замечания по тридцати четырем случаям, касающимся всех газет и журналов. На это ушло еще два часа с минутами...
Где-то далеко пропикало одиннадцать.
Три раза приходил вахтер. Измордованные члены сонно вращали глазами: у многих были видны одни белки. Четверо храпели, и один свистел. Председатель держал голову в руках. Диссертант расстегнулся весь. Кто-то из его родственников не то скулил, не то пел во сне... На галерке молчали.
Проанализировав все спорные случаи, Слепокурова Глория Викторовна злобно оглядела сильно поредевшие ряды:
- Я позволила себе читать с листа, чтобы сэкономить ваше время и не подбирать нужных слов в процессе анализа прямо на ходу. За исключением упомянутых моментов, диссертация в целом произвела на меня хорошее впечатление: она вполне заслуживает высокого звания диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук.
- Вязать ее! - раздался на этом месте оглушительный вопль с галерки, заставивший содрогнуться тех, кто спал, и тех, кто из последних сил не спал. - Несите веревки!
Под страшные эти слова голландская молочница принялась топать ногами и улюлюкать, что произвело на всех совершенно жуткое впечатление: вскочила - и улюлюкает. И топает ногами - очень сильно... что там у нее на ногах?!
Борода засвистел в два пальца.
Слепокурова Глория Викторовна уничтожила их телескопами и робкой походкой отправилась к двери - хлопнула ею, как недюжинный молодец, и покинула помещение.
Члены зажали уши и полегли под столы, а один из них, ничего не понявший со сна, мелкими перебежками начал тоже продвигаться к двери.
- Стоять! - крикнул Продавцов, и член замер, прижав к брюху лакированный портфельчик, ибо голос Продавцова и весь-его-задумчивый-вид сделался страшен: еще бы - кворум рассыпался на глазах!..
А надо всем этим гремел уже бас румяного бородача:
- Нет, вы вдумайтесь только - на минутку вдумайтесь! - что здесь происходит! Это же сумасшедший дом, глубокоуважаемые члены... Я медик, я случайно оказался на защите - и цель-то у меня была глупая... похохмить, сколько получится, - и убраться восвояси, но, товарищи-члены, вы же шизофреники тут - все как один! Я гарантирую вам точность диагноза, шизофрения - моя специальность.
- Ах-так-вот-что... никакой-он-не-сын... и никакой-он-не-зять... это-вообще-человек-с-улицы... нет-ну-подумайте-какой-хам... нашел-кого-учить-понимаете-ли...
Шепотки поползли, поползли - расползлись, как муравьи, по всему залу, защекотали, рассмешили и тут же обозлили всех, но бас гремел густо:
- Какой тут мозжечок, к чертовой матери! Тут распад уже пошел, прямо на глазах распад, я теряюсь как врач... Я не взялся бы лечить никого из вас, это все какие-то запущенные формы, застарелые: синдромы на благоприятной почве развивались, понимаете?
Никто почти уже не слушал его: сами по себе - без команды - престарелые члены выстраивались в круг, создавая оцепление; прочие - во главе с Кузиным - блокировали дверь, но румяный бас не замечал опасной передислокации: он гремел, гремел, гремел...
- Профессиональный кретинизм - вот как называется ваша общая болезнь, а защита сегодняшняя - массовый психоз на почве профессионального кретинизма. Что тут можно посоветовать? Для начала - никогда больше не собираться вместе: коллектив - это питательная среда для психов, именно в коллективе актуализируются наиболее болезненные проявления профессионального кретинизма. У всех вас, видите ли, иллюзия общего дела - такую иллюзию, поверьте мне, можно подавить лишь в одиночестве, когда очередные бредовые идеи оказывается некому сообщить. И второе - смена рода деятельности. Поскольку для какой бы то ни было интеллектуальной работы никого из вас уже нельзя использовать, вам лучше приняться за такие виды работы, которые не требуют участия интеллекта, - например, уборка-садов-и-парков-нашего-города и тому подобное. Больше ничем помочь не могу. Пойдем, - кивнул бородач голландской молочнице.
- Стойте! - крикнул председатель.
- Давайте на прорыв! - взревела заурядная-между-прочим-лич-ность. - Я прикрою вас! - Она (а это был он) бросилась к двери.
- Мы сейчас милицию вызовем, вы не выйдете отсюда, - заорал удивительно-тихий-член-на-отшибе.
Заурядную между-прочим-личность выпустили наружу, за ней выскользнул кто-то из членов, прочие члены завалили своими телами дверь. Четверо страшных аспирантов завели бородачу руки за спину. Голландская молочница смотрела на все это глазами-полными-ужаса.
- Да они же пьяные! - возопил один из четверых. - От них спиртным несет!
Бородача и молочницу оперативно сдали на руки милиции. Они не сопротивлялись и больше не качали прав - только изредка взборматывали "ужас", "кошмар", "бред какой-то" и так далее. Их увез милицейский фургон. В отделении милиции капитан Окунев снимал с них показания.
- Ваша фамилия, имя, отчество?
- Карасева Ольга Петровна.
- Ваша?
- Рекрутов. Рекрутов Сергей Степанович.
- Место работы, должность.
- Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифософского. Врач.
- Лаборантка.
Снятие показаний продолжалось около часа. А в это время в зале заседаний старого корпуса МГУ шло голосование по диссертации Вениамина Федоровича Продавцова на тему "Лексико-стилистическая избыточность в газетно-журнальной публицистике конца семидесятых - начала восьмидесятых годов" .
- Я надеюсь, - сказал председатель всех членов, - что грубая выходка двух подвыпивших хулиганов не повлияет на решение Ученого совета. Отзывы по диссертации в целом положительные, диссертант по существу и интересно отвечал на вопросы. Голосуем, товарищи!
Кроме пресловутых членов, каким-то чудом все-таки умудрившихся сохранить кворум, в зале заседаний осталось еще человек пять-шесть, включая самого диссертанта, официальных оппонентов и представителя ведущего учреждения. Жены членов совета (особенно две заболевшие) названивали на давно пустые кафедры по поводу исчезновения из обихода мужей. А те решали судьбу Вениамина Федоровича Продавцова...
Он был почти обнажен, поскольку, как мы помним, незадолго до прибытия милиции расстегнулся весь и решил не застегиваться больше никогда. Жизнь свою он полагал законченной. Диссертация провалилась. Надеяться было не на что. Новой написать он не сможет - и теперь навеки обречен оставаться ассистентом кафедры... впрочем, какой там кафедры, когда его завтра же выгонят! Между тем ему уже тридцать два года и поздно начинать другую жизнь. Стало быть, расстегнуться и сидеть - это все, что следует предпринять... сидеть и ждать смерти.
- Объявляю результаты голосования. - Совсем лысый ученый секретарь блестел, как сапог новобранца. Продавцов вжался в кресло и вроде перестал быть. - Одиннадцать голосов "за", девять - "против", один бюллетень испорчен. Поздравляем вас, товарищ Продавцов.
- Мне можно идти? - спросил тот, не поднимаясь.
Ему никто не ответил.
Глава ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
У ВАС не все дома
Станислав Леопольдович шел по улице и ел мороженое, которое называлось "Чебурашка": это был пломбир в шоколаде - цилиндр, обрубленный с двух сторон. С одной стороны Станислав Леопольдович откусывал, с другой мороженое текло на брюки. Таков уж принцип действия "Чебурашки"...
Когда половина мороженого съелась, а вторая половина истекла, Станислав Леопольдович вытер липкие пальцы о брюки и увидел под ногами классики. Он добросовестно пропрыгал четыре клетки - больше не было - и прочитал слово "рай". В рай и прыгнул. "Вот я и в раю", - подумал он и улыбнулся. Рай... Смешное слово живых. Впрочем, теперь он тоже как бы живой - значит, и его слово.
Станислав Леопольдович стоял в раю и беспокоился о Петре Ставском. Вот уже третий день по телефону отвечали: "Его-нет-в-Москве", - больным мужским голосом. Между тем перемены, происшедшие со Станиславом Леопольдовичем, лишали ею недавно еще столь естественной возможности оказаться рядом с Петром в любую минуту: теперь приходилось довольствоваться общечеловеческими, так сказать, средствами коммуникации. О переменах этих автор скажет своим чередом, а сейчас и так много времени уже потеряно зря из-за совершенно дурацких событий, которые приходилось излагать в предшествующих трех главах, нисколько, к сожалению, не продвинувших сюжет вперед.
Итак, Станислав Леопольдович стоял в раю и беспокоился. Кроме Петра, не было теперь у него долгов ни перед кем в подлунном этом мире. Мальчик Игорь из Сивцева Бражка, еще несколько раз встретившись с собакой Анатолием, получил наконец от родителей настоящую собаку - по счастливой случайности такую же большую и пеструю, как Анатолий, - и Станислав Леопольдович мог уже облегченно вздохнуть. Что же касается Эммы Ивановны Франк, то она... да и он... впрочем, это отдельная история. И только Петр так и не дождался ответов на большие свои вопросы. Правда, теперь он был с Эвридикой - может статься, ему и не нужен уже собеседник-оттуда: есть ведь прекрасный собеседник-отсюда... Ах как хороша Эвридика! До чего же повезло им обоим...
Вот и остановка у входа в маленькое кафе: за несколько последних дней Станислав Леопольдович наизусть выучил эту дорогу. Толкнул дверь, вошел. Сказал: "здравствуйте-Иван-Никитич".
- Здравия желаю, Станислав Леопольдович. - Старенький гардеробщик только что не вытянулся во фрунт: смешной он... - Как здоровье?
- Спасибо, не жалуюсь. А ваше?
- Да неважно вот... Ноги болят. Врачи бруфен пить велели, а в аптеках нету. Прямо не знаю, что и делать. Сегодня всю ночь ныли, ноги-то, - думал, к дождю, а дождя-то и нету никакого.
- Плохо, - сказал Станислав Леопольдович и - непонятно в чей адрес, но, скорее всего, ни в чей адрес, а себе под нос - пробубнил: - Дождь, между прочим, мог бы и быть, черт бы его побрал! И бруфеи мог бы быть в аптеках: эка невидаль - бруфен!.. - Ворчливый он, оказывается, старик, этот Станислав Леопольдович!
Они раскланялись - и Станислав Леопольдович вошел в зал с твердым намерением отныне приходить на полчаса раньше, чтобы успевать поговорить по душам с Иваном Никитичем, с которым, кажется, вообще никто никогда не разговаривает.
Народу в зале было мало, и в основном бабули какие-то. Семь часов - не молодежное время. А ребята уже на сцене - и, увидев Станислава Леопольдовича, кивают ему. Хорошие они... просто удивительно, до чего хорошие, - почти такие же, как Петр. Станислав Леопольдович улыбается каждому отдельной улыбкой: под музыку, которая потихоньку набирает силу, и Станислав Леопольдович знает эту музыку, вот уже несколько дней знает, даже слова кое-какие запомнил. Впрочем, слова звучат уже из-за сцены... бормочутся уже в микрофон где-то неподалеку - понятно, что французские, но какие именно - не слышно: так точно из толпы, на улице, долетают отголоски, осколки, обломки речи, не очень внятные и совсем невнятные: голос жизни. Однако собираются в стайку отголоски - и можно уже понять: Non, je ne regrette rein! C'est paye, balaye, oublie... Je m'en fous du passe. Avec mes souvenirs j'ai allume ie feu, mes chagrins, mes plaisirs je n'ai plue besoin d'eux...
И удивительно красивая женщина выходит сразу вслед за словами... нет, не так: слова ведут за собой удивительно красивую женщину - в густо-лиловом платье и тонком белом шарфике, в узких белых туфельках. С фиалковыми глазами и седой - может быть, чуть сиреневатой - шевелюрой... эдакая очень приблизительная стрижка. И никто не может узнать в этой почти нереально прекрасной даме всеми любимую старушечку-с-придурью, каждый вечер певшую здесь романсы. Но об этой своей репутации не жалеет прекрасная дама, ни о чем она не жалеет - даже о том, что все прошло стороной, кивнуло - и пропало, мелькнуло - и нет... Впрочем, будет еще - и не однажды будет! Откуда она знает об этом? Может быть, не первую жизнь живет уже, а вторую, или даже третью - и все понимает про себя и про нас?
...Странные вещи происходили в маленьком кафе последние два года. Кажется, это Эмме Ивановне Франк дирекция была обязана тем, что более чем заурядная забегаловка превратилась чуть ли не в "Клозери-де-лила": ансамбль "Счастливый случай" собирал теперь постоянную публику - своего рода богему... да простят автору употребление этого слова применительно к российской нынешней жизни; во всяком случае какие-то в-прошлом-студенты, в-будущем-поэты-и-худож-ники, персонажи-вне-времени-и-места приходили сюда. И появился даже особый стиль, который старались соблюдать завсегдатаи и который ощущался случайными гостями. Между прочим, с кухни перестали воровать продукты и растаскивать их по домам, а сомнительные граждане перестали подходить с заднего хода и продавать-покупать то-чего-никогда-нет...
Эмма Ивановна Франк заканчивала сегодняшнее выступление, как и всегда в последние дни, странной какой-то песней. Аккомпанировал ей один только Павел - на губной гармонике. Простая такая мелодия, и слова простые совсем, а припев непонятный - "дол зеленый, йо-хо!" Всего неделя прошла с тех пор, как возникла в грустной московской жизни песенка эта, а кафе - безымянное бог знает с каких пор - называли уже "Зеленый дол". И подумывали даже о вывеске.
И подумывали даже о том, чтобы "Счастливому случаю", срочно переименованному в "Зеленый дол", участвовать в конкурсе вокально-инструментальных ансамблей - не победить, конечно, а просто участвовать: ни-за-чем. Опять же для разнообразия грустной московской жизни - и предъявить ей, этой грустной московской жизни, другую жизнь жизнь в розовом свете. Причем ровно-через-три-дня!
Жизнь в розовом свете действительно была предъявлена и показана по телевизору: телевидение транслировало конкурс не целиком, но короткую программу ансамбля "Зеленый дол" представило без купюр.
Итак, ансамбль "Зеленый дол". Солистка - Эмма Ивановна Франк. Медленно вышли на сцену девушка и молодые люди, одетые в черное - с головы до ног. Заиграли тихо, нестройно, словно впервые встретились и сейчас только приноравливаются, приспосабливаются друг к другу. Кажется, еще и мелодии не было никакой - не получалось пока мелодии, не вырисовывалось... извините, дескать, мы тут случайно, мы уйдем сейчас, но вот уже и немножко мелодии рисунок ее становится четче, уже видны контуры будущей песни, но только контуры, а что за песня - непонятно еще... Где-то почти за пределами зрения, в отдаленнейшей кулисе принимается звучать голос - очень низкий и разбитый... неэстрадный, немолодежный вовсе уж голос, которому тут не место.
И надо бы освистать этот голос, да нет сил свистеть: все силы уходят на то, чтобы слушать - слушать, вытягивая шеи... кто там поет в отдаленнейшей кулисе и о чем поет? По-французски поет, не понять о чем, но уже и неважно, о чем, только бы увидеть источник голоса, завернутый в черное, - теперь не имеет значения, каков он, источник этот! Пусть будет стар, пусть будет убог... все равно. Ну, хорошо, мы согласимся с любой видимостью, мы го-то-овы - и тогда... Источник голоса начинал приближаться - совсем незаметно, будто плыл по воздуху, и глаза болели вглядываться, мучительно вглядываться и гадать, какая же все-таки она, эта жизнь-в-розовом-свете, о которой полкуплета по-русски спел голос.
Она была черной, но вот уже на авансцене, где все видно совсем теперь ясно, она подняла голову и открыла лицо свое, эта черная-жизнь-в-розовом-свете, и сбросила к ногам накидку. В розовом - ах, в рискованно розовом платье дошкольницы, коротеньком, до колен, - предстала старая женщина Эмма Ивановна Франк перед самой молодой на свете аудиторией. Когда человеку под семьдесят, можно ли в розовом, Эмма Ивановна Франк!..
А она стояла на краешке сцены - и ослепительный свет шел от нее, нарочитый ослепительно розовый свет, в котором особенно зримо становилось все, что было в ней ветхого, дряхлого, некрасивого и вместе высокого, трогательного. Так вот какая она - жизнь-в-розовом-свете, жизнь в розовом платье, старая наша жизнь... Маленький маскарад накануне гибели!
В задних рядах привстали: там не могли поверить глазам своим. И все шли и шли люди вдоль проходов, все подтягивались и подтягивались к сцене - и замерли с прижатыми к груди руками. А кинокамера торжественно и грустно запоминала лица медленной этой процессии, идущей увидеть жизнь.
И кончилась песня. Ни единого хлопка, ни единого шороха. Зал ждал, что дальше. В полной тишине старенькая фея произнесла в микрофон одно только слово: - Милорд.
Подняла черную свою накидку, набросила на плечи: дошкольное платьице снова исчезло из виду. И опять заговорила по-французски - небрежно, легко, только-для-французов... ах, вы не француз, месье, какая жалость, но ведь вы говорите по-французски, это же так естественно! Что? Вы не говорите по-французски... но тогда я теряюсь, месье, и не знаю, как я вам могу помочь, ведь дело в том, что я уже пою...il s'agit d'un milord, monsieur... - и все вдруг замечают, что действительно поет уже дама и пела давно, и музыка звучала, только не замечалась как-то - шарманочная такая музыка. А потом совсем забыла дама про накидку, и замелькало - редко, намеком - то самое розовое платьице из-под накидки черной, и все чередовалось розовое-черное, розовое-черное, и опять перемешивались любовь-печаль, жизнь-смерть... Но не горюйте, господа, пройдет и это, господа, не отчаивайтесь! И - фиалковые слезы из фиалковых глаз.
Вторая кончилась песня. И опять ждал зал - только весь уже подошел к сцене, мало кто остался сидеть, и забыли о них - сидевших - навеки.
- Старинная тирольская песня "Дол зеленый", - сказал в микрофон посторонний мужской голос. Девушка и молодые люди в черном отступили в глубь сцены - были, не были? - один остался: долговязый, с гармоникой губной. А из ближней кулисы вышел старик в тирольской шапочке с перышком и взял солистку за руку, как ребенок на детском празднике - подружку. Меж тем она пела уже под губную гармонику:
Дол зеленый - йо-хо,
Дол зеленый - йо-хо...
И тут старик подхватил мягким басом:
Собирались вместе,
начинали песню
про зеленый дол.
Так и стояли рядом: пели, держась за руки, - дети на лужке... А птица веселая одна птица - подхватила и унесла их песню. Куда? Они не знали куда и горевали немножко, но горевать бросили, потому что птицы всегда возвращаются, вернется и эта птица... и мы еще споем с вами, вот уже и поем, и нам хорошо вместе - двум старым-старым детям и тем, кто с ними... А с ними уже девушка и несколько молодых людей - были, оказывается! - они скинули черные плащи, и обнаружились под плащами зеленые костюмы, похожие на тирольские, - со штанами чуть ниже колен.
И когда окончилась песня, а старики начали вдруг под губную гармонику тихонечко эдак переступать, как бы танцуя, - Господи, что сделалось в зале! Все захлопали и закричали ааааааа - и, кажется, даже члены жюри закричали ааааааа: скучные мужчины и женщины из каких-то клубов, дворцов-и-домов-культуры, которые пришли судить музыку, но теперь не хотели и этим своим ааааааа отказывались судить: они хотели на зеленый луг, в кружок - рас-пе-вать!..
Глядя концерт по телевизору в записи еще через три дня (это был уже второй показ), Эмма Ивановна плакала, и кашлял Станислав Леопольдович, и хлюпала носом Бес, и молчали с суровыми-в-общем-лицами ребята из "Зеленого дола" - все они собрались в квартире Эммы Ивановны и Станислава Леопольдовича: вместе посмотреть концерт и выпить чайку. Концерт, стало быть, посмотрели, принялись чай пить - тут как бы выключить телевизор, да забыли выключить, и началась передача о встрече в одной из московских школ ой какая странная передача!.. Замерли с чашками в руках гости, замерла Эмма Ивановна, замер магистр (прозвище это прижилось-таки к Станиславу Леопольдовичу).
Однако сейчас автор не станет занимать время пересказом телевизионной программы - может быть, потом когда-нибудь, а теперь нет настроения... да и важные дела впереди. Магистр одевается, одевается Эмма Ивановна, одеваются ребята. Хозяева хотят проводить гостей? Да нет, не похоже: гости в одну сторону, хозяева - в другую, к метро, опять же "Кропоткинская". Куда отправляются Эмма Ивановна и Станислав Леопольдович?
Куда бы там ни было, но часа через четыре Эмма Ивановна вернется одна: Станислав Леопольдович задержится в булочной на углу Гоголевского и Кропоткинской - и всего-то навсего хлеба купить... половинку черного да французский батон за двадцать две копейки. Ах, Станислав Леопольдович, нельзя вам сейчас задерживаться: перепутались уже случайности и никто больше не отвечает за них. Оставьте вы эту очередь, есть ведь дома какой-то хлеб тем более, что у Аида Александровича... ну да, об этом же пока уговорились молчать.
Но стоит в очереди Станислав Леопольдович. Боже, как много в жизни нашей иногда зависит от половинки-черного-да-французского-батона-за-двадцать -две-копейки! И вот они уже в авоське, а Станислав Леопольдович пересекает булочную, выходит на улицу.
- Магистр Себастьян, берегитесь! - слышит он.
Голубой ворон сидит на карнизе.
-Не может быть! - почти кричит Станислав Леопольдович. - Это же был единственный экземпляр!
А голубой ворон сидит на карнизе.
- Фредерико? - Вот и кольцо с монограммой: тот самый ворон!
- Эвридика, - твердо отвечает птица.
- Was fur Euridika? - по-немецки почему-то спрашивает Станислав Леопольдович.
- Dieselbe, - говорит ворон. И - через паузу: - Sehen Sie sich vor!
- Droht es mir eine Gefahr?
- Sehen Sie sich vor! Magister Sebastian, sehen Sie sich vor!.
Станислав Леопольдович протянул руки: ворон сам перепорхнул с карниза на его ладони. С авоськой и вороном в руках отправился он к телефону через дорогу, за выходом из метро.
- Кло, - сказал он. - Я не приду домой. Меня предупредили об опасности, нужно исчезнуть на время.
- Кто предупредил? Куда исчезнуть?
- Один... приятель. Из давних времен. А исчезнуть... исчезнуть еще не решил куда. Жди моего звонка или... или чего-нибудь. И знай: мы вместе. Но будь осторожна.
Эмма Ивановна не поняла ничего. Трубка уже гудела. Эмма Ивановна прижала ее к груди и упала на колени:
- Господи! Отвечающий за живых и за мертвых! Сохрани мне его!
Потом она положила трубку и сказала:
- Я вся мокрая.
Ее действительно словно только что вынули из воды. Эмма Ивановна села в кресло и просидела с полчаса. "Сейчас зазвонит телефон", - подумала она, и телефон зазвонил.
- Алло. - Не было ничего в ее голосе - вообще никакой интонации.
- Добрый вечер. Это Эмма Ивановна Франк? - молодой голос. Хороший голос. Правда, немножко напряженный.
- Да. Эмма Ивановна Франк.
- Меня зовут Петр. Петр Ставский.
- Здравствуйте.
- Вам... простите, Вам случайно не рассказывали обо мне?
(Рассказывали! Конечно рассказывали! Много рассказывали. Какое счастье, что Вы позвонили. Приезжайте ко мне, иначе я умру сейчас. Вы единственный человек, который нужен мне в данный момент. Но-будь-осторожна. Что он имел в виду?..)
- Кто мог мне рассказывать о Вас?
-Один... один мой хороший знакомый, его зовут Станислав Леопольдович. (Но-будь-осторожна).
- Я не знакома со Станиславом Леопольдовичем.
- Наверное, это неправда, Эмма Ивановна.
- А почему Вы себе позволяете... Петр Ставский...
- Потому что я видел по телевизору вас обоих. Вы пели тирольскую песню... Дол зеленый - йо-хо, дол зеленый, йо-хо! Вы держались за руки. Вы знакомы со Станиславом Леопольдовичем. Молчание. - Эмма Ивановна, прошу Вас, не вешайте трубку! Послушайте меня, Вы слушаете?
- Да.
- Станислав Леопольдович... он сейчас где? Вы, может быть, знаете?
- Почему я должна знать?
- У вас телефон 203-38-88... это Сивцев Вражек... вы, стало быть, соседи.
- Соседи?.. А как Вы вообще узнали мой телефон? Кто Вам дал его?
- Я через справочную! По телевизору назвали вашу фамилию - и я... это просто, на самом деле.
- Если знать адрес - просто.
- А я сказал - Сивцев Вражек. Не знаю почему.
Внезапно Эмма Ивановна устала - ужасно, дико... до умопомрачения. У нее не было выхода - оставалось только поверить хорошему этому голосу. И она поверила - от усталости.
- Приезжайте ко мне, Петр. Станислав Леопольдович живет... жил здесь. Эмма Ивановна назвала адрес.
- Почему Вы так сказали - жил?
- Потому что я не знаю, что с ним... Приезжайте, у меня нет сил - по телефону. До свиданья.
Она села и заплакала. Петр приехал через полчаса. Было девять вечера.
- Почему Вы так сказали - жил? - спросил Петр с порога.
Эмма Ивановна рассказала ему о звонке с бульвара.
- Очень плохой звонок. - В вопросе Петра не было вопроса.
- Очень плохой звонок.
Они смотрели друг на друга. Смотрели долго, без интереса. Но увидели все. Она - обаятельного и сильно взволнованного юношу. Он - обаятельную и доведенную до отчаяния старушку.
- Вы красивая, - сказал он.
- Присядьте... куда хотите, - сказала она.
- Я присяду, спасибо. Нам трудно будет говорить?
- Только сначала. - Эмма Ивановна открыла дверь на балкон. - Очень душно. Вы... как живете?
- Спасибо. Я только что из Тбилиси. Несколько часов назад. Увидел дома передачу - и сразу позвонил. Но Вас долго не было дома.
- А что Вы делали в Тбилиси?
- Банк грабил.
- И что же - успешно?
- Вполне. Статья 206 прим. Штраф в размере двухсот рублей.
- Вы грабитель?
- Нет, филолог. А Вы та самая Прекрасная Дама?
- То есть?
- Ну... с которой Станислав Леопольдович жил... двести лет назад?
- Откуда вам это известно?
- Мне все известно. - Петр честно взглянул в фиалковые глаза.
- Ну и слава Богу, - вздохнула Эмма Ивановна.
- Я от Эвридики знаю, - уточнил Петр.
- А Эвридика это...
- Эвридика - моя невеста. Она тоже смотрела передачу. Она сразу позвонила мне после концерта. Кстати, Эвридика тоже знает эту песню... про дол зеленый, йо-хо. Правда, без слов - только мелодию. Эвридика не изучала немецкий. А мотив помнит с детства.
- М-да... - покачала головой Эмма Ивановна. - Я очень хотела бы поговорить с ней про дол зеленый... Со мной-то все понятно. Когда я была Клотильдой Мауэр...
- Простите? - переспросил Петр. И - привкус мяты: опять мята?
- Ну, раньше, давно, когда меня звали еще Клотильдой Мауэр... Почему Вы так смотрите?
Петр не понимал про Клотильду Мауэр. Он не понимал настолько сильно, что фиалковые глаза Эммы Ивановны сделались совсем темными и она спросила довольно сухо:
- Что Вас конкретно удивляет?
- Нет-нет, - сказал Петр. - Продолжайте, пожалуйста.
Но-будь-осторожна. Я буду, буду осторожна, магистр!
- А нечего продолжать! - со всевозможной беспечностью внезапно закончила Эмма Ивановна.
Петр не понял исхода. Но Эмма Ивановна уже молчала - и невозможно было представить себе, что она когда-нибудь заговорит. Петр так и спросил:
- Вы когда-нибудь заговорите или... или я сделал что-то не так? Но, поверьте, я не хотел. - От привкуса мяты сводило уже скулы.
- Дело не в этом, - вздохнула Эмма Ивановна. - Просто Вы сказали: "Мне все известно", - и я поверила вам. Но теперь я сомневаюсь в том, что Вам все известно. И не знаю, как быть.
- Значит так. - Петр закрыл глаза, чтобы собраться. - Я имел в виду восьмерки. Мне про восьмерки все известно. Эвридика...
- Восьмерки - это что? - испугалась даже Эмма Ивановна.
Теперь настала очередь Петра - замолчать. Теперь он смотрел на Эмму Ивановну темно.
- Кажется, мы говорим о разных вещах, - подытожила она. - Но, по-моему, об одинаково страшных, потому что... Я не знаю почему, у меня просто такое ощущение.
-У меня тоже.
Ситуация сделалась дурацкой: Эмма Ивановна и Петр опасливо поглядывали друг на друга. Не решаясь ни на что. Первым не выдержал Петр.
- Эмма Ивановна, может быть, мы расскажем друг другу все? Кажется, это единственный выход.
Но-будь-осторожна.
- Не знаю... Лучше дождаться его. Он скажет, как себя вести. Если... если вернется! - И - фиалковые слезы. Она вытерла их, эти слезы. Быстро и насухо. Спросила: - А Вы можете открыть мне вашу тайну только в обмен на мою? Дело в том, что я не уверена, разрешил ли бы мне Станислав Леопольдович... Это, в сущности, его тайна - во всяком случае, скорее его, чем моя. А у Вас тайна - чья?
Петр пожал плечами. Он не понимал, чья это тайна. Но едва ли тайна Станислава Леопольдовича.
- Я расскажу Вам все, - решился он.
И начал говорить. И по мере того, как говорил, фиалковые глаза отцветали. Они отцвели полностью, когда Петр закончил. Резко обозначились морщины на лице Эммы Ивановны - и стало понятно, что это очень старая женщина. Что она действительно старше Петра лет на двести.
Впрочем, сейчас он не думал о таких вещах.
- М-да... - сказала Эмма Ивановна. - Более чем двусмысленное положение. И более чем опасное. Никто не знает, что там взбредет в чужую голову. Но Станислав-то Леопольдович ждет опасности с другой стороны. Подозреваю даже, что об этой стороне он вообще не осведомлен.
- Ну уж как раз он... я хочу сказать, он мог бы раньше всех догадаться. Если учитывать некоторую... как бы это выразиться, полуреальность... Скажите, - словно опомнился вдруг Петр, - а Станислав Леопольдович пишет... писал книги?
Эмма Ивановна развела руками.
- Я, знаете ли, Петр, в общем-то недалекая женщина - и у меня короткая память. - Она усмехнулась. - Как, впрочем, почти у всех... у Вас, например. Но я к тому же еще недалекая женщина. Со мной он не говорил о своих книгах.
Петр не то кивнул, не то помотал головой.
- А почему Вас это интересует, - спросила Эмма Ивановна, - просто так или... или есть причина?
- Да неважно уже, - вздохнул Петр. - Было важно... раньше, месяца два тому назад, когда мы познакомились с ним. А Вы бывали в его квартире?
- Разве у него есть квартира?
- Была. Недалеко отсюда. В двух шагах.
- Вот как? Странно... Он никогда не говорил мне.
- Может быть, это не его квартира. Скорее всего не его.
Эмма Ивановна подошла к Петру, положила руку на его плечо.
- Вы простите меня, дорогой мой, если я обманываю Ваши ожидания... Мне и самой тяжело молчать - хотя бы потому, что я не знаю, как поступить. Но пусть уж Станислав Леопольдович сам расскажет Вам о том, о чем собирался, у него это лучше получится. И потом... он знает, а я только слышала. Впрочем, что-то надо немедленно решать. - Эмма Ивановна размышляла вслух. Сейчас, стало быть, за ним следит два... следят две... службы. - Она вздрогнула, найдя нужное слово. - И обе хотят с ним покончить. У него начнется мания преследования... две мании преследования. - Эмма Ивановна почти рассмеялась - нервно.
- Я ничего не знаю про ту службу... о которой Вы не решаетесь мне сказать, но эта служба... что ж, ее, по крайней мере, можно обмануть как-нибудь.
- Да, да, Петр! - Казалось, Эмма Ивановна уцепилась за удачную мысль. Там у Вас все же человек, человека можно обмануть, людей часто обманывают... Но как обмануть, Петр? Что сделать? Я готова, только... Вы должны мне посоветовать.
Теперь рассмеялся Петр.
- Милая вы Эмма Ивановна! Тут нельзя ничего советовать, тут каждый сам решает - и никому не сообщает о своем решении. Потому что эта система подслушиваний действует безотказно. Везде. Кажется, она подслушивает даже мысли. Так что решения следует принимать очень быстро - причем те, которые кажутся самыми дикими, самыми нелепыми: по-другому невозможно нарушить навязываемый ход событий.
Эмма Ивановна сжала голову ладонями и застонала почти:
- Ой, Петр, Петр... никаких диких мыслей не приходит на ум! Что же делать, миленький? Ах да... говорить же нельзя, я забыла. А за ним ведь сейчас уже охотятся - иначе его не предупреждали бы! Может быть, его даже... уби-и-или, - она закачалась в разные стороны, - или прямо теперь убива-а-ают. Убивают? - И Эмма Ивановна закричала в пространство: - Его убили, Петр, или вот-вот убьют!
- Есть у вас бумага и карандаш? Я все дома оставил, - быстро сказал Петр.
- Есть! - Эмма Ивановна спотыкаясь подошла к шкафчику, принялась искать. - Вот. А что Вы решили, Петр? Хотя... да-да, молчите, молчите, умоляю вас!
Петр что-то писал на листке - недолго. На короткое время задумался, встал. Прошелся по комнате. Эмма Ивановна стояла у стола увядшей такой фиалкой. А Петр остановился у двери на балкон.
- Я выйду покурить, можно? У меня привкус мяты во рту...
- Это я корвалолу напилась... Да Вы здесь курите!
- Не от корвалола... так уже было! Раньше... Я выйду все-таки. Он вышел на балкон и достал сигарету. Зажег. Посмотрел на улицу. Слегка повернув голову в сторону Эммы Ивановны, сказал: - Там листок на столе... прочитайте.
Эмма Ивановна потянулась за листком. На листке были цифры и что-то еще. Она взглянула на Петра - и увидела... увидела его в горизонтальном положении над перилами балкона.
- Петр! - крикнула Эмма Ивановна, все уже поняв, но успела сделать лишь один шаг к балкону. Над ним завис дымок и несильно пахло табаком. На улице было тихо.
- Петр выбросился из окна, - произнесла Эмма Ивановна и потрогала рукой сердце, выскочившее наружу и стучащее по платью. - Почему... выбросился... Петр? - Она задыхалась. Сердце грозило упасть на пол. Придерживая его, чтобы не упало, она дотянулась до телефона.
Взглянула на часы: одиннадцать. На улице уже может никого и не быть. Сивцев Вражек пуст вечерами. Набрала ноль-три.
- Человек выбросился с балкона.
- Фамилия?
- Немедленно приезжайте по адресу. - Она продиктовала адрес и уронила трубку. В трубке продолжали говорить. Потом трубка гудела, очень неприятно. Эмма Ивановна громко положила ее на место. Встала. Мир качался весь. Взяла записку Петра, долго читала короткий совсем текст:
"151-02-72. Эвридика Эристави. Позвоните сразу". "151-02-72. Эвридика Эристави. Позвоните сразу". "151-02-72. Эвридика Эристави. Позвоните сразу". 151-02-72...
- Алло. Эвридика Эристави?
- Да. Добрый... Добрая ночь.
- Это Эмма Ивановна Франк.
- Как? - опешила девушка.
- Эмма Ивановна Франк. Вы не могли бы сейчас прямо приехать ко мне?
- Куда?
Эмма Ивановна продиктовала адрес.
- Еду, - откликнулась Эвридика и опустила трубку. Спустя минут двадцать она уже вышла из такси в Сивцевом Бражке.
Дверь долго не открывали. В проеме еле держалась на ногах фиолетовая женщина-из-телепередачи. В облаке больничного запаха. Она почти упала на руки Эвридике. И заплакала - так тихо, что как бы и не заплакала. Эвридика стояла прямо и держала ее за плечи. Потом повела в комнату, усадила в кресло. Эмма Ивановна сидела, как посадили. Не двигаясь вообще. Не глядя на Эвридику. Не говоря ничего. Эвридика подняла листок бумаги около кресла. Прочитала. Почерк Петра. Позвоните сразу. Сразу - это когда? Сразу после чего?
- Там на улице - что, возле дома? - Голоса у Эммы Ивановны почти совсем не было.
- Я не понимаю Вас... Там ничего.
- Петр выбросился с балкона.
- Насмерть? - в голове у Эвридики стало пусто.
- Нет! - срочно солгала Эмма Ивановна. - Я уже позвонила в больницу. Его увезли на "скорой".
- Спасибо, - зачем-то сказала Эвридика.
- Вы сядьте, сядьте, - забормотала Эмма Ивановна. - Вы сядьте, девочка.
- Позвонить можно от Вас?
- Конечно.
Эвридика набрала номер. Долго ждала соединения. Когда соединение произошло, ровным голосом сказала:
- Преступник. - И трубку опустила.
- А-а, Вы туда... - догадалась Эмма Ивановна и слабо помотала чуть дрожащей головой. - Там не виноваты. Петр сам.
- Вы, значит, в курсе? - Эвридика присела на подлокотник, поближе к Эмме Ивановне.
- Теперь да. Мне Петр рассказал сегодня. Сейчас... - уточнила она, глядя, как в бинокль, в две фиалковые слезы.
- А СтаниславЛеопольдович... тоже уже?
- Он просто исчез за полчаса до звонка Петра. Я оставила его в очереди в булочной, а сама пошла чайник ставить. Дура.
- И я дура, - сказала Эвридика. - Надо было мне вместе с Петром к Вам идти. - Она долго молчала. - И Марк Теренций Варрон исчез. Это птица такая, синяя. Мы из Тбилиси вернулись, а его нет... Вообще-то, говорят, птицы целенаправленно не летают: зона-миграции и все такое прочее. Мы в самолете с орнитологом разговаривали.
Эвридика обняла Эмму Ивановну. Та пахла фиалками и корвалолом.
- Скоро и мы с вами исчезнем, - начала как бы утешать она старушку. Исчезнем или погибнем. Во-имя-общего-дела! - усмехнулась Эвридика, и ее передернуло. - Исчезнем-или-погибнем.
- Опять? - спросила Эмма Ивановна.
Эвридика пропустила это "опять" мимо ушей. И сказала:
- Надо куда звонить, чтобы узнать... о Петре?
- Как это называется... справки о несчастных случаях, вроде. У меня где-то есть телефон. Хотя, наверное, можно и в "скорую": они же забирали.
Эвридика взяла телефон на колени..
- Минут пять... или десять - подождите звонить. - Выслушайте меня, я постараюсь очень быстро. Выслушайте меня внимательно. И запомните все, что я скажу. Это, девочка, Вам нужно знать обязательно. Станислав Леопольдович благословил бы меня...
Телефон не зазвонил - он взвыл, взревел, как "скорая помощь", как пожарная машина, как милиция - как все сразу. Эвридика чуть не уронила аппарат с колен. Трубку взяла Эмма Ивановна.
- У Вас - что, не все дома? - почти что зло сказал уже знакомый ей очень низкий мужской голос.
- Не все, - громко ответила она. - У нас не все дома. Нет Станислава Леопольдовича и Петра!
Глава ПЯТНАДЦАТАЯ
А мир УЖЕ шумел
А мир уже шумел. Причиной же шума... Впрочем, разговор это долгий и начинать его придется издалека, сосредоточив внимание на том отрезке времени, который выпал из предшествующей главы. Теперь автору все чаще приходится делать не вполне понятные, наверное, читателю прыжки... события совпадают во времени, накладываются друг на друга, герои не хотят подчиняться, капризничают, м-да.
Сухими буратиньими шагами Аид Александрович возвращался домой, и - по мере того, как сухими буратиньими шагами Аид Александрович возвращался домой, - рассудок возвращался к Аиду Александровичу. Так, вместе с Аидом Александровичем, и рассудок возвращался домой - к маленькой старушке, носившей чай на подносике и любившей Аида Александровича. А маленькая старушка была когда-то давно прехорошенькой девушкой, еще раньше - тоже кем-нибудь была, правда, Аид Александрович никак не мог представить себе, кем именно, - тем более, что при нем никогда она не бредила, слава Богу.
А нянька Персефона и до сих пор - огонь. Деньги у буфетчицы украла чертову, между прочим, прорву денег... рублей пятьсот, не меньше. Смешная старуха, пламенная. Наверное, Жанна д'Арк в прошлом. Кто-любит-меня-за-мной!
До чего же приятно быть сумасшедшим... За поступки свои не отвечать: он-бежит-себе-в-волнах-на-раздутых-парусах! И как легко все сходит с рук: сумасшедший - что с него возьмешь? Я-тебя-сейчас-под-орех-разделаю-и-мне-нич его-не-будет... Глупый все-таки это был выбор: если уж идти в психиатрию так психом, но никак не доктором! Псих - это, по крайней мере, ярко. Я Наполеон. Почему-то чаще всего именно Наполеон. А что - очень продуктивная для психа фигура: маленький человек с несоразмерными замыслами... ходячее, так сказать, противоречие. Если придумывать психам символ, это непременно фигурка Наполеона.
Но ведь не каждый псих в прошлом - Наполеон: где ж взять столько наполеонов! Конечно, в состоянии бреда человек не обязательно сообщает, кем он точно был, но обязательно - кем он был в сердце своем. Интересный, между прочим, поворот: Наполеон и иже с ним как аккумуляторы человеческих желаний.
Однако вот я и дома. У подъезда - две темные фигуры, хохочут. Идут к нему навстречу: а-а, Рекрутов с лаборанткой - Оленькой, кажется.
- А мы Вас ждем - с отчетом! - прямо-с-ума-сойти! - это уже Оленька, тоже подшофе. - Мы, во-первых, в церкви венчались, а потом на защиту ходили в МГУ... филологическая защита - умрешь! Некто Продавцов Вениамин Федорович. Гениальную ахинею нес - про избыточность. Потом нас в милицию отвезли хотели дать пятнадцать суток за хулиганство, но отпустили.
- Со штрафом?
- Пустяки, - сказал Рекрутов.
- Издержки - за мой счет, - предупредил Аид Александрович, вынимая кошелек и по-царски расплачиваясь.
- Ни-ни-ни... - Пьяный Рекрутов отодвинул руку-дающего.
- Берите, Рекрутов. Деньги ворованные.
- Да ну? Тогда больше давайте.
- И так много даю, - отрезал Аид Александрович.
Рекрутов поделил ворованное на две части: одну часть Оленька взяла отнюдь не без удовольствия.
- А что у Вас, Аид Александрович? В смысле новостей.
- Все нормально. Ресторан и цирк. В ресторане кровавое побоище, в цирке - выступление с группой дрессированных собачек. Да, еще по Садовой гарцевали - на палочке верхом. Нянька Персефона - прелесть.
Утром как ни в чем не бывало Аид Александрович пришел на работу. Вахтер смотрел подозрительно:
- Вы, Аид Александрович, это... в порядке?
- В каком смысле? - невинно осведомился Аид Александрович.
- Ну... здоровы? - Вахтер смутился весь.
- Не вполне, - сокрушился Аид Александрович. - У меня сильное расстройство желудка. А у Вас желудок нормально функционирует? Не беспокоит?
- Да нет, спасибо, - обалдел вахтер.
С неделю Аид ходил подавленный. Никто не напоминал ему ни о чем: Аида явно избегали, стараясь не попадаться на глаза. Только развязный Рекрутов не стеснялся заглядывать к нему. Вот и сегодня...
- Ihre Konigliche Hoheit, - сказал он, отвесив грациозный поклон, - я хотел бы просить Вас о получасовой аудиенции.
- Будьте бесцеремонны, - посоветовал Аид Александрович и завалился в кресло. Рекрутов как мог завалился на стул.
- А Вам удивительно подходит титул, - польстил он. - Наверное, в прошлом Вы были королем. Или царем. Не припоминаете?
- Припоминаю, - буркнул Аид Александрович. - Во всяком случае, есть один свидетель, он утверждает, что я действительно Фридрих II, Великий. Только прошу Вас не расспрашивать меня ни о чем таком... это, видите ли, мое собачье дело, дорогой Сергей Степанович.
- Ну и ладно, - согласился Рекрутов. - Я тогда тоже не стану рассказывать Вам о моем прошлом, когда узнаю, - вот вам, Аид Александрович!
- Между прочим, - с некоторой уже серьезностью подхватил тот, -а что Вы сами о себе на сей счет думаете?
"Это мое собачье дело", - хотел огрызнуться Рекрутов, но не стал, а ответил - тоже уже вполне серьезно: - Видите ли... я не знаю такого состояния deja vu - можете себе представить? Оказывается, у всех было что-нибудь подобное, а у меня - никогда.
- Вас это беспокоит? - с улыбкой спросил Аид Александрович.
- Да. - Рекрутов сказал свое "да" почти обиженно и стал смотреть в окно.
- Сергейстепа-а-аныч! - позвал Аид. - Не горюйте, это ведь не у всех должно быть. И вообще... ничто не должно быть у всех сразу. Кроме того, есть ведь другая версия - более надежная, которая, я надеюсь, вам известна?
- Известна, известна, - пробубнил (вправду, кажется, огорченный) Рекрутов. - Это версия, в соответствии с которой воспоминания о прошлых жизнях объясняются тем, что в сознании человека смешиваются представления о прожитом и не прожитом, а только читанном, придуманном и так далее... криптомнезия. Скучная версия.
- Согласен, скучная. Но официальная.
- Ваша мне нравится больше.
- Да она не моя! Этой версии несколько тысяч лет.
- Как версии - да. Но вы же доказываете... Состояние бреда...
- Ничего я не доказываю, милый Сергей Степанович. Знаете, совсем недавно выяснилось, что и дневник, в общем-то, не мой.
- А чей? - обомлел Рекрутов. Аид Александрович пожал плечами.
- Не спрашивайте меня, Сергей Степанович, ни о чем, что касается этих дел. И, если хотите, примите один совет - примете?
- Приму. - Рекрутов окончательно перестал понимать Аида Александровича.
- Знаете, что... дорогой Вы мой коллега, не живите Вы так уж всерьез. Человек свободен лишь тогда, когда делает глупости ~ очаровательные непредсказуемые глупости, - вот такие, например...
Аид Александрович достал из портфеля бутылку явно-дареного-коньяку, очень импортного, взял со стола два стакана, налил по полному, потом подошел к окну и медленно, с глубоким-что-называется-чувством, вылил остальное на улицу. Оттуда полетели ругательства.
- Бранятся! - возмутился он. - Можно подумать, я им помои на голову вылил! Французский коньяк, между прочим... Наполеон! - Он перегнулся через подоконник. - Это Вам, - закричал он вниз, - для стимуляции мании величия!.. Здравствуйте. - Отошел от окна. Выругался. И пожаловался Рекрутову:
- Увидели меня, заулыбались, понимаете ли... Приветствовали. Рабы-с, Сергей Степанович, рабы! Я им всякую дрянь на голову - помои французские! а они приветствовать... Потому что это я сделал. А попробовал бы кто-нибудь другой - Вы или нянька Персефона... такой бы хай подняли! Рабы... Ну, что ж. - Аид поднял стакан. - За очаровательные глупости, а? Рекрутов кашлянул.
- Вроде нельзя на работе... Аид Александрович? Вы же никогда не позволяли себе... раньше.
- Раньше! - передразнил Аид. - Раньше я думал, что сам себе князь. А теперь, когда надо мной князь на князе и князем погоняет...
- Я не понимаю вас. - Рекрутов взглянул честными глазами. - И потом мне сегодня выступать. Встреча со школьниками московских школ... трансляция по телевидению. Я не буду коньяк... тем более столько.
- Вы должны хлопнуть этот стакан - весь. Не хотите за очарова-теяьные-непредсказуемые-глупости - давайте тогда за мое здоровье, Вам ведь мое здоровье дорого?
Рекрутов смутился. Аид был явно не в себе. Здоровьем спекулирует... странно.
- Ну, если пригубить только, - сбавил категоричности Рекрутов.
- Не пригубить, а стакан! - Аид категоричности не сбавлял.
- Но у меня же выступление!
- Тем более, милый человек! Явитесь туда - вдррабадан: наше Вам, дескать, с кисточкой! Выступление - подумаешь!.. У меня, вон, жена на сносях...
- Как, простите? - совсем потерял лицо Рекрутов.
- Так! Рожать скоро будем. Семерых. - Он сунул стакан в руки Рекрутову и произнес гипнотически серьезно: - Полный стакан, Сергей Степанович. По случаю беременности моей жены и позднего моего отцовства.
По такому случаю грех было не выпить - и Рекрутов, конечно, выпил... не веря, впрочем, ни одному слову Аида. Тот улыбался, как дитя, причем как не одно дитя - как несколько.
- Теперь идите встречайтесь со школьниками-московских-школ. Привет телевидению!
- Можно, значит? - усомнился Рекрутов. - Это ведь на полдня, но я Лену Кандаурову попросил за меня тут... с больными
- Да какие тут больные! - расхохотался Аид. - Тут их сроду не было. Я вот сейчас и Лену Кандаурову отпущу. Привет! - и он весело помахал Рекрутову.
Рекрутов вышел, имея в сердце страх - небезосновательный, кстати. Проходя мимо комнатки няньки Персефоны, заглянул к ней, спросил:
- С Аидом - что, Серафима Ивановна?
- Порядок! - засмеялась нянька Персефона, кушая гранат. Ну, если порядок...
На Шаболовке Рекрутов был уже пьян. Ну, не вдрррабадан, конечно, как обещал Аид, но все-таки... Однако встреча с московскими школьниками, старательно бубнившими наизусть явно-не-свои-вопро-сы, шла как по маслу.
- Сергей Степанович! - Хорошо отрепетированная девочка улыбалась во весь Союз Советских Социалистических Республик. - Как Вы думаете, сможет ли отечественная медицина добиться того, чтобы человек жил вечно?
- Отечественный человек или вообще человек? - слетел с катушек Рекрутов и сам не заметил как. Другие, впрочем, заметили...
- Вообще человек, - уточнила девочка-интернационалистка.
- А зачем тебе, чтобы он жил вечно?
- Ну как же... - Девочка облизала сразу высохшие губы, но нашлась: Это же так прекрасно - жить вечно!
- Прекрасно? - усомнился Рекрутов. - А мы и так живем вечно. И последние исследования, проведенные в нашей клинике, убедительно об этом свидетельствуют.
Кинокамера заплясала по стенам телестудии, по потолку: оператор, кажется, был опытным отечественным человеком.
- Простите-пожалуйста-не-могли-бы-Вы-рассказать-об-этом-по-подробнее, отбарабанил мальчуган, по-видимому, точно следуя предполагавшейся партитуре.
- С удовольствием, - обрадовался Рекрутов и начал рассказывать подробнее, прекрасно понимая, что делать этого не следует, поскольку права такого ему никто не давал. Однако же французский коньяк... Наполеон... для стимуляции-мании-величия, как говаривал Аид Александрович...
- Мы ведем - вот уже более тридцати лет - записи бреда больных, находящихся в состоянии глубокого шока. Изучая их речь, мы заметили интересные вещи. Многие из больных - почти все - рассказывают о событиях, которые просто не могли иметь место в их жизни: слишком уж давно события эти происходили. Представьте себе, например, человека, который в бреду сообщает новые подробности Отечественной войны 1812 года, причем подробностей этих вычитать негде... - И, стремительно трезвея, Рекрутов на память начал приводить примеры - много примеров, в частности пример с Эвридикой Александровной Эристави... Говорил он страстно - о душе, о духовной преемственности людей, о бессмертии, о многократности возвращений наших на землю. Едва лишь он сделал паузу, чтобы перейти к религиозно-философским системам греков и индусов, ведущая радушно произнесла:
- Благодарим-Вас-Сергей-Степанович-за-чрезвычайно-интересную-встречу. И - уже в камеру: - Наша передача окончена. До свиданья.
После этого на телевидении пустили чуть ли не двадцатиминутную музыкальную заставку на фоне чередующихся (неактуальных для весны) пейзажей.
Из студии Рекрутов выходил один. С ним даже не попрощались. Правда, кое-что все-таки ему было сказано. И поделом, кстати. А мир уже шумел...
И шумел Аид Александрович, вместе со всеми посмотрев в холле злополучную встречу-с-московскими-школьниками. Правда, шумел у себя в кабинете - одна только нянька Персефона его и слышала: под руку, что называется, подвернулась. А выходя из его кабинета, сказала у приоткрытой двери:
- Нашли кому довериться: Рекрутову! Лучше бы мне доверились: нешто я бы не поняла, что не один раз живем, - эка новость! Я про себя это самое, может, уж давно знаю!
И нянька Персефона гордо и очень плотно закрыла-за-собой-дверь. Идти к Аиду Александровичу, пьяному и в гневе, больше не захотелось никому. Кроме, оказывается, одного постороннего, по поводу которого заву позвонили по внутреннему телефону:
- Аид Александрович, тут просят разрешения к вам пройти. Старик-какой-то-очень-интеллигентного-вида.
- Пусть войдет.
Ну, началось, значит... И действительно началось. Старик представился Станиславом Леопольдовичем и продолжил:
- Я видел по телевизору передачу и сразу приехал к Вам.
- Сожалею, но я не имею к этой передаче ни малейшего отношения. Вам следует дождаться Сергея Степановича Рекрутова.
- Простите, это ведь Ваш сотрудник?
- Но он никогда не ставил меня в известность о своих изысканиях.
- Однако теперь, когда Вы видели передачу... Вас, что же, это совсем не заинтересовало?
- Ни в какой степени. Похоже, это заинтересовало Вас.
- Очень! - горячо согласился старик.
- Почему, позвольте спросить?
Ага-а-а, Аид Александрович!.. Врач-то в вас все-таки побеждает психа. Профессия, видите ли, великое дело!
- Почему заинтересовало? Потому что Ваш молодой коллега совершенно прав, - убежденно произнес посетитель.
И заинтриговал-таки Аида. Как автор, между прочим, и ожидал - не обманулся, стало быть, в своих ожиданиях.
- Вы присаживайтесь, - сказал Аид. - И разрешите спросить, чем Вы занимаетесь?
- Я тень, - с охотой и живостью отвечал гость.
- Очень интересно, очень и очень интересно! - Аид в минуту похудел и птичьими своими глазами вцепился в посетителя. - Станислав Леопольдович, кажется, Вы сказали?.. Значит, Вы, Станислав Леопольдович, тень. Оригинальное занятие. Расскажите, пожалуйста поподробнее, в чем оно состоит.
- У Вас тон очень психиатрический... Ну ладно. Всего несколько недель назад я мог бы легко доказать Вам, что со мной не нужно так разговаривать. Но теперь у меня нет доказательств, потому как я, кажется, больше не тень.
Так, агрессивность пошла, констатировал Аид Александрович, а вслух сказал:
- Что же случилось?
- Об этом есть смысл рассказывать лишь после того, как Вы поверите, что около двухсот лет я действительно был тенью. - Голос глухой, спокойный.
- Я Вам верю! - присягнул Аид.
- Все-таки психиатрический, крайне психиатрический тон... Впрочем, допускаю, что в заявление мое нелегко поверить нормальному человеку. Но Вы, пожалуйста, выслушайте меня. Sine ira et studio, так сказать.
- С превеликим удовольствием. Задержитесь только на минутку, можно? он набрал номер и попросил по внутреннему телефону: - Прошу вас, до моего распоряжения не впускайте ко мне никого, я буду занят с пациентом. - И обратясь к Станиславу Леопольдовичу: - Я весь внимание.
- Вы уверены, что я Ваш пациент? - улыбнулся Станислав Леопольдович. М-да... Ну тогда слушайте.
Рассказывал он вещи, не оставлявшие никакого сомнения в полном и застарелом его психическом расстройстве. Это была целая шизофреническая концепция - прекрасно, надо сказать, выстроенная на основе всего-навсего одной ложной мотивации: аз есмь тень. Под столом Аида Александровича бесшумно работал магнитофон: на кассету накручивался монолог посетителя самый потрясающий из тех, какие приходилось слышать заведующему отделением соматической психиатрии, который на сумасшедших собаку съел. А красивая, между прочим, концепция... поэтическая. Ничего удивительного: старик-то рафинированный, из недобитых. И древний очень, так что было, как говорится, время подумать. Schatten-Kultur, значит... А действительно, о тенях всерьез почти не задумываются. Вопрос, дескать, решенный. Как же решенный, когда вот сколько всего!
Станислав Леопольдович рассказывал, не останавливаясь: об Элизиуме, о порядках в "Атлантическом государстве", о своей многолетней работе. Наконец, о контактной метаморфозе - открытии, за которое его якобы наградили тенью-ордена. (Причем никакой тени-ордена... ни-тени-так-сказать-ордена на груди у старика не было!) Оказывается, сущность его открытия состояла в том, что при некоторой внешней стимуляции тень способна "материализовываться" в неотличимое от живых существо и даже создавать вокруг себя особого рода квазиреальное поле, то есть, попросту говоря, обстановку, на фоне которой данное существо удобнее всего воспринимать и которая добавляет происходящему реальности... Дальше шли какие-то немыслимые технические подробности - и в конце концов Аид Александрович понял, что речь идет о специфической разработке психологического навыка, известного под названием "выдавать желаемое за действительное". Специфика же состоит в том, что желаемое выдается за действительное не на словах, а материально - на деле, если угодно. Стало быть, достаточно живому человеку очень сильно захотеть встречи с тем, кого уже нет или еще нет, тень - путем исполнения контактной метаморфозы - может помочь ему в этом. Даже в случае, когда признаки "желаемого" не слишком хорошо осмыслены человеком, - правда, тогда и "действительное" оказывается несколько бледнее, не столь выразительным, как это-бы-нужно... Иными словами, контактная метаморфоза есть вид тончайшей духовной связи между человеком и тенью-оттуда: что, фигурально выражаясь, породил в душе своей, то и получай. И веруй в то, что кто-то опекает тебя, не дает тебе пропасть в мире эмпирических сущностей. Веруй в то, что не только они, эмпирические эти сущности, есть в мире, а и другое есть: высшее.
- Но обман же получается! - не выдержал Аид Александрович, на мгновение утратив психиатрическую дистанцию, и враз почувствовал себя самым одиноким стариком на свете.
Однако, по словам посетителя, обмана-то как раз и не получается. Какой же обман, когда действительно есть это высшее, когда действительно тень способна взять на себя заботу о человеке, опекать его!.. Правда, пока тени не делают этого, но, если оно в принципе возможно, почему бы не поставить перед ними таких задач!
Да он умница, этот мой сумасшедший... Жалко, пленка кончилась: записать бы его рассуждения о необходимости привить человечеству знание касательно многократности появления каждого человека на Земле - тоже посредством теней, которые должны осторожно воспитывать человеческую душу. Или вот рассуждение о гениальных догадках древних... Америка, Африка... индейцы, туземцы. Азия, особенно индусы: 550 рождений Гаутамы - 4 раза в виде Мага-Брамы, 20 раз в виде дэва Секры плюс обезьяна, слон, рыба, древесный дух... Древняя Греция четыре воплощения Пифагора, которые он помнил: Евфорб, Гермотим, петух, верблюд. Диоген Лаэртский - он помнил чуть ли не пять воплощений... Споры Гераклита с пифагорейцами... Платон и неоплатоники... "Гимны Орфея", орфико-пифагорейская традиция в "Меноне", "Федоне", "Федре"... Неосознанное знание. Древние евреи - "гилгул"... Библейские "перевоплощения" Адама в Давида и далее в мессию, Каина в Иофора, Авеля в Моисея... Раннее христианство... Манихеи. Средневековые несторианцы, друзы Гермонской горы, насаиры... Фурье, Сом-Дженинс... Отличие метемпсихозы от более культурных трансцендентальных теорий...
- Остановитесь, - сказал Аид Александрович. - Я сейчас умру.
- Ничего, - психиатрическим-тоном реагировал Станислав Леопольдович, это ненадолго... Китай, Египет, Silicernium, апостол Павел...
"Несчастный!" - подумал Аид Александрович, а старик рассказывал уже о последних событиях своей жизни - об "ученике", встреченном им на одном из московских бульваров, о некоей прекрасной-даме...
Аид Александрович почти вырубился (да простят мне читатели это слово) и очнулся лишь тогда, когда сумасшедший вдруг запел. "Что с ним?" - подумал Аид и наконец прислушался. Голос посетителя сильно изменился: стал он вдруг молодым и очень чистым. Перед Аидом Александровичем сидел тиролец в зеленых штанах до колен, в шляпе с перышком - и распевал тирольскую песенку со старинным рефреном "дол зеленый - йо-хо!". "Когда было это?" - подумал Аид Александрович и вспомнил внезапно: было. Давно было, никто не помнит уже точно, когда именно, но - было! Все вместе рас-пе-вали... Мир еще был молодым - и мы понимали друг друга и верили друг другу! Сколько лет этому человеку? Лет... двадцать. Он рассказывает о том, как пришел к какой-то девушке и объяснялся ей в любви, а она почему-то не хотела слушать. Почему не хотела?.. Какая глупая девушка и какой несчастный молодой человек! Он поет хорошо - про дол зеленый йо-хо! Разве можно его не слушать?
И, сам не заметив как, Аид Александрович был уже побежден врач-психиатр был побежден в нем, а остался молодой человек с пылающим лицом и густой шевелюрой, подросток... он раскачивался в такт песенке и подпевал бы, если б знал слова... Слов только не знал! Или знал?
Знал, конечно, и сейчас вспомнит: вот-вот... - Она опять называла меня "магистр", - рассказывал тиролец, - и каждый раз, когда она говорила "магистр", я чувствовал привкус мяты - знаете, холодок такой: прошлое! Доброе-старое-время! Уж не вернется больше, думаешь, как вдруг "магистр!"... и привкус мяты. И, верите ли, время перестало быть: орфизм, сами понимаете, Нестареющее Время... гениально, гениально! Время, значит, перестало быть: сколько нам лет, забыл, который век, который год, который час, забыл. О-то-не-соловья-то-жаворонка-пенье... И знал ведь, понимал ведь, что возмездие - будет, что я тень и, стало быть, права не имел! А сам смотрел на нее - и не исчезал, не исчезал - и все. Уже темно было, и она девочка совсем! - плакала: дескать, монтекки-и-капулетти - нам почему-то нельзя было быть вместе, а мы - были!
- Да, да! - подхватил Аид Александрович, нам с нянькой Персефоной тоже вместе никак нельзя, никак... а мы вместе! А нельзя...
- Можно! - гремел тиролец. - Можно! Всем, кто любит, со всеми, кто любит, - можно. Я тоже думал: нельзя, уходить надо, сжиматься в точку и лететь в царство мертвых, на Атлантиду лететь, а быть с ней, с девочкой этой, нельзя! Она молодая, у нее волосы совсем светлые, лен - висюлечки такие, сосулечки... И голос чистый - и из хора выбивается: "дол зеленый, йо-хо!", а я старый, мне далеко за двести лет, она не для меня. И все равно оставался, оставался, оставался. Пусть что старый, пусть, что мне далеко за двести, а у нее - дол зеленый, йо-хо! Она в халатике была легком, а тут скинула и говорит: "Ужинать не будем, не хочется. Раздевайся, магистр!" - и постель была уже постелена, и цветы голубые - мелкие-мелкие - на белье цвели: на простынях, на подушках... на лице у нее, на груди - повсюду. И она передо мною - нагая, совсем святая - стояла. Я помню только, что мне раздеваться нельзя, что я труп... холодный весь, ледяной, что и вообще-то нет меня. И что я ее заморожу, убью холодом своим - эту жизнь, эту былинку с дола зеленого! И тогда она вдруг говорит мне: "Господи, магистр, какой ты красивый! Ты самый красивый на свете и юн до неприличия. Как могу я так стоять здесь перед тобой, ведь мне за шестьдесят!" И я засмеялся в ответ, от того засмеялся, что она меня так обманывает: ей ведь не может быть за шестьдесят, она ребенок, маленькая совсем девочка... деточка! А она мне пуговицы на рубашке расстегивает. И я. понимаете ли, испытываю ужас: вдруг нет ничего под рубашкой, я ведь тень, я умер несколько столетий назад!.. Но вот как-то я разделся - и мне стыдно и страшно, что она ко мне сейчас прильнет - и все поймет наконец, и испугается, и погибнет. И точно: обняла меня, вздрогнула. как будто ножом ей в сердце ударили и жизнь ушла из нее. Чувствую, слабеет она у меня в руках, тело холодным становится - что делать? Сам-то я - совсем лед, холод елисейский, но нет... вот кровь ее словно в меня перелилась - и согревает меня. Я ее в постель уложил, руку хватаю: пульс слабый, сердце останавливается... Я трясу ее, и обнимаю, и целую: очнись. Кло, очнись! Аид Александрович поднялся и пошел к окну. Он не мог больше слушать его, этого сумасшедшего, этого безумца...
- Она умерла? - спросил, глядя в окно.
- Жива, - бесконечно усталым голосом сказал старик, - жива, слава Богу. Но так мы всю ночь друг друга из Элизиума вынимали: то она меня, то я ее, а когда уже светать начало, сил совсем не осталось: лежим, смотрим друг на друга и плачем. С тех пор я... все вернулось ко мне, понимаете, - жизнь вернулась! Сначала любовь, а потом жизнь. Но я ведь не за жизнью к ней приходил: я только сказать приходил... напомнить: дол зеленый, йо-хо! А она не только вспомнила про дол зеленый - она мне жизнь дала, девочка эта. От своей жизни кусок оторвала: возьми, дескать, - могу и всю отдать, но с тобой хочу еще побыть - хоть до утра, хоть час!..
Сказать Аид Александрович не мог уже ничего - он только кивал... часто-часто кивал.
- Теперь Вы верите мне? - тиролец опять превратился в нормального сумасшедшего старика. Аид Александрович молчал и не знал.
- Тогда позовите ее, она внизу, в холле. Пусть я, по-Вашему, сумасшедший, но она... когда Вы увидите ее, Вы поймете, насколько она не сумасшедшая. - Старик снял трубку внутреннего телефона, протянул ее доктору: - Эмма Ивановна Франк, Эмма Ивановна Франк...
- Алло, - сказал Аид Александрович, - пригласите пожалуйста ко мне девушку, которая дожидается в холле. Ее зовут Эмма Ивановна Франк.
И вот - вошла: пожилая женщина, спокойная и строгая. И спокойно улыбнулась сквозь строгость. Аид Александрович озадачился и не поверил:
- Вы - Эмма Ивановна Франк?
- Да. - Одними почти глазами - нездешними, лесными глазами: подснежник? фиалка?
- Садитесь пожалуйста, - привстал врач. - Аид Александрович Медынский. Завотделением.
И что-то случилось с глазами: они выцвели. Сразу и окончательно.
- Значит, это Вы и есть Аид Александрович Медынский. Понятно. Идем, магистр. - Эмма Ивановна поднялась.
- А в чем дело? Постойте!
Но они уже уходили. Аид Александрович бросился им наперерез, загородил дверь.
- Так в чем же дело, Эмма Ивановна?
- Наверное, Вам все-таки лучше пропустить нас, не требуя объяснений. Вам они могут не понравиться.
- Я приму любые, - буркнул Аид Александрович и обратился к одному только Станиславу Леопольдовичу: - Вы что-нибудь понимаете?
Но Станислав Леопольдович в союзники не пошел. Он только сказал: - Меня как будто не просят понимать. Я привык доверять Эмме Ивановне, мы с ней больше двухсот лет знакомы.
- Значит, Вы готовы принять объяснения, - усмехнулась Эмма Ивановна, не глядя на врача. - Было бы естественнее... в Вашем случае быть готовым их дать.
- Дать объяснения я тоже готов, - устал Аид Александрович, - но должен, по крайней мере, знать, каких именно объяснений от меня ждут. - Он сказал это мягко: ему нравилась пожилая чета - вопреки всему.
- Вы идете ва-банк? - невинно спросила Эмма Ивановна. - Понимая, что в любом случае можете упрятать в психушку нас обоих?
- Кло...- вмешался Станислав Леопольдович.- А ты... не слишком агрессивна?
- Нет, - просто ответила Эмма Ивановна. - Но этому не очень честному и, по-видимому, не очень порядочному человеку угодно играть в кошки-мышки. А я не хочу соглашаться на роль мышки в его игре.
- Знаете что, - Станислав Леопольдович немножко сконфузился смотреть на Аида Александровича. - Я уверен, Эмма Ивановна никогда бы не позволила себе, не будь у нее достаточных оснований...
- Я искренне верю, - искренне поверил Аид Александрович. - Но хотел бы все-таки узнать, каковы эти основания, - допускаю даже, что они достаточны.
- Значит, Вы склонны прибегнуть к данной стратегии. - Выцветшие глаза ее совсем утратили признак цвета. - Хорошо. - Она взглянула на Станислава Леопольдовича. - Видишь ли, магистр... Аид Александрович - это именно тот человек, который в первую нашу ночь позвонил мне... не знаю уж, откуда у него мой телефон, - и сказал, что ты сумасшедший, сбежавший из психушки, объяснил, как вести себя с тобой, и пообещал забрать тебя на машине обратно, едва лишь ты покинешь мою квартиру. Я поэтому еще тебя не отпустила никуда, хоть и поверила твоим словам окончательно гораздо позже... - Она презрительно взглянула на Аида Александровича. - В постели, с Вашего позволения. У меня - все. Очередь за вами, Аид Александрович.
- К счастью, я не стоял в этой очереди, - удалось все-таки сострить Аиду.
- Остроумно, - оценил Станислав Леопольдович. - И тем не менее...
Аид Александрович подошел к Эмме Ивановне почти вплотную: фиалка? подснежник? И перед лицом фиалки? подснежника? твердо произнес:
- Я никогда не звонил Вам, Эмма Ивановна.
Прошло время.
- Он не звонил тебе, Кло. - От голоса Станислава Леопольдовича вздрогнул даже Аид.
- Но ты же не слышал... - немножко сдаваясь, упорствовала все-таки Эмма Ивановна. - Мне представились: Аид Александрович Медынский, врач из Склифософского. Я отчетливо помню.
- Забудь, - сказал Станислав Леопольдович.
- Но почему?
Тот развел руками.
- Трудно объяснить... Аид Александрович не мог звонить. Это... как бы сказать, не вписывается в сценарий.
- В какой сценарий? Я не понимаю, магистр.
- В сценарий жизни, Кло. Есть такой сценарий. Но о нем ничего не знают живые. Только мертвые знают одни. - Он улыбнулся и прямо взглянул в глаза врача. - Инцидент исчерпан, Аид Александрович.
- Просто исчерпан - и все? - не поверил Аид. - Без выяснения того, кто же все-таки звонил в первый ваш вечер?
- Без выяснения. - Станислав Леопольдович поджал губы. - За нами подглядывают и подслушивают нас каждую минуту. Помнишь, Кло?
- Помню, - поежилась Эмма Ивановна. - Простите меня, Аид Александрович.
И тут Аид заплакал - может быть, в первый и в последний раз в жизни. Слезы текли обильно, но не было стыдно плакать! Он смотрел на двух этих святых, которые одним поступком только дали ему на старости лет самый, может быть, нужный урок - урок отказа от очевидного во имя Высших Соображений... туманных, но Высших. И тогда Аид встал, и обнял Станислава Леопольдовича, и плакать продолжал - у него на плече. Школьник. Дитя.
- Полно, - сказал Станислав Леопольдович. - Все в порядке.
- Все в порядке, - повторил Аид. - Я присягаю, что Вы в здравом уме.
- Ну... постольку-поскольку, - улыбнулся Станислав Леопольдович - и улыбнулась Эмма Ивановна, не в ответ на улыбку - сама по себе. - А исследования-то все-таки Вы вели, ведь правда? - Станислав Леопольдович подмигнул Аиду. - Во-первых, потому что ваш молодой коллега утверждал следующее: записи бреда делались в больнице тридцать лет. Не мог же он делать их с рождения - ему на вид не больше тридцати!
- И потом... он такой румяный ,- рассмеялась Эмма Ивановна.
- А во-вторых? - спросил школьник-Аид.
- Во вторых... - Станислав Леопольдович вздохнул. - Во-вторых, опять же противоречие - со сценарием. Это мы с вами, дорогой Аид Александрович, шли навстречу друг другу: Вы - отсюда туда, я - оттуда сюда. Из пункта А и пункта Б два пешехода вышли навстречу друг другу с одинаковой скоростью... С одинаковой, прошу заметить. А Ваш коллега слишком молод и ходит чересчур быстро.
- И румян, - напомнила Эмма Ивановна. - Мне даже показалось, что в чертах его лица нет никакой истории.
- Да, странное лицо, - согласился Станислав Леопольдович. Исключительно милое, но... странное. Нереалистическое, я бы сказал, лицо. А мы с Вами, Аид Александрович, - старые пешеходы.
- Может быть, и старые друзья? Или старые враги?
- Не припоминаю, - ответил Станислав Леопольдович. - Едва ли мы встречались раньше: мы ведь шли навстречу друг другу. Это, конечно, не исключает смежных витальных циклов, но исключает знакомство.
- Витальные циклы, - завороженно повторил Аид. - А я думал, что тени это античный миф. И никогда не видел связи между поведением тени во сне и после смерти. Теперь вижу: получается, что сон - это маленькая смерть?
- Именно так. И Ваша тень, как все другие, бывала в Элизиуме каждый раз, когда Вы спали или оказывались в полной темноте. Не случайно ведь темнота рождает страхи. - Станислав Леопольдович вздохнул. - Только человеку почему-то не полагается верить снам. Их рекомендуют забывать. Человечество преступно ведет себя по отношению к снам... А мы с Эммой Ивановной - в теперешнем ее витальном цикле - во сне познакомились.
- Стало быть, Станислав Леопольдович, Вы помните все свои витальные циклы?
- К сожалению, нет. Начиная только с восемнадцатого века - тогда я умер как ученый - незначительный один ученый - и тень моя в нарушение всех законов Элизиума бросилась назад, к живым, среди которых остался мой единственный ученик. С тех пор я не совершил больше ни одного витального цикла на земле. Я, видите ли, обрек себя на то, чтобы постоянно быть лишь тенью. Тенью Ученого.
- Тенью какого-нибудь конкретного ученого?
- Увы, нет. Родовой тенью. В иерархии елисейских теней родовая тень одна из начальных стадий эволюции конкретной тени. Сама же эволюция представляет собой постепенный отказ от индивидуальности, то есть забвение себя, или, иными словами, обобщение до предельно высокого уровня. На этом пути родовая тень - это, к счастью, не слишком далекий этап: стало быть, в какой-то мере мне удалось сохранить в себе индивидуальность, благодаря чему, собственно, я и помню прежние мои витальные циклы... правда, все-таки не слишком подробно.
- Что же, - заинтересовался Аид Александрович, - и тени великих людей подвергаются таким процедурам? Тень Дарвина, например... или тень Бетховена!
- Да, их тени тоже. Иначе, - улыбнулся Станислав Леопольдович, великие люди рождались бы чаще. Хотя... должен Вам сказать, что в подобных случаях отказ от индивидуальности может растянуться на несколько столетий. Например, до сих пор на все еще индивидуальном уровне в Элизиуме существует и Тень Бетховена, и Тень Эйнштейна... впрочем, Эйнштейн не слишком удачный пример, поскольку носитель этой тени совсем недавно закончил последний витальный цикл. Но, скажем, Тень Леонардо, Тень Монтеня... знаете, на самом деле, их не так уж и много - тех, чей отказ от индивидуальности трудно предвидеть даже в отдаленном будущем. В конце концов отказ, конечно, произойдет, поскольку лишь новые комбинации продуктивны. Останутся только черты сходства, на котором мы то и дело ловим знакомых и незнакомых нам людей...
- Тогда против чего же боретесь Вы, если сами признаете продуктивными лишь новые комбинации?
- Я не столько борюсь против, сколько борюсь за, - то ли всерьез, то ли в шутку откликнулся Станислав Леопольдович. - Во-первых, за то, чтобы отказ от индивидуальности происходил естественно... по мере роста самосознания тени, а не навязывался ей извне.
- Но тогда каждая тень захочет навсегда остаться индивидуальностью!
- О нет, - грустно покачал головой Станислав Леопольдович. - Сами посудите, насколько чаще люди сожалеют о, так сказать, напрасно прожитой жизни, чем приносят благодарность судьбе. А ведь тени гораздо умнее людей: они-то уж понимают, кто чего стоит!.. Да и людям - даже самым обыкновенным за миг до смерти это становится ясно.
- А во-вторых? - спросил внимательный Аид Александрович.
- Во-вторых, я борюсь за то, чтобы тени - как более мудрые - помогали жить все-таки глуповатым, согласитесь, людям.
Аид Александрович молчал: он был потрясен совершенно. И вдруг спросил робко и вместе решительно:
- А Бог - есть?
- Несомненно, - рассмеялся Станислав Леопольдович. - Но Бог - это явление уже другого, гораздо более высокого уровня.
Тут уж Аид совсем растерялся: для него Бога не было в этих построениях.
- Магистр, а я ведь спокойнее реагировала на Ваши слова, чем Аид Александрович! - улыбнулась Эмма Ивановна.
Станислав Леопольдович подмигнул ей, потом с тревогой взглянул на Аида.
- Вы постарайтесь, Аид Александрович, отнестись ко всему этому просто. Иначе... иначе с ума можно сойти, чего, собственно, и боятся в Элизиуме, даже на Атлантиде. Потому-то меня и преследуют как тень-нон-грата. Я слишком много напозволял себе.
- Вас могут схватить?
- Меня - не могут. Тень мою могут. Когда я сплю. Но я сплю теперь при полном свете и таким образом постоянно держу мою тень возле себя.
- А если отключат свет?
- Dum vivimus, vivamus!** - провозгласил Станислав Леопольдович. Кроме того, даже днем на минутку может случиться недостаток света... Будем надеяться, что они за этим не уследят.
______________
**Давайте жить, пока живем! (лат)
- Но предположим, они схватят Вашу тень - и что тогда?
- Я просто не проснусь больше, - спокойно прозвучало в ответ. - Но теперь это уже не страшно: сведения в надежных руках. И будут дальше распространяться - через надежные руки. Через Ваши, например.
- Да уж, - мрачно откликнулся Аид. - Более надежных рук нет. Особенно при моей теперешней репутации. Я ведь тоже, видите ли, в некотором смысле нон-грата... психиатр-нон-грата.
- Вы об этой передаче?
- Да нет, тут до передачи хватало. Пришлось на минуточку с ума сойти и... понравилось, представьте себе. На палочке верхом по Садовому скакал от погони уходил, королевских почестей требовал... в качестве Фридриха II, Великого!
- Почему именно Фридриха II? Случайно?
- А что?
- Да нет, ничего. Просто я жил в те времена. И Эмма Ивановна вот... жила. Тогда, правда, никому из нас - ни ей, ни мне - не приходилось бывать при дворе, но короля все очень любили. Сына его не любили - потом, после смерти Фридриха Великого.
- А меня так один мой знакомый назвал... странное существо. Впрочем, это уже глупая история.
Отчего-то замолчавшая незадолго до окончания разговора Эмма Ивановна вдруг вскрикнула.
- Что с тобой?
- Магистр, - совсем беззвучно сказала она, - у твоих ног две тени!
- Молчи ,- ответил он ей глазами, - я вижу.
Глава ШЕСТНАДЦАТАЯ
Как ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЕНИ
Автор представляет себе, что должен испытать читатель, пробегая последнюю строчку предшествующей главы, и поэтому смело вводит в роман еще одного героя, о котором можно было бы сообщить и раньше, поскольку появился он не сию секунду. Но роман - однолинейная последовательность знаков: тянуть две параллельные линии одновременно затруднительно... да и просто невозможно по причинам чисто техническим. Новые линии выплывают на свет по мере надобности. Которая как раз и обнаружилась.
Этот герой именуется Тенью Тайного Осведомителя. Его биографию приводить не стоит: слишком уж она длинна и неприглядна. Достаточно будет сообщить, что во всех своих витальных циклах носитель данной тени выполнял те самые обязанности, которые имя упомянутой тени и предполагает. А в том, что обязанности эти кому-нибудь всегда приходится выполнять, читатель, по-видимому, не сомневается. Правда, время от времени нас пытаются убедить, что всё, дескать, необходимость в подобного рода услугах отпала, но мы-то понимаем, не маленькие... А стало быть, наверное, и не удивляемся появлению этого самого героя, без которого, конечно же, не может обойтись ни один порядочный роман.
Так вот, в свое время (более точных временных характеристик в нашем случае не полагается) Тень Тайного Осведомителя получила от САТ (Совета Атлантических Теней, в последний раз напоминаю) так называемое спецзадание. Теперь о нем можно уже и объявить, потому что и так все понятно: следить за орденоносной и к тому же легендарной тенью - Тенью Ученого. Тени Тайного Осведомителя это льстило. Условия работы, конечно, были крайне неблагоприятными: Тень Ученого имела обыкновение материализовываться где попало и когда попало, вовлекая при этом в водоворот все новых и новых людей, - получалось, что за людьми, "соблазненными" ею, тоже приходилось следить и даже постоянно держать их, фигурально выражаясь, на крючке - иначе не было возможности вычислять траекторию движения основной фигуры. Вот Тень Тайного Осведомителя и следила за всеми, немножко себе полагая, что сама находится вне пределов досягаемости и даже периодически эдак поигрывая фигурами... фигурками.
Надо сказать, что Тени Тайного Осведомителя за довольно, в общем, короткое время пришлось обучиться нескольким весьма сложным и непривычным вещам, о которых до этого она вообще никакого представления не имела. В том числе и контактной метаморфозе - данный прием, кстати, отнюдь не был самым сложным из того, что пришлось освоить. Но об этом своим чередом.
Дни летели за днями, Станислав Леопольдович носился по городу Москве, все расширяя и расширяя круг знакомых и даже теперь уже друзей... Задание пришлось значительно усложнить: состав преступления Тени Ученого вырисовывался достаточно отчетливо. Настала-пора-брать. Нет, не так. Настала-пора-убрать. Что, вообще говоря, было и само по себе сложно, а тут еще возникли некоторые дополнительные и, как водится, непредвиденные обстоятельства.
Дело в том, что Тени Ученого удалось странным образом полностью изменить статус тени. Члены САТ ломали головы над тем, как это могло произойти. И получалось по всем законам, что этого никак произойти не могло. А происходило. Тень Ученого разгуливала по улицам в-и-д-и-м-а-я в-с-е-м... ладно, пусть так, это еще полбеды, поскольку никто вроде бы о теневой сущности ее не догадывался. Но она п-и-л-а! Е-л-а! Н-а-с-л-а-ж-д-а-л-а-с-ь ж-и-з-н-ь-ю!!! И даже... м-да. Она л-ю-б-и-л-а и б-ы-л-а л-ю-б-и-м-о-й...Ее называли "магистр"- и магистр этот проводил ночи в объятиях женщины, красивой женщины его возраста.
Иными словами, Тень Ученого взяла да и разрешила себе внеочередной витальный цикл, чего законодательством Атлантиды даже не было предусмотрено, поскольку вообще никогда не предполагалось. Ибо, повторяем, это не-воз-мож-но.
Донесениям Тени Тайного Осведомителя поначалу на Атлантиде просто не поверили. И смеялись над ними. Но нашли способ проверить (ибо на каждого тайного осведомителя всегда найдется свой тайный осведомитель). И проверили. И ужаснулись. Дело обстояло точно так, как докладывала Тень Тайного Осведомителя. Тогда члены САТ схватились за тени-голов и немедленно приняли поправку к законодательству (не к какому-то отдельному закону, а к законодательству в целом!). В соответствии с этой поправкой тень, противоправным путем осуществляющая витальный цикл (как внеочередной - так и очередной - это уж на всякий случай), должна была подвергнуться немедленному публичному рассредоточению.
Для Атлантиды данная поправка имела более чем серьезное значение: не хватало еще, чтобы на Земле появились атланты... это в двадцатом-то веке, да к тому же в конце его! Высоченные люди под четыре метра, производящие впечатление... ну, скажем, инопланетян!.. Способные лишь испугать благополучно деградировавших жителей Земли!.. Ни за что. Ни-ког-да.
Стало быть, в ближайшем будущем атлантическим теням - тем из них, которые любили острые-ощущения, - предстояло весьма и весьма поучительное зрелище: первое в истории острова публичное рассредоточение тени.
Правда, пока кандидат гулял по Москве. И Тень Тайного Осведомителя умоталась следить за ним. Взять же тень обреченного не было никакой возможности: он берег ее пуще глаза... пуще двух глаз, пуще тысячи глаз. И не только он, сумасшедшая его возлюбленная - тоже. Может быть, даже она-то в первую очередь. Об этом сам кандидат и не догадывался, но Тень Тайного Осведомителя знала все. В частности то, что Эмма Ивановна Франк вообще не спала с некоторых пор. Человек не может не спать вообще. Опыты доказывают: длительная депривация сна неосуществима. Даже рекордсмен мира Ренди Гарднер - и тот не сумел провести без сна более одиннадцати суток, его рекорд - 264 часа 12 минут... "Это победа духа над материей", - сказал он на последней пресс-конференции, проводившейся к исходу одиннадцати суток. Вот как.
Эмма Ивановна Франк не спала пока девять суток. Ждать оставалось недолго - максимум двое суток... с учетом, разумеется, того, что она не Ренди Гарднер, которому тогда было семнадцать, извините, лет, а очень уже старая женщина. Победить такую материю может только недюжинный дух. Но победа в любом случае не будет окончательной... Вам есть чего дожидаться, Тень Тайного Осведомителя. Ждите - и Вы дождетесь.
Читатель, конечно, догадался уже, что Тени Тайного Осведомителя известно об изложенных ранее событиях ровно столько же, сколько и ему. Читатель, конечно, понял и то, что именно Тень Тайного Осведомителя была второй тенью, которую бедная Эмма Ивановна Франк заметила в кабинете Аида у ног магистра. Она и не подозревала, что бессонными своими ночами защищает сонного своего Станислава Леопольдовича не от какой-то абстрактной, а от вполне конкретной опасности. Милая, милая Эмма Ивановна Франк! Станислав Леопольдович знал имя этой опасности уже более двух месяцев... он щадил Вас, Эмма Ивановна Франк.
- Что это за тень? - спросили Вы у него, выходя от Аида Александровича.
- Заблудшая какая-нибудь, так часто бывает, - беспечно отвечал он.
И Вы успокоились на несколько минут. И Вы даже оставили его одного в булочной: до вечера-то было еще далеко...
А потом - самоубийство Петра, едва не стоившее Вам жизни, приезд и отъезд Эвридики; и вот опять обступили вас прежние страхи - за него, которого не было уже рядом, но который, может быть, еще все-таки был! И пахло в квартире фиалкой и больницей, и Вы, почти сойдя с ума, рассматривали тени в ярко освещенной комнате, сопоставляли их с предметами, чуть ли не линейкой вымеряя величину тех и других.. . Прекратите, Эмма Ивановна, на это больно смотреть. Тем более что Станислав Леопольдович...
Станислав Леопольдович с вороном под мышкой и в сопровождении Тени Тайного Осведомителя метался по вечереющим улицам. Сопровождающий сопровождал исправно. Ворон молчал. Деться было некуда. А впрочем... Станислав Леопольдович нашел телефонный автомат.
- Здравствуйте, простите, Петр не вернулся из Тбилиси?
- Добрый вечер, вернулся... Но уже опять исчез куда-то.
- Спасибо.
Что делать, что делать...
Измученный старик еле волочил ноги. Но ведь куда-то же они его вели - и надо было только послушаться их. Только послушаться, Станислав Леопольдович... Они сами приведут Вас, вперед!
Впереди обозначилась цель. Цель называлась "Зеленый дол". Ребята же отправились туда, пока он с Эммой Ивановной ехал к Аиду! "Зеленый дол" приглашал его ослепительным светом. Бегом! Правда, ворон под мышкой... Однако, кажется, он спит. Ну и нервы у этой птички! С опаской поглядывая на совсем бледную свою тень и на вторую - отчетливую, черную, словно питавшуюся соками первой, Станислав Леопольдович прямо-таки ворвался в гардеробную, часто и тяжело дыша... умирая.
- Здра-а-а... - растворился в улыбке Иван Никитич, но тут же и кристаллизовался: - Что с Вами?
- Ничего-пустяки-задохнулся-немножко...
В гардеробной совсем мало света. Здесь нельзя оставаться. А ребята играют "Жизнь-в-розовом-свете"... просто играют, никто не поет; и так близко играют!
- Вообще-то, как здоровье у вас? - Иван Никитич закуривает: разговор, видимо, предполагается долгий.
- Спасибо-не-жалуюсь.
Тут и ускользнуть бы в зал совсем уже бледному Станиславу Лео-польдовичу, но радушный-хозяин только разговорился... все еще нет бруфена, а ноги-то болят, о чем они там себе в аптеках думают, надо ведь закупать лекарства, передохнем же все как мухи без бруфена, или бы свой выпустили, отечественный...
- Бруфен должен быть! - слабым голосом заклинает непонятно кого Станислав Леопольдович - может быть, того, от кого и не зависит, чтобы в аптеках был бруфен... А в голове у магистра туман, но надо дать договорить Ивану Никитичу, с ним никто не разговаривает, и Иван Никитич все время торопится успеть сказать как можно больше, как можно подробнее и как можно интереснее - про суть жизни своей, про главную заботу свою: "Бруфен".
Тогда над головой Станислава Леопольдовича начинает кружиться огромный самолет... авиалайнер, на серебряном боку которого ослепительными голубыми буквами написано "BRUFEN"... это какая-то могучая авиакомпания подняла в воздух самую безнадежную, самую прекрасную мечту человечества... но самолет опускается все ниже, он ревет - и в реве его тоже отчетливо слышится "бррруфен", "бррруфен", "бррруфен"... вот он начинает гоняться за Станиславом Леопольдовичем по бескрайнему зеленому лугу, и пилот смеется в иллюминаторе, вытягивает губы трубочкой и быстро раздвигает их... что он говорит?.. а-а-а, "Бруфен!" - вот что он говорит, пилот этот... ну конечно, сразу нужно было догадаться, и тогда Станислав Леопольдович зажимает уши и кричит изо всех сил: "Бру-у-уфе-е-ен!" - и видит, что это не самолет, а космический корабль - все с тою же ослепительной голубой надписью на боку... и корабль стремительно уносится вдаль, превращаясь сначала в крохотную белую таблетку, а потом исчезая и вовсе.
"Как? - ужасается Станислав Леопольдович, возвращаясь к реальности. Неужели Иван Никитич все еще говорит?"
Кончается жизнь, сейчас кончится, но старика надо дослушать: должен ведь он дослушать его хоть когда-нибудь!..
- Короче, Склифософский! - раздалось вдруг из-под мышки Станислава Леопольдовича.
Собеседники вздрогнули оба.
- С нами крестная сила! - Иван Никитич спрятался среди одежды.
- Аминь, - важно произнесла птица.
А Станислав Леопольдович, воспользовавшись моментом, пробормотал:
- Не пугайтесь, это просто ворон говорящий! - и при последнем отсвете из окна, собрав все силы, скользнул в зал, на стенах которого плясали огромные тени танцующих - теперь уже быстрый какой-то танец.
Станислав Леопольдович отдышался и пошел к сцене. Ребята, увидев его, врубили-на-полную-громкость, Володя помахал частью-удар-ного-инструмента, магистр хотел ответить, но полную-громкость перекрыл вдруг вклинившийся в бесконечно малую паузу нечеловеческий вопль:
- Das darft nicht mehr vorkommen!**
______________
**Чтоб этого больше не было! (нем.)
И через весь зал, хлопая крыльями, огромный, как тот самолет, что гонялся за Станиславом Леопольдовичем, полетел на сцену великолепно-голубой ворон. Он опустился прямо на плечо Павлу, который чуть не выронил гитару, и еще громче возопил:
- Paul, lieber Freund!**
______________
**Пауль, дорогой друг! (нем.)
И Павел выронил-таки гитару.
А ворон перелетел на микрофон, примостился и довольно спокойно принялся разглядывать обалдевшую публику.
- Это говорящий ворон. Из цирка, - представил птицу Станислав Леопольдович, добравшись наконец до сцены.
- А пусть он поговорит! - крикнул кто-то, и посетители кафе зааплодировали.
Не дожидаясь повторной просьбы, ворон заговорил по-немецки - бодро, оч-чень бодро. Но, видимо, все-таки не вполне осмотрительно, поскольку одна юная особа возле сцены прыснула, заговорщически взглянув на Станислава Леопольдовича.
- Это вы его научили? - весело спросила она.
- Нет, что вы... - Станислав Леопольдович выглядел бы совершенно невинно, не будь он так пунцов. - Какие-то гастролеры из Германии, причем... Западной.
Присутствовавшие, разумеется, ожидали развязки.
- Я не могу перевести, - обманула ожидания совсем-юная-особа. - Это... это на средневерхненемецком, мне трудно. Баварский диалект.
- А чего же ты смеешься тогда? - спросил кто-то.
- Потому что... потому что, - валясь уже с ног от смеха, в то время как ворон еще продолжал свою речь, призналась особа, - это абсолютно неприлично! Вообще за гранью всего!
Посетители захохотали и заприставали к особе, а Станислав Леопольдович тем временем поклонился публике, осторожно снял с микрофона только что умолкшего ворона и подошел к Аллочке:
- Бес, в репетиционной включен свет?
- Не знаю, а что случилось, магистр? Вид у Вас какой-то...
- Включите там, пожалуйста, все что можно. Пусть будет даже слишком светло.
Бес подошла к микрофону:
- Просим извинить, у нас перерыв.
Потом занялась репетиционной.
- Кажется, все хорошо, магистр. Входите.
- Спасибо. - Станислав Леопольдович исчез за дверью.
- Что-то с магистром, - наклонилась Бес к Павлу. Доиграли номер.
- К Вам можно? - И в репетиционную вошли все. Магистр сидел прямо и тихонько поглаживал ворона. Авоська с хлебом лежала на полу, у ног.
- Видите ли, - голос звучал тревожно, - меня, кажется, надо спасать...
- От кого?
Станислав Леопольдович кивнул в сторону стены. У стены никого не было. Он огляделся.
- Тесновато тут... Вы идите, продолжайте. Когда кафе закроется, я покажу вам одно интересное оптическое явление. Но в зале: там оно лучше наблюдается.
Играли наспех, совсем подавленные. Казалось, что конца не будет этому вечеру. Наведывались в репетиционную: Станислав Леопольдович так и сидел, как оставили. И тихонько поглаживал ворона. Но вот собрались в опустевшем зале.
- Рассаживайтесь на эти стулья. - Магистр поставил стулья вдоль стены. Вышел на середину зала.
Теперь он стоял один и кивал в сторону свободной стены. На свободной стене были две большие тени: одна из них в точности воспроизводила фигуру Станислава Леопольдовича, а вторая... Вторая была вообще непонятно чья. Сначала никто не обратил на нее внимания, но вдруг как-то сразу заметили все. Сделалось жутко. В полной тишине ворон хрипло произнес:
- Niemand***.
______________
***Никто (нем.)
И от плоского этого имени все вздрогнули,
- Как же... - пролепетала Бес.
Усталым, но ровным голосом Станислав Леопольдович проговорил:
- Наверное, нет смысла рассказывать: получится долго. Но поверьте мне на слово: это значит, что за мной следят. Может быть, меня хотят убить... то есть меня точно хотят убить. Неподвижная тень шевельнулась и снова замерла.
- Вот видите!..
- Как могут убить Вас? - глухо спросил Женя. - Кто?
- Чья это тень? - Стас озирался по сторонам.
Но стоял в зале один только человек, Станислав Леопольдович. Остальные сидели.
- Это ничья тень, - вздохнул Станислав Леопольдович. - Просто тень. Она преследует меня давно. Месяца три.
- И что же делать? - У Стаса был совсем уже сдавленный голос.
Станислав Леопольдович пожал плечами.
- Я сейчас свет выключу! - вскочил догадливый Павел.
- Ни в коем случае! - почти крикнул Станислав Леопольдович. - Они ведь только этого и добиваются. Но я... поверьте, мне мучительно пускаться в объяснения.
Сергей со всего размаха швырнул в тень банку из-под сардин, служившую пепельницей. Банка тупо ударилась об стену и упала, слабо грохнув. Тень не шелохнулась. Долго молчали.
- Вам страшно, магистр? - наконец спросила Бес.
- Да нет... Мне Эмму Ивановну жалко. Если со мной что-нибудь случится... Я просто совсем не знаю, как быть. Знаю только одно: мне категорически нельзя находиться в помещении, в котором мало света, - упаси бог хоть на секунду лишиться тени.
- Так это просто сделать! - воскликнул Павел. - Мы будем постоянно держать очень сильный прожектор!
- Постоянно? - усмехнулся Станислав Леопольдович. - М-да... А мне остается при прожекторе день и ночь находиться. Ничего себе жизнь, полноценная...
- Это выход на пока. - Павел включил прожектор. Света стало много: тени проступили совсем отчетливо.
- А сейчас мы все начинаем думать. И мы что-нибудь придумаем! - Володя надеялся, что голос его прозвучит более оптимистически. Но голос прозвучал испуганно.
И задумчиво сказала Бес:
- Нахальная какая тень.
Это было чистой правдой, от которой сделалось уже просто плохо.
- А я знаю, что предпринять. - Все обернулись к Сергею, доселе молчавшему. - Надо сфотографировать тень.
- Зачем, Сережа? - Станислав Леопольдович бочком присел на край стула. Теперь все они сидели рядом. Тень стояла напротив точно по центру.
- Ну как же... опубликуем фотографию!
- Не то, ребята, не то... Она может принять любой образ. Или все время уходить от фотоаппарата. Наконец, вообще не проявиться на пленке. Не то.
Павел поднялся, быстрыми шагами подошел к стене. Провел по тени рукой. Часть тени легла на ладонь Павла. Он отдернул руку.
- Может, попробовать это... ну, как его... театр теней? - Сергей подошел к Павлу.
- То есть? - Павел рассматривал руку.
- Воздействие тени на тень... - Сергей не мог объяснить как следует: он походил по залу, наблюдая за передвижением собственной тени, выбрал такое место, с которого тень его выглядела вровень с тенью незнакомца. И вдруг сделал резкий выпад кулаком в пространство. На стене получилось вот что: одна тень ударила другую.
- Прекрасно! - закричала Вес: тень незнакомца пошатнулась и ушла в сторону. Бес выбежала на середину зала. - Вот тебе, вот, вот, вот!
Тени кулачков ее забарабанили по голове тени. Та переметнулась на потолок.
- Стоп! - сказал Павел. - Я сейчас, подождите меня! - и он быстро зашагал к двери.
В это время Стас взял длинную палку - она стояла в углу - и решил, видимо, попытаться имитировать удары. Но палку никак не удавалось разместить в пространстве. Наконец тень палки приблизилась к тени незнакомца на потолке. Стае размахнулся - и тут произошло нечто несусветное: тень незнакомца протянула тени рук к тени палки и схватила ее за два конца. Тени рук соединились, словно ломая палку, - и в ту же секунду раздался треск: палка в руках Стаса переломилась пополам. Тот вскрикнул и выронил половину, оставшуюся у него.
Ужас был на всех лицах. Бес прижалась к Жене. Станислав Леопольдович ударился головой о стену и вдруг захохотал - сухо и страшно.
- Довольно, магистр, - шепотом взмолилась Бес.
Хохот перешел в кашель, остановить который Станиславу Лео-польдовичу удалось лишь колоссальным усилием воли.
- Что это было? - Стас, вытирая лоб, смотрел на обломки.
- Я не знаю, - сипло сказал Станислав Леопольдович. - Такого мы не проходили!..
И взвился с рук его под самый почти потолок ворон, и принялся выделывать в воздухе невероятные какие-то кульбиты. Все смотрели не на него, а на потолок, где происходила схватка тени птицы с тенью человека. Тень птицы налетала на тень человека, клевала ее, била тенью крыльев, царапала тенью когтей... Тень человека увертывалась, тени рук норовили схватить тень птицы за горло. Тень птицы не давалась, все возобновляя и возобновляя отчаянные свои нападки - казалось, с разных сторон одновременно. Тени перьев носились по потолку, а сами перья кружились над головами сбившихся в кучку ребят. Вдруг птица захрипела, перевернулась в воздухе и почти без стука упала к ногам Станислава Леопольдовича. Тот наклонился к ворону, поднял, прижал к себе. Полузакрытые пленкой глаза птицы редко вздрагивали... Но оклемался ворон в руках Станислава Леопольдовича и снова уже рвался из рук, трепыхаясь и вереща.
- Да что же это такое! - Бес схватила со сцены гитару, выдернула провод и начала с дикой скоростью крутить ею над головой. Страшная тень металась по потолку, но тень гитары словно взбалтывала пространство зала, образуя громадную воронку, выскочить из которой было невозможно. С закрытыми глазами, вся взмокшая, сосредоточенная Бес месила воздух - и вдруг... Тень незнакомца обмякла и стала медленно сползать по стене на пол. Темное пятно растеклось по паркету.
- Я убила ее, - нечеловеческим высоким голосом произнесла Бес и рухнула с гитарой там, где стояла.
- Бес! - закричал Женя и принялся шлепать ее по щекам. Но она пришла уже в себя и трясла головой, ничего, кажется, не понимая. Потом вскочила и бросилась туда, куда сползла со стены тень. Тени на полу не было.
- Кто-нибудь видел ее? - тревожно спросила Бес.
Не видел, стало быть, никто. Все обернулись к Станиславу Лео-польдовичу.
Он сидел на стуле, стиснув в руках ворона, и тускло смотрел прямо перед собой.
- Станислав Леопольдович, - тихо позвал Павел.
Тот вздрогнул, а ворон, почувствовав послабление, сделал сильный рывок и ринулся прямо в открытую форточку.
- Фредерико!.. - простонал старик. - Фредери-и-ико...
Его обступили, Бес протянула стакан с водой. Пить он не мог. В зал с длинной спортивной рапирой вбежал Павел.
- Ушла?.. Эх, вы! - и швырнул рапиру на пол. - Я же просил... я же вам сказал: "Стоп!", - ждать надо было, понятно ведь, чем это все могло кончиться! Я бы уничтожил его - просто заколол шпагой... А теперь - что?
- Не волнуйтесь, Павел. - Станислав Леопольдович держал стакан в вытянутых руках. - Он придет еще. Ему поручили убить меня.
- Почему же он не делает этого, магистр? В сущности, убить Вас - пустяк для него... после всего, что мы видели. Тут не то, ему не надо вас убивать. - Бес опустилась перед Станиславом Леопольдовичем на колени. Выпейте воды, милый человек, ну... немножко... вот так, хорошо. - Она забрала у старика стакан и поцеловала совсем приунывшего магистра в макушку.
- Может быть, Вы и правы. Даже скорее всего - Вы правы. Наверное, ему поручено неотступно следовать за мной, идти по пятам, а случись какая-нибудь оплошность с моей стороны - препроводить... куда надо. Убьют, конечно же, они меня сами.
- Кто они, магистр? - спросил Стас.
- О-хо-хо, дорогие мои... Это такая темная история! Такая старая и такая темная, что вряд ли стоит сейчас начинать. Вам уже по домам пора, поздно. Вы видите... тут ведь светло, как днем: я вполне пересижу остаток ночи, а утром решим что-нибудь. Сейчас-то он уж точно не вернется: Бес с ним основательно поработала. Спасибо вам... спасибо, Бес! Привет!.. - И кивнул всем.
- Я с Вами останусь, можно? - попросила Бес. - У меня, тем более, дома нет никого. Мама с папой в Коломне, у бабушки. Я Вам не помешаю?
- Да нет, Бес, - заулыбался Станислав Леопольдович.
- И мне домой не хочется, - сказал Женя, подмигивая Бес. - Не возражаете?
- Этого я и боялась, - развела руками Бес. - Женя не даст мне возможности остаться на ночь с другим мужчиной...
- А домой уже все равно поздно ехать. Я позвоню и скажу, что ночую у Павла, я так делаю иногда. - Это был Сергей.
- Знаете что! - взбудоражился Володя. - Вы тут все остаетесь, а мне ехать? Я тоже лучше позвоню.
- Тогда я пошел за термосом и за поесть-чего-нибудь. - Павел жил в двух шагах от "Зеленого дола". - Рапиру оставлю, пожалуй: на случай проколоть кое-кого.
- Хорошая у вас компания собирается, - оценил Стас. - Грех из такой уходить.
"Зеленый дол" из "Зеленого дола" опять был в полном составе. Станислав Леопольдович поднялся и мокрым голосом сказал:
- Я... я не знаю, как мне благодарить, когда, кажется, не надо благодарить... Я все вам расскажу - все как есть. Одну большую страшную правду - и веселую правду, вам надо это знать, обязательно надо знать!
- Не волнуйтесь, магистр. - Бес окинула взглядом зал. - Сейчас мы тут устроим что-то вроде клуба.
И они все вместе быстро переоборудовали помещение. Бес нашла даже какую-то еду: завтра-расплатимся, поставила на сдвинутые столы тарелки, положила вилки и ножи. И немножко вина нашлось, и бокалы к нему.
- Вот уж не ожидал, - приговаривал Станислав Леопольдович. - Как хорошо стало, как уютно!.. Сергей с Володей собрались звонить.
- Эмме Ивановне позвоните, - попросил он. - И скажите ей, что со мной все в порядке, раз у меня такие защитники. Только не сообщайте ей о том, что случилось здесь, она нервная очень, ей нельзя.
Через несколько минут Володя уже докладывал Станиславу Леопольдовичу о разговоре с Эммой Ивановной.
- Она нормально отнеслась ко всему, магистр. Правда, просила разрешения сюда приехать... мне, в общем-то, удалось ее уговорить остаться дома - не знаю только, надолго ли. Голос у нее очень встревоженный, так что, может быть, и ненадолго. Надо будет попозже еще раз позвонить, я обещал.
Скоро все уже сидели за столом. Павел принес огромный термос с горячим кофе и еще целую пачку молотого кофе. Откуда-то набралось много еды. Есть никому не хотелось. Так и не притронулись ни к чему, пока Станислав Леопольдович рассказывал. А рассказывал он долго и страшные сообщал сведения, страшные...
- Вот оно как, дорогие мои... Это почти все. - Магистр откинулся на спинку стула, закрыл глаза. Бес трясущимися руками разливала кофе по чашкам. - Почти... потому что одно открытие я сделал только сегодня чудовищное, надо сказать, открытие. На фоне этого открытия тень-ордена, врученная мне, выглядит просто издевательством. Дело в том, что САТ давно уже, по-видимому, располагает самой совершенной формой контакта теней с людьми - прямым контактом. Елисейская тень или по крайней мере атлантическая может вызывать изменения в мире путем взаимодействия с тенями живых. Мне непонятен этот механизм... Но палка сломалась! И Фредерико чуть не погиб... Стало быть, в руках САТ - страшное оружие. Попытайся они воспользоваться им более, что ли, масштабно - сами понимаете, чем это грозит. Кстати, я не уверен, что информация об изобретении прямого контакта есть у рядовых теней Атлантиды... скорее всего, они пребывают в блаженном неведении. Надо как-нибудь сообщить им об этом, но я уже не могу.
- Почему? - вопрос был задан чуть ли не хором.
Станислав Леопольдович привел перевернутую чашку с кофейной гущей в нормальное положение и разглядывал темные фигуры на ее стенках.
- Я потерял ощущение тени. Теперь, как и все вы, я не мог бы уже отвечать за то, что делает моя тень, пока я, допустим, сплю. Правда, сплю я при свете и не даю моей тени повода ускользнуть на Атлантиду - иначе ее рассредоточат... А мне еще немножко рано. - И он улыбнулся, вконец измотанный этот человек.
Был второй час ночи. Все молчали - и понимали молча, что в жизни каждого из них произошло событие, которое отныне и до самой смерти (дольше, дольше!) будет определять их поведение. Теперь они отличаются от прочих смертных - и нет больше среди людей подобных им... Они стая, предводительствуемая умирающим вожаком по имени Станислав Леопольдович.
- Как ваша фамилия, Станислав Леопольдович? - спросила вдруг Бес.
- Не знаю, - ответил тот. - Кажется, у меня нет фамилии. У меня и имя-то не свое: придуманное какое-то имя. Кстати, не слишком удачно придуманное.
Бес подошла к нему, обняла.
- А скажите, магистр, вероятность прямого контакта атлантической тени с тенью живой - она действительно уже реальна? Вы думаете, САТ может решиться на какие-то действия в ближайшем будущем?
- О-хо-хо... - вздохнул Станислав Леопольдович, - всякое будущее ближайшее, если мыслить масштабно. И например, в один прекрасный день... Господи, в один ужасный день! - САТ может захотеть уничтожить целый народ или целый материк... Причем трудно себе представить, к какому приему они прибегнут: допускаю, что их возможности безграничны. И будет тогда повальный мор... пришельцы-убийцы... группы людей с деформированной психикой, деформированной этикой - все что угодно! Боже, боже! - он обхватил голову руками и воскликнул - кажется, даже против воли: - Хоть бы Эмма Ивановна приехала!
И застучали в окно кафе - бодрейшим застучали образом. Жизнелюбивый такой стук, знать ничего не желающий ни о времени суток. ни о кошмарах бытия... Эмма Ивановна приехала!
Она вошла в зал, ритмично стуча каблучками: дама есть дама, черт побери! Улыбнулась энергичной улыбкой - домашний врач, вызванный к заболевшим детям: нуте-с, что у нас тут? Сама жизнь посетила их в смертный этот час. Бес бросилась навстречу:
- Эм, дорогая вы наша! Какое Счастье, что вы пришли!
Та подняла руку, отстраняя Бес, - Бес запнулась на полуслове, но, наверное, поняла, что восторги ее простите-немножко-неуместны. И вернулась к столу - несколько, правда, обескураженная.
На Эмме Ивановне было концертное лиловое платье с белым газовым шарфиком. И белые туфли были на ней. Надо же все-таки умудриться так выглядеть ночью! Головокружительная женщина. И за стол не села - выбрала себе место на приличном, в общем, расстоянии от всех, с улыбкой взглянула на бедлам на столе (м-да...) - царственная особа.
- Я все знаю, - сказала почти сухо. - Ничего страшного.
- Откуда, Кло? - Станислав Леопольдович - от утомления, видимо, - даже не поднялся ей навстречу. Впрочем, Эмма Ивановна так мгновенно вписалась в ситуацию, что и подниматься-то было бы глупо.
- Ворон прилетел. И проинформировал.
- Ворон?
- Да, голубой ворон. Говорящий ворон. Я оставила его дома. А по пути придумала вот что: сейчас нам всем лучше разойтись. Ворон долго летел за тенью: она не вернется.
- Так и думал Станислав Леопольдович! - обрадовался Павел, но радость получилась какой-то несвоевременной...
- В любом случае, оставшуюся часть ночи мы можем провести спокойно. Поехали! - Она встала, кивнув Станиславу Леопольдовичу. -Такси ждет.
- Ты на такси? Ах, ну да... А как же ребята? Мы, вроде, собирались до утра все вместе... они из-за меня остались - спасать, так сказать...
- Ну и спасибо им... Однако тебе надо выспаться, магистр. Ведь так? Ребята могут и тут переночевать, люди они молодые.
- Правда, магистр, поезжайте, - забормотал Павел, - мы - что... мы сейчас как-нибудь устроимся. Может быть, кого-то ко мне отправим. Все там, конечно, не разместятся... ну а остальным тут постелим. накидаем чего-нибудь.
Станислав Леопольдович с трудом поднялся. Взглянул на каждого в отдельности и... споткнулся на Бес.
Бес была похожа на фигурку, вырезанную из бумаги: все было в ней сейчас неестественно, нелепо. Словно фигурку полусмяли и бросили на стул.
- Бес! - окликнул ее он.
Девушка вздрогнула, посмотрела на магистра - жалобно почему-то. И сказала странные слова:
- Кто-то из нас должен умереть.
- Что, Бес? Что Вы... что ты говоришь? - Он почему-то не мог больше обращаться к ней на "Вы". Подошел к ней, руку положил на плечо ей...
- Магистр, откуда "ты" в обращении к Бес? - поморщилась Эмма Ивановна.
Бес повела плечом, как бы желая отодвинуться в сторону от Станислава Леопольдовича.
- Подожди, Кло!
- Но там ведь машина стоит, на улице!
- Ничего! - Он наклонился к самому лицу отрешенной Бес. - Девочка, девочка моя, не придумывайте... не говорите таких слов.
- Кто-то из нас должен умереть, - невыразительно повторила она. - И во время Большого Собрания рассказать теням о том, что случилось здесь ночью. Если ощущение тени появляется только после смерти, это единственный выход.
- Не болтайте глупостей, Бес! - Эмма Ивановна нервно рассмеялась. - Что за фантазии, в самом деле! Магистр, так мы поедем?
- Бес, голубушка! - Станислав Леопольдович гладил ее по волосам. Вы должны сейчас же, немедленно дать мне слово, дать честное слово и поклясться... - Он вытер ладонью мокрый уже лоб. - Отпусти машину, Кло. Мы не поедем. - И даже не взглянул на Эмму Ивановну.
- Что значит - не поедем? Магистр, прежде всего надо подумать о себе...
Станислав Леопольдович резко обернулся. Он смотрел на Эмму Ивановну туманными теперь глазами и, отчеканивая слова, говорил:
- Мне очень жаль, Кло. Я остаюсь здесь. Если хочешь, поезжай одна. Я не имею права. - И отвернулся от Эммы Ивановны.
- Бес! - почти взвизгнула та. - Прекратите юродствовать, это невозможно, в конце концов... это неприлично сейчас, когда человек истерзан, - пожилой, между прочим, человек, который Вам в деды годится! -У Эммы Ивановны, кажется, началась истерика.
- Эмма Ивановна, - равнодушным голосом ответила Бес (она никогда раньше не называла ее так - только "Эм", всегда только "Эм"), - я попросила бы Вас не учить меня правилам приличия именно сейчас, когда человек истерзан.
Неловко сделалось всем.
- Что Вы себе позволяете? - просто-таки заорала уже Эмма Ивановна, осеклась и вдруг зарыдала в голос.
- Дайте воды ей, - распорядился Станислав Леопольдович, не оборачиваясь и сжимая плечи Бес ладонями: девушку трясло.
Павел налил воды в первую попавшуюся чашку, подбежал к Эмме Ивановне.
- Убирайтесь! - завизжала она и отпихнула чашку: вода вылилась Павлу на свитер.
Эмма Ивановна грохнулась на стул и схватилась рукой за сердце. С другой чашкой спешил уже к ней Сергей:
- Эмма Ивановна, успокойтесь... вот, выпейте...
- Подите к черту со своей водой! - Она выбила чашку из рук Сергея и почти с ненавистью уставилась на Станислава Леопольдовича и Бес. - Значит, я уезжаю одна?
Станислав Леопольдович стиснул зубы.
- Отойдите от нее, Сережа... Павел. - И быстро двинулся к ней, остановился близко, протянул руку к плечу ее, но не коснулся еще...
- Не смей трогать меня! Уйди!.. - Ноздри ее раздувались, лицо пошло пунцовыми пятнами.
Станислав Леопольдович медленно убрал руку. Медленно подошел к столу, налил воды уже в третью чашку. Возвратился к Эмме Ивановне и стал точно напротив - в двух шагах.
- Выпей воды, Кло. Ну!.. - Голос звучал жестко. - Ну же, Кло. Я жду. Эмма Ивановна вжалась в стул, глаза ее забегали:
- Я... я уже... успокоилась. Отойди, пожалуйста.
Станислав Леопольдович не двигался.
- Сейчас ты выпьешь эту воду. Я приказываю тебе.
- Не-е-ет! - взвыла она. - Не-е-ет! - Махонькая озлобленная старуха со студенистыми глазами, похожими на разбавленные чернила.
- В последний раз: вы-пей во-ды, Кло. - Он так и сказал: по слогам. И совершенно уже бесстрастно.
- А-а-а-а-а! - дурным голосом заревела Эмма Ивановна, а Станислав Леопольдович вдруг выплеснул воду эту прямо в крохотную ее сморщенную физиономию. Старуха, опешив на секунду, вскочила и, как кошка, впилась ногтями в его лицо.
Ребята кинулись к ним, чтобы оторвать озверевшую Эмму Ивановну от магистра, но, едва они подбежали, как та уменьшилась уже чуть ли не вполовину - тень же ее ровно вполовину выросла. И в мгновение ока полностью перелившись в тень, тенью поползла Эмма Ивановна Франк по полу, по стене - и в открытую форточку...
Спокойная как хирург, Бес уже прикладывала влажный носовой платок к окровавленному лицу Станислава Леопольдовича и говорила страшно внятно:
- Ее надо было убить. Зачем Вы так долго ее испытывали? Ведь уже в первую секунду, когда она отстранила меня, все стало ясно. Почему вы не убили ее? Рапирой...
- У нее была внешность Кло... я не мог. Я не мог убить Клотильду.
- Лицо его, изрезанное ногтями, кровоточило, кровь не останавливалась.
- Что это было, магистр? - У Павла язык заплетался.
Станислав Леопольдович усмехнулся, но вышла гримаса, а не усмешка.
- Что?.. Контактная метаморфоза, мое открытие. Вот как выглядит оно на практике. Уф... Мне не надо было так сильно желать, чтобы приехала Эмма Ивановна: я сам вызвал к жизни ее образ, которым тень и воспользовалась... заманить меня на улицу, где темно совсем, а там уж и до Атлантиды рукой подать!
- Но, Станислав Леопольдович, если это контактная метаморфоза, значит, мы-то видеть Эмму Ивановну не должны были... А мы видели! - Стаc был совсем бледным.
- Почему не должны? Вы ведь тоже ее ждали - вот она и явилась во всей красе. - И темен голос его, ой как темен! - Эффект оправданного ожидания...
На улице давно уже гудела машина.
- Стаc... кто-нибудь, отпустите такси. Заплатите ему, вот деньги. Стаc побрел к двери.
- Спасибо, Бес. - Станислав Леопольдович взял влажный платок из ее рук. - Довольно, ничего не исправишь уже... все-таки я живой человек! - он опять попытался усмехнуться - и опять не вышло.
- А вы тоже сразу поняли, что это не Эмма Ивановна? - Сергей наливал всем кофе.
- Почти сразу, но соглашаться не хотел... Она начала говорить про ворона, а ворон этот - мой старый знакомый, по тем еще временам. Он, конечно, говорящий, но произносит лишь отдельные слова, максимум - несколько предложений, однако рассказать что-нибудь связно... очень сомнительно. Правда, слов он знает довольно много и, может быть, даже частично понимает звучащую речь. Думаю, он в состоянии скопировать и целую тираду, но только скопировать, а не построить самостоятельно. Так-то... Это была первая большая ошибка тени. Но я все хотел убеждаться - еще и еще! Наверное, Бес, Вы правы, проверять ее водой вряд ли стоило.
- А что получилось с водой? - спросил Женя. - Почему Вы так настаивали, чтобы она ее выпила?
- Тень не может ни пить, ни есть... это ведь только облик. - Станислав Леопольдович сел: кончились силы... все. - Боже мой, пора бы утру уже наступать, длинная ночь какая! Бес...
- Да, магистр?
- Бес, милая, то, что Вы говорили - насчет умереть... это ведь маневр был? Вы решили тянуть время?
- Не знаю, - сказала Бес. - Наверное.
В зал вошел Павел, держа за плечи трясущуюся, измученную Эмму Ивановну - одетую наспех, плохо, постаревшую лет на сто. Она засеменила к Станиславу Леопольдовичу, молча обняла его сзади и ничего, ничего никому не сказала. Смотреть на нее, после всего, что было, никто уже не мог.
- Я отпустил машину, - сказал Стас. - И подобрал у порога Эмму Ивановну.
- Эх, надо было с водителем поговорить на всякий случай, - спохватилась Бес.
- Я поговорил - и очень успешно. Машина была вызвана на дом. Адрес, по которому ее заказывали, он мне дал. И телефон тоже... У телефона номер странный - восьмерки одни, кроме двух первых цифр. Но это центр...
- Восьмерки... - повторил Станислав Леопольдович. - Знаки бесконечности. Приятная символика, ничего не скажешь... Позвонить бы сейчас, да поздно очень. А фамилию не узнали Вы?
- Ой... - сказал Стас.
- Ну, ничего, главное - адрес... адрес - это много уже. Не знаю, правда, как мы им воспользуемся... Ты пешком пришла, Кло? - спросил магистр спиной, держа спереди на груди холодные руки Эммы Ивановны.
- Пешком. До такси не дозвониться. А ты знаешь, чей это телефон?
- Нет, - ответил Станислав Леопольдович.
"Зато я знаю", - хотела сказать Эмма Ивановна, но не успела. Громко захлопали крылья - и на перекладину форточки плюхнулся голубой ворон.
- Спасайтесь! - крикнул он и сиганул с перекладины в зал.
А из форточки по стене ползла тень - вне всякого сомнения, та же самая тень, только невероятно выросшая за это время.
Никто не шевелился. Тень ползла по полу, добралась до плинтуса, перегнулась и взгромоздилась на стену. Загипнотизированные движением ее, присутствующие как по команде начали отступать к противоположной стене. Эмма Ивановна, загородив собой Станислава Леопольдовича, который растерянно поднялся, пятилась вместе со всеми. На огромной светлой стене они стояли друг против друга - тени живых и тень мертвого. Внезапно в вытянутых руках ее обозначилась тень автомата, медленно наводимого на тени противников - без разбора....
- Сейчас нас расстреляют всех, - спокойно сказала Бес.
Станислав Леопольдович рванулся к выключателю, попутно выдернув штепсель прожектора из розетки.
Стало совсем темно.
Глава СЕМНАДЦАТАЯ
Радуйтесь, ТЕПЕРЬ ВЫ не бессмертны
Гипс обещали снять в июне. Полет с балкона третьего этажа закончился для Петра переломом ноги... не осознают все-таки герои этого романа, насколько милостива к ним судьба! До настоящего момента, как помнят любезные и просто-таки разлюбезные уже читатели, в романе нашем окончательно не умер еще никто, что, в общем-то, весьма гуманно, не правда ли?
Однако - и с этим уж ничего не поделаешь! - Петр загремел в больницу именно тогда, когда присутствие его на улицах Москвы было бы очень и очень желательно, что он, впрочем, и сам понимал. За стенами четырехместной палаты все время происходили важные какие-то события, о которых Петру не рассказывали, делая вид, что ничего чрезвычайного вообще не бывает в мире. Посетители сговорились врать и врали исправно, незадолго до посещения определенно проходя основательный чей-то инструктаж. Эмма Ивановна часто приходила вместе с Эвридикой: вдвоем они врали особенно правдоподобно. Иногда к хору врущих присоединялся сухой голос Аида Александровича: сухим голосом, само собой, врать гораздо проще, чем, например, влажным. Только мама и папа-с-почечной-коликой не врали, но они и не знали, должно быть, ничего.
Станислав Леопольдович не пришел ни разу. Ах-Петр-мы-отправи-ли-его-на-юг-в-замечательный-один-санаторий! Путевки-знаете-ли-та-кая-редкость-тем-более-сердечно-сосудистая-система-спец лечение! Он-звонит-регулярно-если-бы-у-вас-тут-был-телефон... И так далее: туфта. Как будто можно представить себе Станислава Леопольдовича думающим о сердечно-сосудистой системе, когда голова его совсем другим занята! Да к тому же согласившимся на спец(!)лечение...
"А-еще-Эвридика!" - дразнил Эвридику Петр, давая понять, что не верит ни единому слову - ни-чье-му. Но дразни не дразни: каменная-баба-скифская... Про университет (защиту-диплома-перенесли-на-будущий-год), про маму-папу-бабушку (они тоже как-то приходили - все вместе), про весна-весна-на-улице - подробнейшим образом. А о восьмерках - два слова. Ровно два: "Нет дома" или "Не отвечают" - с вариантами то есть. Могла бы и рассказать, между прочим, кое-что (это уже автор от себя, любезные читатели!): много всякого они там на воле вокруг восьмерок накрутили... Петр попросил принести Марка Теренция Варрона. Принесли.
- Ну, друг, на тебя последняя надежда, рассказывай!
Но молчал и ворон: как рыба.
- Рыба ты! - обругал его Петр и отвернулся к стене.
- Рыба, - сказал Марк Теренций Варрон.
- Но Петр... - засмеялась Эвридика (лучше бы, кстати, не смеялась: очень уж грустный был смех!), - чего ты хочешь от нас всех? Есть выражение такое: жизнь-их-не-богата-событиями... Наша жизнь не богата событиями, а будет что рассказать - расскажу!
- Расскажешь ты, как же! - пробурчал Петр, глядя в стену.
- Новыми - трудовыми - успехами - встретил - советский - народ минувший - праздник! - заявил Марк Теренций Варрон.
Петр улыбнулся стене.
- Лучше мне улыбнись, - сказала Эвридика, по-случаю-минувшего-праздника.
...А однажды видел Петр сон: во сне они со Станиславом Леопольдовичем летали и говорили о чем-то - общих тем не касались, времени не было, но успели обсудить нечто конкретное и, вроде бы, очень важное - во всяком случае, для Петра... Правда, утром забылось все - кроме самого факта встречи. И за целый день - не вспомнилось.
Вспомнилось зато многое другое: январь-февраль-март-апрель. Странный кусок жизни, с какого-то момента (или с самого начала) находящийся под прицелом восьмерок... Сплошная мистика на мафиозной основе: невозможно поверить, что такое вообще бывает! Но ведь есть же и... продолжается. И имеет видимость жизни. С восьмерками они, конечно, развяжутся - знать бы, с какого момента с ними можно будет уже не считаться. Однажды все началось и однажды все кончится - более точных ориентиров нет. О начале объявлено не было, все выяснилось случайно - с помощью Эвридики. 06 окончании тоже вряд ли объявят... может, нас к тому времени и в живых-то никого не останется: перебьют, как кроликов, - и все. Правда, пока без нас не обойтись; слишком далеко зашли. И слишком туманны берега...
Но какая-нибудь логика есть ведь во всем этом! Январь-февраль-март-апрель. Почему январь, черт возьми? Что такое случилось в январе? Недели две - ничего особенного, потом - бах: цыганка-с-карликом... когда это было? Кажется, шестнадцатого... Погибнет-душа-твоя-господине. Нелепое пророчество - с какой стати? И - завертелось: под обильным снегом! Поди разберись...
Петр открыл тумбочку, достал блокнот, ручку. Соседи спали: трое счастливчиков, до которых никому, кроме родных-и-близких, дела нет.
"Глубокоуважаемый..." - начал он и остановился: стоит ли? Все равно некуда будет отправить письмо... да и дадут ли ему написать его? Постучит кто-нибудь в дверь: пожалуйста, господин Ставский, на процедуры. Посадят в инвалидное кресло, привезут в белый кабинет, сделают укол - и поминай как звали!.. Он тряхнул головой и продолжал:
"Глубокоуважаемый... не знаю Вашего имени!
Я обращаюсь к Вам по собственной воле и хотел бы сам отвечать за каждую букву в этом письме - надеюсь, у меня есть такое право? Скорее всего, Вы не могли не предусмотреть чего-нибудь подобного, иначе вообще не было бы смысла вовлекать в Ваше предприятие живых людей: люди остаются людьми - и для человека Вашего круга неосмотрительно делать ставку на полное отсутствие у них инициативы. Будем считать, что Вы не делаете таких ставок, - и, значит, отнесетесь к моему письму внимательно и спокойно.
Эвридика рассказала мне все... стало быть, как говорится: не-отпирайтесь-я-прочел. Кстати, на месте Евгения Онегина я не сказал бы: "Не отпирайтесь". Это грубовато... Не стану утверждать, что я догадывался о Вашем существовании. Буду честен: мне и в голову не могло прийти ничего подобного. Ваша затея представляется мне, прошу прощения, довольно несуразной и, пожалуй, даже неосуществимой. Впрочем, осуществится она или нет - судить не нам, и мне не следовало начинать с критических замечаний общего характера.
Правда, даже Вам трудно будет признать их необоснованными: ведь в Ваш круг так или иначе оказались втянутыми все близкие мне люди, не говоря уже обо мне самом. Заметьте, что при этом далеко не все они (прямо сказать, единицы) знают о Вашей роли в их судьбах - стало быть, игра с самого начала ведется не на равных, а потому этически несостоятельна.
Зная о вашей болезненной реакции на всякого рода самодеятельность, я все же позволил себе попытаться проанализировать происходящее и очень приблизительно установил, что одной из первых Ваших жертв стала Эвридика Александровна Эристави. Должен сказать, Вы выбрали не самый удачный объект на вашем месте человек более гуманный просто пожалел бы девушку, жизнь которой и без Вас бьта довольно запутанной: она рассказала мне много такого, о чем Вы не имеете даже смутных представлений. У Вас была уже возможность неоднократно убедиться в непригодности Эвридики для, мягко говоря, сомнительных Ваших целей. Это человек нервный, рано повзрослевший, но главное -талантливый, с чем, как я догадываюсь, Вы в очень небольшой степени склонны считаться. Вы навязываете ей абсолютно неприемлемые для нее формы поведения, создавая немыслимые условия, которых не в состоянии выдержать даже более крепкий организм. Едва ли Вы имеете право так уж испытывать ее силы - тем более, что к настоящему времени они, кажется, на исходе. Вы были свидетелем нескольких ее нервных срывов - с последним, между прочим, мне едва удалось справиться, навязав ей поездку в Тбилиси: только таким путем я смог отвлечь ее внимание от совсем уж крутых, так сказать, поворотов. Вы запугапи ее настолько, что она, по-видимому, всерьез верит в неограниченность Вашей власти над ней. Когда Эвридика рассказывала мне о Вас, мне было страшно за нее: Вы стали ее манией - и она убеждена, что судьбы мира вершатся Вами, хотя, прошу прощения за откровенность, на самом деле Вы всего-навсего жалкий больной человек с сильно завышенной самооценкой. Наверное, Вас надо лечить - и лечить, скорее всего, от шизофрении, имеющей, как говорят медики (если говорят), систематический характер.
Не уверен даже, что вся Ваша система существует в действительности, а не является лишь плодом расстроенного Вашего воображения. Впрочем, претензии Ваши распространяются так далеко, что на некоторое время - оценив их "масштабность" - я и сам чуть не поверил в Ваше всемогущество. Теперь я, конечно, знаю, что единственное, чего нельзя отнять у человека, - это право свободного выбора... по крайнею мере, между жизнью и смертью. Советую Вам основательно поразмышлять ни сей счет и несколько приглушить амбиции. Я весьма сожалею об одном: что унизился до заочной "схватки" с Вами, достаточно было просто разыскать Вас и, простите, набить Вам морду. Вы вполне этого заслужили. Не так страшен черт...
По здравом размышлении (а у меня было достаточно бремени поразмышлять) я пришел к выводу, что вся Ваша деятельность основывается на постоянном запугивании и на использовании приемов, запрещенных этикой. Например, излюбленный Ваш прием - ставить всецело зависимых от Вас людей в абсолютно безвыходную ситуацию и с удовольствием наблюдать, как они из нее выпутываются. При этом Вы, кажется, ожидаете от них небанальных решений, в то время как истерзанные Вами люди делают одну глупость за другой. Если уж Вы с такой бесцеремонностью пользуетесь их услугами, то имейте по крайней мере мужество самостоятельно распутывать последствия Ваших комбинаций, не ставя никого в известность о своих трудностях. Те, кто работает на Вас, вовсе не обязаны с ними считаться.
Должен заметить также, что Вы постоянно превышаете собственные полномочия. Даже если бы в основе нашего взаимодействия лежал какой-то договор, то и тогда в нем были бы учтены формы разумного контакта, чтобы часть времени каждый из подчиненных Вам мог проводить по своему усмотрению. При отсутствии же такого договора никто из нас тем более не принадлежит Вам целиком и волен - хоть в какой-то мере! - сам распоряжаться собой. Так что вряд ли Вам следует прибегать к столь суровым наказаниям в случаях, когда в тех или иных обстоятельствах работающие на Вас не забывают и о собственных интересах: это же вполне естественно, согласитесь! Можно ли жить, постоянно ожидая возмездия? Понятно, что Вы, не выходя из дома, способны одним мановением руки уничтожить любого из нас; Вы располагаете чрезвычайно широкой сетью агентов - причем, разумеется, не только в Москве. Однако дальновидный стратег прежде всего позаботился бы о том, в каком настроении пребывают те, на кого он намерен делать ставку и в дальнейшем. Впрочем, Вы едва ли дальновидный стратег; слишком уж поспешно и импульсивно дёргаете Вы за все ниточки сразу, желая, по-видимому, чтобы каждую минуту нужные Вам (нужные не сегодня и даже не завтра - вообще еще неизвестно когда!) люди находились у Вас под рукой. Вы "запускаете " их в действие в зависимости от Вашего настроения, подчас даже не представляя себе, кому Вы этим вредите.
Я давно уже говорю не об Эвридике, а тем более не о себе самом. Станислав Леопольдович и Эмма Ивановна Франк - вот кто меня беспокоит. Не уверен, что Станислав Леопольдович отчетливо осознает, в какую "игру" Вы его втянули, - боюсь, он и вовсе ни о чем не подозревает. Но Эмме Ивановне я счел своим долгом рассказать обо всем. К несчастью, рассказ мой пришелся на то время, когда сам я имел глупость панически бояться Вас и считал Ваше влияние на мою судьбу определяющим. Если бы я тогда уже мог относиться к Вам как к человеку, которого следует лишь пожалеть!.. Увы, прозрение наступает всегда слишком поздно. И мне пришлось до смерти напугать бедную старуху, доведя ее тем самым до приступа - рассказом как таковым и (теперь я понимаю это) более чем нелепым по причине полной безрезультатности прыжком с балкона. Признаюсь, я имел намерение разрушить все Ваши планы и доказать Вам, что один выход из безвыходного положения - причем выход добровольный! есть у каждого человека всегда.
Впрочем, ничья смерть не станет для Вас сигналом остановить безумную Вашу деятельность. Вы возьмете для своих целей кого-нибудь еще - с его благородного разрешения... или даже без такового, как практикуете в последнее время. И с новыми, что называется, силами приметесь "работать" с ним. Я не знаю, каким испытаниям Вы подвергаете других - например, Станислава Леопольдовича, - но сдается мне, что испытания эти чудовищны.
Все последнее время меня интересует один лишь вопрос. Отдаете ли Вы себе отчет в том, чем это может кончиться? Или Вы не думаете о перспективах и живете лишь сегодняшними забавами?
...Сейчас я перечитал написанное - и вот думаю о том, зачем я обращаюсь к Вам.
Вероятно, Вы просто интересны мне - тоже в смысле экспериментальном. С того момента, как я узнал о Вашем существовании, Вы сделались для меня своего рода психологическим феноменом, за которым я, оказывается, постоянно наблюдаю. И теперь я хотел бы - честно, в отличие от Вас, - предупредить: отныне я экспериментатор, а Вы для меня подопытный кролик. Вы не удосужшись поставить меня в известность о своих опытах - прощаю Вам все, что было, но при одном условии: теперь законы диктую я. Будьте готовы к этому.
Искренне Ваш Петр Ставский
Москва, 29 мая 1983 года"
Петр нашел в тумбочке конверт, запечатал письмо. На конверте надписал крупными цифрами номер телефона: это ведь надо, чтобы кому-то так повезло с номером, почти сплошная бесконечность! Он откинулся-на-подушку и стал думать о бесконечности: бесконечность была пустыней в снегу.
- Привет.
Петр не открывал глаза: он знал, что пришла Эвридика. Она пахла водой и солнцем.
- Привет, Петр. Как дела?
- Нормально дела. А что на воле?
- На воле тоже все нормально.
- И долго еще там так будет - нормально?
Эвридика посмотрела на тумбочку и увидела конверт. С восьмерками.
- Не знаю, долго ли... - сказала она. - Боюсь, что нет. Я очень устала. Очень, Петр.
- Конечно.
- И, кажется, больше не могу... Аид Александрович не велел тебе ничего говорить - ты видел, я не говорила. Но я устала - не говорить. По-моему, сейчас я уже начну.
- Я почти рад, что ты так устала. Я тоже устал - не знать.
- На самом деле, неизвестно, что труднее. И то и другое трудно. Но сейчас все рушится. Петр, милый!.. А я не умею поправить, и я не понимаю что можно, чего нельзя!
- Но живы - все?
"Все" - это был Станислав Леопольдович: остальные приходили в больницу.
- Все? - Эвридика опустила глаза - почти-в-преисподнюю. - Я не знаю, как сказать. Потому что трудно определить, живы или уже нет... Он в летаргическом сне. Почти три недели... две с половиной. Аид взял его к себе в институт. Аид тоже не знает, когда кончится сон. И кончится ли он вообще...
- Это болезнь?
- Нет. Почти невозможно объяснить, что это.
- Но признаки жизни есть?
- Совсем малозаметные... Даже зеркальце не запотевает. Кожа совершенно холодная и бледная очень. Пульса нет.
- А что есть?
- Сердце бьется - правда, слабо-слабо, это рентгеном установили, в институте. И еще с помощью электрошока - мышцы реагируют, кажется ...
- Так что точно не смерть?
- Пока точно.
- А дальше?
- Дальше сложно очень, потому что это не обычный летаргический сон. Тень Станислава Леопольдовича сейчас находится в Элизиуме.
- Я так и знал, - сказал Петр. - Я же говорил тебе, что... Эта книжка, которую я читал, - помнишь? - Он приподнялся на локте. - Мне сейчас надо в библиотеку, Эвридика. Срочно надо в библиотеку... А я не могу!
- Я могу, - ответила Эвридика.
- Это без толку, ты не знаешь немецкого... А вынести ее оттуда никак нельзя? Маму попросить или кого-нибудь!
- Уже просила!.. Когда мне Эмма Ивановна все рассказала - в тот вечер, я на другой же день говорила с мамой... Мама человек дисциплинированный... Конечно, если бы объяснить ей, в чем дело! Но я не решилась объяснить. Ты подожди с книгой - мы к этому вернемся. Сначала вот что...
Эвридика говорила долго - сперва о том, что узнала от Эммы Ивановны, потом о ночи в "Зеленом доле" - опять-таки со слов Эммы Ивановны, на другой день позвонившей ей в восемь утра...
- А когда свет включили - через две секунды Женя включил, - Станислав Леопольдович лежал на полу уже и тени не было рядом с ним: ни одной. И все думали, что он умер: тело совсем холодное, и не дышит... Эмме Ивановне сделалось плохо, еле ее откачали, хотели "скорую" вызвать, но она не велела, а сразу стала звонить Аиду домой. Аид тут же приехал - вместе со "скорой": Станислава Леопольдовича и Эмму Ивановну отвезли в Склифософского... у нее криз гипертонический, и ее оставили в терапевтическом, она три недели пролежала. А Станислава Леопольдовича Аид к себе забрал - в соматическую психиатрию, где я была, и сейчас Аид все время наблюдает за ним, но тени у Станислава Леопольдовича нет.
- А восьмерки - что?
- Восьмеркам ребята сразу стали дозваниваться... ой, я забыла, теперь адрес есть, таксист сказал, который ту тень привез - ну, в образе Эммы Ивановны. В общем, они долго звонили - никто трубку не брал целый час почти... А в пятом часу утра поехали по этому адресу, но там дома никого не оказалось. И теперь нет никого. Они дежурят по очереди - на скамеечке в арке, оттуда подъезд хорошо видно, и до сих пор ничего не дождались. Ночью в окнах свет не зажигается, ребята и по ночам дежурят, они хорошие такие: там одна девушка по имени Бес... Алла то есть, и еще Женя, Стас, Володя, Сергей, Павел. И они думают постоянно, но ничего придумать не могут! Ты попробуй, Петр... я дура, я молчала все время, Аид велел, он за тебя беспокоился, чтобы ты еще какой-нибудь номер, - это он так говорил... Петр, ну скажи хоть слово, Петр! Ты письмо написал, я вижу...
- Так, Эвридика. - Петр закрыл глаза ладонью. - Слушай меня внимательно. Мама работает сегодня?
- Нет.
- Это замечательно. Пойди в Ленинку...
- Я же не записана! - перебила Эвридика.
- Разовый пропуск возьмешь - по паспорту. Паспорт есть?
- Есть.
- Скажешь, нужно книги некоторые посмотреть - для курсовой. Заполнишь требование... вот сведения. - Петр по памяти восстановил название книги. Найдешь, если найдешь, книгу в картотеке, спишешь шифр... ну и получишь "Руководство..." в ЦСБ. Садись и перерисовывай все от руки - начиная со страницы, на которой готический шрифт переходит в обычный. Сколько успеешь до закрытия. А вечером надо найти способ передать это все мне.
- Я найду способ. - И Эвридика ушла - не оборачиваясь.
Ждать до вечера оказалось невыносимо уже через час. Ко всем соседям Петра пришли все-возможные-родственники: прорва народу. Петр сделал вид, что спит-богатырским-сном. Все-возможные-родственники говорили на все-возможные-темы. В палате пахло чужой-едой. Петра мутило. Хуже всего то, что трудно было думать... Но не думать было еще трудней.
- А-вот-апельсинчик-съешь-еще-я-тебе-почистила!
Конечно, книги нет в библиотеке, глупо было посылать Эвридику. Она вернется и скажет: книги нет. И что тогда? Тогда... Тогда книгу надо закончить самому. Ориентиры заданы - осталось только следовать по намеченному автором пути.
- Ты-салфеткой-руки-вытри-а-то-они-у-тебя-жирные-пижаму-испачкаешь-а-ст ирать-негде.
"Ибо, как полагает автор, многие из случайностей свой исток не здесь имеют"... Стало быть, многие из случайностей свой исток в Элизиуме имеют. И, стало быть, случайная... случайнейшая встреча со Станиславом Леопольдовичем свой исток в Элизиуме имела: он оттуда пришел, Станислав Леопольдович.
- Белье-то-чистое-есть-у -тебя-еще-чтоб-тут-менять-вроде-много-с-собойбрал-а-все-в-одном-ходишь!
С чем пришел Станислав Леопольдович из Элизиума? И зачем пришел из Элизиума? Получается, чтобы с Петром встретиться - пришел. Встретиться и передать ему некоторые сведения. "Вы не нервничайте сейчас. Потом нервничать будем", - сказал Станислав Леопольдович. Вот, значит, и настало время нервничать. Нервничать, вспоминая, как все было, и доставая из памяти то, что тогда не заметил. Во-первых, ликер: "Мне подарили этот ликер в 1798 году"...
- Тут-вот-я-тебе-шоколадок - маленьких-купила-будешь-по-одной-сестрам-д авать-чтоб-помогали-тебе-как-следует...
Итак, 1798 год - вот первый временной ориентир. "С тех пор никто не заходил ко мне в гости. М-да... шутка". Не шутка, получается, Станислав Леопольдович. Должно быть, год этот - последний в Вашем витальном цикле, опять же последнем. С тех пор прошло почти двести лет. Двести лет, проведенных Вами в Элизиуме, это же ясно как день!
- Надо-бы-побольше-двухкопеечных-монеток-принести-тут-нет-ни-у-кого-или -жадничают!
Ну да, конечно... Еще один мотив был - с одеждой. Его высказывание насчет моей куртки модной и сапог; "Одеты вы очень модно". - "А надо как?" "А надо - никак. Чтобы не быть иллюстрацией места и времени... это привязывает и лишает свободы". Похоже, это урок первый: дескать, и Вы тоже, молодой человек, не только в настоящем времени живали! Были, дескать, и другие времена. Что ж, может быть, и были... Подождем пока с этим. И вспомним еще что-нибудь. Например, вот что...
- Тут-в-травме-все-долго-лежат-одни-переломы-почти-что-и-с-первого-раза -редко- удачно-срастается-потом-ногу-или-руку-опять-ломают-и-снова-гипс.
Например, вот что: "...фокус-другой я бы мог Вам показать - дело, как говорится, нехитрое. Но это, видите ли, слишком уж немудрящий путь, мне стыдно таким путем идти к сердцу Вашему". Понятно, о каких фокусах идет речь: впечатляющие, между прочим, были бы фокусы... но Вы, Станислав Леопольдович, предпочли долгий путь. Какой же? А вот какой: бросить в сердце одну-две фразы, которые на всю жизнь в памяти застрянут... Застряло же следующее: "Нам, конечно, будут даны и другие жизни... много других жизней, поскольку с первого раза трудно все рассмотреть и расслышать, но ведь каждая ситуация уникальна и не обязательно повторится из жизни в жизнь. Схема повторится - детали не те, детали повторятся... даже одна деталь, глядь схема другая. Так что очень желательно осмотреться, помедлить... вкус, я бы сказал, ощутить". Между прочим, ни чая, ни ликера вы не пили тогда, Станислав Леопольдович, - и теперь, после рассказа Эвридики о Лже-Эмме-Ивановне, ясно почему: тени не пьют и не едят. А насчет того, что "схема повторится", - так это вы, конечно, правы.
-Мы-вот-с-товарищами-уже-ходячие-а-молодой-человек-который-спит-ему-еще -гипс-не-снимали-говорят-завтра-так-он-лежачий-пока.
Схема повторилась: ученик ваш, помнится, покончил с собой - и я, стало быть, пытался... а детали другие. Из этого следует, между прочим, что очень может быть... очень даже может быть... почему бы, в самом деле, не быть такому: ученик Ваш и я - одно и то же, в разных витальных циклах, а? Значит, и вправду были у меня и другие времена... Дерзко, конечно, предполагать, однако случайность есть случайность - не так ли, Станислав Леопольдович? М-да... опять вы правы: "Лучше все делать очень медленно. Очень и очень медленно". А я сейчас так и делаю. Медленно-медленно иду по нашей с Вами беседе... раньше бы пройтись по ней! Иду, значит, и натыкаюсь еще на одну интересную подробность: "...я жил с одной прекрасной дамой. Я очень любил ее. Мы прожили... дай бог памяти, лет десять. Двести с лишним лет назад". Не Эмма Ивановна ли это, Станислав Леопольдович?
- Он-странный-молодой-наш-человек-молчаливыйвсе-думает-о-чем-то-а-невеста-у-него-ну-такой-красоты!
Значит, Вы с ней все-таки встретились снова... Непонятно, правда, что из этого получилось, если Вы тень. Впрочем, дело не мое... А тогда я сказал: "Мне не хочется уходить от Вас", - и Вы ответили: "Очень рад. Да и ситуация еще не исчерпана... Если бы Вы знали, насколько не исчерпана..." Так все-таки, насколько, Станислав Леопольдович? Чего теперь ждать, когда Вы в летаргическом сне? Встречи в Элизиуме? Там, где рассредоточивают... или, по крайней мере, грозят рассредоточить тени? "Во-о-от насколько!" - и вы широко развели руки. Действительно настолько? "Знаки, знаки..."
- Она-ему-ворона-приносила-говорящего-только-он-мало-поговорил-а-вообще -то-умора!..
Как это там было: "Подлинные знаки - вот чего мы напрочь не умеем воспринимать. Казалось бы, все уже яснее ясного и сердце знает: подан знак, ан нет! Не верит, соглашаться не хочет, сопротивляется". Не сопротивляется больше, верит напропалую сердце мое: такие уже допущений делает - в животе холодно. И привкус мяты во рту. Впервые за последние - сколько? - почти два месяца: значит, близко... Правильно иду, значит! Привкус мяты - это оттуда: Элизиум. Их пища - время, медуница, мята... И плевать "на цыганок, на гадалок, на фокусников, на заклинателей змей... ручное все это. Hand made, не по-русски говоря". Теперь понятна и данная фраза... понятно даже, кому она адресована! Другая тоже понятна и туда же адресована: "В том-то и есть чертовщина жизни, что в течение получаса все может измениться на полную свою противоположность..." Теперь действительно понятно, Станислав Леопольдович. Так оно и было. Что ж, почти все... И блистательная кода...
-А-чего-я-нормально-хожу-уже-с-костылями-провожу-значит-потом-в-холле-с -соседями-посижу-пусть-поспит-паренек...
И блистательная кода: "Вы знайте, что Ваша душа бессмертна!". Стало быть, что же... тень и есть душа?
Когда, держа высоко над головой сверток, в палату, как птица, влетела Эвридика, она прямо-таки замерла у постели Петра. Петр смотрел на нее древними совсем глазами - и во всей фигуре его был покой, огромный нездешний покой.
- Я украла книгу, - тихо, словно боясь спугнуть ангела, сказала она, возьми.
- Спасибо, - улыбнулся Петр. - Теперь как раз она мне очень нужна узнать, что же дальше. Я, пожалуй, успею к утру: завтра можно будет вернуть ее, если сегодня ночью тебя не арестуют. Придешь завтра?
- Ну и вопросы у тебя! - Она поцеловала его и вышла: фея-авантюристка, исполняющая желания и тут же исчезающая-из-поля-зрения... Так и надо, Эвридика. Молодец.
...исчезающая-из-поля-зрения, чтобы опять быть рядом когда нужно.
- Привет. - Невозможно прекрасная утренняя-Эвридика.
- Привет. - Бессонный Петр закрыл книгу. - Тебя не арестовали?
- Нет еще. Часа через полтора арестуют... когда книгу привезу. Сегодня мама работает, я ей не сказала ничего. Она, наверное, и арестует. - И присела на кровать: невозможно-прекрасная-утренняя-Эври-дика... Соседи-на-костылях любезно оставили их вдвоем.
- Никто тебя не арестует. Книгу вообще никуда отвозить не надо.
- Ну уж нет! - замотала головой Эвридика. - Пусть меня казнят честной.
- Книгу отвозить не надо, - повторил Петр. - Дело в том, что ее никто не хватится: этой книги никогда там не было.
- Не было? - просто и доверчиво спросила фея-авантюристка.
- Не было, - подтвердил Петр.
- Что ж... пусть тогда и не будет, - Эвридика облегченно вздохнула: проблема исчерпала себя сама. - Ты мне что-нибудь расскажешь?
- А нечего почти рассказывать. Тут все то же самое. Ты это уже знаешь.
- От Эммы Ивановны?
- И от нее тоже. От нее в первую очередь.
- Но ты все время улыбаешься, Петр... так, как будто знаешь, что делать.
- А я знаю, что делать, - весело ответил тот. Он взял Эвридику за руку. - Надо просто жить. Жить - и этого будет вполне достаточно. - Петр смеялся и просто-таки невозможно походил на Станислава Леопольдовича, когда старик разгуливал по телеэкрану с "долзеленый-йо-хо!" на губах.
- И все же, Петр?
- Для начала свяжись с кем-нибудь из ансамбля - у тебя ведь есть телефоны? Надо попросить от моего имени и от имени... Станислава Леопольдовича снять блокаду с дома восьмерок.
- Почему? - испугалась Эвридика.
- У него и так ничего не выйдет. Или выйдет все. - Это был более чем туманный ответ - впрочем, Эвридика и не ожидала другого.
Она только спросила:
- Сейчас позвонить?
- Сейчас. - И Петр взял с тумбочки конверт. С восьмерками. Развел руками и порвал его на глазах Эвридики. - Кажется, мое письмо дошло уже по адресу. К сожалению.
- Я ничего не понимаю, - сокрушилась Эвридика.
- А не все нужно понимать, - с готовностью сказал Петр. - Есть и непонятные вещи. Много непонятных вещей.
- Для тебя - тоже?
- Конечно. Для всех. Я вот не понимаю, например, как это - телефон? Или, допустим, - телевизор!
- Да ну тебя! - махнула рукой Эвридика и в первый раз за утро улыбнулась.
Так, с улыбкой, и отправилась к двери, на пороге которой столкнулась с Аидом Александровичем.
- Здравствуйте, царь-Аид. Я сию секунду вернусь.
- Vale, - ответил тот и вошел к Петру. - Нуте-с, как наше настроение? Завтра, говорят, гипс снимают? - Он достал из кармана два апельсина-невероятных-размеров. - Это я Вам был должен. - И протянул апельсины Петру.
- Спасибо. А настроение-наше прекрасно. У Вас какие-то неприятности?
- Никаких неприятностей, с чего Вы взяли?
- Очень уж Вы бодры, - нейтрально заметил Петр. -А что... письма все еще приходят?
- Какие письма? - Аид невинен-как-дитя.
- По поводу телепередачи с Рекрутовым. - Петр тоже невинен-как-дитя.
- Что это Вы вспомнили такую седую старину?
- И сам не знаю, - ускользнул Петр.
- Нет уж, - Аид мгновенно повзрослел. - Выкладывайте, что у Вас, да поскорее!
- Ничего особенного, - нарочно не взрослел Петр. - Пустяки всякие: витальные циклы. Элизиум, Атлантида... Контактная метаморфоза, если хотите.
- Эвридика? - взревел Аид. - Ну, она у меня узнает!.. С ней же, оказывается, нельзя иметь дела!
- Да помилуйте, Аид Александрович! Вот тут у меня книга, где все написано. Дарю. Я уже знаю ее наизусть. Теперь Ваша очередь.
Аид вертел в руках, ворча: "Очень мило с вашей стороны дарить библиотечные книги... да еще из Ленинской библиотеки! Я же вижу... штамп стоит, Вы вор, что ли?"
- Штамп - это камуфляж, - бесстрастно пояснил Петр. - На ней не должно быть никакого штампа, это анахронизм.
- Правда подарок? - начинал верить Аид и влезал уже в книгу по островерхим гребням готических литер.
- Правда, дорогой Вы наш Аид Александрович! - Вид у Петра был предпраздничный. - Тут Вам предложат объяснения тому, над чем вы бьетесь всю жизнь. Если, конечно, Вы захотите их принять. - Аид спрятал книгу в портфель. - Спасибо, Петр, Вы сделали для меня больше, чем могли.
- Это все-таки она, - кивнул Петр на входящую Эвридику.
- Проходите, преступница, - растроганно сказал Анд.
- Удалось? - спросил Петр.
- Будем считать, что да. Дежурным сейчас же все передадут. Павел поедет вместе с Бес.
- Павел... вместе с Бес? - Аид Александрович заинтересовался. - А что там новости какие-нибудь?
- Новости здесь, - уточнила Эвридика. - Петр распорядился снять блокаду с дома восьмерок.
- Петр? Распорядился?.. С чего? На каком основании? с-четверть-оборота завелся Аид. - У меня же Станислав Леопольдович в институте на искусственном питании... Вы отдаете себе отчет!
- Случится то, что случится, - спокойно сказал Петр. - Рано или поздно, так или иначе, но в любом случае все кончается. Нам ведь будут даны и другие жизни... много других жизней, поскольку с первого раза трудно все рассмотреть и расслышать...
- Вы говорите, как тень! - ужаснулся Аид Александрович. - Голосом тени... и с интонациями тени!
- Это он книгу одну прочел, - вступилась за Петра Эвридика, - немецкую книгу, она здесь. - Петр, покажи книгу, Аид Александрович знает ведь немецкий. - Эвридика поискала книгу глазами, вопросительно взглянула на Петра.
- Ты забыла, Эвридика, - напомнил Петр, - не было никакой книги.
- Но я же... ах ну да! Простите, Аид Александрович, не было никакой книги, я что-то путаю.
В дверь постучали.
- Это соседи! - спохватилась Эвридика. - Они вынуждены все время уходить из-за меня...
Стук повторился.
- Да-да, - крикнула Эвридика, пожалуйста!
И возник у порога незнакомый человек непримечательной наружности - в халате поверх синего костюма с синим же галстуком более темного тона, светловолосый, полноватый.
- Вам кого позвать? - поднялась Эвридика, которая знала уже всех соседей Петра.
- Вас, - сказал человек очень низким голосом.
- Меня? - остановилась идти Эвридика.
- Нет. Вас троих. - И едва заметный акцент: легкий, прибалтийский какой-то...
- Вы пройдите, пожалуйста, - приветливо произнес Петр. - Садитесь, вот стул.
- Петр... Вы знакомы? - Эвридике сразу и явно не понравился вошедший. Она переглянулась с Аидом Александровичем.
- Отчасти, - ответил Петр.
- Вот как? - удивился посетитель. - Вы проницательны, Петр.
- Да нет, другое, - поспешил поскромничать тот. - Но это к делу совсем не относится, мы слушаем Вас.
- Хорошо. Потому что я-то как раз и пришел говорить. Я, видите ли, знаком со всеми вами, хоть вы никогда меня и не встречали - во всяком случае - в этой жизни.
- Нет уж, давайте-ка по порядку, - перебил Аид Александрович и поочередно представил каждого из них посетителю, причем Петр усмехнулся немножко в сторону.
- Спасибо, я знаю, - поморщился посетитель, - не надо формальностей... Люди вы все подготовленные - и вас, наверное, не удивит, если я скажу, что у меня нет имени, потому что я тень.
- О Господи... -вздохнула Эвридика.
- Я давно уже слежу за всеми вами... к сожалению; и теперь многие знают об этом, но пока вмешивался в ход событий лишь в самых крайних случаях - и в основном играя против.
"Да уж!" - чуть ли не вслух сказал Аид Александрович, но все же не вслух. Тень опять поморщилась и продолжала:
- Тем не менее, сегодня я нахожусь здесь в качестве вашего союзника, однако позволю себе не ставить вас в известность о причинах такой переориентации. У меня есть для вас некоторые сведения. Разбор дела Станислава Леопольдовича САТ назначил на одиннадцатое июня, ранним утром. Исход суда предрешен: Тень Ученого подвергнут рассредоточению.
- Подвергнут рассредоточению или приговорят к рассредоточению? - почти бесстрастно уточнил Петр.
- Конечно, приговорят... простите меня, Петр, это действительно недопустимая неточность. Итак, я хорошо осведомлен о том, что происходит на Атлантиде, и в состоянии ответить на любой ваш вопрос в этой связи. К тому же, я знаю историю Атлантиды - можете воспользоваться моими знаниями, как вам угодно, я к вашим услугам. Только с самого начала должен предупредить вас: я не способен придумать ничего, чтобы спасти Станислава Леопольдовича. На данный момент я владею всеми возможными формами контактов теней с живыми людьми, но среди них нет ни одной, которая была бы пригодна для этой цели.
- О чем же тогда спрашивать Вас? - с усмешкой сказала Эвридика.
- Я полагаю, что информация об Атлантиде, исходящая из первых рук, может помочь вам самостоятельно сориентироваться в этой сложной ситуации. Конечно, многое известно вам от Тени Ученого... от Станислава Леопольдовича, но Станислав Леопольдович - человек, что называется, внутренний и плохо разбирается в политике. Поэтому сведения, полученные от него, трудно считать исчерпывающими: он до сих пор остался ученым. Вам же нужен политик.
- Вы Тень Политика?- спросил Аид Александрович.
- Неважно. Допустим, да.
- Нас не интересует политика, - заявила Эвридика.
- Может быть, тогда вас интересует история? Это не так уж далеко от политики... Например, ваша история, Эвридика Александровна Эристави?
- Нет. - Эвридика вздрогнула. - Начните лучше с Аида Александровича, если он не возражает.
- Он не возражает, - буркнул Аид, совсем сбитый с толку.
- С Аида Александровича? - переспросила тень. - Это значит, с самого начала. Ну что ж... Вы, Аид Александрович, конечно, задавали своим родителям вопрос о том, почему Вам дали такое странное... такое редкое имя? Помните, что отвечали Вам?
- Я должен помнить?
- Как Вам угодно. В крайнем случае, это могу вспомнить я.
- Но я и вообще плохо помню своих родителей. Они умерли, когда мне было около двух лет, и меня воспитывал дядя. Он и говорил, что имя дали мне в честь мамы, ее звали Ада. Родители очень хотели девочку - тем более, что имя было уже готово. Но они чего-то там не рассчитали - и по оплошности на свет появился я.
- Восхищаюсь Вашим чувством юмора, - улыбнулся гость, - но должен уверить Вас, что оплошность эта была подготовлена всем ходом истории. Тени Вашей, Аид Александрович, надо бы отдавать в Элизиуме королевские почести: ведь это Тень Первого Царя Элизиума, царя Аида.
- А почестей, стало быть, не отдают? - равнодушно поинтересовался Аид. И добавил: - Сволочи!
- Еще раз восхищаюсь Вашим чувством юмора, а заодно и вашей демократичностью. Однако тема все-таки исключительно серьезна, Ваше Величество.
Аид не удержался и величественно кивнул.
- Сейчас, конечно, Вам трудно понять это, но если я назову то имя, которое носили Вы во времена последнего витального цикла, тут, мне кажется, Вам будет не до смеха.
- А ну-ка, - все еще шутя поощрил Аид Александрович.
- Фридрих II, Великий, - просто сказал гость, между тем как догадался уже Аид Александрович Медынский, что за имя прозвучит сейчас, и с ужасом, надо сказать, его дожидался.
- А Наполеоном тоже я был? - из последних сил сострил он.
- Не много ли, Аид Александрович? - в тон ответила тень. - Нег, Наполеоном были не Вы.
- Слава богу! - искренне обрадовался тот.
- Рад, что угодил Вам. Должен заметить, что именно последний Ваш витальный цикл совпал с витальными циклами Станислава Леопольдовича, Эммы Ивановны, Эвридики, Петра, ребят из ансамбля "Зеленый дол"...
- Няньки Персефоны! - воскликнул Аид Александрович.
- Нет, нянька Персефона - раньше... в мифологические, так сказать, времена.
- Жаль... И что же - мы все были знакомы друг с другом?
- Отнюдь. Вы не были знакомы ни с кем из упомянутых людей. Разные круги, понимаете ли... Правда, кое с кем Вы даже водили дружбу. Марк Теренций Варрон - знаете такого? Вот-вот...
- Он говорил мне! - взбудоражился Аид. - Но я, конечно, не мог вспомнить...
- Еще бы! Иначе Вы не были бы здесь.
- Как прикажете понимать вас?
- Да, в общем, просто... Тень умершего, возвращаясь в Элизиум, забывает все. Сначала Вы будете тенью Аида Александровича Медынского, а потом - Тенью Врача... и так далее, по пути обобщения, покуда, окончательно изжив в себе малейшие признаки индивидуальности, не превратитесь просто в тень: она-то и отправится в мир для новой жизни - неизвестно при ком... при каком то есть носителе. Между тем, дорогой Аид Александрович, если бы Вы только могли себе представить, какие красивые легенды ходят о временах, когда во главе Элизиума стояла Тень Царя Аида... золотой, знаете ли, век. С тех пор там многое изменилось - и далеко не к лучшему. А у Вас ведь есть все основания претендовать на верховную власть!
- Я не рвусь к власти, - признался Аид Александрович.
- Даже к такой, которая облегчила бы существование душам мертвых людей?
- Ну хорошо... - сдался Аид. - Но меня же никто не помнит в Элизиуме как Аида! Если каждая тень изживает в себе индивидуальность...
- Скажем осторожнее, каждая тень должна изживать в себе индивидуальность. Но, увы, не каждая изживает. Поэтому и существует в веках одно и то же Верховное Руководство Элизиума. Оно-то помнит, что за тень вернется на Елисейские поля после вашей, пардон, смерти.
- И Вы помните?
- Такая уж у меня специальность: все помнить.
- Значит, Тени Верховного Руководства Элизиума и Вы вместе с ними каким-то образом сохранили в себе индивидуальность?
- Скажем, да. И тем самым обеспечили себе прочное положение в Элизиуме. Мы, видите ли, с давних пор отказались от возврата сюда - во имя власти там. И там мы знаем все обо всех - в то время как о нас никто ничего не знает: этим-то и сильны. Хотите понять, в чем истинная причина травли Тени Ученого? В том, что она - вопреки елисейским "Уложениям" - сохраняла в себе индивидуальность. Зачем ей это было нужно? А затем, чтобы помочь осознать живым то, что давно уже носится в воздухе: не один только раз живем на свете, а жили и будем жить дальше. И потому ответственны за то, правильно ли живем. А настанет время - встретимся: и как тогда посмотрим в глаза друг другу?.. Деятельность, направленная в эту сторону, запрещена в Элизиуме. Ибо никто не должен помнить ни о чем. Ибо все подлежит забвению. И надо уметь забывать о том, что век назад, и два века, и тысячу лет, и более, более, более у власти стоят одни и те же, все время одни и те же: Тени Верховного Руководства Элизиума... А по какому, собственно, праву? Да ни по какому! Ловкачи, осознавшие, что минимум постоянной индивидуальности надежней, чем максимум индивидуальности временной!.. Что минимум постоянной индивидуальности дает власть, максимум временной индивидуальности создает гениев. У власти не могут стоять гении... Вот какую опасность в деятельности Тени Ученого усмотрели для себя Тени Верховного Руководства Элизиума. Знай они заранее, что Тень Ученого окажется такою, они живо отправили бы ее в область вечной тьмы: так всегда поступают в Элизиуме с теми, чья индивидуальность в принципе не может быть изжита, поскольку слишком значительна. Это враки, что по Элизиуму веками летают Тень Рафаэля, Тень Дарвина, Тень Ньютона: все они давно уже сосланы в область вечной тьмы, где и самоуничтожились... А поди проверь: есть эти тени в Элизиуме или улетели уже на Землю и существуют теперь при ком-нибудь другом! Но в Тени Ученого такой масштабной индивидуальности не предполагали: подумаешь, какой-то ученый средней руки в одной из германских провинций!.. Некто магистр Себастьян!
- Остановитесь, - сказала Эвридика. - Вы говорите слишком страшные вещи... Вы не оставляете надежд!
- Подожди, Эвридика, послушай, - попросил Петр. - Это надо знать - на потом.
- Страшные вещи еще впереди! - усмехнулся гость. - Задайтесь вопросом, на кого ориентировались Тени Верховного Руководства Элизиума, когда отказывались от повторных витальных циклов! Я отвечу вам: на атлантические тени. На эту елисейскую элиту, даже упоминание о которой карается в Элизиуме законом. А закон придумали те, кто сам живет по-атлантически! Что за ужасное противоречие, скажете вы, как это возможно? Возможно, дорогие мои, только так и возможно. На Атлантиде высочайший уровень цивилизации, Атлантида -технократическое государство, но атлантические тени вконец обленились: они даже не заглядывают на Землю и знать ничего не хотят о тех исследованиях в области новых форм контактов с живыми, которые столь успешно разрабатывает горстка их же ученых, на их же острове -фактически под носом у них! Но САТ вручает Тени Ученого тень-ордена за еще один щадящий контакт, за ненарушение своего покоя. А когда выясняется, что щадящий контакт на самом деле оказывается контактом беспощадным, - тут уже САТ предпринимает все возможное, чтобы рассредоточить Тень Ученого! Ибо не дай бог другим теням Атлантиды попробовать исполнить контактную метаморфозу - вдруг появится у них вкус к жизни, и тогда - прости-прощай-покой! Тогда высокоразвитая инфраструктура Атлантиды полетит ко всем чертям - и воспарят над миром души атлантов, и просветят людей: не один только раз живем, а жили и будем жить дальше!.. И не забудем о том, кто мы сегодня, чтобы вспомнить об этом завтра! Так-то, Аид Александрович.
- Но моя роль... - начал было Аид Александрович и пресекся.
- Ваша роль? Довожу до Вашего сведения, что Тени Верховного Руководства Элизиума и САТ уже осведомлены о том, что Вы в своем институте почти разгадали загадку жизни и смерти, загадку универсума. И о том осведомлены, что окончательно разгадать эту загадку Вам помог Станислав Леопольдович. Правда, они не уверены, что Вы доберетесь в себе до Аида, - потому-то, отчасти, тень Станислава Леопольдовича и выдворили отсюда: а ну как он подскажет вам, кто Вы такой? И тогда им придется пасть ниц перед Тенью Царя Аида; Вы станете распоряжаться царством мертвых - и придет золотой век Элизиума. Здесь, на Земле, Вы сделали все, чтобы там иметь право властвовать.
- Я готов, - тихо сказал Аид Александрович Медынский, завотделением соматической психиатрии, и высоко поднял голову. Как царь.
- Теперь с вами, Эвридика? - спросил гость.
- Да, - смело ответила она.
- Вы, конечно, понимаете после всего сказанного, что не случайно и Ваше имя? Имена ведь не бывают случайны.
- Значит, миф об Орфее? - поспешила навстречу Эвридика.
- Миф об Орфее, - подтвердила тень. - Вы были женой Орфея, танцевали на зеленом лугу, Вас укусила змея, и Вы умерли.
- Змейка на сапожке, - пробормотала Эвридика. Нет-нет, это я так...
- И кем бы Вы ни были, Вы никогда не умирали естественной смертью.. . смешно говорить так - "естественная смерть"...
-Variola, - сказала Эвридика, не понимая себя.
- Variola, черная оспа... красный автомобильчик... всегда что-нибудь случалось эдакое.
- Значит, и на сей раз...
- На сей раз все уже обошлось, красный автомобильчик уехал в Мытищи, Аид Александрович отпустил вас из Тартара, а нянька Персефона, соответственно, проглядела. Тема утонула в вариациях, так сказать. В первый раз за всю свою историю, Эвридика, Вы не стояли в оцепенении, гадая: обернется - не обернется, Вы сами бросились за Орфеем, хотя были уже почти тенью... по снегу бросились, босиком...
- Вариации победили тему, - сказал Петр.
- Именно так. Все свои витальные циклы вы знаете, Эвридика, из снов. У Вас, девочка, точные сны - это большая редкость. Но одного Вы даже не можете предположить: объем информации, заложенный в тень Эвридики, был настолько велик, что в восемнадцатом веке тень Ваша распалась надвое: одна половинка пошла по канату - за черными розами под черную скрипку, в сторону Петра, в сторону смерти; другая - кинулась к долу зеленому, в сторону Станислава Леопольдовича, в сторону жизни. Так иногда случается с тенями - правда, не часто. Фредерика и...
- Клотильда Мауэр, Эмма Ивановна Франк, - подхватил Петр.
- Ты знал, Петр? - опешила Эвридика.
- Знаю, - ответил тот. - Не случайно ведь ты вспомнила мелодию песенки этой, про дол зеленый! Хоть и забыла немецкий язык...
- Так и разрешилось противоречие, заложенное в Вашем характере, продолжал посетитель. - Одна половинка Эвридики стояла в оцепенении, другая бежала за Орфеем, одна вышивала кисет, другая умирала от оспы, одна приставала к прохожим, другая бросалась под машину от одиночества! И может быть - как знать! - распавшаяся тень восстановит в Элизиуме свою целостность уже теперь... миф об Орфее опять воспроизведется в канонической редакции. История, видите ли, любит ходить кругами. Тем более, что и царь Аид к тому времени займет свое законное место.
- Займет, займет! -обнадежил Аид Александрович.
- Хорошо бы тогда и мне оказаться в этой компании, - грустно заметил Петр. - А то как бы ей не развалиться без меня.
- Но Вы уже готовы присоединиться к ней, - напомнил гость.
- Да, да, я готов.
- У вас ведь самая грустная история - и Вы рады будете распрощаться с ней наконец? Радуйтесь: теперь Вы не бессмертны.
Петр не успел ответить - фигура посетителя растаяла в воздухе; а тут соседи Петра не выдержали прохаживаться по коридору на костылях и вернулись в палату.
- Как жалко, Петр, что мы ничего не узнали про тебя! - шепнула ему Эвридика. - Пустяки, - сказал Петр. - Я уже все знаю сам.
Глава ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Солнечное ЗАТМЕНИЕ однажды В ИЮНЕ
Ну конечно, его уже ждали: это Станислав Леопольдович понял еще там, в "Зеленом доле", когда ощутил, что тень его с душераздирающей силой влечет в Элизиум. Понял он и то, что, включив свет, свидетели событий этой ночи найдут его тело в зале, ибо покидал он землю сознающей себя тенью, а отнюдь не тенью, на время свободной от живого носителя. Скорее всего, он умер там, на Земле. Или почти умер. Дела его, значит, были закончены: Станислав Леопольдович снова превратился в то, чем привык считать себя последние двести лет, - в Тень Ученого.
А в Элизиуме было неспокойно: слухи о Тени Ученого, которая сама создала себе носителя, нарушили границы Атлантиды и бродили по всему Элизиуму - вдоль и поперек... если там, конечно, есть это "вдоль" и это "поперек". Слухи внушали ужас: была в дикой акции Тени Ученого какая-то совсем уж мистика. Потому вполне естественно, что атлантические тени собрались на тени-площади у тени-ворот тени-административного-здания - чуть ли не все до одной: взглянуть на легендарную эту Тень Ученого. Вот она и появилась, Тень Ученого, - тень как тень... Она приветственно махнула тенью-руки всем собравшимся и проследовала в сопровождении некоей тени в тень-ад-министративного-здания. Сюда в спешке собрались тени членов Совета Атлантических Теней.
- Мы давно уже ждем Вашего прибытия, - с места начала тень Председателя САТ. - Добро пожаловать!
- Благодарю вас, - грустно прошелестела Тень Ученого.
- Простите великодушно, - продолжала Тень Председателя САТ, -что нам пришлось прибегнуть к крайним мерам. Но Вы сами вынудили нас к этому: Ваше поведение давно уже стало вызывающим, Вы, так сказать, перешли все границы. Почему, позвольте узнать?
- Это что же, официальный допрос? - поинтересовалась Тень Ученого.
- Да нет, бог с Вами... Просто дружеский разговор, если Вам так угодно.
- Так мне не угодно, - определилась Тень Ученого. - Мы не состоим с вами в дружеских отношениях. Допрос - это другое дело. Я согласен дать Совету Атлантических Теней показания. Но только публично.
- Вы хотите публичного позора?
- Да.
- А не боитесь ли Вы, что САТ. -. - начала Тень Председателя САТ.
- Не боюсь, - поняла Тень Ученого. - Я теперь вообще уже мало чего боюсь. Уничтожить меня без суда и следствия, увы, невозможно. Вы же цивилизованное общество, не так ли, глубокоуважаемые тени? Кроме того, мир уже шумит - и Вы об этом знаете.
- Да... Вы наделали много шума.
- Я старался. Но проблема не только в этом, как все вы хорошо понимаете. Первый случай рассредоточения тени в гуманном обществе представляет собой событие из ряда вон, ведь так? Вряд ли удастся сохранить его в тайне - даже здесь. А там, на Земле, о нем уже пишут: я позаботился об этом.
- Вы много успели.
- Да, достаточно много. Почти все, что хотел успеть. Кое о чем вы даже не догадываетесь - боюсь, у вас нет исчерпывающих сведений о том, как много мне удалось. И не будет, если вы не дадите мне возможности высказаться публично. Другого способа получить информацию, столь необходимую для вас, я вам не предложу. А без информации этой дальнейшее ваше существование в опасности. Вам ведь невыгодно, чтобы мир, который уже шумит, предъявил вам ультиматум, высокочтимые тени? Живые раньше, чем мертвые, узнали подоплеку елисейского бытия... и они ведь могут начать действовать оперативно. Кто знает, как далеко это зайдет!..
- Уведите, - произнесла Тень Председателя в сторону - довольно злобно, между прочим. И сделала тень-жеста-нажатия-на-тень-кнопки. Две громадные тени вошли на тень-звонка.
Тень Ученого увели по тени-коридора. Тени членов САТ откинулись на тени-спинок-стульев.
- Я полагаю,- через паузу проговорила Тень Монарха, - что огласки в данном случае не избежать все равно. Нам придется смириться с идеей публичного суда. Тем более, что мы ведь не проиграем... Не должны проиграть.
- А отдаете ли Вы себе отчет в том, - отвечала Тень Республиканца, что эта безумная тень крайне опасна и очень даже может взбаламутить против нас всю Атлантиду?
- Да уж! - подтвердила Тень Кардинала. - Вообразите себе, что начнется, когда атлантические тени узнают о возможности прямого контакта по типу театра-теней! Ведь Тень Ученого не преминет рассказать о случае с палкой и с этим выжившим из ума вороном в их паршивом кафе!
Тени повернули тени-голов к тени-двери, откуда бочком проникла в тень-помещения Тень Тайного Осведомителя, вызванная заблаговременно.
- Здравствуйте, голубчик, - прошелестела Тень Председателя САТ.
- Мы тут как раз обсуждаем последствия Вашего пребывания на Земле. И не можем взять в толк, по какому праву Вы воспользовались контактом типа театра-теней? Этому приему Вас обучили на крайний случай, если помните...
Тень Тайного Осведомителя опустила тень-головы.
-А Вы прилетели за тенью автомата, сбили нас всех с панталыку и, в сущности, поставили перед свершившимся фактом. Нам ничего не оставалось делать, как выдать Вам тень-автомата, - прямой контакт уже был применен вами. Так на каком основании?.. Мы ждем ответа.
- Как тень-соловья тени-лета, - сострила Тень Президента - в миллион первый, кажется, раз. Тень Тайного Осведомителя молчала.
- Теперь по Вашей милости, - продолжала Тень Председателя, - нам придется выпутываться из почти безвыходного положения. - Тень Председателя потерла тени-висков тенями-пальцев. - Нам навязан публичный суд.
- Еще не навязан, - пробурчала Тень Республиканца.
- Ошибаетесь, любезнейший! Уже навязан. А доводы Ваши совершенно неубедительны. Потерять репутацию сейчас крайне неосмотрительно. Аид располагает полной информацией о наших делах, а ведь он доживает последние годы. Когда он вернется, нам припомнят и без того многое... Мне отнюдь не улыбается брать на себя ответственность за рассредоточение Тени Ученого. Может быть, Вы, глубокоуважаемая Тень, - Тень Председателя повернулась в сторону Тени Республиканца, - возьмете на себя такую ответственность?
- Нет, конечно, - отступилась Тень Республиканца.
- Вот и положеньице. - Тень Председателя помолчала. - Черт бы Вас побрал с вашими проклятыми контактами! - Тень Тайного Осведомителя молчала, как тень-рыбы. - Может быть, у кого-то есть разумное предложение?
- Позвольте мне, - привстала Тень Генерала. - Никогда не следует забывать, что скомпрометировать иногда значит победить. Почему бы не попытаться скомпрометировать Тень Ученого? Если Тень Тайного Осведомителя объявит, что прямой контакт по типу театра-теней неосуществим и Тень Ученого лжет, тогда у нас появится время... Мы отправим какую-нибудь из теней доверенных теней, я имею в виду, - на Землю, чтобы проверить возможность такого контакта. Тень вернется и доложит: это неосуществимо.
- Да, но другим теням может взбрести в тени-голов проверить проверяющего и попытаться самостоятельно прибегнуть к контакту по типу театра-теней. Он удастся без труда. - Тень Республиканца щелкнула в воздухе тенями-пальцев.
- Атлантические тени слишком ленивы, - возразила Тень Генерала. - Они не полетят ничего проверять: им все безразлично.
- Пока остается хоть маленькая вероятность проверки, мы не имеем права не учитывать возможности позорной развязки, - заключила Тень Председателя.
- У меня есть предложение к предложению Тени Генерала. - Это была Тень Падишаха. - Правда, оно не совсем гуманное... Я бы даже сказал, совсем не гуманное.
- Нам сейчас не до гуманности! - поощрила говорящего Тень Председателя САТ.
- В таком случае, - предложила Тень Падишаха, - нам придется совершить рассредоточение двух теней, причем одной - публично, а другой - тайно.
- Публично - это, насколько я понимаю, относится к Тени Ученого... Тень Председателя САТ больше всего боялась попасть тенью-пальца в тень-неба, но, по счастью, на сей раз угадала.
- Разумеется, - согласилась Тень Падишаха. - Тайному же рассредоточению придется подвергнуть ту тень, которая полетит на Землю с проверкой прямого контакта по типу театра-теней.
- Не совсем понимаю вас, - задумалась Тень Председателя САТ.
- Это очень просто. Мы схватим тень, которую отправим с проверкой, у тени-границы Атлантиды и тайно рассредоточим ее. А после объявим, что попытка прямого контакта по типу театра-теней закончилась самоуничтожением тени испытателя. Страх самоуничтожения умерит пыл тех теней, которые захотят проверить проверяющего. Вряд ли в такой ситуации у кого-нибудь возникнет желание повторить прямой контакт по типу театра-теней.
- В Ваших словах есть резон, - впервые согласилась Тень Республиканца. - Страх - великая сила.
- Прекрасное, прекрасное предложение! - засуетилась Тень Председателя САТ. - И если мы принимаем его, а нам, кажется, не остается ничего другого, давайте выберем жертву.
Тени-голов повернулись в сторону Тени Тайного Осведомителя, которая пыталась слиться с тенью-стола, понимая, куда клонят тени.
- Но позвольте... - только и произнесла она, - Вы ведь не сможете без меня...
- Успокойтесь, голубчик! - не дала договорить Тень Председателя САТ. Конечно, никто не станет требовать от Вас столь непомерной жертвы! Отделитесь, пожалуйста, от тени-стола, вас плохо видно.
Тень Тайного Осведомителя неохотно выполнила пожелание Тени Председателя САТ.
- Чего же Вы от меня хотите?
- Только одного. Вы должны назвать кандидатуру атлантической гени, которую... о которой, скажем так, мы могли бы не жалеть. Ведь далеко не все атлантические тени одинаково ценны - не правда ли, глубокоуважаемый? - В вопросе Тени Председателя САТ не было и тени-сомнения.
- Простите? - прошуршала Тень Тайного Осведомителя. - Если я Вас правильно понял, мне предлагается подписать кому-нибудь... и, как я полагаю, уже все равно кому, тень-смертного-приговора? Первого в истории Атлантиды мне? Благодарю за честь, но я ее не стою.
- Предпочитаете заняться проверкой прямого контакта по типу театра-теней сами? - вежливо осведомилась Тень Падишаха. Вопрос повис в воздухе.
Тень Тайного Осведомителя сжалась в совсем крохотный комочек и неожиданно для всех произнесла:
- Да. - Теперь повис в воздухе и ответ.
- То есть как? - отчеканила Тень Председателя САТ.
- Я не могу назвать другой кандидатуры.
Она явно помешалась, эта Тень Тайного Осведомителя.
- Но мы не хотим... мы не можем расстаться с Вами! - проникновенно произнесла Тень Председателя САТ, выждав положенное время. - Вы действительно нужны нам - и у нас нет оснований отказываться от Ваших... столь ценных для Атлантиды услуг - тем более, что Вы опытная тень!
- Вам придется отказаться от моих услуг. Я согласен на самую последнюю: лжесвидетельствовать против Тени Ученого и потом лететь с проверкой. Знайте, высокочтимые тени, лучшей кандидатуры вам не найти.
- Что ж, если так... - Тень Председателя САТ не заставила себя упрашивать. - Ваш поступок вызывает у нас восхищение. Вы увековечите память о себе на Атлантиде.
- Больше всего я думаю именно об этом, - саркастически заметила Тень Тайного Осведомителя, что очень не понравилось всем присутствовавшим. Впрочем, они смолчали - обрадованные прекрасной возможностью избавиться от единственного виновника и единственного свидетеля сразу многих печальных происшествий.
- Тогда будем считать вопрос решенным?
- Будем считать решенным, - кивнула Тень Тайного Осведомителя. - Я могу быть свободен?
- О да, конечно! Спасибо вам.
Оставалось назначить день суда - сущая мелочь. До начала суда договорились держать Тень Ученого под тенью-стражи: выпустить ее сейчас было бы безумием.
Да Тень Ученого и не рассчитывала на это. "Время жить и время умирать, - бормотала она в заточении, - время разбрасывать каменья и время собирать каменья..." И Тень Ученого собирала каменья: камень за камнем, по всей Москве - Москве-своих-воспоминаний. Не так-то уж их и много, каменьев этих, м-да... Ты - Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее... прости меня, Господи! Мой Петр так и не успел выслушать меня. А я ведь для него приходил... Но споткнулся о "сей камень" и потерял его из виду, спеша дальше по каменистой дороге, - мимо мальчика по имени Игорь, мимо Эммы Ивановны Франк... Клотильды Мауэр, мимо Аллы, Жени, Павла, Сергея, Стаса, Володи: касаясь каменьев этих легкой елисейской тенью! Что будет теперь с ними, с горкой каменьев моих, оставленных в центре Москвы, маленьким памятником Универсуму? Передадут ли они знание свое еще кому-нибудь, не погибнет ли оно в мире? Ведь кто умножает познания, умножает скор6ь
Контактная метаморфоза, наивное мое открытие... Ищите, дескать, и обрящете. Сколько намечтали себе - столько и дано будет вам, по вере вашей. Достаточно лишь сильно захотеть чего-то, представить себе в точности параметры встречи, и вот уже - здравствуйте, милый человек, не меня ли Вы так долго ждали в одиночестве своем? Прекрасная идея, безответственная идея!.. Ибо те, кто получил уже весть-оттуда, не могут отныне быть-как-все: и в самом деле, не лучше ли ждать-и-не-дождаться, чем иметь-и-потерять?.. Если бы меня поняли на Атлантиде - о, как много можно было бы тогда сделать! Для бедного слепого человечества, потерявшего универсум в суете жизни своей... Но на Атлантиде нет у меня ни одного союзника.
Ошибалась Тень Ученого: был у нее союзник на Атлантиде. Недавно появился он, но если бы Тени Ученого сообщили, кто это, Тень Ученого не поверила бы. Ни за что. А между тем Тень Союзника витала уже подле тени-равелина, где содержалась в заточении Тень Ученого. Тень Союзника, одна из старейших теней Атлантиды, выполняла на острове весьма специфическую функцию, о которой не будем сейчас. До самых последних дней выполняла она эту функцию, нося уже в сердце своем зерно новой жизни. Опять и опять возвращалась Тень Союзника к речи Тени Ученого, произнесенной во время церемонии вручения тени-ордена, опять и опять возвращалась она ко всем событиям последнего времени и понимала: я-сделаю-все-что-от-меня-зави-сит. А зависело от нее не так уж мало.
Автор не станет сообщать о том, каким путем удалось Тени Союзника передать тень-записки в тень-равелина, но предъявит тени-слов из тени-записки: "Высокочтимая Тень Ученого, не беспокойтесь ни о чем. Деятельность САТ будет раскрыта на суде. С уважением, Тень Союзника".
И Тень Ученого воспряла духом. Между тем на Атлантиде не торопились с судом. Дело в том, что небезызвестная читателю Тень Тайного Осведомителя обратилась к Теням членов САТ с просьбой. Это была вполне разумная просьба: перенести срок суда месяца на два. А поводом служило похвальное желание Тени Тайного Осведомителя до конца выполнить свой профессиональный долг: следовало еще некоторое время поприсутствовать на Земле, среди взбаламученных Станиславом Леопольдовичем людей, чтобы точно установить, какие же все-таки конкретные изменения произвела в сознании живых идея бессмертия. Сведения об этом, по мнению Тени Тайного Осведомителя, были бы чрезвычайно ценны: они помогли бы представить себе стратегию поведения противника и выяснить, к чему противник намерен готовиться. Очень может быть, что идеи Станислава Леопольдовича отнюдь не будут иметь того резонанса, на который рассчитывала Тень Ученого. Тогда многое облегчается. В противном же случае САТ рискует проиграть процесс: действия живых непредсказуемы...
- Что ж, весьма и весьма убедительно, - согласилась Тень Председателя САТ. - В толк не возьму, как это мы решаемся расстаться с Вами, глубокоуважаемая Тень Тайного Осведомителя. Впрочем, Вы сами предложили рассредоточить себя... Хозяин, как говорится, барин. М-м... два месяца, Вы говорите? Прекрасно. Сегодня у нас одиннадцатое апреля - значит, на одиннадцатое июня сего года? Условимся так. Время - три ноль-ноль. По Гринвичу.
И, в общем, можно было бы уже сейчас начать рассказ о том, как происходил суд. Но ночью накануне суда Тени Ученого была оказана последняя милость ("Как перед смертью", - подумала Тень Ученого); ей разрешили прогулку - и не сообщить об этом автор считает себя не вправе. Итак, прогулка происходила ночью - в такое время, когда все спят и только тени, бессонные тени людей танцуют в елисейском хороводе, о чем, как мы помним, сами спящие не имеют ни малейшего представления. Они видят сны, но видеть сны - несерьезное занятие.
Для Петра Ставского это была первая ночь дома. Только сегодня выписали его из больницы, а уже завтра предстояло случиться такому... Петр знал, что именно произойдет, но в данный момент спал и даже при всем желании не мог бы рассказать о событиях завтрашнего дня. Однако тень его, бессмертная Тень Ученика, как и каждую ночь, дежурила у тени-равелина: два месяца почти ничего не снилось Петру. И вот Тень Ученого вышла на тень-площади.
- Магистр! - позвали ее.
- Господи, Петер... Петр! - метнулась к неподвижной тени Тень Ученого.
И долго-долго стояли в тусклом свете ночи две тени, наконец нашедшие друг друга, - стояли не двигаясь и ничего не говоря.
- Как ты нашел меня? - спросила наконец Тень Ученого.
- О Вас говорит вся Атлантида. А кроме того, сценарий... - Тень Ученика развела тенями-рук. Тени-рук дрожали.
- Да-да, сценарий... - вспомнила Тень Ученого. - Логика развития сюжета. А я все сокрушался, что мы не поговорили.
- Мы поговорили, Станислав Леопольдович. Мы обо всем поговорили с Вами. Я прочитал "Руководство..."
- Руководство... к чему? - поинтересовалась Тень Ученого.
- Руководство к... да нет, "Руководство по ориентации в Элизиуме". Есть такая книга.
- Действительно есть?
- Есть. И я думал, что написали ее Вы.
- Видит Бог...
- Теперь я знаю, что не Вы. Меня сбили две буквы - S.L. Правда, мне объяснили, что это означае "sans lieu", без места... то есть место-издания-неизвестно. Но я все равно думал, Вы. Место вашего пребывания тоже было неизвестно.
- Как же ты догадался о нем?
- Сначала через Эмму Ивановну, она рассказала все Эвридике, а та рассказала мне. Потом - дочитав до конца "Руководство..." Но еще раньше, до Эммы Ивановны, я... не знаю, как объяснить, но я уже начинал понимать, кто Вы, - все время возвращаясь к нашей встрече в Сивцевом Бражке, откуда Вы потом переехали к Эмме Ивановне, и к началу "Руководства...": я ведь нашел его через день после встречи с Вами. Однако как бы там ни было...
- Да-да, как бы там ни было, у нас мало времени выяснять подробности встречи. Странно, правда, что кто-то пишет подобные книги -ну да бог с ним! Я должен просить у тебя прощения, Петр.
- Господь с Вами, Станислав Леопольдович...
- Молчи, молчи, я очень виноват перед тобой. Нельзя поманить и бросить. Нельзя отдернуть уже протянутую руку. Прости меня. Я должен был на другой же день найти тебя. Ты ведь приходил?
- Да, магистр. На другой день и приходил, но это неважно...
- Важно!.. А я все раздумывал, посвящать ли тебя в наши елисейские дела: я ведь не понял тогда, что ты и есть Петер. Да и как понять через столько лет! Ты ведь очень изменился... Ну а потом - потом от меня уже мало что зависело: я, правда, тенью бродил за вами с Эвридикой. Но я видел, что вы счастливы. А счастливым живым нет дела до мертвых.
- Нет, магистр, я думал о Вас. Правда, я слишком поздно рассказал все Эвридике и теперь жалею, что так поздно: многое можно было бы изменить, узнай она... Но - дело прошлое. Дайте мне вашу мантию.
- Зачем?
- Магистр... я прошу Вас. Я останусь здесь вместо Вас... молчите! Когда завтра это обнаружится, суд состояться не сможет. А мне уж удастся на Земле удержать Вас около себя, когда тень мою отпустят туда; им нет смысла оставлять ее здесь.
- Это не выход. Тогда они рассредоточат тебя, а для меня это еще страшнее.
- Но Вы не знаете всего, магистр... Я знаю: Орфей, ученик музыки, возлюбивший музыку больше жизни и за это растерзанный, а останки его... мои останки разнесли по всему свету. Тень распалась на множество теней, уникальный случай. И дала жизнь множеству носителей: мне пришлось быть множеством и совершать одновременно по нескольку витальных циклов. Лавина витальных циклов - параллельных, последовательных, набегающих один на другой! Вот тебе: живи, живи!.. Пытка жизнью за нелюбовь к жизни. А ко времени Вашего витального цикла я существовал уже только в двух образах: Вашего ученика и ученика в труппе бродячих артистов. Но я снова продемонстрировал презрение к жизни - тем, что убил себя после Вашей смерти. И все началось снова!..
- Боже мой! - Тень Ученого всплеснула тенями-рук.
- Я пожертвовал собой ради смерти. А жертвовать собой можно только ради жизни. И я опять закрутился в водовороте витальных циклов.
- Теперь я понимаю, почему за двести лет мы ни разу не встретились в Элизиуме, - вздохнула Тень Ученого. - Ты совсем помалу бывал здесь.
- Конечно... Ведь ученик - это несостоявшаяся индивидуальность: чтобы изжить в себе ее, времени много не надо. Но теперь я устал и хочу в Элизиум. В этом витальном цикле, когда мне удалось наконец собрать все тени в одну, так, кажется, возник Петр Ставский? - я тоже пытался совершить самоубийство. Оно не удалось. Я прыгнул с балкона третьего этажа... И всего-навсего сломал ногу. Думаю, что пытка бессмертием закончена, и я могу наконец побыть просто тенью. Дайте мне Вашу мантию, иначе меня не впустят в тень-равелина. А там, на Земле... пусть Петр Ставский поспит суток трое!
- Погоди, Петр. Это ведь будет все равно что самоубийство. Скажи лучше, как ты попал на Атлантиду - в ту ночь, когда я выступал с речью?
- Я? - удивилась Тень Ученика. - Да-да-да... Мне приснился сон: я тогда на минутку выключился, дежуря в приемном покое Института Склифософского. Я привез туда Эвридику. А как раз в тот самый день я читал про Атлантиду в книге... и увидел сон об Атлантиде. Правда, я плохо помню его.
- Да, но тень твоя была почти неузнаваема: очень странные, чужие очертания...
- Видите ли... - Тень Ученика сконфузилась. - Просто тогда, в больнице, на мне была куртка дутая и сапоги... Куртка-у-тебя-дутая-сапоги-дутые-и-самты-весь-дутый, сказал карлик. А Вы еще в Сивцевом Бражке объяснили мне, что одеваться надо никак... дабы не быть иллюстрацией места и времени. Но я снова был в куртке и сапогах, а тогда тень получается ужасной!.. Так Вы дадите мне свою мантию?
- Нет, - покачала тенью-головы Тень Ученого. - В тень-равелина вернусь я. Кроме всего прочего, мне непременно нужно выступить завтра на суде. Вот, прочти записку: у меня есть союзник. Мне помогут завтра. А тебя - тебя просто не станут слушать. Но даже если меня рассредоточат, я все равно успею кое-что сказать. Так-то... Петр. Я только прошу тебя: на случай, если меня рассредоточат... запомни, пожалуйста этот сон, он важный. Постарайся не забыть, когда проснешься у себя в Москве, ведь последний свой сон обо мне ты забыл... Я очень виноват перед тобой. Прости.
- Мы еще встретимся! - начала было Тень Ученика, но в ту же секунду мгновенно сжалась - и улетучилась. Петр Ставский проснулся.
Он помнил все, что происходило во сне. И помнил еще, что встать сегодня нужно очень рано: в пять утра. Потому что в половине седьмого по московскому времени на Атлантиде должен был состояться суд над Тенью Ученого.
Автор предложит своего рода стенограмму суда - в нескольких фрагментах.
Фрагмент 1.
Тень Судьи.Почему Вы отказались от Тени Адвоката?
Тень Ученого. У меня нет причин защищаться. Я собираюсь нападать.
(Тень-шума на тени-площади)
Фрагмент 2.
Тень Прокурора. Считаете ли Вы, что злоупотребили своим открытием под названием "контактная метаморфоза", за которое совсем недавно Вас наградили тенью-ордена?
Тень Ученого. К настоящему времени мой взгляд на сущность контактной метаморфозы сильно изменился. Я прошу у суда разрешения рассказать, в силу каких причин.
Тень Судьи. Суд слушает вас.
Тень Ученого. Благодарю. Должен ли я как-нибудь ограничить мой рассказ во времени?
Тень Судьи. Нет.
Тень Ученого. Благодарю. Как известно суду, я постоянно занимался исследованием контактов между царством мертвых и живыми -с момента моего появления в Элизиуме. За это я был объявлен там тенью-нон-грата, но по чистой случайности оказался на Атлантиде, предоставившей мне что-то вроде политического убежища. Я решил, что именно здесь мои усилия будут правильно поняты. Действительно, мне была вручена тень-ордена. Однако, прошу прощения, совсем ничего для меня это не значило, поскольку я никогда не заблуждался относительно масштабности моего так называемого открытия, интуитивно чувствуя, как оно далеко от того, что в принципе возможно. Меня привлекала лишь мысль, согласно которой контактная метаморфоза будет способствовать пониманию человеком того, что не все в жизни поддается разумному истолкованию, и тем самым приближать его к осознанию загадочности бытия, сложности ответа на вопрос, какие события ожидают человека после смерти. Однако теперь мне кажется, что в случае с контактной метаморфозой я зашел в тупик. Смоделировать ту самую ситуацию, которой ждет человек, - нетрудно. Гораздо труднее и... нужнее - удержать человека на грани открывшейся ему догадки. Ведь однократное чудо потому так контрастирует с действительностью, что оно однократно! Как же жить человеку после, когда он уже причастен тайнам? И можно ли упрекать его в том, что отныне он будет требовать все новых и новых откровений?
Теперь я совершенно убежден, что в основе контактной метаморфозы лежит ложная идея. Реализуя ее, я лишь увеличивал человеческие страдания. Те, кому издали показали другую-жизнь, а в руки не дали, - вдвойне несчастны. И у меня есть подтверждения этому. Я исполнял контактную метаморфозу дважды - с молодым человеком по имени Петр Ставский, оказавшимся моим учеником во времена моего последнего витального цикла... чего я никак не мог предвидеть, и с мальчиком по имени Игорь. В первом случае я был "случайным знакомым", встреча с которым оказалась необходимой Петру Ставскому, во втором собакой, о которой мечтал мальчик. Однако уже после первой встречи с ними я понял, что они ждут моих появлений еще и еще. Человек одинок и привыкает быстро. А отвыкает долго и болезненно. Вот почему не контактная метаморфоза... не однократный контакт с тенью нужен человеку, но постоянное участие каждого из нас в жизни человечества. Сначала Атлантида, а потом и Элизиум в целом обязаны курировать живых, не оставлять их наедине с собой.
Чем занимается атлантическая тень? Ничем. Дни и ночи проводит она в имитации деятельности - необязательных разговорах, пустых встречах, осатаневает от тоски и лени, но почти никогда - за очень редкими исключениями - не посещает Земли. Так пусть каждая тень -посмотрите, сколько вас здесь! - выберет себе хотя бы по одному питомцу - охраняет, воспитывает его, устраивает ему желанные встречи и приятные сюрпризы. А накануне смерти пусть шепнет она человеку полную правду о бессмертии души: человек будет готов выслушать эту правду и поверить ей. Благодарю.
Тень Генерала. Почему Тени Ученого разрешают читать здесь проповеди?
(Тени-голосов на тени-площади)
Тень Прокурора. Вы не ответили на мой вопрос: считаете ли Вы, что злоупотребили своим открытием?
Тень Ученого. Я считаю, что доброупотребил им.
Тень Прокурора. Так себе каламбур.
Тень Ученого. Это вообще не каламбур.
Тень Прокурора. И все же... Зачем вы рассказали стольким людям о бессмертии?
Тень Ученого. Мне будет разрешено ответить на этот вопрос полно?
Тень Судьи. Разумеется, полно.
Тень Ученого. Тогда слушателям придется запастись терпением: я действительно рассказал о бессмертии многим. Первой - Эмме Ивановне Франк, она же Клотильда Мауэр в предпоследнем витальном цикле. С 1750 по 1759 год она была моей женой. В последнем витальном цикле ей пришлось расплачиваться за старые грехи: раньше слишком многие любили ее - теперь она должна была любить слишком многих. Жизнь ее к старости сделалась одинокой - я застал Эмму Ивановну Франк с опустевшим сердцем, готовым принадлежать кому угодно. Мне следовало вернуть ей себя - и другого пути, чем рассказ о ней же, я не знал. К тому же, я люблю ее до сих пор... мог ли я скрыть от нее, что я тень?
Тень Прокурора. Я протестую. Тень Ученого пытается разжалобить нас!
Тень Судьи. Протест отклоняется.
(Тени-голосов на тени-площади: правильно!)
Тень Ученого. Вероятно, я могу продолжить. Вторым человеком, узнавшим о существовании Элизиума и Атлантиды.был Аид Александрович Медынский. Это заведующий отделением соматической психиатрии в Институте скорой помощи имени Склифософского. Изучая состояние глубокого шока, записывая обрывки бреда людей, находящихся в таком состоянии, этот мудрый человек опытным путем почти добрался до разгадки тайны бессмертия. Я счел своим долгом помочь ему на последнем этапе его поисков. Живые ищут контактов с нами, высокочтимые Тени! Нам ли отвергнуть руки, протянутые оттуда? Ведь деятельность атлантических ученых и сегодня направлена на разработку контактов с живыми. Все ли мы знаем об их исследованиях?
Тень Президента. Это пропаганда.
Тень Прокурора. Тень Президента права. Я протестую.
Тень Судьи. Протест принят.
(Тень-свиста над тенью-площади)
Тень Судьи. Я прошу Вас говорить по существу.
Тень Ученого. Мне казалось, что я так и делаю. Наконец, мне пришлось рассказать о бессмертии ребятам из музыкального ансамбля "Зеленый дол". Мне грозила опасность, и они помогали мне спастись. Мой рассказ был наградой за это.
Тень Председателя САТ. Сначала нужно выслушать Тень Свидетеля!
Тень Судьи. Суд знает о порядке судопроизводства.
Тень Ученого. Я ничуть не жалею о содеянном. Вопреки моим опасениям, молодежь с подобающей серьезностью приняла сведения об Атлантиде. Считаю, что людей можно смело ставить в известность обо всем, что ждет их после смерти; они вполне готовы к этому.
Тень Прокурора. Вы хотите сказать, что рассказывали живым о бессмертии по причинам вынужденного порядка?
Тень Ученого. Именно так. Кроме того, за мной постоянно следили, потому что я не хотел возвращаться на Атлантиду атлантической тенью. Случилось так, что на Земле мне удалось... мне удалось стать живым.
(Тени-возгласов-изумления на тени-площади)
Я знал, что меня накажут за это, и бежал возмездия. Я искал себе союзников среди живых.
Фрагмент 3.
Тень Ученого. Я прошу у суда разрешения рассказать о событиях, имеющих отношение к этой ночи. Когда один из молодых людей попытался ударить Тень Незнакомца тенью-палки, Тень Незнакомца схватила тень-палки и сделала вот такой жест. В тог же миг палка в руках молодого человека сломалась.
(Тень-шума на тени-площади)
Далее, когда на хорошо освещенном потолке происходила битва Тени Незнакомца с тенью случайно оказавшейся в помещении птицы, птица начала ронять перья и через короткое время упала на пол полузадушенной.
(Тень-грозного-гула на тени-площади)
Отсюда я сделал вывод, что Тени Незнакомца известна форма прямого контакта тени с носителем через тень последнего, я бы назвал такой контакт контактом по типу театра-теней. А поскольку Тень Незнакомца была, по-видимому, послана Советом Атлантических Теней...
Тень Председателя САТ. Я протестую, это голословное обвинение!
Тень Судьи. Протест принят.
(Тень-оглушительного-рева на тени-площади)
Тень Судьи. Вызывается Тень Свидетеля.
Фрагмент 4.
Тень Свидетеля. С самого начала мне следует, наверное, назвать мое имя...
Тень Председателя САТ. Вас об этом никто не просит!
Тень Судьи. К порядку.
Тень Свидетеля. Мое имя - Тень Тайного Осведомителя. Немногие знают о моем существовании... единицы. На протяжении не одного тысячелетия в мои обязанности входило осведомление Совета Атлантических Теней о настроениях на Атлантиде. Мое последнее задание - шпионить за Тенью Ученого, докладывая о ее поведении членам САТ, и в удобный момент попытаться вернуть Тень Ученого на Атлантиду.
Тень Председателя САТ. Я протестую. Это разглашение государственной тайны!
Тень Судьи. Протест принят... Но тайна уже разглашена.
(Тень-смеха на тени-площади)
Тень Свидетеля. Я выполнил задание САТ. И теперь Тень Ученого перед вами.
(Тень-ропота на тени-площади)
А я проклинаю себя за это. Я тот, кто злоупотребил его открытием контактной метаморфозой. Чтобы выманить Тень Ученого из кафе "Зеленый дол", я принял облик самого близкого для Тени Ученого человека - Эммы Ивановны Франк, которую в тот момент ожидали в кафе. Перед этим я вступил в прямой контакт с тенями живых; такая форма контакта действительно называется театр-теней. Но я получил разрешение использовать данную форму контакта в случае крайней необходимости. Это было разрешение САТ.
Тень Председателя САТ. Я протестую... да что же происходит-то!
Тень Судьи. Протест отклоняется.
(Тени-голосов на тени-площади: правильно!)
Тень Свидетеля. Но все мои маневры были раскрыты присутствовавшими, и тогда я... тогда я прилетел с тенью автомата, вознамерясь расстрелять тени живых... а значит, и самих живых, но Тень Ученого выключила свет в зале, спасая их и добровольно отдаваясь в мои руки. Я препроводил Тень Ученого на Атлантиду. А раскаянье... на раскаяние я не имею права.
Тень Монарха. Остановите его, он в истерике!
Тень Судьи. К порядку. Суд должен давать возможность раскаяться.
Тень Свидетеля (поспешно). В памяти моей я постоянно возвращаюсь к сценам... тем московским сценам, свидетелем которых я был, и понимаю, что никогда не видел таких гуманных, таких сердечных отношений между людьми. И я осознаю, как мы бедны, высокочтимые Тени! Как бедны и жалки мы рядом с Тенью Ученого...
Тень Прокурора. Я протестую. Тень Свидетеля выступает не по существу.
Тень Судьи. Протест принят. Ближе к делу,пожалуйста.
(Тень-рева на тени-площади)
Тень Свидетеля . Но я еще раз выполнил контактную метаморфозу: в облике незнакомца я пришел в палату Петра. Я рассказал ему, Эвридике и Аиду Александровичу все, что знаю, - без утайки, я сообщил им о сегодняшнем суде над вами: им известен день и час... но, к сожалению, я ничего не мог подсказать им в данной ситуации. Они бессильны - бессилен и я! Меня заставляли лгать на суде. Меня заставляли лжесвидетельствовать. Но теперь я скажу правду.
Тень Падишаха. Выведите его, он сумасшедший!
Тень Судьи. К порядку. Говорите, Тень Свидетеля.
Тень Свидетеля. Высокочтимые Тени, вам и невдомек, какими совершенными формами контактов располагает теперь Атлантида. Тени членов САТ скрывают от вас результаты исследований, проводимых тенями атлантических ученых. Цель Совета Атлантических Теней - удерживать вас от контактов с живыми, препятствовать вашему духовному обновлению, убить в вас всякий интерес к жизни и в конце концов навсегда оставить вас на положении теней мертвых. А всего-то-навсего затем, чтобы иметь возможность оставаться у власти - столь эфемерной... теневой власти, что и говорить о ней всерьез смешно! Несуществующая власть над несуществующими обитателями несуществующего острова. Вы только представьте себе, насколько никого из нас нет! И насколько есть Тень Ученого, о котором сейчас уже скорбят восемь живых, полных готовности помочь ему людей! И что же - ради эфемерной власти эфемерных существ, объединенных в Совет Атлантических Теней, мы откажемся от полноценной жизни? Вспомните, чем была Атлантида раньше, вспомните!.. Мифы о ней до сих пор еще ходят по Земле. Там не забыли о нас!
Тень Судьи. Наверное, мне следует остановить Вас. Вы выходите за рамки обсуждаемого здесь дела.
Тень Свидетеля. Еще несколько слов.
(Тени-криков на тени-площади: пусть говорит!)
Я только хочу предупредить вас, высокочтимые Тени, о страшной опасности. Пока Тень Тайного Осведомителя... то есть я, была рабом Совета Атлантических Теней, воля моя ослабла. Мне сказали: в случае необходимости используй прямой контакт по типу театра-теней. Завтра это могут сказать вам. И вы отправитесь на Землю - уничтожать жизнь во имя смерти, даже не понимая, кто ваш противник и зачем надо уничтожать его. Любое научное открытие может быть использовано во вред человечеству, когда представления о том, что такое человечество, становятся туманны. Когда человечество перестает восприниматься как единение отдельных человеков... отдельных людей, которыми когда-то был и каждый из нас! Опомнитесь, высокочтим ые Тени!
Тень Судьи (под тень-общего-рева). Прошу соблюдать порядок. Довольно, Тень Свидетеля. Я лишаю вас слова.
Фрагмент 5
(из речи Тени Ученого)
...и потому, высокочтимые Тени, я хочу сказать о живых. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в конце двадцатого века живые, как никогда, нуждаются в помощи извне. Одни изверились во всем - многие из них давно уже не ждут ниоткуда поддержки. Другие готовы принять любое объяснение скучной и бессмысленной своей жизни - при условии, что объяснение такое придет со стороны. Они не желают выслушивать никаких объяснений от себе подобных: люди устали от себе подобных и ломаного гроша не дадут за их откровения. Все, что могло произойти с ними на Земле, уже произошло: человечество изношено, издергано и по горло сыто впечатлениями, которые может дать опыт. Вот почему люди так падки на мистику - даже мистику в самой дурной редакции, вот почему так жадно ловят они хоть какие-нибудь сигналы Инобытия. Они не могут и не желают согласиться, что формы жизни исчерпываются набором известных им проявлений, - трудно осуждать их за это. Неужели кроме того, что есть, терзаются они, - нет ничего? Неужели эта вот, осязаемая, шероховатая поверхность действительности и есть та самая жизнь, за которую мы так цепляемся?.. Люди забыли Бога и все реже смотрят на небо. Мы можем помочь им вспомнить, мы можем удержать человечество от последнего падения - падения в объятья материального мира. Когда оно произойдет, нам уже не вырвать людей из этих объятий.
Тень Свидетеля (с места).Тень Аида не допустит падения.Скоро она вернется из дольнего мира сознающей себя тенью! Золотой век Элизиума близок!
(Тень-взрыва-оваций на тени-площади).
Фрагмент 6
(из обвинительного заключения).
"Учитывая серьезность выдвинутых Тенью Тайного Осведомителя обвинений, а также ценность сведений, полученных от Тени Ученого, суд вынес решение взять под стражу Тени Членов САТ до момента выяснения степени обоснованности обвинений в их адрес и снять с них обязанности Теней Присяжных заседателей. Суд также вынес решение, что все вышеизложенное не умаляет вины Тени Ученого в нарушении поправки к законодательству Атлантиды, согласно которой тень, противоправным путем осуществляющая витальный цикл (как внеочередной, так и очередной), подвергается немедленному публичному рассредоточению независимо от побудительных мотивов соответствующего противоправного действия".
Да, дорогие мои, строги законы Атлантиды... И даже имеют, как это ни странно, обратную силу.
Приговор приводили в исполнение через час. Не только подавленные, выбитые-из-привычной-колеи тени Атлантиды, но и некоторые тени Элизиума, узнавшие сюда дорогу (а в последнее время таких становилось все больше), собрались на тени-площади, отдавая себе отчет в том, что впервые за всю историю Атлантиды будет сейчас совершена страшная несправедливость... В обвинительном заключении сказано: независимо-от-побудительных-мотивов-соотве тствующего-противоправного-действия. А между тем в мотивах-то все и дело!
- Мы казним сегодня лучшего из нас, - прошелестела над тенью-площади какая-то тень, и в небывалой тишине тень-голоса прозвучала тенью-выстрела.
Тени женщин и мужчин стояли, скорбно опустив тени-голов. Тени-голов поднялись, когда через тень-площади из тени-администрати-вного-здания повели Тень Ученого...
Тень Ученого ступала широкими шагами, закинув тень-головы высоко к тени-неба и не разбирая тени-дороги. Атлантические тени почтительно расступались перед Гуманизмом и Мужеством, Добротою и Благородством. Они снимали с теней-голов тени-шапок-и-шляп, тени матерей протягивали тени детей к Тени Ученого - и та тенью-руки касалась их, как бы благословляя, а некоторые тени становились на колени и стояли так долго... Тень-площади все не кончалась - и шла Тень Ученого по тени-площади, и несла свою прошлую, настоящую и будущую жизнь на жертвенник Атлантиды - ах, мудрой страны, ах, безумной страны!
Процедура рассредоточения оказывалась совсем простой; поместить тень в тень-темной-камеры без тени-отверстия, без тени-какой-бы-то-ни-было-щели и плотно закрыть тень-камеры; потом зажечь внутри тени-камеры тень-пламени только на одно мгновение: и когда откроется тень-камеры, тени-жертвы там уже не будет... Вот как просто! Самое страшное всегда происходит просто.
Тень Ученого подошла к тени-камеры, обернулась. Многомиллионная толпа теней не шевелилась, слившись в общую темную массу. Тени Судей стояли рядом с тенью-камеры: сняв тени-шляп, опустив тени-голов низко. Ничего не могли изменить даже они, ибо жизнь происходила по своим законам, по своим законам происходила и смерть...
А на Земле двенадцать человек (включая няньку Персефону, Аида Александровича и Рекрутова) к восьми часам по московскому времени уже давно сидели в темном подвале кафе "Зеленый дол". Все щели подвала были тщательно заткнуты накануне, маленькое оконце занавесили толстым одеялом. Ни один луч света не мог проникнуть в подвал - так что по причине полного отсутствия света ни у кого из двенадцати не было тени. Трудно сказать, куда направились эти тени из подвала: ведь ощущения тени нет у живых. Но каждый страстно мечтал, чтобы тень его полетела в сторону Атлантиды, хоть и готов был к тому, что никогда не узнает, как вела себя на Атлантиде предоставленная самой себе тень. На всякий случай никто не произносил ни слова.
Итак, Тень Ученого подошла к тени-камеры, обернулась. И в этот самый момент из первых рядов тени-толпы вышли двенадцать теней и подошли к Тени Ученого. Тень Ученого узнала почти всех.
- Я с Вами, магистр, - произнесла Тень Петра.
- И я, - подхватила Тень Эммы Ивановны.
А вслед за тем еще десять раз прозвучала коротенькая фраза из двух слов. В тринадцатый раз ее гортанно произнесла небольшая тень птицы.
- Что там такое? - тени Атлантиды поднимали тени-голов, становились на тени-носков, пытаясь понять заминку, случившуюся у тени-камеры.
А там Тени Судей пытались образумить двенадцать теней, слившихся с Тенью Ученого, чтобы вместе с ней войти в тень-камеры. Небольшая тень птицы венчала этот не слишком высокий монумент Преданности.
- Тени живых хотят, чтобы их рассредоточили вместе с Тенью Ученого, зашелестело в толпе, и поползло сведение это - шелестами, шорохами, шепотами...
Вдруг из середины тени-толпы выбежала Тень Какого-то Студента. Она крикнула:
- И я с вами!
- Подождите меня! - откликнулась, пробираясь издалека, Тень Никому-не-знакомой Женщины.
- И меня! - это была Тень Художника.
- И меня! - это была Тень Аптекаря. Из тени-толпы к тени-камеры потянулась цепочка теней.
- Секунду, я тоже подхожу!
- И я тоже.
- Меня возьмите с собой!
- Погодите, отсюда трудно выбраться...
Как вода-из-шлюза, хлынула толпа-теней к тени-камеры. Тени смыкались плотно - в одну огромную... громадную... безграничную тучу! Закружились и примкнули к ней Тени Судей, не пожелавшие остаться в стороне. Толпа дышала, как один человек: братание... нет, больше - братство теней. Доселе незнакомые тени обнимались, пожимали друг другу тени-рук - и в общем гомоне то и дело выделялись тени-голосов: то одного, то другого, то нескольких сразу:
- Как ваше имя? Чья вы тень?
- Я Тень Альбера Марке, а вы?
- Я Тень Одной-девочки из Сан-Диего.
- Простите, вы, кажется. Тень Родена?
- Да...
- Я Тень Прачки. А вы - Тень Биолога? Очень рада, очень!
- А вот Тень живого-человека! Как вас зовут на Земле?
- Меня зовут Святослав Рихтер... я сейчас сплю, но я с вами!
- Я Тень Лесника, здравствуйте.
- Я Тень Анны Маньяни...
И вот уже не слышно теней-голосов: все они слились в тень-общего-ликования, гигантскую... исполинскую тень! Совсем крохотной рядом с ними казалась тень метавшейся над тенями-голов и обезумевшей от счастья птицы...
Одиннадцатого июня тысяча девятьсот восемьдесят третьего года в восемь часов четыре минуты по московскому времени на Земле случилось солнечное затмение - солнечное затмение в честь победы Духа над Материей, Жизни над Смертью, Разума над Безумием...
Двенадцать человек с вороном, сидевшие в подвале одного из московских кафе в абсолютной тьме, ничего об этом не знали.
Глав а ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
На суде и В ХОРОВОДЕ
- Товарищи, - начала председатель товарищеского суда Сычикова 3.И., обращаясь к своим товарищам, - мы все собрались тут, чтобы обсудить и резко осудить антиобщественное поведение двух наших товарищей - заведующего отделением соматической психиатрии Медынского А.А. и врача Рекрутова С.С. В отделении чрезвычайное положение: никогда еще товарищескому суду не доводилось решать такого... я не боюсь этого слова, не-влезающего-ни-в-какие-рамки вопроса.
- Простите, можно уточнить: какого именно слова Вы не боитесь? -немедля встрял Аид Александрович.
- Я не боюсь вышесказанного слова, - заправски отчиталась председатель-Сычикова-З.И. - Прошу меня больше не перебивать!
- Если будет возможность, - пообещал Аид Александрович.
- Итак, - продолжала председатель-Сычикова-З.И., - не все, наверное, знают, для чего мы здесь...
- Вы уже говорили, для чего, - напомнил Аид Александрович.
- Не срывайте мне товарищеский суд, - приказала председатель-Сычикова-З.И., румяная вся. - Я вкратце расскажу о том, что случилось у нас в отделении.
- Можно выйти? - спросил Аид Александрович.
- То есть как это выйти? Куда выйти?
- Ну, я пока бы сходил... мне стыдно сказать, куда. Тем более, я знаю, что случилось у нас в отделении.
- Не один Вы знаете. - Председатель-Сычикова-З.И. вступилась за коллектив. - Все знают. Но сидят же! И вы сидите.
- И мне сидеть? - обособился Рекрутов.
- Конечно. Вы ведь не исключение!
- Не исключение, - согласился Рекрутов. - Я просто спросил, касается ли Ваше распоряжение и меня, как всех... Что, спросить нельзя?
- Хорошо, спрашивайте. - Председатель-Сычикова-З.И. начала ждать. И не дождалась. - Чего же Вы молчите?
- Спросил уже, - объяснил Рекрутов. - Вы даже уже ответили. Что ж сто раз одно и то же спрашивать?
- Так... я продолжаю. Меня вызывали кое-куда по Вашему обоих вопросу... - Председатель-Сычикова-З.И. выразительно взглянула через потолок прямо в небо. - Просили разобраться и доложить.
- Докладывайте! - распорядился Аид Александрович.
- Сначала пусть разберется, - посоветовал Рекрутов и добавил: - Фиг она разберется: тут сам черт ногу сломит. - И неприятно хихикнул, мелко.
- Я просила бы соблюдать... - зашлась председатель-Сычикова-З.И. - И дать мне наконец рассказать подоплеку. Подоплека была такая: первого апреля все мы с глубоким прискорбием узнали, что Аид Александрович сошел с ума. Узнав об этом...
- Я тоже, между прочим, сошла с ума, - обиделась на невнимание нянька Персефона.
- Хорошо, после! Так вот... Узнав об этом, нас охватило большое волнение, потому что мы привыкли видеть в Аиде Александровиче не только заведующего отделением соматической психиатрии, но и человека.
- Когда это Вы успели привыкнуть? - не выдержал Аид Александрович.
- Поэтому, - не-обращая-внимания-на-происки, торопилась председатель-Сычикова-З.И.. - нас не могло оставить равнодушными это его помешательство, которое мы приняли глубоко к сердцу. Весь день первого апреля мы провели в искреннем волнении, многие из нас лишились сна и отдыха...
- Вот это напрасно! - по-ходу-дела комментировал Аид.
- ...сна и отдыха, да. И были охвачены тревогой за судьбу нашего друга и коллеги. Отделение соматической психиатрии и некоторые из больных буквально осиротели...
- Почему только некоторые из больных? Все осиротели! Я и сам осиротел! - Аид не отставал...
- Когда к вечеру того же дня я застала в раздевалке медсестру Кабанову, мне даже показалось, что глаза ее застилали горькие слезы. Практически ни один человек не остался безучастным. Уже в четыре часа члены месткома собрались в ординаторской, чтобы решить, чем можно помочь жене и близким сумасшедшего. Мы приняли постановление купить цветы супруге Медынского А.А. и пойти к ней на другой день для оказания посильной помощи в дальнейшем...
- Почему в дальнейшем? Сразу надо оказывать!
- Были собраны материальные средства, некоторую значительную сумму выделили из фонда месткома...
- А куда она делась? Мне не давали!
- Но каково же было наше, я не побоюсь назвать это своим именем, негодование, когда на следующий день мы узнали, что то была только грубая первоапрельская шутка!
- Дерьмо я, - признался Аид Александрович и уронил голову на пол. Какое же я дерьмо!
- И я дерьмо, - присоединился Рекрутов.
- Мы все дерьмо, - обобщила нянька Персефона.
- Не нужно говорить за всех! - с чувством собственного достоинства произнесла председатель-Сычикова-З.И.
- Да! - горячо подхватил Аид Александрович. - Пусть председатель-Сычикова-З.И. сама скажет, что она дерьмо!
- Ну это уж... я не знаю, конечно... Товарищи! Я не буду тут перед вами умалять значения Медынского А.А. как врача и профессора, но сейчас он интересует меня как личность. И личность эта вызывает мое глубокое волнение.
- Наверное, Вы влюблены в меня, - элегически заметил Аид Александрович.
- Нет... мое волнение связано с другим.
- Кто он, коварная? - взревел Аид.
- Шуточки Ваши - плоские.
- Плотские? - Аид сексуально улыбнулся.
- Я не буду говорить, - решила наконец председатель-Сычикова-З.И.
- Не обижайтесь, лапочка. - Рекрутов сложил руки на груди. - У Аида Александровича просто настроение хорошее. Судите дальше нас!
- Отстаньте.
Аид Александрович встал и поскреб лысину.
- Тогда я сам буду судить себя, - сказал он самоотверженно. Беспощадно и бескомпромиссно. - И вдруг рявкнул: - Встать! Суд идет!
- Я не позволю превращать судилище в балаган! Как председатель товарищеского суда я выношу Вам протест. И считаю Ваше поведение неприличным для человека!
- Уймись, - устало попросила нянька Персефона. - Что ты орешь-то? Ну, пошутил человек - с кем не бывает?
Все смотрели на председателя-Сычикову-З.И. с интересом. Ей пришлось встать.
- У меня все, - сказала она.
- А меня, что ж, не будут судить? - Нянька Персефона, кажется, всерьез считала себя в чем-то виноватой.
- Вас-то за что? - смеялись вокруг.
- Ну как же... Я ведь вас-то веником охаживала, словами поносила погаными... машину вот разбила! - Она кивнула на пишущую машинку, которую давно уже починили. - Надо, значит, и меня судить по справедливости, по советским законам!
- Серафима Ивановна, Вам будет дано слово, а пока попрошу не вмешиваться. Так, товарищи, какие будут предложения? Продолжать товарищеский суд или как?
- Продолжать! - послышались веселые голоса. - Слово имеет записавшаяся Тюрина Ольга Тимофеевна.
Записавшаяся Тюрина Ольга Тимофеевна сначала никак не отделялась от стула, но потом все-таки отделилась, чего никто уже не ожидал.
- Толста ты, гляжу я на тебя, Тимофевна, - усугубила нянька Персефона, кручинясь. - Прямо в зоосаде тебя показывать, да смотреть не пойдут!
Тюрина Ольга Тимофеевна не обижалась, когда с ней попросту, по-народному.
- Все мы знаем Медынского Аида Александровича, - начала она без комплексов, - около сорока лет проработавшего в институте. За долгие годы совместного труда на поприще соматической психиатрии он зарекомендовал себя с положительной стороны и пользуется большим авторитетом среди подчиненных. Активно участвует в общественной жизни отделения, являясь его заведующим. Однако за все последнее время он показал себя с отрицательной стороны. Он... - Записавшаяся запнулась и сразу же забыла слова. - Он груб и неделикатен с подчиненными... морально неустойчив сильно. И политически... Записавшаяся совсем растерялась, поскольку этим "политически" испугала прежде всего себя, - и ...вообще. Предлагаю его осудить.
- На десять лет с пребыванием в колонии строгого режима, - вяло заключил Аид.
- Я этого не говорила, - предупредила докладчица, опять образовывая монолит со стулом.
- Слово предоставляется записавшемуся Приходько Константину Петровичу.
Константин Петрович был пунцов, как рассвет. Он производил впечатление человека, только что вышедшего из бани, где его отхлестали березовым веником по лицу, причем отхлестали за дело. Росту был низкого... даже какого-то искусственно низкого. Приходько начал нетривиально:
- Вы знаете, что Аид Александрович мой фронтовой друг. - В слове "друг" услышалось три "р". - Но, несмотря даже на это, я вынужден признать его поведение в последнее время... э-э... плохим. Я сейчас говорю не как парторг - э-э... как индивид говорю. И как индивиду мне... э-э... больно, что он так подшутил над друзьями и приятелями, преданными ему душой и телом.
- Костя, - поморщился Аид Александрович, - оставьте ваше тело себе. Да и душу вашу оставьте в этом теле.
- Вот... опять! - подчеркнул Константин Петрович. - Поведение Аида Александровича антиобщественное и... э-э... античеловечное. Даже дружба, - в слове этом опять был переизбыток звуков "р", - не мешает мне смотреть на вещи... э-э... смело и называть их своими именами.
- Костя, - опять не сдержался Аид Александрович, - ну я понимаю, Ольга Тимофеевна дура, но Вы-то, вроде бы..
- Это как же Вы обзываете меня дурой? - очень удивилась Ольга Тимофеевна.
- Просто тут прозвучал призыв называть вещи своими именами - вот я и попробовал. - Аид Александрович снова повернулся к Косте. - Ну, что Вы так взволновались, Костя? Я же по дррружбе! - он как мог приналег на звук "р".
- Знаете что! - С Константином Петровичем случился приступ альтруизма. - Вы совсем, между прочим, распоясались. Никто, действительно, не давал Вам права оскорблять уважаемую женщину!
- Видите ли, Костя, - растерялся Аид Александрович, - я ни капельки не уважаю эту женщину, как, впрочем, и Вы, судя по вашим недавним словам, напомнить? Старая, кстати сказать, острота - насчет количества извилин и места их локализации...
- Ну, Константин Петрович, - зашипела Ольга Тимофеевна, - я вам покажу, сколько у меня извилин!
- Да-да, - воодушевился вдруг Рекрутов, - расколите перед ним череп пусть убедится, гадина!
Тут уж стало неизвестно, кому оскорбляться, - и на всякий случай оскорбились все.
- Заткнитесь! - заорала Ольга Тимофеевна.
- Вы это кому? - вежливо спросил Аид Александрович.
- Вам!
В общем-то, Аид попался под горячую руку. Но тут же и отвел эту руку, ответив:
- Ми-и-илочка моя! Я терпел Вас тут, когда вы были просто дурой. Но вы на глазах превращаетесь в дуру агрессивную, а таковую терпеть я не стану. Я ведь, если Вы помните, еще заведую отделением.
Это был веский аргумент, о котором как-то действительно немножко забыли. Пришлось некоторое время помолчать.
- Слово предоставляется записавшейся лаборантке Майкиной Инне Викторовне. - Председатель-Сычикова-З.И. снова взяла власть в свои руки.
- Они что же, с ночи записывались? - поинтересовался Рекрутов. - Очень уж список длинный.
Майкина была женщиной пожилой, и, должно быть, поэтому на лице ее, круглом, как будильник, торчали усы, сильно напоминавшие стрелки. Говорила Майкина басом.
- Я тоже хочу сказать, - без околичностей вступила она, - что с Аидом Александровичем Медынским произошли за последнее время разительные перемены к худшему. Он стал грубый и нетерпимый к критике. Это особенно убедительно показано им на сегодняшнем товарищеском суде. Я не хотела поминать старое, но помяну. Он однажды назвал меня курицей, десятого декабря в прошлом году, а в начале года еще и пробкой обозвал, что я рассматриваю как недопустимое в межличностных отношениях. - Этими "межличностными отношениями" она сразила всех наповал. - И еще один раз я ушла домой раньше на два часа, потому как у меня кашель разыгрался катаральный, а он на другой день сказал, что я клизма...
- И кашель сразу прошел, - закончил мысль Аид Александрович.
- Нет, не прошел, а лишь усилился! - отомстила Майкина басом.
- Зачем же Вы по пути на работу мороженое ели?
- Я? Ела? Ничего я не ела!
- Крем-брюле за пятнадцать копеек в бумажном стаканчике.
- Видите? Видите? - всполошилась Майкина. - Я считаю, что все записавшиеся товарищи правы, характеризуя его только с отрицательной стороны!
- Кто еще хочет выступить? - вонзилась в гущу событий председатель-Сычикова-З.И.
- Я хочу выступить, - встал Рекрутов.
- Вы не имеете права голоса. Сядьте.
- Почему это? Я совершеннолетний. Паспорт могу показать! Показать? То-то... Я коротко скажу: мы должны молиться на Аида Александровича, давайте прямо сейчас начнем. На колени! - Рекрутов так неожиданно взревел к концу, что весь товарищеский суд вздрогнул-единым-вздрогом.
- Сядьте, Рекрутов! - заорала председатель-Сычикова-З.И. - Сядьте и ждите, когда о Вас будуть говорить. Вот придет представитель - тогда и скажете в свое оправдание.
- Сейчас я выступлю, - поднялась нянька Персефона. - Вот тут Майкина записывалась, а все знают, что она никогда на месте не бывает: то у нее кашель, то насморк... Молчи, молчи, милая! Я вместе с Аидом Александровичем всю жизнь. И ничего кроме хорошего, сказать о нем не могу. И строгий он, и когда грубый, и дурашливый, а человек исключительный. С его и спрос-то не такой, как с других. Что это вы все тут разошлись-то больно?
- Ой, ладно, Серафима Ивановна! - махнула рукой председатель-Сычикова-З.И. - Нам всем понятно, что вы Медынскому Аиду Александровичу давно симпатизируете, это дело ваше. И нечего тут сочувствия искать.
Нянька Персефона беспомощно глядела по сторонам - действительно, сочувствия не было на лицах. Она осторожно села на свое место, тихонько перекрестясь.
- Ну вот что, - поразительно спокойно сказал вдруг Аид Александрович, решительно вставая со своего места и подходя к председательскому столу. Дело ясное. Довольно уже истязать наши органы слуха записавшимися. Я старый человек и понимаю, что подчиненные начинают дерзко вести себя с начальниками тогда, когда им позволяют это более высокие начальники. Вы, стало быть, получили такое позволение - чего ж огород городить? Мне известно, все вы давно ждете, когда я освобожу место заведующего...
- Не все, Аид Александрович! - крикнула с последнего ряда совсем молоденькая Леночка Кругликова. - Не все, не думайте! - И осеклась: никто не поддержал ее.
- Спасибо, Лена. Спасибо. И, надо вам сказать, я действительно освобожу это место: не нужно прибегать к столь... гм... выразительным способам, чтобы ускорить и без того быстро протекающий процесс. Мне странно только, что молчат врачи. Что от имени врачей... от имени медицины высказываются люди, выполняющие в отделении, мягко говоря, не основные функции. Ну, что ж... Бог вам судья. К счастью, мой уход из института пришелся на такое время, когда я закончил исследования, которые вел много лет. Они завершились для меня весьма неожиданно - и я мечтал, как незадолго до сложения с себя обязанностей заведующего отделением соберу врачей и расскажу им о том, к чему пришел и к чему помогли мне прийти знающие люди. Но вам, дорогие коллеги, как я теперь понимаю, все это вряд ли будет интересно. Живите в мире между собой и... попытайтесь выбирать себе более достойных ораторов, которым вы в дальнейшем будете поручать говорить от своего имени. Благодарю за внимание.
Дверь открылась. Без стука вошел пасмурный п-р-е-д-с-т-а-в-и-т-е-л-ь.
- Пожалуйста, Илья Фомич, - распростерла объятья председатель-Сычикова-З.И. - С Рекрутовым не начинали еще.
Илья Фомич громко поздоровался и уселся за стол, куда, видимо, и полагалось усесться.
- Так, товарищи. Нам осталось лишь резко осудить антиобщественное поведение товарища Медынского Аида Александровича, заведующего отделением соматической психиатрии. Кто за то, чтобы осудить ... или есть другие предложения?
- Есть, - тускло произнесла нянька Персефона, но, взглянув на Аида Александровича, опустила голову.
- Пожалуйста, Серафима Ивановна! - Председатель-Сычикова-З.И. была сама любезность. - Что вы предлагаете?
Нянька Персефона неуклюже поднялась.
- Я предлагаю... не осуждать.
- Итак, есть два предложения. Голосуем за первое. Кто за то, чтобы резко осудить?
Руки начали подниматься и поднялись почти все.
- Кто против?
Четыре руки.
- Кто воздержался?
Еще две руки.
- Есть смысл голосовать за второе предложение?
- Есть! - не унималась нянька Персефона. Аид Александрович смотрел на нее с состраданием.
- Кто за второе предложение? Прошу голосовать. Те же четыре руки.
- Кто против?
Фактически все остальные.
- Кто воздержался?
Двое.
- Переходим ко второму вопросу. Илья Фомич, в каком порядке будем осуждать?
- Может быть, - вежливым голосом начал Илья Фомич, - сначала попросим Сергея Степановича самого рассказать об исследованиях, которые он ведет на базе института?
- Слово предоставляется Рекрутову Сергею Степановичу, - приняла предложение председатель-Сычикова-З.И.
Рекрутов медленно поднялся. Был он розовощек и до неприличия здоров. Невинными глазами посмотрел вокруг, улыбнулся.
- Рассказать, значит, об исследованиях?
- Не нужно! - крикнул со своего места Аид Александрович. Он вскочил и забормотал, как безумный: - Рекрутов тут вообще ни при чем, это я вел записи... около тридцати лет. Рекрутова тогда и в помине не было...
На этих словах бесшумно открылась дверь, и в комнату вошли трое. Мужчины без возраста. В хороших костюмах светлых тонов, в пестрых летних рубашках. Легкими шагами подошли они к Рекрутову и как бы отгородили его от товарищей-судей.
- Попрощайтесь с теми, кто дорог Вам, - дружелюбно сказал ему один из них.
Взгляд Сергея Степановича метнулся в сторону Аида, но Аид не отрываясь смотрел на незнакомцев.
- Вы из Элизиума? - спросил он по-древнегречески.
- Да, - по-древнегречески отвечали ему.
- Почему же Вы не забираете меня?
- Царь Аид сам решает, когда ему появляться в Элизиуме. А Рекрутов наш эксперимент: это тень, надолго внедренная в мир. Сам он ничего не знает об этом.
- Кто проводит эксперимент?
- Это государственная тайна.
- Попрощайтесь с теми, кто дорог Вам, - повторил тот же голос.
- Навсегда? - спросил Рекрутов.
- Ой, какая безграмотность! - рассмеялся собеседник.
Отделение соматической психиатрии не дышало. Рекрутов подошел к Аиду Александровичу и второй раз в жизни обнял его: казалось, через объятие это передается от одного поколения к другому весь опыт, вся медицина и вся философия...
Потом Рекрутов подошел к няньке Персефоне и тоже обнял ее. Ничего не поняла нянька Персефона, кроме того, что прощается она с Рекрутовым не по своей воле. Она часто-часто заморгала, и легко побежали молчаливые быстрые слезы. Вдруг нянька Персефона расстегнула кофточку и, почти сорвав с груди крохотное распятие, надела его на шею Рекрутову. "Господь с тобой, сынок", сказала и аккуратным старческим крестом перекрестила Сергея Степановича. Тот склонил голову.
Повременил, еще раз огляделся, нашел глазами Леночку Кругликову и, подойдя к ней, поцеловал ей руку.
- Все, - обратился он к незнакомцам. - Я готов.
- Сергей Степанович, - сухо проговорил Аид. - Мы скоро увидимся.
- Я знаю, - спокойно солгал Рекрутов. - До встречи.
Четверо подошли к стене и на глазах у отделения соматической психиатрии превратились в тени: тени сжались и исчезли в пространстве.
Судить товарищеским судом больше было некого.
...А через несколько мгновений совсем обескураженная Тень Рекрутова предстала перед другими тенями, разместившимися в тени-огромной-лаборатории.
- Слава Всевышнему, - сказала одна из них, - никаких изменений нет.
- А тут, кроме Вас, никто и не ждал никаких изменений. И Ваши ссылки на сто второй закон Тени Ньютона совершенно несостоятельны... - Очень крупная тень, взяв тень-мела и подойдя к тени-доски, начала какие-то бесконечные преобразования тени-формулы, смысл которой был совершенно непонятен Рекрутову. К Рекрутову подошла Тень Ассистента.
- Вы, пожалуйста, извините их: этот день для них самый большой праздник. Они ждали его тридцать два года - все то время, пока Вы пребывали на Земле. Позвольте, я объясню Вам, что произошло. Или нет... лучше Вы сами спрашивайте - я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы.
- Меня... арестовали? - тихо спросила Тень Рекрутова.
- Упаси боже! - рассмеялась Тень Ассистента. - Будьте спокойны... даже ничего общего.
- А я смогу вернуться туда?
- К кому?
- К... Аиду Александровичу, к няньке Персефоне...
- Они скоро будут здесь.
- Здесь - это где? Где мы находимся?
- В главной лаборатории ЦПИК - Центра по Изучению Контактов Атлантиды.
- Атлантиды?
- Историю Атлантиды Вы узнаете позднее. А пока в нескольких словах о Вашей истории. В 1931 году Тени Фарадея удалось лабораторным путем получить искусственную точечную тень, то есть точечную тень, не отбрасываемую никаким конкретным носителем. Это открытие держали в тайне от САТ - Совета Атлантических Теней, не одно тысячелетие управляющего Атлантидой и в настоящее время содержащегося под стражей. Никто, кроме теней сотрудников нашей лаборатории, об этом открытии Тени Фарадея не знал. А здесь все надежные тени... Еще двадцать лет ушло на опыты по созданию гипотетического носителя - в результате появились Вы, особым способом... сейчас вряд ли стоит вдаваться в подробности. Потом Вы были переведены в естественные условия земной жизни: в одном из родильных домов города Новосибирска Вы осчастливили ни о чем не подозревавшую Ольгу Николаевну Рекрутову, у которой во время родов погиб ребенок. Мы решили не забирать Вас обратно до той поры, пока на Земле остаются любящие Вас люди, или до той поры, пока Вы не попадете в критическую ситуацию. Сегодня именно такая ситуация - и мы освободили Вас от пребывания в условиях эксперимента.
- Какова же цель вашего эксперимента?
- Хорошая цель, - опять рассмеялась Тень Ассистента. - Видите ли, получается, что мы сможем возвращать людям их утраты... А?! Мы сможем возвращать людям их утраты! - И Тень Ассистента так высоко подпрыгнула, что коснулась тени-потолка.
Тень Рекрутова не все поняла, но ощущение праздника передалось и ей: оно на минуту даже заглушило чувство тоски от невозможности вернуться на Землю.
- Простите, Вы сказали, что Аид Александрович...
- Вы действительно встретитесь с ним в недалеком будущем, - с ним и с Серафимой Ивановной, - все поняла Тень Ассистента. - Они заканчивают свои витальные циклы на Земле. На сей раз их появление здесь будет отмечено особым образом: исследования Аида Александровича привели к тому, что он впервые за последние тысячелетия вернется сюда сознающей себя тенью - тенью Царя Аида: мы очень ждем его. Он и его супруга Персефона снова станут царствовать в Элизиуме - и тогда многое у нас изменится. Так что не тоскуйте о них преждевременно. Взгляните лучше сюда.
Тень Рекрутова повернула тень-головы на кивок Тени Ассистента. И увидела две знакомые - ах, какие знакомые! - тени... правда, самую капельку утратившие уже черты индивидуальности, но все равно!
- Мама. Отец! - воскликнула Тень Рекрутова и бросилась в направлении к ним. Оставим их, любезные читатели: они уже очень давно не виделись...
- Извините, дорогой мой и хороший! - Тень Заведующего Лабораторией наступала на Тень Старшего Помощника. - Ваше преобразование этой формулы не совсем верно. Вспомните, пожалуйста, поправку к девяносто восьмому закону Ньютона о преломлении теней в пространстве на основании сорок четвертого закона гравитации - и Вам станет ясна Ваша неточность.
- Но как, по-Вашему, тогда соотносится это с теорией Тени Эйнштейна о безотносительности теней?
Тени Заведующего Лабораторией и Старшего Помощника спорили, а вокруг них стояли, покатываясь со смеху, другие тени, уже оставившие все свои споры и осознавшие важность сегодняшнего события, которое в данную минуту входила в историю под названием "Феномен Рекрутова".
А между тем понемножку начинался праздник. Уже бегали по тени-лаборатории проворные тени лаборанток, украшая тени-стен тенями-цветов и освобождая тень-лаборатории от всех ненужных теней-предметов. Уже раздавались тени-звонков в тенях-домов Тени Фарадея, Тени Ньютона, Тени Ломоносова... Великие Тени приглашались в Хоровод - так назывался любой праздник в области, пограничной области Вечной Тьмы, а в область Вечной Тьмы век от века ссылались елисейские тени "за непослушание".
"Непослушание" же проявляли в основном Великие Тени... Впрочем, ни одна из них так и не попала в область Вечной Тьмы - каждую едва ли не на конечной точке пути перехватывали тени сотрудников Главной лаборатории Центра по Изучению Контактов, в незапамятные времена учрежденного на Атлантиде. ЦПИК состоял из теней специалистов, а уж кому как не им знать цену неизживаемой индивидуальности!
И зазвонила тень-главного-телефона в Главной лаборатории. Сколько раз тени сотрудников лаборатории вздрагивали от тени-этого-звука: по тени-телефона звонила обычно только Тень Председателя САТ.
- У тени-телефона Тень Заведующего Лабораторией.
- С вами говорит Тень Ученого.
- Секундочку! - Тень Заведующего Лабораторией нажала на тень-кнопки, подключая тень-микрофона, - и над тенью-лаборатории зазвучал глуховатый голос Тени Ученого.
- Собрание атлантических теней только что избрало меня Главной Тенью Атлантиды, а я смущен... что без Вашего ведома.
- С нашего ведома, высокочтимая Тень Ученого! Мы в курсе всех последних событий.
- Спасибо. Спасибо... А тут всех интересует, как Ваши дела.
- Наши дела прекрасны. У нас скоро Хоровод.
- По какому поводу?
- По поводу самой большой научной удачи в истории Атлантиды -"Феномена Рекрутова".
- Рекрутова? Подождите... На Земле я видел по телевизору человека с такой фамилией. Он рассказывал о преемственности жизней. К сожалению, я не успел познакомиться с ним.
- Это был не человек. Это была тень, особым образом внедренная в мир.
- Ах, вот как... Вы знаете, я заметил, что в чертах его нет истории! Поздравляю, от всех нас поздравляю вас!
- Собирайтесь к нам! - уже кричала в тень-трубки Тень Заведующего Лабораторией.
- Можно всем собираться?
- Да, да! Всем атлантическим теням, всем елисейским теням, ускользнувшим от Теней Верховного Руководства Элизиума, дни которого тоже сочтены, всем теням живых - мы ждем!
Уже в два часа ночи поименованные тени были в сборе: они разместились в тени-огромного-сквера возле тени-корпуса ЦПИК. На тени-трибуны стояли Тени Членов Почетного Президиума - и в их числе:
Тень Ученого.
Тень Заведующего Лабораторией.
Тень Старшего Помощника.
Тень Фарадея.
Тень Эйнштейна.
Тень Ньютона.
Тень Рекрутова.
Тень Тайного Осведомителя.
...В тени-огромного-сквера кружилась Тень Большой Музыки. То была сто шестая симфония Тени Бетховена - "К вечности".
- Тени Дам и Тени Господ!
(Так начала Тень Ученого, обращаясь ко всем присутствующим, едва откружилась и унеслась в Вечность тень-последнего-аккорда).
Поздравляем вас всех, дорогие наши! Сегодня самый большой праздник в истории Атлантиды: сегодня усилия живых и мертвых в познании универсума объединились! Несколько тысячелетий ждали мы этого дня. Несколько тысячелетий поиски лучших умов Атлантиды и Земли были направлены к одному построить мост между жизнью и смертью. Сегодня этот мост построен. К величайшему счастью нашему, на торжественном митинге присутствуют тени живых, чьим талантам и разуму мы тоже обязаны сегодняшним праздником. Носители теней этих спят сейчас в Москве, но тени - бессмертные их тени! - с нами. Попросим же их оказать нам честь подняться на тень-трибуны:
Тень Эммы Ивановны Франк.
Тень Эвридики Александровны Эристави.
Тень Петра Васильевича Ставского.
Тени ребят из ансамбля "Зеленый дол":
Тень Евгения Николаевича Зайцева.
Тень Павла Сергеевича Игумнова.
Тень Аллы Николаевны Петровой.
Тень Владимира Игоревича Константинова.
Тень Станислава Борисовича Штейна.
Тень Сергея Дмитриевича Затонского.
Особенно хочется поприветствовать:
Тень Марка Теренция Варрона, говорящего ворона!
(В тени-огромного-сквера аплодировали - долго, очень долго).
К сожалению, мы не можем попросить подняться на трибуну Тень Царя Аида и Тень Персефоны: их носители, Аид Александрович Медынский и Серафима Ивановна Светлова в настоящее время не спят, они бродят по Москве, переживая события плохого дня. Пожелаем им сердечной беседы и душевного покоя.
(Названные Тенью Ученого тени живых стояли на тени-трибуны небольшой группкой и очень смущались).
Почетный Президиум Атлантических Теней постановил считать упомянутые тени живых Почетными Тенями Атлантиды - на веки веков.
(И снова аплодировали тени Атлантиды - долго, долго, долго).
Там, на Земле, Аид Александрович Медынский почти решил проблему человеческого бессмертия и вплотную подошел к феномену витальных циклов. Что же касается теней, стоящих перед нами, то носители их оказали неоценимые услуги в поисках форм контактов между живыми и мертвыми: добрые, отважные и мужественные носители эти бесстрашно ступили на стезю бессмертия! Они доказали, что лучшие представители человечества готовы с честью выдержать испытание Знанием.
Центр по Изучению Контактов на Атлантиде, ведя непрерывную борьбу с Советом Атлантических Теней, совершил сегодня самое значительное открытие за последние тысячелетия. Оно войдет в историю под названием "Феномен Рекрутова" и свидетельствует о том, что Атлантида сможет возвращать человечеству его утраты.
Последние слова Тени Ученого вызвали такие овации, что на Земле раздался страшный гром, разбудивший всех спящих. Тени живых мгновенно улетучились с тени-трибуны. Возвращались они в разное время - последней (вернувшейся через час) тенью была тень Эммы Ивановны Франк.
К этому времени на тени-трибуны стояла уже Тень Петра. Тень Эммы Ивановны застала лишь финал речи.
-...контактной метаморфозы. Таким образом, Тень Ученого, или Станислав Леопольдович -да простят мне употребление здесь земного его имени, столь любимого всеми нами, - один взял на себя заботу о духовной стороне контакта между царством мертвых и живыми. Как высок может быть дух человека, мы поняли только после знакомства с магистром. Что нельзя забывать историю души своей, мы поняли только после знакомства с ним. Что прежде чем предстать перед Высшим Судом, Божьим Судом, каждый предстанет перед глазами равных себе, мы поняли только после знакомства с ним... Мне повезло меньше других: я лишь раз говорил со Станиславом Леопольдовичем... простите, Тенью Ученого, в этом витальном цикле. Но жалеть ли мне о несостоявшихся встречах, если в одном из прошлых моих витальных циклов, в восемнадцатом веке, я сподобился быть учеником магистра Себастьяна, как звали его тогда. И только теперь я отдаю себе отчет в том, что такое не проходит бесследно. Можно истребить память, можно добровольно или под сильным нажимом изжить в себе индивидуальность, но душа - помнит, душа - остается собой, что бы ни сделали с ней. И пусть все прекрасно, пусть фанфары, пусть знамена, пусть гимны... тут же, рядом, - легким облачком, бабочкой, тенью: ду-ша.
Тень Петра отошла от тени-микрофона, а атлантические тени, наученные опытом прошлой овации, лишь тихонько зашелестели тенями-ладоней.
А на тени-трибуны царила уже Тень Марка Теренция Варрона - мудрого свидетеля и очевидца того, что не один только раз живем на свете, что жили и будем жить дальше. Гортанно произнесла она на двадцати семи языках единственное слово:
-Д-у-ш-а.
Спящим в Москве Эмме Ивановне, Эвридике, Петру, ребятам из "Зеленого дола" снились в ту ночь удивительные сны, не-за-бы-ва-е-м-ы-е.
Глава ДВАДЦАТАЯ
УЖИН в обществе восьмерок
Конечно, Эвридика опаздывала на ужин: как вообще везде и на все опаздывала. В приглашении, полученном ею накануне, значилось:
"Дорогая моя Эвридика Александровна Эристави, приглашаю Вас на ужин по случаю летнего вечера. Ужин состоится по адресу; Москва, ул.Немировича-Данченко, д.5/7,кв. 109. Прошу не опаздывать: начало в 20-20. С.Л."
А было уже 21-10... При этом Эвридика еще только на Пушкинской площади. Она опаздывает на пятьдесят минут. Стыдно.
Эвридика почти бежала по Горького, постоянно заглядывая в пакет с изображением носорога-в-джинсах, где мирно посиживал Марк Теренций Варрон: он никуда не опаздывал и уж, наверное, в точности знал, зачем его пригласили. А Эвридика не знала. Так и не удалось обсудить этого с Петром: почему-то он все время переводил разговор на вообще-другое. В последнее время Петр предпочитал помалкивать о восьмерках - и Эвридику это немножко сердило.
- Скажи, по крайней мере, что ты думаешь о подписи? - приставала Эвридика. - С.Л. - это ведь нонсенс! С какой стати, он ведь не может быть Станиславом Леопольдовичем? Или может, Петр? Ты же знаком со Станиславом Леопольдовичем! Произвел он на тебя впечатление такого человека?
Но только улыбался Петр и отшучивался.
- Чертовщина жизни... - говорил. - В том-то и есть, - говорил, чертовщина жизни, что в течение получаса все может измениться на полную свою противоположность!
Сворачивая налево, Эвридика чуть ли не нос к носу столкнулась с Эммой Ивановной Франк.
- Вы... на Немировича, 5/7? - ошеломленно спросила девушка, забыв даже поздороваться.
- А Вы? - запыхавшаяся Эмма Ивановна (шла снизу, в гору) остановилась.
- Конечно, - засмеялась Эвридика. - И мы обе с Вами опаздываем, Госпожа Двойник!
- О, я везде всегда опаздываю, Эвридика! - сокрушилась Эмма Ивановна и взглянула на платье Эвридики. - Последняя его шутка: мы обе в зеленом.
- Станислава Леопольдовича? - наконец уже по адресу могла спросить Эвридика.
- Не думаю, - странно реагировала Эмма Ивановна. - Это была бы уже полная заморочка...
Они долго разбирались с подъездами огромного дома-корабля, увешанного тенями МХАТа и словно через миг отплывающего в Элизиум.
Подниматься пришлось высоко, под самое небо.
- Ну конечно, - сказала Эмма Ивановна. - Только здесь и могло такое твориться. Тринадцатый этаж.
Дверь открыла веселая женщина с грустными глазами, приветливо кивнув вошедшим и уступив место грустному человеку с глазами - веселыми.
- Добрый-вечер-мы-очень-поздно-простите, - пролепетала Эвридика, а Эмма Ивановна сдержанно поздоровалась.
- Добрый вечер, здравствуйте, вы как раз вовремя, - ответили низким и давно - ой как давно! - знакомым по телефону голосом. - Проходите, пожалуйста. Ужин назначен на девять вечера, я специально написал в ваших с Эммой Ивановной пригласительных билетах 20-20. Я ведь знаю, с кем имею дело!..
- Да уж! - очаровательно улыбнулась Эвридика. - И тем не менее мы последние.
Веселая-женщина-с-грустными-глазами уже повела Эмму Ивановну в комнату через внутреннюю какую-то, странную для квартиры, арку... арочку, скажем, а собеседник кивнул.
- Сколько же всего гостей? - Эвридика поправляла заколку, то и дело соскальзывавшую со слишком густых волос.
- Увидите, - усмехнулся хозяин и настороженно спросил: - Откуда у Вас эта заколка? Я ее не знаю...
- Купила! - мстительно ответила Эвридика.
- Безобразница, - покачал головой хозяин. - Я думал, Вы придете в шали.
- Ничего Вы не думали... Хотя шаль у меня с собой, в пакете. Ой, Марк Теренций Варрон, я забыла о нем! - И Эвридика осторожно достала из пакета завернутую в шаль птицу.
Та успела уже уснуть и была, по-видимому, очень недовольна неприятным пробуждением.
- Хорош, - сказал хозяин, когда ворона развернули. - И смотрите-ка... правда, голубой! Я считал, это метафора...
- Напрррасно, дррруг, - сказала птица.
- И говорящий? Ну, это уж совсем... Неужели ему правда триста лет? По последним сведениям, они столько не живут...
- Я, пока мы еще не вошли, хотела бы извиниться перед Вами, - шепнула вдруг Эвридика. - Я плохо вела себя. Простите.
- Ничего, ничего... Все правильно было. Все было как надо. Я сам виноват, но я объяснюсь. - И он распахнул перед Эвридикой стеклянные двери.
Эвридика обомлела. В довольно большой комнате за небольшим, в общем, столом собралось человек шестьдесят-семьдесят: Эвридике сначала показалось даже, что сто. Некоторые разговаривали, другие молчали.
- Кто эти люди? - спросила она.
- Тс-с-с! - хозяин приложил палец к губам. - Садитесь во-он туда, к Петру, он держит Вам место, а это трудно.
Эвридика с вороном на плече под разные (восхищенные и не слишком) взгляды прошла в указанном направлении и внезапно увидела рядом с Петром человека... очень знакомого... хоть и виденного-то только один раз, по телевизору. Это был старик с аккуратно подстриженными седеющими усиками, тонкими и чуть искривленными губами - Станислав Леопольдович, Тень Ученого, магистр... Он - через голову явно обескураженной Эммы Ивановны с удовольствием беседовал с лысым старичком, у которого носик был пуговкой и на пуговке этой в беспорядке росло несколько волосков. Эвридика, рассеянно кивнув Петру, остановилась за шаг перед ним - возле Станислава Леопольдовича, осторожно взглянувшего на "прекрасную-незнакомку", и вдруг опустилась на колени. Стало очень тихо. И очень слышно, что говорила Эвридика:
- Станислав Леопольдович... спасибо вам. Я так люблю вас, спасибо вам за все... за Петра, за меня...
Ворон перелетел с ее плеча на плечо магистра.
- Девочка моя, - Станислав Леопольдович гладил ее по щеке, - Вы так похожи, так похожи... Встаньте, милая, встаньте.
Эвридика встала и опустилась на стул между ним и Петром. У двери сконфуженно кашлянул хозяин.
- Это Эвридика, - представил он. - Такая уж она получилась.
Все смотрели на него и ждали. Все хотели знать, зачем они здесь столько незнакомых друг другу и наполовину знакомых людей в тесной квартире. И ему пришлось начать говорить.
- Ну, что ж... Вы собрались все. Все, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к тому, что происходило в последние полгода.
- Разве что-нибудь происходило в последние полгода? - вмешался очень высокий и сухой старик - с глазами, как отравленные дротики.
Хозяин только улыбнулся в ответ и продолжал: - Я благодарю вас всех за то, что вы приняли мое приглашение... даже несмотря на некоторую его туманность для многих - для большинства из вас.
- Можно подумать, у кого-то из присутствующих был выбор - принять или не принимать! - бубнил все тот же старик - впрочем, добродушно.
На него шикнули - и зря: он дитя. А хозяин терпеливо говорил дальше.
- Я хочу сказать, что люблю вас всех - без исключения: и тех, с кем прямо или косвенно знаком, и тех, кто даже не догадывался о моем существовании в мире и не подозревал, что был втянут мною в некоторую систему отношений. Простите меня за сокрытие этого факта и вообще... за все.
Эвридика с состраданием смотрела на говорящего. Низкий голос его оказался совсем не таким низким, как, наверное, ему бы хотелось: говорящий последовательно сбивался на баритон. Был этот человек человеком довольно обычной наружности и сравнительно еще молодым... однако усталым. Или уставшим? Девушка оглядывалась по сторонам и начинала узнавать гостей: не так уж мало знакомых среди них! Вот Аид Александрович - он все еще внимательно смотрит на хозяина, соображая, куда бы ввинтить очередную реплику: милый старик... неужели правда Царь Аид? Рекрутов сидит грустный, но розовый - вот уж у кого голос низкий-как-надо! Вон почему-то Света Колобкова кокетничает с Парисовичем: у нее, стало быть, тоже есть один-знакомый-бог - хозяин дома? Такой же, как у Эвридики... Ребята из университета - Гаврилова среди них. Адвокат Белла Ефимовна - принимает ухаживания толстяка-с-Алазанской-долиной-на-голове... какие-то незнакомые люди... милиция... мама Петра, папа-с-почечной-коликой. А там - господи, Юра-Пузырев-улица-Юных-ленинцев-дом-пять-квартира-сорок-два: он ест апельсины - целая гора кожуры! Куда смотрит мама? Ему же нельзя цитрусовых, он аллергический!.. Еще какой-то ребенок с мамой - а-а, из кафе возле университета! - и тут же бармен с царским именем Александр: совсем одинокий и смотрит на нее... улыбнемся-ка ему! Эвридика взглянула на Петра: тот тоже рассматривал гостей.
"Ну и ну! - думал он. - Почти все, с кем я хотя бы ненадолго встречался за полгода!" Вон Клаус - немец-капиталист из фирмы "Орфей", рядом еще немцы ("кушя маля!"); мальчик Игорь, веселый сегодня: он гладит под столом огромную собаку (стало быть, и у хозяина такая же?); а там... ах да, владельцы квартиры в Сивцевом Бражке - квартиры, в которой не оказалось Станислава Леопольдовича. Совсем рядом - родители и бабушка Эвридики... И даже трое соседей по больничной палате: смотри-ка, без костылей! Вылечились, значит.
Все уже смотрели по сторонам: и пошли замыкаться звенья цепочки... Оленька, волоокая Оленька, неудавшаяся жена Рекрутова, с удивлением обнаруживала, что и она кое с кем знакома: там вот дагестанский ученый громко и с удовольствием разговаривает по-русски... кандидат филологических наук, а чуть дальше - Продавцов Вениамин Федорович, чью диссертацию они с Рекрутовым чуть не провалили... опять весь расстегнутый, черт побери: волнуется, что ли? Профессор Кузин, доцент Слепокурова, совсем лысый ученый секретарь, председатель и члены Ученого совета - и все почему-то смотрят то на нее, то на Рекрутова... ах, ну да... понятно. А нянька Персефона смотрит на Аида и плачет.
Что ей, спрашивается, плакать? Сколько знакомых у нее среди гостей! Дрессировщица Полина Виардо - без парика только; этот... как его... эклер... конферансье, то есть; а там официант, которому Аид Александрович по морде съездил; метрдотель, другие официанты, опять пьяный грузин, который в ресторане подарил ей бутылку вина, шоферы такси... - все тут. Скушайте гранат, нянечка, и забудьте свои печали!
"Бес, Женя, Павлик, Стае. Сережа, Володя", - Эмма Ивановна повторяет имена так, как сидят ребята. Они молчат: мало кого знают. Вот разве что Ивана Никитича да "застенчивого болтуна" Дмитрия Дмитриевича, с которым не перестает разговаривать Станислав Леопольдович: господи, заговорят его!.. Надо как-нибудь развеселить Рекрутова: что-то он, хоть и розовый, но грустный.
А Рекрутов смотрит на сбившихся в уголке председателя-Сычикову-З.И., Тюрину, Приходько, Майкину, Илью Фомича-п-р-е-д-с-т-а-в-и-т-е-л-я, подозрительно взирающего на Леночку Кругликову, которой вообще нет до него дела.
Что это? Сон? Сон, любезные читатели...
- Итак, - баритональным уже тенором резюмирует хозяин (Эвридика качает головой: куда ж это годится - баритональный тенор!), - мы в сборе, и я расскажу вам, как все начиналось. Мне было очень грустно зимой тысяча девятьсот восемьдесят третьего года, этого года... очень грустно и даже страшно. И показалось, что я остался совсем один в мире - тогда-то я и обратился к вам, дорогие мои. Я решил писать роман, я... автор. Некоторых из вас, - тут он виновато посмотрел на Эвридику, - я взял прямо с улицы, остановил, рассказал, в чем дело, попросил помочь; других - выдумал из головы, третьих - украл где-то или, мягче говоря, заимствовал, четвертые не ведали что творили и сами пришли ко мне... по-всякому было. И грусть моя постепенно проходила... Я придумал какую-то запутанную историю - не очень заботясь о том, бывает так или нет, такие вы на самом деле или не такие...
- Не такие! - крикнула председатель-Сычикова-З.И.
- Я убью вас, - сказал ей Аид Александрович, - дайте послушать, что говорит человек!
- Меня, в сущности, даже не очень заботило, какие вы... Потому что история была готова: кто-то должен был выиграть в ней, кто-то проиграть, кто-то выжить, кто-то погибнуть... ведь именно так полагается делать уважающему себя романисту. Именно так я и делал... делал бы. Во всяком случае, я сознательно шел даже на некоторую жестокость по отношению к некоторым из вас: ведь мною была задумана трагическая развязка. Но вы не позволяли мне поступать в соответствии с моими планами. И мне пришлось поразмыслить, в самом ли деле вы такие, какими я вижу вас? Тут-то и стало ясно: я не вижу вас. Увы, авторы - народ безрассудный: они так и норовят заставить жизнь подчиняться законам искусства. А вы гораздо добрее, умнее, чище, преданнее, чем кажется, когда смотришь на вас где-нибудь на улице или чем когда выдумываешь-из-головы... И тогда я начал стараться, чтобы вы получились такими, какие есть, - живыми. И кажется, вы получились живыми по крайней мере - настолько живыми, чтобы действовать самостоятельно, по велению-ваших-сердец. Чтобы бороться за жизнь других, за свою жизнь, за счастье. Даже против меня, автора...
Простите мне мое упрямство. Уже понимая, что не следует "нажимать" на своих героев, я все еще старался вгонять вас в границы заранее придуманной истории - правда, это давалось все труднее и труднее... Вы бунтовали. Вы не подчинялись. Но я не могу осуждать вас за то, что, стремясь спасти Станислава Леопольдовича, которого я решил умертвить в главе "Дол зеленый, йо-хо!", вы принялись отвлекать мое внимание на себя - ограблением банка, гарцеванием по Садовой на-палочке-верхом, выступлением завотделением соматической психиатрии института Склифософского с группой-дрессированных-со-бачек, побоищем в ресторане "Прага"... Не знаю уж, как удалось Эвридике и Петру, не сказав ни слова о Станиславе Леопольдовиче, уговорить "сойти с ума" такого почтенного человека - Аида Александровича Медынского, а ему, в свою очередь, няньку Персефону и Рекрутова!.. Рекрутова, который вместе с очаровательной Оленькой и, прошу заметить, без моего ведома учинил форменный дебош на защите Вениамина Федоровича Продавцова.
- Знаем мы это... без Вашего ведома! Так мы Вам и поверили! Рассказывайте другому кому-нибудь! - взбудоражились члены Ученого совета во главе с его председателем.
- Цыц, члены! А то живо всем по два кубика димедрола вкачу! - пригрозил Рекрутов, умевший обращаться с академической элитой.
- Так или иначе, - автор улыбнулся Рекрутову, - все вы достигли своей цели; ваши безумства надолго выбили меня из колеи... на целых три главы (а три главы быстро не напишешь!). За это время Станислав Леопольдович усилиями Эммы Ивановны, которой я... каюсь, звонил от имени Аида Александровича, из тени превратился уже в живого человека, чего я, во всяком случае, никак не мог предположить... да и кто бы мог, дорогие мои! Когда я узнал об этом, все мои планы полетели к чертовой бабушке - и я предоставил событиям развиваться естественным путем, не злоумышляя уже против жизни - тем более против жизни Станислава Леопольдовича! Так что напрасно, Петр, Вы выбрасывались в окно, желая еще раз отвлечь от магистра мое внимание: на сей раз Станиславу Леопольдовичу угрожал не я. Просто Марк Теренций Варрон, обученный Эвридикой в КПЗ, опоздал со своим "Берегитесь!": ему следовало сказать это гораздо раньше или вообще уже не говорить.
- Извините, - мягко напомнил Петр, - но даже если Вы не угрожали ему больше от своего имени, то все равно... ему угрожала Тень Тайного Осведомителя! А тени - это ведь тоже Ваших рук дело?
- Вы уверены, что моих? - Автор не возражал, но взглянул на почти пустую светлую стену, где мирно расположились тени присутствующих, и, кажется, даже вздрогнул. - Видите ли... Чем больше проходит времени от начала романа, тем понятнее становится, что очень немногое в нем - дело твоих рук. В сущности, автор значит гораздо меньше, чем думают: он только задает параметры ситуации, а дальше все происходит уже само собой выстраиваясь по, так сказать, внутренним законам. И если в первых главах вы подчинялись мне... м-да... Эври-дика, помните, Вы удивились, когда я сказал, что я тоже не отвечаю за себя сам? И обещал объяснить, кто за меня отвечает, позднее... - время настало. За меня отвечали вы все, дорогие мои герои! Я писал роман -и мне уже не было так грустно, как раньше. Вы держали меня в жизни, давали мне силы, отвлекали от тяжелых... ох, каких иногда тяжелых мыслей! Я подчинялся вам и слепо брел за вами, доверившись и не гадая о том, куда вы меня приведете. Спасибо, что вы привели меня к жизни.
- Между прочим, о таких вещах следует предупреждать: не каждому приятно узнать, что о нем пишут роман, - сказала ей-богу не знакомая автору особа. Автор даже смутился.
- Простите, это роман не о Вас... Вы просто случайно шли мимо, -сказал он, с трудом припоминая громадную-одну-девицу-одетую-под-пятилетнюю-крошку, - я даже забыл уже, когда именно...
- Во второй главе,- напомнил Петр. -Это моя сокурсница...
- Петр! - изумился автор. - Вы так хорошо помните роман?
- Но Вы же сами устроили так, чтобы дать мне возможность раньше других познакомиться с теневой его стороной! "Руководство по ориентации в Элизиуме"... Кстати, когда Вы успели перевести его на немецкий язык?
- Ночами, - вздохнул автор.
- Правда, в первый раз, - продолжал Петр, - я не понял, что это про нас, а то, может быть, и не наделал бы столько глупостей! Зато во второй раз понял - и глупостей, кажется, больше не делал?
- Неважно, Петр! - Автор, как мог, постарался улыбнуться. - С общепринятой точки зрения, все мы в этом романе только и делали что глупости. Другого нечего и ждать от таких асоциальных типов....
- Асоциальных? - заинтересовался молчаливый п-р-е-д-с-т-а-в-и-т-е-л-ь.
- Увы. Простите, если огорчаю вас, дорогой Илья Фомич, но типы действительно асоциальные: они не живут-жизнью-своей-страны и не чувствуют пульса-своего-времени.
- Это невозможно, - тонко улыбнулся п-р-е-д-с-т-а-в-и-т-е-л-ь.
- Возможно, Илья Фомич, - если соотноситься с жизнью всех стран и всех времен. Или, по крайней мере, некоторых...
- Или просто - жизни вообще и времени вообще, - глухим голосом сказал магистр.
- Спасибо, Станислав Леопольдович. Я знал, что всегда могу рассчитывать на Вас. Эвридика слишком молода и полагала, что вмешательство мое в ее жизнь многое меняет!.. Вы один знали: жизнь права - и, если я хоть чуть-чуть художник, то не смогу пойти против жизни. Так Вы и жили: не сообразуясь со мной... словно меня вообще нет на свете. Вы относились ко мне исключительно как к человеку-который-записывает, как к человеку-который-идет-по-следу. И правильно делали, правильно... Автор только записывает!
- Но в таком случае... где у Вас тут жизнь, а где искусство - что-то я не пойму? - строго спросил с автора Парисович.
- Не знаю, - развел руками тот. И продолжал: - Прощайте. Прощайте, любимые мои. Наш роман вроде как закончен - и отныне вам предстоит жить самим. Но не значит ли это, что роман не будет закончен никогда!.. И дай вам Бог однажды разобраться, где жизнь - где искусство Впрочем... я не зря подписал приглашения "С.Л.": это значит "С Любовью!" Стало быть, что же... Звоните мне, приезжайте в гости, я всегда буду рад вам и - кто знает! может быть, сумею чем-нибудь помочь.
И глаза у автора были на мокром месте... Кто-то из присутствовавших подумал: "Не надо ли самому ему чем-нибудь помочь уже сейчас?", - а Эвридика растерянно спросила:
- Что же дальше?
- Дальше - ужин, ужин в обществе восьмерок. А там - посмотрим.
Нет, у него веселые глаза: это только показалось, что он немножко сентиментален.
...И вот они встали и подняли бокалы. В ту же самую минуту в дверь позвонили:
- Телеграмма из Хабаровска. Распишитесь.
...Автор стоял у захлопнувшейся двери, один в прихожей, и читал сквозь слезы:
"ПРИЕХАТЬ НЕ МОГУ ТЧК СИЖУ ОДИН ВНУКОМ ТЧК
ПОЗДРАВЛЯЮ ОКОНЧАНИЕМ РОМАНА
СТАНИСЛАВ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ"
А за дверью комнаты шумели уже: там продолжалась жизнь. Зажгли люстру. И при ясном свете ее множество теней заполнило комнату. Они были большими гораздо больше, чем люди, отбрасывающие их. И тени тоже подняли кверху тени-бокалов. За окончание! За счастливый финал! И люди взглянули на тени и каждый нашел свою среди многих и протянул к ней руку с поднятым бокалом... И послышался звон бокалов о тени-бокалов - автор клянется жизнью, что слышал этот звон.

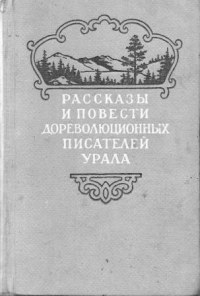


Комментарии к книге «Книга теней», Евгений Васильевич Клюев
Всего 0 комментариев