Сигизмунд Доминикович Кржижановский Чудак
I
Меж ввитых в дымы сосен, по искромсанной снарядами лесной дороге, рота тихо пододвинулась к опушке. Обогнув шесть ахающих жерл, она оторвалась от леса и сомкнулась в цепь, стала медленно ползти по отлогому скосу холма, поднятому над полем. Или, со штыками у глаз, по сожжённой боями и зноями растрескавшейся земле, к чёткому верху холма: здесь, на узкой полосе, отделившей опушку от холма – было странно тихо. Полоса была выключена из смерти: сверху её прикрыло верховым визгом пули и лётами снарядов. Но удары их, гудом и хрустом полнившие лес, одевшие в пыль и мглу разрывов поле, ждавшие впереди, за гребневой линией холма, – оставляли полосу нетронутой и как бы забытой боем.
На гребне, по обе стороны жёлтого разбега дороги возникали, то тут, то там, качающиеся носилки с человечьими тушами меж параллельных, длинных, чуть выгибающихся шестов. Взмыв над линией гребня, прогрохотала пустая патронная двуколка: она бешено неслась на нас, толкая раскрутившимися колесами ошалелую, припадающую на задние копыта, сизую костистую клячу.
Слева – кладбище: с сорванным канонадами дерном. За прорывами ограды -кресты, пригибаясь рядами к земле, чинно кланялись, прося не забывать.
Но мы пока шли мимо: вернее, близящаяся чёткая линия гребня шла на нас, медленно пододвигаясь под ноги. Мы знали: переступив её, откроем себя -пулям и, главное, глазам наших убийц. До черты: сто шагов, пятьдесят, двадцать, сейчас: глянув влево, я увидал человека: человек этот, одетый в мешковатую полувоенную-полутуристскую одежду, с портфелем, мирно положенным на колени, сидел нога на ногу на камнях низкой кладбищенской ограды и, с видом совершенно посторонним всему происходящему, выставился узкой, крюком выдвинувшейся вперёд рыжей бородкой навстречу цепи. Он проводил спокойными глазами клячу, бегущую к опушке, и теперь фиксировал острым наблюдательским глазом нас. Но линия, отделившая затишье от боя, была уже под ногами: шаг, – и всё – опушка, подъём холма, кляча, кресты, стена, человек на стене – исчезло. Нас взяло боем.
II
Ночью сменили. Не всех: иные как легли, там в поле, так и лежали: и только затоптанная боями трава оплакивала их скудными росинами.
Шли молча, с винтовками на ремнях. Земля – сперва – скосом вверх; потом – скосом вниз: под синими взлётами ракет возникал и ник, ник и возникал – неясный контур ограды: за её брешами – кресты: униженно пригибаясь крестовинами, земно кланялись, моля не забывать. Но мы ещё раз проходили мимо.
В памяти моей возник давешний образ: сторонний бою, спокойный человек, с портфелем, раскрытым на коленях, любопытствующая крючковитая бородка, обыскивающая бой.
Шпион? Вряд ли. Если не шпион, то кто? И чего ему, не позванному смертью, топтаться тут на кровях?
Шли до команды «стой». После «стой» повалились на землю: всех прикрыло сном.
Рассвет отыскал нас меж стволов реденького растерявшего ветви, загаженного и ископанного леса. Тотчас же, параллельно стволам, потянулись сизые дымки. Ржаво затявкали манерки. Птицы давно с омерзеньем покинули это жалкое, прокопченное гарью, бессильно тычущее в небо обугленные и искалеченные сучья подобие леса. Потянулись тягучие – пустые дни. От поверки до поверки, меж стуков топора, горластых песен и скучливого лета снарядов, ухающих там, где-то в полуверсте от нас. Чай из лужи, ловля вшей, сон, чаёк и снова сон.
И каждый вечер я выходил к опушке. Там, прижавши спину к шершавой коре сосны, я ждал: у горизонта, полузастланные туманом, тянулись ало-синие зоревые полосы. И каждый вечер оттуда выкатывала телега; она выезжала всегда будто из зари; колёса, перекатившись с ало-синих борозд в тёмные вдавленные в землю колеи, сонно ворочая спицами, близились к опушке; и всегда на соломенном настиле – навзничь и ничком, лицами в лица – трупы. И в этот вечер, чуть дневные пылины, умаявшись, прилегли отдохнуть и сквозь вечерний очистившийся воздух опять потянулись сине-алые колеи, я уже стоял, прижав спину к сосновой коре, и терпеливо ждал. Было как всегда: перекатившись жёваными ободами с зоревых борозд в борозды дороги, близилась телега: в ней лицами в лица, ничком и навзничь на жёлтом настиле – трупы. Борозды гасли, колеи застлало туманом, от телеги, вкатившейся в туман, только и осталось -шорох колёс о землю да скрип ссохшегося дерева. Я повернулся – идти назад: в трёх шагах за мной, устало опершись ладонью о ствол, стоял человек, встреченный тогда у черты; в руках у него был всё тот же портфель. Глянул на меня и будто ужалил вопросительным знаком бородки; я понял: трупы звали не меня одного. Человек, выждав паузу, деловито сказал:
– Начало.
– По-моему, – улыбнулся я, – скорее уж конец.
Человек зажал жало бородки в кулаке и вдруг заговорил неожиданно быстро и скомканно:
– Я говорю о начале страха. Я давно наблюдаю страх и не согласен с приёмами Поссо в его «La Paura»: тут нужны не плетизмографы [Аппарат для измерения объёма различных частей тела в зависимости от кровенаполнения, зависящего, в свою очередь, от нервно-психического состояния. (Примечание автора.)], а пушки. И пропустить войну исследователю депрессии, как делают это они, мои коллеги, просто глупо. Но вас, как я вижу, интересует труп. Вполне понимаю. Думают -трупы на кладбищах. Вздор. В каждого, – и в того, кого хоронят, и в того, кто хоронит, – вдет труп; и я не понимаю, как они там у их могильных ям не перепутают – себя и их. Труп зреет в человеке исподволь: правда, обыкновенно, он спрятан от глаза, вобран в ткань, но… зреет, и трупные проступи от дня к дню яснее и чётче. Живое – не может пугать: жизнь, во всех её модификациях, влечёт – не отталкивает. Но стоит, прикоснувшись к человеку рукою ли, глазом ли, ощутить в нём, хотя бы на миг, трупную проступь и… мы мало зорки, но если отточить глаз, развить в себе вот это чувство, то незачем и телег с мертвецами, незачем кладбищ – мертвец и кладбище всюду. Конечно, в каждом из нас колебания, каждый то в мертвь, то в живь. Вот вы, например, – он резко повернулся ко мне, – сейчас вы много живее, но когда вы, вы все, идёте в бой, тогда… мне кажется, что тогда и убивать-то вас _уже не нужно_. И знаете, я думаю: из боя – никто, вы понимаете, _никто_ и никогда не возвращался… живым. Не согласны?
Он повернулся лицом в поле:
– Пошагаем – а?
И мы пошли меж пней и ям. Гул откатившегося боя то и дело вмешивался в разговор.
– Мне часто задают вопрос, словами, взглядом (вот так и вы): зачем я здесь. Я пришёл сюда к страху. Люди мне не нужны. Нет: мне в них нужен – их страх. Только.
Он, запрокинув голову, брезгливо покружил бородкой от стлавшейся по горизонталям мглы до серых вертикалей дымов: люди мне не нужны.
Я чувствовал и себя вчерченным в круг и хмуро отвечал:
– Сюда, к черте, приводит и здесь, у черты, удерживает – не страх, а…
Но собеседник уж нетерпеливо перебивал:
– У страха двойная повадка: он – то гонит назад, то – _гонит вперёд_. Если вы погнаны им назад, то вам кричат «трус» и стреляют в спину, если же вы погнаны страхом вперёд, нашпиливают полосатую ленту на грудь – «за храбрость». Полосы на ленте: чёрная – жёлтая, чёрная – жёлтая. И полосы, вернее зоны, страха: чёрная – жёлтая: то чёрная жуть ночи – то полуденный, солнечный жёлтый ужас.
Ведь против врагов вы посланы врагами: свои страшнее тех (он мотнул бородкой в дотлевающий закат) – и ещё не известно, где жутче: под дулами тех, или под зрачками этих. У «социального животного» страх двояк: оттуда и отсюда. И надо бы натягивать проволоку и впереди и позади окопа; от тех и от этих: шаг за черту вперёд – и полями; шаг за черту назад – и под взглядами. Ведь там, назади, сейчас – отвратительно: если вы молоды и сильны, то есть достойны жизни, – то нет такого полутрупа, шамкающего и шаркающего о землю, который, подняв продавленные в череп глаза, не толкнул бы вас, несущего жизнь, – улыбкой, словом, глазами сюда: в смерть. Глупая самка, надёргавшая с полкоробки корпия, кривит крашеные губы: вы не на фронте? Даже дети, наученные ими, поднимают на вас спрашивающие глаза. И вы, желающие жить и не желающие убивать, толкаемые сотнями глаз, гонимые сотнями улыбок, слов и полуслов, бежите от этих на тех, из страха в страх. О, я изучил эту гамму чёрных клавиш: крик рваной меди, шаг пуль, синь ракет, чернь ям – как это разнообразит игру тысяч и тысяч лиц: оскал зубов, глаза из орбит; топоты ног, гонимых страхом туда и назад. Все поля утоптаны им. Вся война пронизана им, только им. И ясно: мне – сейчас – место здесь. Тут в портфеле – обобщения: страх не обвести колючей проволокой. Он всюду: и в войнах, и вне войны. Война – только сгусток. Это страх согнал одиночек в общество. Он же таит человека от человека.
– Но любовь… – попробовал я возразить.
– Любовь, – нервно дёрнулся собеседник. – Вы могли бы подыскать пример удачнее. Любовь; да она пугается всего: света дня, глаз, себя самой; прячется в ночь, за щели замка. Да и по самой сути своей, ведь любовь это -игра в страх; человека влечёт к человеку – жутью: дрожа, люди отдаются тайне именно потому, что боятся её. И как только перестанут бояться, то и… но зачем нам сворачивать в любовь; из страха всё: религия – страх малого перед великим и самая жизнь, зачатая пугливо прячущимися любовниками, -сплошная боязнь бытия. Над глазами рассиялись солнца, под ногой развёрнуты поля, а мы, затиснув глаза, спрятав мозг за черепные кости, делаем всё, чтобы не быть: нам страшнее под ударом солнечных лучей, чем под лётом пуль… да, да, – и, повторяю, мне непонятно, зачем ещё нас убивать, когда мы и так… Повернём, что ли?
Назад мы шли молча. Навстречу маячили жёлтые ночные огни. Стихший было орудийный грохот раз грохотался опять. Зарничное колыхание уползающего боя временами освещало нам путь.
Спутник на минуту остановился, вслушиваясь:
– Завтра мне туда.
– Вдогонку за страхом? – улыбнулся я.
– Да.
– Меня, сознаюсь, всегда притягивали чёрные портфели. Но вы, вероятно, боитесь огласки…
– Боюсь? О нет. Но вам трудно будет разобраться. Вот разве это. С зарёй – возвратите.
– Спасибо.
III
В вещевом мешке у меня отыскалась свеча. Отпели молитвы, откричали песни; полотнища палаток задёрнулись. Я лёг у пня, наладил свечу, и жёлтый блик закачался над косыми строками тетради. Изредка я делал выметки. Вот они:
«Липкий асфальт. Красные ленты поездов. Среди серых солдатских сукон -старушонка в салопе. Тычется щуплым телом о дюжие спины: чего тебе, мать?
– Ох, Пречистая, как увезли его, как увезли туда, так душа денно-нощно под лёдом дрожит.
И я – «туда». Знаю: я, как и старушонка, не нужен здесь среди серых спин, матерщины, спутавшейся с отченашами. Но так надо: эти везут под пули – свои широколапые, трудом наузленные руки и недоумение в глазах; я -стиснутое меж лба и темени миросозерцание. Пора, давно пора миросозерцаниям – под пули. Черепом крыта мысль: стенками стиснут череп. Черепа не снять, сорву хоть стены: мыслью в поле, мозгом в смерть. Так хочет тема. Она под пули, я за ней».
«Уже сегодня мог видеть и наблюдать его: из сотен глаз.
С утра к гулу колёс стал примешиваться какой-то новый гул. Близко позиция. Навстречу – поезд с ранеными. Длинная гусеница вагонов; иные, сдвинув болты, молчат: там тяжёлые. Из раздвинутых щелей других – марля в кровавых пятнах, перепуганно громкие песни, выставившие наружу возбуждённо-орущие головы: и во всех глазах – он; из всех зрачков – _моя тема_».
«Вот уж второй месяц – в зоне страха. Я как-то сразу заблудился в путанице их кротовых ходов, узких кладок, зигзагов окопа, горбящихся из земли землянок, напутанной всюду проволоки и серых, одинаково пригибающихся к земле, с одинаковым блеском стальной трёхграни у одинаковых глаз, людей. Низким настилом немолкнущего пулевого лета, невидимым сводом из траекторий людей вогнало в землю, вдавило в окопные ямы, сузило им бойничные щели, утишило слова, умалило и скрючило тела. Даже серым дымкам боязно распрямиться над ржавыми раструбами самодельных печурочных труб.
Какая удивительная _культура страха_: всё от запрятанного в рукав папиросного огонька, от подделавшейся под цвет трав одежды, от ёжащегося тела, низкого хода сообщения, вечных сумерек землянки, шёпотом на ухо в ухо переползающего пропуска, трёхрядной нависи балок, давящих на мозг, – до жёлтого щупальца прожектора, хватающего тебя из тьмы, до коротких боязливых перебежек, вскидывающих и тотчас прячущих тело в траву, до орудий, опасливо сунувших медные зады под настилы хвои и листьев, – всё рассчитано и сделано так, чтобы держать человека, запутавшегося в мирке проволок, траекторий и окопных зигзагов, держать и не выпускать ни на миг из состояния жути. И это мудро: у жути свои _чары_, и кто взят ею, тому не уйти _так_».
«Мучил сон. Снилось: пробую затопить земляночную печь, а дым ползёт на меня. Думаю: почему нет тяги? Труба пряма и коротка – сунуть жердь, наружу выйдет. Сунул: что такое? Ткнулась в землю. Странно: где был воздух, вдруг земля. Как так? Потянул за дверь: черно. День – и черно. Отчего бы? И вдруг понял: землёй втянуло. Всех, с окопами, ходами, переходами, ямами землянок. И их и нас. Хотел было наружу. А после: да ведь «наружа»-то и нет. И от мысли этой проснулся: под телом вшивая солома; сквозь вмазанный в глину куцый осколок стекла – куцый же, мутный рассвет.
Ходил по окопам: сложный, ненужно сложный городок. Полуврылся в землю. Но если, начав рыть, дать волю лопатам, то… И весь день навязчивая мысль: а не искушаем ли мы землю?»
«От наших квадратных срубов, низкостенных мазанок, от древней избы -истопи – до окопной землянки недалече. И окопная яма мужику странно знакома. «Было». И страх, то высматривающий сквозь стеклянный вставыш ямы «кого бы», то приваливающийся зябким телом к плечу мужика, крестясь ложащегося в секрет, – мужику знакомый и родной, свой страх. Ведь и там, в оставленных позади избах-срубах из чёрных углов, дрожмя дрожат лампадки. За лампадками тёмные ризы. В прорезях риз чёрные и странные лики; в ликах обвод вперенных глаз. Зевы трёхглазых чудищ, перевивы змей и пламёна Последнего Суда. Зубовные скрежеты. И меч Архангела, занесённый над нищей, и так ниже трав склонённой, в землю влипшей, жизнью. Народу, не боящемуся своих крестами замахнувшихся церковок, смеющему жить у своих нетушимых лампад, не сводящих блика с его жизни, трудно ли пройти через войны?»
«Вот и наснежило. Сыграли трупий сезон. Отдохнём. Страх стал дремным и вялым: обвис ледяными сосульками с проводов и треуглых игл. Застлало страх из снежин тканым саваном, повалило страх ветреным веером. Но нет-нет застучит зубами иззябший пулемёт и опять сведёт железные челюсти. Дымки – и те осмелели. Распрямились в вертикали, задрались кверху, и хоть бы что. На голых вербах – разочарованные вороны. Сидят, насутулив крылья: давно ли, куда клювом ни ткни, отовсюду трупью нежило. А теперь…
Редко, редко ударит медью о землю. Но и землю стянуло льдом: не даётся. И осколки долго плачутся, пока не шваркнут в снег.
Идём, вдвоём с поручиком М., по ломкому насту: вот и воронки затянуло снегом. Будто и войны нет. А вдруг, здесь под снегом спящие озими? Как бывало.
Подымаемся, ломая ногами наст, на гребень холма: поле – по – ле -поле. Человек, идущий рядом, молчит: глаза книзу. Хочу поделиться ширью с человеком, показать и ему простор. И вдруг говорю:
– Посмотрите, какой обстрел.
Тошно мне».
«Соседний участок потравило газами. Опоздал: приехал к трупам. Синие, с выкатом глаз, с растянутыми челюстями и вздутыми шеями. Их мне не нужно.
А вот рядом с одним из синих – брошенная второпях маска: обыкновенный противогаз системы Зелинского: эта выразительна. В серую кожу влипло два круглых широко растянутых плоских глаза; узкий мягкий хобот; с хобота свис безобразный, травянистого цвета короб.
Никогда не пробовал представить себе – лицо Страха. Это помогло. Попросил себе экземпляр».
«Сегодня у меня радость. Вот уж четвёртый день скучаю в запрятанной в овраг деревеньке. Встал с рассветом, взялся за листки, – и вдруг – уах, ударило. Только стёкла в брызг. Пошёл взглянуть: внутри глубокой воронки ещё ползает синеватый дымок, а вестовой Дёмка – доску поперёк ямы и уже штаны спускает.
Кругом гогочут:
– Погоди, дурак, прокоптишься.
– Что? В холуях служа, к тёплым ватерам привык? Х-хы.
А Дёмка только:
– Пшли.
И никаких. Рожа весёлая, озорная.
И вдруг так празднично-празднично стало: а что если обесстрашится жизнь? Ужели возможно? Отцедить бы проклятую муть и выплеснуть вон».
«Нет. Всё потравило страхом. Насквозь. Всё. Теперь я понял: красоте всегда быть лишь в проступях, всегда ютиться – так – редкими музейными номерками, кой-где и кое-как, и жизни ей не спасти. Все мы больны материобоязнью. Наши замыслы трусят материи: пригните их к буквам, к холсту, к камню и тотчас – дёрг, назад, в душу. Повиснет слово на острие пера, а на бумагу – нет; ступит брезгливо на строку, теперь бы в свинец: нет – боязно. Произведение искусства это редкое-редкое «небось». Но у «небось» не авосевая ли техника? Этого хватает, чтобы покрыть площадь холста с аршинным поперечником, но чтобы покрыть красотою всю землю… нет, не нам».
«Скучно. Опять под выгибы траекторий. Опять кружить колёсным спицам. И опять – кругом – мясо в крови. Где-то я читал, ещё в отрочестве: есть чернопёрая птица Мовоцидиат. У птицы большие крылья, а ног нет. И как бросило её в воздух, всё летит и летит, а снизиться не может. Опадают крылья. Усталью застлало глаза, но птице – Мовоцидиату – лёт без роздыха. Пока до смерти не долетит».
«Этой мысли вряд ли прогвоздиться сквозь череп. Уже больно от неё, а слов всё ещё нет. Всё-таки попробую. Вот: все эти Пирроновы Тропы, вопросы Энезидема, Монтеньево «que sais-je?» [«Что я знаю?» (франц.)] не туда корнями повернуты. Решетом солнца не поймать, человечьим мышлением истины не постигнуть, но не потому, что мозг хил, а потому что сердцу истина не в подъём. Истина больнее боли. На неё надо решиться. И вещи защищают свою суть, запрятав её в жути, тая в ужасах.
Меж человеком и истиной – страх. Страх на страже. В древнем Фрагменте, приписываемом Пармениду, сыну Пиретову: «сердце совершенной истины -бестрепетно» (Philostr. Philos. Opera Fragm. 6). С нашим же трепыхающимся сердчишком предпринимать познание нельзя. Сначала обесстрашить себя, и лишь тогда мыслить. Не ранее. Вот уж годы и годы учу моё сердце обрастать сталью: ведь если я бросил себя в это глупое, кротовыми норами изрытое, вшивое, в стальные колючки замотанное чёрное, звериное царство, то лишь тебя ради, свободная от сердца».
IV
На рассвете я возвратил рукопись.
Толкаясь колёсами о пни, в лес вкатила двуколка. Человек с зажатым под локтем портфелем ступил, качнув квадратный кузов двуколки, на подножку. Сел – сгорбился: бородкой в колени. И двуколка, переваливаясь с колеса на колесо, заковыляла в грохоты.
У опушки топталось несколько солдат:
– Ишь, чудака опять колёсами унесло.
– И чего ему, вольному, промеж смертей путаться?
– Чудак… Чудак и есть.
А к ночи и мы, не-чудаки, покинув лес, шли снова на синие дуги ракет к ямам окоп. Окоп встретил молча. Редко-редко пуля: и та верхом. Орудий -будто и нет. Молчь. И только миговые жизни ракет: зацветут на тонких гнутых стеблях, – глядь, уж и осыпались блеклым синим бликом: будто и не жили. Изредка ветер качнет воздухом, тотчас – в ноздрях сладковатая вонь: трупы. И рассвет, оторвавший по алому шву от земли, показав искромсанную и спутанную, кой-как перемотанную по раздёрганным кольям проволоку, подтвердил: да, трупы. И будут ещё.
Но тем временем, бой, грохотавший справа, с каждым часом отползал дальше и дальше. В тот же день, забывшись сном, я увидел: усталый бой медленно волочил по полям своё в дымы и гулы вдетое тело Вдогонку за боем, переваливаясь с колеса на колесо, по межам и ямам затоптанных полей, -колёса двуколки. В двуколке человек; под острым локтем портфель; он наклонился, бородкой вперёд, и торопит возницу; колёса кружат и кружат, всё быстрей и быстрей, – но бой, как испуганный зверь, волоча дымы и жерла, трусливо выдёргивается из-под колёс двуколки, уползая кровящим травы телом прочь от отстегнувшегося вдогонку ему чёрного рта портфеля.
А у нас длилась тишь. Но странная: жёлтые дорожки впереди окопа так и зарастали травами – и никто не смел ступить на них; алые маки тут же, у бойниц, осыпались несорванными, – и никто не смел потянуться за ними.
Ночами я любил, сев на низкой стрелковой ступени окопа, спиною в землю, часами удивляться: как зашвырнуло меня сюда, в этот крохотный мирок крохотных ненавистей. И было чрезвычайно странно – почему меня бросило именно сюда, на эту орбиту, почему кружит вкруг этого солнца, а не вокруг того, или вон того… – и, подняв лицо кверху, я отыскивал себе, разборчиво роясь глазами в россыпях миров, новое солнце и новую свою орбиту. Но созерцания длились недолго. Исподволь, в сонную молчь окопного бдения стала прокрадываться, прячась от глаз и уха, какая-то странная зябкая жуть. Всё было как прежде: редкий и длинный свист пули. Ракетная вспышка. Тьма. Снова протяжная тонкая пулевая нота. Всё как и прежде, точь-в-точь; и уже не то. Люди, встретившись в окопном проходе, искали чего-то глазами в глазах.
– Как думаете: долго ещё так?
– Что так?
Беспричинно, на линии полевых караулов вспыхивал беспорядочный огонь.
Обрывался:
– Что там у вас?
– Ничего. Показалось.
То и дело шуршал телефон:
– На участке спокойно?
– Спокойно. А что?
– Нет, так. Почудилось.
Травы за окопом шевелились и шуршали; клочья тумана густились в притаившихся людей. Зяби и жуть – нитились обвисшими проводами, переползали из зрачков в зрачки.
Однажды ночью, сквозь дрёму, меня ударило грохотом и воплем: я вскочил, стукнувшись теменем о навись землянки. Тихо. Облипший потом, с расстучавшимся сердцем, я толкнул дверь в окоп. И там – тихо. Осторожно поднялся на бруствер: ни звезды, ни ракеты, ни ветра, ни выстрела. И тогда я подумал: тому, с портфелем, незачем было уезжать от нас: за страхом.
На рассвете прорвало: как-то вдруг оттуда спереди – закричали жерла; и через четверть часа мы были под непрерывным снарядным ливнем. Гудящая земля швырками летела вверх; бревенчатые потолки землянок то здесь, то там слипались с полом; шуршащие лёты осколков; гуды снарядных роев. Вначале растерянно тявкал телефон: но снаряд рванул за провода, – и мы остались одни в полузаваленных ямах, среди горящих балок с пульсирующим в ухе грохотом, полуслепые от пыли, забившей воздуху все его поры. Помню, я пробовал пройти в соседний взвод. Сквозь оторванную дверь землянки я увидал сбившуюся в комья, налипшую на стену страдающую человечину. Лиц не было: были выставившиеся из налипи плечи и спины, застывшие острыми выступами локти, ряды прижатых к ногам ног: будто развороченная, смятая, брошенная под прилавок штука серого сукна. Я пробовал заговорить: никто и не пошевельнулся, и голос мой, схваченный грохотами, умолк. Получас. Час. Два. Мы начинали привыкать: то там, то здесь по путаным ходам, короткими толчками, от взрыва до взрыва, продёргивались, по стенке, люди. Внутри орудийного рёва возникала нота усталости, потом перебои. Потом – секундные паузы. И гул стал опадать. Только уши, разгудевшись, не умолкали. Мы знали: там, в наклубленной снарядами пыли, – близятся они.
– Выходи. К бойницам. Живо.
Я поднялся на подгибающихся коленях, лицом в дверь.
Чья-то тень легла поперёк прохода, странно маяча в пыльном облаке.
– Кто?
Как-то вдруг, точно склубившись в пыли, возник человек, тот, с портфелем: бородка, выставившись вперёд, любопытствующе ёрзала вправо-влево, будто обыскивая стены, облепленные глухо заворочавшейся под серым сукном человечиной. Меня ударило кровью в зрачки.
– Прочь, – крикнул я и поднял приклад: – прочь отсюда.
Бородка, дёрнувшись вправо-влево, втянулась в лицо; лицо в пыль: проход был свободен.
V
Отбили. Опять срасталась рваная паутина проволоки. Опять зачавкали о землю лопаты.
– А чудак-то наш отчудил. Видали?
– Какой чудак?
– Да вон там…
Шагах в сорока от землянки среди алых пятен мака – чёрный портфель с расшвырявшимися листками бумаги. Рядом с портфелем – человек, лицом в траву, локти острятся кверху, будто подняться хочет, а не поднимается.
Подошёл – тронул: труп. Да, он.
Ну что ж, и ему на телегу: к «теме».



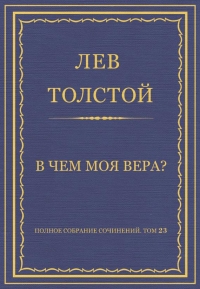

Комментарии к книге «Чудак», Сигизмунд Доминикович Кржижановский
Всего 0 комментариев