Сигизмунд Доминикович Кржижановский Разговор двух разговоров
На небе белые паруса облаков. Над морем ни всплеска. Вдоль широко распахнувшегося в безволньи пляжа – пёстрые грибы зонтиков, кое-где по раскалу камешков – простыня и сотни и сотни голых пяток, уставившихся в море.
Двое лежали шагах в десяти друг от друга. Один был почти кофейного цвета – другой цвета жидкого чая с молоком; первый поворачивался с живота на спину и обратно движением жирного дельфина, играющего на волне, – второй беспокойно ёрзал на потных камнях, то и дело отдёргивая жёлтую клавиатуру рёбер от желтопалого солнца.
Когда коричневый лежал на правом боку, белый – на левом, и глаза их были врозь друг от друга. Когда белый перевернулся на спину, коричневый уже впластался грудью и носом в песок. Наконец белый перекатился на правое плечо, коричневый привстал, ладонями – в землю, глаза их встретились, и оба протянули:
– А-а.
– Кто сказал «а», – улыбнулся белый – должен сказать и «б». Благодать. Ну, поскольку вы под цвет вашему письменному столу, то ясно, что вы с ним не видались недели три, а то и больше, а я вот только-только смыл с себя поездную копоть и созерцаю. Пожалуй, даже миросозерцаю потому, что там, в Москве, пространство, так сказать, по карточкам; вместо неба – потолок, даль отрезана стеной и вообще всё изрублено стенами и перегородками, а взамен солнца двадцатипятисвечная лампочка – не угодно ли? Чрезвычайно трудно не усомниться, что за этим крошевом из пространства есть где-то и настоящее, за горизонт перехлёстывающее пространство, классическая протяжённость, одним словом, мир.
Коричневые лопатки шевельнулись:
– Да, как подумаю, что скоро опять, вместо всплесков моря, тявканье трамвайных звонков, сточные ямы улиц, и что на столе тебя дожидается беременный портфель…
Жёлтые рёбра дёрнулись от смеха:
– Вот именно: мы перекладываем мысли из головы в портфель, и когда голова пуста, а портфель полон, то это и называется…
– Угадываю. Это правда, растекаться мыслью по древу теперь, когда и древа-то эти срублены, и жизнь насаждается заново, нам нет времени. Да и сама эта «мысль», как доказал кажется некий палеограф, оказалась «мысью», грызуном, вредителем. С ней тоже надо не без осторожности. А брюхатость наших портфелей почтенна. И после, это – фетишизм. Если тебе взвалили на плечи столько работы, что голове приходится потесниться – ну, там, на время – не вижу в этом ничего постыдного. Помню, в последнюю командировку занесло меня (в Париже это было) в Сорбонну. Как войти, первая слева фреска, Пюи-де-Шаванновская; кажется: святой какой-то идёт по стене и перед собой, как фонарь, на вытянутых руках несёт свою же голову. Я, помню, тогда ещё подумал: молодец, не всё ли ему равно, как носить своё мышление – на плечах, там, под локтем, или… Важно одно, чтобы совершалось овеществление идеи, объективное её бытие, а не шмыгание мысли в камере одиночного заключения, под макушкой, в голове. Творчество новой жизни…
– Тварчество.
– Как?
– Я говорю: тварчество. Мысль должна идти на мышление, как рыба на крючок. Вы хотите шутку Клеопатры, приказавшей привязать к удочке Антония, к концу его лесы копчёную сельдь – превратить в архисерьёзную и массовую систему рыболовства. Нет. Ум вправе рассчитывать на более остроумное с собой обращение. Поезда ходят по расписаниям и пусть, но мысли, которым дано расписание, только свистят, но не двигаются с места. Тварное, данное не может быть творческим и созданным.
– Позвольте, вы совершенно не понимаете общественного смысла…
– Смыслов.
– Пусть так. Нам нужны не сшибающиеся лбами и тем, что под ними, индивидуумы, а организованное коллективное мышление. Если каждый будет тянуть врозь, то нашему возу не будет ходу. Ясно. Ведь стоит только хоть одной образующей лечь под углом, и равнодействующая тотчас же укоротится. Нам нужна равнодействующая предельного действия, и я боюсь, что произошло некоторое запоздание на этом фронте: головы должны быть организованы в первую голову. Единство нашего миросозерцания…
– Перебью: миросозерцание никогда не бывает нашим. Оно не может быть продуктом массового потребления. Придумать философскую систему – это значит зажечь новое солнце, по-новому освещающее мир. Даже при крайнем снижении цен на солнце, это всё-таки не спички, которые будут вспыхивать от чиркания о любую черепную коробку. Наше способно только занашивать, но не… Мне как-то рассказывали (это было в давние годы) о чердачной студенческой коммуне, у которой на всю братию имелась всего лишь одна пара штанов, так что на улицу им приходилось по очереди. Штаны одни на дюжину ног – бедновато, хотя ещё так-сяк, но дойти до нищеты философии, чтобы одно миросозерцание на всех, согласитесь, что…
– Ну, эту карту, знаете, вы из рукава, хотя мы и оба голы. Когда я говорил «миросозерцание», я, конечно, укорачивал термину смысл, обрубал ему хвост… но не голову, но, как там вы ни спорьте, солнца – и философические, и вот это, что над нами, – действительно-таки, подешевели. Сами же вы говорили, что жизнь, заставленная отовсюду стенками, убивает в человеке чувство пространства, мира. Но теперь, когда все стены рухнули, мир, в обесстенности и обестенении своём стал видим всем созерцаниям. Любой мирской сход решает теперь не мирское, а мировое, и каждому, если он хочет психически уцелеть, приходится вскарабкиваться почти по отвесным понятиям. О, это поднятие не понятие; только связываясь друг с другом, как это делают альпинисты, только объединившись в единое, коллективное мышление, можно разминуться с бездной. Так мысль, ведя за собою массы, переходит через…
– Не через, а в: в свою противоположность. Конечно, одни и те же буквы и в букваре и в поэме Броунинга, но в букварном своём возрасте, они лишь учатся ходить, в то время, как… одним словом, степь под кротовьими холмиками не требует альпенштоков и гвоздастых подошв. Мысль, превращённая в рукопись и затем в сорокатысячный тираж, остаётся всё-таки мыслью в одном экземпляре. Вы спутали вертикаль с горизонталью и оттого…
– Революция опрокинула пространство, и горизонтали стали вертикалями.
– Надо осторожнее обращаться с аналогиями. Восхождение вверх к точкам, на которые ещё не ступала ничья мысль, всегда сквозь безлюдье и холод логики, – по горизонтальным же дорогам можно целыми армиями в затылок друг к другу. Надо строго разграничивать ассоциирование и мышление, умение открывать новое и способность прятать себе под макушку старое. Конечно, можно бросить в голову чужую мысль, как кусок сахара в стакан, и если она сама не растворяется, кружить и тискать ложечкой, пока не произойдёт полного усвоения. Можно, наконец, организовать подачу идей наподобие света, распределяемого по лампочкам ли, по головам ли из центральной станции. Очень удобно: каждый получает возможность бездумно думать. Можно, наконец, -научно усовершенствовать дело, перевинчивать головы с плеч на плечи. Жаль только, что самые научнейшие усовершенствования при такого рода голововодстве прекратятся и мышление, отщёлкиваемое выключателями, превратится в бессмыслицу.
– Погодите. Из-за ваших образов о мысли я не вижу образа ваших мыслей, а он-то меня единственно сейчас и интересует. Что же, по-вашему, сколько людей, столько знамён. Но ведь это же чушь: кто же будет сражаться, если все будут знаменосцами? Куча миросозерцаний и ни одной идеологии. Вам, конечно, не очень нравится это слово – идеология.
– Нет, отчего же: но только идеология для меня не система мыслей, освобождающая от мышления, а такое идеосочетание, которое право на мысль превращает в долг: мыслить. Современная наука определяет процесс мышления, как торможение рефлексов. Идеология не должна поступать с идеями, как мысль с рефлексами, потому что, если начать тормозить торможение, то…
– То оно переходит в свою противоположность. Этот наш спор я уже усвоил. Но противоположности между горизонталью и вертикалью, пассивным и активным мышлением я себе всё-таки не уясняю.
– Очень просто: мысль, как и растение, стеблится вверх, волею тропизмов и логического взгона. Но можно – растение ли, мысль ли, всё равно -пригнуть к земле, к странице книги, притиснуть колышками или авторитетами и заставить стлаться по противоестественной для них горизонтали. Конечно, любую мысль можно обобществить, рассеменить по миллионам голов, но сущность мысли не в обобществлении, а в обобщении, способности длиннить радиус видения, в умении раскружить кругозор подъёмом по сверх, громоздящемуся на сверх… Одним словом, истина настолько-то стыдлива, чтобы не отдаваться коллективу.
– Ого. Вот мы и договорились до психического атомизма. Особи, немецкие ихи, глубокодумные солипсусы и пустота. Но то, что вам мнится пустотой, на самом деле расплавленный поток, вливающийся в формы, а ваши ихи, так, воздушные пузырьки, захлёстываемые сталеспадом, вспучивающиеся напыщенностью пустот и тем только снижающие качество медленно холодеющего металла. Как это, по пословице: слоны трутся – комаров давят. Комару, сиречь личности, не возбраняется при этом зудеть, но из-за топа слоновьих пят и схватки трубных голосов писк этот попросту не слышен. Личность…
– Не следует переходить на личности с понятием… личности. Прежде всего, плох тот комар, который попадает в тёрку меж слоновьих боков. Он может пробраться, скажем, и под слоновье ухо и прозвенеть, жаля в самое слышание, такое: я не делаю из себя, из, так сказать, мухи слона, но и из слона нельзя сделать мухи. То грубое, перепопуляренное понятие о личности, какое распространяется её врагами и уничижителями, не более как философическая сплетня, и только. Личность, индивидуальность изображается, как нечто отщепенческое, вывихнувшееся из социального организма, противопоставляющее строю коллектива свои настроения, действительности фантазию, одним словом, умеющее придумывать лишь варианты к детской игре: сначала ладонями в переднюю стенку вагона, затем плечом в заднюю и поезд от этого то ускоряет, то замедляет ход. На самом деле, личность не есть нечто вывихнутое из своего вне, наоборот, ей дано вправить мир в мысль. Ведь самое мышление общеобязательно, если только оно само выполняет все свои обязательства перед логикой. Логизирующих много – логика одна. Человек, владеющий общим понятием, не нуждается для его построения в обществе. Его идеям излишни сочеловеческие подпорки. Не сваливайте в голову индивидуума сумбур проблематических суждений и пошлость суждений ассерторических: подлинное «я» берёт себе аподектизмы: оно не мыслит «если я есьм» или «Я семь», – но «я не могу не быть». И дальше: «я мыслю, следовательно, мне принадлежат все мои следовательно». Я не хочу хранить свои логические излишки в сберегательной кассе, я хочу их иметь в своей голове. Я требую, чтобы мне возвратили все, национализированные у меня, шестьдесят четыре модуса силлогизма. До единого. И если мне возразят, что из них логически осуществимо лишь девятнадцать, всё равно, отдайте и остальные, так как без них не осуществится искусство, которое ведь всё из неосуществимых силлогизмов. Мало того, я не хочу, чтобы меня пугали в детстве трубочистом, а в зрелоумии ошибкой, которая придёт и унесёт меня в мешке. Я декларирую право ошибаться. Почему? Потому что достигнуть истины можно лишь доошибавшись до неё. Мышление, мыслящее идею свобода, только называет себя по имени. Что вы на это скажете?
– Прежде всего, что вы обожгли себе спину. Перевернитесь на бок. Вот так. С солнцем не шутят. Ну, и с идеей «свобода» тоже. Затем я беру вот этот камешек и швыряю его: это вместо цитаты из Спинозы. Понятно. И, наконец, боюсь, вы убедили самое логику, и она дала вам полную свободу. Нет, кроме шуток, ваша свободная, самозаконная мысль, наряженная во все шестьдесят четыре модуса, напоминает мне белорусскую невесту, которая согласно ритуалу, прежде чем переступить порог мужнего дома, выкрикивает: «Хоцу скоцу – не хоцу – не скоцу», после чего, завершая ритуал, муж, взяв её в охапку, переносит через порог. Философское понятие свободы невоскресимо, индетерминизм – это даже не мёртвый Лазарь, который «быв четырёхдневен и смердех», это пепел, понятие, подвергшееся кремации, которому только под крышу урны и в колумбарий идей. Ведь если взять все мозговые процессы, начиная от образования ассоциативных связей, которые суть связи, а не…
– Ну да, предчувствую: сейчас на меня рухнут библиотеки и погребут вашего покорного, вернее, непокорного, слугу вместе с злосчастной идеей свободы. Но только это совершенно излишне: я вовсе не собираюсь фехтовать против современного научно-вооружённого детерминизма. Я только утверждаю, что человек и его мышление представляют случай несколько своеобразной детерминации. Я много об этом думал. И вот моя формула: человек, поскольку он человек, есть такое существо, все внутренние и внешние поступки которого, – то есть мышление и деятельность, детерминированы идеей свободы. Вы понимаете, можно отрицать свободу, но не её идею, идея-то во всяком случае существует, и поскольку она в центре мышления, поскольку она является доминантой, определяющей всю констелляцию мысли, я спокоен: моё мышление, пусть и не моё, пусть в чужих, но я бы сказал, в хороших руках.
– «Слова, слова,слова».
– Вот именно, только интонацию принца по нынешним временам приходится заменять интонацией нищего: слов, слов, слов. Дайте нам только слова, мы согласны, и даю вам слово, мы сделаем из слов, нестоящих слов, настоящую литературу. Это уже нечто. Но вы держите слова под ключом. Вы…
– Мы находимся в состоянии войны. Пока без выстрелов. А на войне, как на войне: слова оттесняются паролями, а между мыслью и речью – цензурные рогатки.
– А не оттого ли проигрываются войны – иногда обеими сторонами вместе – что первыми её жертвами падают слова, право на правду и критику, и жизнь делается безъязыкой и подкомандной. Ведь всё равно мысли, оттеснённые от слов, отступают назад в молчание и делаются задними мыслями: таким образом, идейный тыл делается неблагополучным. С этим следует считаться. И очень. Но этого мало: извилины мозга, как дорожки в саду, заросшем многоветвием мыслей. Если из-за войн, в войны переходящих, мы забросим эти внутричерепные сады, они заглохнут, зарастут сорняком. И благородное искусство силлогизма будет искажено и утратит свой строгий контур. Вместо длинных цепей умозаключений – короткие тычки лбом о факты. Мне вот вспомнилась горестная история горечавки. Не слыхали? Горечавка – это такая скромная в блеклом цветневом уборе травка, обычно затеривающаяся в толпах луговых стеблей; некоторые разновидности её цветут в досенокосные месяцы, другие много позже, но есть и такая разновидность горечавки (о ней-то и речь), которая имеет смелость цвести как раз в сенокосную пору, так что все её попытки пропылиться летучей пыльцой в будущее попадают под лезвия кос. В итоге упрямая трава постепенно исчезает с лугов… чуть было не сказал «российской словесности». Ещё горсть годов, и только старые ботанические атласы будут хранить изображение покойной горечавки. Да, горе тому, кто смеет мыслить в эпоху мыслекоса.
– Видите ли, всё это может быть и очень трогательно, но… О, чёрт, ветром-то как ударило. Казалось бы, откуда бы ему. И вон там заволнило. И гребешки. Уж когда море начинает причёсываться, это значит…
– Да, вот там, из-за спины туча. Давайте облачаться.
Головы собеседников нырнули в треплющиеся под ветром рубахи. Всхлёсты воздуха становились всё сильнее и чаще. Распялы зонтиков пугливо припали к своим тростям, ёжась вдруг сморщившимися пёстрыми шелками. Море, сбросив синь, переодевалось в защитный серо-зелёный цвет и шло, взбеляя валы, на быстро пустеющий пляж. Чьё-то полотенце растерянно билось, точно белый флаг поверх расплясавшихся волн. Двое отошли уже от берега на сотню-другую шагов. Навстречу им ползла чёрным неводом сквозь воздух тень от близящейся тучи.
– Так вот и война. Внезапно и неслышным поползнем. Когда её менее всего будут ждать. И берег жизни опустеет. Начисто. А вы плачетесь о какой-то там горечавке.
– Нет, теперь я думаю о лезвиях кос, занесённых над днями. В сущности, от войны можно бежать лишь в войну. Самое мышление, схватка тезиса с антитезисом, драка понятий в голове; дальше идут войны голов с головами, нечто вроде брегелевского побоища копилок с печными горшками; и, наконец, неутихающая борьба голов против рук, сцепа пальцев против цепи мыслей. Эту последнюю рукоголовую войну я представляю себе так. Вы где живёте? Под той вот, зелёной крышей на всхолмьи? Нам по дороге.
– Но нашим мыслям – не по пути.
– Если так, простите. И прощайте.
– Ну вот, как легко люди… огорречавываются. Доскажите. Мне интересно. Только торопитесь, через пять минут рухнет ливень.
– Хорошо. Я успею лишь схему об изготовителях схем. В истории рукоголовья всегда будет и было так: головы измышляют схему. Измышляют, но не осуществляют. Миллионы пальцев, протянутых к невещественной схеме, втягивают её в материю, превращают миллиграмм графита, стёртого о бумагу, в тонны вращающей свои маховики стали. И тут-то и начинается борьба: сущность схемы, идеограммы, в её способности к непрерывному и бесконечному совершенствованию, внутреннему самообогащению. Не потому ли ей всегда по пути с капиталом, который, по определению Зомберта, есть непрерывное разрастание ради самого разрастания. Схема, с помощью рабочих рук вселившаяся в материю, в дальнейшем, совершенствуясь и уточняясь, старается отсхематизироваться от рабочих. Она прогоняет их медяками, переняв у рук искусство работать, машина эмансипируется и работает без рабочих. Вы знаете, всё гигантское сооружение, бросающее энергию Ниагары на тысячи вёрст вокруг, обслуживается лишь девятнадцатью парами рук. Естественно, что осуществители машин превращаются в «разрушителей» машин. Говоря точнее, в разрушителей невещественных схем, сущность которых в бесконечном саморазвитии. Чем полнее схема, чем более она сыта деталями, чем вработаннее она в жизнь – тем голоднее рабочий и тем ближе пододвигается к нему смерть. Да, борьба голов и рук набирает темпы. Недавно я наткнулся на статистику патентов. Оказывается, в Соединённых Штатах, где ещё сто лет тому в течение года головы запатентовывали лишь пятьдесят-шестьдесят измышленных ими схем, теперь каждый год даёт не менее тридцати тысяч патентов. Это уже не передовые схватки, а бой развёрнутым фронтом. Патенты идут в патентаты земли. Но вот и ваша зелёная кровля. Ударило первыми каплями. Мне – налево.
– Погодите. Только два слова. Вы не додумали до главного: всё это для тех, по ту сторону вот этого моря; у нас схемам нечего бояться рук, рукам -схем, ведь стоит укоротить рабочий день (а к этому и стремится социализм), и конфликт меж головами и руками улажен, снят. Ведь можно заставить даже машину размашинить жизнь, время, отнятое у рук, передать головам. Схематизируя теорию схем, вы забыли, что живой, несхематический человек, помимо привешенных к плечам рук, имеет ещё нечто и на плечах. Ишь, как полыхнуло. Бегите.
– Да. Нас разлучают грозой. Может быть, так и лучше, потому что…
– Пошло взахлёст. Промокнете…
– …потому что, если мышление – это разговор с самим собой, то то, что произошло меж нами – разговор двух разговоров. И так всегда: чтоб говорить с собой, приходится спиной к объекту разговора, миру, но, говоря с не собой, поневоле отворачиваешься от себя. Надо выбирать. И на будущее я выбрал. Ого, гроза на славу. Прощайте.



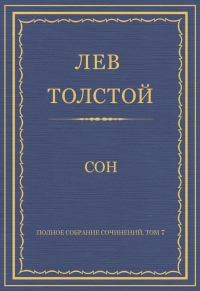
Комментарии к книге «Разговор двух разговоров», Сигизмунд Доминикович Кржижановский
Всего 0 комментариев