И. И. Панаев КОШЕЛЕК Сцены из петербургской жизни
I
Старушка мать, бывало, под окном
Сидела, днем она чулок вязала,
А вечером за маленьким столом
Раскладывала карты и гадала.
Пушкин.Ах, тетушка, как хорош ваш Петербург! Мне никогда и во сне не снилось ничего подобного!.. Как здесь все великолепно!.. какие набережные, какие площади, какие дворцы, какие огромные домы, какие нарядные дамы, какие экипажи! А останавливались ли вы когда-нибудь, тетушка, перед монументом Петра в лунную ночь? Любовались ли Невою? господи боже мой, как хороша ваша Нева, тетушка!
Так говорил в лирическом жару молодой человек "с цветущими ланитами и устами", с простодушным взглядом, в длинном, гораздо ниже колен, сюртуке, — настоящий представитель отрадного деревенского быта.
Тетушка, к которой он адресовался с своею кудрявою, девственною речью, была старушка, как обыкновенно бывают все простые русские старушки, с морщинами на лице, с чепцом на голове, с очками на носу и с чулком в руках.
Странна показалась тетушке речь племянника — и прутки замерли в ее руках, и она отложила чулок на маленький стол, который стоял возле нее, подняла очки на лоб, протерла глаза и пристально посмотрела на племянника.
— Что это ты, Иванушка? Бог с тобой! Экой проказник: что я за полоумная, что стану ходить по ночам да глазеть на памятники?
И старушка от души смеялась над проказником.
В эту минуту девушка, сидевшая на скамейке у ног старушки, выронила из рук иголку и шитье, подняла вверх свои темно-голубые глазки, закинула назад свою грёзовскую головку, всю в локонах, взглянула на старушку, потом украдкою бросила взор на молодого человека: ей хотелось улыбнуться, и она, кажется, закраснелась.
Но, может быть, то был луч догоравшей зари, который, уловив движение девушки, страстно прильнул к ней и любовно оцветил ее личико своим пламенем.
Хороша была эта картина из трех лиц: морщинистая старушка, румяная девушка, молодой человек, задумчиво облокотившийся на ручку кресел… Небольшая комната, просто убранная, ситцевые занавески у окон с красною шерстяною бахромою и ерани на окнах. В этой комнате все дышало спокойствием и счастием, тою отрадною безмятежностью, о которой, кажется, не ведают люди, живущие в огромных золоченых палатах.
— Вы сегодня, маменька, что-то очень долго заработались. Уж скоро совсем смеркнется.
— Да, да, твоя правда, Лиза; у меня и глаза начинают слипаться.
И, говоря это, старушка вкладывала свои очки в красный, потемневший от времени футляр.
— И тебе пора бросить свое шитье: ты и без того у меня сегодня глаз не спускала с иголки. Надо и покой знать. Убери-ка мой чулок, Лизанька.
Девушка поцеловала руку старушки, встала с скамейки, подошла к столику, взяла чулок, который вязала она, положила его в желтую плетеную корзиночку и вышла из комнаты.
— Ах, ты моя красавица? — шептала старушка, провожая Лизу глазами.
Лиза была, точно, чрезвычайно мила с своими воздушными локонами, с своею тонкою талиею. К ней очень шло ее темное ситцевое платье, ее черный кушачок и пестрый передничек с карманами по бокам.
— Вот, мой родной, — продолжала старушка, когда Лиза вышла из комнаты, — в этой девушке господь бог послал мне настоящего ангела. Ну, что бы я была без нее на старости лет? Уж подлинно могу сказать, что и родная дочь не любила бы меня больше ее. Вот около покрова будет пятнадцать лет, как она при мне, и я не помню, чтобы когда-нибудь хоть раз чем огорчила меня, даже когда была еще ребенком. Этакой девушки и днем с огнем поискать. А какая рукодельница! недаром молилась я об ней угоднику божию Николаю-чудотворцу! Вот хоть бы и ты, мне родной племянничек по отце, да уж любить меня так не можешь, как она.
— Как мне вас не любить, тетушка? у меня не осталось никого, кроме вас… А вы ходите когда-нибудь с Лизаветой Михайловной в театр? Я думаю, в Петербурге чудесный театр, тетушка?
— Вот у него, сударь, что на уме: театры да променады… Уж, никак, тебя, мой батюшка, Петербург-то совсем с ума свел. А?
И в самом деле, Петербург почти свел с ума молодого человека. Да и как не сойти с ума от Петербурга тому, кто не видал ничего краше, не воображал ничего совершеннее своего губернского города?
Здание К*** университета было для него идеалом великолепия. Он часто останавливался перед этим зданием и дивился его огромности, потому что до четырнадцатилетнего своего возраста он ничего не видел, кроме изб, крытых соломою, да полуразвалившегося барского дома, обнесенного плетнем, да ворот, на которых некогда была нарисована домашним гением какая-то аллегорическая картина, размытая впоследствии дождями и бурями…
И после всего этого очутиться в Петербурге, и, как будто нарочно, в ту минуту, когда он, сбросив с себя снеговой саван, обновленный лучами весеннего солнца, блестит и щеголяет и, впервые после пятимесячного усыпления, самодовольно смотрится в свое чудное зеркало в гранитной раме… Согласитесь, что тут есть от чего сойти с ума молодому провинциалу!
Долго ходил он, разинув рот, по Невскому проспекту, в этом созерцательном восторге, который не может быть понятен нам, вечным и равнодушным петербургским жителям. Мимо его проходили разного рода петербургские франты, — и те, которые смотрят на все, вытаращив глаза, и те, которые никогда ничему не удивляются. Они оглядывали его с ног до головы с какою-то презрительною жалостью, а он не замечал этих господ и не подозревал, что доставляет собою такой прекрасный предмет для их острот, которых ожидает награда и в легоньких гостиных, и в великолепных салонах: в первых хохот от души, в последних — едва заметная улыбка.
Он был так счастлив! В эти первые дни своего приезда он жил не в Петербурге, совсем нет: он созидал свой мир, мир фантастический, идеал жизни небывалой; он населял петербургские громады какими-то волшебными существами, чудными созданиями, которые только могут зародиться в голове двадцатилетнего юноши. И если бы можно было уловить все эти туманные образы его разгоряченного воображения, если бы можно было передать словами все эти мечты, которые неопределенно, как китайские тени, проходили в голове его, тогда бы, может быть, вы яснее поняли, как легко, как незаметно переходит человек за роковую черту, которая отделяет его от безумия. И не была ли права тетушка, называя его сумасшедшим?
Тетушка очень любила его, и, между тем как он рыскал по Петербургу, она, сидя под окном в своих кожаных креслах и перебирая спичками, думала, как бы поскорей пристроить его на службу.
— Ветреник, ветреник! — говорила она, по обыкновению, когда он опаздывал к ее обеду или к чаю, а это случалось очень часто.
— Молодо-зелено! Заглазелся… Лизанька, посмотри, не идет ли он?
И Лизанька, по обыкновению, отворяла окно и очень пристально смотрела на улицу.
— Нет-с, не видать, маменька.
И старушка, по обыкновению, прибавляла:
— Экой пострел!
Надобно заметить, что с приезда племянника в доме тетушки произошли величайшие перемены. Комнатка, или, вернее, чулан, в котором лет двенадцать сряду хранился гардероб ее, отдана была молодому человеку. Все эти платья, развешанные в строгом систематическом порядке, с венчального до погребального, в котором она, безутешная, шла на Волково, за гробом своего супруга, — перенесены были за перегородку, находившуюся в ее спальне. Два стула, с перекладинками назади, стоявшие в симметрии по углам гостиной, были отданы племяннику. Тетушка никак не могла привыкнуть к таким переворотам в ее доме и часто говаривала:
— А что это, Лизанька, как будто чего-то недостает здесь?
— Двух стульев, маменька, которые перенесены в комнату Ивана Александровича.
— Да, да! точно, двух стульев.
Все бы это ничего, да старушка не шутя стала посерживаться за то, что Иванушка не возвращался вовремя к обеду, что он вместо часу являлся иногда в половине второго.
Уж это ей было пуще всего не по сердцу. Елизавета Михайловна, бог знает почему, никогда не могла равнодушно слушать, когда тетушка бранила Ивана Александровича (у нее было такое доброе сердце!) — и вот она начала придумывать, как бы отвести от него гнев тетушки.
Вдруг ей пришла мысль, но она так закраснелась от этой мысли… Боже мой!
Надобно было обманывать старушку! Обманывать, ей! Это ужасно! И кого же? свою благодетельницу, свою мать!..
"Нет, нет, я ни за что на свете не решусь обмануть ее!" — Так думала она, остановившись в гостиной перед часами, которые висели на стене.
"Нет, нет!" — и, в раздумье, она взялась за веревку, на которой висела гиря, и вертела в руках эту веревку; потом вдруг мигом вспрыгнула на стул… рука ее дрожала… она перевела назад стрелку.
Сердце ее сильно билось в этот вечер; и с этого вечера Иван Александрович стал всегда являться вовремя к обеду.
Однако старушке казалось это что-то подозрительно. Желудок ее вернее часовой стрелки доносил ей об обеденном часе.
— А что, который час, Лизанька? — спрашивала она.
— Еще только четверть первого, маменька, — отвечала та, потупив глазки.
— Странно! Отчего же мне так есть хочется?
— Извольте посмотреть на часы, маменька… Старушка прикладывала руку ко лбу, морщилась, смотрела на часы и повторяла:
— Да, четверть первого. Странно!
Но кроме всех означенных выше перемен, произведенных в этом почтенном доме приездом молодого человека, произошла еще одна — и очень важная. Елизавета Михайловна, от природы характера веселого и смешливого, стала очень задумываться, чаще бледнеть и краснеть, а иногда даже вздыхать. Ее иголка, когда она сидела за пяльцами, останавливалась в руке и долго, долго была неподвижна. Говорят даже, когда в комнате никого не было, она загадывала о чем-то: закрывала глаза, вертела руками по воздуху и соединяла потом два указательные пальца. А впоследствии изменила этот способ гаданья на другой: только что под руку попадалась ей какая-нибудь астра, она сейчас ощипывала листки и приговаривала: любит, не любит, точно как Гетева Маргарита.
Чтобы подметить, как изменялось личико Елизаветы Михайловны, надобно было смотреть на нее в ту минуту, когда в комнату входил Иван Александрович. Боже мой! как начинало биться тогда ее сердце, как она жестоко кусала свои пунцовые губки!
Но для чего же скрывать? Она мечтала о нем еще гораздо прежде его приезда. Ей так много наговорила об нем старушка маменька, что он и ученый-то, и умный-то, и хорошенький-то. И она, точно, нашла его и ученым, и умным, и хорошеньким. Ну, как можно было сравнить его с этим чиновником, с которым она танцевала прошлого года, когда маменька возила ее в 14-ю линию на балок к своей старой приятельнице, одной коллежской советнице? Этот чиновник только и говорил с ней о том, как занемог у них однажды начальник отделения, и как он ходил к нему на дом, и как он потчевал его чаем, да еще о том, как он устал танцевавши в танцклобе мазурку. Что ж это за разговор?
Правда, с ней говорил там и другой чиновник, и говорил о литературе.
Он подошел к ней и спросил:
— Видели ли вы на театре "Роберта-Дьявола"-с?
Она покраснела и отвечала:
— Нет-с.
— А прекрасная пьеса!
Потом, после нескольких минут молчания, он опять спросил ее:
— Ну, а смотрели ли вы "Михаила Скопина-Шуйского"-с?
Она снова покраснела и отвечала:
— Нет-с.
— А эта пьеса еще лучше "Роберта-Дьявола"-с.
И этот разговор ей не нравился: во-первых, он заставил ее краснеть, потому что она никогда не бывала в театре; во-вторых, этот господин говорил таким грубым, неприятным голосом. А голос Ивана Александровича — о, это настоящая музыка! К тому же Иван Александрович человек ученый, он кончил курс в университете! Иван Александрович говорит так красиво: в его языке всегда столько души. Когда он рассказывает что-нибудь, нельзя не заслушаться. Какие восторженные движения! Да, что ни говорите, а каждое слово его идет от души и в душу!
Так думала Елизавета Михайловна, и любовь незаметно обвивалась около ее сердца, как незаметно повилика обвивается около тонкого стебля молодого дерева. И скоро все фантазии этой девушки стали разыгрываться на одну тему: Иван Александрович. Он всегда был перед нею — и днем в мечте, и ночью в грезе; он повсюду преследовал ее — и в часы забот по хозяйству, и в часы отдыха. Он ходил с нею на рынок и на гулянье… Она начала покупать все припасы дороже прежнего, и добрая старушка покачивала головою.
— Эх, эх, Лизанька, — обыкновенно говорила она, — ведь надо торговаться, дружок!
Они, мошенники, ради брать лишнее.
— Я торгуюсь, маменька.
— То-то, голубчик.
Она хотела молиться, она стояла перед образом спасителя, но молитва была на устах, а в сердце не было молитвы; она видела, как другие возле нее со слезами клали земные поклоны перед этим образом… Да!.. и она, стоя на этом же самом месте, и только месяц назад тому, молилась так же усердно!
"Отчего он не идет? Он хотел прийти в церковь. Где же он теперь? Ах, если бы хоть маменька помолилась за меня! О, ее молитва скорее бы дошла до бога!.." Неделя за неделей уходили, и Лизанька с каждым днем открывала какие-нибудь новые достоинства в Иване Александровиче. 21-го мая его рожденье. К этому дню она готовила для него подарок — кошелек своей работы. Она заранее мечтала, как она будет поздравлять его, и заранее краснела при этой мечте.
Между тем много произошло перемен и в Иване Александровиче: его восторг мало-помалу утишился; он часто сидел повеся голову, не отвечал на вопросы тетушки, бесцельно сидел у окна, глазел на проходящих, хмурил брови и грыз ногти.
— Изволите видеть, чем занимается, — говорила тетушка, глядя на него, — ноготки себе погрызывает. Чему же тебя учили, сердечный, коли ты не знаешь, что от этого ногтоеда на пальце сделается?
Он не слыхал благоразумного замечания старушки; мысли его заняты были чем-то очень важным.
В эту минуту мимо окна проходил молодой человек чрезвычайно красивой наружности и вместе с этим удивительный щеголь: в коротеньком сюртучке самого тонкого сукна, с палкою в руке, с шляпою на ухо…
Иван Александрович пристально посмотрел на него и долго провожал его глазами, потом со вздохом взглянул на свой длинный сюртук и еще больше прежнего задумался.
II
Бывало, мать давным-давно храпела,
А дочка на луну еще смотрела.
Пушкин.Вечер. Небо бледнеет, и ровный цвет лазури сменяется переливами перламутра; вот протянулась розовая лента на закате: она из чудного пояса радуги; вот за нею другая — темнее, а там багрового цвета, а там ослепительное золото, и, наконец, далее огонь — и на этом великолепном зареве заходящего солнца черная тень колокольни и куполы церкви Николы Мокрого.
Нева не шелохнется в своей гранитной колыбели, и небеса, налюбовавшись ею, заботливо покрыли ее своею золотою парчою…
Дивная, нерукотворная картина!
Что огни ваших роскошных праздников перед этим небесным огнем? Что блеск вашей позолоты перед этим божьим золотом? Что ваши убранства перед этим нетленным убранством?
Иван Александрович загляделся на небо, на Неву и на каменные громады берегов ее.
"Вот уж, кажется, я и привык к Петербургу, — думал он, — а все-таки не могу пройти равнодушно мимо Невы…" — К этой картине нельзя привыкнуть: право, чем долее смотришь, тем больше хочется смотреть, — кто-то проговорил тоненьким голосом возле него.
Это был ответ на мысль его. Он вздрогнул и обернулся в сторону. Перед ним была дама в желтой соломенной шляпке с пунцовым цветком и в длинной черной шали… Он посмотрел ей в лицо: просто красавица.
Она разговаривала с человеком очень высокого роста, в плаще с длинными кистями, из-за которого выказывался фрак какого-то особенного покроя, галстук с огромным бантом, пестрый жилет с голубыми атласными отворотами и по нем массивная золотая цепь, к которой прикреплен был золотой лорнет с разноцветными каменьями. Он прищуривался, поправлял свои виски, помахивал лорнетом, потом с необыкновенным искусством, с удивительною грациею приставил его к глазу, посмотрел на воду и, обратись к даме, произнес сквозь зубы:
— В самом деле, бесподобный вид!
Ивану Александровичу очень понравилась эта дама, и он не спускал с нее глаз.
Постояв немного, дама продолжала прогулку с своим кавалером, который, как уже заметили читатели, принадлежал к тому разряду франтов, встречая которых как-то невольно хочется воскликнуть: пощадите! За ними шел лакей в синей ливрее с желтым воротником и в треугольной шляпе с золотым галуном, вероятно, принадлежавшей его предместнику, потому что эта шляпа была ему не совсем впору и почти закрывала глаза; он время от времени вытаскивал из кармана орехи, грыз их и оставлял за собою таким образом дорожку из скорлупы.
"Верно, это не простая дама, — подумал Иван Александрович, идя вслед за нею. — Какая у нее важная поступь! Как она прекрасно одета, с каким вкусом!.. А ножка-то! просто игрушка, да и как обута… чудо!" Признаться, Иван Александрович стал немножко завидовать ее кавалеру. Да и нельзя было не завидовать!
Завидуя, и мечтая, и любуясь незнакомкою, он незаметно очутился — в Коломне.
Дама, и кавалер ее, и лакей, который уже уничтожил весь запас орехов, потому что шел спокойно, скоро остановились у подъезда одного небольшого каменного дома. Кавалер очень искусно, точно танцуя мазурку, первый подлетел к двери подъезда, с неподражаемою ловкостью дернул за ручку колокольчика, — от этого движения цепь лорнета его раскачалась и стекло лорнета ударилось о медную ручку замка, разлетевшись вдребезги. За всю эту эффектную сцену он награжден был восклицанием "Ах!" и приятною улыбкою своей спутницы.
Дверь отворилась и захлопнулась: все трое исчезли.
Иван Александрович неподвижно остался у двери.
Возвратись домой, он сделался еще скучнее и рассеяннее прежнего.
Это не могло ускользнуть от внимания Елизаветы Михайловны, и она, робко потупив головку, произнесла едва слышно:
— Вы не веселы, Иван Александрович?
— Еще нет десяти часов, — отвечал он, не слыша ее вопроса.
— Нет-с еще. А маменька спрашивала об вас. Потом через минуту молчания, с тою же робостию, так же тихо спросила:
— А вы принесли мне книжки, которые обещали, Иван Александрович?
— Книжки? Ах, да… да, — и он вынул из неизмеримого кармана своего сюртука две тоненькие книжечки, все истертые и засаленные, верно, из какой-нибудь "Библиотеки для чтения".
— Как я рада!
Елизавета Михайловна прыгнула от радости и исчезла.
"Он не забыл моей просьбы", — думала она… Далеко за полночь сидела она у окна своей комнатки с книгою в руках, и сон не тягчил ее век… и сердце замирало и билось.
Наконец она опустила книгу на колена, но уста ее еще повторяли эти очаровательные звуки, эти звуки, от которых билось и замирало ее сердце, которые мешали ей спать:
Я услаждала б жребий твой Заботой нежной и покорной; Я стерегла б минуты сна, Покой тоскующего друга…Ее развившиеся кудри упадали на полуоткрытую грудь, которая, полная вздохов, дышала сильно и часто.
— Нет, он меня не любит, не любит! — и слезы начали проступать на ресницах бедной девушки, и отяжелевшая голова ее скатилась на оконницу и вся утонула в кудрях.
В эту минуту не спал и Иван Александрович: он, лежа на постели, мечтал о своей незнакомке, украшал ее поэтическими цветками своего воображения, сравнивал с Теклою Шиллера, с Маргаритою Гете, с Юлией Шекспира, с Татьяною Пушкина и бог знает с кем еще…
Он мечтал, как познакомится с нею, как в первый раз явится к ней…
Бедная Елизавета Михайловна! В этих роскошных мечтах он вовсе забыл о ее существовании.
На другое утро, подкладывая транспарант под форменную бумагу для переписки какого-то отношения, Иван Александрович искоса посматривал на своего столоначальника, потому что ему не хотелось ничего делать, решительно ничего, а вот так сидеть сложа руки да мечтать о вчерашней даме… Здесь кстати заметить, что он уже за две недели до этого определился в департамент, по протекции одного начальника отделения, Евграфа Матвеевича… как бишь его фамилия? Так на языке и вертится… Нет, забыл. Ну, да все равно… Евграф Матвеевич был задушевный приятель супруга тетушки Ивана Александровича и по просьбе ее поместил молодого человека до первого случая на четырехсотрублевую вакансию. …Так, Иван Александрович подложил транспарант под бумагу, очинил перо и уже нарисовал первую букву В, но в эту самую минуту кто-то схватил его за руку.
— А, мое почтение, Федор Егорович.
Федор Егорович был помощник столоначальника, молодой человек очень приятной наружности, с прекрасно всчесанным хохлом, при золотых, настоящих часах, а не то чтобы с серебряною дощечкой сзади, ловкий в обращении и вообще, как говорят,
"славный малый". Он был аристократом в своем отделении, потому что имел собственные дрожки и лошадь, вследствие чего иногда позволял себе маленькие вольности, как-то: приезжать четвертью часа позже обыкновенного, и пр. А это уже не шутка! Все мелкие чиновники смотрели на него с особенным почтением, некоторые с маленькою досадою и завистью.
Раз один из его товарищей, подергиваясь и прихрамывая, подошел к нему и, указав пальцем на цепочку, которая красовалась на его жилете, спросил:
— А что, это семилёровая-с?
Федор Егорович посмотрел на вопрошающего очень гордо и нехотя отвечал:
— Золотая.
— Настоящая-с?
— Да.
— Изволите видеть. А что, я думаю, вещь-то ценная? Сколько заплатить изволили?
— Полтораста рублей.
— Гм.
При этом гм он вытащил из кармана довольно большую круглую табакерку, торжественно стукнул по крышке, повернул ее, со скрипом отворил табакерку и поднес к Федору Егоровичу. В табаке лежали три жасминные цветка.
— Не угодно ли? У меня бергамотовый-с.
Федор Егорович небрежно понюхал.
"Вишь, какой фертик, — подумал этот чиновник, — 150-рублевые цепочки изволит себе ежедневно носить!" После этого разговора Федор Егорович получил еще больший вес в своем отделении, а слухи о нем и богатстве его начали даже распространяться по всему департаменту.
Федор Егорович сошелся тотчас с Иваном Александровичем, узнав, что он кончил курс в университете; и не мудрено: он очень любил рассуждать о разных ученых предметах, это была его страсть. На вечерах и балах, в своем кругу, он слыл умницею, и даже очень солидные люди отзывались о нем с величайшею похвалою. Когда речь заходила об нем, они, по обыкновению нахмурив брови, произносили довольно протяжно:
"Фу! какая голова! что ни говорите, а он пойдет далеко!" В случае если между дамами возникал какой-нибудь литературный спор, то слабая сторона спорящих всегда почти посылала за ним: "Где Федор Егорович? Федор Егорович решит, он такой начитанный!" И Федор Егорович, являясь, торжественно решал спор.
Он-то подошел к Ивану Александровичу и взял его за руку, в ту самую минуту, когда тот призадумался над буквою В.
— Как поживаете, Иван Александрович? что новенького? А?
— Вам лучше знать новости, Федор Егорович, вы в свете. При этом Федор Егорович, очень довольный, улыбнулся.
— Да, оно конечно; но все это так надоело! Ну, что такое свет, ровно ничего, ейбогу! Нет, этак, главного — пищи для души, а остальное — пфф… Признаюсь, давно мне хочется заняться чем-нибудь существенным, литературою, например, написать чтонибудь: все-таки составишь себе имя, ознакомишься со всеми учеными. К тому же я чувствую в себе способность сочинять. Вот если я увижу, например, цветок или чтонибудь такое, то у меня сейчас и воспламеняется воображение.
Произнося это, Федор Егорович поправил галстук и стал обдергивать свою черную атласную манишку со складочками, на которой светились три запонки из мнимых брильянтов.
— Послушайте, Федор Егорович, — сказал Иван Александрович после нескольких минут молчания, отводя своего нового приятеля в амбразуру окна, — мне хочется кое-что спросить у вас, вы в Петербурге всех знаете, вам должно быть это известно.
Иван Александрович говорил вполголоса и нарочно удалился от стола, испытав в короткое время, до какой степени некоторые из его товарищей одарены преступною страстию любопытства. Он знал, что для этих господ ничего не может быть приятнее, как подслушать чужой секретец.
Федор Егорович, заложив руки в боковые карманы, нахмурил брови и сделал легкое движение губами, в знак внимания.
Иван Александрович рассказал ему о своей встрече с дамою, о том, как он следовал за нею; описал ее кавалера, ее ливрею, всё до малейшей подробности.
Лицо Федора Егоровича постепенно одушевлялось. Он уже поднял вверх брови.
Иван Александрович продолжал:
— Не доходя Покрова, она, знаете, и повернула налево, в Усачев переулок, я за нею; перейдя улицу, она остановилась у подъезда направо… кажется, четвертый дом от угла…
В эту минуту Федор Егорович схватил с величайшим восторгом руку своего приятеля и, в пылу самозабвения, закричал:
— Ну, так и есть… Она, она!
Надобно было посмотреть на физиогномию Ивана Александровича, пораженного таким нечаянным и таким скорым открытием.
— Может ли быть? так вы, вы ее знаете… знаете? Он ничего не мог произнесть более.
— Гм! Кого я не знаю? Это моя старинная знакомая. Надобно вам сказать, что я у них на короткой ноге в доме; совершенно свой. Не был день, два, — так сейчас посол: что, дескать, давно не были? откушать просят… Знаком ли я?
— Да кто ж она такая, Федор Егорович?
— Известная в Петербурге дама, на всех балах бывает… И какая начитанная; я с ней всегда мазурку танцую.
— А как ее фамилия?
— Марья Владимировна Болотова.
"Какое прекрасное имя!" — подумал Иван Александрович.
— А что, она замужем?
— Нет; вот года четыре как овдовела.
У Ивана Александровича на лице выступила краска.
— Не хотите ли, я вас познакомлю с нею?
"Познакомлю!.. Неужели в самом деле?" — Иван Александрович ужасно как смешался.
— Что ж, хотите, Иван Александрович? Вы ведь еще не выезжали в свет, а тут вы с первого раза ознакомитесь со всем лучшим обществом. Хотите ль? правду сказать, свет придает этак человеку полировку. — И при этом слове Федор Егорович с самодовольною гримасою посмотрел на себя и начал небрежно вертеть цепочкой, на которой висел ключик от часов.
— Что, едем?
— Очень рад-с, — произнес Иван Александрович, очнувшись.
— Прекрасно! Когда же, послезавтра? У Марьи Владимировны по вторникам дни.
Иван Александрович опять призадумался.
— Нельзя ли уж на следующей неделе?
"Тем временем, — думал он, — я сошью себе фрак. Ведь нельзя же явиться к такой богатой даме, не имея модного фрака".
— Так в следующий вторник? О, да мы там будем веселиться, за это я вам ручаюсь.
Грустно было Ивану Александровичу, очень грустно! Фрак по меньшей мере стоит 120 руб., он справился об этом у одного портного, который жил на Невском. На Невском всегда самые лучшие портные, он это давно знал. Откуда же взять ему вдруг 120 руб.? Из деревни его должны были прислать ему в октябре месяце 1000 руб. — годовой доход; но до октября еще сколько времени! Занять? Но у кого? У Федора Егоровича? Ни за что на свете! Иван Александрович не хотел одолжаться никому. У тетушки? тетушка не даст, да еще разбранит, назовет мотом, будет читать целую неделю наставление о том, как должен вести себя молодой человек, как вел себя в молодые лета ее покойник, что надо по одежке протягивать ножки, и проч., и проч. Он знал все это заранее. Что же прикажете делать?
Иван Александрович был в совершенном отчаянии. Он не ел и не пил.
Однажды после обеда тетушка вздремнула, а он открыл машинально какую-то книгу. Вальтер Скотт! А это его любимый автор, давно он не заглядывал в Вальтера Скотта, а бывало — он не разлучался с ним… Он вспомнил свои студенческие годы, то блаженное время, когда он был так беззаботно счастлив, когда в его завидном уединении широко развертывался перед ним мир поэтический, жизнь кипучей фантазии; когда его окружали эти дивные образы, эти вдохновенные создания великих творцов; когда он страдал их бедствиями и радовался их радостями, — он вспомнил все это и хотел читать…
Нет! Теперь ничто не привлекало его внимания: ни величественно-неподвижный образ Саладина, ни томно-смуглое личико очаровательницы Ребекки, ни гордо-угловатое лицо Елисаветы Английской… Нет! перед глазами его кружился в самом соблазнительном виде новый фрак, в мыслях его была сторублевая ассигнация.
Он закрыл книгу и вздохнул. Дверь скрипнула: в комнату вошла Елизавета Михайловна.
Она была очень бледна; в чертах ее лица выражалось что-то страдальческипрекрасное; и вы бы, взглянув на нее в эту минуту, увидели, что она, бедная девушка, любила его всею силою души своей, любила просто, как любят все бедные девушки, без подготовленных сцен, без кокетства, без этих утонченных соблазнов, которые так чудесно изобретают сердца, бьющиеся под батистом и бархатом.
Она подошла к Ивану Александровичу и села возле него. Видно было, что она хотела начать говорить, но как будто не решалась, еще как будто собиралась с духом.
Несколько минут в комнате было тихо, лишь слышалось за перегородкой храпенье старушки.
Наконец Елизавета Михайловна решилась говорить. Она сказала вполголоса:
— У вас что-то есть на сердце, Иван Александрович; с некоторого времени вы стали гораздо скучнее, гораздо…
— Это вам так кажется, — сказал он, перебирая листы книги.
— О, нет! Отчего же вы не хотите быть со мною откровенным? Отчего вам скучно, Иван Александрович, скажите мне? Я давно собираюсь вас спросить об этом.
Иван Александрович посмотрел на нее… В ее выражении было так много убедительности, так много чистосердечия.
Он улыбнулся.
— Ну, право, вам так показалось, Елизавета Михайловна. Я точно так же весел, как и в первые дни моего приезда сюда.
— Бог с вами! видно, я не заслужила вашей доверенности.
И, огорченная, она непритворно вздохнула. Ивану Александровичу стало жаль ее.
Он подумал: "Какая добрая девушка!" — Вы не можете помочь моему горю, — сказал он после минутного молчания.
— А почему знать?
— Видите ли, Елизавета Михайловна, коли сказать вам правду: мне нужны деньги — и скоро, а это очень беспокоит меня. Вы знаете, что у тетушки нельзя просить…
— Видно, кошелек, что я вам подарила, несчастлив?.. А сколько вам нужно денег?
— Рублей сто.
— Только? И вы будете веселы, если достанете эти деньги?
— Да откуда достать их, Елизавета Михайловна? Личико Елизаветы Михайловны вдруг просветлело; она вспорхнула со стула, исчезла — и через минуту снова явилась.
— Я принесла вам деньги, Иван Александрович.
— Как, деньги? Откуда? Что это значит?
— Вы теперь будете веселы, не правда ли?
Иван Александрович остолбенел от удивления и не мог ничего вымолвить.
— Это мои собственные деньги. Я семь лет копила маменькины подарки: тут, я думаю, будет больше ста рублей. Я хотела сделать салоп… теперь мне не нужен салоп, — и она протянула руку, чтоб отдать ему кошелек, и вся вспыхнула.
— Нет, я не возьму эти деньги, Елизавета Михайловна, ни за что на свете не возьму.
Вы семь лет копили их, вам самой нужны они, а я не могу вам отдать их прежде октября месяца… Нет, не возьму, ни за что на свете не возьму!
Девушка посмотрела на него с удивлением; рука, державшая кошелек, медленно опустилась, глаза ее затуманились… минута… и слезы, горькие слезы вырвались на волю, и грудь ее заколыхалась волною.
— Так вы не хотите от меня ничего взять? — произнесла она невнятно, заливаясь и всхлипывая, — за что же вы меня так не любите?
Иван Александрович не знал, что ему делать. Он сам чуть не заплакал.
— Думал ли я вас огорчить этим? Клянусь богом, нет! — Он взял кошелек из руки ее и поцеловал руку. — Вы настоящий ангел, Елизавета Михайловна!
И она отирала слезы платком и улыбалась сквозь слезы.
— Так вы берете мои деньги? Ах, как я счастлива! Вы теперь будете веселы, Иван Александрович, не правда ли? Тише! — она приложила пальчик к губам, — маменька просыпается, я побегу к ней.
Весь вечер она была необыкновенно весела. Радость вырывалась в каждом ее движении, в каждом взгляде, и старушка, приглаживая ее локоны, говорила:
— Вот ты у меня сегодня умница, Лизанька.
III
Разбирая различные явления мира внутреннего, идеалист примечает, что они двух родов: одни произведения самого духа, а другие приемлются нами извне. Сии разделяются на дна класса: на ощущения приятные и неприятные, и идеи, или образы пространства, форм и цветов.
Вот все, что мы знаем о внешнем и следственно о веществе.
Но все сии ощущения или образы суть только явления в нас, точно так же, как наши мысли, воспоминания…
Из лекций логики.Желанный вторник наступил. С пятого часа вечера Иван Александрович начал делать приготовления к туалету. У него был новый фрак, чудесный, цвета Аделаиды, с черным бархатным воротником, с блестящими и узорчатыми пуговицами. Этот фрак был торжественно развешен на кресле, и Иван Александрович ходил кругом кресла и любовался им. Какой отлив-то, прелесть! Красно-лиловый, и сукно самое тонкое, по двадцати пяти рублей аршин. Чудесный фрак!
А жилет? Портной сказал Ивану Александровичу, что к новому фраку необходим и новый жилет, иначе не будет гармонии в целом. И посмотрите, что за жилет! По черной земле цветочки зелененькие, красненькие, желтенькие, и все это сплетено голубенькими стебельками. Иван Александрович взял в руку жилет и повертывал его. Загляденье, просто загляденье!
С самого утра на постели Ивана Александровича лежала отлично выглаженная манишка, совсем готовая, с запонками, — на середней запонке был очень искусно изображен Наполеон во весь рост, а на остальных двух пастушок и собачка на веревочке.
Завившись и одевшись, Иван Александрович несколько раз прошелся по комнате, несколько раз посмотрел в зеркало С приятною улыбкою и потом пошел показаться Елизавете Михайловне.
— Как к вам идет этот фрак, Иван Александрович. Она смотрела на него так внимательно и так от души любовалась им.
— А каково сшит?
— Очень хорошо. Какая талия! Вам сегодня будет, верно, очень весело: вы увидите таких прекрасных, нарядных девиц…
При этом слове она задумалась. Бедная девушка!
Когда Иван Александрович подошел к руке тетушки при прощанье, старушка оглядела его с ног до головы и начала очень серьезно покачивать головою.
— Что это, батюшка, новое на тебе платье-то?
— Да, тетушка, новое.
— Гм! — Она все продолжала осматривать его.
— А что, оно на тебя сшито али готовое куплено?
— На меня-с.
— На тебя, сударь? Да это просто тришкин кафтан!.. Господи боже мой! Рукава-то короткие, узкие, ну точно Митрофанушка… Застегнись-ка.
Иван Александрович сделал усилие, чтобы застегнуться.
— Посмотрите, пожалуйста — и застегнуться-то не может.
— Да это сшито по моде, тетушка.
— По моде? Мошенник уверил его, что это по моде, а он себе и растаять изволил.
Ему, бестии, выгодно шить по моде!.. Что, сукнеца-то, чай, немного пошло? Ах! Ах! Тото, старых людей ведь нынче и слушать не хотят. Куда!..
Иван Александрович боялся одного, чтобы тетушка не спросила о цене его модного фрака и о том, откуда взял деньги на этот фрак; но тетушка, к счастию, не спрашивала об этом и занялась весьма, впрочем, длинным нравоучением, как он должен вести себя "в чужих людях".
Потом она перекрестила его, и он отправился; но старушка долго, очень долго по уходе Ивана Александровича ворчала, покачивая головою ….
Около девяти часов вечера у подъезда одного дома в Усачевом переулке стояли четыре экипажа: две четырехместные кареты парами, одна двухместная и дрожки.
Последние принадлежали Федору Егоровичу, это были те самые дрожки, которые привлекали завистливое внимание чиновников**… департамента.
Появление Федора Егоровича, сопровождаемого Иваном Александровичем, произвело в гостиной небольшое движение.
Три круглолицые, довольно полные девушки, сидевшие рядом по левой стороне дивана, и две длиннолицые, очень худощавые, стоявшие неподалеку от первых, тотчас прервали свой разговор и занялись рассматриванием нового лица, стали улыбаться и перешептываться.
Одной из худощавых, девице лет за тридцать, Иван Александрович чрезвычайно понравился. Она нашла, что физиономия его очень интересна и выразительна. Другая заметила, что он немножко неловок; третья, что у него слишком широки перчатки; четвертая… но невозможно передать всех замечаний. В десять минут Иван Александрович был разобран в подробности. Самой досужей наблюдательности не оставалось подметить в нем ничего, решительно ничего.
И между тем как он, немного смешавшись, выслушивал приветствие хозяйки дома и кланялся, и между тем как она блистала русскою любезностью с примесью заученных французских фраз и, смотря на него, находила в чертах лица его что-то знакомое, — Федор Егорович, улыбаясь, расшаркивался с девицами.
— Кого это вы привезли, Федор Егорович?
— Кто это с вами приехал?
— Как его фамилия?
Вопросы сыпались на него со всех сторон. С ловкостью истинно непостижимою, с искусством, которое может быть приобретено только опытностью, Федор Егорович отделался от этих вопросов и удовлетворил любопытству каждой из вопрошавших. Да, он владел в совершенстве завидным даром пленять. Я желал бы показать его вам в гостиной: что за утонченное обращение! Что за грация в телодвижениях, что за сила речей во взгляде! Этот взгляд, казалось, говорил той девушке или даме, на которую устремлялся:
"Страдайте, сударыня, страдайте: мне известны ваши страданья, но для меня это все равно!" (Какой страшный эгоизм!) Если вы видали в котором-нибудь из бесчисленных кругов среднего петербургского общества молодого человека с таким победоносным взглядом, то нет никакого сомнения — это был Федор Егорович.
После всего этого можно ли удивляться его успехам в легоньких гостиных? Иван Александрович впервые видел его в обществе, впервые восхищался его развязностью…
Завидный дар! Он, который чувствовал себя неловким и стоя и сидя, и молча и разговаривая, он вполне постигал, как важно быть наделену таким талантом.
Мало-помалу гостиная стала наполняться. Приехало еще несколько матушек, довольно толстых, в вычурных чепцах, с тоненькими дочками в беленьких, в красненьких и в пестреньких платьицах; приехал тот самый франт с огромным хохлом, с цепочками и лорнетами, которого Иван Александрович видел на набережной с хозяйкою дома; приехал еще какой-то человек, пожилой и очень блестящий: с тремя брильянтовыми пуговицами на манишке, с фермуаром средней величины на галстуке и с большим солитером на указательном пальце. Уже открыли два ломберные стола в гостиной, уже составилась партия виста; хозяйка дома в величайших хлопотах сама бегала с колодою карт и мимобегом дарила каждого из гостей своих двумя-тремя приятными словцами, и всё различного содержания. Остановясь против человека с брильянтовыми украшениями, она сказала, перебирая в руках колоду карт:
— Что, вы будете играть, Алексей Васильевич?
Мутные зрачки глаз Алексея Васильевича забегали при вопросе; он хотел улыбнуться, и лицо его образовало довольно неприятную гримасу:
— А по чему роббер?
— По двадцати пяти рублей.
— Пожалуй, — и при этом слове он опять сделал гримасу. — Ведь вы знаете, что я никогда не отказываюсь, даже иногда играю и меньше этого.
Он небрежно взял карту, зевнул и с важностию поправил свои брыжжи, довольно неумеренно выглядывавшие из-за галстука.
Это был один из известнейших игроков, величайший счастливец, карточный баловень, почти никогда не проигрывавший и допускавшийся даже в некоторые гостиные высшего общества. Для большего эффекта, или, говоря просто, для большей важности в своем кругу, этот господин говорил, по обыкновению, немного в нос и делал различные гримасы, желая, вероятно, показать этим, что он не простой человек, что он имеет знакомства с людьми весьма знатными и что не одни карточные тузы имеют к нему уважение.
Игроки рассаживались; карточные обертки летели под стол. Иван Александрович сидел, пригорюнясь, у входа в гостиную: ему было скучно, он не успел сказать хозяйке даже десяти слов, он не любовался ею десяти минут сряду. Она вот только что остановится, и он только что обрадуется и вооружится всею силою любовного взгляда, как вдруг уже нет ее — она там, в зале. Это очень досадно!
— Что, Иван Александрович, а? весело? — говорил Федор Егорович, улучив минуту и подойдя к нему.
— Да, Федор Егорович, я вам очень благодарен. Иван Александрович был чрезвычайно скрытного характера.
— Полноте, полноте, любезный, — продолжал Федор Егорович, поправляя верхнюю буклю своего хохла, — полноте… за что тут благодарить? Вы сами видите, мне это ничего не стоило: я на короткой ноге в доме — всех знаю. Не правда ли, какое прекрасное общество? А? Сколько людей с весом! Вот видите, налево-то: вон у тех дверей, такой пожилой человек, украшенный знаками отличия: это дядя мужа Марьи Владимировны.
Оно, видите, и ничего, но все такое родство — знаете, протекция; он в большой силе… Дело какое или что — сейчас к нему, — просто, зачем далеко идти? Человек свой, близкий…
В эту минуту кто-то кликнул Федора Егоровича, и он исчез.
Лестно быть представлену в такой дом, где, куда ни обернись, куда ни посмотри, назад ли, вперед ли, везде и повсюду перед глазами люди чиновные, значительные, или по крайней мере такие, которые не сегодня-завтра будут много значить, — очень лестно!
Против этого спорить нечего. Быть вместе с такого рода людьми — это своего рода наслаждение. Так, — но согласитесь, что еще приятнее, не говорю — лестнее, быть наедине с тою женщиной, которая, будто силою чародейства, заставляет, при мысли об ней, невольно биться ваше сердце, смотреть на нее, любоваться ею? Согласитесь, что ее очи, не говорю — всегда, но порой, кажутся вам очаровательнее всего на свете?
Это заблуждение молодости. Верю; но Иван Александрович был молод, и он думал именно так в то время, когда Федор Егорович описывал ему всю прелесть знакомства с людьми чиновными.
— Знаете ли что, Аграфена Николаевна? — говорила хозяйка дома одной пожилой, толстой, важной и неподвижной даме с необыкновенно выпуклыми и остолбенелыми глазами, одной из тех женщин, которая могла служить превосходным типом русской купчихи, возвысившейся до дворянства, — знаете ли что: не дурно бы девицам потанцевать под фортепиано, не правда ли? Авдотья Петровна такая милая, такая добрая: она, верно, не откажется поиграть? Признаюсь вам откровенно, я не знаю девицы, которая бы так хорошо играла на фортепиано!.. Кто был ее учителем, Аграфена Николаевна?
— Я все забываю его фамилию. Он здесь первый учитель в Петербурге; уж, говорят, лучше его нет.
— Это видно, что у нее был первый учитель, сейчас видно. Ведь она, верно, не откажется сыграть хоть один кадриль?
— Настенька, поди-ка сюда! Вот Марья Владимировна просит, чтоб ты поиграла для танцев.
— С большим удоволъствием-с, maman.
И Настенька, девушка лет двадцати осьми, так же дородная, как ее маменька, сделала очень ловкий реверанс, смотря на Марью Владимировну.
Марья Владимировна имела редкий дар все так хорошо устроить, занять гостей…
Такой приветливой, милой, такой разговорчивой и дальновидной хозяйки дома вы не нашли бы, конечно, в целом Петербурге. Я говорю это без всякого пристрастия и готов сослаться на всех, кто посещал ее дом. Федор Егорович, как уже известно вам, человек образованный и светский, он сам, говоря о Марье Владимировне, всегда называл ее идеальною.
— Ангажируйте дам, ангажируйте, Григорий Ильич, Иван Петрович, Федор Егорович и мсье Рижский, вы такие мастера распоряжаться: надобно устроить кадриль.
Видите ли, как тонко Марья Владимировна умела льстить самолюбию?
Федор Егорович и г. Рижский, молодой офицер в золотых очках, бегали и набирали кавалеров, а между тем хозяйка дома подошла к Ивану Александровичу.
— А вы ангажировали даму? — спросила она его с приветливою улыбкой.
У Ивана Александровича от этого вопроса выступил холодный пот на лице.
— Я не танцую-с, — отвечал он, немного замявшись.
— Полноте, полноте. Ангажируйте вот эту девицу, что сидит в углу дивана, с розаном на голове. Она очень любезна. Пожалуйста, танцуйте: ведь не всегда же философствовать. Я слышала, что вы большой философ, но иногда с Парнаса можно спуститься и на землю…
Как хорошо говорила Марья Владимировна! Как искусно каждому она умела показать свои познания!..
Но Иван Александрович, первый раз попавший в свет, очень смутился от ее любезности и не придумал никакой блестящей фразы в ответ ей. Он просто сказал:
— Покорно вас благодарю. Я, право, не танцую.
Но он бы готов был отдать в эту минуту половину своих познаний, которые добывал годами трудов и постоянным усилием мысли, за то только, чтоб уметь протанцевать французский кадриль.
Фортепиано забренчали. Кадриль начался… Федор Егорович и офицер в золотых очках танцевали лучше всех: это можно было сказать утвердительно, потому что в их движениях была и легкость и грация, а другие — что это такое? — просто ходили.
Пройтиться-то умел бы и Иван Александрович.
В промежутках танцев, когда музыка смолкала, из гостиной раздавались крикливые голоса игроков. Господин с фермуаром на галстуке кричал громче всех:
— Когда я играл с князем Петром Ильичом, у меня были: король, дама сам-четверт козырей, а у графа Александра Андреевича валет сам-друг; ходил он. Ну, говорит мне князь Петр Ильич, счастье, братец, тебе, счастье. Тебя любят козыри. Не всегда, я говорю, ваше сиятельство. Случается, что у меня не бывает козырей. Князь такой милый, такой шутник. — И господин с фермуаром очень громко засмеялся при сем.
Марья Владимировна, хозяйка дома, была большая охотница танцевать. И уж зато как танцевала! Удивительно! Как она умела показать свою ножку, нагнуть немного голову на правый бок, — прелестно!.. Это еще был маленький вечер, это были еще танцы — так, экспромтом; а надобно было ее видеть на большом бале… Иван Александрович не спускал с нее глаз.
"Странно, — думал он, глядя на нее, — она очень хороша собою, против этого говорить нечего, только что-то у нее цвет лица такой неестественный, чересчур малиновый. Разве, может быть, она разгорелась, танцуя? Да нет, как я вошел, она еще не танцевала, а у нее был цвет лица точно такой же. Бог знает, отчего это!" Возвратись домой очень поздно, Иван Александрович долго не мог заснуть: было светло, как днем.
Скучны, господа, эти петербургские летние бессумрачные ночи! День, вечно день.
Я люблю ночь, с ее таинственным покровом, с ее страшными тенями, с ее поэтическими туманами, которые то прикидываются перед вами безграничным морем, то какими-то чудными громадами зданий… Я люблю ночь, роскошно томящуюся в лунном мерцанье, упоенную ароматами цветов, истаивающую, дрожащую в неге… О, я не променяю ваш ослепительный день на такую ночь, господа! Нет, не променяю…
Иван Александрович в этом случае был совершенно согласен со мною. Он также не любил вечного петербургского дня. Он сидел у постели, пригорюнясь.
"Вот, — думал он, — прошел и этот вечер, которого я целую неделю ждал с таким нетерпением, о котором мечтал ежеминутно… Прошел! Уж не в самом ли деле мечта лучше существенности?" Иван Александрович был вообще не очень доволен вечером Марьи Владимировны.
"Она, правда, милая женщина, привлекательная, а все не то, что я воображал. Не то!.. Она гораздо лучше, когда любуется Невою, нежели когда танцует в зале".
— Весело ли вам было вчера, Иван Александрович? — спрашивала его Елизавета Михайловна утром за чаем, еще до прихода тетушки…
— Так, не очень-с.
Елизавета Михайловна посмотрела на него, он посмотрел на Елизавету Михайловну: ее глаза были очень красны, веки как будто распухли.
— Не болят ли у вас глаза, Елизавета Михайловна? какие красные!
Она вздрогнула при этом слове и уронила из руки ситечко.
— Будто красны? я не заметила; да, немножко болят…
— Хотите, я вам принесу розовой воды, Елизавета Михайловна?
— Нет, не надо… Впрочем, если вас это не обеспокоит, принесите, Иван Александрович…
Как драгоценность хранила Елизавета Михайловна стклянку с розовою водой.
Иван Александрович в тот же день принес ей эту стклянку. Она всякий день утром и вечером вынимала ее из комода, смотрела на нее с большим чувством, обливала слезами и, говорят, даже целовала. Ведь это был подарок Ивана Александровича, что же мудреного? Это был его первый подарок!..
Так день уходил за днем, неделя сменялась неделей… То же однообразие в доме тетушки Ивана Александровича, никакой перемены. Старушка сидит на тех же кожаных креслах и вяжет чулок или раскладывает карты, — только реже вяжет она чулок, только чаще протирает очки своим пестрым носовым платком: здоровье-то ее стало плоше, зрение-то слабее. Елизавета Михайловна, также скучна и также бледна, сидит у ног ее с шитьем в руках, только чаще прежнего оставляет она иголку, и украдкой взглядывает на старушку, и — задумывается, очень задумывается. Жизнь старушки — это ее жизнь… Разве она, сирота, может отделить свое существование от ее существования? Что она будет без нее?.. Сидит напротив старушки и Иван Александрович, он смотрит на Елизавету Михайловну и думает: редкая девушка, какая у нее ангельская душа, какое доброе сердце… Вот так, кажется, в этих глазах и светится небо!..
Мелкий осенний дождь запорошивает стекла; печально серое небо без просвету, печально, как мысли Елизаветы Михайловны…
— Лизочка, Лизочка, что-то ты у меня не на шутку худеешь, — говорит старушка, отложив карты и глядя на нее, — это больно меня беспокоит. Не посоветоваться ли с Францем Карловичем, а?
— Нет, маменька; нет, голубушка. Зачем мне доктор? Я, право, чувствую себя совсем здоровою, — и слеза девушки упадает на морщинистую руку старушки.
— Уж ты и расплакалась, дурочка. Ну, о чем же тут плакать?
Ивану Александровичу стало очень жаль Елизавету Михайловну, так жаль, что у него разрывалось сердце, глядя на ее бледное, печальное личико… что у него, у мужчины, готова была вырваться слеза, глядя на ее слезы; но он скрепился, проглотил эту слезу…
Как ему было не понять тайной причины страдания этой девушки, глядя на свою дряхлеющую тетку?
Бедная, бедная девушка!
В эту минуту в комнату вошла горничная и подала Ивану Александровичу записку.
Он распечатал: от Федора Егоровича; Марья Владимировна приглашает его к себе на вечер. "У нее, — пишет он, — будет так, кой-кто, человек тридцать, всё большею частию свои".
"Нет, не поеду, — подумал Иван Александрович, — что-то скучно; да и к тому ж я был у нее недавно".
Точно: Иван Александрович раза четыре был у нее после того вечера, в который он с такими надеждами, с таким восторгом представился к ней в новом фраке цвета Аделаиды.
Этот фрак и теперь еще почти совсем новый, нисколько не полинял, нимало не обтерся; пуговицы только немножко почернели, да это ничего не значит: можно поставить новые; но те надежды, те восторги, с которыми он надевал этот фрак, отправляясь в первый раз к Марье Владимировне, — кто обновит их, скажите? Неужели они, цветущие и яркие, так скоро увяли?.. Видно, уж, в самом деле, на свете нет ничего постоянного!
Текла, Юлия, Маргарита, Татьяна — обратились просто в Марью Владимировну, когда Иван Александрович посмотрел на нее вблизи, поознакомился с нею. Как все обманчиво издали! смотришь, что за цвет лица, какая свежесть! Роза! а посмотришь поближе — румяны. Везде подлог, везде обман… Право, не много веселого в жизни; поневоле заноешь элегией!
Полный кипучих, студенческих фантазий, Иван Александрович заговорил однажды с Марьей Владимировной о театре как о храмине изящного, о высоком назначении искусства в мире, заговорил:
О Шиллере, о славе, о любви.
Он думал, что ее сердце забьется от этих речей, что она будет сочувствовать его энтузиазму. Он говорил с жаром и убедительностию, она слушала равнодушно, не знаю — понимая или не понимая, и когда он кончил, она с свойственною ей грацией, которую в другом кругу, вероятно из зависти, назвали бы жеманством, сказала с расстановкою:
— Да, ничего не может быть лучше театра. Я очень люблю спектакли, в особенности веселые водевили. Есть такие смешные, вот так бы и хохотать до упаду. А трагедии я терпеть не могу: там вечно несчастия, резня: это ужасно расстроивает нервы, а я к тому же такая раздражительная…
Иван Александрович хотел возражать, но Марья Владимировна не дала ему вымолвить слова.
— Перестаньте, перестаньте, Иван Александрович. Нет, уж я водевиль ни на что на свете не променяю.
Иван Александрович вздохнул.
В другой раз речь зашла о романах. Иван Александрович выхвалял Вальтера Скотта (вы уже знаете, что это один из любимых писателей Ивана Александровича), доказывал, что до Вальтера Скотта не существовало романа, что "роман только в наши дни получил свое высшее достоинство его гением, что и после Ричардсона, Лесажа и Руссо он все еще не имел права на название сочинения определенного и положительного, несмотря на то, что существовали "Новая Элоиза", «Вертер» и проч., и проч… словом, повторил все то, что говорили о нем европейские критики и что вслед за ними печатали наши журналы. Иван Александрович говорил горячо и долго. Марья Владимировна только из одного приличия не зевала. Когда он кончил, она сказала:
— Что ни говорите, Иван Александрович, а ваш Вальтер Скотт прескучный, пренесносный: я не нахожу в нем ничего хорошего. Как можно его сравнить с Дарленкуром или Поль де Коком? Дарленкур такой чувствительный писатель, а Поль де Кок такой забавный. Я всегда хохочу до истерики от его романов. Я очень люблю Поль де Кока.
— Поль де Кок! — Иван Александрович хотел что-то возразить, но слова замерли на языке его. — Поль де Кок! — повторил он снова глухим голосом и снова остановился.
Минут через пять он собрался с духом и сказал:
— Помилуйте, Марья Владимировна! Я не знаю, что же вы находите хорошего в Поль де Коке?
— Перестаньте, перестаньте, Иван Александрович. Ну, что ваш Вальтер Скотт-то написал хорошего? Признаюсь вам, меня никто так не забавляет, как Поль де Кок… Иван Александрович вздохнул.
С этой минуты он совершенно охладел к Марье Владимировне, так охладел, что ему было все равно, есть ли она на свете или нет. Не вините же Ивана Александровича за непостоянство, не говорите же, что он без причины разлюбил эту женщину! О нет! Он готов был любить ее страстно, безумно, он готов был боготворить ее; но я знаю наверно: он не воображал, чтобы в Петербурге могла найтиться женщина, которая бы любила одни только водевили да романы Поль де Кока. И еще женщина из такого прекрасного круга!
Они просто не сошлись. Иван Александрович думал найти в Марье Владимировне существо, гармонировавшее с ним… Что ж делать! он ошибся, он еще мало знал людей.
Проказник! он думал, что все должны иметь одинаковый с ним вкус, одинаковый образ мыслей…
Вот отчего Иван Александрович так холодно принял приглашение Марьи Владимировны. Да и Федор Егорович стал наскучать ему: он беспрестанно приставал с своими стишками.
— У меня есть небольшое стихотвореньице, Иван Александрович, — говорил он, пожимая ему руку, — так, знаете, я сочинил для забавы, когда жил прошлое лето по Парголовской дороге. Вы знакомы с одним журналистом, по дружбе — этак, попросите, чтобы он напечатал в своем журнале. Видите, я посвятил эти стишки Марье Владимировне, она ведь охотница до поэзии и, между нами сказать, смыслит кое-что в этом деле. Она очень хвалила вот это место…
Федор Егорович вынул из кармана бумажку, всю исписанную, и начал читать с большим чувством:
Ручей бежал между кустами, Я молча плакал у ручья; Но ты не тронулась слезами, Жестокосердая моя! Уж солнце к западу клонилось, И я побрел к себе домой, И голова моя скатилась На грудь, изрытую тоской!..А? как вы находите это место?
— Очень хорошо, — отвечал Иван Александрович.
— Знаете, тут много меланхолии, не правда ли? У меня вообще этак… меланхолическое расположение в моих стихах…
"Неотвязчивый человек, несносный! — думал однажды Иван Александрович, разбирая свои бумаги и отыскав между ними стихи Федора Егоровича. — Ну, что я буду делать с этими стихами?" Вдруг между бумагами мелькнуло что-то красненькое.
"Что бы это такое?.." — подумал Иван Александрович.
Кошелек! Это тот самый кошелек, который Елизавета Михайловна отдала ему с своими деньгами и который она никак не хотела взять назад.
Иван Александрович призадумался над этим кошельком. Он вспомнил, с каким восторгом эта добрая девушка отдавала ему свои последние деньги, как она была огорчена, когда он не хотел брать их… Он вспомнил ее слезы и потом эту непритворную радость, когда он решился взять деньги…
"Боже мой!" и вдруг мысль: что, если она любит меня? — впервые блеснула в голове его…
VI
И в час, как с молитвой на бледных устах Ты в смертной борьбе трепетала, Ты эту молитву с слезой на глазах О благе моем лепетала.
Э. Губер.Но да видишь лепе девойке!..
Из сербской песни.Прошло еще два месяца, кажется, что два, а может быть, немного и более, после той минуты, когда Ивану, Александровичу попался на глаза кошелек Елизаветы Михайловны и заставил его задуматься. В эти два месяца он внимательно наблюдал за нею. "Да, она любит меня, точно, любит, милая девушка!" Так рассуждал он сам с собою, греясь в один вечер у печки. Зима в этот год была ужасно холодная. "И я не видел прежде любви ее? И я предпочитал ей эту Марью Владимировну! тогда как перед глазами у меня был настоящий ангел, я гонялся, сам не знаю за чем… Светская дама! Хороши же эти светские дамы!" Иван Александрович, рассуждая таким образом очень долго, вовсе не замечал, что сальная свеча, стоявшая перед ним на столе, так нагорела, что в комнате не видно было ни зги; он даже не слыхал, как вошла в комнату Елизавета Михайловна, не видал, как она приблизилась к столику, на котором стояла свеча, как она сняла со свечи, и если бы не ее ах! при виде Ивана Александровича, то он, вероятно, еще не скоро бы очнулся.
— Я думала, что здесь никого нет. Вы не поверите, как я испугалась.
— А я, ей-богу, и не слыхал, как вы вошли сюда, Елизавета Михайловна.
— О чем вы так задумались, Иван Александрович? Иван Александрович хотел чтото сказать, заикнулся на первом слове и замолчал. У него недостало духу пересказать ей то, о чем он думал; но пристально, необыкновенно пристально посмотрел он на Елизавету Михайловну. Этим взглядом он, казалось хотел проникнуть в самую заповедную глубь ее сердца.
Она стояла перед ним пригорюнясь, поддерживая одною рукою локоть руки, на которую упадала ее головка, — бледна, как мрамор, неподвижна, как статуя.
— Что с вами? — произнес он после минуты молчания.
— Маменьке сделалось хуже… Она очень слаба.
Голос, которым были произнесены слова эти, произвел странное действие на Ивана Александровича: у него пробежал мороз по коже от этого голоса.
— Бог милостив, зачем отчаиваться? К тому же Франц Карлович говорит, что у нее нет никакой опасной болезни.
— Она очень больна, — повторила тем же голосам Елизавета Михайловна, — очень, — и этот голос перервался, задушенный рыданьем, и она закрыла руками лицо.
Иван Александрович бросился к стулу.
— Сядьте, сядьте, Елизавета Михайловна, вы насилу стоите. Полноте, успокойтесь, право, бог не допустит такого несчастья.
Она опустилась на стул.
— Бог не допустит, — повторила она, — но если, если ее не станет, — и она вдруг отерла слезы, схватила Ивана Александровича за руку, глаза ее горели, губы дрожали, голос беспрестанно прерывался, — если ее не станет, я не переживу этого… Ее гроб — мой гроб. И что же моя жизнь без ее жизни?..
— Послушайте, Елизавета Михайловна, не одна тетушка в мире умеет ценить и любить вас. Если уж богу будет угодно… то останется здесь еще человек, который любит вас не меньше ее, для которого вы… — Он не мог договорить, он сжал ее руку и робко взглянул на нее.
Она пошатнулась, какой-то несказанно сладостный трепет пробежал по всем ее членам: она еще никогда не ощущала ничего подобного, туман застилал ее очи. Это была минута забытья, это был неопределенный, неуловимый переход от бодрствования ко сну…
Долго не могла она ничего произнесть, долго рука ее лежала в его руке; наконец она отдернула эту руку и протерла глаза.
Снова нагоревшая свеча разливала слабый, красноватый свет по комнате… Она осмотрела кругом себя… Что это? греза?
— Елизавета Михайловна! Елизавета Михайловна! — говорил Иван Александрович почти шепотом. — Я люблю вас, я люблю вас, бог свидетель, что ваше спокойствие, ваше счастье дороже всего для меня…
Она вздрогнула.
— Иван Александрович! о, это не сон! — и она опять протирала глаза, — вы не смеетесь над бедною девушкой? Нет?
— Боже мой! Да, я люблю вас! — повторил он, — люблю… Но скажите мне одно слово, только одно… любите ли… В этом слове для меня все, все мое существование, моя жизнь… о, скажите мне…
Он не мог больше говорить, переполненный чувством…
Грудь ее дышала порывисто, дыханье замирало в груди.
Это была для нее одна из тех минут, которые испытывают раз в жизни, и то только избранные, и этих избранных называют в мире счастливцами, и этих счастливцев немного в мире. Да, в эту минуту она вполне поняла все очарование, всю силу, всю беспредельность того, что называют счастием; в эту минуту она даже забыла о своей больной старушке, о своей матери, о своей благодетельнице… Она была взаимно любима.
Взаимно!.. А есть ли, господа, на земле что-нибудь выше, что-нибудь отраднее, чтонибудь святее взаимной любви?
— Мне ли не любить вас, Иван Александрович?.. — И голова его упала на ее руку, и он прильнул к этой руке горячими устами…
Вдруг кто-то застонал в ближней комнате.
— Ах, маменька!.. — Елизавета Михайловна чуть не вскрикнула; вскочила со стула и выбежала из комнаты.
Иван Александрович остался неподвижен на стуле.
На другой день тетушка его почувствовала себя лучше. Она сидела на кровати, прислонясь к подушкам, и смотрела на свою Лизу.
— Лизочка, — говорила она ей, — моя молитва дойдет до бога: я молилась за тебя каждое утро, каждый вечер. Он, отец мой небесный, видел мои слезы. Лизочка! Он даст тебе счастье.
Старушка протянула к ней свою ослабевшую руку и крестила ее.
— Матушка, друг мой, выздоравливайте скорее, и тогда… тогда я буду совершенно счастлива.
— Ну, полно, плакса. Видишь ли, я сегодня пободрее могу сидеть. Перестань хныкать, прочти-ка мне лучше письмо Евграфа Матвеевича. Спасибо ему, спасибо: не забывает старых друзей, даром что идет вверх и весь обвешан крестами… Право, спасибо.
Елизавета Михайловна развернула письмо, которое держала в руке, и начала читать тихо, с расстановками:
"Милостивая Государыня моя
Авдотья Евлампиевна!
По ходатайству вашему, а также во уважение приязни моей к покойному супругу вашему, а моему хорошему другу Игнатию Матвеевичу, которого я до конца жизни моей не забуду и воспоминание о котором унесу с собою и в гроб…"
— Ах ты, родной мой, с какими чувствами! — перебила старушка. — Этаких людей не много нынче, нет! Вот душа-то!.. Ну, ну, читай, Лиза, читай!
— "…унесу с собою и в гроб, определил я племянника вашего, Ивана Александровича, на службу под собственное свое ведомство, и неослабно сам наблюдал за его старательностию и способностию в отношении письменных дел, и, убедясь в продолжение нескольких месяцев в таковой его старательности, равно как и в способности, о помещении его на первую открывшуюся в отделении моем вакансию на штатное место, а именно Помощника Столоначальника с 1500 р. окладом в год, не замедлил обратиться с представлением к Директору Департамента, который и утвердил его в означенном выше звании, сего Ноября 5 дня; вследствие чего, Милостивая Государыня моя, свидетельствуя вам совершенное мое почтение, имею честь вас уведомить…" и проч.
— Дай бог ему здоровье! Да, надо сказать, прежнего века люди-то посолиднев: хлебсоль чужую не забывают… А каков же мой Иванушка? Он у меня малый умный и не одного себя прокормит. Правда, Лизанька?
И старушка улыбалась сквозь слезы и трепала ее по щеке с самодовольствием.
Время шло своим чередом, а здоровье старушки не поправлялось. Она видимо хилела. Франц Карлович прописывал ей микстуры, которые не помогали, смотрел на больную, нюхал табак и говорил себе под нос: "Гм, эта болезнь называется старость".
Однажды под вечер ей сделалось заметно хуже. Елизавета Михайловна не отходила от ее постели целую ночь; бедная девушка не смыкала глаз, она тихо плакала, задушая в себе рыданья, боясь, чтобы не услышала ее горе родная. И тяжело было ей: грудь ее в ту минуту была могильным склепом, в котором заключены были ее страдания, ее вопли…
Иван Александрович также не отходил от постели больной; и он, порою, утирал слезу, которая докучливо катилась по его щеке: горько было ему смотреть на потухающую жизнь своей второй матери, еще горче на страданье Елизаветы Михайловны.
Он с каждым днем привязывался к ней больше и больше, он чувствовал, что без нее ему ничего не мило, он не мог дать себе отчет, как вкралась к нему эта любовь, и не знал, что она теплилась в нем давно, только бессознательно. Он любил ее горячо, любил с самоотвержением юноши, одаренного душою благородною и сильною…
Он хотел утешать Елизавету Михайловну; но что такое утешение в минуты свинцовой безотрадности? Он хотел молвить ей слово надежды; но могло ли быть сильно это слово в устах человека, который не имел сам ее?
Итак Иван Александрович сидел молча, с поникшею головою. Ночь была бесконечна, каждая минута высчитывалась страданьем, или вздрагиваньем, или замиранием сердца… Однообразно стучал маятник, страшно было стенанье старушки, тяжело и неровно ее дыханье.
Под утро больная забылась.
— Елизавета Михайловна, — произнес Иван Александрович, — тетушка, кажется, уснула; ради бога, подите лягте, усните и вы хоть на несколько минут. Вы измучились, ведь вы занеможете сами. Ради бога! я останусь здесь.
— Нет, я не могу спать; я не устала, ничего. — А голова ее кружилась, и она насилу сидела на стуле.
Утром старушка потребовала священника.
Елизавета Михайловна лежала без чувств в другой комнате: ее оттирали. Иван Александрович поддерживал голову старушки: она причащалась святых тайн.
Великий обряд совершился. Хладеющие уста старушки шевелились без слов: она про себя читала молитву; правая рука ее двигалась на груди, она хотела креститься.
— Пошлите ко мне мою дочку, — сказала она довольно явственно. — Где же она, где моя Лиза? Лиза, Лиза…
Ее привели.
Она упала на колена перед постелью. Умирающая положила руку на ее голову — и вдруг глаза ее вспыхнули последним огнем, и она произнесла громко, голосом, полным торжественности:
— Боже! боже! Услышь меня в эту минуту. Господи! не оставь ее!..
Из груди несчастной девушки вырвался раздирающий вопль.
Франц Карлович наморщился; у него, видно, хотели показаться слезы, но он скрепился, вынул из кармана табакерку и начал с расстановками нюхать табак.
— Ближе, ближе ко мне, моя Лиза… — продолжала старушка голосом, постепенно слабеющим. — Вот… так… теперь мне теплее. Прощай, друг мой… Я не одну тебя оставляю… Ты ведь любишь его, Лиза… Где он?.. его руку.
Она искала руки Ивана Александровича; он подошел к ее изголовью и также стал на колена. Она взяла его руку, соединила с рукою Елизаветы Михайловны и смотрела на них пристально.
— Дайте мне насмотреться на вас… Это все ваше… все, друзья мои; будьте счастливы… У меня что-то темнеет в глазах…
— Матушка! Не оставляйте детей ваших. Матушка! Что же? Разве вы не хотите видеть нашего счастья? Еще один час, одну минуту, родная… — и несчастная захлебнулась слезами.
Вдруг она почувствовала что-то холодное на своей руке: это была рука старушки, которая замерла, соединяя ее с обрученником ее сердца.
Она вскрикнула, приподнялась, осмотрелась кругом себя — и как труп рухнулась к ногам доктора, обнимая его ноги.
— Спасите, спасите матушку!
Франц Карлович едва удержался на ногах; он снова сделал гримасу и прошептал себе под нос (это была его привычка): "Боже мой! нет ничего неприятнее, как видеть несчастие".
Потом он и Иван Александрович бросились помотать бедной девушке; старушка уже не требовала никакой помощи.
Около вечера, когда Елизавета Михайловна немного успокоилась, Иван Александрович, оставив ее на руки двум женщинам, вышел из дома.
Задумчив шел он по улице. Образ умирающей тетки, её благословение, отчаяние его Елизаветы Михайловны: он теперь имел право назвать ее своею… все это вместе перебегало в голове его.
— Иван Александрович! Иван Александрович! — кричал ему кто-то, шедший навстречу.
Иван Александрович нахмурил брови и поднял голову. Перед ним стоял Федор Егорович.
— Что это? Сто лет не видались, почтеннейший, ей-богу; не стыдно ли вам это, Иван Александрович, никогда не заглянете. А я вам скажу новость: я женюсь… да, да. Ну, а на ком, отгадайте? На Марье Владимировне! Не правда ли, славная партия: и умная женщина, и протекция, — и все — этак, знаете. Вот бы теперь кстати вы попросили, чтоб напечатали мои стишки с посвящением к ней. Ну, а сказать ли вам, куда я теперь иду?
Надобно купить какую-нибудь брильянтовую вещь: серьги или что-нибудь этак в подарок.
Знаете, жениху столько хлопот, туда, сюда… А вы куда идете, Иван Александрович?
— К гробовому мастеру. Моя тетка сейчас скончалась. Прощайте, Федор Егорович.


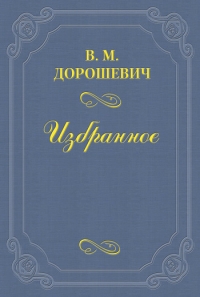
Комментарии к книге «Кошелек», Иван Иванович Панаев
Всего 0 комментариев