Лидия Чарская В глуши
Глава I Разбитое счастье
Серое, темное осеннее утро… Серый ползучий из дали туман… Небольшой, красивый особняк, который снимали Рыдловы-Заречные, весь утонул в его мутном мираже. Мрак на улице и мрак в доме. В больших, роскошных, теперь беспорядочно заставленных мебелью и вещами комнатах тот же мрак и та же неприютность. Открытые настежь двери, беспорядочно разбросанные вещи, сдвинутые на середину диваны, стулья и столы, грубые голоса таскавших вниз вещи артельщиков, — все это слилось, спуталось, смешалось в один сплошной невыразимый хаос.
Только в небольшой уютной розовой комнатке, где хотя и царит тот же беспорядок, выразившийся в снятых с полу коврах, в пустой, лишенной своих обычных bibelots этажерке, в завешанном полотном и рогожей трюмо, все же чувствуется какая-то жилая уютность.
Бледная, худенькая с густой пепельной косой, небрежно закрученной в узел на затылке, сидит на розовой козетке молодая девушка.
У нее тонкое, красивое, немного надменное личико, опушенное мелкими завитками кудрей, говорящее о породе, гордо вздернутая верхняя губа капризно изогнутого маленького ротика и большие, серые глаза, обычно спокойные и самодовольные, теперь исполненные самого безысходного горя.
На девушке черное суконное платье с траурными нашивками, делающее все ее изящное, хрупкое существо еще более хрупким и воздушным.
Эта девушка — Вавочка Рыдлова-Заречная. У нее большое, непоправимое горе — у Вавочки. Полтора месяца тому назад она схоронила своего отца, обожавшего свою единственную дочурку.
Павел Дмитриевич Рыдлов-Заречный был еще далеко не старый человек. Он вел большие дела одного крупного частного предприятия и имел огромный заработок. На этот заработок Павел Дмитриевич всячески баловал и лелеял дочь.
Вавочка росла, как маленькая принцесса в волшебной сказке. С детства ее окружал целый штат нянюшек, мамушек, прислуги. Ее наряжали, как куколку. Отец и многочисленные английские «мисс», француженки и немки гувернантки предупреждали каждое желание девочки. У нее были с самого раннего детства и своя собственная детская приемная, и свой детский кабинет, и будуар, как у взрослой дамы. Шкапы ломились под тяжестью игрушек и книг, которыми буквально заваливал отец Вавочку.
Хорошенький кабриолет летом и санки зимою, запряженные прелестным гнедым пони Красавчиком, вместе с кучером англичанином были всегда к услугам Вавочки. По четвергам у нее были свои приемные часы, когда девочка принимала своих маленьких гостей, таких же малюток-девчурок и мальчиков из лучших домов города. Словом, маленькая принцесса Вавочка и жила, как подобает жить принцессе. И вдруг все разом грубо рухнуло. Разбилось счастье Вавочки, разбилась ее жизнь.
Этой весной она только что окончила курс ученья в одном из лучших столичных пансионов, и счастье, розовое, смеющееся, как красивый свежий ребенок, все горячее и горячее ласкавшее свою любимицу Вавочку, — это счастье разом померкло, закатилось, как солнце, в один печальный день.
Проведя лето за границей, Рыдловы-Заречные вернулись в Петербург, и Павел Дмитриевич уже заранее ликовал дать возможность полюбоваться изысканному петербургскому обществу, на свою хорошенькую, изящную Вавочку, как неожиданно простудился на охоте, схватил тиф и через неделю умер, не успев ничего сделать для Вавочки и оставив ее совсем бедной, даже нищей сиротой…
В этом последнем обстоятельстве Павел Дмитриевич был неповинен.
Сильный, здоровый и крепкий сорокалетний мужчина, он менее чем кто-либо другой мог помышлять о смерти. Вот почему он мало заботился о будущем, говоря постоянно и себе самому, и окружающим его друзьям:
— Вавочка моя сиротка — ее мать умерла так рано, и девочка никогда не знала ласки матери, вот отчего мне хочется как можно больше побаловать Вавочку, чтобы моя девочка не имела отказа ни в чем, чтобы с восторгом вспоминала всегда свое розовое детство и не грустила о том, что лишена материнской ласки. A накопить денег моей Вавочке я успею всегда… Я еще молод. Слава Богу, проживу долго.
Но он не прожил долго и оставил Вавочку круглой сиротою.
Об этом сиротстве, об этой неожиданной, немыслимой, как казалось, смерти и думала теперь в розовой, уже достаточно разоренной артельщиками комнатке, бледная, изящная девушка в черном платье.
Глава II Разоренное гнездышко
— Пора, барышня…
— Что?
Вавочка вздрогнула худенькими плечиками и точно проснулась. На длинных темных ресницах дрожали слезинки, светлые и прозрачные, как роса.
— Уже время ехать, барышня.
Вавочка пришла в себя. Перед ней стояла Даша, молодая, веселая Даша, одна изо всей прислуги оставшаяся в доме Рыдловых-Заречных с целью помочь своей барышне распродать всю их богатую обстановку.
После смерти Павла Дмитриевича не осталось ничего, и чтобы иметь возможность похоронить отца, Вавочка решила обратить в деньги все, что имела.
Родных у Вавочки не было, то есть были, вернее, где-то далеко-далеко, и их не знала Вавочка. Они жили только вдвоем с отцом, один для другого, окруженные несчетным числом знакомых. Эти-то знакомые и помогли Вавочке, одолжив ей сумму на похороны отца, и, чтобы расплатиться с ними, молодая девушка должна была обратить в деньги всю свою роскошную обстановку.
— Барышня, артельщики будуар выносить хотят, — еще раз напомнила Даша, — да и ехать время, двенадцать уже скоро.
— Артельщики… хорошо… ехать надо, вы говорите? — беззвучно роняла Вавочка и, стремительно быстро, схватив шляпу со стола, начала ее прикреплять к голове дрожащими пальцами.
Вошли артельщики. Четыре рослых мужика с громко стучащими сапогами с бесстрастными лицами и шумно приступили к работе.
Даша безмолвно одевала Вавочку. Застегивала на ней пальто, прикрепляла длинный траурный вуаль, зловеще развевавшийся позади черной же траурной шляпы и тихо, тихо говорила ей:
— Никто, как Бог, барышня. Господь дал — Господь и взял. Во всем Его святая воля. Надо терпеть, барышня.
И Вавочка терпела. Ни одним звуком не выдала она того мучительного состояния, которое сковало бесконечно тяжелыми путами ей сердце и мысли. Вавочка страдала невыносимо. Затуманенным взором окинула она в последний раз огромные, теперь пустые и неуютные комнаты, где так светло и радостно протекла ее коротенькая счастливая жизнь, и вышла на подъезд.
Даша несла ее чемодан. Артельщик — корзину.
Позвали двух извозчиков. На одного взгромоздили вещи, на другого сели Вавочка и Даша. Последняя ни за что не пожелала оставить свою молодую госпожу и решила проводить ее на поезд.
Глава III Непонятая
Вокзальная суматоха, звонки и крики носильщиков, неизбежная суета — все это точно пробегало мимо глаз Вавочки. Она не видела и не слышала ничего. Ее сознание точно притупилось, застыло. Даша с нескрываемым сожалением смотрела в убитое личико своей барышни.
Еще недавно это хорошенькое личико самодовольно, весело и гордо поглядывало на окружающих. Эти прежде надменно, теперь скорбно сжатые губки, еще так недавно властно приказывали и делали выговор ей, Даше, часто незаслуженный, а теперь…
— Бедная! Бедная моя барышня, — мысленно сокрушалась добрая девушка и смахивала непрошеные слезинки тайком.
И еще думала кой о чем преданная Даша.
— Уезжает моя барышня, — вихрем проносилась мысль в ее голове, — и никто, никто из недавних приятельниц и знакомых не приехал проводить ее. A бывало при Павле Дмитриевиче дым коромыслом поднимался при приемах гостей. Нет, видно, не людей ищут люди, а богатства, да вкусных обедов, да веселых приемов.
Но Даша ошибалась на этот счет.
Доброго, гостеприимного Павла Дмитриевича Рыдлова-Заречного уважали и любили. К нему ехали охотно, дорожили ласкою и дружбой этого прямого, добродушного и простого человека, одинаково относившегося к богачам и к беднякам.
Но Вавочка была несколько иная.
Она держала себя вызывающе, гордо и свысока со всеми, кто был ниже ее по положению и богатству.
Ей казалось всегда, что она умнее и лучше всех остальных. Она точно кичилась своими богатствами, своим положением перед сверстницами. Поэтому никто не любил Вавочку, и если ездили к ней и не сторонились ее, то только для того, чтобы сделать приятное ее отцу.
Дрогнул последний звонок на дебаркадере. Вместе с ним дрогнули Вавочка и Даша.
— Прощайте, барышня, дай вам Господь на новом месте устроиться получше, — произнесла горничная, вскакивая на ступеньку вагона, чтобы быть в последнюю минуту поближе к своей госпоже.
— Прощайте, Даша, — проронили чуть слышно губы Вавочки.
— Не поминайте лихом, барышня… Простите, ради Христа, когда в чем провинна была перед вами. — И неожиданно целый поток слез хлынул из глаз Даши.
Вавочка медленно и удивленно подняла на девушку свои красивые серые глаза.
О чем она плачет, Даша? Почему ей тяжело расставаться со мною? Может быть, ей жаль терять хорошее место в большом и богатом доме? — соображала Вавочка и, чтобы утешить девушку, произнесла тихо:
— Успокойтесь, Даша, я же вас рекомендовала на место к князю Вуловину. И аттестат вам дала отличный. Без хлеба не останетесь, вам нечего грустить.
Даша вспыхнула. Румянец залил все ее доброе, заплаканное лицо.
— Барышня! Барышня! — всхлипнула она. — Да разве я об этом тоскую? Вас мне жалко, сиротинка вы моя болезная! Бедняжечка моя!
И она с плачем схватила руку своей барышни и начала целовать ее поверх черной лайковой перчатки. Что-то острое кольнуло в сердце Вавочку. Что-то теплой волной прихлынуло к горлу и защемило его. Ей вдруг на одну минуту до боли стало жаль оставлять Дашу, как единственного верного и преданного ей теперь человека. Захотелось уронить на грудь Даши свою изящную кудрявую головку и плакать, плакать без конца. Но тут же услужливая мысль подсказала Вавочке, какая огромная бездна лежит между нею, Варварой Павловной Рыдловой-Заречной, и мещанкой горничной, и она только сдержанно произнесла:
— И я вам желаю хорошо устроиться, Даша, прощайте!
Кивнула головкой и прошла в вагон.
Поезд тронулся. В окне замелькало красное от слез лицо Даши, махавшей платком. Она кивала головою Вавочке, плакала и что-то кричала.
Но Вавочка уже не видела и не слышала ее. Вавочка опустилась измученная и апатичная на диван вагона и стала думать, думать без конца…
Глава IV В неведомую глушь
Третьи сутки едет Вавочка.
Она выходила в Москве, в Туле, в Самаре… Пересаживалась на другие поезда. Обедала на больших остановках, пила чай на маленьких, покупала и проглядывала газеты, но все это делала машинально, почти бессознательно, как автомат… Огромное давящее чувство безысходного, мучительного горя камнем лежало у нее на сердце. И во сне и наяву стоял перед ней покойный отец, единственный человек в мире, которого любила Вавочка.
Под шум колес она забывалась на минуту, чтобы в следующую проснуться снова и думать, думать без конца.
А в окне между тем картина сменялась картиной. Потянулись степи, могучие привольные башкирские степи, вольные, спокойные, далеко убегающие в даль… Небо голубело, не глядя на придвигающуюся осень. Дозревшая, сжатая рожь, еще не убранная, кое-где в снопах, золотилась на солнце, как золотые волосы сказочной Сандрильоны. Кое-где белыми пятнами метались горленки и чайки по синему воздушному полю неба… Где-то далеко синела темная полоса гигантской реки. Это Волга, красавица Волга, воспеваемая русскими поэтами, синела там у Самарского плеса. Но от полотна дороги она была почти не видима совсем.
Ближе казались горы… Меловые Жигули, которые дальше к югу после Стенькина Кургана вырастают в могучих гигантов, здесь они еще молоды и не так высоки.
А поезд бежит, мчится вихрем все дальше и дальше.
Ночь сменилась утром. На заре пролетели Самарскую и теперь выехали в Уфимскую губернию. Природа оставалась та же… Только степи и холмы, холмы и степи. Изредка березняковые рощи, жидкие лиственные леса, да горы повыше, поросшие зеленью, еще не успевшей пожелтеть в начале осени, блеклой и скучной.
Вавочка спала, подложив под голову «думку», ту маленькую атласную подушечку в сквозной кружевной наволочке, с которой не расставалась с детства.
Сладкие сны вились вокруг ее пепельной головки… Ей чудилось в ярких грезах недавнее былое.
Ей снился вечер. Первый вечер-бал, данный в честь ее выпуска из пансиона, отцом. Первый бал. Думала ли она, что он будет и последним.
Чудный весенний вечер благоухающего мая… Окна раскрыты настежь.
По проспекту, на который выходит занимаемый ими особняк, едут экипажи, автомобили, катят велосипеды. Все спешат на «стрелку», смотреть с Елагина Острова на закат солнца…
И она, Вавочка ездит туда с отцом каждый вечер в своем нарядном, как игрушка, шарабане. Это так модно и красиво! Но сегодня она дома. Сегодня она, Вавочка, нарядная и пышная, как маленькая голубая фея, встречает гостей на пороге их роскошной гостиной под руку с отцом.
Веселое девичье щебетанье, смех, говор, шутки, остроты… О, как весело это, как хорошо! А в окна вливается аромат молодой расцветающей липы и дивный майский вечер, благоухающий и юный, как мечта.
Смолкли шутки и смех… Заиграла музыка… Легко и плавно, воздушно и красиво несется она, Вавочка, в медленном темпе вальса… Ах, как хорошо…
Боже, как хорошо! Как хороша весна, воздух, синее небо, молодость!
Как хорошо носиться так по паркету и сознавать, что все любуются тобою, завидуют тебе!
Пепельная головка Вавочки кружится от тщеславной гордости.
Но что это?
Где музыка? Где радость? Счастье юности и цветы?
— Станция Давлеканово, — слышит она над ухом чей-то грубый голос и, вздрагивая, открывает глаза.
Перед Вавочкой стоит кондуктор.
— Приехали, барышня. Ведь вам в Давлеканово надо?
— Да… да… Ах… Вещи мои, пожалуйста, а вот и квитанция от багажа, — роняет она, протирая глаза и поправляя съехавшую на сторону шляпу.
— Да вы не извольте беспокоиться. Поезд здесь стоит полчаса. Все успеем сделать, — успокаивающим голосом говорит кондуктор и идет хлопотать в багажное отделение насчет вещей.
Вавочка выходит из вагона. Целый поток приветливых лучей заливает ее с нежной лаской. Солнце греет вовсю, несмотря на осень. Мальчики башкиры в засаленных пестрых тюбетейках[1] бегают по платформе с бутылками белого шипучего кумыса и предлагают его пассажирам. Крестьянки с корзинками, наполненными грибами, снуют тут же.
Растерянно смотрит на незнакомую ей обстановку Вавочка и пугливо жмется к стороне. Она никогда не была так близко к простому народу. Она буквально боится его. Почти с радостью кидается она навстречу кондуктору, успевшему достать ее вещи. За ним два мальчика башкира тащат ее корзину и чемодан.
— Все готово, барышня, можно садиться, — говорит он и предупредительно ведет ее через пассажирскую станционную комнату, где грязно и душно, на плохенький деревянный перрон.
Здесь еще более грязно. Улицы и площадь станционного поселка, где есть даже кумысная лечебница, но нет тротуаров, просто представляют собою какое-то месиво грязи. У самого крыльца стоит телега. На телеге сидит мужик и смотрит на появившуюся Вавочку сонными глазами.
— Вы из Александровки? — спрашивает Вавочка и почти с ужасом косится на телегу.
— Оттелева мы, — апатично роняет мужик.
— Тогда отвезите туда мои вещи, — говорит она, — я учительница. Еду служить в Александровку… Только вещи отвезите — я доеду следом за вами.
— На чем поедешь-то? — недоумевающе хлопает глазами мужик.
— Как на чем?.. — изумляется Вавочка, брезгливо поморщившись от этого обращения с нею на «ты», — да разве тут нет коляски или… или…
Она неожиданно замолкает.
Мальчишки-башкирята, очевидно, прекрасно понимающие по-русски, фыркают от смеха. Смеется и апатичный мужик.
— Ишь ты, коляску ей надо… Што выдумала-то… Нету здеся ничаво, окромя телег, — заключает он добродушно, уставившись своими сонными глазами в лицо Вавочки.
— Уж извините, барышня, серость здесь одна, — предупредительно поясняет кондуктор, сразу проникнувшийся уважением к изящной барышне, давшей ему целый рубль на чай. — Уж придется вам на телеге ехать…
— Эй, ты, малайка, — неожиданно прикрикивает он на маленьких башкирят, — клади корзину на телегу, а чемодан сзади наладь. Вот так. Садитесь, барышня, на корзиночку-с, все-таки не так трясти будет.
И он помог взгромоздиться на телегу Вавочке. Потом пожелал ей счастливого пути и степенно скрылся в помещении станции.
Мужик хлестнул лошадь, башкирята, успевшие разодраться от брошенного им Вавочкой двугривенного, закричали ей что-то вслед, и телега, громыхая, потащилась по густой, глубокой грязи вдоль улицы слободы.
Глава V Дорожные впечатления
Проехали станцию с ее улицами и кумысным курортом, крошечным до наивности, с рынком на площади, с маленькою церковкой-часовней и выехали в поле.
До Александровки насчитывалось около семнадцати верст, как предупредительно заявил Вавочке кондуктор.
Вскоре исчезла станция, и голая степь представилась взорам девушки.
Снопы кое-где еще желтели на этой гладкой, еще недавно красиво колеблющейся, как море, поверхности, теперь же ровной и обнаженной, кое-где успевшей порасти невысокой травой. Группы хуторов мелькали справа и слева, притулившиеся в лощинах среди высоких и низких холмов, производивших сиротливое впечатление своей затерянностью среди безбрежности степи…
Где-то далеко-далеко видимое сверкало с высоты холма серебристой поверхностью озеро Исиля-куль, огромное, красивое, окруженное холмами.
Телега плясала и прыгала по широкой проезжей дороге. И мысли Вавочки прыгали также с одного предмета на другой.
Мужик из Александровки пытался было обращаться к ней с вопросами, но она не отвечала ему, притворяясь задремавшей, и он оставил ее в покое. Часто попадались им башкирские телеги с желтолицыми «малайками» на козлах в своих засаленных тюбетейках и халатах, а также и русские крестьяне, ехавшие на станцию.
Проехали березовый пожелтевший по-осеннему лес и снова выехали в поле.
От толчков телеги привыкшая к рессорным экипажам и резиновым шинам Вавочка чувствовала себя очень скверно. Голова болела, в ушах стоял звон, a сердце щемило, щемило, не переставая.
И в тысячный раз вставали перед Вавочкой мучительные картины: смерть отца, ее отчаяние, осторожные намеки знакомых о том, что ей придется теперь служить… О, с каким негодованием отвергла она чье-то предложение принять место кассирши, потом гувернантки. Служить в Петербурге, ей, Вавочке, блестящей Вавочке Рыдловой-Заречной, на которую все дивились, богатству которой завидовали, ей превратиться в жалкую труженицу, работающую за гроши на виду всех прежних ее знакомых и друзей! Нет, нет, ни за что на свете! Она скорее умрет, нежели допустит это!
И вот был найден другой выход. Один старичок сановник, занимавший важный пост в Министерстве Народного Просвещения, приятель покойного Павла Дмитриевича, устроил Вавочке место школьной учительницы в глуши Уфимских степей, в ста верстах от города Уфы, далеко от Петербурга и от столичных знакомых. Но прежде чем поступить на скромное место учительницы и Вавочка охотно приняла его. К счастью, в дорогом пансионе, где воспитывалась Рыдлова-Заречная, был восьмой класс, где преподавалось, как учить детей, то есть устраивались практические занятия с ними, и Вавочка была далеко не профан в этом деле, потому что училась она хорошо из того же самолюбия, чтобы не показаться окружающим менее развитой и всезнающей, нежели ее сверстницы.
Таким образом, девушка во всеоружии своих знаний могла теперь приступить к нелегкому труду.
Глава VI Новая учительница
На самом краю деревни Александровки, огороженная плетнем, в соседстве с примыкавшим к ней огородом, стояла школа.
Когда спутник Вавочки, громыхая телегой, подъехал к низенькому, покосившемуся крылечку, сердце девушки сначала дрогнуло, потом мгновенно замерло в груди. Широкая грязная улица, вдоль которой с самым непринужденным видом прогуливалась свинья, небольшие избы с двух сторон, мутная запруда и мельница подальше, посреди деревни новенькая, по-видимому только недавно отстроенная церковь, — все это показалось таким чужим и далеким испуганной непривычной новой обстановкой Вавочке.
Мужик-возница привязал лошадь с телегой к плетню, схватил корзину девушки и потащил ее на крыльцо. В эту минуту из сеней выскочил вертлявый старичок с ногой на деревяшке и, ковыляя, поспешил навстречу Вавочке. На нем была старенькая, порыжевшая от времени солдатская куртка, и медный орден рядом с медалью болтался на груди.
— Здравия желаю, барышня! — не то шутливо, не то ласково, приветствовал он Вавочку, вытягиваясь по-военному во фронт и, окинув ее внимательным взором, добавил мягко:
— Ну, давай Бог! Давай Бог! Только штой-то словно нездоровенькая вы, барышня, да и… — он не договорил, скользнул взглядом по траурной шляпке и черному вуалю вновь прибывшей и, казалось, понял все. Лаской зажглись старые глаза Вавилыча, как звали ветерана-сторожа. В первую минуту эта тоненькая, нарядная, несмотря на траур, барышня показалась ему какой-то городской модницей, «фрей», как привык называть такого рода нарядных госпож Вавилыч, и толку от такой «фри» для школы, по мнению Вавилыча, быть не могло. А школу свою Вавилыч любил до безумия. Двадцать пять лет сторожил он эту школу. После Турецкой войны поместили его сюда сторожем, чуть успевшего поправиться после ампутации ноги, раненной под Плевной. Здесь, в этой школе, тихо и мирно протекла жизнь старого солдата. Немало учительниц переменилось в его бытность здесь. Одни повышли замуж, другие бежали от деревенской скуки, а он все жил да поживал в крошечной каморке, пристроенной в сенях школы и носившей громкое название «сторожки».
— Пожалуйте, сюда пожалуйте, барышня-матушка! — говорил он, предупредительно забегая вперед с чемоданом Вавочки в руках, и толкнул какую-то дверцу.
На Вавочку пахнуло затхлым запахом давно не занимаемого помещения. Она переступила порог небольшой комнатки с убогой кроватью в углу, с хромым столом, подпертым чуркой, с единственным стулом у окна. Маленькое оконце выходило в огород, принадлежащий, очевидно, школе, по которому с важным видом разгуливал с двумя пестрыми курами одноглазый, весьма боевого вида петух.
Вавилыч подметил измученное выражение безысходной тоски в глазах новой учительницы и заговорил еще мягче:
— Обживетесь, барышня, попривыкнете, у вас ничего, славу Богу, достатки есть… И курочки, и свинки, и самовар даже от прежней учительши за полтину оставлен… В огородике опять огурчики вам и капустка… Все как у людей, матушка вы моя… Это верно, спервоначалу-то как будто и неловко, а попривыкнете — весело станет… Верно говорю. Дай-кось я вам самоварчик поставлю.
И он заковылял в сени на своей деревянной ноге.
Подавив тяжелый вздох, готовый было вырваться из груди, Вавочка вынула кошелек, расплатилась с возницей, и когда тот ушел, шлепая босыми ногами, снова подошла к окну.
Так вот какова та глушь, где ей суждено схоронить ее молодость, ее лучшие ранние годы! Без людей, без дружеской ласки, без поддержки и любви!..
Она схватилась за голову, машинально опустилась на стул, единственный в комнате, и глухо, судорожно зарыдала. Сердце ее рвалось от горя и тоски. Чужие места, незнакомые люди, чуждая ей убогая обстановка — да разве она вынесет на себе это страшное бремя, взваленное ей на плечи жестокой судьбой?!
— Папа! Папа! Зачем ты умер! Зачем! Зачем! — стонало, рыдало и билось в ее груди.
Ей чудилось, что сердце разорвется в этот миг, что она задохнется сейчас, что умрет сию минуту, и ей казалась теперь более всего желанною — смерть.
— Школьная деревенская учительница! Деревенская учительница! Да разве она знает школу, деревню, детей? Разве знает этих самых крестьян, с которыми ей придется провести всю ее длинную жизнь? Нет, она не знает их! Она просто боится их, она — проводившая зиму в городе, лето в дачном курорте или за границей. Со словом крестьянин ей всегда представлялось что-то донельзя грязное, грубое, с черными ногтями, с бородатым страшным лицом.
И вот теперь… Она уже не рыдала больше, а тихо, тихо, жалобно всхлипывала, уронив голову на стол. Вдруг чье-то осторожное прикосновение к плечу заставило ее вскочить с места… Она подняла кверху залитые слезами глаза… Перед ней стоял калека сторож.
Его морщинистое лицо с длинными, отвислыми сивыми усами, с покрытым щетиной подбородком сочувственно глядело на нее. Красноватые слезливые глазки ласково смотрели в ее затуманенные слезами глаза.
— Барышня-матушка, не плачьте, болезная, тосковать да плакать нехорошо. Глазки испортите, а сердце не облегчите. Верьте мне, старику. Вот чайку попьете — убираться станем, я вам кроватку налажу, сенцом подстилку набью, первый сорт перина будет… Потом на оконце занавесочку, все чин чином, помаленьку… Вот смотришь и хорошо… Еще как заживете-то… Ровно пташечка… Ребята у вас в школе не худые какие, с толком. Верно, поозорничают когда, да с кем греха не бывает — известное дело, дети… Постойте-ка, я вам самоварчик принесу… Готов он у меня, кипит.
— Нет, спасибо, я не хочу чаю, — слабо протестовала Вавочка.
— Как можно без чая?.. И чаю, и похлебать чего горяченького вам устрою. Щец вчерашних у меня малая толика осталась, — засуетился на своей деревяшке старик.
Но и от щец, как и от чая отказалась Вавочка. Она попросила только развязать ей корзину и чемодан. Старик Вавилыч засуетился еще больше, пошел за сеном, набил им оставшийся от прежней учительницы убогий чехол и устроил из него род перины на узкой железной кровати. Потом все-таки подогрел вчерашние щи в крошечной кухоньке и, несмотря на все протесты Вавочки, уговорил-таки «отведать» его стряпни.
И странное дело… Утомившаяся за длинную дорогу и тяжелые впечатления Вавочка поела и щей, и черного ржаного хлеба, несмотря на то, что в городе привыкла к самым изысканным, французской кухни блюдам. Старик Вавилыч с удовольствием заметил, что новая учительница не брезгает его хлебом-солью.
Эта новая учительница своим убитым грустным личиком расположила теперь к себе сердце старика. Глядя на траурную одежду Вавочки, старый ветеран понял, что какое-то тяжелое горе легло камнем на сердце девушки. Но расспрашивать побоялся чуткий старик, зная по опыту своей долгой жизни, что лучше не приступать к ране, которая почти что еще не затянулась.
Покушав и отдохнув немного, Вавочка вышла в сад… Солнце уже спускалось к горизонту. Тепло пышной южной осени спадало понемногу. Из степи в деревню гнал стадо пастух. Блеяли овцы, мычали коровы… Возвращались крестьяне с поля… где убирали оставшиеся стога запоздалого сева. Бежали босоногие ребятишки в рваных рубашонках… Длинный кнут пастуха острым, хлестким звуком покрывал шум возвращавшегося стада.
Около школы, под плетнем на завалинке сидел Вавилыч и оживленно говорил что-то толпившимся вокруг него бабам. По тому, как внимательно поглядывали бабы на дверь школы, Вавочка поняла, что речь шла о ней. Эти пестро и бедно одетые женщины с коричневыми от загара лицами, повязанные платками, с подогнутыми юбками и босыми ногами внушали Вавочке какой-то почти суеверный ужас. Их грязных подогнутых юбок, грубых голосов и коричневых от загара лиц боялась она. Каково же было недоумение и испуг девушки, когда позднее вечером Вавилыч, приковылял к ней на огород, издали махая руками и возбужденно крича:
— Пожалуйте, матушка… Бабы пришли, гостинчика вам принесли… Повидать вас желают, барышня.
С неприятным ощущением подошла Вавочка к плетню… За ним стояло несколько баб, с откровенным любопытством дикарок разглядывавших ее. Их было человек восемь. В руках у стоявшей впереди других старухи, увязанная в темный платок, как в узел, кудахтала черная курица. Другая женщина держала лукошко с пятком свежих яиц. В свернутом из древесной коры фунтике пестрели молодые грибы в руке третьей бабы.
Когда Вавочка подошла к ним, все восемь баб низко поклонились ей в пояс. Потом старуха с курицей выдвинулась вперед.
— Не побрезгай на гостинчике нашем, — проговорила она, — матушка барышня, как звать-то тебя не знаем…
— Варвара Павловна, — тихо отозвалась Вавочка.
— Варвара Павловна, не побрезгай, значит, — еще раз низко в пояс поклонилась старуха и протянула курицу растерявшейся, опешившей Вавочке.
— За что же это? За что? — растерянно лепетала та.
— Ты наших ребятишек уму-разуму учить станешь, а мы тебя за это побаловали малость, — проговорила другая баба помоложе и сунула в руки Вавочки лукошко с яйцами.
— Ишь ты, щупленькая какая… Да больно грустная штой-то, — выступила третья с корзинкой грибов, — аль помер кто?
— Отец умер, — глухо отозвалась Вавочка.
— Ишь ты, болезная… То-то гляжу я, с личика сдамши и в черном вся, будто по покойничку. Што поделать, от Господа все протерпеть надоть… У меня у самой мужик о весну помер… Ребятишек сиротами оставил. Мал мала меньше… Ничего не поделаешь, терпеть надоть… Ишь ты, больно горазд молодешенька… Жалко… — не то вздохнула, не то всхлипнула баба.
Вздохнули за нею и все остальные. Жалостными глазами глядели они на Вавочку, и Вавочке уже не казались такими страшными их коричневые лица и грубые одежды.
Подошедший вместе с Вавочкой Вавилыч стал отбирать у баб принесенные гостинцы, шутливо приговаривая:
— Ну, уж давай, коли принесли, не назад же тащить им подарки ихние. Принимайте, барышня.
Вавочка смущенно поклонилась бабам, поблагодарила их и пошла в сени.
А бабы еще долго стояли у плетня и рассуждали со сторожем Вавилычем о диковинной учительше.
Такой «учительши» они еще не видали во всю свою небогатую событиями жизнь.
Красивая, грустная, как куколка, изящная и хрупкая, в дорогом модного покроя платье, Вавочка произвела глубокое впечатление на деревенских баб.
Глава VII Первый урок
Осеннее, но яркое октябрьское солнце заглянуло в окно школы. Заглянуло, засмеялось, раздробилось на целый сноп лучезарных сияний, белыми зайчиками побежало по некрашеным стенам классной, куда осторожно шлепая босыми ногами, входило около тридцати мальчиков и девочек, возрастом приблизительно с девяти до четырнадцати лет. В старых, но старательно залатанных рубашонках и сарафанах, с вихрастыми белокурыми головенками они с веселым гомоном размещались по своим местам.
— Здравствуй, дедушка Вавилыч, — бодро и радостно здоровались они со сторожем.
— Чего ноги не вытираешь! Ишь наследили, убирай за вами тут! Озорники! Право слово, озорники, — добродушно заворчал на свою команду старик.
— Дедушка, а ты учительшу видел? — послышался подле него смелый звонкий голосок Антипки, старостиного сына, бойкого шалуна-мальчика, любимца прежней учительницы.
— Видал, паренек. Она вечор прикатила. Большая, большая, толстая-претолстая, што твоя тумба, старая и злая, как бабка Аграфена, — делая страшные глаза, произнес Вавилыч.
Ребятишки притихли.
Полезли ручонки в белокурые головы, глаза округлились от страха, рты выжидательно раскрылись.
— Чай, Марьи Михаловны сердитей? — первый очнулся Антипка и робко покосился на дверь.
— Куды тебе, Марья Михаловна — ангел перед энтой, — шутливо запугивал ребятишек Вавилыч.
— Драться будет, — неожиданно плаксиво протянула Анютка, худенькая голубоглазая девушка, дочь бывшего солдата Антонова.
— Вестимо, будет, — не задумываясь, подтвердил трусливо Ванюша, вихрастый карапуз лет десяти.
— А я так горазно… — начал было косенький мальчуган с умным быстрым подвижным личиком, Степа Рябинин, и не докончил начатой фразы. В классную вошла Вавочка. Она сменила свое строгое черное траурное платье на темную же барежевую легкую юбку и светлую кофточку модного покроя. Но и в этом простеньком наряде она казалась такой изящной, важной и красивой! В первую минуту при виде Вавочки дети остолбенели. Судя по описанию Вавилыча, совсем иное ожидали увидеть они.
— Ишь ты, франтиха-то какая, — не удержался, чтобы не шепнуть, Антипка…
Другие дети, услыша это, тихонько прыснули. Этот смех заставил покраснеть от обиды Вавочку.
— Эй, вы, здоровкаться надо, што рты пораскрыли, — накинулся с деланною суровостью на детей Вавилыч и тут же прибавил мягко, обращаясь к Вавочке: — Вы бы их хорошенько приструнили, барышня, что в самом деле! Тише вы, команда, смирно сидеть! — снова прикрикнул он на детей и заковылял из классной, дробно стуча своей деревяшкой о пол.
Вавочка осталась одна с детьми.
Большая светлая комната с окнами на огород, с портретом Государя против двери, с грубо сколоченными черными скамьями перед такими же столиками и тридцать частью совершенно льняных, частью русых и темных головенок, тридцать пар с жадным вниманием устремленных в ее лицо глаз, Великий Боже, как все это было чуждо и ново для хорошенькой избалованной столичной жизнью девушки!
Дети с внимательным любопытством разглядывали Вавочку, Вавочка — детей. Наконец глаза ее встретились с проницательным взглядом Антипки.
— Ну, прочти мне какое-нибудь стихотворение, какое знаешь, — произнесла Вавочка по адресу мальчика.
Антипка встрепенулся.
— Стишки сказать? Ладно… — поднимаясь со своего места, отозвался тот и, быстро переступая босыми ножонками, вышел на середину классной.
Зима. Крестьянин, торжествуя, На дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, Плетется рысью, как-нибудь. —зазвенел его высокий звучный детский голос.
Под эти звучные нотки Вавочка забылась, и снова предстали перед ее глазами картины недавнего прошлого, картины счастливой жизни ее у отца.
Исчезла убогая школа, исчезли внимательно приподнятые головенки детей, исчез старательно отбарабанивавший стихи Антипка.
Вавочка сидела грустная, печальная, с задумчиво устремленным вдаль взором.
— Штой-то учительша ровно как блажная у нас, — шептались между собою присмиревшие детишки. Они так привыкли к недавно вышедшей замуж Марье Михайловне, бывшей учительнице, просто, по-товарищески обращавшейся с ними, такой близкой и доступной их пониманию. А эта холодная, гордая «барышня» такою непонятной и чужою казалась им!
Но вот встрепенулась «барышня», точно проснулась.
— Ага, ты кончил… ступай на место, — небрежно кивнула она Антипке головою.
Тот обиделся. Стихи он, Антипка, отвечал прекрасно, и старая «учительша», наверное бы, похвалила его за такой ответ, а эта… И разобиженный Антипка пошел на место, шмыгая носом. По дороге, чтобы как-нибудь вылить накопившуюся у него злобу, незаметно смазал по белобрысой головенке карапуза Ванюшу. Тот, не ожидавший подобного вероломства, тут же с места разревелся на весь класс.
Вавочка окончательно очнулась.
Этот неожиданный рев возвратил ее к действительности.
— Тише! Стыдитесь так вести себя на первом же уроке! — произнесла она сквозь зубы, брезгливо взглянув в сторону хныкавшего Ванюши.
Этот презрительный взгляд, эти холодные, с враждебным выражением слова заставили разом насторожиться ее босоногих учеников и учениц.
Старая учительница часто бранила не в меру расшалившихся шалунов, случалось, порой ставила их и в угол, но дети любили ее. Любили за простое, ласковое, чисто материнское отношение к ним. Марья Михайловна хорошо звала деревню, сама будучи дочерью бедного деревенского священника, чувствовала себя совсем запанибрата со всем этим бедным, рваным, по большей части голодным людом.
В душе же Вавочки, помимо ее собственного желания, проглядывало что-то враждебное ко всему этому простому, темному народу.
И дети, на вид глупенькие, несмышленые дети, скорее инстинктивно, нежели сознательно, поняли это враждебное к ним чувство чужой и нарядной учительницы.
— Ишь ты, фря какая, — решил вслух тоном, не допускающим возражений, Антипка, когда в перемену между уроками они все высыпали шумной ватагой в огород.
— А тоненькая какая, ровно червяк, — вставила свое слово худенькая робкая Анюта.
— Червяк и есть. А уж и злющая, по всему видать, — заключил кто-то из старших мальчиков.
— Тише вы, глупые, не услыхала бы — беда будет… Ишь у нее глаза-то злые какие, — предупредительно зашептала высокая, круглолицая Груня, дочь деревенского псаломщика.
— За уши отдерет, — испуганно бросила Анютка.
— За уши што, тятьке пожалится — хуже будет! — наставительно заметил Антипка, и вся веселая свободная от классных занятий ватага разом притихла, искоса поглядывая на дверь школы, откуда должна была явиться строгая учительница.
Глава VIII Без призвания
Прошло два месяца.
Изжелта-серая, сожженная жарким летним солнцем степь покрылась сплошною пушистою пеленою снеговых сугробов. Прихотливо и пышно разукрасил ее проказник мороз. Нарядил во все белое деревья и избы, заковал обычно мутную запруду у мельницы крепким иссиня-хрустальным льдом… Инеем запушил березы и ветлы на школьном огороде и самой школе придал красивый, нарядный, праздничный вид.
Стояли сумерки. Белая степь с ее темными пятнами хуторов теряла понемногу свои определенные четкие очертания, пугая запоздалых путников своей необъемлемо громадной пустотой.
Вавочка сидела у замерзшего оконца и смотрела в степь. Кое-где по избам уже замелькали редкие огоньки… В церковном домике, где жил с женою бездетный старый священник, тоже зажгли лампу, и ее яркий свет дерзко прорезал темноту улицы.
Вавочка смотрела на эту улицу и думала невеселую думу.
За эти два месяца, проведенные в деревушке, она еще более убедилась, как мало подходит она к ее обитателям, как мало общего у нее с семьями Александровских мужиков. Непреодолимая тоска грызла девушку. Сегодняшний темный глухой вечер особенно способствовал этой тоске. Осенью, когда последние ласки умирающего бабьего лета[2] позволяли прогуляться по степи или в ближайшей жидкой березовой рощице позади мельницы с ее запрудой, Вавочка чувствовала себя несколько лучше наедине с засыпающей осенней природой, вдали от тяжелой деревенской обстановки, которая так угнетала ее. Но теперь, когда ей стало особенно грустно и невыносимо — нельзя, как нарочно, было даже и помыслить пройтись по степи. Все бело кругом. Все застлано густым и сверкающим покровом снега. И поневоле приходилось сидеть, пригорюнившись, под окнами, выходящими на улицу и огород. Сегодня, как нарочно, особенно тяжело ей, Вавочке. Сегодня в классе нашумел кто-то из детворы. Ей показалось, что это был Антипка, самый беспокойный и шаловливый из учеников, и она наказала Антипку, поставив его на время урока в угол. Тогда поднялась со своего места худенькая Анютка и заявила, что Антипка не виноват.
Ей, Вавочке, показалось это дерзостью и она выгнала Анютку из класса в сени, где девочка и простояла на холоде целый час. Остальные дети, не смея вступиться за наказанных, глухо шептались и роптали, кидая враждебные взоры на нее. До слуха Вавочки долетело прозвище «червяк», которым называли ее школьники. Злая и возбужденная закончила она кое-как урок и распустила ранее времени по домам свою школу. Сама же, отказавшись от обеда, состряпанного ей Вавилычем, ушла сюда. И здесь, в своей крошечной комнатке, прежние докучные мысли крылатым роем закружились у нее в голове. Боже Великий! Какою несчастной казалась самой себе теперь Вавочка!
Всюду, мнилось девушке, были вокруг нее враги! Она видела эту вражду и в лице ребятишек, хмуро исподлобья поглядывавших на нее, и в обиженно-суровых лицах мужиков и баб, встречавших ее на улице, и в улыбках священника и его жены, к которым почему-то не пошла со дня своего приезда Вавочка, и в добродушной воркотне Вавилыча — всюду чудились ей та же неприязнь и вражда. Даже Вавилыч, казалось, относился к ней особенно предубежденно. Сама Вавочка забыла, должно быть, как гостеприимно и добродушно встретил ее два месяца тому назад старик-ветеран. Но она своим резким гордым отношением сразу поставила на «свое место», как сама себе не без удовольствия заметила Вавочка, чересчур, по ее мнению, болтливого и навязчивого старика-сторожа.
И вот перестал добродушно болтать с нею обиженный Вавилыч и Вавочка теперь уже окончательно замкнулась в себе.
Еще стемнело. Новые огоньки зажглись в избах. Легкая дрема окутала грустную головку Вавочки. Она уронила ее на спинку стула, и не то задремала, не то забылась в этот тихий, вечерний час. Сколько времени спала она — Вавочка не помнит. Но она разом вскочила на ноги, услыхав громкое всхлипывание и чей-то причитывающий голос в сенях.
— Пусти, батюшка, пусти, родимый! Век буду Бога молить, — ясно донесся до ее ушей взволнованный, вздрагивающий от рыданий женский голос.
— Да нельзя, тетка, сказано нельзя… Отдыхает, чай, теперь… Осерчает, коли што… Ведь не Марья Михаловна энто… Королева. Сама, небось, знаешь нашу-то… — отвечал сдержанно и тихо, но все же слышно осторожный голос Вавилыча.
— Знаю, вестимо, знаю, родненький, — запричитал снова плачущий голос, — да как же быть то?… Коли ждать, когда проснется «сама»-то, чего доброго помрет Анютка.
При этих словах Вавочка вздрогнула.
— Умрет? Кто умрет?… Анютка? Какая Анютка? — вихрем завертелась, тревожно работая, мысль.
И проворно, накинув на себя теплую шаль, она вышла в сени. Едва ее воздушная, худенькая фигурка появилась здесь, как какая-то закутанная в полушубок и платок женщина с громкими воплями повалилась ей в ноги.
— Матушка-барышня! Голубушка родная, — запричитала она, охватывая руками Вавочкины колени, — смилуйся, красавица… Не откажи, матушка… К ней… к Анютке моей… пойдем… Не в себе Анютка… горит, как в огне… Матушка, дойди до нас… Родная… Ты ученая… Все, поди, знаешь… Погляди Анютку-то… Помирает Анютка! Пойдем со мной, яви такую Божескую милость, барышня!
И баба завыла уже в голос, покрывая поцелуями и слезами тоненькие ручки Вавочки. Последняя старалась всеми силами вырваться из рук обезумевшей от горя и испуга женщины. Крестьянка подняла на нее свое заплаканное взволнованное лицо и при тусклом свете жестяной лампочки Вавочку поразило что-то знакомое в чертах женщины.
Вдруг она ясно вспомнила, что видела, и не раз, это худенькое лицо, эти большие измученные голубые глаза, эти строгие брови у себя в классе. Анютка, дочь солдата Антонова, была вылитая мать.
И вспомнив голубоглазую худенькую Анютку, Вавочка вздрогнула всем телом.
Она, Анютка, ее ученица больна, при смерти, умирает… Может быть, умерла уже, а она-то, Вавочка, еще сегодня утром наказала эту самую Анютку, заставив ее пробыть целый час в одном ситцевом платьишке в холодных, нетопленых сенях. Что, если вследствие этого и заболела девочка, и умирает теперь? И, вся дрожа от охватившего ее волнения, Вавочка спросила женщину упавшим до шепота голосом:
— Когда она заболела, Анютка?
— Да утрась заболела еще, матушка… И вчерась, словно тебе невеселая была…. Я-то, грешница, чаяла отойдет в школе-то, ан горазд после того хуже стало. Домой пришла, што твой кумач, лицо красное… Страсти Божии! За духтором, сама знаешь, где уж нам, в Давлеканово ехать… Да и не найтить там духтора-то, пока найдешь — помрет, не приведи Господи, Анютка-то… — И баба снова завыла тем жалобным протяжным воем, каким плачут по покойникам в деревнях.
— Ну, ладно уж, ладно! Будет. Поревела и будет… — добродушно похлопывая ее по плечу, произнес Вавилыч, — пойдет с тобой барышня лечить твою Анютку, не реви только, пойдет!
— Как пойдет? — чуть было не в голос крикнула Вавочка и вся вытянулась, как под ударом хлыста. И вмиг гвоздем врезалась ей в мозг страшная мысль: — А вдруг у Анютки заразное что-нибудь? Тиф… корь… скарлатина, оспа… Особенно оспа… И вдруг заразится она, Вавочка, схватит оспу… Умрет… А если не умрет, то на всю жизнь будет носить следы этой страшной болезни в виде безобразных рябин на лице и теле…
О, это ужасно! Ужасно!
— Не хочу идти! Никуда не пойду! Оставьте меня в покое, — хотелось крикнуть Вавочке… хотелось заплакать… Но в ту самую минуту, когда и страх, и гнев, и злоба на ни в чем неповинную крестьянку охватили душу девушки, перед нею, словно из тумана, выплыли холодные, темные, сырые сени и маленькая жалкая фигурка девочки в одном рваном ситцевом платье, притулившаяся в углу…
Вся вздрогнула от ужаса Вавочка. О, она не хотела быть жестокой сегодня, она выгнала под впечатлением охватившего ее гнева Анютку лишь на один миг из классной и позабыла о ней. А больная девочка целый час простояла там, трясясь от холода. И теперь она больна… при смерти… умирает!.. Что-то болезненно тисками сжало сердце Вавочки, ударило ей в голову острыми тяжелыми молотками, подкатилось судорожным клубком к горлу и стиснуло его изо всех сил. Руки и ноги Вавочки похолодели от волнения… Она едва удержалась на ногах и, вся дрожа от охватившего ее мучительного порыва, схватила за руку мать Анютки и произнесла поспешно, срывающимся голосом:
— Идемте! Ради Бога… скорее… A то поздно будет… Скорее! Скорее, идем к ней!
И Вавочка, как была в одном платье, чуть прикрытая шалью, выбежала на улицу.
Глава IX Перерождение
Ночь… тихо мерцает лампада в углу перед ветхим, почти что стертым от времени ликом Спасителя… На печке за ситцевым пологом вздыхает во сне только что задремавшая Марья, мать Анютки. Отца нет дома. Он еще с вечера отправился в Давлеканово за лекарством. К утру будет обратно. Дорога не шуточная: надо сделать туда и обратно около сорока верст — немало времени пройдет, пока он вернется домой. Анютка разметалась по лавке, поверх свалявшегося уже старого сенника. Под головой девочки соломенная подушка в неопрятной наволочке из красного кумача. Пестрое, сшитое из ситцевых обрезков одеяло покрывает худенькое тельце больной. Ее огромные глаза широко раскрыты и сверкают диким, лихорадочным огнем… Щеки пышут жаром… Тело, покрытое красною сыпью, пылает, как жарко затопленная печь. Белокурая головенка мечется по подушке, и ссохшиеся от жара, потрескавшиеся губки произносят по временам, глухо и невнятно:
— Пить… водицы… испить бы!..
Хотя глаза Анютки открыты, но она почти все время находится в забытьи: ничего не слышит и не понимает. Она только дико таращит зрачки на приютившуюся подле нее на табурете Вавочку и по временам пугает ее своим диким испуганным криком:
— Кто ты? Уйди, уйди! Не надо тебя! Не надо! Мамку хочу! М-а-а-мку.
И так восемь суток… Восемь дней и ночей мечется в жару и бреду Анютка.
Отец с матерью совсем уже сбились с ног. Посылали за доктором в Давлеканово. Доктор долго выстукивал и выслушивал слабенькую, запавшую грудь девочки, долго покачивал головою и, обращаясь к Вавочке, не отходившей ни на шаг от Анютки, произнес:
— Везти в больницу нельзя… Простудим дорогой… А без ухода тоже нельзя оставить никак. От умелого и тщательного ухода зависит исход болезни и спасенье. Лечение я вам все подробно растолкую… Главное регулярный уход и своевременные приемы лекарства. Тогда еще можно попытаться спасти ребенка… Но не скрою, она очень опасна… плоха… Навряд ли выживет… У нее… — Тут доктор назвал латинским термином особенно тяжелую форму серьезной, заразной болезни.
Вавочка бледная как смерть после нескольких бессонных ночей, проведенных у ложа больной, не испугалась на этот раз ни возложенной на нее добровольной обязанности сиделки и доктора, ни близкой возможности самой захватить болезнь девочки. Одна только мучительная мысль сверлила усталый мозг Вавочки, точила его, не переставая… Ужасная мысль!
— Из-за меня больна Анютка! Из-за меня умрет! Надо спасти ее! Во чтобы то ни стало спасти, — повторяла сама себе взбудораженная и трепещущая душа Вавочки.
Забыв и про школу, и про свои обязанности учительницы, забыв про еду и сон, Вавочка горячо отдалась тяжелому делу ухода за труднобольной.
Всходило и заходило бледное зимнее солнце, рождался и умирал печальный зимний день, наступала ночь, черная и непроглядная, наступала и проходила, а Вавочка все не покидала ни на минутку постели больной. Хозяйка хлопотливо стряпала ей яичницу, и Вавочка ела яичницу тут же подле Анютки, чтобы только подкрепить упавшие силы, подавали молоко Вавочке, и та машинально глотала молоко и снова то безмолвно караулила забытье Анютки, то меняла компрессы на ее голове и давала ей лекарство и питье.
Иногда она забывалась на полчаса, но тотчас же вскакивала, точно от толчка, схватывалась за лекарства и компрессы, с ужасом заглядывая в исхудалое личико больной.
Марья с мужем с надеждой и трепетом в свою очередь смотрели в глаза Вавочке, ловили каждое ее приказание и торопились исполнить все, что говорила им эта худенькая, воздушная барышня, еще недавно с гордым, важным, теперь же с измученным от бессонницы лицом. Анютка была единственным и любимым детищем четы Антоновых, и не мудрено поэтому, что так дрожали отец с матерью за жизнь своего ребенка.
В Вавочкины силы, знание и уменье ее ухаживать за больною они верили без колебаний и не теряли ни на минуту надежды на счастливый исход болезни дочери. На бледную измученную Вавочку они теперь просто молились.
— Ангел Божий! Святая ты наша! Благодетельница! — шептала, рыдая, Марья и покрывала слезами тонкие ручки молодой девушки.
По утрам, когда добровольная Анюткина сиделка выходила на крыльцо освежить на воздухе усталую от бессонницы голову, первое, что бросалось в глаза Вавочке, была дежурившая в строго определенный час неподалеку от избы Антона толпа ребятишек. Их напряженные, выжидательные личики, их испуганно-внимательные глазенки говорили без слов о тревоге, переживаемой ими.
— Идите! Идите! Заразитесь еще! — издали кричала им Вавочка и махала руками.
— А што, легше ль Анютке? — раздавался чей-нибудь несмелый голосок.
— Не померла бы? — вторил ему другой.
— Кричала ночью-то? — осведомлялся третий.
— А, може, полегше, а! Варвара Павловна, скажи, сделай таку Божеску милость! — кричало ей издали сразу несколько встревоженных детских голосов.
— Я за ейное здоровье свечечку поставила за грошик! Грошик у мамки выпросила! — торжественно заявляла какая-нибудь быстроглазая, чумазенькая подружка Анютки.
— А я ей яичко принес. Прямо из-под хохлатки яичко-то… Све-же-нь-кое! — заявлял Антипка и торжественно клал яичко на землю перед крыльцом Антоновой избы.
Вавочка ждала, пока уйдут детишки, кивала им головою, потом быстро спускалась с крыльца, брала яичко и несла его в избу. И вместе с ним несла в сердце что-то смутное, и тревожное, и сладкое-сладкое, без конца, без границ.
Это сладкое и тревожное и связывало теперь ее, недавнюю гордую, великолепную Вавочку с грязною, чумазою крестьянскою детворой. Теперь уже и детвора эта не смотрела искоса и враждебно на нее, Вавочку… Теперь дети, видя ее измученное, худенькое личико, зная про ее бессонные ночи и уход за Анюткой, невольно чувствовали в ней, в чужой и холодной «учительше», своего родного, близкого человека. Болезнь голубоглазой Анютки послужила им первым соединяющим звеном.
А ночь все тянулась и тянулась, бесконечная, тяжелая ночь. Эта ночь — ночь кризиса. Если Анютке удастся пропотеть в эту ночь сегодня, болезнь, по словам доктора, должна будет поддаться лечению и, может статься, пойдет на убыль сразу тогда. Если же не подействует на больную та огромная доза лекарства, влитая Вавочкой, по предписанию врача, в потемневший от жара ротик Анютки, — ребенок умрет.
Ночь кризиса, девятая по счету, ужасная ночь…
Больная не успокаивается ни на минуту: она то дико вскрикивает и порывается вскочить и убежать куда-то, то затихает и с прерванным дыханием лежит, как мертвая, на своей скамье. Груда одеял, одежды и подушек лежит на этом худеньком тельце, плотно окутав его со всех сторон. Надо вызвать в нем испарину, во что бы то ни стало, в этом измученном худеньком тельце. В испарине — спасенье. Это твердо знает со слов доктора Вавочка и крепко верит в это.
Анютка кричит. Ее лицо так и пышет жаром… Глаза нестерпимо горят.
— Душно! Душно! Камень на груди! Возьми камень, мамка! возьми! возьми! — стонами и воплями несется из груди больной.
Марья проснулась от этих криков и, как безумная, ринулась к дочери…
— Никак помирает? Барышня? а барышня? — шепотом срывается с ее губ. Но Вавочка не слышит и не видит ее. Вавочка низко наклонилась над Анюткой, обхватила дрожащими руками ее худенькое тельце поверх всех платков, одеяла и теплых полушубков и так и впилась взглядом в лицо больной.
Анютка уже не мечется, не кричит, не стонет. Только короткое частое дыхание со свистом вылетает из ее груди. На исхудалое, вымученное личико легли темные тени. Запекшийся, как у бедного, голодного птенчика, ссохшийся ротик жадно хватает воздух… Вот тише, глуше становится дыхание… Вот почти затихло оно.
— Умирает! — яркая и страшная, как молния, мысль пронизывает мозг Вавочки…
— Отходит… За батюшкой бы… За отцом Паисием! — глухо рыдает Марья и бьется головой у ног своего ребенка.
Вавочка наклоняется еще ниже, почти к самому лицу больной, касается щекою ее маленького лба, и легкий крик срывается с дрогнувших губ молодой девушки.
Лоб Анютки стал влажным от пота. Жар спал. Девочка была спасена…
Глава X Перелом
Ночь миновала.
Раннее темное зимнее утро встало над Александровкой и тускло заглянуло в заиндевевшие от мороза окна Антоновой избы. Анютка спала.
Слабое, но ровное дыхание поднимало худенькую грудку девочки. Лицо приняло спокойное выражение. Спала и Вавочка, прикорнув пепельной головкой к подушке подле своей маленькой пациентки.
Это был ее первый, подкрепляющий тело и душу сон с первого дня страшной Анюткиной болезни. И Марья, успокоенная за жизнь своего единственного детища, уснула как мертвая, на печи.
К восьми часам вернулся хозяин. Стук в дверь разбудил его жену. Она пошла открыть сени и тут же вполголоса сообщила мужу радостную весть.
— Ангел Божий! Спаси ее, Господь, барышню нашу! — истово крестясь на образ и роняя счастливые слезы, произнес тот, входя в избу и окидывая быстрым взором спавших крепким сном Вавочку и Анютку.
Только к десяти часам совсем рассвело. Вавочка проснулась, когда белый день уже смотрел в окна избушки. Быстро вскочила она, подняла голову и тревожно взглянула на спящую Анютку.
Ровное спокойное дыхание девочки раздавалось теперь сладкой музыкой в разом просветлевшей Вавочкиной душе… Личико больной лоснилось крупными каплями пота… Жара не было. Испарина все более и более проступала на худеньком, ослабевшем от недуга тельце малютки. Она была окончательно спасена.
Шумная, ликующая радость охватила вмиг ожившую душу Вавочки… Сердце ее забилось утроенным темпом… Слезы счастья брызнули из глаз.
— Господи! Господи! — могла только пролепетать она и молитвенно подняла на образ затуманенные глаза.
Она не слышала, что говорили ей Антонов с женой, как горячо благодарили ее, как призывали на ее голову благословение Божие, ничего этого не слыхала она. Вавочка была как в чаду. С радостно закружившеюся головой, с бьющимся сердцем, вся взволнованная, счастливая выбежала она на крыльцо. Там, давно поджидая ее, стояла толпа школьных ребятишек.
Ликующим, загоревшимся взором обвела она все эти, ставшие ей родными в эту сладкую минуту общей тревоги и общей радости лица и закричала громко, замахав им издали с крыльца рукой:
— Легче Анютке!.. Легче! Поправляться стала! Выздоровеет теперь скоро Анютка наша.
И заплакала вдруг недавняя гордая, великолепная Вавочка, заплакала неожиданно для самой себя от разом нахлынувшего в сердце чувства сладкого сознания содеянного добра и пользы.
Глава XI Судьба сроднила
Отец Паисий с матушкой сидели под навесом своего крошечного домика и радушно угощали чаем прибежавшую к ним дорогую гостью.
Эта гостья, в простеньком светлом платьице, со скромно и гладко причесанной пепельной косой, с задумчивым, немного грустным личиком, с удовольствием прихлебывала чай, заедая его земляничным вареньем, собственной матушкиной варки нынешнего лета, и внимательно слушала, что говорил ей седой и ласковый отец Паисий.
— Вот и Петровок дождались… И сенокоса. Ин теплынь-то какая!.. Даст Господь, до дождей сенце уберут… Завтрашний день-то праздник великий… работать грех… ан в поле все же пойдем… На сенце душистом полежать… Чайку попить на лоне матушки природы. Славно! Мать, самовар с собой прихватить, разве? а? Правильно говорю я, мать? — шутливо обернулся о. Паисий к своей далеко не старой, но полной и рыхлой от деревенской жизни супруге.
— Ты уж у меня, известное дело, затейник… — добродушно усмехнулась она.
— А завтра по покойному папаше Варвары Павловны панихидку отслужим. Ведь память, чай, покойнику завтра, барышня? В Петра и Павла именинник был? — обернулся, чуть прищурившись от солнца, к не ожидавшей этого вопроса Вавочке, священник.
— В Петра и Павла, батюшка, — тихо проронила та, пораженная этой чуткостью чужого ей и совсем далекого человека.
— То-то мне Вавилыч говорил! Не ошибся, значит, старик! — довольным теплым голосом снова произнес священник и заботливо придвинул к Вавочке корзинку с домашним печеньем.
Глубоко задумалась Вавочка.
Жаркий летний день, канун великого деревенского праздника, приветствовал сегодня своей теплой лаской природу. Нарядно и пышно убралась по-летнему степь. Молодая рожь и пшеница наливались в ярких солнечных лучах. Спела белокудрая гречиха… Пышно пестрели зеленые поля… Зеленел овес и трава, разукрашенная на диво кашкой, кукушкиными слезками, полевой гвоздикой и дикой ромашкой, прелестной, как мечта. Там дальше, на горизонте, темнела гряда холмов, и небо, сливаясь с землею, синело, как море далеких и тихих воздушных стран. Ласково смеялось солнце и точно заглядывало в душу Вавочки, стараясь пригреть, приласкать ее.
Сладко и грустно было на сердце девушки. Чуткая предупредительность доброго о. Паисия, заботливое внимание Вавилыча, доброе отношение к ней новых деревенских друзей, смущало, трогало и бессознательно радовало размягченную, обновившуюся за эту последнюю зиму душу Вавочки.
Ей хотелось сейчас уронить голову на стол, и горько и сладко заплакать, как поправившемуся от продолжительного и тяжкого недуга ребенку.
Она наскоро поблагодарила гостеприимных хозяев, к которым частенько забегала теперь, и тихонько направилась к себе домой, в школу.
Встречные мужики и бабы ласково и добродушно кивали ей головою… Кое-кто из них останавливался перемолвиться словечком. Говорили о будущем урожае, жаловались на заботы, отягощавшие эти трудолюбивые, усталые головы, просили совета и лекарства, осведомлялись, наконец, о том, как преуспевали зимою в школе их вихрастые, белокурые Ваньки, Митьки, Анютки и Машутки.
И для всех этих людей, простых и сердечных, был готов у Вавочки такой же, как и они сами, простой и сердечный ответ. Словно подменила за зиму проказница судьба прежнюю гордую, надменную Вавочку на эту милую, ласковую и простую девушку. Болезнь Анютки и пережитые у ее одра мученья переродили окончательно и бесповоротно недавнюю светскую гордую куколку…
А даль смеялась, и степь пышно пестрела в золоте начинающих зреть хлебных злаков, в роскошном уборе нарядных радужных июньских цветов.
Внимание Вавочки было невольно привлечено царившим оживлением около школы. Посреди довольно густой толпы ребятишек стоял на своей неизменной деревяшке Вавилыч и оживленно толковал им что-то. Увидя подходившую Вавочку, он еще оживленнее замахал руками и поспешил ей навстречу.
— Барышня, матушка, выручите! — закричал он ей еще издали, — совсем «вихры» меня наши одолели… Явите таку Божеску милость, не допущайте их в школу, ораву эту. Ин, только что полы отскреб к завтрашнему празднику, а они вишь опять напачкать норовят… Ведь с запруды пришли, пострелята… Вишь, карасиков вам наловили. Покажь карасей, Антипка! — скомандовал, обращаясь к неизменному главарю толпы и коноводу ее, Вавилыч.
Антипка с торжествующим видом выступил вперед. Его белобрысая рожица так и сияла. В засаленном картузе мальчика, сверкая на солнце серебристыми телами, беспомощно трепетали четыре живые карася.
— Вот тебе гостинчик от меня! — с победоносным видом произнес Антипка, протягивая Вавочке своих карасей.
— А это землянички малость! Сама насбирала! — произнесла робкая, миловидная Машуха, всегда дичившаяся всего и державшая себя в стороне от ребят.
— А ты, Анютка, што ж ты… — вдруг неожиданно засуетился Антипка. — Она тебе, Варвара Павловна, живого воробья приволокла. Ей-Богу! — весело прыснув, расхохотался он.
— Воробья? Какого воробья? — недоумевающе спрашивала Вавочка.
Анюта, как всегда, худенькая и миниатюрная, но не бледная теперь, а загорелая, как арап, на солнце, стыдливо выдвинулась вперед и протянула Вавочке свою грязную ручонку. Чуть-чуть сжатый в ее крошечном кулачке и, смело ворочая потешной маленькой головою с желтым клювом, сидел маленький, чуть оперившийся воробей-детеныш. Глаза Анютки так и сияли, рот улыбался до ушей.
— Возьми себе воробышка, Варвара Павловна, из гнезда выпал… — лепетала она, — у тебя он сохраннее будет… Ты обхождаться с ими умеешь, a у меня помрет, — пряча под пушистыми ресницами свои голубые глазки, заключила девочка и решительно протянула Вавочке воробья.
— Анютка, хошь, скажу учительше, што ли? — вдруг задорно выкрикнул Антипка и лукавыми глазами обвел толпу ребят.
— Не смей, не смей! — вдруг разом встрепенулась Анютка и сердито блеснула глазами в сторону шалуна.
— А я скажу! — не унимался тот. — Слышь, Варвара Павловна, Анютка-то ревмя ревела допрежь того, как отнести к тебе воробья своего! — торжественно заявил он.
Анютка вспыхнула, быстро закрыла лицо передником и юркнула за толпу детей.
А Антипка между тем затараторил быстро, боясь, чтобы кто-либо не опередил его объяснением Анюткиных слез.
— Анютке воробья жалко… Она его кормила, поила… Ровно мамка детеныша… Он клювиком из роту у нее хлебушко брал. А как узнала она, што все мы тебя гостинчиком потчевать задумали, так и она, Анютка, значит, отдала воробья.
— Вот как! — могла только произнести Вавочка, охваченная приливом светлого благодарного чувства к своей любимице. — Ну, ребятишки, спасибо вам, — дрогнувшим голосом, после минутного молчания, произнесла она. — Хотите еще побаловать ворчунью учительницу вашу? А?
— Хотим! Хотим! — хором закричали дети.
— Так цветов мне на лужке насбирайте и сюда принесите мне!.. Слышите? Очень я люблю цветы, дети! Ну, кто скорее! Раз… два… три!..
Едва только успела произнести свою фразу Вавочка, как с визгом и криком наперегонки бросилась к лугу веселая смеющаяся толпа ребятишек с неизменным Антипкой в авангарде ее. Кинулась и Анютка следом за остальными… Кинулась и остановилась, как вкопанная, на месте.
— Анюта, подойди ко мне! — услышала она голос учительницы, позвавшей ее.
И когда смущенная неожиданностью малютка несмело приблизилась к Вавочке, та ласково обняла ее и спросила тихонько, заглядывая в ее светлые голубые глазенки:
— Если тебе жаль было отдавать воробышка, Анюта, зачем же ты сделала это?
Девочка задумалась на минуту. Опустила глаза. Потом подняла снова и, устремив их в красивое молодое лицо Вавочки, ответила своим звонким, детским голоском:
— Воробышка жаль, вестимо… а тебя еще жальче… Варвара Павловна. Эвона о. Паисий сказывал, у тебя тятя летось помер… Завтра помянать будешь… Так нешто легко? Вот мы и поладили промеж себя, ребята, тебе кто што, притащить из леса-то да с реки… A я — воробья, вот энтакого… Ты за мной ходила… Так нешто мне позабыть?.. Померла бы я, кабы не ты! — степенно и важно, как взрослая, заключила свою речь Анютка и неожиданно умолкла вдруг.
Две нежные, тонкие, чуть тронутые загаром руки обвили ее шею и розовые губки Вавочки прижались к ее маленьким детским губам.
— Спасибо, Анюточка, спасибо! — прошептала девушка и, крепко поцеловав ребенка, взволнованная и потрясенная она вошла в сени…
А даль смеялась, и солнце смеялось вместе с далью, и старый Вавилыч, не замеченный Вавочкой и Анюткой, тихо притаясь в стороне, у плетня, смахивал с сивого уса непрошеную старческую слезу…
Конец
Примечания
1
Род шапочек.
(обратно)2
Середина сентября.
(обратно)

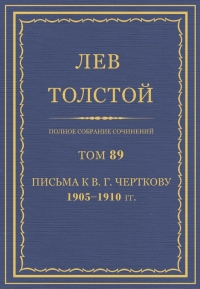
Комментарии к книге «В глуши», Лидия Алексеевна Чарская
Всего 0 комментариев